Жаклин Монсиньи Божественная Зефирина
ПРОЛОГ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
На широкой кровати под кружевным балдахином глубоким сном роженицы спала красивая молодая женщина. Умиротворенная улыбка озаряла нежное лицо, обрамленное рыжими волосами с медным отливом, которые пенились, будто самый игристый сидр. В колыбели с золочеными фигурками и короной над изголовьем тем же мирным сном, что и его мать, спал ребенок, все еще связанный с ней невидимой пуповиной. В высоком каменном камине тлел дубовый ствол, бросая красноватые отблески на гобелены, украшавшие стены комнаты. За окнами в эту ночь 1 апреля 1509 года ярилась снежная буря. В деревенских хижинах сервы и вилланы[1] весело отмечали при свечах Новый год[2], так хорошо начавшийся, несмотря на стужу и непогоду. Иначе и быть не могло – рождение первого ребенка в замке Сен-Савен предвещало празднества и увеселения, а также многие щедроты со стороны хозяина. Церковный колокол пробил час ночи. Топот лошадей, промчавшихся галопом по старому подъемному мосту, долетел до башни Трех голубок, где почивала молодая женщина. Еще не вполне проснувшись, она пошевелилась, а затем открыла глаза, более зеленые, чем изумрудный медальон, висевший у нее на шее. Это было странное и великолепное украшение, с которым она никогда не расставалась. На конце очень длинной цепочки из тончайшего золота, разделенной на пятьдесят пластинок, усыпанных драгоценными камнями, сверкал огромный изумруд величиной с орех, перевитый оправой в виде змеи с человеческой головой. – Роже… – вздохнула прелестная юная мать, улыбаясь своему счастью. Ей было двадцать лет, и самый прекрасный кавалер при дворе был ее мужем. Первенцу, которого она только что произвела на свет, предстояло возглавить длинную вереницу детей, чьи звонкие голоса вскоре оживят аллеи парка, окружавшего старинный замок ее предков. Лошадиный топот постепенно стихал, удаляясь по направлению к Блуа. Молодая женщина потянулась на своем ложе, словно мурлыкающая кошка. Она знала, что Роже вместе с верным оруженосцем Ла Дусером покинули дом, невзирая на поздний час, дабы немедленно известить их величества о рождении ребенка. Вне всякого сомнения, уже завтра утром король Людовик XII и королева Анна Бретонская лично навестят свою дорогую крестницу Коризанду. Глаза у нее слипались, и она смежила веки, готовясь снова заснуть, как вдруг зловещий скрежет, исходивший от очага, заставил ее поднять голову. Перемычка тяжелого, сложенного из камней, камина, казалось, дрогнула. Думая, что это ей чудится, молодая женщина торопливо поднесла тонкую руку ко лбу. Быть может, у нее начался жар? Но нет, кожа была столь же свежей, как июньский персик. В тишине, обволакивающей будто вата, едва нарушаемой потрескиванием тлеющего дерева, камин раскрылся, и резные львы, стоящие по бокам, сдвинулись с места. Коризанду била дрожь, кровь ее застыла от ужаса. Не в силах шелохнуться, парализованная страхом, она даже не подумала дернуть шнур звонка. Словно птица, зачарованная змеей, несчастная смотрела на черную тень, возникшую из зияющей дыры. Бесшумно скользя по полу, призрак приблизился к кровати под балдахином и слегка приподнял закрывавший его лицо черный капюшон. – Ты… ты… – прошептала молодая женщина, не веря своим глазам. – Да, Коризанда… Я позабочусь о тебе… Сначала о тебе… Потом о НЕМ. Прошептав эти слова и быстро взглянув на колыбель, призрак вытащил из длинного рукава позолоченный пузырек. Быстрым движением он снял колпачок и, прежде чем молодая женщина успела поднять руку, чтобы защититься, окропил ей лицо и уши маслянистой жидкостью. И под спокойным взглядом призрака произошло ужасающее превращение. С губ Коризанды сорвался невнятный стон, прекрасное лицо, искаженное от боли, сморщилось и вспухло, глаза, вспыхнувшие внезапным огнем, вылезли из орбит. Она хотела закричать, позвать на помощь – но внезапно отяжелевший и переставший ворочаться язык не дал ей произнести ни слова. – Спи… спи спокойно, моя дорогая Коризанда. Призрак ухмыльнулся и сорвал с шеи своей жертвы медальон с изумрудом. – О, наконец-то! Наконец-то ты мой! – прошептал демон, целуя огромный камень, а затем, не обращая больше внимания на конвульсии несчастной женщины, распростертой под роскошным балдахином из кружев и парчи, обернулся к резной колыбели. Над ребенком Коризанды нависла зловещая тень. Появившийся из камина человек распахнул черный плащ и вытащил белый сверток, который столь походил на другого младенца, что можно было обознаться. Призрак приготовился положить его на место новорожденного, в кроватку с короной. Будто почуяв опасность, новорожденный в своей колыбели начал испускать пронзительные крики. Тотчас же раздался звук торопливых шагов по плитам коридора. У призрака было время только на то, чтобы проскользнуть за шелковую драпировку в свободное пространство между кроватью и стеной. Дверь отворилась и в комнату ворвалась крепкая краснощекая женщина в белом чепце, с грудью, распиравшей зашнурованную блузу. – Маленькое сокровище уже проголодалось… Ах, боже мой, госпожа маркиза, что с вами? – вскричала кормилица, испуганная внезапным изменением, произошедшим с ее госпожой. Она уже хотела бежать за помощью, но Коризанда, собрав всю свою энергию, уцепилась за нее своими пылающими от жара руками. – Она… Это она… Спаси мою Зефирину… Спаси ее… – едва смогла произнести несчастная, чье искаженное мукой лицо покрывалось фиолетовыми пятнами и распухало на глазах. – Малышка чувствует себя хорошо, она как раз хочет пить, госпожа маркиза… Это вы, Пресвятая Дева, это вы! – лепетала, заикаясь, Пелажи. – Ах! Бертиль… Бертиль… Ради Святого Маглуара, где ты? Иди скорей… Ложным образом истолковав отчаяние, которое заволакивало уже померкшие глаза бедной Коризанды, славная женщина вырвалась из судорожных объятий и побежала к коридору, в растерянности не заметив зияющей дыры в камине. Путь был свободен. Черный призрак выскочил из своего укрытия и вновь склонился над колыбелью. – Малышка?.. Так значит, ты – девочка? Проклятый скорпион… Это все меняет… Медлить было нельзя. Торопливые шаги по плитам доносились из комнаты стражи. Не теряя более времени, призрак запахнул плащ, спрятав свой сверток в белых пеленках, и исчез в черной дыре. В следующую секунду резные львы вновь тихо заняли свое место, и даже самый искушенный глаз не смог бы заметить наличие тайного механизма. Ученые люди: врачи, аптекари и даже деревенские знахари, – призванные маркизом к изголовью его нежной супруги, объявили, что они бессильны. Они считали, что маркизу де Багатель по неизвестной причине поразила «болезнь опаленных»[3] – прискорбный недуг, который обычно свирепствовал в самых бедных лачугах. Никто не подумал о яде. Кому могла понадобиться смерть кроткой маркизы? Через два дня после этой трагической ночи прекрасная Коризанда угасла в полном безмолвии, не приходя в сознание; лицо ее было изуродовано и покрыто странными гнойниками. Только в тот момент, когда священник в последний раз благословил бренные останки, было замечено исчезновение драгоценного медальона. Стремительно проведенное следствие очень быстро свелось к обвинению двух женщин, которые постоянно прислуживали маркизе. Кормилица Пелажи и служанка Бертиль были строго допрошены оруженосцем маркиза; обе все отрицали, крича о своей невиновности в этом злодеянии. К несчастью, один из садовников замка, папаша Коке, нашел медальон, вскрытый и выпотрошенный, в соломенном тюфяке Бертиль. Напрасно бедная девушка вопила, рыдала и клялась Иисусом Христом, что она невиновна, – никто не хотел ей верить, и протесты только ухудшили ее положение. Ее схватили и бросили в подземный застенок. Королевский прокурор собирался подвергнуть ее пытке, чтобы заставить не только признаться в совершенной краже, но и раскрыть, что же она взяла из медальона, прежде чем приказать колесовать ее до смерти на деревенской площади. Тогда серв Генноле, отец Бертиль, чьи предки вот уже двести лет были крепостными на землях замка, бросился в ноги маркизу. Удрученный горем Роже де Багатель не захотел еще более омрачать эти ужасные дни. В сущности, что значило для него это украшение? К тому же оно было найдено. Маркиз, таким образом, удовлетворился тем, что выгнал Генноле с дочерью-воровкой на дорогу, еще покрытую льдом в эту позднюю весну. О, страшная весна! Если бы маркиз подумал о последствиях! Какой-то странствующий монах нашел в десяти лье от замка, на замерзшем берегу королевского пруда, труп Генноле, полусъеденный волками. От несчастной Бертиль не осталось ничего, кроме клочка юбки из голубой саржи. У маркизы Коризанды, богатой наследницы огромного состояния, не было родных, кроме сводной сестры Генриетты, незаконнорожденной дочери ее покойного отца, графа де Сен-Савена. Роже де Багатель туманно припоминал, что видел во время чудесной помолвки с Коризандой высокую черноволосую девушку со строгим лицом под капором, но больше он ее не встречал. Эта набожная девица думала только о молитвах и о спасении души. В то время, когда состоялась свадьба ее сестры, она добровольно заточила себя в монастырь Сен-Савен, став в нем настоятельницей. Этот монастырь был великодушным даром Коризанды. Накануне похорон посланец маркиза отправился верхом в монастырь, чтобы предупредить затворницу о постигшем ее горе. Рано утром он вернулся со странным известием: аббатиса Генриетта де Сан-Савен исчезла 29 марта. Сестры-монахини полагали, что она утонула в реке во время паводка. В парке замка Сен-Савен был воздвигнут надгробный памятник в виде ангела из белого мрамора, и Роже решил впредь навсегда покинуть эти проклятые места. Молодой маркиз обосновался в маленьком поместье Багатель, в окрестностях Амбуаза. Удалившись от ставшего для него зловещим королевского двора в Блуа, он сблизился с наследником престола Франциском Ангулемским, герцогом Валуа. Время не смягчило горечь утраты. Он не желал видеть ребенка, который, по его разумению, стоил жизни его дорогой супруге. Одна лишь славная Пелажи с неустанной преданностью заботилась о маленькой девочке. Зефирине было два года, когда она случайно познакомилась со своим отцом. Обладая уже тогда большим чувством независимости, Зефирина ускользнула из-под бдительной охраны своей кормилицы. Маленькими семенящими шажками, путаясь в длинном платье из льняной египетской ткани с вышивкой в виде кистей розовой сирени, она шла по опушке леса в сопровождении своего друга – большого пса Балтазара. Внезапно звук хлопающих крыльев заставил ее поднять глаза к вершинам столетних вязов. Какая-то мощная хищная птица с гигантским по сравнению с ростом ребенка размахом крыльев парила прямо у нее над головой. Хищная птица, казалось, колебалась; затем она, ловкая и быстрая как молния, спикировала прямо к Зефирине, в то время как трусливый Балтазар, испугавшись страшного противника, поджал хвост и спрятался в кустах боярышника. Оставшись в одиночестве перед соколом с жестокими глазами, который только что сел у ее ног на каменистой дороге, Зефирина, не сознавая опасности, лепетала: – Холосенькая птицка… Она гладила своей тоненькой ручонкой голову хищника, очень удивленного тем, что не внушает страха. Лошади, пущенные галопом, быстро мчались по сырой земле и подлеску. Должно быть, охота была очень оживленной – два всадника, выскочившие из леса, разом спрыгнули со своих покрытых пеной лошадей. Раздался свист, следом за ним – резкий приказ: – Сюда, Коннетабль! Один из охотников протягивал свою кожаную рукавицу, утыканную острыми шипами. Сокол, покорный и, возможно, разочарованный, взмахнул крыльями, чтобы вернуться на руку своего хозяина. Последний тотчас же набросил черный колпачок на голову хищной птицы. Приняв эту меру предосторожности, он наклонился с высоты своего роста к Зефирине. – Уф, с ней все в порядке… Ты знаешь, кто этот ребенок, Багатель? – спросил молодой человек, обернувшись к своему спутнику. – Хм… Я думаю, что это моя дочь, монсеньор, – ответил Роже с очень смущенным видом. – Ты думаешь… Какой странный отец… Ты не очень испугалась, малышка? Прижавшись к мускулистой ноге дофина, ставшего на колени перед малюткой, Зефирина мурлыкала, как заблудившийся котенок. Она с интересом рассматривала безбородое и безусое лицо Франциска де Валуа, затем легонько провела пальчиком по его длинному орлиному носу, заявив с очень довольным видом: – Ты красивый… Дофин звонко рассмеялся: – Клянусь красной чумой, эта малышка уже умеет разговаривать с мужчинами. Не только юный принц был очарован. Умиленный, покоренный и внезапно пришедший в восхищение маркиз лишь сейчас заметил, что со своими большими изумрудными глазами и рыжими кудрями девочка была живым портретом прекрасной Коризанды. Но в отличие от нежной матери и несмотря на доброе маленькое сердечко, Зефирина обладала диковатым и вспыльчивым характером, которым она, видимо, была обязана далекой молдавской прародительнице, чью героическую историю любил рассказывать Роже: эта юная амазонка, оставшись одна в своем замке на Дунае, обратила в бегство тридцать турецких янычар! Пелажи часто приглядывалась к своевольному ребенку, и под чепцом на лбу у нее появлялась тревожная морщинка, ибо славная женщина не могла забыть ту трагическую ночь. Она все время пыталась понять своим трезвым крестьянским умом последние слова бедной госпожи: «Она… Это она… Спаси мою Зефирину, спаси ее…» В святую Пятницу[4], перед причастием, Пелажи, не сдержавшись, открылась кюре из Амбуаза, который посоветовал ей превозмочь боль воспоминаний и рассказать обо всем маркизу де Багатель. Набравшись храбрости, Пелажи постучала в дверь комнаты своего господина. Роже ее внимательно выслушал, затем обхватил голову обеими руками: – Не думай об этом больше, Пелажи, моя супруга бредила. Кто может желать зла нашей маленькой Зефирине? Готовятся большие события. Битва, которая может стать решающей для судьбы нашей страны, неизбежна. Новое блистательное правление скоро изменит наши судьбы. Мою дочь ждет прекрасное будущее, – добавил Роже де Багатель, глядя сквозь тонкие планки оконного переплета на беззаботного ребенка, игравшего под старыми дубами парка. И действительно, казалось, что Зефирину вела за собой триумфальная звезда, поднимавшаяся на небесном своде, чье стремительное восхождение не смог бы остановить ни один человек на земле.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ САЛАМАНДРА
ГЛАВА I ИЗБАЛОВАННАЯ ДЕВОЧКА
– Она пытается убежать! – Если ты ошибаешься, она умрет, – прошептала Зефирина тоненьким взволнованным голоском. – Уверяю тебя, что нет! Папаша Коке сказал, что она обладает волшебной силой. Если у нее отрезать голову или лапки, они отрастают; даже глаза у нее восстанавливаются, а если она замерзнет во льду, ее можно отогреть на снегу. Тс-с! Смотри, Зефи… Юные заговорщики опустились на колени прямо на утрамбованную землю, чтобы наблюдать как можно ближе это зрелище. Странное существо, похожее на ящерицу с гребешком на спине, размером не более ладони, крутилось на месте, окруженное со всех сторон горящей соломой, очень неосторожно подожженной под крытым гумном. Разумно и терпеливо бедная саламандра безнадежно пыталась найти выход. Не найдя его, она, казалось, внезапно смирилась и поняла, что только храбрость может помочь ей выбраться из этого отчаянного положения. Долгая дрожь прокатилась волнами по ее черной блестящей спине, а золотистая кожа на ярко-желтом, почти оранжевом брюшке опустилась до самых задних лапок. – Хватит, Бастьен, она сейчас лопнет! – вновь заговорила Зефирина, словно загипнотизированная языками пламени. Не отвечая, Бастьен схватил свою подружку за руку, с силой сжав ее пальцы. Устав от попыток найти выход, маленькая саламандра стала сопротивляться огню. Под действием страха ее тело покрылось чем-то вроде пота: капельки густой жидкости вытекали из крохотных бородавочек; затем саламандра собралась с силами… Кусая губы, Зефирина вонзила ногти в мозолистую руку своего товарища по играм. Маленькая саламандра двигалась теперь прямо к огненной преграде. Защищенная жидкостью, стекавшей по ее коже, она прошла через огонь, а затем поспешно убежала, даже не взглянув на своих мучителей, скрывшись в благодатной сырости рва, протянувшегося вдоль конюшен. – О, Бастьен, она действительно погасила пламя на своем пути! Большие зеленые глаза Зефирины блестели на маленьком треугольном личике. – Ты видела, Зефи, это, конечно, волшебство! Дети смотрели друг на друга, восхищенные чудом, свидетелями которого стали; они не обращали внимания на огонь, уже подобравшийся к охапкам соломы. Одна из лошадей, почуяв дым, тревожно заржала. Снаружи раздались крики: – Святой Хризостом, это на конюшнях! – Бегите быстрее, папаша Коке! – Матерь божья, это гумно! – А где же дети? Услышав эти вопли, Бастьен и Зефирина одновременно подняли головы. – Беги, спасайся, Зефи! – закричал Бастьен, торопливо обрывая шнурки на своем колете из овечьей шкуры. Мальчик храбро бросился вперед, опередив свою подружку, чтобы потушить пожар. Зефирина поднялась с колен. Однако не в силах двинуться с места, почти парализованная, она стояла неподвижно, зачарованная огнем, уже лизавшим края ее фланелевых юбок. – Боже милостивый! Что они еще натворили? При этих словах на Зефирину со всего маху обрушилось целое ведро воды. Промокшая до нитки, ослепленная и задыхающаяся девочка почувствовала, как крепкие руки папаши Коке увлекают ее наружу. Она оказалась перед конюшнями в объятиях толстой Пелажи. Три обезумевших от страха конюха уже выводили бьющих копытами лошадей. – Горе ты мое, горе! С тобой ничего не случилось, мое сокровище? Ах, Господи! Меня ноги не держат! – говорила, запинаясь, Пелажи, ощупывая тело Зефирины под корсажем, дабы удостовериться в том, что девочка жива. Папаша Коке уже возвращался. Он тащил на спине отбивающегося Бастьена, в то время как Ипполит и Сенфорьен, лакеи маркиза, заливали гумно водой из водоема, где водились карпы. В кратчайший срок всякая опасность была устранена. После пережитого страха раздались охи и ахи, и затем пришла пора дать нагоняй виновникам. Все кричали одновременно: – Устраивать такие глупости! – Вас бы нужно посадить на хлеб и воду! – Да мы же не нарочно! – протестовал Бастьен. – Это был «опыт», – серьезно объясняла Зефирина. – Маленькие негодники, вы же могли сжечь всю округу! – О, Святой Блез, в такой день, как сегодня! – смахнула слезу Пелажи. – Пела, мы только хотели посмотреть, правда ли, что «саламандры» на самом деле волшебные, как нам говорил папаша Коке, – надулась Зефирина. – Волшебные!.. – перекрестилась Пелажи. – Замолчи, мое сокровище, и не повторяй больше это слово! Уперев руки в бока, Пелажи обратила гнев на папашу Коке, повернувшись к нему своим тучным телом, а папаша Коке, совершенно сконфуженный, не смел поднять глаз. – И вам не стыдно рассказывать подобный вздор детям!.. – Пелажи понизила голос. – Колдунов сжигали за менее серьезные вещи, старый вы безумец! Идите, беритесь каждый за свою работу! – добавила почтенная домоправительница властным тоном. – Вы не закончили украшать дом. Через два часа все должно быть готово, я приду проверю. Бастьен, ты сейчас поможешь Ипполиту и Сенфорьену, потом отправишься спать и не увидишь шествие; это будет тебе в наказание, шалопай… Что же до тебя, мое сокровище, в хорошеньком же ты виде… Поди сюда, я тебя умою… А твои волосы!.. Клянусь Святой Женевьевой, вы только посмотрите. Не переставая ворчать, Пелажи сняла белый чепчик с головы Зефирины. Волна кудрявых, непокорных волос, таких же рыжих, как заходящее солнце, рассыпалась по плечам маленькой девочки. А та, к большому удивлению всех, позволила себя увести, не особенно протестуя, но последовала за Пелажи с одной оговоркой, заявив очень отчетливо: – Я не хочу, чтобы ты меня умывала! Или не наказывай Бастьена… И еще я хочу, чтобы он был со мной на балконе, когда мы будем смотреть, как проедут папа и Франциск… – Иисусе, надо говорить его величество или король! – оборвала ее возмущенная Пелажи. – И я хочу надеть мое красивое серебряное платье! – продолжала Зефирина, не смущаясь. – Хочу, хочу… Нехорошо семилетней девочке так говорить… – Я уже большая! – Ну, я бы этого не сказала! Клянусь Святым Маглуаром, я спрашиваю себя, что сделал бы господин маркиз, если бы узнал обо всех глупостях, что проделала его дочь, пока он сражался вдалеке и, да славится Господь в этот день славы, выиграл для нас войну. И с этими словами Пелажи трижды размашисто перекрестилась. – Да, но ты не сказала, что ты позволишь Бастьену пойти со мной! – вновь заговорила Зефирина, на которую явно выраженная набожность Пелажи не произвела никакого впечатления. – Посмотрим, посмотрим… Продолжая ворчать, но отложив на потом решение судьбы своего племянника, Пелажи поигрывала своим серебряным кошельком, висевшим на поясе. Этот кошелек вместе со связкой ключей, также прицепленной к поясу, был неоспоримым знаком доверия, которым почтил ее маркиз де Багатель, назначив перед отъездом на войну своей домоправительницей. Зефирина успокоилась потому что знала по опыту: «посмотрим» означает, что ей удалось взять верх. Два рослых плотника прибивали самые красивые гобелены из зала для приемов на стены главного двора. Зефирина собиралась войти в особняк следом за Пелажи, пройдя под лоджией, где была установлена конная статуя, изображавшая Эжена Артура де Багателя, одержавшего победу над сарацинами в битве при Сен-Жан-д'Акр, когда ее остановил чей-то надтреснутый голос: – Подайте милостыню… Хлеба… К вашим добрым сердцам, благородные дамы… – уныло тянул нищий со следами оспы на лице. Бедняга прислонился к косяку широко открытого портала. Культю, обмотанную грязными тряпками, он протягивал к Зефирине. – О, Пела, дай мне экю для этого бедняги! – с мольбой сказала Зефирина, потрясенная этим столь характерным для парижских улиц, зрелищем, к которому она была непривычна. Еще два месяца назад малышка жила в прекрасной долине Луары. Лаконичное послание от маркиза, в котором он приказывал открыть парижский особняк для празднования победы, заставило Зефирину и всех людей Багателя, от конюхов до самого младшего поваренка, покинуть поместье в Турени. Сначала на плоскодонной барже они поднялись вверх по Луаре, затем, совершая короткие переходы в портшезе, юная дикарка и ее воспитательница, в сопровождении небольшой свиты примерно из тридцати человек, ехавших на мулах и ослах, без всяких затруднений добрались до столицы. Каждый день умненькая живая девочка то приходила в восхищение от парижских улиц, то проникалась сочувствием к судьбе несчастных нищих. – Целый экю! – возразила Пелажи, с сожалением развязывая один из кармашков своей бездонной юбки. Клянусь Святым Крепи, вот один соль, и я еще великодушна, хватило бы и одного денье, а еще лучше был бы хороший удар палкой. – Злая жадюга… Зефирина, завладев своим оболом, уже бежала к бедному нищему. Здоровой рукой оборванец тотчас же сунул монетку из красной меди в карман. – Да благословит вас Господь, благородная девица. Чтобы я мог зажечь свечку перед Святым Экспедитом, думая о вашей милости, не назовете ли вы мне ваше благородное имя? – спросил он плачущим голосом. Пелажи хотела помешать девочке ответить, но славная женщина весила теперь, должно быть, не меньше ста восьмидесяти фунтов, не была столь быстра, чтобы вовремя оказаться у подъезда. – Зефирина, Зефирина де Багатель… мой папа возвращается с войны. Он один атаковал сто ландскнехтов и опрокинул триста лучников, – с большим удовольствием начала объяснять Зефирина. – Его спутники падали вокруг, но мой папа, которого защищает моя мама на небесах, остался в седле, и король его назначил… Раздраженный голос Пелажи прервал этот словесный поток. – Довольно, Зефирина, мы опаздываем… Обиженная девчушка не шелохнулась. Пелажи настаивала: – Если не пойдешь сейчас же, не сможешь выйти в должном виде на балкон. Это было волшебное слово. Подражая взрослой женщине, внезапно вспомнившей о делах, она церемонно простилась со своим собеседником. Уже очень женственная, она грациозным движением приподняла свою юбочки, и бегом припустилась к своей кормилице, стоявшей посреди двора. Упреки не заставили себя ждать. – Ты не должна разговаривать с незнакомыми людьми! – Я не должна разговаривать с рогоносцами! – стала напевать Зефирина. Она взбиралась, прыгая на одной ножке, на пятнадцать ступеней главного крыльца, сложенного из черных и розовых кирпичей. – Пресвятая Дева! Кто тебя этому научил? – задохнулась Пелажи. – Не скажу… – Ах, ты злюка… Раз так, я одевать тебя не буду, причесывать не буду тебя, и ты останешься у себя в комнате! Видя сердитое выражение лица Пелажи, Зефирина поняла, что перешла границы дозволенного, и вернулась назад, чтобы броситься на шею своей кормилице: – Я больше не буду так говорить, Пела, обещаю! Раскаявшаяся Зефирина покрыла поцелуями славные красные щеки той, что заменила ей мать. Как можно было сопротивляться? Однако Пелажи помедлила с полминуты прежде, чем сдаться. – Хорошо, хорошо, мое сокровище… Давай, иди скорей. В то время как успокоенная и беззаботная Зефирина входила в особняк, Пелажи машинально обернулась, чтобы бросить последний взгляд на обновленный двор. – Добавь посеребренных гирлянд вокруг пилястров, Сенфорьен! – приказала Пелажи, указывая на легкие каменные колонны, расположенные вдоль фасада здания и украшенные резьбой в арабском стиле. Она удовлетворенно улыбнулась. Господин будет доволен. Двор блистал. Нищий, оскорблявший своим присутствием это место, благополучно ретировался от портала, и Пелажи могла видеть, как он, прихрамывая, направляется в сторону моста у ворот Сен-Дени. Домоправительница пожала плечами: – Я становлюсь старой дурой. Везде мне чудится недоброе. Эта малышка… Такая большая ответственность… К счастью, господин маркиз возвращается. И славная женщина успокоившись, вошла вслед за баловницей в вестибюль, выложенный голубой фаянсовой плиткой.ГЛАВА II ТРИУМФ
В этот день, 5 октября 1516 года колокола громко трезвонили. Бейте, барабаны! Пойте, флейты! Звените, трубы! Из ста восьмидесяти тысяч парижан, населявших этот славный город, не было ни одного, который бы не высовывался из своего окна или не стоял там, где проходил кортеж, чтобы приветствовать столь долгожданное возвращение юного короля – победителя гельветов[5]. С момента восшествия на престол Франциск I сначала попытался мирным путем вновь захватить герцогство Миланское, утраченное Людовиком XII, очаровав швейцарцев, истинных хозяев этой страны. Несмотря на многократно повторенные предложения о союзе, «господа-конфедераты», как их называли, решительно отвергли четыреста тысяч экю золотом, предложенных королем Франции в том случае, если они вернутся в свои горы и кантоны. Обеспокоенные слишком большими аппетитами молодого Франциска I, король Испании Фердинанд и старый император Священной Римской Империи Максимилиан Австрийский подстрекнули швейцарцев к бескомпромиссной борьбе. Уверенный в своем праве, Франциск I собрал войска и перешел через Альпы. В день, когда ему исполнился двадцать один год, он во главе своих всадников атаковал и опрокинул швейцарскую армию, поддержанную австрийскими, испанскими и венецианскими союзниками. Уже вечером следующего дня, 14 сентября 1515 года, битва при Мариньяно, эта «битва гигантов», как говорил простой люд, стала легендой. На балконе, обтянутом переливающимся шелком, украшенным флер-д'оранжем, Зефирина была живым воплощением восторга, опьянившего город. Ее отливающие медью длинные волосы были искусно заплетены Пелажи и убраны под усыпанный жемчугами головной убор. Ее своенравное личико горело от возбуждения. Она держалась очень прямо, как подобает маленькой девочке из аристократической семьи, одетая в настоящий дамский сюркот[6] с корсажем на китовом усе и воротничком из серебристых кружев. Крошечная фигурка в тосканских шелках бледно-зеленого цвета на возвышении была окружена всей прислугой; каждый надел новую ливрею с буквой Б и короной Багателей. Зефирина была очень горда собой. На улице люди задирали головы, глядя на нее с восхищением. Они знали, что это дочь героя, товарища по оружию самого короля. Ее пальцы сжимали руку друга Бастьена. Оба юных провинциала переглядывались, оглушенные, восхищенные, очарованные волнением, охватившим народ. Длинные вымпелы из синего бархата, с вышитыми лилиями реяли над островерхими крышами жилищ. На перекрестке, где стояла церковь Сен-Ле и куда выходила улица Пти-Льон, Зефирина еще могла видеть красовавшегося там, в память о покойном короле Людовике XII, дикобраза, но везде, на каждом фасаде, начиная с самого убогого домишки и кончая самым роскошным дворцом, сверкали саламандры, грубо нарисованные на дереве детьми или искусно вышитые мастерами на самых тонких шелках. Саламандры, извергавшие из пасти огонь! Саламандры, валившие наземь швейцарского медведя! Золотые саламандры! Синие саламандры! Саламандры с зелеными глазами! Саламандры, пронзающие насквозь дракона! Саламандры, плывущие средь бушующих волн! Саламандры, увенчанные коронами! Прекрасные и изящные саламандры – победоносная эмблема молодого красивого короля Франциска I, с девизом, написанным внизу «Nutrisco et extinguo»[7]. Зефирина переминалась с ноги на ногу. Она волновалась и начала топать ножкой, хмуря брови. Пелажи призвала ее к порядку. Гул, неохватный как ропот океана, поднимался отовсюду: толпа все больше густела, люди собирались, скучивались и толкались. Парижане смеялись и переговаривались друг с другом: все находились в ожидании и в крайнем возбуждении. Воры и разбойники, казалось, объявили передышку на этот день, оставив горожан и лавочников в покое. Монахи, нищие, паломники, продавцы сувениров и благочестивых картинок, уличные певцы и торговцы вином вносили несказанную суматоху. Зефирине хотелось получить все: пряник, портрет Франциска, грушу, горячее молоко, даже копченую селедку! Ипполит и Сенфорьен сбивались с ног, стараясь угодить всем капризам своей юной госпожи. Счастливая Зефирина, смеялась, делила лакомства с Бастьеном. У нее кружилась голова. Сколько пышных нарядов, золота, драгоценностей! Казалось, Париж хотел показать маленькой девочке все свои богатства, чтобы таким образом заставить ее позабыть зловонный запах его клоак. Кумушки здоровались друг с другом, кивая накрахмаленными чепцами. Драгоценные украшения, золотые цепи и парчовые платья переливались всеми цветами радуги на высокомерных знатных дамах, стоявших у своих окон. Во всех домах стоял гомон, как в птичнике. Лишь один двор, построенный в прошлом веке и находившийся напротив светлого и современного особняка Багателей, сооруженного к свадьбе Коризанды и Роже, выделялся на фоне возбуждения, царившего в квартале. Четыре башни, чьи окна не были украшены, казалось, были давным-давно покинуты его владельцами. На железных ставнях первого этажа скопилась пыль. Опавшие листья и сорная трава заполнили сырой двор, который Зефирина видела сквозь высокие решетки, украшенные вплетенной в них змеей с человеческой головой. Но вскоре ее внимание было отвлечено от печального жилища. На паперти церкви Сен-Инносан, усыпанной лепестками роз, толпа веселых молодых людей распевала песенку, которую в этот час повторяла вся Франция: балладу о Мариньяно, специально сочиненную мэтром Клеманом Жанекеном. Наконец-то Зефирина могла броситься в бой. От всего сердца присоединила она свой голосок к голосам поющих. Дойдя до того места, которое больше всего ей нравилось, Зефирина, уже красная как мак, набрала в грудь воздух, чтобы пропеть куплет как можно громче. Она буквально вопила, все более и более воодушевляясь. Внезапно славная Пелажи, которая пела куда более сдержанно, невольно нахмурила брови. Ее проницательный взгляд выделил из толпы, образовавшейся в конце улицы Сен-Дени, того самого нищего, что она видела сегодня утром. Горемыка стоял, прислонившись к одному из тритонов, украшавших фонтан. Даже и не думая о том, чтобы утолить жажду гипокрасом[8], изумительным сладким вином, лившимся рекой в этот день всеобщего ликования, он оживленно беседовал с ребенком, чье лицо было скрыто плоским беретом с большим желтым пером. Малышу, судя по росту, было не более десяти лет от роду, и это должно было бы успокоить Пелажи, но нищий сопровождал свои слова жестами, указывающими на особняк Багателей. – Клянусь Святым Самсоном, что замышляет этот бродяга? – проворчала Пелажи, все более и более заинтригованная. Ей показалось, что мальчуган положил в руку несчастного какой-то предмет, возможно, кошелек. Нищий поклонился и тут же исчез в направлении башни Иоанна Бесстрашного, а ребенок, чье желтое перо Пелажи только что видела в толпе, стал с трудом пробиваться к улице Коссонри, где торговцы мясом нажарили столько каплунов, что ими можно было бы накормить целую армию! – Ну вы, шутники, я с вас глаз не спущу! – процедила сквозь зубы Пелажи. Грохот оваций заставил умолкнуть славную женщину. Единый крик поднимался к небесам: – Да здравствуют лучники! Да здравствуют городские советники! – вопила Зефирина вместе со всеми парижанами. Был полдень. Огромное шествие только что двинулось под звуки труб и приветственные клики. У ворот Сен-Дени появились сидящие верхом, по двое в ряд, лучники, арбалетчики, прево и городские советники Парижа, одетые в красные и синие одежды. – Бастьен, Бастьен, ты видишь папу? – кричала Зефирина, пребывая в состоянии крайнего возбуждения. – Пока нет, Зефи, пока нет… А вот и сержанты с пиками! – возгласил мальчик, который взгромоздился на широкие плечи папаши Коке и имел возможность раньше других увидеть длинные пики солдат. – Да здравствуют сержанты стражи! – Да здравствуют золотых и серебряных дел мастера! – Да здравствуют секретари суда! – Да здравствует Верховный суд! – Да здравствует Высший суд! – Да здравствуют нотариусы! Как и все население, Зефирина встречала аплодисментами каждую депутацию, проезжавшую мимо. Даже судейские чиновники и сборщики налогов, к которым относились с ненавистью и презрением, когда они в камзолах из черного бархата и с толстой золотой цепью на шее, являвшейся знаком возложенной на них власти, собирали столь непопулярный налог на соль, получили свою долю приветственных возгласов. Шествие продолжалось уже три часа, но никто не чувствовал усталости. А папаша Коке вдруг воскликнул: – Скажите! Ну и соседство! Зефирина подняла голову. Казалось, заброшенный особняк напротив особняка Багателей ожил. Два лакея в ливреях оливкового цвета открывали мрачные окна, проветривали комнаты, вытирали пыль, торопливо расставляли цветы, развешивали драпировки, ставили кресла; затем внезапно исчезли в глубине двора, ставшего гораздо менее мрачным. Зефирина хотела вновь обратиться к шествию, когда из комнаты с низким потолком, находившейся как раз напротив балкона особняка Багателей, быстро вышла из полумрака женщина с волосами, покрытыми черными кружевами, и в маске из атласного бархата. Изящным движением незнакомка облокотилась о тяжелую каменную балюстраду. Наряд из черной парчи, обшитый стеклярусом из агата, свидетельствовал о ее высоком положении. Несколько секунд дама в черном и маленькая рыжая девочка смотрели друг на друга. На губах незнакомки в черных драгоценных кружевах мелькнула тень улыбки. Ее блестящие глаза, скрытые маской, пристально рассматривали Зефирину. Улыбка на розовых губах стала более явственной, показались заостренные зубы ослепительной белизны, и дама склонила голову, весьма учтиво приветствуя маленькую девочку, окруженную слугами. – Кто эта дама, Пела? – спросила Зефирина, потянув няню за широкий отделанный воланами рукав. – Не знаю, сокровище мое… но ты должна ответить, сделав реверанс, на столь любезное приветствие этой знатной дамы, которая… Пелажи вдруг осеклась, и лицо ее сильно побледнело. Рядом с незнакомкой возникли два пера: желтое и зеленое. Пелажи отчетливо увидела головы, которые едва возвышались над балюстрадой, человек в берете с желтым пером – тот, кого она приняла за ребенка, когда он разговаривал с нищим, – оказался карликом с уродливым приплюснутым лицом; это был лакей или, возможно, шут изящной дамы. В берете с зеленым пером был мальчуган, тщедушный и болезненный с виду, которому могло быть шесть или семь лет, как Зефирине. Все более и более обеспокоенная, Пелажи ощущала какое-то необъяснимое чувство тревоги. Вопли Зефирины, смешивавшиеся с криками народа, вывели ее из состояния задумчивости: – Да здравствует король… Да здравствует папа… Да здравствует герцог Алансонский… Да здравствует коннетабль[9] де Бурбон… Да здравствует маршал де Ла Па-лис… Да здравствует адмирал Бониве… Да здравствует король… Да здравствует папа! – пронзительно воскликнула Зефирина. Воодушевление достигло своей наивысшей точки. В сопровождении тринадцати пажей, восьмидесяти шотландских лучников, двадцати двух герольдов появился Франциск I во всем своем сверкающем великолепии, одетый в белый и небесно-голубой атлас, гарцуя на снежно-белом жеребце, Цезарь двадцати лет от роду. Он возвращался победителем, покрытый золотом и горностаем, завоевав герцогство Миланское кончиком своего копья, пышущий силой, в сиянии юности и славы. Легкое ранение в голову заставило его отпустить бороду. Все спутники последовали этому примеру. Зефирина с трудом узнала своего отца среди всех этих бородачей. Она вопила, посылала воздушные поцелуи, обрывала кружева на своем платье. В то время как коннетабль де Бурбон нес перед собой королевский плащ, а маршал де Ла Палис – шпагу с насечкой, Роже де Багатель держал в руках на вышитой лилиями подушке отлитый из золота массивный шлем, защищавший короля под Мариньяно. Это было огромной честью. После двух лет отсутствия маркиз возвращался домой, щедро осыпанный милостями. Все еще прекрасный рыцарь, с едва посеребренными висками, Роже улыбался дочери, слугам, собравшимся на балконе его особняка. Приветственные возгласы перешли в исступленный восторг: – Да здравствует король… Да здравствует король! Находясь в страшном возбуждении, Зефирина едва не свалилась с балкона. Крепкая рука папаши Коке удержала ее в последнее мгновение. Проезжая мимо, молодой король наклонился к маркизу: – Ты видел свою рыжую саламандру? Неистовая девчонка одна производит больше шума, чем наши всадники, давая сигнал к атаке. Расхохотавшись, Франциск с истинно королевской грацией снял берет, украшенный драгоценными камнями, чтобы поприветствовать свою приятельницу Зефирину. Она ответила, от волнения кусая пальцы. Посылая воздушные поцелуи и смеясь, она пришла в полуобморочное состояние: слишком прекрасное зрелище приводило ее в восторг, сжимало ей горло, слепило и потрясало. Этот день навсегда остался в памяти Зефирины. Внезапно девочка нахмурила свои тонко очерченные брови. Ловко брошенная черная роза упала рядом с золотым шлемом на расшитую подушку, которую нес ее отец. Роже де Багатель сейчас же поднял глаза к башне мрачного жилища. Стоя у окна, дама в черном, исполненная грациозного очарования и изысканной сдержанности, приветствовала героя. На секунду, так, чтобы видел только он один, она чуть приподняла маску, скрывавшую лицо, открыв тонкие черты, поражавшие своей красотой. Мало того, черные глаза незнакомки, казалось, смотрели на маркиза со странной нежностью. Роже де Багатель склонился к шее своего жеребца и затянутой в перчатку рукой взял розу, поднеся ее к своим губам. Зефирина инстинктивно зажмурилась. Детское эгоистическое предчувствие предупреждало об опасности. Зефирина ощутила внезапный холод, и ей захотелось зарыдать, всхлипывая, поскольку внимание обожаемого отца было отвлечено от ее маленькой персоны. Когда Зефирина вновь открыла глаза, облако пыли, поднятое шествием, удалялось. Народ в конце улицы Сен-Дени расходился. Люди возвращались к своему очагу или направлялись к паперти собора Парижской Богоматери, чтобы присутствовать при пении «Те Deum»[10]. Перед тем как покинуть балкон, Зефирина бросила взгляд на мрачное здание. Дама в черном и мальчуган с зеленым пером исчезли, словно привиделись ей во сне. Лакеи молча убирали цветы, драпировки и гобелены с окон. Но желтое перо карлика двигалось по-прежнему. Видно было, что этот человечек распоряжался слугами. – Идем, мое сокровище, пора ужинать! – сказала Пелажи, беря Зефирину за руку. Зефирина только что познала ревность. Ей было необходимо отомстить кому-нибудь. На другой стороне улицы карлик прислонился уродливой головой к каменной балюстраде. Он рассматривал девочку с рыжими кудрями. Ни его плоское лицо, ни выпученные рыбьи глаза ничего не выражали. Зефирина торопливо обернулась. Украдкой от Пелажи она показала карлику язык, затем, придя в восхищение от собственной гримасы и совершенно не осознавая всей злобности своей безнаказанной выходки, она отпустила руку воспитательницы и весело побежала к лестнице, ведущей на кухню. Там гремел чей-то трубный голос.ГЛАВА III Я ХОЧУ
– Клянусь рогами рогоносца… Со времен Ганнибал? не совершалось ничего подобного! Бородатый гигант гулко ударял себя кулаком по мощной груди в кирасе, восхищенный шепот сопровождал каждое его громогласное слово. Никто из присутствующих не обратил внимания на Зефирину. Она скромно уселась на последнюю ступеньку и, оперев свою изящную рыжуюголовку на обе руки, стала внимательно, как и все остальные, слушать. – Тридцать тысяч человек, закованных в броню! Десять тысяч всадников! Семьдесят две пушки! Мулы, повозки, лошади, наши лучники и дворяне в доспехах под палящим солнцем! Мы перешли через Альпы на высоте шести тысяч футов, чтобы обрушиться на равнине на швейцарского медведя. Нас убивали! Нас обманывали! Нас кусали со всех сторон! Целых два дня мы дрались, опрокинув более тридцати раз этих пройдох-швейцарцев! Ах, клянусь бородой Барнабе! Когда при крике «Святой Марк» эти пердуны-венецианцы атаковали нас, клянусь честью, я вот этой самой рукой, которую вы видите, пронзил более сотни негодяев, и, однако, я думал, что всему крышка, что все пропало… Какая неразбериха! Нас ослепляла пыль… Лошади и всадники тонули в грязи, а наша артиллерия стреляла без передышки, наши арбалетчики выпускали град стрел… Всю ночь мы не отрывали задницу от седла, но вечером той сентябрьской пятницы швейцарцы и их дерьмовые союзнички были обращены в бегство. Тогда, друзья мои, я своими собственными глазами увидел, как наш молодой король встал на колени и поцеловал землю, орошенную кровью. Затем перед всеми нами он поручил храбрейшему из храбрых, благороднейшему из благородных, человеку без страха и упрека, я говорю о шевалье де Байяре, возвести себя в рыцари. Вслед за этим воцарилось благоговейное молчание. Главный повар Ёзеб, три поваренка, четыре кухарки и все лакеи стояли с разинутыми ртами, держа в руках вертелы, точно тесаки, и мечтая о сражениях и битвах, о величии и героизме. – Ла Дусер! Ла Дусер! – завопила Зефирина, воспользовавшись всеобщим затишьем, чтобы броситься в объятия рассказчика. – Зефи, так ты не забыла своего Ла Дусера? О, дай-ка мне на тебя посмотреть, какая ты большая и красивая! – восторженно воскликнул умиленный гигант. Большим пальцем, размером со шпатель, он утер слезу, застрявшую в бороде цвета соли с перцем. – Смотри, у меня выпало три зуба! Зефирина с гордостью показала несколько дырочек среди маленьких жемчужин, украшавших ее розовые десны, затем, забыв о себе, с видимым интересом провела пальцами по заросшим щекам своего друга и спросила: – Почему ты теперь тоже бородатый? – Я дал обет Святой Кунигунде, что отпущу бороду, если мы выиграем битву! – солгал гигант, не смея признаться, что, как и все люди Франциска I, последовал королевской моде… – Я люблю тебя, Ла Дусер! Зефирина страстно поцеловала оруженосца своего отца, который, не колеблясь, посадил ее в седло в возрасте трех лет. – Когда я буду большая, ты вместе с Бастьеном будешь моим мужем! Едва Зефирина поведала о своем решении, как поварята и кухарки прыснули со смеху в свои жирные тряпки; бросив на них яростный взгляд, потрясенная Пелажи, возразила: – Послушай, мое сокровище, нельзя выйти замуж сразу за двоих мужчин! – Когда я стану большая, буду делать то, что я хочу! – заявила Зефирина с огромным убеждением. – Ладно, отпустите-ка барышню Зефирину. Господин маркиз устраивает ночью пир в честь возвращения, и, даю слово повара, на карту поставлена моя честь. Главный повар Ёзеб, возвратившись на грешную землю, вновь принялся за работу. Словно коннетабль перед битвой, он произвел смотр своему войску. Поварята и подавальщицы вновь засуетились вокруг пирогов с куропатками, кулебяк с рыбой, фазанов, фаршированных коринкой, в то время как в очагах шипели, поворачиваясь на вертелах, бараньи и свиные туши, благоухавшие от покрывавшей их горчицы. Зефирина в отместку сунула пальцы в пироги с бобами, которые выстроились в ряд на длинных деревянных столах. – Они невкусные! – бросила Зефирина, чтобы отомстить мэтру Ёзебу. Пустив эту отравленную стрелу, она бегом присоединилась к Бастьену, чтобы сыграть с ним в новую игру. – Ты будешь пердуном-венецианцем, а я Ганнибалом, клянусь рогом рогоносца… Вот уже два дня как мы не отрываем задницу от седла…Миновала полночь, но Зефирина все еще не спала. Ярость уступила место печали. Она лишь недолго видела своего отца, когда тот вернулся из дворца Турнель, в котором король, предпочитавший это светлое жилище мрачной главной башне Лувра, принимал нотаблей[11] города. Роже де Багатель провел очень мало времени со своей дочерью, хотя взволнованной Зефирине хотелось бы все знать об итальянской кампании. Надевая камзол с длинными рукавами, присборенными в плечах, поверх рубашки из тонкого голландского полотна, стройный и очаровательный маркиз, кратко рассказал девочке, как миланские князья под предводительством герцога Максимилиана Сфорцы покорились после поражения швейцарцев и присягнули королю Франции. Только один из них восстал – юный князь Фульвио Фарнелло. Он ответил французскому королю, «что не знает другого властелина, кроме своей шпаги и божественного провидения!» Французские рыцари просили короля Франциска I обезглавить наглеца или по крайней мере разорить все его имения, разрушить все его дворцы, но король, великодушный и снисходительный, а возможно, уставший от крови при Мариньяно или же тронутый семнадцатью годами юноши, удовольствовался тем, что повелел сломать красовавшийся на фронтонах его дворцов гордый герб рода Фарнелло: леопард с золотой пастью и девизом – «Я хочу!» Дойдя до этого места в своем повествовании, Роже де Багатель внезапно заторопился к гостям, чьи портшезы уже появились во дворе; торопливо поцеловав дочь, он велел Пелажи сейчас же уложить ее в постель. Теперь Зефирина вертелась с боку на бок на мягком 1Юфячке из овсяной микины, и мысли ее неслись во весь опор. Она все время возвращалась к высокомерному ответу князя Фульвио Фарнелло. Какая самоуверенность! Он осмелился бунтовать против Франциска I, короля-победителя, самого могущественного государя в мире! Кто такой этот Фарнелло, что считает себя равным королю Франции? Размышляя о дерзком итальянце, она одновременно прислушивалась к смеху и радостным крикам, доносившимся из зала для приемов. Внезапно терпение у нее лопнуло, и она решилась: – Я… Я хочу встать! Присоединив к словам действие, Зефирина тихонько распахнула балдахин. Отбросив занавеси из зеленой шелковой узорчатой ткани, она прыгнула на черный дубовый пол, внезапно оказавшийся ледяным для ее босых ножек. Сначала она, крадучись на цыпочках, прошла через комнату Пелажи, примыкавшую к ее собственной. Пустая постель, робко освещенная бледным лунным светом, неопровержимо свидетельствовала, что кормилица находилась внизу. Зефирина была одна на всем этаже. Она прошла в туалетную комнату, с наслаждением вдохнув запах мазей и духов своего отца, затем вошла в такой темный коридор, что пришлось двигаться на ощупь; ее направляли только звуки лютни и гобоев. Путаясь в длинной рубашке из тонкого батиста, чей вышитый подол волочился по полу, так что его надо было приподнимать, Зефирина невольно стучала зубами: ночью оружейный зал производил зловещее впечатление. Храбро подавив охватившую ее дрожь, словно смелая маленькая саламандра, она продолжила свой путь, хотя чувствовала себя все же очень неуютно в этом обширном здании, расположение комнат в котором знала плохо. Чтобы идти в правильном направлении, Зефирина держалась за стену. Внезапно повеяло ночной сыростью. Зефирина ощутила под пальцами шероховатость громадных портретов своих предков. Это было хорошо. Теперь девочка знала, что находится в портретной галерее; портреты она знала наизусть. Эти картины кисти больших мастеров висели в том же порядке, в каком были развешаны в Турени. Внезапно Зефирина остановилась и сердце у нее сильно забилось. Ей показалось, что совсем близко слышно чье-то дыхание и чьи-то бесшумные шаги скользят по натертому воском паркету. Зефирина резко обернулась, но не различила в темноте никакой подозрительной тени. – Я не боюсь! Я не боюсь! – повторяла Зефирина, дрожа от холода. Чтобы придать себе больше храбрости, она начала вслух называть имена предков, проходя мимо них: – Вот Эрнест… Ахилл-Жозеф… Тимолеон… Гонтран… Беранже… Гуго-Бертран, Бланш, Гиацинта… Эврар… Шарль-Базиль… Зефирина дошла до конца галереи. Ее маленькая ручка коснулась деревянной рамы портрета матери, прекрасной Коризанды, изображенной в полный рост. Сколько раз девочка, которую холили и лелеяли, но которой так не хватало материнской нежности и любви, сколько раз мечтала она о материнской ласке, всматриваясь в этот кроткий и нежный взгляд изумрудных глаз, в которых уже сквозила какая-то грусть, возможно даже какое-то предчувствие быстротечности своей судьбы. – О, мама! – вздохнула девочка. – Я ваша маленькая дочка. Я хочу, чтобы вы со мной поговорили. Почему вы не разговариваете со мной? Но загробный голос никогда не отвечал своевольной девочке. Смех, музыка и пение звучали все громче. Зефирина, наконец, дошла до двойной лестницы, которая обвивала свои изящные завитки вокруг огромной колонны из резного дерева. Девочка знала, что сможет укрыться за раковинами балюстрады и что, таким образом, с этого возвышения ей откроется прекрасный вид на весь большой пиршественный зал. Она очень удобно устроилась в своем тайнике, когда рядом раздался чей-то хриплый голос: – Чем больше человек сходит с ума, тем больше смеется! Зефирина вскрикнула, но ее возглас тут же пресекся: чья-то затянутая в перчатку рука крепко прижалась к ее губам, заглушая все жалобы. Взбешенная Зефирина, брызгая слюной от ярости, случайно вцепилась в чужой палец. Она с наслаждением вонзила свои острые зубки в плоть напавшего на нее человека, но тот не отпускал ее, наоборот, все крепче сжимал. Затем тот же голос с угрозой произнес: – Не двигайся, толстая индюшка! Полузадохнувшейся Зефирине все же удалось повернуть свою кудрявую головку: она увидела уродливое существо, чей вид вызвал у нее ужас.
ГЛАВА IV КАРОЛЮС
Гогот карлика с желтым пером раздавался в тишине. Его плоское, как у дохлой рыбы лицо, кривилось гримасами как раз на уровне испуганных глаз Зефирины. Маленький рост напавшего на нее человека должен был успокоить девочку. Но, странно, именно его короткое, уродливое тело больше всего наводило ужас. – Смотри-ка, ты вдруг стала более вежливой, мартышка! – отметил карлик с удовлетворением. – Ну ладно, я уже достаточно отомстил тебе за твою наглость. Если пообещаешь быть благоразумной, я дам тебе возможность дышать! Отвратительный человечек ожидал ответа Зефирины. Все еще вытаращив глаза, она тихонько кивнула головой в знак согласия. Карлик осторожно разжал свои объятия. Несмотря на страх, который внушал враг, Зефирина продолжала держать его палец в крепко сжатых зубах. – Эй, каждому свой черед! Теперь твоя очередь отпустить мой палец! – скорчил гримасу карлик. Зефирина решилась разжать зубы. Казалось, не испытывая ни малейшей боли, странный уродец снял свою черную перчатку и победно помахал перед глазами девочки четырехпалой красной ручонкой, вырезанной из сандалового дерева. – Видишь, дурочка… ты могла на этом переломать все свои зубы! Ну, давай, садись на попку и никаких воплей! Я не спущу с тебя глаз, девчонка! Сказав это, карлик вновь надел свою черную перчатку и бесцеремонно подтолкнул Зефирину к небольшому золоченому деревянному сундуку. Никто на свете никогда не употреблял таких слов, обращаясь к Зефирине. Устраиваясь на указанном месте, она пришла в себя; ей удалось произнести: – Кто ты? – Я – Каролюс, король карликов! Карлик королей! И я не к твоим услугам, краля! Карлик с издевкой поклонился, коснувшись пола своим длинным желтым пером. – Сколько же тебе лет? – спросила девочка недоверчиво. – Тридцать шесть и все зубы есть! Услышав такой ответ, Зефирина молниеносно обрела присущую ей самоуверенность. – Ты довольно маленький! – Ты тоже, тетеря! – Да, но я-то стану большой! – бросила Зефирина тоном превосходства. При этих словах странная искра промелькнула в желтоватых глазах карлика. – Кто знает! – скорчил гримасу человечек, а затем вновь с ухмылкой заговорил: – Ну, давай, подвинь свои юбки, моя красотка… Подпрыгнув на кривых ножках, карлик уселся рядом с Зефириной на импровизированном сиденье. Полностью успокоившись, она спросила: – Как ты сюда вошел? – С помощью волшебства, сладкая моя! И мой настоящий мизинец говорит мне, что тебе придется привыкнуть к манерам Каролюса. А теперь заткни пасть и дай мне посмотреть на благородное собрание. Это было уже слишком. Зефирина тявкнула, как разъяренная шавка: – Я у себя дома, и не такому дерьмовому человечишке отдавать мне приказы! Удовлетворенная как своим ответом, в котором использовала любимое словечко Ла Дусера, так и ошеломленной физиономией карлика, она совершенно потеряла интерес к Каролюсу и перенесла все внимание на зал для приемов. Сто восковых свечей освещали, словно днем, необъятных размеров стол. Среди полусотни сотрапезников, вокруг которых вился хоровод лакеев в бархатных зеленых ливреях – цвета дома Багателей – Зефирина тотчас узнала сидевшего на почетном месте в слегка распахнутом камзоле своего друга короля Франциска. Жареные павлины, лебеди и цапли появлялись в зале; их несли поварята на позолоченных серебряных блюдах. Зефирина, находясь в своем укромном месте, пыталась привлечь внимание Бастьена, которого Пелажи ради такого случая предоставила в распоряжение повара; она кривлялась и гримасничала, но ее товарищ по играм ни на мгновение не поднял головы, слишком поглощенный важностью порученного ему дела. Зефирина заметила, что король, выказывая благовоспитанность и учтивость человека, умеющего следовать моде, всего лишь по одному разу погружал пальцы в каждое блюдо, чтобы взять кусок и поднести его к губам. С жадностью поедая сочную ножку цапли, Франциск нежно разговаривал со своей соседкой, красивой молодой женщиной с прекрасными каштановыми волосами, в которые были вплетены жемчужные нити. Будучи, как всегда, любопытной, Зефирина спрашивала себя, кто бы это мог быть, так как она не узнавала в этой даме любезную королеву Клод. Насмешливый голос Каролюса, словно тот угадал ее мысли, раздался у нее над ухом: – Жила-была торговка печенкой, которая однажды сказала себе: «Клянусь честью, это Франсуаза де Фуа, которая в следующий раз будет кобылой короля»[12] Гы! Гы! Гы! Придя в восторг от собственной шутки, Каролюс скорчился от смеха. – Ты – дурак, это ничего не значит. Замолчи! Зефирина сопроводила свой властный приказ чувствительным толчком в бок карлика. Совершенно не смущаясь, Каролюс ответил выпадом на выпад: – Наша маленькая гусыня сегодня вечером проделает путь от удивления до изумления. Гы! Гы! Зефирина, презрительно пожав плечами, стала искать взглядом отца. Несколько человек отделяли маркиза де Багатель от его сюзерена. Как король и все присутствовавшие здесь молодые победители, он весело праздновал возвращение в окружении множества красивых женщин. Несмотря на свою детскую невинность, Зефирина прекрасно понимала, что лишь одна-единственная особа привлекла внимание ее отца. Роже де Багатель постоянно склонялся к соседке справа. Зефирину это раздражало, и она выворачивала себе шею, пытаясь разглядеть черты лица этой дамы, но видела только ее высокий головной убор, украшенный эмалевыми подвесками, которые ниспадали на роскошное платье из черной тафты, в которую были вплетены золотые нити. Внезапно зазвучавшие аплодисменты отвлекли внимание Зефирины от этой женщины. В зале появилось какое-то животное огромных размеров и необычное с виду. Оно передвигалось отрывистыми прыжками, болтало лапами в воздухе и вертело своим рыжеватым хвостом. Несколько дам взвизгнули от страха и, казалось, были готовы упасть в обморок. Сидевшая на возвышении Зефирина тоже едва не поддалась панике, но насмешливый взгляд соседа привел ее в чувство. Внезапно животное замерло перед королем. Франсуаза де Фуа, видимо, испугавшись, бросилась в объятия Франциска. Король воспользовался этим, чтобы поцеловать ее в шею. Такое поведение глубоко возмутило Зефирину, хотя ей тоже хотелось бы прижаться к груди отца. Сказочный зверь с ужасным рыком потряс своей оранжевой гривой, а из его разинутой пасти появилась девочка-подросток, едва прикрытая прозрачной тканью, усыпанной лилиями. – Хи-хи! Деревенщина! Здесь все иначе, чем в твоей дыре! – зубоскалил Каролюс. Зефирина решила было ответить презрением на эти насмешки; однако осталась сидеть с разинутым ртом, вытаращив глаза. Никогда еще девочка не видела подобного волшебства, равно как и подобных полуголых девиц. Зефирина покраснела от стыда за это создание. Господин кюре из Амбуаза говорил, что только приспешники дьявола снимают свои одежды – и Пелажи всегда купала Зефирину одетой в длинную рубашку. Но сегодня вечером, как и сказал Каролюс, Зефирина шла от удивления к изумлению. Казалось, совершенно не опасаясь нечистой силы, король аплодировал так, что дом мог рухнуть. Более того, бросив свою мадам де Фуа, он легкомысленно поцеловал юную девушку в губы, лаская ее обнаженную грудь, а затем воскликнул: – Браво! Браво! Входите, мой славный мэтр! Идите сюда, чтобы мы Могли поблагодарить вас за это замечательное изобретение! В зал быстрым шагом вошел старик, чья длинная белая борода ниспадала на расшитую по итальянской моде одежду, и склонил сутулую спину перед королем. – Я так счастлив, что мой автоматический лев «понравился» вашему величеству! – сказал старик с легким заальпийским акцентом. – Понравился… Ах! Даже более того, мой добрый отец, намного более. Друзья мои, – сказал король, обращаясь к придворным, – я представляю вам свой лучший итальянский трофей! Это мэтр Леонардо да Винчи, гениальный художник, с которым дурно обошлись его соотечественники. Мэтр Леонардо согласился последовать за нами. Отныне он будет жить в «милой Франции», приберегая для нас свои замечательные изобретения. Спасибо, мой добрый отец… спасибо! – закончил молодой король. И было видно, что он жаждет выразить старику свое уважение и восхищение. Со свойственной ему пылкостью, Франциск I сжал старого художника в объятьях, затем обернулся к Франсуазе де Фуа и поднял свой кубок: – А теперь, друзья мои, выпьем за властительницу наших мыслей! Но женщина изменчива и безумен тот, кто станет ей доверять! – Гы! Гы! И с этими словами стал поэтом наш Франциск! – прошептал Каролюс. – Заткни пасть! – сказала Зефирина, которая все схватывала на лету. Слова короля были встречены восторженным гулом. Каждый из сотрапезников повторял их, на все лады расхваливая остроумие монарха. Роже де Багатель тоже повернулся к своей соседке, подняв светло-зеленый кубок. Даже чувствуя на себе насмешливый взгляд Каролюса, Зефирина не удержалась от жеста, выражавшего удивление. Только сейчас она увидела: рядом с ее отцом сидит та самая незнакомка, что бросила черную розу! – Раз ваше величество указало нам такой прекрасный путь, то я позволю себе выпить за здоровье госпожи графини доньи Гермины де Сан-Сальвадор!ГЛАВА V ГРАФИНЯ
– Сан-Сальвадор, – повторил король; он, казалось, пытался что-то вспомнить. – Мы не ошибаемся, сударыня? Ведь речь идет о титуле? – Сир, я действительно вдова графа Энрике де Сан-Сальвадора. Произнеся эти слова, графиня встала со своего места, тут же опустившись в глубоком реверансе перед королем. – Ах, да! Один из испанских грандов! Но вы очень хорошо говорите по-французски, госпожа графиня! – одобрительно произнес король. – В нашем замке у нас всегда были воспитательницы-француженки, ваше величество. У графини был низкий и мелодичный голос, который Зефирина тотчас же возненавидела. По любезному знаку короля графиня снова заняла свое место рядом с маркизом де Багатель. Теперь Зефирина могла очень хорошо видеть черные как смоль кудри, образовавшие ореол вокруг прекрасного лба. Роже де Багатель вновь склонился к графине и прошептал несколько слов, которые Зефирина не могла расслышать. Графиня потупилась. Нежная улыбка озаряла ее лицо мадонны. Из-под длинных черных ресниц сияли горячие, глубокие, ласковые глаза – и все это было для маркиза де Багателя. Не зная почему, Зефирина чувствовала себя несчастной, оскорбленной, одинокой и покинутой. Ей вдруг стало очень холодно. Она поджала свои босые ножки, скорчившись на золоченом сундуке. – Ну и непоседливая же ты, цесарка! – заворчал Каролюс. – Я делаю то, что хочу! – все тем же «любезным» тоном ответила Зефирина, но тут же замолчала, чтобы послушать своего отца, обратившегося к королю. – Позволит ли мне ваше величество высказать просьбу? – В чем бы я смог тебе отказать, Багатель? – Прошу вашей высочайшей благосклонности: разрешить мне просить руки графини Гермины де Сан-Сальвадор. – Вот это огорошит тебя, маленькая свинушка! – скорчил гримасу Каролюс. Зефирина смотрела на карлика, и лицо ее выражало полное непонимание происходящего. – Что папа хочет сделать с рукой этой дамы? – спросила наивная девочка. – Гы-гы-гы! Каролюс скатился на пол и болтал в воздухе ногами, предаваясь безудержному веселью. – Если таково твое желание, Багатель, было бы нелюбезно с нашей стороны отказывать в твоей просьбе, однако… Франциск I, внезапно вновь стал более королем, чем другом, явно заколебавшись, следует ли давать маркизу разрешение на брак. К этому обязывали существовавшие обычаи. Ведь испанская графиня могла в случае смерти мужа унаследовать огромное состояние, включавшее объединенные земли родов Багателей и Сен-Савенов, и это заставляло задуматься сюзерена Франции. – Позволит ли ваше величество рассказать ему одну историю? – спросил Роже де Багатель, чувствуя внезапную нерешительность короля. По любезному знаку властелина маркиз приблизился к королевскому креслу. Очарованная тем, что услышит какую-то сказку, Зефирина приблизила лицо к раковинам, украшавшим балюстраду, и, уперевшись подбородком в сложенные руки, в привычной для себя позе, стала с восторгом смотреть на отца. – После того как мы одержали победу, ваше величество совершали триумфальное путешествие в Марсель, – начал рассказ Роже де Багатель, – а ваш слуга, у которого расковалась лошадь, ехал следом за вашей свитой по дороге на Маноск. Я немного отстал, и тут разразилась гроза с проливным дождем… Король прервал маркиза, чтобы дать кое-какие пояснения Франсуазе де Фуа. – О да! В Провансе, как мне помнится, прекрасная дама, у нас была встреча с госпожой нашей матушкой; гроза была, когда мы проезжали через священный лес Сент-Бом, и, клянусь кожей на животе Святого Бонифация, мы все промокли до костей. А ты не простудился, дружище? – ласково пошутил король. – Я никогда не боялся стихии, сир, тем более находясь на службе у вашего величества, – ответил с затаенным упреком Роже де Багатель, – но ударившая в дерево молния заставила моего коня встать на дыбы; я вылетел из седла, и меня отбросило на пятнадцать футов, ударив о скалу. Когда я пришел в сознание, уже опустилась глубокая ночь, я был один и не мог идти, так как моя нога в сапоге чрезвычайно распухла. Послышался вой волков, он приближался. Я старался ползти, но продвигался вперед очень медленно. Я уже видел, как блестящие глаза хищников светились в темноте, я уже вручил свою душу Господу, когда провидение донесло до меня звук копыт лошадей, скакавших галопом по каменистой дороге, что проходила внизу. Немного приободрившись, я изо всех сил позвал на помощь. Наконец, около меня остановилась повозка, влекомая четверкой лошадей. Два лакея втащили меня внутрь. Я был спасен! Это были граф и графиня де Сан-Сальвадор, которые, совершив паломничество к гроту Святой Магдалины, возвращались в свое поместье в Арагоне. Сама донья Гермина, услышав мои отчаянные призывы, приказала своим людям остановиться, ибо граф де Сан-Сальвадор, внезапно сраженный болотной лихорадкой, был, казалось, очень плох. Моя нога воспалилась. Я провел три дня в монастыре Сан-Сакреман, где графиня, решившая там остановиться из-за своего супруга, ухаживала за мной так преданно, что именно ей я обязан жизнью. К несчастью, граф де Сан-Сальвадор так и не оправился; мое выздоровление было омрачено скорбью, вызванной его кончиной. Я простился с графиней… не осмелившись сказать ей о тех чувствах, которые она вызвала во мне. Высказав ей самые искренние соболезнования, я покинул ее навсегда… Каково же было мое удивление, и какое затем меня охватило счастье, когда я увидел, что превратности судьбы привели госпожу де Сан-Сальвадор, ныне свободную, в Париж и что она, не зная того, поселилась по соседству с особняком Багателей! Я пошел навестить ее тотчас же по окончании шествия и… осмелившись, наконец, признаться в моей тайне, имел счастье узнать, что я ей небезразличен. Вот, сир, то благородное создание, которое сохранило жизнь не самому худшему из воинов вашей армии! – заключил Роже де Багатель, бросив долгий взгляд на графиню де Сан-Сальвадор. В течение всей этой речи графиня сидела, целомудренно опустив глаза. Несколько секунд Зефирина слышала только, как капли воска монотонно падают со свечей на пол, выложенный голландскими изразцами. Наивная и невинная девочка ощущала какую-то странную тревогу. Во время этого рассказа она не узнавала голоса своего отца. Было похоже, как если бы кто-то другой говорил вместо него… или же он лгал. Когда такая ужасная греховная мысль пришла ей в голову, Зефирина торопливо, так, чтобы не увидел Каролюс, перекрестилась. Громогласный возглас короля нарушил почтительное молчание: – Клянусь Святым Франциском, моим покровителем, беру назад все свои слова! Женись на этой преданной женщине, Багатель! Перед лицом благородных дам и моих храбрых товарищей по оружию я даю тебе королевское разрешение жениться на госпоже графине де Сан-Сальвадор. Придворные встретили эту речь овацией. По знаку хозяина дома лакеи наполнили кубки драгоценным вином из Кагора. – Жениться? – прошептала Зефирина, вопросительно глядя на карлика. – Ну да, дурья башка! Жениться, что же еще? Теперь у тебя новая мама. Каролюс паясничал, хлопая ресницами и вертя задом. Зефирина тряхнула изящной медноволосой головкой. Рыдание рвалось с ее губ. Она уже хотела убежать в свою комнату, чтобы укрыть там свое разочарование, свое огромное детское горе, когда заметила в проеме ведущей на кухню двери свою кормилицу в толпе прислуги, прибежавшей послушать рассказ своего господина. Зефирина хорошо знала Пелажи. По ее насупленному лицу она поняла, что та недовольна, очень недовольна. Не думая, что за ней наблюдают, Пелажи как-то странно смотрела на графиню де Сан-Сальвадор. У Пелажи были суровые глаза, да, подозрительные и суровые, сходные с двумя арбалетами, готовыми выстрелить. Вдруг Зефирина услышала какой-то дикий вопль: – Нет… нет! При этом крике все одновременно подняли головы, посмотрев на верхнюю галерею. Только теперь Зефирина поняла, что это она сама неистово вопит, вцепившись в перила изящной балюстрады. – Нет, я не хочу, чтобы папа женился… Я не хочу! Как и все его сотрапезники, потрясенный король смотрел на маленького разбушевавшегося демона, которого, по-видимому, пытался удержать карлик Каролюс. Растолкав лакеев, Пелажи бросилась к избалованной девочке. Но Роже де Багатель, придя в себя от первоначального изумления, остановил кормилицу на бегу. Всем своим видом выказывая отцовскую властность, он бросил зычным голосом: – Немедленно остановитесь, Зефирина! Приказываю вам исполнить мой приказ! Возвращайтесь и ложитесь спать! Увы! Зефирину понесло, к тому же Каролюс насмешливо шепнул ей: – Черта с два! Ты не осмелишься продолжать, дура набитая! Словно маленькая фурия, Зефирина вырвалась из рук карлика. Она скатилась по лестнице с криком: – У меня только одна мама на небесах! Я не хочу другую! Я не хочу эту даму! Папа, мой дорогой папа, не женитесь на ней, она злая, злая, я это чувствую… Если хотите жениться, возьмите в жены Пелажи… Зефирина бросилась в объятия своего отца. Роже де Багатель был совершенно поражен случившимся; было видно, что он гораздо лучше знал, как вести себя на поле боя, чем с собственной дочерью. Взгляды присутствующих обратились к графине Сан-Сальвадор. На лицах придворных читалась затаенная насмешка. Завтра при дворе в Фонтенбло, куда король намеревался отправиться, языки будут молоть без умолку. Очень бледная, графиня не шелохнулась. Казалось, она превратилась в мраморную статую. Только по стиснутым на кружевной скатерти рукам можно было догадаться о ее чувствах. – Ну ладно, Багатель, дай мне ее успокоить! – сказал король. – Я умею разговаривать с детьми! Франциск I привлек Зефирину к себе на колени: – Ну что это за каприз, Зефирина? Ты же моя подружка! – Нет! Теперь нет! Зефирина отчаянно отбивалась. Крепкой рукой король удерживал маленькую взбешенную девчонку у себя на коленях. Зефирина, нагая под легкой рубашкой, почувствовала, как сквозь серо-серебряные чулки, подвязанные к королевским штанам, в ее детское тело внезапно проникает тепло. Она была смущена и взволнована; ей одновременно хотелось и убежать и расслабиться сидя на коленях, ибо ей нравился тот мужской запах, что исходил от него. – Ты же видишь, мы любим друг друга! Король легонько ласкал лицо Зефирины шелковистой бородой. Она на секунду закрыла свои зеленые глаза, но тут же открыла их, бросив горячий упрек: – Вы не имели права говорить папе, чтобы он женился! – Я делаю что хочу! Ведь я король! – возразил Франциск. Очарование было нарушено. Зефирина выпрямилась с вызывающим видом, словно маленькая фурия: – Тогда занимайтесь своей кобылой! – Моей кобылой?! – удивился король. – Именно так… Зефирина выпалила единым духом: – Жила-была торговка печенкой, которая сказала себе: «Клянусь честью, Франсуаза де Фуа будет в следующий раз кобылой короля!» Раздался сдавленный крик. Не вынеся подобного скандала, госпожа де Фуа сочла за лучшее упасть в обморок. Придворные с трудом удержались, чтобы не расхохотаться. Франциск I в ярости поднялся: – Этот ребенок совершенно невозможен, Багатель! Ты должен ее укротить, как дикую необъезженную лошадь. Король дал своим людям знак, что собирается уходить. В отчаянии от того, что вызвал неудовольствие монарха, Роже де Багатель рассыпался в извинениях. – Да, сир, я отдам ее в монастырь! – Ты прав, надо обучить ее хорошим манерам, – одобрил король. Каролюс усмехался, спрятавшись под столом. Зефирина с большим удовлетворением взирала на весь этот беспорядок, причиной которого стала ее маленькая персона. – Но меня, дорогое дитя, меня ты выслушаешь! Сладкий и мелодичный голос графини де Сан-Сальвадор возвысился над царившей суматохой. Шелестя парчовым платьем, донья Гермина плыла, едва касаясь плиток пола, по направлению к девочке. Словно кролик, завороженный взглядом хищной птицы, смотрела Зефирина на приближающуюся к ней даму в черном. Улыбка мадонны озаряла прекрасное лицо графини. Ее дивные черные глаза пристально и нежно смотрели на девочку. – Дорогая, дорогая малютка… Сильнейшее очарование доньи Гермины подействовало на Зефирину. Внезапно ей захотелось отказаться от своего буйного поведения. «Ах! Упасть в эти радушные объятия, спрятать голову на этой материнской груди, вдохнуть этот чарующий запах!» Скрытая от всех насмешка разрушила волшебство. Это был ее злой ангел Каролюс; он шептал, скорчившись под столом: – Трусиха, бояка, зайчиха… В то же мгновение графиня нежно приблизила свои пурпурные губы к девочке, чтобы запечатлеть поцелуй на ее кудрях. Дальнейшее произошло само собой. Зефирина вскинула голову: – Вы никогда не будете моей мамой! – завопила маленькая дикарка. Словно маленькая ведьма, она вонзила ногти в бледные щеки доньи Гермины. Все вскрикнули одновременно, а громче всех графиня, которая не могла вырваться из маленьких острых коготков юной тигрицы, придворные, король, Франсуаза де Фуа, Роже де Багатель, Пелажи, Ла Дусер… ну и суматоха поднялась!.. Никто не мог вырвать добычу из рук дрянной девчонки. – Она взбесилась… Она ведьма, бейте ее по рукам… Тащите за волосы… Ах, наконец! Это просто чудовище, уведите ее! Ла Дусеру удалось оторвать Зефирину от ее жертвы. Девочке еще хватило времени на то, чтобы посреди безумия, охватившего, казалось, весь пиршественный зал, заметить, как король и Роже де Багатель утешают графиню, упавшую в полуобморочном состоянии на кресло; мелкие капельки крови выступили у нее на щеках. Видя это, Зефирина испытала огромное наслаждение. Она увидела, как прибежал на своих кривых маленьких ножках Каролюс, неся влажную тряпицу для своей госпожи; затем Зефирина уже не видела ничего. Она чувствовала, что ее уводят в комнату, таща за собой, словно куль. Ее заперли на два поворота ключа. Зефирина вновь оказалась одна в темноте. Она долго-долго плакала, прежде чем уснуть на рассвете под крики водоносов.ГЛАВА VI МОНАСТЫРЬ
– Господин маркиз, ваш отец, сейчас в приемной, мадемуазель де'Багатель! – предупредила мать Мария-София д'Анжелюс. Зефирина весело отложила лютню, на которой наигрывала мелодию. – О, вам везет, Зефи. Я надеялась, что это ко мне! – воскликнула юная девушка с круглым и свежим лицом. – Идемте со мной, Луиза! – предложила Зефирина. Девушки-подростки пробежали через зал со стрельчатыми сводами монастыря Сен-Савен, тогда как около сорока их соучениц, все – девушки из очень знатных семей, продолжали сидеть над вышивками, рисунками или за чтением Святого Евангелия. – Не идите, а скользите, мадемуазель де Багатель, а вы, мадемуазель де Ронсар, держите выше голову! Следите за осанкой, барышни! – строго сказала мать Мария-София д'Анжелюс, которая никогда не шутила, когда речь шла о манерах. Зефирина бросила заговорщический взгляд на свою подругу. Они выждали, когда монахиня повернется в другую сторону, а затем устремились бегом через тихий монастырский сад. Волосы девушек были убраны под чепец с длинной вуалью; они были одеты как послушницы монастыря Сен-Савен – в синие с белым платья, только одна деталь – большой красный крест, вышитый на нагруднике, – отличала простых пансионерок от тех, кто посвятил свою жизнь Господу. Столь строгое одеяние не могло скрыть, что из куколки, которой была Зефирина, вылупилась прекрасная бабочка. Капризный ребенок превратился в очаровательную девушку-подростка, уже почти сформировавшуюся, чей гибкий стан и изящные движения позволяли предсказать, какой очаровательной женщиной она станет. Одна из непокорных прядей медно-золотого цвета выбилась из-под чепца во время бега и теперь высовывалась из-под вуали. Под рыжевато-каштановыми ресницами сияли чудесные зеленые глаза, которые теперь, казалось, были еще больше, чем в детстве. – Папа… папа! Роже де Багатель прижал дочь к груди. – О, папа, какая радость! Вы не были у меня в прошлый раз! Расскажите же обо всем, что вы делали! Зефирина, задыхаясь, осыпала своего отца ласками и вопросами. – Ну-ну! Спокойно, моя дорогая! Я думал, монастырь сделал тебя благоразумной. – Папа, я очень благоразумная, я стала настоящей святой. Правда, Луиза? – Именно так, господин маркиз, – подтвердила любезная Луиза де Ронсар с уверенностью, которая, однако, не до конца убедила Роже де Багателя. – Пелажи! Ла Дусер! Теперь Зефирина бросилась на шею тем двоим людям, кого, если не считать отца, любила больше всех на свете. Время после полудня прошло очень приятно. В этот прекрасный весенний день маркиз повел юных девушек в парк, под старые кедры, чтобы угостить их пирожными и пирожками с начинкой из абрикосов, любовно приготовленными старой няней. Когда юные девушки утолили молодой голод, Роже де Багатель взял дочь под руку. Они прогуливались вдвоем по парку монастыря Сен-Савен. – Если бы ты вернулась в Багатель, Зефирина, все было бы в порядке? – вдруг спросил напрямик Роже. Озадаченная Зефирина остановилась. Ее выразительные зеленые глаза потемнели. Брови, изящно очерченные и столь же тонкие, как линия на рисунке, сошлись над ее маленьким прямым носом. – Вы хотели бы, чтобы я вернулась в замок, папа? – спросила Зефирина, внимательно глядя на отца. Она внезапно заметила, что у маркиза усталый вид. У него были большие темные круги под глазами, а в бороде были густо рассыпаны серебряные нити. – Тебе уже пятнадцатый год, Зефи, твое место – рядом с нами! – Но, что подумает… графиня? Зефирина не удержалась, чтобы не выказать сомнение. Роже де Багатель помрачнел. – Ты всегда была к ней несправедлива, Зефирина, и прекрати называть ее графиней, – с упреком сказал маркиз; он, к счастью, не знал, что Зефирина, в его отсутствие, всегда говорила «эта Сан-Сальвадор». – Именно маркиза горячо вступилась за тебя. Она считает, что твое пребывание в монастыре продолжалось достаточно долго и наступило время, чтобы ты вернулась к нам! «Действительно, удалить меня на семь лет – это было неплохо задумано!» – Хорошо, папа, я буду счастлива вернуться. Я даже вам обещаю, что буду кроткой, вежливой, любезной с этой Сан… с маркизой де Багатель. Роже де Багатель долго смотрел на дочь, пытаясь прочесть мысли этого маленького сфинкса. «Боже… она еще красивее, чем моя бедная Коризанда!» – подумал Роже. Он вздохнул, нежно поцеловал свою дочь в лоб и, возобновив прогулку, объявил: – Приготовь вещи, Ла Дусер приедет за тобой через две недели. Ах, да! Скажи своей подруге Луизе, что по пути сюда я сделал небольшой крюк и заехал в замок ее родителей. Господин и госпожа де Ронсар тоже желают, чтобы их дочь вернулась в отчий дом. Итак, вы поедете вместе… Последующие дни Зефирина не находила себе места от возбуждения в ожидании отъезда, хотя в Сен-Савене была довольно счастлива. На следующий день после «скандала» Пелажи и Ла Дусер поспешно отвезли девочку в этот монастырь – родовое владение семейства Сен-Савенов в долине Луары. Сначала Зефирина дулась на монахинь. Обладая весьма любознательным умом, она совершенно не воспринимала алфавит, который старался вдолбить ей в голову брат Франсуа, ученый монах-францисканец. – Огромным достижением человечества являются письменность и чтение, дитя мое! Какой же будет колыбель вашего разума, если вы не будете развивать эти драгоценные дары? Зефирина, с трудом понявшая речи брата Франсуа, все-таки нашлась с ответом: – Пелажи не умеет читать! И Ла Дусер тоже! И Бастьен, и Ипполит, и Сенфорьен, и папаша Коке, и… Брат Франсуа прервал перечисление: – Это не довод, дочь моя. Asinus asinum fricat[13]. Дурак дурака хвалит. Возможно, однажды небеса откроют науку каждому крестьянину, но сейчас только редкие избранные, одаренные отличными от других душой и телом, к числу которых принадлежите и вы, Зефирина, могут получать знания. К тому же, если вы не будете учиться, то что вам делать в этом монастыре? Если только вы не хотите остаться здесь на всю жизнь и стать монахиней, дабы лишь возносить выученные наизусть молитвы к Богу… Но если вы хотите впоследствии выйти в свет, воспользоваться благами жизни, ослепить современников блеском своих знаний, не слушая ханжей и прозябающих во тьме невежд, тогда поглощайте пищу земную и пищу духовную. Вкушайте знания, питайте свой разум, дитя мое. Учитесь… Эта речь, столь странная для монаха-францисканца, который, похоже, находил более предпочтительной жизнь мирскую, чем жизнь монашескую, понравилась Зефирине. Да, она хотела жить, ослеплять и очаровывать. На следующий день она проснулась, горя нетерпением учиться. Она догнала и даже обогнала всех своих подруг, усваивая с невероятной легкостью греческий, латынь, итальянский, испанский, оправдав, таким образом, все надежды, которые брат Франсуа возлагал на нее. – Моя лучшая ученица! – всегда говорил он с гордостью. – Она не самая дисциплинированная, но не все ли равно!? Она самая способная, – добавлял просвещенный монах, выказывавший всегда большую снисходительность к Зефирине; он всегда заступался за нее, когда юная необузданная девушка восставала против уроков вышивания, которому тщетно пыталась ее обучить мать Бертранда де л'Аннонсиасьон. Лучшей подругой Зефирины в Сен-Савене тотчас же стала очаровательная Луиза де Ронсар, и их искренняя взаимная привязанность не ослабела с течением времени. Часто по вечерам, когда мать Жозефа гасила свечи в дортуаре[14], они вели долгие беседы, поверяя друг другу свои маленькие тайны, и смеялись как сумасшедшие, лежа под одеялом в постели, куда забирались вдвоем. Однажды утром их застали спящими в объятиях друг друга! Ну и скандал же был, когда это обнаружила мать Жозефа! Виновниц тут же повели к аббатисе. – Вы, нечистые, не стыдитесь телесного греха… Вас высекут… оденут власяницу… Оторопевшие Луиза и Зефирина слушали, как задыхалась от возмущения толстая настоятельница монастыря, суля им вечный адский огонь. Аббат Рубажу, которого Зефирина прозвала Колченогим, исповедал девочек-подростков. Попытавшись добиться признания перед распятием в грехе сладострастия, которому они предавались, Колченогий быстро убедился в очевидном: малышки были чисты и невинны, как ангелы. Брат Франсуа, который никогда не сомневался в Зефирине и считал всю эту историю «вздором, выдуманным мегерами», торжествовал. Происшествие вскоре было забыто. Примерно через месяц в монастырь Сен-Савен прибыла новая пансионерка – Альбина де Ля Рош-Бутэ; это была высокая черноволосая девочка, на два или три года старше Зефирины. В течение нескольких дней сухая, надменная Альбина не сказала никому ни слова и не подружилась ни с кем из учениц. Зефирина и Бернадетта де Вомулер учтиво предложили ей сыграть в биту на лужайке, где пансионерки имели право развлекаться до обеда, с 11 часов утра. Но единственным ответом был ледяной взгляд этой холодной особы. Следующей ночью Зефирина, которая не смелаложиться в постель к своей подруге Луизе после всех этих непостижимых драм, не спала. Лежа с открытыми глазами, она размышляла с тоской об отце, о своей дорогой Пелажи, о милом поместье Багатель, о Ла Дусере, о счастливом Бастьене, что вырастал на свободе, и о коне Красавчике, который, должно быть, смирно ждал ее на конюшне, как вдруг шепоток, донесшийся с соседней кровати, заставил ее насторожиться. – Они все спят, не бойтесь, мой ангел! В дортуаре было очень темно, однако Зефирина узнала, глядя сквозь полуприкрытые ресницы, Альбину, которая проворно скользнула под простыню к Бернадетте де Вомулер. Не видя в этом ничего дурного, Зефирина собиралась закрыть глаза, когда услышала, что Бернадетта застонала: – Нет, я не смею! – Замолчи, глупышка! Отдав этот приказ, Альбина склонилась над Бернадеттой. Зефирина, ожидая увидеть, как они расцелуют друг друга в щеки, как это часто делали они с Луизой, затаила дыхание. Голова Альбины двигалась, губы быстро и резво скользили от уха к шее Бернадетты, возвращались ко рту и вдруг, казалось, впились в него. Зефирина лежала, задохнувшись и онемев, слишком ошеломленная, чтобы двигаться, и слишком заинтересованная, чтобы смежить веки или отвернуться. Медленным движением Альбина откинула простыню, подняла рубашку Бернадетты, лаская бедра и груди, чья белоснежная нагота заворожили Зефирину. Теперь, казалось, Бернадетта стала проявлять нетерпение. Зефирина отчетливо видела, как она изгибалась от поцелуев и прикосновений Альбины. Короткие хриплые вскрики вылетали из ее горла, руки судорожно сжимались, вцеплялись в тюфячок. Внезапно Бернадетта осмелела, ее руки в свой черед скользнули под рубашку Альбины, обнажая тонкие упругие бедра, раздвигая ноги, задерживаясь в низу живота. Горячая волна затопила Зефирину. Ее сердце громко стучало в груди. От внезапно охваченной огнем поясницы по всему телу распространялись волны. Пристыженная, испуганная и потрясенная, она не могла оторвать глаз от странного зрелища плотских утех, происходившего в нескольких футах от ее ложа. Вместе покачиваясь почти в одном ритме, обе девушки, казалось, доставляли друг другу с помощью непонятных круговых движений бедрами некое удовольствие и некую боль. Вдруг Зефирина отчетливо увидела, что Альбина подпрыгнула, словно рыбка в воде. По ногам ее пробежала дрожь, а движения рук на теле подруги замедлились. – Еще! – простонала Бернадетта. – Теперь тебе нравится! А что будет, если я перестану? – прошептала Альбина с коротким смешком. – Нет… нет… продолжай, прошу тебя! Мне нравится… это чудесно. Бернадетта извивалась от нетерпения. Приподнявшись над своей подружкой, Альбина ловкими пальцами коснулась ложбины между ног, все убыстряя точные движения рук. Почти тотчас же, испустив глубокий вздох, Бернадетта расслабилась, и они обе остались лежать, задыхающиеся и неподвижные, словно бы умиротворенные. На следующий день, как в часовне, так и во время игр и занятий, Зефирина тайком посматривала на Бернадетту и Альбину, но на их безмятежных лицах ничто не осталось от бурной ночи. Все более и более смущенная, Зефирина даже не осмелилась признаться в том, что видела, своей подруге Луизе. На следующую ночь вновь возобновились те же проделки. Зефирина спала все меньше и меньше. С пересохшим горлом она следила за ночными забавами Альбины и Бернадетты, которые делали явные успехи и, казалось, с каждой ночью становились все смелее. Однажды утром, после того как сладко проспала проповедь аббата Рубажу, Альбина шепнула ей, когда они выходили из часовни: – Вы плохо выглядите, дорогая Зефирина. Надеюсь, вы не больны? Тон был любезен, но Зефирина не обманывалась на этот счет. Насмешливый огонек, горевший во взгляде Альбины, ясно говорил, что та прекрасно знает, отчего Зефирина не спит по ночам. – Действительно, у меня бессонница, – бросила Зефирина не раздумывая, затем оглянулась вокруг и сказала с деланно-равнодушным видом: – Но я сегодня не вижу «нашу» подругу Бернадетту. Вместо Альбины ответила Луиза де Ронсар: – Она заболела, бедняжка. Опасаются, что у нее корь. При этом известии Зефирина вздрогнула. Она была уверена, что Бернадетта подхватила болезнь во время ночных забав. Зефирина видела в этом знак божественной кары. На неделю монахини изолировали Бернадетту. Это действительно была заразная лихорадка. Сначала ею заболели четыре ученицы, потом – еще три. Дортуар пустел. Зефирина, все более и более озадаченная, спрашивала себя: все ли заболевшие девочки поступали так же, как бедная Бернадетта? Однако ее смущало то, что Альбина должна была бы заболеть первой, но высокую черноволосую девушку зараза по-прежнему не брала. Новости о больных были очень дурны. Зефирина, как и все ее подружки, с ужасом узнала, что тяжелее всех больна Бернадетта. Ученые мужи считали, что у нее мало шансов выжить. В одну и ту же ночь ей несколько раз пускали кровь. К утру она не умерла, и у всех вновь возродилась надежда. Дни проходили в покаянии, в выполнении девятидневного молитвенного обета; они молились о выздоровлении больных. Однажды во время вечерни брат Франсуа, имевший обширные познания в медицине, объявил во время проповеди, что Бог внял молитвам и что все девушки теперь вне опасности. В ночь, последовавшую за этой доброй вестью, когда Зефирина почти была готова подумать, будто ей приснилось все, что происходило между Альбиной и Бернадеттой, ее заставил вздрогнуть чей-то шепот: – Вы мне дадите местечко, Зефирина? Это была Альбина де Ля Рош-Бутэ. Не дожидаясь ответа, она проворно юркнула в постель. Ни жива ни мертва, Зефирина съежилась под простыней. – Боже мой, вы замерзли, – прошептала Альбина, схватив за руки, которыми Зефирина судорожно вцепилась в тюфячок. – Не бойтесь, дорогая, я только хочу вас согреть! – очень ласково промолвила Альбина. С этими словами она пыталась прижать Зефирину к груди. – Я… я ничего не боюсь! – заявила Зефирина, хотя зубы у нее стучали от страха. – Но я не хочу подхватить корь. – Об этом и речи нет, мой ангел. Бедная Бернадетта, как глупо было так заболеть! Наконец-то… вот мы и успокоились. Она мне очень нравилась… Кстати, вы, плутовка, знали об этом… Вы достаточно на нас нагляделись… Руки Альбины ласкали лоб и волосы Зефирины. – Я… я не могла поступить иначе! – возразила Зефирина, дрожа от холода. Она знала, что должна была бы оттолкнуть Альбину, вскочить, бежать прочь из дортуара. Начинала бить дрожь, видимо, вызванная любопытством или страхом. Опытный рот Альбины приблизился к лицу Зефирины. Продолжая шептать, она коснулась ее лица своими губами, языком, мочками ушей. – Однако, дорогая, вы мне понравились, как только я вас увидела, но вы внушали мне робость. Вы такая красивая, Зефи, я грезила о ваших волосах, мечтала зарыться в них лицом… Вы так меня возбуждаете… мне хотелось еще… Многоопытные пальцы Альбины играли с распахнутым воротом ее рубашки. Зефирина чувствовала, как они прикасаются к ее круглым грудям, соски на которых вдруг странно поднялись. Это были томительные и наводившие ужас ощущения; Зефирине казалось, что сердце перестало биться у нее в груди. Теперь Альбина скользнула рукой вниз по ее бедрам, приподняв тонкую батистовую рубашку. Огненный шар подкатил к горлу Зефирины. Альбина старалась раздвинуть ее колени. Сопротивляясь изо всех сил, Зефирина крепко сжала ноги. – О, вы никогда не пробовали, ни с кем из ваших подруг! – удивилась Альбина. – Позвольте мне сделать это, дорогая. Я очень горжусь, что вы первой избрали меня… Я сейчас вам покажу, какое истинное наслаждение можем доставить друг другу мы, девушки. С легкостью перышка Альбина прикоснулась к ложбинке между ног. Внезапно Зефирина ощутила нечто похожее на огонь – Альбина добралась до самого сокровенного уголка ее тела. Зефирину охватила нервная дрожь. Разумеется, это было первым признаком заболевания корью. Вопль, который испустила Зефирина, заставил Альбину вскочить с постели. Все пансионерки внезапно проснулись. – Пресвятая Дева! Что случилось, мадемуазель де Багатель? Это прибежала толстая мать Жозефа, забавно путаясь в своей длинной ночной рубашке и держа свечу в руке. – Я… у меня корь, матушка! – заявила Зефирина; у нее щеки горели и дрожали ноги. Ее сейчас же поместили в келью для больных. Уверенная в том, что совершила ужасный грех, Зефирина потребовала власяницу. К огромному восторгу сестер, она беспрестанно молилась, умерщвляла плоть по ночам, дойдя до того, что занялась самобичеванием, стоя на коленях на каменных плитах. После недели молитвенных бдений и поста Зефирина похудела, но вернулась «выздоровевшей» в круг своих подруг. Она очень боялась встретиться с Альбиной, но с облегчением узнала, что госпожа ле Ля Рош-Бутэ увезла свою дочь, намереваясь выдать замуж за какого-то богатого кузена. После ее отъезда Зефирина вздохнула свободно и попыталась забыть волнующие ощущения, которые испытала в объятиях этой девушки.ГЛАВА VII МАВЗОЛЕЙ
Две недели, данные маркизом де Багатель на сборы, пролетели очень быстро. Утром в день отъезда Луиза и Зефирина, взволнованные тем, что покидают монастырь, где прошло их детство, захотели совершить последнюю прогулку по парку монастыря Сен-Савен. Взявшись под руки, обе девушки, тоненькие и очаровательные в своих синих с белым платьях, болтали, с восторгом строя планы на будущее. – Мы будем жить всего лишь в трех лье друг от друга. – Имея Красавчика, я легко смогу навещать вас, Луиза! – Каждый день! – Обещаю. – Ох, мне так не терпится, чтобы вы познакомились с моим братом Гаэтаном, Зефи. – Мне тоже! – Я часто пишу ему о вас в моих письмах… – А что он вам отвечает? – Что вы, разумеется, не такая красивая, какой я вас описываю! Девушки прыснули со смеху. – Если мачеха будет вам досаждать, Зефи, вы поселитесь у нас в имении Поссонньер, – предложила Луиза. – Моя мачеха… Внезапно лицо Зефирины помрачнело. – Но, в конце концов, почему вы ее ненавидите, Зефи? – Честно говоря, Луиза, не знаю! – признала Зефирина, склонив головку в белом чепце. – Возможно, просто потому, что она вышла замуж за вашего отца, заняла место вашей матери? – Да, возможно, – признала Зефирина. – Вы моя единственная подруга. Я признаюсь, что часто, по ночам… мне снится эта Сан-Сальвадор. Ее лицо закрыто вуалью, но я знаю, что это она; она наклоняется надо мной, мне страшно… и вдруг она начинает насмехаться: «Пока я оставляю тебе жизнь!» В сущности, Луиза, я, должно быть, сумасшедшая! – весело заключила Зефирина. – Сумасшедшая… сумасшедшая… сумасшедшая! – словно эхо повторил чей-то насмешливый голос. Любой другой, оказавшийся на месте Луизы и Зефирины, мог бы испугаться существа с пергаментным лицом, которое показалось из леса, но обе девушки-подростка очень хорошо знали мамашу Крапот, старуху-лесничиху, жившую в одиночестве на самом краю парка в плохонькой саманной лачуге. – Здравствуйте, мамаша Крапот, – сказала Луиза. – Или, скорее, до свидания! – поправила Зефирина. – Я знаю, вы уезжаете, скверные девчонки. Я ждала вас… я искала вас… Так идите к черту, – проворчала старуха, согнувшись под огромной вязанкой хвороста. – Должно быть, выпила! – прошептала Луиза со смешком. Действительно, мамаша Крапот, казалось, была во власти сильного возбуждения. Она ударяла по кустам сучковатой дубиной, продолжая бурчать: – Они все уезжают, как эта воровка… никто об этом не знал, но мамаша Крапот ее видела, она об этом скажет… злая монашка. – На кого вы сердитесь, мамаша Крапот? Зефирина безбоязненно приблизилась к обливавшейся потом старухе. – Ну-ка, дайте мне вашу ношу, матушка, это слишком тяжело для вас. Мы понесем эту вязанку вместе с моей подругой. Старуха вызывала чувство жалости, и Зефирина, желая совершить доброе дело, к чему всегда призывал их Колченогий, освободила лесничиху от вязанки. – Я давно тебя знаю, вот уже долгое время я наблюдаю, как ты растешь, ты очень смелая малышка, в этом тебе не откажешь… Продолжая тяжело дышать, старуха вытащила маленькую фляжку из засаленного рукава и отпила три больших глотка. Сильный запах водки тотчас же распространился в свежем утреннем воздухе. Лесничиха с видимым удовольствием щелкнула языком, потом пошла впереди двух девушек, внезапно приободрившись. – Сюда, милочки… Итак, вы уезжаете… Вы увидите много чудных вещей в свете… хи-ха… Они все сумасшедшие… сумасшедшие… сумасшедшие. Идите сюда, это я храню пергаменты этого дьявола. Он пишет всю ночь, этот дурной монах… всю ночь… Мамаша Крапот вышла на маленькую поляну, окруженную березами, и дала знак девушкам положить вязанку на землю. Не обращая внимания на саманную лачугу, около которой хрюкал черный поросенок в окружении каркающих ворон, старуха направилась к крохотной часовне, скрытой от взглядов беспорядочно растущим колючим кустарником. Луиза и Зефирина встревоженно переглянулись. Должно быть, почувствовав их беспокойство, старуха усмехнулась, толкнув в ту же минуту расшатанную дверь часовни. – Не бойтесь, милочки; вы были добры к мамаше Крапот; она привела вас сюда, чтобы сделать подарок. Девушки прищурили глаза, чтобы привыкнуть к темноте. Они находились внутри древнего склепа. Могильный камень весь зарос мхом и вьюнками. Однако мамаша Крапот была права: кто-то, должно быть, пользовался этим уединенным убежищем. Пол был усыпан листами пергамента. Наполовину оплывшие свечи стояли в нишах сырых стен. Зефирина подошла к плохо сбитому колченогому столу. Листы толстой рукописи, где лишь недавно высохли чернила, казалось, ожидали прикосновения руки своего владельца. Зефирина наклонилась, чтобы разобрать название, написанное красивыми готическими буквами: – Бесценная… жизнь великого Гаргантюа, роман брата Франсуа Рабле… Ну и ну! – Брат Франсуа! – повторила Луиза. Девушки посмотрели друг на друга в полном изумлении; потом обе одновременно прыснули со смеху. – Ах, он затворник! Пишет романы… Посмотрите, Луиза: Пантагрюэль, Козлонос, гер Триппа… Ох! – воскликнула шокированная Зефирина. – Я вас спрашиваю, Зефи, кому придет в голову читать романы, написанные монахом, – насмешливо промолвила Луиза. Зефирина не ответила. Она искренне любила брата Франсуа, и ей не хотелось, чтобы над ним смеялись. – Не надо ничего трогать. Не трогайте его рукопись, – посоветовала она подруге. Решив, что уже видели все, они захотели выйти на свежий воздух. – Что сказано, то сказано! Не уходи без подарка, малышка. Именно тебе я должна его отдать! – проворчала мамаша Крапот. – Ну-ка, иди, помоги мне. Старуха, опустившись на колени на каменные плиты, с трудом повернула с помощью деревянного бруса подставку под двумя погребальными урнами, на которых Зефирина с удивлением прочитала надпись: «Гуго и Гортензия Сен-Савен. Их тела и сердца были соединены в жизни. Они соединятся и в смерти. 1170–1190». – 1190. Третий крестовый поход. Это мои предки, Луиза. Им было по двадцать лет. Но почему они здесь? Более взволнованная, чем бы ей хотелось, Зефирина повернулась к своей подруге. – Ничего удивительного, Зефи. Это аббатство всегда принадлежало семье твоей матери. – Да, но почему их сердца погребены отдельно от остальных в часовне, а не находятся там, где лежат члены семьи Сен-Савен, в склепе аббатства? – спросила Зефирина. – Хи-хи, потому что они были наказаны, наказаны так же, как будет наказана злая монашка Генриетта, которая украла… украла… Это мамашу Крапот высекли вместо нее, высекли до крови. Аббата схватили, но он не сознался даже на дыбе… Дурной священник… Дурная монашка… Тем хуже для них, они будут гореть в аду, колдуны… колдунья… река не отдала ее… Крючковатыми пальцами старуха вытащила из дыры, скрытой позади урн, маленькую железную шкатулку и без труда открыла замок. – Вот, держи, малышка, оно принадлежит тебе… я знаю… бери… эта безделушка подойдет к твоим зеленым глазам! Старуха протянула Зефирине длинную цепь, разделенную на пластинки, усыпанные драгоценными камнями; на конце ее блестел изумруд величиной с орех, зажатый в когтях орла с человеческой головой. – Но я знаю это украшение! – прошептала пораженная Зефирина. – Луиза, посмотрите, это невероятно. У мамы был точно такой же медальон. Папа показал мне его перед отъездом на войну и сказал мне, что он будет принадлежать мне, когда я стану взрослой. Я была тогда маленькой, но я его никогда не забывала. Единственное отличие в том, что вместо орла была змея. С этим медальоном даже была какая-то история. Негодная служанка хотела украсть его у моей бедной матери в ту ночь, когда она умерла. Неужели возможно, что существуют два столь странных и почти одинаковых украшения? Зефирина повернулась к своей подруге Луизе, как будто бы у той был ключ к разгадке этой тайны. Насмешливый голос мамаши Крапот заставил девушек вздрогнуть. – Хи-хи-хи! Ты и вправду дочь прекрасной Коризанды. Ну ладно, бери и уходи… уходи… С этими словами мамаша Крапот положила пустую шкатулку в тайник. – Боже мой, мамаша Крапот, так вы знали мою маму! – воскликнула Зефирина, не двинувшись с места, а затем добавила: – Расскажите мне о моей тете Генриетте де Сен-Савен… об этой несчастной, что утонула во время разлива реки… – Замолчи… замолчи, скверная девчонка… Я не говорила этого, я ни в чем не призналась. Они не поймают мамашу Крапот… Ну, уходи… уходи же… Я не хочу тебя больше видеть никогда! Они опять будут бить меня. Уходите, я прогоняю вас, я прогоняю вас! Внезапно озлобившись, сумасшедшая старуха подняла свою дубину. Пришедшие в ужас Луиза и Зефирина выскочили из склепа. – Не возвращайтесь сюда, иначе вы будете иметь дело со мной, скверные девчонки!.. Когда они бежали сквозь заросли орешника, голос мамаши Крапот продолжал их преследовать. Убегая так стремительно, – словно сам дьявол гнался за ней по пятам, Зефирина сжимала в руке медальон с изумрудом. Оказавшись в месте, откуда уже были видны постройки монастыря, она спрятала его в рукав своего платья. – Пресвятая Дева, барышни, на кого вы похожи! – воскликнула мать Мария-София д'Анжелюс, задохнувшись от возмущения при виде съехавших набок чепцов и раскрасневшихся щек своих овечек. – Так-то вы воспользовались нашими наставлениями? Подите причешитесь и наденьте мирские платья. Оруженосец вашего отца ждет вас, мадемуазель де Багатель. В полдень обе пансионерки, полностью преобразившись в двух девушек из хорошего общества, распрощались со своими подругами и монахинями из аббатства Сен-Савен. Зефирина теперь была одета в короткий дамский жакет гранатового цвета и широкую юбку из серой тафты. Ее прекрасные волосы цвета червонного золота, причесанные на прямой пробор, виднелись из-под красной бархатной шляпки-ракушки. Грациозная девушка-подросток с лихо воткнутым в шляпку белым пером могла легко сойти за взрослую барышню шестнадцати-семнадцати лет. Луиза, в своем голубом шелковом наряде, тоже была очаровательна, хотя по характеру и по внешнему виду была менее яркой, чем ее подруга. – До свидания, матушка! До свидания, сестры! – Да благословит вас Господь, дети мои, – говорили монахини, целуя девушек в лоб. – До свидания, отец мой! Спасибо вам за все, чему вы меня научили! – учтиво сказала Зефирина, подойдя к брату Франсуа. – Прощайте, дитя мое, – сказал монах вкрадчиво. – Я ухожу на покой к благочестивым бенедиктинцам. Одиссея Книги Жизни заставляет меня думать, что наши с вами прихотливые дороги больше не пересекутся. Однако знайте, что подобно Софоклу, наставнику Алкивиада, я очень счастлив тем, что, испытывая к вам огромные отцовские чувства, дал вам амбру, мускус и горечь разума! Медленным движением брат Франсуа осенил крестом склоненную головку Зефирины. Лукавый дьявол как будто бы подтолкнул Зефирину, и она воспользовалась моментом, чтобы прошептать: – В любом случае, я надеюсь, что все это мне пригодится, когда однажды я буду читать «бесценную жизнь мессира Гаргантюа»! Внезапно округлившиеся глаза брата Франсуа Рабле поведали ей, что она сумела отомстить за всю греческую и латинскую премудрость, которыми пичкал ее добрый монах в течение долгих лет учебы… – Прощайте, брат Франсуа! Прощай монастырь Сен-Савен! Прощай, детство! Погоняй, Ла Дусер! Четыре мула, впряженных в повозку, весело стучали копытами по дорогам долины Луары. Да здравствует свобода! Радостными криками отвечали Луиза и Зефирина на приветствия крестьян, работавших в полях. Трясясь в открытой повозке, на свежем воздухе, укрывшись от весеннего солнца под установленным на повозке балдахином, они восхищались всем: деревнями, приютившимися под сенью лесов, стрелами колоколен, виноградниками и своенравной рекой, которая лениво текла меж своих серебристых берегов. – Воистину, барышни, это изумительно! Как у нас говорят: «Луара – это баба, обцелованная нашими королями…» О, простите… Очень гордый тем, что был произведен в чин пажа, Ла Дусер делился личными впечатлениями, указывая пальцем на королевские воды. Его обязанности ментора были легкими. Луиза и Зефирина восхищались всем, приходили в восторг от всего, смеялись и поминутно просили остановить мулов, чтобы лучше осмотреть окрестности. Солнце отражалось в водах реки. Ослепленная, захмелевшая от свежего воздуха, от света и от нового чувства свободы, Зефирина прикрыла глаза рукой. Лодочники ловко и уверенно вели свои суденышки меж покрытых зеленью островков и песчаных отмелей. Паром, на котором находилось около дюжины молодых всадников, пристал к берегу. С громкими криками и восклицаниями эти щеголи в охотничьих костюмах, вскочили на своих лошадей. Они галопом пронеслись мимо девушек в повозке, когда Луиза вскричала: – Гаэтан! Гаэтан! Один из всадников придержал свою лошадь. – Клянусь зеленым единорогом! Луиза… это вы! Господа, смилуйтесь! Остановитесь! Это моя младшая сестра! Как настоящий кавалер, юноша спрыгнул с лошади на каменистую дорогу. Изящным движением сняв украшенную султаном из перьев шляпу, он проворно взобрался на повозку. – О, Гаэтан! – Луиза! Родители уже известили меня о вашем приезде в Посонньер. Итак, вы возвращаетесь из монастыря. Ведь я по крайней мере три года совсем не видел вас… Дайте мне на вас полюбоваться, сестренка! Вы превратились в настоящую барышню! Пылко расцеловавшись с братом, обретенным после долгой разлуки, Луиза обернулась к подруге: – Зефи, дорогая, представляю вам моего брата Гаэтана! Внезапно оробев от присутствия мужчины, Зефирина сумела лишь только привстать, чтобы сделать реверанс, затем с чопорным видом склонила голову. – Ах, так вы та самая знаменитая Зефирина де Багатель, о которой нам всегда пишет в письмах Луиза! Ваш покорный слуга, мадемуазель! Гаэтан де Ронсар поклонился с изяществом и непринужденностью человека, постоянно бывающего в обществе. Еще безусый и безбородый, он был старше Луизы и Зефирины всего на два или три года. Он был высок ростом и хорошо сложен, его голова намного возвышалась над головами девушек. Тонкий, очаровательный, с каштановыми волосами и серыми глазами, в которых отражалось небо над Луарой, Гаэтан де Ронсар медлил, и было видно, что молчание Зефирины возбудило его любопытство. Его спутники уже окружили повозку. Они смеялись, наклонялись к шеям своих лошадей, надвигали на глаза шляпы и круглые береты, из-под которых спадали на плечи довольно длинные волосы, дерзко, в упор разглядывая девушек. – Клянусь Богоматерью, оруженосец, вы правите довольно красивой упряжкой! – Остерегитесь, как бы в дороге у вас не похитили эти прелестные создания! – любезничали молодые люди, делая вид, что обращаются к Ла Дусеру, но в то же время отвешивая глубокие поклоны девушкам. – Черт побери, Ронсар, вы что, о мулах так говорите? – воскликнул, смеясь, красивый щеголь, сидевший верхом на сером в яблоках жеребце. – Что это вы там несете, Буа-Леже, мои ослепленные глаза могут видеть только солнце! От взглядов молодых мужчин, от их двусмысленных слов Зефирина чувствовала себя все более и более неловкой, несчастной, глупой. Она вдруг рассердилась на брата Франсуа и на монахинь из Сен-Савена, ибо те совершенно не научили ее, как вести себя в подобных обстоятельствах. «У них такой вид, будто принимают нас за тупых гусынь. Какая наглость! Я должна сбить с них спесь и сказать что-нибудь умное!» – думала Зефирина, испытывая адские муки, но в голове у нее было совершенно пусто. Некоторые всадники уже выказывали нетерпение: – Довольно, Ронсар! Простите нас, барышни! Кабан ждать не будет! Призванный к порядку, Гаэтан раскланялся: – До свидания, сестрица! До очень скорого свидания! Мадемуазель де Багатель, мое почтение! Я надеюсь скоро вас увидеть! Гаэтан задержал дольше, чем положено, пальцы Зефирины в своей руке без перчатки. Зефирина, хотя очень неопытная, чувствовала, что юноша старается поймать ее взгляд. Странное томление охватило девушку. Стоя на внезапно ослабевших ногах, она хотела улыбнуться томной улыбкой, но тут же поняла, что не следует вести себя подобно одураченной индюшке. Внезапно на нее снизошло озарение, и она сухо бросила: – Ut fata trahunt! Как поведут нас судьбы, сударь! При этой реплике Гаэтан замер, и было видно, что он ошеломлен. Юная вздорная и чопорная девица, почувствовав в парусах дуновение ветра победы, решила еще более подчеркнуть свое превосходство. – Tranit sna quemque voluptus, что означает, как известно каждому: «о вкусах не спорят, и каждый получает свое удовольствие в том, в чем он его находит…» К вашим услугам, сударь! Господа, нас ждут! Вперед Ла Дусер! Tarde venientibus ossa, что означает: «тот, кто опаздывает к столу, получает лишь кости». И более не заботясь о совершенно ошеломленных такой образованностью молодых охотниках, Зефирина вновь уселась под балдахином повозки. – Ох, ну и люблю же я всякие такие штучки! О-ля-ля… какая же вы ученая барышня, Зефирина! – восторгался Ла Дусер, щелкая кнутом. Звук галопа возвестил Зефирине, что всадники удаляются. – Это правда, вы были удивительны, Зефи. Гаэтан все смотрел на вас, так смотрел… но он, бедняга, едва умеет читать, вы его повергли в совершенный ужас! Он никогда больше не осмелится заговорить с вами! Не отвечая на смех своей подруги, Зефирина обернулась, чтобы бросить взгляд на облачко пыли, постепенно исчезавшее у опушки леса. Мулы вновь весело застучали копытами. Луиза и Ла Дусер перебрасывались фразами, Зефирина же слышала лишь их голоса, не понимая смысла слов. Прохладный свежий воздух внезапно опьянил ее. Ветер трепал отливавшие медью пряди. Ее глаза, более зеленые, чем трава на лугах, сверкали. Очаровательным жестом Зефирина прижала обе руки к сильно бившемуся сердцу.ЧАСТЬ ВТОРАЯ ВРАГ
ГЛАВА VIII МАЧЕХА И ПАДЧЕРИЦА
Была уже почти ночь, когда Зефирина, проводив свою подругу Луизу де Ронсар в Поссонньер, оказалась в поместье Багателей. Ей очень хотелось подняться к себе в комнату, открыть свой дорожный сундук, чтобы привести себя в порядок, но Пелажи, расцеловав ее в обе щеки, объявила, что «господин маркиз и госпожа маркиза ждут ее в розовой гостиной». – Будь с ней поласковее! – посоветовала Пелажи. Зефирина не могла больше отступать. Нужно было примириться с неизбежностью и отдать дань вежливости мачехе. Донья Гермина тотчас же поднялась с места, опередив мужа, как только вошла Зефирина: – Дорогая малютка, я так счастлива… Какой прекрасный день, день возвращения блудного чада. Подойдите скорей, дайте мне вас обнять! Шелестя шелком платья, «эта Сан-Сальвадор» приближалась, протягивая к ней руки. – Добрый вечер, суда… матушка! – вовремя спохватилась Зефирина, приседая в. глубоком реверансе. – Тс-тс-Tc! Чтобы этого не было между нами, дорогая! Донья Гермина подняла Зефирину, чтобы прижать к своей груди, затем удерживая ее на расстоянии вытянутой руки, посмотрела на нее проницательным взглядом. Зефирина ответила тем же. В течение секунды мачеха и падчерица следили друг за другом, оценивая и примериваясь друг к другу. В сущности, кроме того вечера, когда Зефирина ее оцарапала, они никогда не встречались с доньей Герминой. Она почти забыла, до какой степени «эта Сан-Сальвадор» красива, ласкова, элегантна, какой у нее низкий и мелодичный голос, удерживающий собеседника в плену его очарования. Зефирина вновь ощутила ее колдовской запах, увидела роскошные волосы цвета воронова крыла, заплетенные в толстые косы и перевитые тонкими нитями мелкого жемчуга. Что же касается доньи Гермины, если она и была удивлена прелестным личиком той, что подняла на нее глаза, его полусерьезным и шаловливым, задумчивым и волевым выражением, восхитительными глубокими зелеными глазами, столь же изменчивыми, как океан, взгляд которых будет очаровывать и волновать мужчин, – то ничем не выдала своих чувств. – Дорогая, милая моя Зефирина, вы стали изумительной девушкой! Донья Гермина поцеловала падчерицу в лоб. Зефирина не смогла сдержать дрожь при прикосновении холодных губ. Роже де Багатель с умилением наблюдал за этой сценой. Зефирина и в самом деле не ожидала столь горячего приема. В конце концов, обретя благоразумие и желая доставить удовольствие обожаемому отцу, Зефирина была готова отрешиться о злопамятства избалованного ребенка. – Идите сюда, дорогая, я вам представлю моего Рикардо. Ему так не терпелось с вами познакомиться. Сокровище мое! Маркиза де Багатель, продолжая держать Зефирину за руку, повлекла ее к тщедушному подростку на вид лет четырнадцати-пятнадцати. «Сокровище» играло в бильбоке[15] перед высоким камином. Мальчик едва поднял свою черноволосую голову, чтобы поздороваться с Зефириной. Рикардо де Сан-Сальвадор ни в чем не походил на свою прекрасную, достойную резца скульптора, мать. У него были хилые ноги, впалая грудь, гноящиеся глаза на дряблом прыщавом лице. Тотчас же испытав чувство гадливости к этому мальчишке и потеряв к нему всякий интерес, она подбежала к отцу и положила свою золотистую головку ему на плечо. – Папа, дорогой! – Моя Зефи! На короткое мгновение они заключили друг друга в объятия. Тут же раздался мелодичный голос маркизы: – Ваша новая комната готова, моя дорогая! – Я больше не буду в прежней? – удивилась Зефирина. – Та комната недостаточно велика и удобна, я приготовила прекрасные апартаменты в южном крыле, думая о вас, моя дорогая малютка. Это было очень любезно, и возражать было бы неучтиво. Впрочем, Зефирине даже понравились новые владения. Речь шла о трех элегантных комнатах: будуаре, гостиной и примыкавшей к ним туалетной комнате, в которой находились кувшины для воды, тазы и корыта. Маркиза де Багатель была столь предусмотрительна, что не забыла о духах и душистых притираниях. Зефирина освежила лицо, пока Пелажи укладывала ее вещи в сундуки и короба. Продолжая болтать с нянюшкой, Зефирина переоделась. Пелажи рассказала ей обо всем, что произошло в течение семи лет, проведенных ею в пансионе. У бедного папаши Коке случился удар. Парализованный и немой, он влачил жалкое существование в маленьком домишке в деревне. Опечаленная Зефирина пообещала навестить старого садовника. Братья-близнецы Ипполит и Сен-форьен взяли себе в жены двух сестер-двойняшек из Амбуаза. Бастьен, родной племянник Пелажи, служил теперь на конюшнях, ухаживая за лошадьми. Зефирина решила, что завтра же утром побежит обнять его. Пелажи тотчас же вскричала: – Не забывай, что Бастьен, несмотря на все милости господина маркиза, всего лишь крепостной. Его отец, мой покойный брат, так никогда и не стал вольным. Ты теперь барышня, мое сокровище, и должна помнить о своем положении! Зефирина, на которую глубокое впечатление произвели весьма современные идеи брата Франсуа, оставила за собой право пренебречь условностями и перевела разговор на мачеху и ее сына Рикардо. Внезапно заторопившись, Пелажи ничего не ответила, сказав только: – Колокол скоро зазвонит к ужину. Спускайся тотчас же, госпожа маркиза любит точность. Не серди ее, и все будет хорошо! Произнеся эту двусмысленную фразу, Пелажи закрыла дверь. Оставшись в одиночестве, Зефирина проворно расшнуровала свой корсаж и вытащила медальон с изумрудом, больно царапавшим кожу. Какое-то мгновение она задумчиво рассматривала переливающиеся камни при свете свечи. Это украшение ей не принадлежало. Оно, несомненно, было очень дорогое. Уже много раз Зефирина собиралась сказать о нем сначала отцу, потом Пелажи, но присутствие маркизы и недомолвки кормилицы заставили ее отложить это на некоторое время. Внезапно, вертя в кончиках пальцев блестящие камни, Зефирина заметила тоненькую застежку на медальоне. Поддев ногтем, она открыла ее: изумруд оказался полым внутри, как пустой орех. Зефирина нерешительно огляделась вокруг. Кровать под балдахином не показалась ей надежным тайником. Она завернула медальон в одну из своих рубашек, потом проворно залезла на скамеечку из дикой вишни, чтобы забраться в нишу статуи, изображавшей стоящего в полный рост Святого Михаила, поражающего дракона копьем. Зефирина спрятала свой сверток за основание статуи. Она едва успела спрыгнуть, как дверь комнаты отворилась. – А ты здорово выросла, толстуха! Это был карлик Каролюс, он вошел в комнату, с достоинством переваливаясь с боку на бок. – А вот ты и вправду не изменился! Все такой же маленький и не воспитанный! – метко парировала Зефирина. – Хо-хо! Язычок у тебя по-прежнему хорошо подвешен, рыжая лягушка! – расхохотался Каролюс. Он бесцеремонно прыгнул на кровать. Удобно вытянувшись на пуховой перине, он скрестил коротенькие ножки. От такой наглости Зефирина вскипела: – Доставь мне удовольствие, немедленно убравшись отсюда, и предупреждаю тебя, что больше не потерплю твоих насмешек, недоносок! – О! Рыжая лягушка, разве можно так обращаться со своим старым другом Каролюсом? – Запрещаю называть меня рыжей лягушкой! Зефирина бросилась на карлика, словно фурия. Она подняла руку, готовая ударить. Быстрый как молния, Каролюс спрыгнул в нишу между стеной и кроватью. – Хи-хи, не стыдно тебе, большая трусиха, бросаться на бедного маленького и беззащитного карлика! – Убирайся! Я тебя ненавижу! – зарычала Зефирина с побледневшими от ярости губами. Каролюс не заставил повторять это дважды и со всех ног бросился в темный коридор. – Я его ненавижу! О! Я его ненавижу! Зефирину била нервная дрожь. Колокол зазвонил к ужину. Зефирина впервые сидела за столом с отцом, мачехой и Рикардо. Последний, несмотря на свою тщедушность, был настоящим обжорой: он по три-четыре раза запускал облепленные жиром руки в каждое блюдо. Зефирина не понимала, как маркиз де Багатель терпит у себя за столом подобного поросенка. Но Роже, казалось, ничего не замечал. К тому же он был очень возбужден, рассказывая жене новости королевского двора. – Король, моя дорогая, держится в стороне, соблюдая величайшую осторожность, однако позволил профессорам богословского факультета Парижского университета осудить этого Мартина Лютера! – Но разве нет в этой Реформации некоторых интересных идей? – с невинным видом спросила маркиза де Багатель. – Дорогая, вы же знаете, я всегда с вами согласен, но в данном случае, Гермина, разрешите сказать вам, что вы ничего в этом не смыслите! – воскликнул Роже. От изумления он даже положил обратно на тарелку отбивную из кабана, которую уписывал за обе щеки. – О, разумеется, друг мой, я всего лишь слабая женщина и ничего не понимаю в философии! Притворно вздохнув, прекрасная Гермина подцепила двумя изящными пальчиками крылышко цесарки и грациозно поднесла его к своим губам. – Речь идет не о философских идеях, Гермина! Это еретические учения о таинствах, об устройстве церкви, о покаянии, об исповеди и даже о чистилище! – Да убережет меня Господь от подобных мыслей! К счастью, вы все понимаете, Роже, и так хорошо умеете объяснять! – прошептала маркиза де Багатель. Роже улыбнулся с едва заметным самодовольством. У Зефирины вдруг появилось ощущение, что мачеха прекрасно знает, о чем говорит и что ее подчеркнутое невежество предназначено лишь для того, чтобы польстить маркизу. – Но невозможно было поверить, что, начиная с 31 октября 1517 года, того самого дня, когда этот Лютер вывесил девять своих скандально известных предложений на двери церкви, его мерзкие идеи завоюют столько умов. Король, который, однако, всегда благоволил новым веяниям, доверительно сообщил мне, что инстинктивно чувствует опасность лютеранских пасквилей! Роже де Багатель схватил с блюда, которое ему протягивал Сенфорьен, ножку куропатки и капусту. Пока он с жадностью уписывал сочное мясо, Зефирина осмелилась спросить: – Но кто такой этот Мартин Лютер, отец? – Разумеется, тебе о нем в монастыре не говорили, и было бы лучше, если бы так же поступали все. Роже де Багатель окунул пальцы в кувшин с душистой водой и вытер подбородок, по которому стекал жир дичи, а затем продолжил: – Это монах из-за Рейна, из Виттенберга, чтобы быть более точным, принадлежавший к ордену монахов-августинцев, который несколько лет назад бросил призыв к Реформации; он распространяет дурное религиозное учение, исполненное мерзостных заблуждений, и призывает к бунту против католической церкви. Вы должны знать, Зефи, что всякий, кто думает, как Мартин Лютер, – безбожник, ибо приговор Сорбонны, вынесенный неделю назад, обжалованию не подлежит. Учение его признано схизматическим, противоречащим Священному Писанию и кощунственным по отношению к Святому Духу. Подумайте только, этот Лютер обозвал его святейшество папу «Антихристом» и даже «дурацкой ослиной головой». Придя в ужас от этих слов, Зефирина несколько раз перекрестилась, как и положено было поступить, дабы отогнать от себя дьявола. Оглушительный грохот заставил ее подскочить. Братья-близнецы Ипполит и Сенфорьен, еще более напуганные, чем барышня, рассказом хозяина, уронили эмалевые тарелки на натертый воском пол. Оглядев осколки, Зефирина вдруг быстро подняла голову. Она могла бы поклясться, что увидела в розовом свете канделябров, как по другую сторону широкого стола донья Гермина закусила губы, чтобы не улыбнуться.ГЛАВА IX СТРАННЫЙ СОН ЗЕФИРИНЫ
– Нет… нет… нет… нет… Собственный стон разбудил Зефирину посреди ночи. Она зажгла свечу, провела дрожащей рукой по влажному от пота лбу и долго лежала, уткнувшись лицом в подушку, чтобы прийти в себя. Зефирине приснился страшный, кошмарный сон. Будто она вернулась в круг своих подруг в Сен-Савене. Какой-то монах с зеленоватым лицом, освещенным тысячами свечей, заменил брата Франсуа. Внезапно указав на Зефирину и выставив ее на всеобщее обозрение, священник исступленно завопил: «Еретичка… Схизматичка… Каталептичка[16]». С дьявольским смехом он размахивал руками, и Зефирина видела, как он, словно птица – вестница несчастья, кружил у нее над головой. Внезапно монах преобразился, обретя черты графини де Сан-Сальвадор. У нее на спине тоже были черные крылья. Она кружилась и кружилась под потолком комнаты. Во сне Зефирина знала, что находится в своей постели; но, однако, над головой ее больше не было балдахина. Она лежала вытянувшись, как бы связанная невидимыми нитями, в то время как ее мачеха насмехалась: «Скверная девчонка, мы подарим ее Мартину Лютеру… Схизматичка! Еретичка! Ведьма! Распутница! Чернокнижница!» При каждом слове донья Гермина вонзала когти в лоб Зефирины. Внезапно из-за плеча графини показалось лицо этого головастика – карлика Каролюса. – Ты ничего не заметил? – прошептала графиня Сан-Сальвадор. – Нет, госпожа! Каролюс поцеловал длинные, со слегка скрюченными пальцами, руки доньи Гермины. – Следи за ней. Мы должны дождаться этого момента, только в нужное время, только в должный час… я буду действовать… «Еретичка… Схизматичка… Прокалываю тебя… Прокалываю тебя и опять прокалываю…» Голос удалялся. Какой-то скрежет или крик птицы, прозвучавший во сне, разбудил Зефирину. Дрожа всем телом, покрывшись «гусиной кожей», она долго не могла успокоиться. Рыжеватое пламя свечи освещало дрожащим светом статую Святого Михаила, стоящую в нише. Заподозрив неладное, Зефирина соскочила с постели. Путаясь в длинной рубашке с накрахмаленным воротничком, она влезла на скамеечку и сунула руку за основание статуи. Пусто!.. Там больше ничего не было! Лишь одно имя вспыхнуло у нее в мозгу: – Каролюс! Зефирина была уверена, что именно карлик украл медальон. Ну уж он-то за это заплатит! Не чуя под собой ног от волнения и жажды мести, путая сон с явью, Зефирина вновь улеглась в постель, продолжая дрожать. Пелажи поставила на столике у изголовья кровати серебряный стаканчик и графин с мелиссовой водой[17]. Большими глотками Зефирина выпила освежающий напиток. У него был горький привкус. Голова у Зефирины закружилась. Внезапно она провалилась в глубокий сон. На следующее утро над поместьем Багатель сияло солнце. Забыв про свои ночные тревоги, Зефирина без чьей-либо помощи торопливо облачилась в рубашку с белым воротничком, поверх которой надела нижнюю юбку с тюрнюром, затем широкую юбку из голубой кисеи, повязала черной лентой свои рыжие кудри. Подготовившись таким образом, Зефирина сбежала по лестнице. Было еще очень рано. Обитатели замка медленно просыпались. Выпив бульона из цесарки, что подала ей на кухне Пелажи, Зефирина решила спуститься в парк. На маленькой каменной лестнице она наткнулась на служанку с лицом, изуродованным либо болезнью, либо сожженным при пожаре. – Как вас зовут? – спросила Зефирина, с трудом пытаясь скрыть свое отвращение. Девушка бросила на нее лишенный всякого выражения взгляд, потом отвернулась, ничего не ответив. – Я ее не знаю. Кто это? – прошептала Зефирина. Пелажи пожала плечами: – Беатриса…несчастная немая… служанка госпожи маркизы. О, она не злая, только немного странная, бедняжка. Одна госпожа маркиза ее понимает и может с ней объясняться. Ты не должна об этом думать, мое сокровище! Затем, внезапно сменив тему разговора, Пелажи ласково погладила атласную щечку своей обожаемой девочки. – Я так рада, Зефи, что ты вернулась. Единственное, что требуется теперь, так это подумать о твоем будущем. Я бы так хотела, чтобы ты вышла замуж и удачно вышла за… Зефирина расхохоталась, заставив умолкнуть Пелажи: – Замуж! Но у меня еще есть время, Пела! Приподняв изящным движением подол своих юбок и открыв тонкие сапожки, Зефирина весело спустилась по черной лестнице. – Боже, защити ее! – прошептала Пелажи, провожая взглядом свое любимое дитя. Зефирина бегом пересекла общий двор, где находились службы поместья. Она как ураган ворвалась на конюшню. – Бастьен… Бастьен, где ты? В ответ на этот призыв высокий парень, обтиравший соломенным жгутом гнедого коня в стойле, поднял курчавую голову, увенчанную тиковым колпаком. – Бастьен! – повторила Зефирина. – Ты меня узнаешь, надеюсь? Бастьен небрежной походкой приблизился к девушке, стоявшей в проходе. – Конечно, мадемуазель. Счастлив вас видеть снова. Держа колпак в руке, он склонился перед Зефириной без всякого раболепства. – Но, Бастьен, я не ошибаюсь? Это и вправду ты? – воскликнула Зефирина, ошеломленная холодностью этой встречи. Избалованная девушка думала, что найдет прежнего маленького товарища по играм, бывшего для нее «козлом отпущения». Сразу узнав это энергичное лицо, озаренное синими глазами, Зефирина, однако, почти оробела, глядя на Бастьена снизу вверх. Теперь он превосходил ее ростом на целую голову. Широкоплечий, в рабочей блузе из рыжей мешковины, слегка раздвинув ноги в штанах с гульфиком, Бастьен был одет, как все крестьяне; Зефирина видела в полях их всегда согбенные спины; однако природная гордость делала юношу каким-то иным, более волевым и гордым, чем простые крестьяне. – Да, мадемуазель, ошибки нет, это в самом деле я! Говоря это, Бастьен смотрел на Зефирину с вежливой улыбкой, и никакое чувство не отражалось на его лице. – Так что же, мы поцелуемся? С этими словами Зефирина с очаровательной непосредственностью бросилась на шею другу детства. Прежде чем он успел помешать ей, она звучно расцеловала его в обе щеки. – А знаешь, ты изменился, Бастьен! – сказала Зефирина. – Вы тоже, мадемуазель! Бастьен отступал, его щеки внезапно вспыхнули. – По твоему виду не скажешь, будто ты доволен, что видишь меня вновь! – с упреком сказала Зефирина. – Вы ошибаетесь, мадемуазель. Я очень рад. Надеюсь, ваше возвращение в замок принесет вам много счастья. Чем я могу вам сейчас служить? Не хотите ли, чтобы я оседлал для вас Красавчика? – Что с тобой такое? – вскричала Зефирина. – Прекрати называть меня мадемуазель. Да, я хочу поехать прогуляться… Оседлай и себе коня, мы вместе поскачем галопом в имение Поссонньер. – Сожалею, мадемуазель, у меня есть работа, это невозможно. Бастьен вновь взял соломенный жгут, чтобы обтирать гнедого коня. Зефирина топнула ножкой: – Черт бы побрал твою работу! Я сейчас же поговорю об этом с папой. Зефирина направилась к дому. В два прыжка Бастьен догнал ее и схватил за руку: – Простите меня, мадемуазель, будет лучше, если вы не станете ни о чем просить. Госпожа маркиза дала распоряжение… Мы уже не дети… Оставайтесь на своем месте, и все будет хорошо… Крепостной есть крепостной, а господская дочка… – Папа, я хотела бы, чтобы вы освободили Бастьена от крепостной зависимости! – Какая любопытная идея, дитя мое! – раздался мелодичный голос доньи Гермины. Зефирина влетела как вихрь в «низкий зал» своего отца – нечто вроде охотничьего кабинета, в котором по стенам были развешаны оленьи рога, поводки, шляпы и оружие. Она вздрогнула, заметив мачеху, укрытую высокой спинкой кресла. Роже де Багатель отложил в сторону аркебузу, которую чистил. – Ваша мать права, Зефи! Что это за каприз? – Папа, я против всякого рабства. – Какие громкие слова, дитя мое! – вздохнула донья Гермина. – Ваша мать права, Зефи… Почти потеряв надежду, Зефирина повернулась спиной к мачехе, чтобы обратиться только к Роже. – Послушайте, папа, брат Франсуа в монастыре объяснял нам, что рабство безнравственно. Я знаю, что он прав. – Безнравственно! – воскликнул Роже де Багатель. – Именно так, папа. Человек создан для того, чтобы быть свободным и… – Тсс, тише! Моя дорогая, будьте осторожны! Это еретические идеи! Не так ли, друг мой? Говоря так, донья Гермина выпрямилась. Она, казалось, была искренне огорчена словами своей падчерицы. «Еретичка, схизматичка, каталептичка…» Слова из сна громко зазвучали и потрясли Зефирину. Она на короткое мгновение замерла, внимательно разглядывая донью Термину. Чувствуя на себе взгляд этих зеленых глаз, маркиза отвернулась, тогда как Роже де Багатель заговорил в своей черед: – Ну да, Зефирина, ваша мать права, у вас опасные мысли, дорогая… это лютеранские идеи… Итак, они достигли вас, даже в вашем монастыре, хотя вы не отдаете себе в этом отчета. В крепостной зависимости нет ничего безнравственного, напротив, жаль, что в семьях сервов становится все меньше детей. Бастьену очень хорошо, он счастлив и доволен своей участью… У него есть крыша над головой, он накормлен, одет, чего еще можно желать? Деревенский кюре даже научил его читать и писать! – Но, папа, Бастьен не свободен! – воскликнула Зефирина. – Это как посмотреть! – прошептала донья Гермина, поднимаясь и шурша платьем. – Ваша мать права, Зефи. Многие из наших вольных крестьян были бы рады вновь стать простыми сервами. Мы ответственны за их участь. У этих мужланов всегда есть работа, пища, крыша и очаг; они не должны платить ни подать, ни налог на соль; у них нет никаких забот. Что же они должны взамен? Работать, повиноваться, жить на наших землях… Что они будут делать в другом месте, Зефи, я вас спрашиваю? Нет, ваша мать права… Выйдя из «охотничьего кабинета», Зефирина прикинула, что отец, должно быть, по меньшей мере, десять раз, сказал: «Ваша мать права». – У тебя довольно разочарованный вид, рыжая лягушка! При звуках этого насмешливого голоса Зефирина опустила глаза. Это был Каролюс, и, как всегда, она не услышала его шагов. – Не обращайся больше ко мне, грязный карапуз, или я выпущу из тебя кишки! – свирепо предупредила его Зефирина. На тот случай, если карлик окажется непонятливым, пнула его сапожком в лодыжку, чтобы подчеркнуть весомость своей угрозы. – Уй!.. Уй!.. Злая тварь! Каролюс, не заставив просить себя дважды, со всей скоростью, на которую были способны его короткие ножки, удрал в вестибюль. Зефирина несколько раз вздохнула, чтобы успокоиться, потом вернулась назад, решив по крайней мере попросить разрешения у отца, чтобы Бастьен с сегодняшнего дня имел бы право оставлять работу и сопровождать ее на прогулках. Дверь кабинета оставалась приоткрытой. Зефирина замерла. Донья Гермина проговорила серьезно, с торжеством в голосе: – Вы видите, друг мой? Разве я не была права? – Я считал, что она слишком молода, но девочка действительно превратилась в настоящую женщину. Нельзя позволить ей бегать по полям вместе с этим сервом. – Не говорила ли я о ее счастье и о интересах? – Вы изумительны, друг мой. – Итак, Роже, когда же вы примете решение? – В ближайшее же время я переговорю об этом с королем, но вы правы, Гермина, чем раньше, тем лучше. Шорох шелка возвестил о том, Что донья Гермина направляется к выходу из кабинета. Зефирина проворно спряталась в другой темной комнате. Через щели между панелями она увидела, как промелькнула тень мачехи и в ноздри ударил колдовской запах доньи Гермины. Зефирина подождала еще мгновение. Уверившись, что ее не заметят, она на цыпочках вышла из своего тайника, не зная, стоит ли опять обращаться к отцу. Ее беспокоила очевидная его слабость перед лицом жены. Зефирина поднялась в свою комнату, чтобы основательно поразмыслить и обдумать услышанное. Что же хотел сказать Роже де Багатель этими словами: «Вы правы, Гермина, чем быстрее, тем лучше!»?ГЛАВА X Я УБЬЮ ЕГО! Я УБЬЮ ЕЕ! Я УБЬЮ СЕБЯ!
– Это вам, Зефи! – крикнули в один голос Франсуаза, Жизель и Луиза де Ронсар. Зефирина схватила шар, чтобы бросить им в кегли. Вот уже целый месяц после возвращения Зефирина, в сопровождении Ла Дусера, приезжала каждый день после полудня к своей подруге. У нее была тайная надежда увидеть еще раз Гаэтана, но молодой Ронсар был на королевской службе: по поручению короля он пересек Ла Манш, дабы отвезти важные бумаги советникам его величества короля Англии Генриха VIII. Зефирина пока еще не была представлена ко двору. Отец заверил, что Франциск I хочет назначить ее, когда ей исполнится пятнадцать лет, фрейлиной к доброй королеве Клод. Почти каждый день Роже и донья Термина, сверкающая шелками и драгоценностями, отправлялись к королю в Блуа или Амбуаз, но Зефирина быстро поняла, что «эта Сан-Сальвадор» совершенно не торопится отвезти туда падчерицу. В сущности, Зефирине это было безразлично. Ей нравилось бывать у Ронсаров. Атмосфера у них была спокойная, простая, веселая и добродушная. Кроме Гаэтана, у Луизы были еще и старшие сестры, Жизель и Франсуаза, обе очаровательные и искренно полюбившие Зефирину. Старший брат, которого Зефирина видела мало, тоже был на службе у короля. Он недавно женился, и его жена только что родила крупного толстощекого младенца – маленького Пьера. Уже способная ощутить материнские чувства, Зефирина любила брать малютку на колени, укачивать его, нежить и холить, ласкать нежную кожу, от которой приятно пахло молоком. – Маленький Пьер будет таким же хорошим солдатом, как и его отец! – напевала Зефирина. – О, Зефи, война, вечные битвы… нет… – восклицала молодая мать. – Я бы предпочла, чтобы мой сын стал поэтом! Пусть сочиняет рондо и утренние серенады, а благородные дамы и красивые кавалеры пели бы их при королевском дворе! – Почему бы и нет! Пьер де Ронсар будет великим поэтом! – решила, смеясь, Зефирина. В замке Поссонньер всегда гостило множество красивых молодых соседей и кузенов, приезжавших с визитами. Они играли на лужайках в карты, в кости и другие азартные игры; юные девушки разыгрывали пантомимы и устраивали маскарады; молодые люди соревновались в ловкости, играя в лапту. Они даже иногда сражались на палках, но совсем беззлобно, с гордостью демонстрируя силу и умение. Ближе к вечеру госпожа де Ронсар своим звонким молодым голосом читала вслух несколько страниц из модного тогда рыцарского романа «Четверо сыновей Эймона». Сердце Зефирины сильно билось, когда она слушала о приключениях прекрасной Роланды, похищенной незнакомым принцем, но спасенной Белым Рыцарем. К несчастью, вечером, после всех этих восхитительных развлечений нужно было возвращаться в Багатель. Обстановка в поместье становилась все более и более невыносимой. Зефирина чувствовала, что за ней шпионит Каролюс и наблюдают колючие глаза мачехи. Ее презрение и отвращение к Рикардо де Сан-Сальвадору становилось с каждым днем все сильнее. Она обнаружила, что, помимо обжорства, мальчик отличается грубостью, злобностью, неизменной жестокостью и бесхарактерностью. Несколько дней тому назад, когда Зефирина шла на конюшню, какие-то слабые стоны привлекли ее внимание к курятнику. Там она увидела ужасную картину. Старый пес Балтазар с заткнутым кляпом пастью был привязан к колышкам за все четыре лапы. Чья-то злодейская рука вымазала его шкуру медом и обсыпала зерном. Добрая сотня кур, петухов, цесарок и индюшек яростно клевали его шерсть. Несчастное животное, один глаз которого уже окрасился кровью, могло лишь жалобно стонать от боли. Усевшись на крышу курятника, Рикардо де Сан-Сальвадор наслаждался этим зрелищем, корчась от смеха. – Вы чудовище! – зарычала Зефирина. Не обращая больше внимания на мучителя, она поспешила в курятник, чтобы освободить Бальтазара. – Ну-ка, убирайтесь, глупые птицы! – кричала Зефирина, стоя посреди квохчущих кур. – Ну вот, уже и развлекаться нельзя! Рикардо де Сан-Сальвадор спрыгнул со своего насеста и, насвистывая какую-то дерзкую мелодию, стал подходить к Зефирине. Зефирина, не боясь испачкаться, освободила Балтазара от пут. Несчастный пес тут же удрал, а Зефирина в упор посмотрела на Рикардо. Ее глаза метали угрожающие молнии, а губы дрожали от возмущения. – Я запрещаю вам прикасаться к Балтазару! – Вы ничего не можете мне запретить, рыжая! – сказал насмешливо сын доньи Гермины. Это уж было слишком! Зефирина вскипела: – Гнусный тип! Наклонив голову вперед, как разъяренный бык, она бросилась на подростка. Тот не был готов к такому внезапному нападению. Сильным ударом она столкнула его в яму с навозной жижей. – Зассыха! Я тебе отомщу! Я скажу об этом матери! За кого ты себя принимаешь, засранка! – Сам ты засранец! – расхохоталась Зефирина, глядя на испачканное лицо и воняющую одежду юноши. – Что случилось, мадемуазель? Услышав крики, с конюшен прибежал Бастьен. Рикардо де Сан-Сальвадор поднялся: – Ха-ха! Вот и он, твой любовник! Он красив, этот лакей… Все знают, что ты с ним валяешься на соломе! Что он с тобой делает, эта свинья? Какой-то конюх… У нее жжет в заднице и спереди… у этой рыжей… Ошеломленная Зефирина смотрела, как Рикардо де Сан-Сальвадор отплясывает какую-то бешеную джигу. Внезапно она издала вопль: Рикардо схватил ее за локоть своей рукой, с которой стекала навозная жижа, и злобно потянул к яме. Тотчас же Бастьен встал между ними: – Пойдите вымойтесь, господин Рикардо! Неторопливым, но уверенным жестом Бастьен отстранил подростка. – Лапы прочь, грязный лакей. Я – не рыжая… У нее жжет в заднице… и спереди… Рикардо де Сан-Сальвадор удалился по направлению к господскому дому, напевая свою песенку. С горящими от стыда щеками, ощущая смущенный взгляд Бастьена, Зефирина повернулась, чтобы пойти к конюшням. На глазах у нее навернулись слезы. Найдя убежище в одном из пустых стойл, она дала волю своей ярости. – Я его ненавижу! Презираю вместе с его ужасной матерью! Мой отец во власти этой женщины! Я… я ничего не могу больше сделать… Эти Сан-Сальвадор здесь хозяева. Кроме Пелажи, ты мой единственный друг, Бастьен… За мной шпионят. Теперь я даже не смогу приходить поговорить с тобой по вечерам, когда ты чистишь лошадей… Зефирина подняла на юношу залитые слезами глаза. Он покачал кудрявой головой: – Нет, мадемуазель, я вам уже говорил. Вы не хотели мне верить, но сами дали повод этим толкам. Я ваш друг и сделаю для вас все, но не нужно, чтобы «они», в замке, знали об этом. – О, Бастьен! Бастьен! Я так несчастна! И зарыдав сильнее, чем прежде, она упала на грудь своего старого товарища по играм. Бастьен внезапно побледнел. Сделав над собой страшное усилие, он обнял одной рукой по-братски плечи Зефирины, второй схватился за край кормушки так сильно, что сделал себе больно. – Ну-ну, я не хочу, чтобы ты плакала, Зефи, – прошептал Бастьен, внезапно назвав ее на «ты», как в детстве. – Ты создана, чтобы смеяться и петь; ты словно солнце, сияющее на шкурке маленькой саламандры… Помнишь, как мы были в Париже и чуть не спалили ригу и даже весь квартал… Зефирина не смогла удержаться от смеха сквозь слезы. Все так же прижимаясь к этому широкому и горячему плечу, она подняла рыжую голову. Внезапно став серьезным, Бастьен провел шершавым пальцем по ее щекам, будто хотел навсегда стереть с них слезы. Зефирине стало хорошо. Она расслабилась. Ей хотелось бы навсегда остаться в этом положении, под защитой спокойной силы Бастьена. Кровь все быстрее текла по ее жилам, какая-то благотворная теплота поднималась по бедрам. Ноги у нее ослабели, она ощутила желание упасть вместе с Бастьеном на солому, почувствовать его руки на своем теле. Взволнованная Зефирина узнавала странные ощущения, которые познала с Альбиной. Все окружающее исчезло. Ее груди под корсажем набухли. Как бы против воли руки Зефирины обвили шею Бастьена. Она молча влекла его к себе. Смущенный этим немым призывом, Бастьен наклонился и закрыл глаза, тоже готовый потерять голову. Какая-то лошадь заржала в соседнем стойле. Почти грубо юноша отстранил Зефирину: – Вы хотите поехать на прогулку, мадемуазель? – Ох, да… Зефирина с трудом приходила в себя. – Я хочу поехать в Поссонньер. Бастьен постоял с минуту у ворот конюшни, смотря вслед Зефирине и Ла Дусеру, чьи лошади цокали копытами по залитой солнцем дороге. Когда молодой серв вернулся на конюшню, чтобы заняться лошадьми, Каролюс сидел на охапке сена на приоткрытом чердаке. – Ты давно здесь? – подозрительно спросил Бастьен. – О, у меня как раз была сиеста[18]! – скорчил гримасу Каролюс, спрыгнув в кормушку, наполненную овсом. – Когда спишь, узнаешь так много!! Выпустив эту отравленную стрелу, прежде чем Бастьен успел шелохнуться, карлик выбрался на утрамбованную землю и помчался во все лопатки к господскому дому. – Ну же, Зефи! Вы о чем-то мечтаете, моя дорогая! Вам остается всего лишь два шара, и победа за нами! – воскликнула Луиза. После первого ловкого броска Зефирина прицелилась последним шаром, чтобы сбить оставшуюся на траве кеглю, но осталась стоять с поднятой вверх рукой, словно застыв в этой позе. Гаэтан де Ронсар, в дорожных сапогах и весь в пыли, шел по аллее и громким голосом повторял: – О fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas! Слишком счастливы селяне, если они знают о своем счастье! – Гаэтан! Гаэтан! Барышни де Ронсар окружили брата с криками радости. Извещенная о возвращении младшего сына, госпожа де Ронсар прибежала, чтобы прижать его к своему сердцу. Державшись чуть сзади, Зефирина прекрасно видела, что Гаэтан, отвечая на вопросы матери и сестер, украдкой на нее поглядывал, стараясь понять, какое впечатление произвела фраза, произнесенная по-латыни. – Гаэтан, видели ли вы короля Англии? – Так же, как вижу вас, матушка! – А как прошло плавание через Ла Манш? – Нас укачало и я спал без задних ног, сестра! – Как одеваются английские дамы? – Хуже вас, сестрицы! Воспользовавшись тем, что дамы семейства Ронсар рассмеялись и пустились обсуждать манеры одеваться, Гаэтан высвободился из их объятий и приблизился к Зефирине. Он поклонился, сделав широкий взмах своим беретом. – Мое почтение, мадемуазель де Багатель. Зефирина слегка присела в реверансе, а затем насмешливо бросила: – Мои поздравления, господин де Ронсар! Не в Англии ли вы сделали такие успехи в языке Цицерона? – Я сделал это, думая о вас, мадемуазель! – прошептал Гаэтан, не смутившись. В последующие дни Зефирина не просто скакала к замку Ронсаров, а летела по каменной дороге, изо всех сил понукая Красавчика. – Клянусь всеми моими сорока восемью метлами, у наших кляч нет крыльев! – протестовал Ла Дусер, у которого не было причины нестись сломя голову, подобно своей юной госпоже. Когда Гаэтан был свободен от службы у короля, он сопровождал сестер и Зефирину в лес. Они собирали ежевику, грибы и незабудки, что служило поводом бегать, играть и прятаться друг от друга в негустом подлеске. Гаэтан возвращался с полными руками и укладывал добычу в корзинку Зефирины. Пальцы у девушки дрожали, и она чувствовала, как столь же дрожащие пальцы юноши старались ненароком прикоснуться к ее запястьям и ладоням. – Знаете, когда я увидел вас в первый раз, вы меня очень напугали! – шептал Гаэтан. – Однако по вашему виду нельзя было сказать, что вы чего-то боитесь! – говорила Зефирина, пряча за улыбкой смущение. – Вы такая замечательная, Зефирина, такая образованная, если вы мне… – Гаэтан… Зефи! Всякий раз, когда Гаэтан собирался добавить что-то важное, Луиза или одна из старших сестер прерывали эту болтовню, к большому разочарованию Зефирины. В тот день, поймав несколько раков в речке около замка, Гаэтан предложил всем спуститься к Луаре. С испуганными криками барышни окунали в реку пальцы ног. Сняв сапоги и верхнюю рубашку, Гаэтан смело нырнул. Зефирина стыдливо отвернулась, чтобы не увидеть юношу в нижней рубашке. Присутствие мужчины действовало на нее возбуждающе. Чтобы вновь почувствовать себя непринужденно, она потянулась за веткой, плывущей по воде, но слишком далеко зашла: песок внезапно ушел у нее из-под ног, и она упала в яму, столь же предательскую, сколь глубокую. Как и все барышни из хорошего общества, Зефирина не умела плавать. В одно мгновение ее снесло течением к опасным водоворотам Луары. Нижние юбки, сначала поддерживавшие ее, отяжелели от воды и потянули на дно. Она задыхалась и даже не могла крикнуть, чтобы позвать на помощь. – Спасите! Зефи тонет! Услышав вопль Луизы с берега, Гаэтан несколькими мощными гребками добрался до Зефирины, схватив за длинные кудри как раз в тот момент, когда золотистая головка исчезла в водовороте. Задыхаясь, Зефирина отбивалась, как могла. – Простите меня! Зефирина ощутила удар в подбородок. Когда она пришла в сознание, то лежала на берегу реки. – Пойдите за ее оруженосцем. Помогите мне расшнуровать ее корсет… принесите вина, одеяло, сухую одежду… торопитесь! Скатанной в комок собственной рубашкой Гаэтан протирал Зефирину так же, как поступил бы со своей лошадью. Барышни де Ронсар побежали за вещами, которые потребовал принести брат, к сиденьям на спинах мулов, оставленных под присмотром Ла Дусера. Под руками мужчины, растиравшими ее, грубо к ней прикасавшимися, проникавшими во все уголки тела, Зефирина начала дрожать. Она наблюдала за Гаэтаном сквозь бахрому полуприкрытых ресниц цвета темного золота. Внезапно молодой человек, осознав, что она очнулась, прекратил это энергичное растирание. Слегка покраснев, он быстро убрал руки с ее корсажа и стал извиняться: – Это чтобы согреть вас, Зефирина. Как вы себя чувствуете? – Очень хорошо, – чистосердечно ответила девушка. Она хотела подняться, не сознавая, что одна ее грудь, круглая как яблоко, похожая на бутон розы, выпрямившийся от холода, показалась наружу. – Нет, не двигайтесь… подождите, когда вернутся мои сестры. Гаэтан с непривычной суровостью не дал ей встать. За стеной из камышей послышались испуганные крики барышень де Ронсар. – Мы думали, что вы утонули, Зефи! – вновь заговорил Гаэтан. Голос его звучал как-то странно, он казался все более и более смущенным. Взволнованным взглядом смотрела Зефирина на красивого юношу, все еще стоявшего над ней на коленях. – Гаэтан, вы спасли мне жизнь! – выдохнула Зефирина. Все произошло очень быстро. Губы Гаэтана внезапно прижались к ее губам. Это был первый целомудренный поцелуй. Два юных рта неловко соприкоснулись. Зефирина ощущала дыхание Гаэтана. Она напряглась, всем своим существом призывая какое-то другое, более глубокое Чувство. Она угадывала, что существует некая тайна, еще ей неведомая, но уроки Альбины дали возможность узнать эти волнующие ощущения. Когда Зефирина вновь открыла глаза, Гаэтан уже поднялся; щеки у него горели. Барышни де Ронсар возвращались с Ла Дусером. Гигант стучал зубами. – Клянусь Святым Барнабе, моя маленькая Зефи, я так перетрухал! С загадочной улыбкой на устах Зефирина позволила переодеть себя в сухую одежду. Ее поцеловали… Поцеловал молодой красивый кавалер. Осознавая свое новое состояние, Зефирина подняла голову. Большие белые облака в небе над Луарой внезапно закружились, образовав какой-то чудесный хоровод. – Господин маркиз вернулся от королевского двора. Он хочет поговорить с тобой! – прошептала Пелажи, когда Зефирина, одетая в платье Луизы, вернулась в замок. Роже де Багатель был один в большой гостиной. Он мерил шагами комнату. – Здравствуйте, моя дорогая… Вы хорошо провели день вместе с друзьями из семейства Ронсаров? Садитесь, мне надо с вами поговорить. Такое вступление не встревожило Зефирину. Она уселась в одно из кресел с высокой спинкой, стоящее перед камином, и стала ждать продолжения. – Я мало видел вас все это время, Зефи, поскольку меня поглотила служба у короля. «А служба у мачехи – еще больше», – дерзко подумала Зефирина. Будучи девушкой весьма сообразительной, она воздержалась от комментариев. – Иногда я проводил день на площадке для нового замка, который король повелел выстроить в Шамборе… Надо будет мне отвезти тебя туда, чтобы ты увидела его, Зефи… Это Боккадоро, итальянский архитектор, создавший чертежи, самый настоящий волшебник! Он сейчас возводит самый прекрасный дворец, который когда-либо существовал… Король сегодня после обеда был в чудесном настроении. Он спрашивал о тебе! – Это очень любезно! – согласилась Зефирина. – Более чем… и мы говорили о твоем будущем! – О, неужели это правда, папа! Меня назначили фрейлиной? – воскликнула Зефирина. Она весело спрыгнула с кресла, чтобы поцеловать отца. Роже де Багатель, осыпаемый поцелуями дочери, погладил бороду: – Нет, нет… Успокойтесь, дитя мое, это гораздо лучше. Сядьте на место. Король дал разрешение на ваш брак. – Мой брак… Но с кем? – пролепетала Зефирина. – Это замечательная партия… Молодой человек, которого ты хорошо знаешь… даже очень хорошо… Роже де Багатель умиленно улыбался, глядя на дочь. «Гаэтан!» – тотчас же подумала Зефирина. От предчувствия необыкновенного счастья сердце ее замерло. – Папа, о, папа, скажите же скорей! – горячо молила Зефирина. Ответ прозвучал словно свист кнута. – Рикардо де Сан-Сальвадор! Услышав ненавистное имя, Зефирина вскрикнула: – Он… Никогда! – Но, дитя мое, – попытался возразить Роже де Багатель, удивленный таким неистовством, – мы вместе с вашей матерью думали только о вашем счастье, дабы сохранить, таким образом, богатство в… С горящими глазами Зефирина прервала своего отца: – Папа, если вы будете принуждать меня… Я убью его! Я убью ее! Я убью себя!ГЛАВА XI БОЖЕСТВЕННАЯ ЗЕФИРИНА
– Успокойся, мое сокровище! Пелажи хотела смочить виски Зефирины винным спиртом. Девушка отвела руку кормилицы и с голодной жадностью набросилась на ножку фаршированной курицы. Несколько часов назад Зефирина, переходя поочередно от отчаяния к яростному бунту, заперлась у себя в комнате. Она ходила из угла в угол, ложилась на кровать, плакала, вновь поднималась; ей хотелось поджечь поместье, убить Рикардо, покончить с собой; она сжимала кулаки, рвала на себе кружева, пинала ногой сундуки, царапала лицо, рвала на себе волосы. Короче, она предавалась отчаянию так, как было свойственно ее возрасту. Решив в конце концов уморить себя голодом, она не спустилась к ужину. Таким образом, она ничего не знала о реакции мачехи и о решении отца. Должно быть, уже наступила полночь. В замке догорали последние свечи. Закончив дневную работу, в комнату своей обожаемой девочки проникла Пелажи, неся миску с едой. – Я убегу к Ронсарам! – решительно заявила Зефирина, приподнявшись на локте. Остренькими зубками Зефирина разрывала кабанью отбивную, уписывая ее за обе щеки. – Это ничего не даст, мое сокровище… Они приедут за тобой, и твои друзья будут бессильны. Нет, послушай, Зефирина, – прошептала Пелажи на ухо своей воспитаннице, – …надо опередить «ее». Отправляйся к королю, никого не предупреждая… Один только король может изменить то, что сам решил. Я предупредила Бастьена, он будет держать Красавчика оседланным с самого рассвета. Отправляйся к королевскому двору, мое сокровище. Маркиз с маркизой не поедут. Я знаю, что завтра они здесь будут разбираться с испольщиками. Поезжай в Амбуаз. Твое имя откроет перед тобой все двери, будет твоим просителем. – Но в конце концов, Пела… – возразила Зефирина, наконец-то насытившись, – отец меня любит, он не может… не может… Слезы вновь потекли по щекам Зефирины. Пелажи, собрав разбросанные по одеялу кости, направилась к двери. Голосом, в котором слышалась печаль, она прервала Зефирину: – Ты не очень хорошо поняла, что здесь происходит, Зефи. Ты совсем одна против нее, моя дорогая, ведь кроме меня нет у тебя никого, а я не очень-то много могу сделать… – Одна! – машинально повторила Зефирина. Как раз в это мгновение какой-то скрежет или, скорее, хруст, похожий на звук, который издает какой-нибудь грызун, послышался из-за стены. Пелажи с Зефириной одновременно подняли головы и посмотрели в сторону Святого Михаила, поражающего дракона. – У тебя завелись мыши? – спросила Пелажи. – Да… А что находится по другую сторону перегородки? – Заброшенный гардероб! – Попроси Ипполита или Сенфорьена поставить мышеловки. – Будет сделано завтра же утром, – пообещала Пелажи. – А теперь спи, мое сокровище… и поступи так, как я тебе сказала! Пелажи вернулась назад и наклонилась, чтобы поцеловать Зефирину, а та заставила ее присесть на постель. – Пела, ты ведь тоже ее не любишь! Как всякая нормандка, Пелажи ограничилась тем, что наклонила голову в белом чепце. – Что ты знаешь достоверно? Материнским движением Пелажи погладила очаровательное треугольное личико, обрамленное воздушной пеной золотисто-рыжих волос. – Ты так похожа на свою бедную мать, мое сокровище, однако у тебя нет такого кроткого выражения лица; ты более отчаянная, более решительная, чем она. Берегись, моя Зефи! Смущенная взглядом этих проницательных зеленых глаз, Пелажи потупилась и попыталась высвободиться из рук Зефирины. – Почему ты тоже ненавидишь «ее», Пела? – вновь заговорила Зефирина, не выпуская руки своей кормилицы. – Я ничего не могу утверждать, моя Зефи! Я только знаю, что ты должна постоянно всего остерегаться, каждое мгновение… – Перестань говорить загадками, Пела. Знаешь ли ты что-нибудь об этой Сан-Сальвадор? Да или нет? – уже с раздражением спросила Зефирина. – Да… Нет… – тотчас же спохватилась Пелажи. – Действительно, в течение многих лет у меня были какие-то подозрения, кое-что казалось мне странным, но все это настолько невероятно, что иногда твоя Пелажи спрашивает себя, не помутился ли у нее рассудок… вот и сегодня я обнаружила нечто настолько безумное, настолько невозможное… это касается Беатрисы… – И что же? Немая заговорила с тобой? – не смогла удержаться от улыбки Зефирина. – Почти, Зефи… Но это был голос из могилы… – прошептала Пелажи, вздрогнув. – В самом деле, Пела, если ты знаешь о каком-нибудь злодеянии этой Сан-Сальвадор, то почему не скажешь об этом моему отцу? – воскликнула Зефирина. Неясная тень легла на доброе толстое лицо Пелажи. – Теперь надо поспать, моя малышка… все, в чем я могу тебе поклясться – это что я не дам прикоснуться ни к единому волоску на твоей голове. Когда свеча погасла, Зефирина попыталась уснуть. Внезапно она застыла от испуга. Статуя Святого Михаила уставилась на нее сверкающими в темноте глазами. Уверенная, что бредит, Зефирина натянула себе на голову стеганое одеяло. Сжавшись под одеялом в комок, она услышала, как на деревенской колокольне пробило два часа ночи, а затем быстро заснула. Тусклый свет зарождающегося дня внезапно разбудил девушку. Первым ее желанием было влезть на скамеечку, чтобы осмотреть статую. В нише ничто не пошевелилось. Как всегда невозмутимый, Святой Михаил все также воздевал копье над драконом. Однако Зефирина нахмурила тонкие брови: несколько черных зерен было рассыпано вокруг цоколя статуи; они располагались в виде звезды. А ведь Зефирина была уверена, что вчера там их не было. Она взяла зерна в руки. Это походило на темный перегной или на древесный уголь. Она пожала плечами, ничего не понимая, потом спустилась, чтобы как можно быстрее одеться. Через несколько минут Зефирина без помех выскользнула из объятого сном дома. Пелажи обо всем позаботилась. Бастьен ждал ее с Красавчиком. Для пущей осторожности юноша обернул копыта лошади тряпками. Зефирина безмолвно последовала за своим спутником к выходу из парка. – Да сохранит тебя Господь, Зефи! – прошептал Бастьен. Выйдя на дорогу, ведшую через лес, он скрестил руки и пригнул голову, чтобы помочь юной всаднице сесть в седло. – Спасибо, мой Бастьен! Легкая как перышко, Зефирина, поднимаясь в седло, коснулась груди юноши. Это прикосновение и этот мужской запах вызвали у нее какое-то тайное смущение. Возможно, осознав, какое волнение ее охватило, Бастьен придержал лошадь. В отчаянии от собственной слабости, Зефирина отвернулась. – Сними тряпки! – сухо приказала она. Не говоря ни слова, Бастьен склонился к копытам Красавчика. Зефирина смотрела на крепкий затылок, склонившийся по ее приказанию. От удовольствия, вызванного пьянящим чувством власти над мужчиной, у нее закружилась голова. Она почти физически ощущала разочарование, быть может, даже боль Бастьена. «Все же я не могу разрешить себя поцеловать, только чтобы доставить ему удовольствие», – подумала Зефирина, несправедливая, как и все люди, что кричат «пожар» после того, как подожгли дом. – Ты кончил? – нетерпеливо спросила Зефирина. Бастьен едва успел отскочить от Красавчика. Ударив своим хлыстиком по шее коня, Зефирина пустила его рысью. – Стой… вернись! Услышав этот крик, Зефирина натянула поводья и увидела, как из-за обвалившейся стены выскочил Каролюс. Он бежал изо всех сил на своих коротеньких ножках, чтобы перерезать Красавчику путь. – Прочь с дороги! – яростно крикнула Зефирина. – Подожди, послушай меня! Каролюс храбро подпрыгнул, чтобы схватить Красавчика под уздцы. Не помня себя от бешенства, Зефирина подняла хлыст. Упав в траву, карлик испустил вопль. Рубец от удара алел у него на щеке. – Это научит тебя, как совать свой нос повсюду, гнусный карлик! – Пусть он заткнется, Бастьен! – приказала Зефирина. Повинуясь с видимым удовольствием, юноша бросился на карлика, пытавшегося улизнуть. – Не бойтесь, я сейчас его свяжу и запру! Теперь езжайте, Зефи! – сурово крикнул Бастьен. Зажатый, словно в тиски, его руками, карлик издавал какие-то булькающие звуки. Успокоившись насчет своего врага, Зефирина ударила каблуками по бокам Красавчика и вихрем полетела по дороге на Амбуаз. Впервые в жизни Зефирина ехала верхом одна, без оруженосца, но пугаться из-за этого не собиралась. Напротив, она испытывала чувство свободы и даже нечто вроде ликования. Было еще очень рано, когда она увидела на левом берегу реки возвышающийся над долиной великолепный четырехбашенный замок Амбуаз. По специально построенному для лошадей склону, идущему по спирали, Зефирина добралась на Красавчике до ворот замка. Там ее ожидало разочарование. Стоявшие на страже солдаты с алебардами без особых уговоров поведали прекрасной юной всаднице, что король ночевал в Блуа. Зефирина колебалась, стоит ли ей продолжать скачку. Она почти решилась бросить эту затею и отправиться искать убежища у своих друзей Ронсаров. У нее вдруг страшно разболелась голова. Тем не менее, стиснув зубы и борясь с соблазном вернуться к Гаэтану, она направила Красавчика на дорогу, ведущую в Блуа. Было уже позднее утро, когда она, проголодавшись после долгой скачки, увидела черепичные крыши города. Зефирина спрыгнула с лошади перед воротами замка, походившими на ручку от корзинки. Какие-то мальчишки предлагали свои услуги всем прибывшим в замок. Зефирина отдала одному из них повод Красавчика. Сунув в грязную руку мальчонки несколько солей, она приказала дать добрую порцию овса ее коню. Не замеченная никем в толпе придворных, теснившихся в выложенном черным кирпичом и ромбовидными плитами дворе, Зефирина поднялась по новой наружной лестнице в восьмиугольную башню. Оказавшись наверху, девушка попятилась назад, внезапно оробев. В длинной галерее, стены которой были украшены искусно вырезанными деревянными панно, толпились благородные дамы в платьях, отделанных мехом горностая, и прекрасные кавалеры в разноцветных переливающихся колетах и штанах с буфами. Рядом с этим блестящим обществом Зефирина вдруг почувствовала себя простушкой в сером плаще с беленьким воротничком и в саржевой юбке для верховой езды. Вдобавок ко всему у нее вновь началась эта проклятая головная боль. Зефирина, стиснув зубы, подошла к одному из дворян, чье открытое и гордое лицо узнала, несмотря на седую бороду. – Простите мою дерзость, сударь, но не могли бы вы мне указать место, где была бы хоть какая-нибудь надежда увидеть его величество? – Клянусь всеми святыми рая, господа, – воскликнул дворянин, приложив руку к сердцу, – это еще что за чудо? Если я не сплю, то, значит, я проснулся! Если я проснулся, значит, я не сплю! Но если я не сплю, значит, этот ангел из рая действительно стоит передо мной… Если же речь идет об ангеле, то это значит, что я умер… Если я умер, клянусь красной чумой, это значит, что я – не живой, а если я не живой, то не смогу ухаживать за этим ангелом!!! Выслушав эту речь, отличавшуюся своеобразной логикой, Зефирина вытаращила глаза и залилась румянцем. Несколько господ, столь же роскошно разодетых в суконные колеты, богато расшитые золотом и серебром, прилегавшие к штанам в форме бочонков, смеясь, подошли поближе. – Боже, Ла Палис, вы заставили покраснеть ангела! – Не пожелает ли ангел назвать себя? Кроме Жака де Шабанна, маршала де Ла Палиса, Зефирина вспомнила виденные в детстве морщинистые лица – это были спутники ее отца и друзья короля: Монморанси, Флоранж, Гуффье де Бонниве, адмирал Франции. Она колебалась, стоит ли называть им свое имя, когда круг ее почитателей был раздвинут властной рукой высокого, худого, можно сказать, костлявого человека с узким лбом и коротко подстриженной бородой – это был коннетабль де Бурбон! Все присутствовавшие господа с уважением поклонились потомку Людовика Святого, двоюродному брату самого короля. – Для военного вы говорите слишком много, Ла Палис! – бросил коннетабль с очень неприятным смешком… – какого черта! Действуйте же, чтобы взять приступом эту крепость, или ваш ангел сейчас выскользнет у вас из рук! – Но мы же не на поле битвы, монсеньор! Отвечая, Ла Палис вновь вежливо поклонился коннетаблю. Хотя Зефирина была еще очень молода и неопытна, она сразу догадалась, что отношения между этими мужчинами весьма напряженные, хотя они и обменялись улыбками. И ее симпатии были не на стороне коннетабля. – Я был прав, ваш ангел нем! Вы проиграли поединок из-за вашего пустословия, мой славный маршал! – с иронией произнес коннетабль де Бурбон. Вокруг послышались раболепные поддакивания. Принц крови повернулся, чтобы уйти, когда хорошо поставленный голос Зефирины пригвоздил его к месту: – Вы ошибаетесь, монсеньор, я глубоко оценила риторику господина де Ла Палиса! – Риторику!!! Вы только подумайте!.. Какая-то девчонка употребляет слова, смысла которых не знает. Коннетабль де Бурбон выжидательно посмотрел на стоявших вокруг дворян, число которых теперь увеличилось, словно беря их в свидетели своей правоты. Со всех сторон раздались смешки. Зефирина очень хотела быть сдержанной, но, будь то правнук Святого Людовика или нет, чаша ее терпения переполнилась. – Это слово происходит от слова ритор, по-гречески – оратор; совершенно очевидно, что господин де Ла Палис не является учеником Аристотеля, трактат которого об искусстве риторики дает самые точные сведения об искусстве красноречия и о способах совершенствования в нем, что достигается при помощи построения речи на основе определенной композиции и применения различных фигур! – выпалила единым духом Зефирина, затем, воспользовавшись всеобщим изумлением, продолжила свое доказательство: – Напротив, слово logos означает речь, a logia – теория; господин де Ла Палис, опираясь на безупречную логику кажущегося нелогичным высказывания, высказывает прекрасную в своей последовательности мысль, чье философское содержание было бы очень интересно углубить… Молчание, которым были встречены последние слова Зефирины, могло бы наполнить гордостью сердце брата Франсуа Рабле. Его лучшая ученица оказалась на высоте. Весьма довольная собой, Зефирина ожидала ответа коннетабля. А тот презрительно оттопырил нижнюю губу: – Глупая болтушка! И уязвленный коннетабль де Бурбон отвернулся. – Господа, ее величество королева! Зефирина едва успела присесть в глубоком реверансе. Королева Клод шествовала в окружении своей суровой свекрови Луизы Савойской и очаровательной золовки, госпожи Маргариты, которую все называли «Перл из Перлов»[19]. Принцессы любезным кивком отвечали на приветствия придворных. Когда Зефирина выпрямилась, маленькая королева – с невзрачной внешностью, но с улыбкой, способной согревать сердца, – уже прошла мимо. Ла Палис, Флоранж и Бонниве по-прежнему окружали Зефирину. – Мое дорогое дитя, ваше блестящее доказательство заткнуло клюв герцогу! А ведь это коннетабль де Бурбон, первый вельможа королевства! – расхохотался адмирал де Бонниве. – Король будет очень сердиться на меня? – спросила Зефирина, внезапно встревожившись о последствиях своей выходки. – Вовсе нет. Ее величество будет в восторге, а когда королева в восторге, доволен и король! – заверил ее Ла Палис. Зефирина и ее верные рыцари рассмеялись. – Ну, прекрасная барышня, – осведомился Монморанси, – кто же вы? – Зефирина де Багатель, сударь! Свой ответ она сопроводила грациозным реверансом. – Дочь Роже, нашего товарища по оружию? Черт побери, у вас прибавилось и знаний, и красоты, душенька… Итак, вы хотите повидать короля? – спросил Бонниве, выказывая легкое любопытство. – Мой отец поручил мне передать послание его величеству! – солгала Зефирина, предпочитая сохранить при себе причину своего появления при дворе. – Его величество в Шамборе. Я как раз туда направляюсь. Идемте, очаровательная барышня, мы поедем туда вместе и… клянусь честью, таким образом, мы не помешаем друг другу, – заключил Ла Палис. Маршал оказался очаровательным спутником. Проезжая в сопровождении четырех оруженосцев черезбогатый дичью лес Шамбор, Зефирина и Жак де Шабанн, сир де Ла Палис, весело беседовали. – Клянусь бородой папы, душенька моя, у вас самые прекрасные в мире волосы и взгляд, способный погубить Святого Петра, Святого Иоанна и Святого Павла вместе взятых. Клянусь моей душой, я хотел бы с вами полюбезничать в этом лесочке, но я не смею превратиться в совратителя молоденьких девушек. К тому же вашему батюшке это вряд ли понравилось бы. Итак, поговорим о философии, раз уж вы такая ученая. Упиваясь мыслью, что привела в смущение такого человека, как прославленный маршал де, Ла Палис, Зефирина, обладавшая пытливым умом, расспрашивала его и спорила с ним, давая точные и меткие ответы на любой вопрос. – Какая умница! Клянусь Святым Иринеем, именно вас надо было послать на переговоры с императором Священной Римской Империи. – С его величеством Карлом V? А разве наш король не договорился с ним? – осведомилась Зефирина. – Боже в небесах, откуда вы свалились? – Из монастыря, сударь! – Черт побери, могу себе представить… Псалмы на целый день и ни словечка о мирском. – Так и есть, сударь! – Как я глуп, ведь вы совсем молоденькая девушка… Мне надо было спеть вам рондо, а не о политике говорить. – Нет, сударь, расскажите мне, что происходит на белом свете. Правда, это меня очень увлекает! – настаивала Зефирина, с блестящими глазами и с оживившимся от беседы лицом. Ла Палис покачал головой в бархатном берете с пером: – Странная вы малышка… можно учиться в любом возрасте! Клянусь честью, не знал, что нужно рассуждать о проблемах внешней политики, чтобы соблазнить девственницу из этого нового поколения. Будь по-вашему, прекрасная Зефирина! Я начну с самого начала и признаюсь вам, что мы здорово сели в лужу! – Мы? – Королевство! – пояснил Ла Палис. – После битвы при Мариньяно, дитя мое, король был самым видным и самым счастливым государем в Европе, и наша страна была самой богатой… К несчастью, только пусть это останется между нами, король Франциск, после смерти императора Священной Римской Империи Максимилиана, вбил себе в голову, что добьется императорской короны – избрания императором. – Избрания? – Ну да, избрания! В силу старинных обычаев по семь выборщиков от Кёльна, Майнца, Бранденбурга, Пфальца выбирают императора Священной Римской Империи. Король мог, конечно, сделать попытку, но я был одним из тех, кто предупреждал его, что эта мечта – безумие! У императора был свой кандидат – собственный внук Карл, наследник престола Испании, Фландрии и Неаполитанского королевства… Этот холодный, спокойный, рассудительный юноша – полная противоположность нашему очаровательному государю. Короче, дорогая Зефирина, что должно было произойти, то и произошло: король напрасно заплатил 514 тысяч флоринов, чтобы купить голоса германских князей, золото-то они взяли… но проголосовали за Карла V! Не смотрите на меня такими большими глазами, моя красавица, или, клянусь честью Ла Палиса, я за себя больше не отвечаю!.. На чем я остановился? – Вы сказали, что они проголосовали за Карла V, сударь, – ответила Зефирина, которая не теряла нити беседы. – Совершенно верно. Ну вот, моя дорогая, это и есть бочка с гусиным пометом, простите меня за такое выражение, в которой мы находимся. Карл V никогда не простит королю Франциску, что тот пытался похитить у него корону, которой уже восемьдесят лет владеет его семья. Борьба двух монархов неизбежна. Один из них лишний. Карл хочет изгнать Франциска из герцогства Миланского, а Франциск хочет выставить Карла из Неаполя. Ну, что вы скажете об этом безвыходном положении, прекрасная резонерка? Зефирина нахмурила тонкие золотисто-рыжие брови: – А какова роль короля Англии во всем этом, сударь? – Английский король говорит, что вы столь же умны, сколь и красивы, божественная Зефирина! – заявил Ла Палис, отвесив глубокий поклон. Чтобы скрыть смущение, Зефирина звонко расхохоталась. Тряхнув золотисто-рыжей гривой, она пришпорила коня и поскакала в сопровождении своего нового друга к наполовину построенным башням, чьи белые стены заметила в просвете между деревьями.ГЛАВА XII КЛЯТВА
На огромной стройке в Шамборе раздавались звуки пил и молотков, звенели кирки. Словно пчелы из одного улья, сотни славных малых – резчиков по камню, каменщиков, мостильщиков и плотников, – гнули спины за несколько солей в день, чтобы возвести сказочный дворец. Зефирина, восхищенная этим зрелищем, с восторгом смотрела на гигантский фундамент и на уже возведенные этажи здания, выраставшего на песчаной и бесплодной земле. – Вон Клеман Маро, лакей короля. Ла Палис указал на довольно молодого человека в сине-зеленой ливрее, сидевшего на подножке какой-то повозки. – Он немножко сумасшедший, немножко шут, немножко поэт, и еще, думаю, лютеранин, – добавил маршал. – Но король его любит и прощает ему все причуды. Действительно, лакей-поэт, должно быть, был погружен в свои рифмы или в увлекательное чтение, так как даже не поднял глаз от пергамента, который держал у себя на коленях, когда Зефирина и маршал де Ла Палис спешились рядом с ним. – Мадемуазель де Багатель ищет короля, чтобы передать ему послание от отца, господина маркиза, мой дорогой Клеман… Знаете ли вы, где его величество? – спросил Ла Палис чрезвычайно любезным тоном. Не повернув головы и не поднявшись, чтобы поклониться маршалу, как полагалось сделать, лакей-поэт пробормотал: – Его величество удалились вместе с добрым ветром судьбы. Выслушав этот дерзкий ответ, Ла Палис скорчил Зефирине гримасу, что должно было означать приблизительно следующее: «Я ведь вас предупреждал, что он довольно странный!» А Клеман Маро, желая показать, насколько Зефирина и маршал помешали его занятиям, громко произнес двусмысленную фразу: – Афиняне, я признателен вам и люблю вас, но я скорее буду повиноваться Дельфийскому оракулу, нежели вам… Лакей-поэт перевернул лист пергамента, приготовившись читать дальше. Ошеломленная подобной наглостью Зефирина набрала в грудь воздуха и продолжила вместо него: – Афиняне, оправдаете вы меня или нет, будьте уверены, что никогда я не изменю своего поведения, пусть даже тысячу раз должен буду стоять перед лицом смерти! – Клянусь богом поэтов, мадемуазель знакома с Сократом! – воскликнул Клеман Маро. – Но сударь, – с негодованием возразила Зефирина, – отчего вы думаете, что только род мужской обладает знаниями? – Я не думаю, вовсе не думаю, мадемуазель, просто так оно и есть… весьма часто женский разум помещается не в голове, а совсем в другом месте! – Да? И где же это, сударь? – спросила Зефирина, выдавая полную невинность своих пятнадцати лет. – Хм!.. Внезапно смутившись, Клеман Маро обменялся взглядом с Ла Палисом. Последнему успела надоесть греческая философия, и он не скрыл своего нетерпения: – Все это очень хорошо, мой дорогой Маро, но известно ли вам – да или нет, – где мадемуазель де Багатель может найти короля? – Его благосклонное величество удалились, не известив меня о своей судьбе, – повторил Клеман Маро. – Но для такой ученой девицы… примите мои поздравления, мадемуазель! – лакей-поэт поклонился Зефирине: – Вы, конечно, догадываетесь, что вечер… его величество проведет в Кло-Люсэ!!… Зефирина начала смутно догадываться о том, какую власть над мужчинами ей дает ученость. Она поблагодарила находившегося на седьмом небе от счастья Клемана Маро несколькими словами по-гречески, потом, направившись к Красавчику, уже собиралась попросить Ла Палиса сопровождать ее в Кло-Люсэ, когда услышала восклицание: – Мадемуазель де Багатель… Это был Гаэтан, весь в пыли. Он привез скатанные в трубку документы для распорядителя работ на стройке. Гаэтан! От волнения Зефирина до крови прикусила губу. Сердце отплясывало в ее груди какую-то сумасшедшую сарабанду. У нее почти подкосились ноги в тот момент, когда юный Ронсар склонился перед ней в поклоне: – Мадемуазель… простите… Ваш покорный слуга! Молодой человек был, видимо, озадачен, что встретил ее так далеко от поместья Багатель без отца и без оруженосца. Было заметно, что присутствие маршала смущает его и не дает высказаться. Зефирина, у которой порозовели щеки и заблестели глаза, старалась сохранить хладнокровие. Сейчас ей особенно была необходима ясность мысли. Гаэтан был здесь тоже совершенно один. Это была неожиданная удача. Видя, в каком он замешательстве, Зефирина поняла, что именно ей придется принять решение. Прежде всего следовало избавиться от Ла Палиса, который, казалось, стал таким же прилипчивым, как банка со смолой. – Ну наконец-то, вот и вы, господин де Ронсар! – воскликнула Зефирина так, словно у нее была назначена встреча с молодым человеком. Опьянев от своих недавних успехов в красноречии, она несколько напыщенно произнесла: – Это настоящее уравнение Пифагора с параметрическим решением. Я ждала вас в пункте X в Блуа, господин де Ла Палис, заменив вас в пункте У, сопроводил меня сюда, вы возвращаетесь в пункт Z в Поссонньер, а я сама еду в том же направлении в Кло-Люсэ. Смотрите, какая интересная задача с прямоугольником квадратной формы… Едем, господин де Ронсар, в дороге мы поговорим о математике… Теперь, когда она скакала бок о бок с принцем своих грез, Зефирина приходила в отчаяние, не в силах придумать, что еще сказать умного. Со своей стороны, Гаэтан превосходил немотой рыбу. Напрасно щебетали в своих гнездах пташки, напрасно благоухала жимолость – тяжелое молчание удручало Зефирину. Она постаралась его нарушить несколькими остроумными замечаниями, но Гаэтан был явно не склонен к беседе и отвечал односложно. Подобное глупое положение вещей не могло долее продолжаться. Заметив на опушке леса саманную лачугу, откуда выходила тоненькая струйка дыма, Зефирина спросила: – Не согласитесь ли вы, господин де Ронсар, остановиться на несколько минут, чтобы раздобыть для нас стакан молока и буханку хлеба? Признаюсь вам, что я ничего не ела с самого рассвета… – К вашим услугам, мадемуазель! – откликнулся Гаэтан, спешиваясь. Не зная, как следует себя вести, Зефирина покачивалась из стороны в сторону в своем седле. Она видела, как Гаэтан беседовал с крестьянином. Мужчина услужливо склонился и тут же принялся доить свою козу. Внезапно Зефирина пошатнулась от пронзившей ее боли; у нее вновь заболела голова, и боль была еще сильнее, еще острее, чем прежде. У нее было ощущение, будто ей шилом пронзают череп. Зефирина сползла с седла на землю; двигаясь осторожно, словно сомнамбула, она подошла к колодцу, чтобы выпить немного воды и смочить себе виски. Склонившись над краем колодца, Зефирина вздрогнула. Собственное отражение затягивало ее в глубину вод, в то время как чей-то нежный голос шептал: «Зефирина… Зефирина…» – Осторожно, вы можете упасть! Крепкая рука Гаэтана ухватила ее в тот момент, когда она была готова упасть в колодец. У нее стучали зубы. – Вам плохо, мадемуазель? – спросил Гаэтан, заметив ее бледность. Зефирина не села, а рухнула на бревно. – Нет, это так глупо! Не знаю, что со мной… Сегодня у Меня много раз начинала болеть голова… Откинув голову назад, она оперлась о ствол дерева, и ее золотисто-рыжие кудри, спутавшиеся во время скачки, рассыпались по плечам. – Пустяки, вас просто одолел голод. Вот держите, ешьте и пейте! Гаэтан протянул ей миску, наполненную душистым, теплым и пенистым молоком. Зефирина выпила с жадностью. Чувствуя на себе нежный взгляд юноши, она проглотила булку ячменного хлеба и кусок сала, подаренные добрым крестьянином. – Теперь лучше? – спросил Гаэтан. – Да, гораздо лучше… – Знаете, иногда вы меня даже немного пугаете… – прошептал Гаэтан, усаживаясь рядом с девушкой. Зефирина только что закончила пиршество, съев все до последней крошки. – Пугаю? Она сидела, открыв рот и глядя на юношу с оторопелым видом, так что выглядела почти смешной. Гаэтан кивнул: – Да, черт побери! Вы слишком ученая, слишком умная для меня, Зефи… Я… как вам сказать… Я чувствую себя совершенно потерянным рядом с вами. С тех пор, как я вас знаю… В особенности с тех пор, как я держал вас в объятиях… Я мечтаю о вас! Но я всего лишь младший сын, мне предназначена военная карьера, я недостоин вас, я только и умею, что читать да писать, я не моралист и не филолог, не математик и не… – О, Гаэтан! Гаэтан!.. – простонала Зефирина. Изо всей его речи она уловила лишь одну фразу: «Я мечтаю о вас». Губы у нее тряслись, она дрожала всем телом. Захмелев от счастья, она вдруг поняла, насколько опасно быть столь занудно-ученой с сильным полом. Это был урок, который следовало запомнить. – Бог мой, как вы ошибаетесь, Гаэтан! – возразила Зефирина со слезами в голосе. – Я так одинока, так слаба. Это я нуждаюсь в вас, в вашей силе… Я нуждаюсь в вашем покровительстве. О, Гаэтан! Гаэтан! Зефирине хотелось прокричать о своей любви на весь лес. Она подняла на юношу сияющие глаза. Гаэтан наклонился. Его губы коснулись волос Зефирины, ласково притронулись к ее вискам, быстро пробежали вниз по нежной шейке. Его крепкие руки любовно сжали ее талию. Она прижалась к горячей мужской груди… Под звонкое щелканье дрозда молодые люди обменялись своим вторым поцелуем – немного неловким, очень целомудренным, чистым поцелуем двух влюбленных подростков… Цветы диких абрикосов нежились под лучами послеполуденного солнца. Гаэтан поднялся, ослепленный, рассматривал чудесное маленькое личико, обращенное к нему. – С этой минуты вы, Зефи, самое дорогое, что у меня есть. Клянусь своей жизнью! – Я люблю вас, Гаэтан! Я хочу быть вашей женой! Прерывающимся от волнения голосом Зефирина поведала юноше о событиях, вызвавших ее бегство, о причинах, заставивших ее искать встречи с королем. – Я доставлю вас к нему, душенька моя, – пообещал Гаэтан. – Я никогда особенно не любил вашу мачеху, а еще менее – ее отпрыска. Ничего не бойтесь, мы не оставим вас в их когтях. Словно желая скрепить печатью свои слова, Гаэтан поцеловал Зефирину в лоб. Он уже собирался выпрямиться, когда Зефирина непроизвольным движением обвила руками его шею. Истосковавшись по любви, внезапно найдя счастье на груди этого юноши, она вновь искала губами его рот. В совершенной невинности своей она закинула назад голову, раскрыла губы, готовая к бесконечному поцелую. Гаэтан наклонился, чтобы поцеловать ее в уголки губ. Она задрожала, затрепетала в его объятиях, и ей вдруг захотелось чтобы он укусил ее, впился в нее зубами, был с ней резок, был груб. Гаэтан побледнел. Высвободившись из ее объятий, он сделал несколько шагов в сторону. Когда он вернулся к Зефирине, ее восхитительные зеленые глаза были залиты слезами. – Зефирина, что случилось? – воскликнул юноша, встав на одно колено рядом с ней. Зефирина замотала своей рыжей головкой: – Вы меня не любите, Гаэтан! – Я вас не люблю? – Нет… вы бежите от меня! Гаэтан сжал кулаки. – Я так вас люблю, Зефи… что буду относиться к вам с почтением, не притронусь даже поцелуем, пока вы не станете моей женой! – Вы будете относиться ко мне с почтением и не притронетесь ко мне? Ничего не понимаю из того, что вы говорите. Нет ничего неуважительного в том, что вы меня поцелуете, если любите меня! Она вдруг обнаружила в Гаэтане нечто непонятное. Ей просто хотелось прижаться к нему, и она не видела, в чем же состоит затруднение. Гаэтан ласково погладил шелковистую щечку. Очень сильный в свои семнадцать лет, он внезапно ощутил чувство превосходства: он был молодым мощным самцом, взявшим под свое покровительство невинную лань. – Вы очень ученая во многих вещах, душечка моя, но не играйте с огнем, или я за себя не ручаюсь. Я люблю вас и сейчас докажу это. Лишь последние слова несколько успокоили Зефирину. А Гаэтан вытащил кинжал, который носил с собой. Быстрым движением он провел острием клинка по своей руке, оставив на ней короткий надрез. – Вы не боитесь, Зефи? – спросил юноша. – Нет… – ответила Зефирина. На самом же деле она пришла в ужас, однако закрыла глаза и храбро протянула маленький кулачок. Когда она вновь открыла глаза, на ее молочно-белой коже поблескивало несколько капель крови. – Клянусь Святым Граалем Иосифа Аримафейского в том, что я, как достойный рыцарь и благородный дворянин, клянусь своей кровью и кровью дамы – властительницы моих дум, что буду защищать ее от врагов, что буду почитать ее и беречь до самого дня нашей свадьбы… И что бы ни случилось, клянусь перед Богом и перед людьми никого не брать в супруги кроме нее! Гаэтан посмотрел на Зефирину. Теперь настала ее очередь произнести клятву. Она уверенно повторила: – Клянусь Святым Граалем Иосифа Аримафейского в том, что я, как девушка благородного происхождения, клянусь своей кровью и кровью рыцаря – властителя моих дум, что скорее погибну, чем буду принадлежать другому, что буду ему перед Богом и людьми нежной и верной супругой, даже после смерти! Молодые люди смотрели друг на друга, слишком взволнованные, чтобы говорить. Они держались за руки, с которых стекала соединявшая их кровь. Бросив быстрый взгляд на примитивные солнечные часы, укрепленные на стене лачуги, Гаэтан первым пришел в себя. – Дорогая, нам предстоит еще два часа пути, чтобы добраться до цели. В дороге мы решим, как нам следует себя вести…ГЛАВА XIII ТАЙНА ДЖОКОНДЫ
– Что я могу сделать для вас, юный девица? Задав этот вопрос с каким-то певучим акцентом, старик обтер измазанные в гончарной глине руки о свою длинную белую бороду. Зефирина соскочила с Красавчика. Уже опускались сумерки, когда они с Гаэтаном добрались до замка Кло-Люсэ. Молодые люди выработали план поведения: Гаэтан будет ждать Зефирину в хижине лесника на опушке парка, а девушка отправится к королю одна, если, конечно, монарх все еще был здесь. – Я Зефирина де Багатель, и я прошу вас извинить меня, мэтр Леонардо да Винчи. Слегка оробевшая Зефирина узнала великого художника, который сам только что открыл ей дверь. – Господин Клеман Маро уверил меня в том, что его величество заедет повидать вас сегодня вечером и… – Ну да! – прервал ее Леонардо да Винчи, – вот какая прекразный позланниц… Король еще не приехал… Входьите, юный дзевиц, входьите… Я есть очьярован таким кразивым лицом… Не поднимаясь на крыльцо, Зефирина вслед за мэтром Леонардо вошла в нижнее помещение замка, выходившее прямо во двор. Картины, скульптуры, рисунки, макеты, наброски людей-птиц или пушек, изрыгавших огонь и железо, загромождали эту большую комнату, превращенную в мастерскую. – Садитесь… и в свою очередь извиньите менья, очаровательная гозтья, я очень торопльюсь закончить эту картину, так как мнье осталось не так уж дольго джить! Все это было сказано очень веселым тоном, в котором не звучало никакой грусти по поводу собственной участи. Забыв о Зефирине, старый художник вновь склонился над своим полотном. Внезапно почувствовав себя очень усталой после долгой верховой езды, Зефирина расположилась в одном из кресел. Равномерное движение тяжелого маятника стенных часов убаюкивало ее. Она видела Леонардо да Винчи со спины. Жестами, которые с возрастом стали замедленными, он заканчивал портрет женщины с черными волосами, прикрытыми тонкой мантильей. Портрет поразил Зефирину. Она заметила, что в загадочном взоре женщины на полотне таилось несомненное сходство с черными глазами «этой Сан-Сальвадор». Напротив, широкая улыбка, открывавшая неровные зубы, совершенно не была похожа на улыбку доньи Гермины. Где-то вдали пробило пол-седьмого. Гаэтан, должно быть, волнуется, сидя в своем убежище, Гаэтан… Гаэтан… С улыбкой на устах, Зефирина не могла удержаться, чтобы в глубине души не повторить имя юноши. Она улыбалась своему будущему, своей клятве и огромной тайне любви. Вдруг Леонардо еле слышно произнес: – Не двигайтесь, девушка, радьи Бога, не двигайтесь, не жевелитесь более… Вот она, моя улыбка… та самая, что я изкал всьегда… Настоящая улыбка льюбви… Вот он, мой жедевр… Самое прекрасное создание в мьире… Я взьял лоб у Лоренцо Великолепного… глаза – у прекразной кньягини Фарнелло… нос – у Монны Лизы… руки – у моего злавного Робертино… благодарья вашей улыбке, я скоро закончу этот жедевр красоты… Ах, Бога ради, улыбайтесь… улыбайтесь… Вот так! Вы божественная… божественная… «Он совершенно сумасшедший, – подумала Зефирина, застыв с величественной улыбкой на лице. – Но что это он там себе бормочет в бороду? Этот портрет – портрет многих людей, мужчин и женщин, всех разом? Ведь это же грех против природы!.. О, в конце концов она выглядит довольно посредственной, эта его кумушка!» Не замечая нарастающего недовольства своей натурщицы, Леонардо да Винчи все более и более приходил в возбуждение: – Моя Джоконда… Моя Джоконда будет бессмертной! Звук копыт множества лошадей раздался на усыпанном гравием дворе. – Мой дорогой отец! Где вы? Это был голос короля. У Зефирины хватило времени только на то, чтобы опуститься в глубоком реверансе. Франциск I вошел в нижнюю комнату замка, весь в пыли после удачной охоты. «Он не очень постарел, – подумала непочтительная девица. – Интересно, узнает ли он меня!» С тем очарованием, Что было ему столь свойственно, король прижал гениального художника к сердцу. – Смотрите-ка, мой добрый отец… вы изменили улыбку «нашей» Джоконды! – сразу же сказал Франциск I, приблизившись к полотну. Зефирина ожидала королевского позволения, чтобы выпрямиться. Опустив голову, но подняв глаза, она находилась в положении шатком и неустойчивом и украдкой наблюдала за поведением короля. Тот, казалось, даже не заметил ее присутствия. Леонардо да Винчи, в длинном одеянии по моде прошлого столетия, подошел к стоящему перед картиной королю. – Я никогда не забуду, что вы зир, зпасая меня от нищеты, купили эту картину. Мне кажется, я правильно здьелал, убрав смешливое выражение лица… чтобы заменить его на самую таинственную из улыбок! – Клянусь бородой самого папы римского, вы были правы, мой добрый мэтр, ибо своей кистью вы передали самое таинственное выражение лица истинной женщины, опьяняющее и волнующее… Черт побери, эта улыбка способна свести с ума несчастных мужчин! – Пусть ваше величество соблаговолит обернуться, и вы увидите саму модель во плоти! – сказал Леонардо да Винчи, воодушевленный восторгом короля. Едва услышав слова старика, Франциск I резко повернулся на каблуках своих забрызганных грязью сапог. Ощущая на себе взгляд короля, Зефирина уткнулась взглядом в широкие черные и белые плиты пола. Вся ее самоуверенность внезапно улетучилась. – Поднимитесь, мадемуазель! – сказал Франциск I. Он протянул длинную руку без перчатки. Ни жива ни мертва, Зефирина оперлась на нее. Она злилась сама на себя за это замешательство. «Какая я смешная. Король или нет, он такой же человек, как все другие!» – подумала она, чтобы приободрить себя. – Ей-богу, мой славный мэтр, где вы нашли это юное чудо? Какие замечательные пропорции… красивое телосложение и прекрасная грудь! – восклицал король. «Можно подумать, что он говорит о лошади!» – потихоньку, но с нарастающим протестом, шепнула себе Зефирина, тогда как король громогласно продолжал: – Какой чудесный цвет волос: рыжий, золотистый… Это настоящая венецианская блондинка. Это несомненно, мой добрый мэтр… Цвет моей Саламандры!.. Ну-ка, улыбнитесь, дитя мое. Ах, клянусь честью, какие прелестные зубы! «Так и есть, он их сейчас начнет пересчитывать!» – Смотри-ка… Она заговорила, хоть и не языком! Какой красноречивый взгляд… Клянусь честью, никогда не видел столь прекрасных зеленых глаз! – вскричал восхищенный король. – О, нет, сир, ваше величество знает мои глаза! – услышала Зефирина собственный голос. – Прошу прощения? – Вашему величеству они очень хорошо знакомы, так же, как и мое имя… вот уже очень давно! Действительно, Зефирина не была создана для роли пассивного наблюдателя. Едва она открыла рот, чтобы заговорить, как к ней вновь вернулась живость движений и ума. – Уже очень давно… Так я что же, их забыл?.. Что за шутки! Учитывая ваш возраст, несомненно, желаете представиться при помощи шарады, барышня? Король, казалось, был наполовину очарован и наполовину озадачен этой девчонкой. Слегка встревоженный таким оборотом дел, Леонардо да Винчи хотел вмешаться. Франциск знаком велел ему молчать, а Зефирина начала перечислять: мой первый слог в древности был приятным и легким ветром с Запада… Мой второй слог inevitabilis[20] продолжает первый… Мой третий слог – это пустяк или безделица. А целое составляет для самого прекрасного принца в мире загадку моего имени! – закончила Зефирина, сделав легкий реверанс. – Хм!.. Черт бы побрал эту юную образованную девицу! – сказал король, польщенный последней фразой… – Посмотрим, находимся ли мы на высоте ее разума… Мой первый слог – это Зефир, приятный и легкий ветерок с Запада… Мой второй слог me eritabitis неизбежно является продолжением первого… Хм… Зефир… ина… Мой третий слог – Багатель! – Боже в небесах! Зефирина де Багатель! Если бы я знал… Плутовка… Ты все такая же дерзкая резонерка, к тому же еще и ученая, но, клянусь моей душой, ты стала настоящей красавицей. Дай-ка мне на тебя посмотреть… хм… какая досада, что я узнал тебя слишком юной! У меня будет ощущение, что я – совратитель молоденьких девушек. Или же мне потребуется время, чтобы привыкнуть… Но что, черт побери, ты тут делаешь? – спросил король внезапно, погладив привычным жестом свою каштановую бороду. – Сир, я приехала, чтобы броситься вам в ноги, чтобы умолять вас не отдавать меня гнусному созданию, которое я ненавижу! С этими словами Зефирина упала к ногам короля. – Что ты такое говоришь? Король поднял девушку, увлек к креслу и усадил в него, а сам устроился, усевшись верхом на резную деревянную скамеечку, сказав просто: – Я твой друг. Говори, Зефирина. Внезапно задохнувшись, она бросилась, как говорится, в омут с головой: кричала про свое горе, и ее голос прерывался явно слышимыми рыданиями. Она уже вполне управляла своими чувствами, умела соизмерять свои притязания и находить верный тон. Ей удалось разжалобить Франциска I, и она изложила свое дело так, что заинтриговала короля, который, однако, был уже пресыщен женской любовью. – Сир… Мой король… Самый благородный, красивый и могущественный во всем христианском мире! Я заклинаю вас не поступать со мной, как поступил бы какой-нибудь Карл V, бесчувственный и жестокий. Не выдавайте меня замуж за Рикардо де Сан-Сальвадора! – закончила Зефирина в каком-то порыве, где искренность смешивалась с плутовством. – Хм… Я вижу, ты хорошая девушка и совсем не любишь императора… Клянусь честью, ты правильно рассуждаешь и у тебя прекрасный взгляд на вещи, – сказал король, очарованный, что слышит дурной отзыв о своем злейшем враге. – Ну-ка, осуши свои слезы, Зефирина. Я думал, что сделаю тебе приятное, дав мужа, но если ты не можешь выносить этого юношу, что же… К тому же у тебя впереди достаточно времени, чтобы выйти замуж. Одна только маркиза де Багатель будет не довольна… – Тем лучше! – бросила Зефирина свирепо. Франциск I расхохотался, потирая руки. Его лукавые миндалевидные глаза блестели от удовольствия. Теперь он, казалось, был не королем Франции, а просто молодым человеком, веселым, беспечным и непосредственным – тридцатилетним мальчишкой, что приготовился сыграть славную шутку! – Бедная мачеха! Так ты ее до сих пор ненавидишь! Ба! Прекрасная саламандра… не кусай ее слишком, твою мачеху. Ну ладно, что сказано, то сказано, Зефирина, у тебя есть мое королевское слово… Оставайся в девицах! При этих словах Зефирина не смогла сдержать дрожь. Своими тонкими пальцами Франциск поглаживал ее рыжие кудри. Как пчела, собирающая мед с цветка, он коснулся розового рта, шелковистой кожи, нежно приподнял подбородок. «Он – король… У него есть право на все!» – думала Зефирина с бьющимся сердцем. «Она, конечно, девственница и, кажется, еще не представляет могущества своей красоты и своего ума… Она взволнована… Я уверен, что ее тело еще не знало ласки мужчины… Ну ладно, я все-таки не Жиль де Рэ. Подождем еще год или два. Положим, год… даже полгода, этого будет достаточно, и тогда именно я научу настоящей улыбке любви это юное чудо». К большому облегчению Зефирины, Франциск I перестал разглядывать ее так, словно хотел прочитать ее мысли. Он выпрямился, сделал несколько шагов по направлению к картине, которую Леонардо да Винчи тщательно отделывал последними мазками своей искусной кисти. Король внимательно посмотрел на загадочную улыбку таинственного создания. Внезапно его словно поразила какая-то неожиданная мысль, и он повернулся к Зефирине: – Если, конечно, у тебя нет какой-нибудь любовной интрижки в голове, Зефирина, и ты не остановила уже выбор на каком-нибудь красивом щеголе? – спросил, став вдруг подозрительным Франциск I. Зефирина раскрыла рот, готовая уже признаться в своей клятве, в своей страсти к Гаэтану. Внезапно проснувшийся женский инстинкт подсказал ей, что она ничего не выиграет, если станет говорить об одном мужчине с другим мужчиной, пусть даже последний и будет королем. Не желая лгать, она выбрала для ответа фразу с двойным смыслом: – Не станет же ваше величество сомневаться, что у меня впереди целая жизнь, дабы даровать любовь избраннику моего сердца! Подкрепив свои слова грациозным поклоном, хитрая девушка наблюдала за реакцией короля, и тот не заставил себя ждать: – Клянусь честью, ты совершенно права! – воскликнул Франциск I, восхищенный ответом, который понял буквально. – Подождем, ну скажем, несколько месяцев… Ты умная девушка, и это мне нравится… Теперь уже поздно, я прикажу проводить тебя! Эй!.. Факелов! Тотчас же на зов короля прибежал оруженосец. Зефирина быстро опустила ресницы, чтобы ее не выдал блеск глаз. Это был Гаэтан, который, несомненно, потеряв терпение в своем тайнике, ловко пробрался в ряды королевской свиты. – А, Ронсар! – сказал король, не удивившись присутствию юноши. – Возьми с собой двоих доезжачих, я доверяю тебе мадемуазель де Багатель. Довезешь ее до порога дома… Возвращайся за моими приказаниями в Амбуаз. Нам нужен гонец, который без промедления отправится в Рим, дабы отвезти наше послание его святейшеству папе… Не заметив, каким долгим взглядом обменялись Зефирина и Гаэтан, король галантно помог девушке накинуть на плечи плащ, а затем Зефирина распрощалась с мэтром Леонардо. – Прощайте, моя прекразная улыбка, и храните взегда ваши загадки зфинкса! Старый художник сопроводил свои слова взглядом, исполненным симпатии к Зефирине и Гаэтану. Девушка прижала пальчик к губам, не сомневаясь, что Леонардо да Винчи все понял. Будучи уже светской дамой, она нашла совершенно естественным, что сам король проводил ее до двора замка. При свете факелов около сорока всадников ожидало распоряжений монарха. Ржание лошадей и лай собак, утомленных охотой, смешивались с криками соколов, сидевших под черными колпачками. Внезапно ужасное предчувствие охватило Зефирину, и она не смогла сдержать дрожи… Как благородный дворянин, утонченный до кончиков ногтей, Франциск I, отстранив Гаэтана, сам помог Зефирине сесть в седло. Собственноручно придерживая повод Красавчика, он произнес очень ласково: – До скорой встречи, мадемуазель Зефирина, и не забудьте сказать вашему отцу, что получили наше приглашение на свидание века!ГЛАВА XIV С. С
Зефирина и Гаэтан, смущенные присутствием факельщиков, доскакали до поместья Багатель, не сказав почти ни слова друг другу, кроме фразы «Все идет хорошо», которую прошептала девушка. Когда они прибыли к воротам замка, чья-то тень метнулась от кустов. Это был Бастьен, который, казалось, ждал уже давно. – Барышня Зефирина, страшное несчастье… это… это… – Быстро говори, что случилось? – нетерпеливо спросила Зефирина. – Тетушка Пелажи, – прошептал юноша. Он был очень расстроен, и при свете факелов было видно, какое у него бледное лицо. – …Какая-то внезапная болезнь… Не слушая его более, Зефирина в сопровождении Гаэтана пришпорила коня, подлетев к самому крыльцу. Едва Красавчик остановился, она соскочила на каменные плиты ступеней и бегом бросилась в вестибюль. Ее тут же встретил мелодичный голос доньи Гермины: – Где вы были, мое дорогое дитя… мы вас искали повсюду! Не обращая внимания на «эту Сан-Сальвадор», Зефирина направилась к своему отцу, который спускался по парадной лестнице. – Я была с королем, отец… – победоносным тоном бросила Зефирина. – …Где Пела? Как она себя чувствует? – Капеллан только что прочел над ней молитвы! – Роже де Багатель воздел руки вверх в знак полного бессилия. – Молитвы!.. – запинаясь, пробормотала Зефирина. – Увы, да. Мы боимся, что это эпидемия. Надо закрыть дом, Зефирина. Пела умерла от той же скоротечной болезни, что и ваша бедная мама. – Это она ее убила! Зефирина рычала, указывая пальцем на донью Гермину. – Боже мой, что такое вы говорите? Роже де Багатель бросился к жене. Услышав такое ужасное обвинение, маркиза упала в обморок. – Зараза… Не ходите туда, барышня Зефирина! – закричал Ла Дусер. Ничего не слушая, Зефирина бросилась, прыгая через несколько ступенек, по черной лестнице в комнату на чердаке, где жила ее кормилица. Под самой крышей она столкнулась с немой служанкой, выходившей из бедной комнатенки Пелажи. Зефирина успела заметить слезы, блестевшие в глазах обездоленной девушки. Теперь ее уродство уже не вызывало отвращения у Зефирины. – О, Беатриса! Вы тоже ее любили! – прошептала Зефирина, тронутая этим горем. – Да, барышня! – словно бы прошелестело в ответ. Немая уже спускалась по лестнице. Думая, что собственное горе сыграло с ней дурную шутку, Зефирина проникла в мансарду. При свете свечей тело Пелажи, у которого никто не осмелился находиться, лежало, успокоившись навсегда. – Пела… Пела… что они с тобой сделали? – простонала Зефирина, увидев искаженное лицо и покрытую странными гнойниками грудь своей кормилицы. Казалось, что Пелажи, лежавшая с полуоткрытым, как бы застывшим в гримасе ужаса ртом, хотела даже из-за порога смерти предупредить Зефирину о страшной опасности. – Что ты мне хотела сказать вчера вечером? О, моя бедная Пела… они хотели помешать тебе говорить! – всхлипывала Зефирина. Не опасаясь заразиться, она целовала и судорожно сжимала руки той, что так лелеяла ее. Внезапно Зефирина вздрогнула. Какое-то блестящее зерно выпало из застывших пальцев Пелажи. Хотя Зефирина почти ослепла от слез, она все же взяла эту маленькую штучку и подняла повыше, чтобы рассмотреть при свете свечей. Это был рубин, оправленный в золотой кружок – безобидный брелок, который мог бы служить уликой какого-нибудь преступления, если таковое было совершено… Зефирина быстро спрятала камень в платок, который тут же сунула себе за корсаж. – Давайте побыстрее, моя маленькая Зефи, господин маркиз взбешен, он очень сердится на вас! Это был храбрый Ла Дусер. Более смелый, чем все остальные, он пришел за девушкой. Когда они спускались на первый этаж, гигант рассказал Зефирине, что произошло: когда в замке все проснулись, Пелажи, уже очень больная, не смогла подняться. Несмотря на то что маркиз призвал к ее изголовью своего собственного врача, Пелажи умерла к вечеру, не приходя в сознание. «Я чувствовала, что произойдет несчастье», – подумала Зефирина, утирая слезы, заливавшие ей щеки. – Так вот, барышня Зефирина, не надо вам кидать крысу в этот пряный отвар… Клянусь тремя волосками Святого Фирмена, она на небесах, наша госпожа Пелажи… Слово чести Ла Дусера, очень печально видеть кончину других… тем более, если подозревают эпидемию! Зефирина посмотрела на Ла Дусера. Оруженосец, казалось, был совершенно искренен и верил в то, что Пелажи умерла естественной смертью. С благоразумием и хладнокровием, удивительным для молодой девушки, Зефирина обдумывала сложившееся положение: ее бедная Пелажи умерла, не открыв своих подозрений. Что, в сущности, она знала? Кормилица сказала либо слишком много, либо слишком мало. Зефирина чувствовала, что не должна позволять себе предаваться горю и что гнев – плохой советчик. Лучшая ученица брата Франсуа совершила большую ошибку, даже глупость, публично обвинив свою мачеху. Если мачеха была опасной преступницей, то Зефирина должна была действовать крайне осторожно, чтобы сорвать с нее маску. Если же, напротив, «эта Сан-Сальвадор» была всего лишь мачехой, не причастной к смерти Пелажи, а только желающей устроить брак с богатой невестой для своего отпрыска, лишенного всякого состояния, то Зефирина знала, что уже смогла парировать удар. Обдумав все это, Зефирина придала подобающее выражение своему лицу, чтобы вновь появиться в вестибюле. Роже де Багатель, белый от ярости, встретил ее такими словами: – Вы произнесли ужасное обвинение! Я приказываю вам, мадемуазель, с раскаянием просить прощения, или я никогда в жизни не пожелаю вас больше видеть! Зная свою дочь, маркиз приготовился к взрыву негодования или к неистовому сопротивлению, поэтому не смог скрыть удивления. Кроткая, как ягненок, Зефирина подошла к диванчику, на котором приходила в себя донья Гермина. – Простите меня, матушка, – сказала Зефирина громким и внятным голосом… – Я не знала, что говорю. Я только что помолилась над моей бедной Пелажи. Хотя я и не лекарь, но вполне осознала, что, несомненно, речь идет об обычной злокачественной лихорадке. Черные глаза доньи Гермины пытливо вглядывались в лицо Зефирины, чтобы прочесть на нем истину. Зефирина начала свою речь, потупясь, с выражением точно рассчитанной невинности. Теперь она подняла глаза. Какое-то короткое мгновение мачеха и падчерица смотрели друг на друга, стараясь угадать чувства друг друга. – Охотно прощаю вас, бедное дитя, и искренне соболезную вашему горю. Мы все очень любили нашу добрую Пелажи… Так давайте просто вознесем молитвы, чтобы десница Господня не поразила наш дом и нашу страну, словно бич Божий! Донья Гермина была великолепна в своем достоинстве и в своем сдержанном горе. «У меня нет никаких доказательств… Уж не злобное ли я чудовище, что обвиняю эту женщину… жену моего отца!» – подумала Зефирина. – Хорошо, пойдите соберите ваши вещи, Зефирина. Вы познакомитесь с местами, где родились. На рассвете мы уезжаем в Сен-Савен, чтобы дышать там более чистым воздухом! – сказал Роже де Багатель, явно испытав облегчение от того, что добрые отношения между женой и дочерью были восстановлены. Лакеи, служанки и девушки с кухни, как и хозяева, торопившиеся покинуть эти места, отравленные эпидемией, уже сносили по лестнице короба, закрывали сундуки, убирали посуду и драпировки, которые понадобятся в старом замке, где никто не жил последние пятнадцать лет. Не сказав ни слова, Зефирина направилась к большой лестнице, ведущей в ее апартаменты. Скорчившись на одной из ступенек, Рикардо загораживал ей дорогу. С безвольным ртом и плутоватым взглядом, юный Сан-Сальвадор крутил одной рукой свое вечное бильбоке. Зефирина колебалась: начинать ли схватку. Она бросила быстрый взгляд во двор: пламя факелов говорило о том, что Гаэтан, не решаясь проникнуть в дом, все еще ждал от нее сигнала. – Ну же, Рикардо, проявите любезность, отойдите, чтобы пропустить нашу дорогую Зефирину. Внезапно оживившись, маркиза встала между падчерицей и своим отпрыском. Учтивым движением своей тонкой белой кисти со слегка скрюченными пальцами, она ласкала руку Зефирины. А та вдыхала подавляющий волю запах мачехи. При соприкосновении с доньей Герминой воля Зефирины ослабевала. Ей хотелось положить свою рыжую голову на это материнское плечо, хотелось подчиниться, прекратить борьбу маленькой взбунтовавшейся девочки, дабы передать свою судьбу в руки этой любящей и нежной женщины… – Моя дорогая, я так счастлива, что мы вновь ладим друг с другом. Если бы вы знали, как меня вдохновляет мысль о вашем счастье. Желая сохранить дорогие вам воспоминания о вашей дорогой маме в Сен-Савене, я распорядилась, чтобы вам приготовили самые красивые апартаменты замка, те самые, которые я хотела бы занять вместе с вашим отцом… Убедительные слова подействовали на нервы Зефирины, как волшебный напиток. Она забыла про свою горечь и про свои подозрения. Придя в умиление от тонкости и деликатности жены, Роже де Багатель поцеловал ей пальцы. – Спасибо, Гермина… за чудесное внимание к этой юной взбалмошной девице, которая, разумеется, не стоит ваших забот! – Это так естественно, Роже. Я люблю нашу Зефирину, даже если она не всегда отвечает мне тем же! Высказав этот кроткий замаскированный упрек, донья Гермина повлекла девушку к лестнице. Побежденная Зефирина была готова отступить и согласиться на все, но тут взгляд ее упал на тонкую и нервную руку доньи Гермины. Простой золотой браслет в виде двух переплетенных змей обнимал ее запястье. Зефирина не могла оторвать глаз от двух С, образованных змеями… Сен-Савен… Сан-Сальвадор… С.С. В первый раз совпадение начальных букв, этих имен поразило воспаленный разум Зефирины. Как же она не подумала об этом раньше? Но что особенно привлекло ее внимание и заставило ее задрожать, так это глаза змей… Они были сделаны из рубинов, оправленных в драгоценный металл… Однако… одного камня не хватало… не хватало рубина точно такого же размера, что она обнаружила в застывшей руке Пелажи. – Вам нравится мой браслет, дорогая Зефирина? – спросила донья Гермина. – Я охотно подарю его вам в знак нашей дружбы. Не разделяя слово и дело, донья Гермина сняла браслет, чтобы надеть его на руку Зефирины. Девушка отступила назад, бледная как смерть. – Благодарю вас, матушка, но вы мне его подарите, если когда-нибудь… я стану вам дважды дочерью! Удивленная этими словами, донья Гермина пристально посмотрела на падчерицу. «Уехать… Уехать… Бежать…», – какой-то животный страх охватил Зефирину. Она ни за что не должнабыла позволить увлечь себя в ловушку Сен-Савена или она, как ее мать Коризанда, никогда не выйдет живой из замка ее предков. – Я бы хотела, чтобы вы мне разрешили, отец, пожить некоторое время у моей подруги Луизы де Ронсар, чтобы я могла лучше приготовиться к тому, что меня ожидает! Зефирина говорила, не глядя на донью Гермину. – А ведь правда, вы же говорили мне, что встретили короля, Зефирина? – спросил заинтригованный Роже де Багатель. – Да, совершенно случайно, отец. Я заблудилась в лесу, куда имела неосторожность отправиться без Ла Дусера… Ловко смешав правду и ложь, Зефирина поставила Роже де Багателя в известность о королевском приглашении, утаив все, что ему предшествовало. – Его величество лично приглашает вас присутствовать при свидании с королем Англии? – воскликнул Роже. – Это большая честь, дочь моя, и я надеюсь, вы отдаете себе в этом отчет. – Да, отец, и я знаю, что обязана этой Милостью вашей доблести на полях сражений, – искусно вставила Зефирина. Выслушав этот комплимент, достоинством которого была искренность, Роже де Багатель удовлетворенно кивнул головой. – Хорошо, Зефи, я вижу, вы стали более мудрой и благоразумной. Так поезжайте же к своей подруге Луизе, если вам этого хочется. Я пошлю туда торговцев сукном, портных и ювелиров, чтобы вы могли с честью представлять наш род. Вы поедете завтра утром, – кивнул Роже де Багатель, довольный тем, как все устроилось – ведь это могло, наконец, вернуть мир в его семью. – Если вы позволите, отец, я бы предпочла воспользоваться услугами факельщиков, которых король предоставил в мое распоряжение, и уехать сегодня же вечером. – К чему такая спешка, дорогая Зефирина, можно подумать, что вы бежите от нас! – запротестовала донья Гермина. – Я далека от этой мысли, матушка, но очень боюсь эпидемии! Отвечая таким образом, Зефирина смотрела мачехе прямо в глаза. Никакое другое чувство, кроме материнской заботы, не отражалось на прекрасном лице маркизы; однако Роже де Багатель, предчувствуя новое столкновение между женой и дочерью, поспешно вмешался: – Будет лучше, Гермина, если Зефирина отправится сегодня вечером. Ла Дусер, ты останешься при барышне! – приказал маркиз. Пока опьяненная победой Зефирина кидала вперемежку свои вещи в резной деревянный сундук, Ла Дусер ожидал у порога, когда его хозяйка закончит сборы, чтобы снести вниз ее багаж. Внезапно Зефирина показала на скамеечку. – Ла Дусер, я хотела бы взять с собой эту статую. Не пытаясь понять этот каприз молодой девушки, гигант повиновался. Скамейка застонала под его весом. Ла Дусер схватил за цоколь статуи рукой, наделенной силой самого Геркулеса. Но статуя не поддавалась, словно была вмурована в стену. Немного раздраженный, гигант принужден был пустить в ход и вторую руку, чтобы сдвинуть ее с места. Крякнув, он резко дернул и вырвал часть кладки; полая статуя рассыпалась у него в руках. – Вот так странная чертовщина! – проворчал изумленный силач. – Отойди-ка! – приказала Зефирина. Взяв свечу, она ловко вскарабкалась наверх. За статуей, как и говорила Пелажи, открывалась чернота пустого кабинета. Потрескивающее пламя сальной свечи отбрасывало дрожащие отблески. Зефирина с трудом могла различить что-либо в этих потемках. Однако, когда глаза ее привыкли к полумраку, она разглядела длинный стол, уставленный посудой странной формы. Она никогда не видела ничего подобного. Одним из этих предметов был сосуд с длинным и узким изогнутым горлом. Зефирина медленно слезла вниз. Из этого тайника «они» наверняка слышали, какие советы давала ей Пелажи, и, видя, какую угрозу представляют ее предостережения, приняли решение устранить несчастную домоправительницу… Чего только нельзя свалить на мышей в гардеробе! Теперь Зефирина знала, что тогда ночью ей это все не приснилось. Однако, кроме рубина, у нее в руках не было никаких доказательств для того, чтобы безусловно обвинить донью Гермину. Прибытие Зефирины в поздний час в замок Ронсаров было встречено криками радости. До самого рассвета Зефирина шепталась со своей подругой Луизой. Излив все свои подозрения против мачехи, оплакав Пелажи и рассказав обо всех событиях дня, Зефирина не смогла отказать себе в удовольствии и посвятила Луизу в тайну клятвы, которой они обменялись с Гаэтаном. Луиза была для Зефирины идеальной слушательницей. Она то дрожала, то вскрикивала, то приходила в ужас, то впадала в полный восторг; обожая подругу и брата, она поклялась хранить молчание, искренне радуясь, что в один прекрасный день Зефирина станет ее невесткой. Впервые за долгое время Зефирина быстро заснула, и у нее не было страшных кошмаров, несмотря на горе, которое она испытывала из-за смерти Пелажи. На следующее утро она проснулась очень поздно. Гаэтан уже уехал. Очаровательный и скромный юноша, подсунул ей под дверь записку: «Моя Зефи… зная что вы под адной крышей самной, я незмог уснут… я буду скакат в Рим и думат толко о вас. Будте щасливы в моей симье. Ваш Гаэтан». Прядь каштановых волос выпала из свитка пергамента. Оставшись равнодушной к орфографическим ошибкам, которыми изобиловало письмо, Зефирина страстно поцеловала завиток, который Гаэтан догадался срезать со своей обожаемой головы, чтобы оставить ей память о себе. Она сожалела лишь о том, что не поступила так же. Одна из служанок Ронсаров прервала ее восторги, постучав в дверь: – Мадемуазель де Багатель, один из ваших сервов ждет вас во дворе! Зефирина торопливо надела жакетик и юбку цвета индиго. Это был Бастьен, приведший Красавчика, который вчера был слишком утомлен, чтобы на нем можно было ехать. – Поместье Багатель опустело? – спросила Зефирина. – Почти, барышня. Все уехали в Сен-Савен. Я один остался, чтобы присутствовать завтра на похоронах тети Пелажи. Когда юноша произносил последние слова, голос его задрожал. Он быстро взял себя в руки и прошептал: – Что я должен сделать с карликом? – Господи, я совсем про него забыла! Где он? Оглянувшись вокруг, Зефирина увлекла Бастьена на задворки, где находились служебные пристройки, чтобы поговорить спокойно. – Я держал его связанным в соломе! Вот что я у него нашел. Юноша вытащил из-за пазухи рабочей блузы свернутую в комок тряпку, и Зефирина тотчас же узнала одну из своих рубашек, а именно ту самую, которую она спрятала за статуей Святого Михаила. Бастьен осторожно развернул тонкую ткань. Длинная цепь, разделенная пластинами, усыпанными драгоценными камнями, блестела у него на ладони. – Карлик поклялся мне, что это сокровище принадлежит тебе, Зефи. Это правда? – Если так угодно! – прошептала Зефирина, удостоверившись в том, что это действительно медальон, «подаренный» старухой Крапот. Сомневаться было невозможно! Изумруд размером с орех был зажат в когтях отлитого из золота орла. – Ладно, – вновь заговорила Зефирина, выдержав вопросительный взгляд юноши, – скажем так, Каролюс действительно украл его у меня! – Хорошо, теперь я спокоен, Зефи, потому что это казалось мне странным. Когда я захотел вернуть украшение маркизе де Багатель, у Каролюса был страшно перепуганный вид. Он вопил, что не шпионил за тобой, что хотел предупредить тебя о готовившемся несчастье, а потом умолк, сказав, что будет говорить только с тобой лично. – Гнусный недоносок, – прошептала Зефирина. – Единственное несчастье, которое произошло, это смерть нашей Пелажи. – Может быть, ты хочешь, чтобы я избавил тебя от карлика, свернув ему шею, как цыпленку? – предложил Бастьен. – Ты что, с ума сошел? Мы живем в просвещенном веке. Тебя схватят и колесуют! – Так, значит, я тебе хоть немножко дорог! – прошептал Бастьен. – Ну, конечно! Что у тебя за мысли!… Я… я… Под взглядом голубых глаз юноши Зефирина растерялась, смутилась. «С ума я, что ли, сошла, что позволяю себе так смущаться? Он становится слишком вольным в обращении!» – подумала Зефирина, придя в раздражение от собственной слабости. Донесшийся из окна первого этажа голос Луизы вывел ее из затруднения. – Зефи, Зефи, где вы? Мы ждем вас к обеду! – Иду, Луиза. Я разговаривала с моим слугой! – зло прокричала Зефирина. Потом повернулась к Бастьену, чтобы отдать приказания не терпящим возражения тоном: «Благодарю тебя, возвращайся в Багатель и отпусти Каролюса. Пусть отправляется к своей дорогой хозяйке. Я очень удивлюсь, если он станет хвастаться своими приключениями!» Не сказав ни слова, Бастьен поклонился. Зефирина кусала себе губы, не зная, возражать ей или нет, ибо каким-то очень естественным движением юноша вновь свернул в комок батистовую рубашку, в которой теперь не было медальона, и сунул ее за ворот своей блузы. – К вашим услугам, мадемуазель! – произнес Бастьен, удаляясь. – До завтра! – сухо сказала Зефирина. Она приподняла подол своей широкой юбки и направилась к крыльцу. Прежде чем войти в замок, почти против воли она обернулась и увидела, что Бастьен выезжает за ограду парка. Как и все не получившие вольную слуги, юноша не имел права ездить на лошади. Он сидел верхом на ослике, и его длинные ноги почти касались земли. Однако, несмотря на несколько смешной вид, широкие плечи и прямая спина юного серва вызывали уважение, свидетельствуя о том, что он обладает манерами и природной гордостью. «Я безусловно должна добиться, чтобы он стал вольным, – еще раз подумала Зефирина. – Но какой отвратительный характер!» – Уверенная в своей правоте, она побежала к своей новой семье.ГЛАВА XV СТРАННЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПАПАШИ КОКЕ
– Если позволите, Луиза, я заеду повидать нашего старого слугу! С еще влажными глазами Зефирина вышла под руку с Луизой с маленького кладбища, где священник только что прочел последние молитвы над могилой Пелажи. Роже де Багатель не явился на похороны своей домоправительницы. И никто из Сен-Савена не приехал. Зефирина испустила вздох. Она все более отдавала себе отчет, насколько ее милый и очаровательный отец был игрушкой в руках жены. Однако, нежно любя маркиза, она отказывалась его судить. – Спасибо, что пришли, барышни! Бастьен, единственный родственник Пелажи, поклонился девушкам. Он надел свой колпак и уже хотел исчезнуть на улицах деревни. Зефирина схватила его за шнурок колета: – Ты едешь в Сен-Савен? – Да, барышня. – А Каролюс? – прошептала Зефирина так, чтобы Луиза не могла услышать. – Все в порядке. Мадемуазель больше во мне не нуждается? Казалось, Бастьен торопился установить между ними должную дистанцию. – Нет, останься! – Но дело в том… – Садись впереди вместе с Ла Дусером! – приказала Зефирина, которая не привыкла к тому, чтобы кто-то оспаривал ее желания. Гигант-оруженосец приближался, правя повозкой, в которую были впряжены два мула с вплетенными в сбрую бубенчиками. – Мы возвращаемся в замок барышни Луизы? – спросил Ла Дусер, в то время как обе девушки усаживались на заднее сиденье с помощью Бастьена. – Да, но сначала остановись у папаши Коке! – сказала Зефирина. Так как она была погружена в свои грустные мысли, то путь до конца деревни показался ей коротким; там она увидела бедную лачугу, чья соломенная крыша спускалась почти до самой земли. – Подождите меня, пожалуйста, несколько минут, Луиза, – сказала Зефирина, которой не хотелось брать с собой подругу. Не дожидаясь ответа, она дала знак Бастьену следовать за ней внутрь хижины. На закраине, у окна, находившегося на уровне земли, только несколько цветов напоминали о том, что владелец хижины был когда-то садовником. Зефирина спустилась вниз по четырем ступенькам и попала в помещение, прямо вырытое в земле, которое и представляло собой единственную комнату в этом жилище. – Здравствуйте, папаша Коке. Я приехала нанести вам короткий визит. Вы меня узнаете? Задав этот вопрос, Зефирина с трудом узнала в этом опустившемся человеке, в этой жалкой развалине, старого балагура. Папаша Коке, сидевший с тусклым взглядом, с перекошенным ртом, не подавал никаких признаков понимания. – Зефирина… Зефирина де Багатель! – настаивала девушка. Она подтащила расшатанную табуретку и уселась напротив несчастного садовника. – Бедняга совершенно парализован. Никто не знает, понимает ли он что-нибудь. Он может только шевелить двумя пальцами правой руки, и его невестка мне говорила, что иногда он возится с цветами. Это единственное, что он еще умеет делать! – прошептал Бастьен. – Как это случилось? – спросила Зефирина. – Бедняга выпил ледяного сидра на кухне в Багателе – и упал как подкошенный. – Знаешь ли ты, кто дал ему этот напиток? – вновь спросила Зефирина. Заинтригованный Бастьен пристально посмотрел на девушку: – Что вы на самом деле ищете, мадемуазель? – Отвечай! – выказала нетерпение Зефирина. – Я очень хорошо помню, я тогда был там, – это была Беатриса, несчастная немая, но… Приказ был отдан очень сухо: – Замолчи! Никому больше этого не говори! – В моем положении я привык молчать! – просто сказал Бастьен. «Беатриса… немая, которая говорит… Но почему, почему моя мачеха могла бы заставить ее совершить это преступление? Она не была заинтересована в том, чтобы избавиться от папаши Коке! От этого можно сойти с ума. Если только он, конечно, не раскрыл какую-нибудь ужасную тайну! Но какую?» – думала Зефирина, удрученная своими зловещими открытиями. В комнате повисла гнетущая тишина. Девушка смотрела вокруг и видела земляной пол, нищую обстановку, единственной роскошью были медный подсвечник и квашня. Этот запах бедности заставлял ее чувствовать себя неловко. Зефирина ощутила на себе иронический взгляд Бастьена, который угадал ее смущение. Она быстро опомнилась. – Я прикажу прислать вам хорошего белого хлеба, папаша Коке…а также покрывало из овечьей шерсти, чтобы вашим коленям было тепло. Говоря так, Зефирина ласково взяла узловатую руку калеки в свои руки. – Я уверена, что вы не забыли вашу маленькую Зефирину. Я – Зефирина де Багатель, которую вы однажды спасли при пожаре. Вспомните!.. О, вы вспоминаете! Два пальца бедняги-паралитика пошевелились в ее руке. – Папаша Коке, дайте мне какой-нибудь знак, что вы меня понимаете! Пожатие пальцев стало сильнее. – Бастьен, Бастьен, он меня понимает! – воскликнула Зефирина. – Папаша Коке, я бы хотела… Взглянув на Бастьена, Зефирина вдруг остановилась: – Оставь-ка нас наедине с папашей Коке… Скажи мадемуазель де Ронсар, что я иду! Без рассуждений Бастьен вышел из лачуги. Зефирина подождала, когда юноша закроет за собой дверь, и с жаром продолжала: – Папаша Коке, послушайте меня, будьте очень внимательны к тому, о чем я вас попрошу. Прежде всего, для того, чтобы ответить мне «да», нажмите один раз мне на ладонь, для того, чтобы ответить «нет» – два раза… Повторим… да… нет… отлично, вы поняли папаша Коке… – Зефирина инстинктивно понизила голос, – это очень важно. Я подозреваю, что в моей собственной семье творятся ужасные вещи. Не думали ли вы когда-нибудь, что моя мачеха хочет от вас избавиться? – закончила Зефирина, с трудом проглотив слюну. Старик два раза нажал ей на ладонь. – Нет? – удивилась Зефирина. – Вы хорошо поняли мой вопрос? Папаша Коке один раз легонько стукнул по пальцам Зефирины. – Да… хорошо… Но не подозревали ли вы, что Беатриса, ее служанка, влила вам какую-то отраву в стакан? Ответ последовал без колебаний. Нет. – Нет! – повторила удивленная Зефирина, – однако подумайте хорошенько, папаша Коке, быть может, вы, перед вашей болезнью… узнали что-нибудь о моей мачехе? – Да… А! – победно воскликнула Зефирина. – А что это было? Я хочу спросить… это было плохое? – Нет?.. Нет… Это не было плохое? Тогда… это было хорошее? – Да. – Вы узнали что-то хорошее о донье Термине? – повторила ошеломленная Зефирина. – Да. – Что… Что… Боже мой, как мне спросить у него? – Вы узнали, что донья Гермина настоящая великосветская дама? – Да. – Благородная? – Да. – Она не авантюристка? – Нет. – Она набожна? – Да! – Она никогда не причиняла зла? – Нет! – Но, папаша Коке, – застонала Зефирина, – я-то ее подозреваю в самых худших злодеяниях… даже в том, что она убила Пелажи… – Нет. – Это не она? – Нет. – Я должна ее любить? – Да. – Вы, папаша Коке, вы любите мою мачеху? – настаивала Зефирина. – Да. – А… моего отца? – спросила Зефирина, поколебавшись. Ответ последовал быстрый и ясный: нет. – Вы не любите моего отца? – пролепетала Зефирина. – Нет. – Но почему?.. У вас есть причина? – Да. – Он был несправедлив к вам? – Да. – Это все? – Нет. – Но что… есть что-то еще? – Нет. – Как это нет… А! Вы не хотите мне сказать? – Нет. – Я вас умоляю, папаша Коке, я… – Нет. У Зефирины появилось желание немедленно уйти, прекратив этот допрос, который истощал ее нервы, однако она не хотела оставлять старого калеку, не задав ему последний вопрос. – Хорошенько посмотрите на этот медальон, папаша Коке! – прошептала Зефирина. Она вытащила из-за своего корсажа драгоценную безделушку, демонстрируя перед безжизненным взглядом старика большой изумруд, зажатый в лапах золотого орла. – Вы узнаете это украшение? – Да. – Оно из шкатулки моей матери? – Нет. – Однако у моей матери было такое же? – Да. – Но не совсем такое? – Нет. – Со змеей? – Да. – Медальон со змеей был украден служанкой Бертиль в день, когда я родилась? – Да. – Это вы нашли его спрятанным в тюфяке у этой Бертиль? – Да. – Но тогда… кому же принадлежит этот, с орлом? – простонала Зефирина… Подождите, папаша Коке, я по-другому задам вопрос. Если этот медальон не принадлежал моей матери, то не принадлежал ли он моему отцу? – Нет. – Нет? – Моей мачехе? – Нет. – Соседям? – Нет. – Друзьям? – Нет. – Королю? – Нет. – Он был украден? – Нет. – Но кому я должна его отдать? Послушайте, я нашла его в монастыре Сен-Савен… – Нет. – Как это нет? Да… действительно, мне его дала одна старая женщина. – Да. – Да? Вы знаете мамашу Крапот? – Да. – Она сумасшедшая? – Нет. – Она говорила мне о моей матери. – Да. – Она знала мою мать? – Да. – Она ее любила? – Да. – Итак, возможно, медальон принадлежал моей семье? – Да… Нет… – Что вы хотите сказать, папаша Коке? Да и нет? «Может быть, он сошел с ума или впал в детство?» – подумала Зефирина, прежде чем вновь сказать вслух: – Смотрите, папаша Коке, это украшение было спрятано в монастыре Сен-Савен, то есть в родовом владении. Как вы думаете, могу ли я оставить у себя этот изумруд? Старый калека опять трижды нажал на ладонь Зефирины. – Я могу его оставить… на три года? На три месяца? На три недели? – пришла в отчаяние Зефирина. – На три века? Так… на три века? – Да… Нет… Да… Нет… Все более и более опечаленная Зефирина смотрела на папашу Коке, стараясь угадать за гримасой лица несчастного какой-либо признак разума. Но делать было нечего, ибо старый калека, возможно обессиленный этой слишком долгой «беседой», забылся сном. Зефирина тихонько встала. У нее в поясе было несколько экю. Она положила их на стол из светлого дерева. Спрятав медальон с изумрудом обратно себе за корсаж, она придала своему лицу подобающее выражение и вышла из лачуги. Последующие дни пролетели для Зефирины в предотъездной лихорадке. Держа свое слово, маркиз де Багатель посылал к своей дочери лучших мастеров, ювелиров, вышивальщиц, швей и торговцев пухом и пером, чтобы они изготовили приданое «барышни, лично приглашенной самим его величеством». Дамы из семейства Ронсаров, очень взволнованные этими приготовлениями, щебетали наперебой во время бесконечных примерок. Зефирина не имела никаких известий о Гаэтане… В конце концов откуда им взяться! Она знала, что он уехал по крайней мере на два месяца. Мысль о нем никогда не покидала ее, так же как и прядь волос, которую она хранила, как драгоценность, у себя на груди. Они совершали с Луизой длительные прогулки. Единственной темой их разговоров был Гаэтан, Гаэтан и еще раз Гаэтан. Зефирина хотела знать все о молодом человеке. Он был пажом с восьми лет, и как младший сын в семье он уже два года был королевским гонцом. Король, казалось, очень ценил Гаэтана, все время проводящего в дороге и в силу этого могущего сделать хорошую карьеру. – Зефирина де Ронсар… Что вы на это скажете, Луиза? Зефирина, супруга рыцаря де Ронсара! – Это имя вам так пойдет, Зефи! – блаженно восторгалась Луиза. Возглас госпожи де Ронсар прервал мечты девушек: – Идите быстрее, вот мастер Маромато! Луиза и Зефирина быстро возвращались на ежедневную примерку. Мэтр Маромато со всем своим штатом закройщиков и портных был сейчас самой важной персоной при дворе. Это он одевал больших вельмож и благородных дам для предстоящего события! Вертясь вокруг Зефирины, стоявшей в юбке, рубашке и корсете, господин Маромато не прекращал свою речь: – Мадемуазель носит свой туалет с редким изяществом. Но она должна выбросить свои мягкие, вышедшие из моды юбки, чтобы отдать предпочтение нашим божественным фижмам, которые производят фурор! – Но все это очень жестко! Я не могу ходить, я не могу сидеть, – возражала Зефирина, в то время как непреклонный господин Маромато заставлял ее надевать жесткую, негнущуюся юбку в форме колокола, на которую были нашиты сделанные из прутьев обручи. – Ну уж нет, ну уж нет, барышня! Все наши дамы хорошо привыкают к деревянным обручам, которые служат нам для того, чтобы создавать фижмы, этот шедевр элегантности… Ну-ка, теперь «тело»! – приказывал мастер Маромото. В корсаже, натянутом на металлическую проволоку, который придавал ее бюсту почти геометрический вид и сжимал ее юные груди, Зефирина, опьяненная тем, что она превращается в настоящую даму, все же тем не менее почти задыхалась. – А что скажет мадемуазель об этой хлопчатобумажной ткани из Индии? Вопрос был излишним. Зефирина не могла больше ничего сказать… – Вот шелк из Персии, – продолжал неутомимый мастер Маромато, – вот шелковая узорчатая сирийская ткань. Для головного убора я предлагаю золотистый муслин. Прогресс нельзя остановить, любезные дамы! Благодаря господину Христофору Колумбу и господину Васко да Гама для нас открыты морские пути. Подумайте, всего лишь двадцать лет назад у нас не было всех этих новых тканей! А что вы скажете об этом сукне для безрукавки из Антиохии? О прекрасных перьях для султана на головном уборе? Сам убор будет из бархата и украшен выкованным из серебра чертополохом. Для этого короткого жакета, украшенного шнурами с металлическими наконечниками, я думаю, прекрасно подойдет мех куницы, а муфта будет из горностая или из лисицы… Зефирина преображалась в руках Маромато. Прелестная девочка-подросток, с изящными формами, превращалась в настоящую молодую девушку, уже почти в женщину. Ощущая на себе расшитые ткани, кружева и разноцветный бархат, Зефирина осознавала свою ослепительную красоту. С природным кокетством она вертелась, ходила, изящно садилась – этому она быстро научилась – и изысканным движением приподнимала золотистую волну своих рыжих волос. Котенок становился кошечкой и начинал оттачивать свои коготки на драгоценных шелках. Зефирина была почти готова со своими шестью сундуками, набитыми самыми красивыми нарядами, когда маркиз де Багатель прислал ей карету, которой правил Бастьен. На заднем сиденье восседала девица Плюш, старая дева из Сен-Савена, которую маркиз де Багатель посчитал себя обязанным предоставить в распоряжение своей дочери в качестве дуэньи. Обнаружив это «подарок», Зефирина нахмурила свои тонкие золотистые брови. Она поклялась как можно скорее избавиться от столь стесняющего присутствия старой девы. – Папаша Коке умер! – известил ее Бастьен. Мучаясь угрызениями совести, Зефирина заметила, что в предотъездных волнениях она почти забыла о старом калеке. Она оставила записку и прядь своих кудрей для Гаэтана (на тот случай, если он вернется раньше, чем предполагалось) у Луизы, затем, распрощавшись со всей семьей де Ронсаров, собравшейся на крыльце, она в сопровождении Ла Дусера двинулась по дороге, ведущей в Пикардию.ГЛАВА XVI СВИДАНИЕ ВЕКА
– Клянусь честью, это какая-то спятившая шкатулка с драгоценностями! Услышав восклицание своего оруженосца, Зефирина и мадемуазель Плюш наклонились и выглянули из кареты. На дороге случился огромный безнадежный затор: при звуках хлопающих бичей повозки, перегруженные тканями, снастями, съестными припасами, напрасно старались продвинуться вперед. Лучники, всадники и их лошади, зажатые в этой сутолоке, ничего не могли поделать своими криками, усиленными ржанием лошадей. Солдаты-саперы, которые, для того чтобы сделать окрестности еще красивее, убирали ограды, вырывали с корнями деревья и в последнюю минуту рыли рвы, только увеличивали всеобщее смятение. – Теперь нельзя ни проехать вперед, ни податься назад! – крикнул Бастьен, пытаясь перекричать общий шум. – Подхлестни свою клячу! – Пропусти моего хозяина! – Приказ коннетабля! – Слуги короля! – Слуги маршала! – Слуги королевы! – Слуги принцев крови! Пажи, гонцы, привратники, капитаны и слуги ревели наперебой. – А ты – слуга моей задницы! – рыкнул Ла Дусер на какого-то ветрогона в ливрее. – Достаточно, теперь помолчи! – приказала Зефирина. Гигант-оруженосец, совершенно сконфуженный, повиновался своей юной хозяйке. Она же не знала, что предпринять: карета, вне всякого сомнения, застряла здесь на много часов. – А если мы, мадемуазель Зефирина, подобно странствующему рыцарю королевы Морганы, пойдем пешком? Это предложение исходило от неустрашимой девицы Плюш. – Прекрасная идея! Бастьен, догонишь нас, когда сможешь. Идем, Ла Дусер! – сказала Зефирина не терпящим возражения командирским тоном. С помощью богатыря-оруженосца девушка со своей дуэньей легко спустились из кареты. Ступив на узкую тропинку, петлявшую среди полей, она направилась прямиком к временно построенному городу с золотыми крышами, который она видела внизу, в долине. Зефирине не терпелось оказаться на месте: она щурила глаза, ослепленная феерическим зрелищем: от восьмисот до девятисот палаток, которые вошли в историю под названием «Золотого лагеря», сверкали на солнце. Над ними развевались разноцветные штандарты, вымпелы и украшенные гербами щиты и эмблемы. Этот лагерь из раззолоченных палаток был построен совсем рядом с городом Ардре. Он был развернут в форме звезды вокруг главного сооружения, состоявшего из четырех павильонов, разрисованных лилиями. «Резиденция короля» – подумала Зефирина, ускорив шаг. – Раскроем же глаза и уши, мадемуазель Зефирина! Мы с вами – счастливые очевидцы Свидания Века! – сюсюкала, почти задохнувшись от восторга, девица Плюш. Зефирина бросила веселый взгляд на свою дуэнью. За десять дней путешествия она оценила костлявую старую деву и больше не помышляла от нее избавиться. Честно говоря, Артемиза Плюш не была красавицей: ужасающе худая (что напоминала скелет), с уныло опущенным тощим носом, с редкими волосами под высоким, вышедшим из моды чепцом, новоиспеченная дуэнья, не помня себя от радости, что покинула дыру, в которой она прозябала почти сорок лет, следовала за Зефириной, словно за одной из тех принцесс из сказок, о чьих приключениях она с увлечением читала в рыцарских романах. Короче говоря, девица Плюш прятала за своей невзрачной и суровой внешностью романтичное сердце, и Зефирина быстро это обнаружила. – По вашему мнению, король Англии уже прибыл? – спросила Зефирина, не обращаясь ни к кому лично. Ла Дусер, который всегда был в курсе всех последних сплетен, многозначительно ответил: – Он поднялся в Кале три дня назад на борт своего судна «Генрих Божьей Милостью», по-видимому, самый прекрасный корабль из всех, что существуют… Тысячетонный! Сто двадцать две пушки! И надстройка на корме, от которой может закружиться голова! Смотрите, вон где король Англии… – Где это? Где он? Я не вижу королевского корабля! Девица Плюш косилась на серые воды Северного моря. – Да нет же, мадемуазель Плюш, – терпеливо сказал Ла Дусер. – Посмотрите-ка туда, в сторону города Гин, это там толстяк Генрих проведет сегодня ночь. Ла Дусер указывал на расположенный в четверти лье, позади ристалищ, возведенных для состязаний и турниров, второй лагерь с золотыми крышами, который ускользнул от внимания Зефирины. – Ах! Я чувствую руку Господа! – восторгалась пришедшая в лирическое настроение Артемиза Плюш. Со своей стороны, Зефирина чувствовала, что по ногам у нее бегут мурашки от нетерпения. Она была сейчас всего лишь в пятистах шагах от лагеря, и ей приходилось сдерживать желание пуститься бегом. Через несколько минут она встретится с отцом, с мачехой. Как поведет себя «эта Сан-Сальвадор»? Размышляя обо всем этом, Зефирина рассеянно слушала, как Ла Дусер продолжал разглагольствовать перед самой восхитительной слушательницей, какой была ее дуэнья. – Вы чертовски правы, мадемуазель Плюш. Клянусь рогатой овцой, когда король Франции и толстяк Генрих подпишут свой договор о согласии, Карл V, простите великодушно, получит хорошую пулю в задницу! Зефирина дала знак Ла Дусеру говорить потише и выбирать выражения. Они приближались к ограде, охраняемой солдатами с алебардами. – Остановитесь здесь… Прохода нет! Стоя перед настоящей театральной декорацией, толстый сержант преграждал путь в золоченый деревянный портик, опиравшийся на колонны в виде фигур Вакха и Купидона. – Этот приказ меня не касается! – надменно возразила Зефирина. – Ну-ка, прикажите своим людям отойти прочь с дороги, нас ждут при дворе. Я Зефирина де Багатель! Она возгласила свое имя тем же тоном, каким заявила бы, что она – сама королева. – Возможно… но без пропуска прохода нет! – стоял на своем упрямый сержант. В то время как Зефирина и сержант спорили, какой-то всадник с оруженосцем приблизился к золоченой ограде. Не упуская ни одного слова из беседы, они тоже явно ждали своей очереди для того, чтобы попасть в «Золотой лагерь». Погруженная в свои думы, Зефирина не заметила их присутствия. Она размышляла, какого поведения ей следует придерживаться, чтобы заставить сержанта дрогнуть: то ли впасть в явный гнев, то ли прибегнуть к слащавому очарованию, когда писк, изданный ее дуэньей, прояснил положение вещей: – Где была моя голова, мадемуазель Зефирина! Держите, стражник, вот ключи от рая! И девица Плюш с победоносным видом вытащила из своей черной муфты бланк с подписью и королевской печатью, который ей передал маркиз де Багатель, нанимая ее на службу к своей дочери. С коротким присвистом, который привел в отчаяние Зефирину, сержант ознакомился с документом. Он вертел его и так и сяк, потом вернул его Зефирине, ворча: – Вы можете идти туда, но, скажите на милость, ведь вы издалека, и долгую же дорогу вы проделали пешком от Луары! При этой нескрываемой насмешке зеленые глаза Зефирины стали метать опасные молнии. – Наша упряжка осталась зажатой на дороге, запруженной из-за вашей неспособности навести порядок! Впрочем, я пожалуюсь его величеству! Ну же, дайте нам одного из ваших людей, чтобы он шел впереди нас! На этот раз властный тон Зефирины совершил чудо. Укрощенный сержант согнулся пополам в поклоне. Он лихорадочно просматривал длинный список: – Ну, разумеется… подряд… Ну-ка! Один паж для эскорта мадемуазель де Багатель… «квартал благородных девиц», палатка номер 553, аллея Валуа, на Ангулемском перекрестке!.. В сопровождении Ла Дусера и девицы Плюш Зефирина с высоко поднятой головой проникла в святая святых. – Идемте прежде всего к королю! – приказала Зефирина. Мальчуган в костюмчике из синего и золотого бархата увлек ее тотчас же по направлению к аллее, обсаженной искусственными кустами и деревьями. Если бы Зефирина в этот момент обернулась, то она увидела бы, как всадник смотрит ей вслед чуть насмешливым взглядом. Этот человек, если судить по богатству его разноцветного камзола, был, несомненно, знатным вельможей. Его властные черные глаза озаряли матовое, чисто выбритое лицо, правильные черты которого, отличавшиеся мужественной и гордой красотой, говорили о том, что ему еще нет и тридцати. Несмотря на присущее ему несомненное очарование и исходившую от него высокомерную обольстительность, этот человек явно не привык ни ждать, ни слушать, как оспаривают его приказы. Зефирина исчезла среди придворных в лабиринте зелени. По знаку всадника его оруженосец извлек из своей утыканной шипами ратной рукавицы пропуск. После того, как сержант ознакомился с пергаментом, он посторонился и встал у одного из золоченых столбов. – Входите, монсеньор… Но для того, чтобы попасть к королю Англии, надо повернуть налево по большой аллее и проехать весь лагерь… На другом конце вы найдете сады Виндзора. Но если вашей милости нужен паж, чтобы указал вам дорогу, я сейчас… – Нет… У нас есть глаза, чтобы видеть, и язык, чтобы спросить! – сказал всадник сухо. Не дожидаясь ответа, он уже въезжал в сопровождении своего оруженосца за ограду «Золотого лагеря». – Черт возьми… У этого посланца Карла V не слишком-то любезный вид! – сказал толстый сержант, почесывая свою бороду.ГЛАВА XVII ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ
– Иоланда де Флоранж! – Маргарита де Монморанси! – Гилэн де Монпеза! – Лора де Бонниве! – А я – Зефирина де Багатель! После обычных представлений Зефирина весело вступила во владение просторной и удобной палаткой из красивой ткани, которую ей предстояло делить в течение многих недель с четырьмя другими девушками и их камеристками. На всех там было двенадцать походных кроватей, стоявших рядом друг с другом в один ряд на настоящем деревянном полу. С помощью девицы Плюш Зефирина, напевая, открывала свои сундуки, только что доставленные Бастьеном. Зефирина понимала, что он был в плохом расположении духа. Во время путешествия она резко его одергивала и называла «кучером». С некоторой жестокостью девушка пожала плечами: «Если ему угодно беситься, тем хуже для него!» Новые подруги Зефирины, все дочери из очень благородных семей, таких же спутников короля, как и Роже де Багатель, любезно подвинулись, чтобы дать ей место. Посреди царившего беспорядка и хаоса из шелков и кружев Зефирина как могла расправляла свои платья и пышные фижмы. – Мы вас покинем, чтобы присутствовать на первых состязаниях братьев нашего короля! – весело предупредила ее Иоланда де Флоранж. – Присоединяйтесь к нам, когда будете готовы! Похожие на птичек в пестром оперении, девушки весело направились в лагерь. Зефирина устроилась перед венецианским зеркалом. В то время как девица Плюш свивала в жгуты ее тяжелые рыжие волосы, Зефирина кусала себе губы и пощипывала щеки; она видела, как это делали взрослые дамы, чтобы придать большую живость лицу. – Вы были прекрасны, когда предстали перед его величеством, мадемуазель Зефи, но тотчас же я ощутила острое стеснение в груди, от волнения мои глаза закрылись против моей воли, а когда я их открыла, слово чести, король уже прошел мимо! Выслушав это жалобное признание, Зефирина расхохоталась. – Не плачьте, мадемуазель Плюш, мы же только что приехали! Вы еще увидите короля… королей… Тра-ля-ля! Спасибо, это прекрасно! Действительно, с того момента, как Зефирина ступила в лагерь, все шло прекрасно. Несмотря на свои многочисленные заботы, король, завидев ее, вскричал, стоя среди своих советников: – Добро пожаловать, моя прекрасная Саламандра! Чтобы показать свое расположение, Франциск I поднял опустившуюся в глубоком реверансе Зефирину и поцеловал ее в щеку. Роже де Багатель, польщенный тем, что его дочь так хорошо принята при дворе, увлек ее за сине-золотую часовню, примыкавшую к жилищу короля, и прошептал: – Я очень доволен вами, Зефи! Ваше путешествие прошло хорошо? Вы ладите с этой Плюш? Когда маркиз задал этот вопрос, вид у него был обеспокоенный. «Бедный отец, он чистосердечно считает, что я – фурия», – подумала Зефирина. – Я предпочел, чтобы вы ехали отдельно потому… Роже де Багатель запутался в своих объяснениях. – Чтобы избежать в дороге затруднений с доньей Герминой! – напрямик съязвила Зефирина. – Вы ошибаетесь, Зефирина, ошибаетесь… Маркиза была великолепна… «Как всегда!» – Моя дорогая Гермина даже заявила, что, не желая вызвать неудовольствие ваше или короля… «В особенности, короля!» – …Надо забыть эту мысль о браке с Рикардо. Впрочем, вы очень скоро увидите вашу мачеху. И она вам это повторит сама! «Если папаша Коке был прав, то это я – чудовище по отношению к донье Гермине!» – подумала смущенная Зефирина. Когда ее прическа, представлявшая собой поднятые вверх толстые косы, уложенные на макушке, была закончена, Зефирина встала, надела платье из синего бархата, затканного серебряной нитью, и, по-прежнему сопровождаемая восторженной девицей Плюш, черной, как ворон, покинула палатку, чтобы отправиться на место проведения турниров. Горячее майское солнце делало это послеобеденное время прекрасным. Чайки, принесенные дующим с моря легким бризом, как бы привлеченные сказочным зрелищем, кружились в небе. Зефирина не слишком хорошо отдавала себе отчет в том, насколько огромен был лагерь: 5172 человека – принцы, принцессы и привилегированные дворяне, занесенные в списки, которые видел Ла Дусер, станут жить здесь вместе в течение многих недель. В этом лабиринте из зеленых аллей, перелесков и грабовых насаждений, насаженных королевскими садовниками, среди драпировок из шелка и шерсти, затканных золотом, среди источников, из которых обильно текла мальвазия, среди всеобщего волнения, толкотни и восклицаний придворных Зефирина, слегка оглушенная, размышляла, в каком направлении следует идти. Плюш не могла оказать ей никакой помощи. Она была на седьмом небе, как говорится, считала ворон, и только и делала, что восхищалась: «Мы находимся в земном раю!» – Простите, господин де Женуйяк! – сказала Зефирина, узнав главного специалиста в области артиллерии, который, она знала, лично руководил работами в лагере. – Можете ли вы мне указать, где находятся ристалища? – Клянусь порохом моих бомбард, вот ангел, который столь сильно смутил разум этого старого сумасшедшего Ла Палиса! – воскликнул Гальо де Женуйяк, смеясь. – Знаете ли вы, благородная барышня, что маршал кричит направо и налево, что нашел самую умную девушку в Западном мире? Не зная, смеется ли над ней Гальо де Женуйяк, Зефирина слегка покраснела, в то время как великий артиллерист решил, наконец, показать ей дорогу. – Пойдите направо, по Савойской аллее, мадемуазель де Багатель, до конца, затем налево и прямо по аллее Блуа. И вы упадете, если я могу так выразиться, прямо на турнир. Ваш покорный слуга, мадемуазель! Зефирина поблагодарила его, сделав реверанс, и, провожаемая своей дуэньей, направилась в указанном направлении. Приближаясь к ристалищу, девушка услышала восторженные восклицания, которые сопровождали бег лошадей и бряцание копий. Она ускорила шаг, но почти тотчас остановилась. Донья Гермина спускалась с одной из трибун. – Здравствуйте, моя дорогая. Как вы красивы и как хорошо выглядите в ваших новых фижмах! – тотчас же воскликнула маркиза. Испытывая легкую ревность, Зефирина не могла не восхищаться странной красотой своей мачехи, чьи черные волосы были подняты вверх и на кудри была накинута зеленая вуаль. Маркиза де Багатель очень нежно взяла за руку свою падчерицу. – Дорогая Зефирина, какая радость увидеть вас вновь. Вы видели вашего отца? Сказал ли он вам, о чем я думаю? Я не хочу, чтобы… В течение нескольких минут обе дамы из семейства Багатель, сопровождаемые Каролюсом и девицей Плюш, злобно поглядывавшими друг на друга, прогуливались вокруг огороженного участка, где происходили состязания. Зефирина, заняв выжидательную позицию, не произносила ни слова. Говорила одна донья Гермина: – Счастлива видеть, моя дорогая, что мы снова друзья. Идите развлекайтесь. Воспользуйтесь удовольствиями, свойственными вашему возрасту… и в особенности помните, что я только и желаю вам счастья!.. Донья Гермина подчеркнула эти слова, поцеловав Зефирину в лоб. Как всегда, при этом ледяном прикосновении, девушка напряглась, однако ей удалось это скрыть, тем более что король, делая последний смотр своему лагерю, только что наблюдал эту сцену: – Прекрасно, милые дамы, я люблю, когда люди любят друг друга! – одобрил Франциск I, прежде чем продолжить свой путь во главе примерно пятидесяти придворных, среди которых находился и Роже де Багатель. В то время как донья Гермина, шелестя шелками, присоединилась к королевской свите, Каролюс воспользовался этим, чтобы прошептать: – Ты не представишь мне свою цаплю, Рыжуха? Насмешливым жестом карлик указывал на стоявшую рядом с Зефириной дуэнью. – Пойдите-ка вы, изжарьте вашу умную башку, малыш! – воскликнула возмущенная девица Плюш. – Эй! Ты слышал? – насмешливо спросила Зефирина. – Плюш, я вас обожаю! – добавила она. Покинув своего заклятого врага, которого она не видела с тех самых пор, как ударила его хлыстом, Зефирина поднялась на трибуну и села на свободное место между Иоландой де Флоранж и Лорой де Бонниве. Это был конец поединка. Рыцарь в белых доспехах только что «поцеловал пыль», в то время как победитель, в черных с золотом доспехах, с лицом, скрытым его опущенным забралом, объезжал по кругу ристалище на своем жеребце, чтобы получить поздравления от присутствующих. – Бедный господин де Ла Жоншер! – усмехнулась Иоланда де Флоранж, как разбирающаяся в поединках дама. Побежденному никак не удавалось подняться, так как ему мешали наколенники и поножи. – А ктопобедитель? – спросила Зефирина, машинально следя взглядом за черным пером, укрепленным на шлеме одержавшего победу рыцаря. – Мы не знаем его имени. Кажется, он принадлежит к числу людей, сопровождающих короля Англии, но Маргарита слышала, что он отдавал приказания своему оруженосцу по-итальянски, – ответила Лора де Бонниве. Рыцарь в черных доспехах вернулся в центр ристалища. Движением, которое могло бы быть любезным, но которое Зефирина сочла исполненным высокомерия, победитель протянул свое длинное копье побежденному, чтобы тот поднялся. Когда несчастный господин де Ла Жоншер поднялся на ноги и его, шатающегося, увели его оруженосцы, победитель заставил своего жеребца, покрытого такими же, как он, черно-золотыми доспехами, проделать сложный поворот, и затем он проехал перед трибуной, где сидели юные девушки. Вдруг Иоланда де Флоранж, восторженная и непосредственная, бросила свой кружевной шарф. Черный рыцарь ловко его поймал концом своего копья. Склонив голову в шлеме, на котором сверкала тонкая золотая кайма, он поблагодарил с какой-то высокомерной учтивостью. Остановившись перед трибуной, он теперь держал тонкие кружева в своих железных рукавицах. Сквозь прорезь в шлеме Зефирина увидела, как его черные глаза остановились на ней. Ее раздражала настойчивость этого взгляда, она догадывалась, что участник, поединка старался угадать, кто из присутствующих девушек осмелился бросить ему свой шарф, и для того, чтобы показать, что не она была этой глупой взбалмошной девчонкой, Зефирина отвернулась с уязвленным видом. Она пришла в изумление, когда ей показалось, что из-за железного шлема раздался какой-то металлический смех. – Какая наглость, что он даже не поднял свое забрало, чтобы приветствовать нас! – прошептала Лора де Бонниве. – И я того же мнения, моя дорогая! – уронила Зефирина. Однако любопытство было сильнее обиды. Этот мужской взгляд почти обжег ее, настолько он был силен. Вновь посмотрев в сторону ристалища, девушка с некоторым разочарованием увидела, как черный рыцарь выезжал за ограду под аплодисменты зрителей. – Что вы думаете об этом таинственном рыцаре, Зефирина? – спросила Иоланда де Флоранж. – Мне не нравятся его доспехи! – презрительно ответила Зефирина.ГЛАВА XVIII ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НА ПУСТЫННОМ БЕРЕГУ
Все последующие дни пролетели для Зефирины в вихре ежеминутных дел. Во французском лагере нарастало напряжение. Зефирина лишь мельком видела отца и мачеху. Правда, на это-то она не жаловалась. Она была занята всякую секунду, у нее почти не было времени на то, чтобы поддержать свои силы, то есть поесть, ибо она все время проводила со своими подругами, чтобы увеличить численность рядов дома королевы Клод, или регентши Луизы Савойской, или принцессы Маргариты. Не зная отдыха, благородные девицы повторяли под высоким руководством графа де Сен-Поля, бывшего беспощадным в вопросах этикета, тройные реверансы, песнопения, способы изъявления благодарности, учились учтивому поведению при встречах, двенадцати способам ходить и отступать назад таким образом, чтобы не запутаться в шлейфах и накидках из горностая, которые подобало изящно приподнимать. – Шлейф… Выше шлейф, барышни! Ради бога, поднимайте! Поднимайте! – не переставая, пищал господин де Сен-Поль. Из-за этих упражнений у Зефирины ломило руки. Приказы Франциска I были точными и категоричными: «Надо ослепить англичан!» В первое утро после прибытия в лагерь Зефирина была внезапно разбужена на рассвете выстрелами из пушек. Батарея из десяти бомбард стреляла без остановки. Таким образом, как и все остальные, Зефирина узнала о прибытии Генриха VIII в английский лагерь. Она ожидала немедленной встречи двух королей. Однако с того времени ничего не произошло. Даже турниров между двумя лагерями больше не происходило. Каждый оставался в своем лагере. Франциск I и Генрих VIII, словно шахматные короли, окруженные своими почтительными придворными, оставались неподвижны. Находясь в свите королевы, Зефирина видела, как приходили возбужденные посланники, которые бегали из одного лагеря в другой, чтобы до конца уточнить все трудные вопросы, связанные с протоколом и безопасностью. По обе стороны царило недоверие. Эта тяжелая атмосфера уже начала сказываться на настроении, царившем во французском лагере. Вот уже в течение двух дней Зефирина ощущала, быть может из-за усталости, постоянную головную боль. У нее было чувство, что какой-то обруч сжимает ей голову. Боль даже мешала ей спать по ночам. Вертясь с боку на бок на своем ложе, убаюкиваемая, если так можно выразиться, храпом девицы Плюш, она старалась забыть о своей боли, сосредоточиться только на Гаэтане: «Где он сейчас находится? Может быть, он еще в Вечном городе… а может быть, уже где-нибудь на пути назад?» Зефирина представляла себе, как Гаэтан скачет по Италии, которую она никогда не увидит… – Клянусь Святой Роландой, мадемуазель Зефирина, уж не заболели ли вы? – встревожилась девица Плюш при пробуждении. Зефирина была так бледна, у нее под глазами были такие синие круги, что ее друзья уже хотели было отправиться за придворным врачом. – Бесполезно, Плюш. У меня часто бывают сильные головные боли. – Так оставайтесь в постели, дорогая Зефирина, – посоветовала Иоланда де Флоранж, прежде чем выйти из палатки вместе со своими приятельницами. – Я освобождаю вас от наших репетиций со шлейфами. Обмениваясь насмешками, девушки весело направились в лагерь, когда пришел Ла Дусер, который, как всегда по утрам, принес своей хозяйке два горшка с водой. – Что нужно вам для того, чтобы оправиться от болезни, барышня Зефирина, так это хорошая скачка в седле, по берегу, и большой стакан сидра по возвращении. Жалко смотреть, как вы сидите затворницей в этой палатке! Пойдите, подышите вольным воздухом! – посоветовал Ла Дусер. – Если я встану, ты поедешь со мной, Ла Дусер? – спросила Зефирина тихим ласковым голосом. – Никак не могу. Господин маркиз ждет меня, чтобы ехать в лагерь англичан, и я должен запрячь упряжку для госпожи маркизы. Но я скажу Бастьену… – Моя мачеха уезжает? Зефирина приподнялась, внезапно заинтересованная сообщением. – Да… Она едет молиться в монастырь Валь-Дорэ, в лес Гин. – В лес Гин! – непроизвольно повторила Зефирина. Море было спокойным, по нему под бледно-голубым небом изредка пробегали белые барашки. Отлив обнажил отмели с растущими на них водорослями – черноватые и зеленоватые островки на огромном пространстве белого песка. Тысячи капелек воды блестели, словно бриллианты, под копытами Красавчика. Скачка галопом по пустынному берегу чудесным образом исцелила Зефирину. Ее длинные волосы распустились во время скачки под серой шапочкой с голубым перышком; сегодня она была одета в амазонку; захмелев от соленого воздуха, от света, от июньского солнца, радовалась, что покинула лагерь ради этой прогулки. Сидя верхом на муле Помпоне, Бастьен следовал за ней на почтительном расстоянии. – Все хорошо, Красавчик, все хорошо, мой славный, мой хороший… Спокойно, Красавчик… Какой ты великолепный… Лаская шею коня, Зефирина заставила его замедлить бег. Теперь Красавчик ступал шагом по сырому песку. – Приблизься! – приказала Зефирина. Услышав этот приказ, Бастьен обернулся, как бы для того, чтобы удостовериться, что это четко произнесенное слово не было обращено к какому-то другому человеку. – Это вы со мной говорите, барышня? – спросил молодой серв. – А с кем же ты хочешь, чтобы я говорила? Зефирина указала на огромное пустынное пространство, потом она вновь насмешливо заговорила: – Ну ладно, кончай дуться! Лучше помоги мне спуститься на землю! Говоря это, девушка направила Красавчика к прекрасным серебристым дюнам, где росли высокие дикие травы, образовавшие настоящий серо-зеленый океан, трепетавший под северным ветром. Большая лодка, возможно поднятая туда рыбаками, чтобы ее не унесло приливом, лежала перевернутая вверх дном на сухом песке. Не сказав ни слова, Бастьен спрыгнул со своего мула. Он положил руки на талию девушки, и она соскользнула со своего седла вниз. Затянутая в перчатку рука Зефирины осталась лежать на плече юноши. Она улыбалась, глядя на него. Он тотчас же отступил на один шаг. – Мадемуазель желает чего-нибудь еще? – осведомился он холодно. – Мне ничего не нужно… просто мне хочется немножко поболтать с тобой! – Сказав это, Зефирина сняла свою шапочку с голубым перышком. – Мне, однако же, показалось, будто мадемуазель не очень-то хотела со мной разговаривать во время путешествия. – Путешествие – это одно, а сейчас – другое! – ответила Зефирина. Услышав сей исполненный женской логики ответ, Бастьен ограничился лишь тем, что покачал своей кудрявой головой, в то время как Зефирина указывала своим хлыстиком с золотой головкой на отливающую всеми цветами радуги гладь вод. – Как красиво, не правда ли? Ты представлял себе море таким, Бастьен? – Я не знаю, мадемуазель, у меня совсем нет воображения. – Ну, в конце концов должен же был ты что-то думать о… Ты же не животное! – пришла в раздражение Зефирина. – Почти, мадемуазель! Скрестив руки на груди, обтянутой ливреей зеленого цвета – цвета рода Багателей, Бастьен повернулся спиной к Зефирине. Она пожала плечами и опустилась на песок около лодки. – Если ты хочешь совершенно испортить нашу прогулку, то как тебе будет угодно! Между молодыми людьми повисла тишина, прерываемая только криками чаек. Забавляясь тем, что просеивала горячий песок сквозь пальцы, Зефирина наблюдала за широкой спиной Бастьена. Он тоже опустился одним коленом на гальку и склонил голову, ища ракушки. Какое-то волнение охватило Зефирину, когда она увидела его загорелый затылок. Ей внезапно захотелось вонзить свои зубы в эту бронзовую кожу, горячую и такую же живую, как и песок, с которым она сладострастно играла. Зефирина заговорила окрепшим голосом, вновь возобновив попытку восстановить отношения: – Я прошу тебя, Бастьен, потерпи немного. Как только это будет в моей власти, я заставлю дать тебе вольную, ты будешь свободен… Ты это понимаешь? Ты будешь волен делать то, что тебе захочется! И в скором времени, благодаря состоянию моей матери, я помогу тебе, ты сможешь стать ножовщиком или кузнецом. Ты мой друг… я хочу сделать тебя счастливым. Голос Зефирины слегка задрожал, когда она произнесла последнее слово. Бастьен обернулся. Он пристально смотрел на Зефирину, как если бы хотел распутать клубок ее истинных намерений. – Я благодарю вас за ваше доброе желание, барышня, но стану ли я ножовщиком или кузнецом, это неважно, и я очень сомневаюсь в том, что вы понимаете, в чем состоит счастье какого-то серва! Ощущая на себе взгляд голубых глаз приятеля детства, Зефирина слегка смутилась. – Ну, иди же, сядь и перестань называть меня «мадемуазель» и «барышня»! – А как я должен вас называть? – спросил Бастьен, подчиняясь приказу девушки. – Черт побери! Когда мы одни, называй меня Зефириной или – еще короче – Зефи, так же, когда мы были маленькими! – Единственное отличие заключается в том, что мы теперь взрослые! Что вы – девушка, а я – парень! Последние слова он почти прошептал. – Не будь дураком, что это меняет? – вздохнула Зефирина. Лежа с полуприкрытыми глазами, откинув голову назад и опираясь затылком на деревянную лодку, похожая на тонкую саламандру, греющуюся на солнце, Зефирина испытывала почти чувственное наслаждение, вдыхая полной грудью благоуханный бриз. У нее появилось желание навсегда остаться вот так лежать на горячем песке. Ее взгляд следил за полетом чаек в синем небе. – Зефи… Зефи… – внезапно пробормотал Бастьен хриплым голосом. – Как приятно, не правда ли? Ох! Я хотела бы жить на берегу моря! – вздохнула Зефирина, несколько неестественно потягиваясь. Ободренный ее поведением, Бастьен склонился над девушкой. Его пальцы с нежностью смахнули с ее щеки прилипшие песчинки. На губах Зефирины промелькнула улыбка. Она смутно догадывалась, что ей надо бы подняться как можно быстрее и продолжить прогулку. Но ей было слишком хорошо, она совершенно расслабилась, не могла и не хотела двигаться. Девушка закрыла глаза, ощущая около своей щеки прерывистое дыхание Бастьена. Как ни была она неопытна, она знала, что играет с ним, как кошка с мышью. Однако она не до конца осознавала свою жестокость, не представляла себе полностью то зло, которое могла причинить. Покатый склон приближал ее к юноше. Их тела соприкоснулись. Внезапно с неистовой силой, которой Зефирина не ожидала, руки Бастьена обхватили ее плечи, притянули ее к себе, мяли ее тело. – Зефи, я люблю тебя… я люблю тебя, как сумасшедший… я не могу больше спать, я… Охваченный восторгом и пылом юности, Бастьен пытался найти губы Зефирины. С ума она, что ли, сошла? А Гаэтан?.. Гаэтан, которого она любила больше всего на свете, Гаэтан, которому она поклялась своей честью в верности и вечной любви? Неужели она позабудет все? Свое высокое общественное положение, свои обязательства и свое будущее! Забудет в объятиях простого серва? Несмотря на появившееся у нее желание позволить себя поцеловать и несмотря на смутные, неясные чувства, которые внушал Бастьен, Зефирина тотчас же образумилась. – Отпусти меня! – приказала девушка. Оттолкнув ошеломленного Бастьена, она поднялась, ноги у нее дрожали. – Почему, Зефи? – жалобно спросил Бастьен с побледневшими от волнения и желания губами. – Я знаю, всегда знал, что ты меня… Ты создана для меня, даже если все нас разделяет и даже если твое имя… гордость… – Достаточно! Я не хочу больше ничего слышать… и только ради нашей старой дружбы попытаюсь забыть твое безобразное поведение! – бросила Зефирина тоном, тем более резким, что она ощущала свою вину. – Но, Зефи, мне казалось, понял… – возразил Бастьен. – Ты ошибаешься. Я как раз хотела поговорить с тобой как с настоящим другом и объявить тебе о моей тайной помолвке! Произнеся эти слова, Зефирина, как бы ища поддержки у союзника, подошла к Красавчику. – Ваша… помолвка! – произнес, запинаясь, Бастьен. – Да! Не глядя на юного серва, Зефирина выпалила скороговоркой: – Я пообещала выйти замуж за одного рыцаря, чье имя я сейчас не могу сказать… Но если я тебе и признаюсь в этом, то потому, что с этого дня я рассчитываю на тебя… Рев Бастьена прервал фразу Зефирины: – Вы хуже, чем самые кокетливые и игривые деревенские девчонки! Задетая за живое, Зефирина в ярости обернулась: – Я запрещаю тебе сравнивать меня с девчонками, которые пасут гусей! – Вы друг друга стоите. Они совсем не ученые, но зато позволяют развлекаться с собой в канавах! – Ты отвратителен! – Так сохраните ваши прекрасные фразы, вашу добродетель и ваши ласки для Красавчика. Это все, что вы способны дать! – Я прикажу тебя высечь! – Я не доставлю вам этого удовольствия! – зарычал Бастьен. – Но за кого ты себя принимаешь? Грубиян… мужлан… деревенщина… Я… Я… Вернись! Я приказываю тебе!.. Зефирина остановилась, задохнувшись от бешенства. Ее крики ни к чему не привели. Бастьен как сумасшедший вскочил на своего мула и удалялся на неровно скачущем Помпоне. – О, он мне за это заплатит! Разумеется, я больше в жизни ему слова не скажу! Деревенская задница! Я заставлю его знать свое место! – метала громы и молнии Зефирина. Мгновение она постояла, чтобы успокоиться. Опершись на лодку, она влезла в седло и, погруженная в сумбурные мысли, Поскакала к морю. Вдруг она заметила, что забыла на песке свою шапочку с голубым перышком. Не желая возвращаться в лагерь с непокрытой головой, она заставила Красавчика проделать сложный поворот. Пришпорив коня, девушка вновь поскакала галопом к лодке. Но, охваченная ужасом, тут же сдержала бег коня: силуэт какого-то мужчины, который, должно быть, лежал за лодкой, высился там. Этот человек распрямился, потягиваясь… Мужчина спокойно стряхивал пыль с камзола. Он прикрепил на место свою шпагу и надел берет с пером на голову. Зефирина находилась слишком далеко, чтобы различить черты его лица, но, судя по изяществу его силуэта, была уверена в том, что это дворянин. Она предпочла бы тысячу раз встретиться с каким-нибудь рыбаком, уснувшим за своей лодкой. – Какой стыд… Какой ужас! – простонала Зефирина, разрываясь между яростью и отчаянием. Она кусала свой кулачок, однако это не помогало успокоиться. Ведь свидетель, возможно, даже приближенный к королю, слышал всю эту ужасную сцену с Бастьеном. Она лихорадочно пыталась вспомнить свои опрометчивые слова. «Зефирина!» Бастьен и она сама много раз повторяли ее имя. Но она не назвала Гаэтана и теперь поздравила себя с этим. Девушка терялась в догадках: был ли это шпион, пришедший подслушать их беседу? Или речь шла об одиноком путнике, который был внезапно разбужен их криками? Зефирина склонилась ко второму предположению. Несмотря на гордость, она почти хотела броситься в ноги незнакомцу, умоляя его не сплетничать при дворе, пожалеть репутацию юной девушки. Но дворянин, должно быть, заметил ее внезапное возвращение. Он, казалось, вдруг очень заторопился. У него была гибкая, почти кошачья походка. Мужчина поднимался в дюны. Какое-то время девушка еще видела черное перо на его берете, возвышавшееся над высокими травами, потом и оно исчезло. С грубостью, ей не свойственной, Зефирина пустила Красавчика в галоп и доскакала до перевернутой лодки. Сомневаться не приходилось: очертания большого тела еще были видны на песке со стороны дюн. Зефирина несколько раз объехала вокруг лодки. Серая бархатная шапочка валялась на гальке, но голубое перышко, ее украшавшее, исчезло, «украденное» незнакомцем. От такой наглости девушка с досады прикусила губу. Начинался прилив, вода быстро поднималась. Зефирина покинула берег и отважно углубилась вместе с Красавчиком в серебристые дюны.ГЛАВА XIX ЗАГОВОР
За дюнами она обнаружила свежие следы двух лошадей, по которым довольно долго ехала, но, наконец, совсем потеряла их на каменистой лесной дороге. Красный диск солнца в небе начал опускаться. Теперь Зефирина раскаивалась, что заехала так далеко, но с упрямой настойчивостью продолжала ехать по следам «вора». Без факела, без сопровождения, опасаясь того, что ночь застигнет ее в лесу, Зефирина уже жалела, что не вернулась в лагерь, следуя берегом моря, так как Красавчик стал прихрамывать. – Ну, еще одно маленькое усилие, мой дорогой! Если бы только знать, где мы находимся! – прошептала Зефирина. Словно в ответ Красавчик заржал. Славный конь, должно быть, только что услышал, одновременно с Зефир иной, раздававшиеся с лужайки бодрые звуки ударов молота о наковальню. Немного удивленная, успокоившись от того, что найдет помощь в этом пустынном месте, Зефирина спрыгнула на землю. Ведя Красавчика за повод, она подошла к кузнице. При ее появлении здоровяк, который изо всех сил ковал какой-то котел, прекратил свою работу. – У моего коня расковалось левое копыто! – сказала Зефирина. – Вот те на! Да, его копыто повреждено! Надо будет подумать о сургуче! На работу уйдет не меньше часа, сударыня! – предупредил кузнец после того, как осмотрел пораненное копыто Красавчика. Он не задавал вопросов, но Зефирина видела, что в его взгляде светится любопытство. Он был явно удивлен тем, что юная аристократка ездит по лесам совсем одна. – С моим лакеем приключилась маленькая неприятность. Он очень скоро присоединится ко мне! – поспешила объясниться Зефирина. – Ну, вот это уже другое дело! Потому что по ночам, мадемуазель, в лесу Гин бывает небезопасно! – О, он будет здесь до наступления ночи! – заверила Зефирина, довольная тем, что узнала, где находится. Внезапно вспомнив, что ей говорил по поводу ее мачехи Ла Дусер, она спросила: – Я как раз направлялась в монастырь Валь-Дорэ. Это далеко отсюда? – Совсем нет. Я-то ведь служу кузнецом у святых отцов. Вы даже можете пройти туда пешком по маленькой тропинке. Вот там, видите… Когда вы спуститесь по ней, то монастырь будет у вас на расстоянии вытянутой руки. Но вы должны вернуться до заката, чтобы не заблудиться! – Не беспокойтесь, с лакеем либо одна, я очень скоро вернусь! Не зная точно, что же она ищет, девушка пошла в направлении, указанном кузнецом. Придерживая одной рукой шлейф своего платья-амазонки, Зефирина шла недолго и вскоре наткнулась на плотную изгородь из кустарника. Она раздвинула ветви своим хлыстиком и влезла на находившуюся позади изгороди песчаную насыпь. Слегка задохнувшись, Зефирина чуть не отступила назад. Кузнец был прав: если уж и не на расстоянии вытянутой руки, то уж, конечно, на обозримом расстоянии находился монастырь Валь-Дорэ, окруженный высокими стенами. Он стоял как раз посередине небольшой лесистой долины. Некоторое время девушка смотрела на монастырь и на ухоженный сад, в котором работали молчаливые монахи, обрезая розовые кусты, окапывая фруктовые деревья и на ходу читая книги с благочестивым содержанием. Колокол зазвонил к вечерне. Усевшись на мох, Зефирина погрузилась в мечты. Эта обстановка напомнила ей о монастыре Сен-Савен… о брате Франсуа… о мамаше Крапот… Девушка еще раз задумалась над странными словами, произнесенными старой лесничихой. Почему с детства Зефирину не покидало необъяснимое чувство, что ей предстоит нападать и защищаться, все время опережая неведомого противника… Девушка вздрогнула: ненависть… да, ненависть жила в ее сердце! Это ужасное чувство как бы вросло в нее корнями. Время шло. Зефирина решила вернуться обратно. Поднимаясь, она заметила находившуюся вне стен монастыря, притаившуюся среди папоротника и дрока, маленькую каменную часовню, о существовании которой она не подозревала, когда проходила по тропинке, заросшей крапивой. Чувствуя непреодолимое желание помолиться, Зефирина пошла в этом направлении. Двери были открыты, и она увидела алтарь. Видимо, эта часовня в прошлом веке служила молельней какому-нибудь знатному местному вельможе. Казалось, это место и теперь не было совсем заброшенным, о чем говорили искорки в дарохранительнице, стоявшие кое-где на плитах скамеечки для молитв и ветхая исповедальня из источенного червями дерева, которая была придвинута к стене. Хоры были погружены в мягкий сумрак. Зефирина опустилась на колени прямо на ступеньки алтаря. Опустив голову на руки, она начала свой суд совести: «Господи, прошу, помоги мне… Я – гордая, злая, черствая… Я плохо поступила с Бастьеном. Накажи мое тело за темные мысли, которые смущают меня. Убери тот жар, что я ощущаю у себя в животе и бедрах. Устрани это желание мужского поклонения, от которого у меня мурашки бегут по коже. Я покаюсь в этом. Каждое утро я буду читать по три молитвы. Помоги моему браку с Гаэтаном, я люблю его и буду ему хорошей супругой. В особенности же я тебя умоляю, вырви с корнем из моей души эти мерзкие, гнусные подозрения против доньи Гермины… Твоя слуга смиренно просит тебя… Не отталкивай ее… Я слишком молода, слаба, неопытна. Моя дорогая мама там, рядом с тобой, Господи, позволь ей указать мне дорогу, по которой…» Заливаясь слезами, Зефирина прервала молитву. Бог словно бы захотел ответить, и она услышала, как звенят бубенчики в упряжке, подъезжавшей все ближе. Зефирина хотела было быстро выйти из часовни, когда знакомый голос пригвоздил ее к месту: – Подожди меня, Каролюс. Шелест шелков извещал о приближении доньи Гермины. Не раздумывая над последствиями, Зефирина бросилась в исповедальню и закрыла за собой дверь. Находясь в убежище из резного деревянного кружева, сидя на месте исповедника, девушка затаила дыхание, следя за своей мачехой. Зефирина не различала выражения ее лица, но опьяняющий запах духов доньи Гермины дразнил ее обоняние. Маркиза опустилась коленями на скамеечку для молитв. Она подняла вуаль, приколотую к шапочке. Опустив голову на руки, она, казалось, как и несколько мгновений тому назад Зефирина, погрузилась в усердную молитву. Возможно, донья Гермина просила Бога о том же, о чем просила ее падчерица. Зефирина вдруг устыдилась своей роли шпионки. Вот дорога, указанная ей божественным провидением: сейчас она выйдет из своего тайника и бросится в объятия доньи Гермины. И они обе, по-настоящему примирившись друг с другом, поцелуются чистосердечно, как мать и дочь, и… Зефирина уже положила руку на дверной засов, когда раздался стук копыт лошади, скачущей галопом по заросшей вереском равнине. Услышав шум, донья Гермина поднялась, а Зефирина застыла, положив руку на засов. Снаружи всадник торопливо спрыгнул на землю. – Не давай никому приближаться, Каролюс! – коротко бросил он. Этот холодный голос показался Зефирине знакомым. – Положитесь на меня, монсеньор! – ответил карлик услужливо. «Монсеньор»? Все более и более заинтригованная Зефирина придвинулась к решетке исповедальни, чтобы разглядеть вновь прибывшего. Воинственным шагом человек вошел в часовню. – Ах, наконец! Вот и вы, Шарль! – Меня задержал наш дорогой король, можно подумать, что он не может обойтись без моей персоны! Итак, какие новости, Генриетта? «Генриетта»? Зефирина прижала руку к губам, чтобы заглушить едва не сорвавшийся с уст возглас изумления. Продолжая говорить тем же тоном, полным горечи, мужчина опустил полу плаща, которой прикрывал нижнюю часть лица. Несмотря на царивший полумрак, Зефирина тотчас же узнала костлявое лицо коннетабля де Бурбона. Что это была за тайна? Почему принц, главный казначей, губернатор Лангедока, губернатор герцогства Миланского, первый дворянин в королевстве, имевший преимущество перед принцами крови, приехал без свиты на это тайное свидание? – За вами не следили, Шарль? – забеспокоилась донья Гермина. – Это невозможно. Я выскользнул из этого проклятого лагеря, взяв камзол одного из моих офицеров. А вы, Генриетта, не было ли у вас самой трудностей для того, чтобы удалиться? – Напротив, я довольно громко назвала место нашей встречи! – ответил мелодичный голос доньи Гермины. – Вы что, с ума сошли? – Успокойтесь, Шарль! Это лучший способ устранить всякие подозрения, объявив о моем намерении помолиться в Валь-Дорэ. Неприятный смех герцога де Бурбона разнесся по часовне. – Я вас обожаю, Генриетта, за вашу дьявольскую ловкость! – Опасайтесь произносить некоторые слова, Шарль! – сухо бросила донья Гермина. – Хм… У меня мало времени. Так что же такое срочное вы мне хотите сообщить, Генриетта? – Карл V отправил гонца к королю Англии! При этих словах, очень четко произнесенных доньей Герминой, коннетабль пожал плечами. – Хорошая новость, по правде сказать! Король тотчас же был поставлен в известность солдатами, охраняющими лагерь. Между нами, вашему императору следовало бы потребовать от своего «посланца» вести себя немного скромнее! – Тсс… тсс… когда я сделаю из вас повелителя Франции, Шарль, вам надо будет остерегаться ваших первых побуждений. У меня мало времени, садитесь и слушайте меня не прерывая, я вас прошу! Донья Гермина уселась на скамью. Коннетабль де Бурбон присоединился к ней. Внезапно он схватил ее за плечи. – Ты знаешь, что я всегда тебя слушаю, Генриетта… Произнеся эти слова очень нежным тоном, Шарль де Бурбон впился губами в шею доньи Гермины. Она закинула голову назад. Стон сорвался с ее губ. Ее пальцы вцепились в мужской камзол. – Нет, Шарль, нет… Не сейчас, не здесь… – Ты стала очень целомудренной, Генриетта, со времени нашей первой встречи. А ведь это было уже в монастыре, если у меня хорошая память… «Монастырь… Генриетта… Что хотел сказать коннетабль де Бурбон?» Мысли, доводящие до безумия, теснились в голове Зефирины. Вдруг в голову ей пришла абсурдная идея, от которой она тотчас же отказалась… но совпадения очень смущали ее… незаконнорожденная сестра ее матери, ее сводная сестра, ее собственная тетка Генриетта де Сен-Савен, действительно ли она умерла, утонув в разлившейся реке? И инициалы С.С.[21]… Генриетта де Сен-Савен… Гермина де Сан-Сальвадор… Нет, невозможно… Случайное совпадение… Тетя Генриетта была добрым и набожным созданием, не имевшим ничего общего с чудовищем, которым была мачеха Зефирины… А сели… А если… папаша Коке говорил о Генриетте де Сен-Савен, а не о Гермине де Сан-Сальвадор? Если ключ к тайне заключается именно в этом?.. Какой-то глухой шум прервал поток мыслей Зефирины. С незаурядной силой донья Гермина оттолкнула коннетабля де Бурбона к стене. Уверенным шагом она направилась к алтарю. – Заклинаю тебя, всемогущая Астарта, скажи: достоин ли этот человек великой участи, что его ожидает? Или тот, кому высшая власть Анубиса дарует трон, всего лишь ребенок с погремушкой в руке? О, скажи мне, Вельзевул, способен ли этот человек следовать тем путем, который ваша преданная раба ему укажет… Произнеся последние слова, донья Гермина вытащила из сумки, висевшей у нее на поясе, связанную голубку и острый кинжал. Она положила голубку на алтарь. Быстрым движением, как человек, уже привыкший к подобного рода обрядам, она перерезала горло птицы. Зефирина не смогла сдержать вздох ужаса. Герцог и донья Гермина переглянулись. – Кто-то вскрикнул! – прошептал испуганно коннетабль. – Да, это птица! Вот в этом я и вижу знак, которого долго ожидала… Высшее существо заговорило. Шарль де Бурбон, вы станете королем Франции! Говоря это, она окропила алтарь кровью. Сидя в своем тайнике, Зефирина щипала себя, чтобы удостовериться, что действительно присутствует при этой отвратительной сцене, что она не спит, находясь в плену своих обычных кошмаров. Не у нее одной было такое ощущение, ибо герцог де Бурбон, слегка побледневший, прошептал: – Разве это так необходимо? Иногда ты меня немного пугаешь, Генриетта… Донья Гермина обернулась, с горящими глазами, очаровательная и в то же время зловещая; по ее бледному лицу стекала капелька голубиной крови. Зефирина увидела, как она жадно слизнула ее остреньким язычком. Затем она продолжала своим властным голосом: – Тебе ли, коннетаблю де Бурбону, тебе ли, герою Мариньяно, дрожать, как баба? Твоя судьба пустилась в путь, Агальярепт указывает тебе дорогу. Ну, ты все еще жаждешь отомстить? – Клянусь царственной кровью моих предков, особенно я хотел бы выиграть процесс против матери короля! – проворчал герцог. – Глупости и бредни! Вы хнычете над Наследством Анны де Божё, которое хотят присвоить Валуа. Но вас ожидает нечто другое, Шарль! Коннетабль де Бурбон тяжело вздохнул. Он вернулся и вновь сел на скамеечку в глубине часовни. – Я ненавижу короля. Он и эта старая мерзавка, его мамаша, собираются меня ограбить, обокрасть, уменьшить мою мощь. Но от ненависти до предательства… чтобы перейти в лагерь противника, встать на путь открытого бунта… надо сделать огромный шаг! Зефирина видела, что герцог явственно вздрогнул. Он уронил свою костистую голову на грудь. Вытерев свой кинжал о тонкий батистовый платок, донья Гермина вернулась к вопросу, занимавшему ее: – Как настоящий рыцарь, перескочи овраг. Карл V никогда ничего не делает без умысла! Он специально послал к королю Англии, дабы внушить ему доверие, в качестве почти официального посланника, высокорожденного итальянского князя, который к тому же ненавидит Франциска I. Он предложит королю Англии встретиться с Карлом V как раз после завершения приема в этом претенциозном «Золотом лагере»! – Что ты говоришь? Скоро Карл V приедет? – Он прибудет в Гравелин, что возле Кале, чтобы помешать Генриху VIII подписать договор с Франциском I. Забавно, не правда ли? Ставки сделаны: еще до начала переговоров Франциск I уже проиграл. Генрих VIII будет вилять, прибегать к уверткам, оттяжкам, будет бесчувственным к очарованию Валуа. Ну, развеселись! В этот час войска Карла V уже захватывают герцогство Миланское. Они найдут там только старого брюзгу Байяра. Когда Франциск I узнает эту новость, он сразу же уедет на войну. Если ты уже сейчас присоединишься с твоими войсками к императору, то ты, Шарль де Бурбон, вернешься королем Франции! Решай: да или нет? В часовне воцарилось молчание. Охваченная тревогой Зефирина слышала, как коннетабль выстукивал сапогами какой-то военный марш на плитах пола. – Я согласен, Генриетта, я буду на встрече с Карлом Пятым! Черты лица доньи Гермины на секунду исказились. Ее длинные пальцы сжали рукоятку кинжала, голос дрожал и звучал глухо: – Ты будешь самым великим властителем в Западном мире, Шарль… Ничто не устоит перед нами… Весь мир склонится ниц… А когда ты будешь править… Я буду рядом с тобой! Говоря так, донья Гермина повернула голову к коннетаблю. При свете заходящего солнца Зефирине показалось, что два сообщника хитровато смотрели друг на друга. А что станет с маркизом де Багателем, если осуществится этот дьявольский план? Зефирина не осмеливалась ответить себе на этот вопрос. Как и бедная Пелажи, знавшая слишком много, Роже исчезнет, став жертвой «эпидемии»… Что же касается ближайшего будущего, то Зефирина поняла только, что донья Гермина, она же – Генриетта, хотела предать своего мужа, свою новую страну, своего короля, чтобы удовлетворить на службе у Карла V свое всепоглощающее честолюбие! «Эта Сан-Сальвадор» просто решила править Францией! Внезапно герцог де Бурбон встал. Он поднял воротник плаща, прикрыв лицо, и надвинул свою шляпу до бровей. – У нас едва хватит времени, чтобы вернуться до ночи, Генриетта! Как поживает Рикардо? – Бедный ребенок умирает от скуки совсем один в Сен-Савене. Ведь его-то не пригласили! – сказала донья Гермина с горечью. – Ну так не беспокойся больше. Раз уж планы насчет женитьбы на этой рыжей потерпели неудачу, отдай его мне в оруженосцы. В общем-то, это же естественно, что его отец будет заботиться о его будущем… Донья Гермина прервала коннетабля, дав ему знак замолчать: – Ты говоришь серьезно, Шарль? – Самым серьезным образом в мире! Лоб «этой Сан-Сальвадор» перерезала морщинка. Она вдруг приняла решение: – Я вверяю вам Рикардо, но с условием, чтобы он никогда не узнал о том, что он незаконнорожденный! – Само собой разумеется. Неужели вы думаете, что я хочу, чтобы кому-нибудь стало известно о наших отношениях, Генриетта! – В обмен на это отдайте мне Византийца! – Вы что, хотите от кого-нибудь избавиться? – насмешливо спросил коннетабль. – Мне необходим преданный слуга, чтобы, не рискуя, заставить замолчать одного человека, нанесшего мне тяжкое оскорбление! Услышав этот ледяной голос, Зефирина почувствовала, как у нее по спине волной пробежала дрожь. Пот тек ручьем у нее по рукам, покрывал ладони, стекал по шее. – А он, что, ненадежен? – прошептал герцог, указывая на карлика Каролюса, ожидавшего под деревьями. – Да нет, но… иногда становится слишком сентиментальным! – так же шепотом ответила донья Термина. – Хорошо, было бы дурно с моей стороны отказывать вам в этой маленькой просьбе. Сегодня же вечером Византиец будет в вашем распоряжении. А что касается всего остального, то когда вы дадите мне знать, Генриетта? – Очень скоро. Сигналом к отъезду будет служить красный носовой платок, у которого будут завязаны узелками все четыре угла. Его принесет вам Каролюс или Беатриса. До этого момента будьте крайне осторожны! Удачи, монсеньор! – Прощайте, маркиза! Голоса коннетабля и доньи Гермины удалялись. Выждав, когда звук копыт совершенно исчезнет в лесу, Зефирина вышла из своего укрытия. Бледная, с подкашивающимися ногами, она вынуждена была предпринять почти нечеловеческие усилия, чтобы дойти до алтаря. Единственным свидетельством всего этого кошмара была кровь на камнях и уже застывшее тельце зарезанной голубки. Словно желая сохранить эту осязаемую улику, Зефирина вырвала у несчастной птицы несколько перышек, и погрузила их в кровь. Когда кровь стекла, она сунула их себе за корсаж. Снаружи быстро темнело. Зефирина ускорила шаг, чтобы вернуться в кузницу. При каждом крике совы, вспархивании летучей мыши над головой, трепетании тени от ветки она вздрагивала и начинала дрожать. Сердце бешено колотилось у нее в груди. – Я не должна поддаваться панике! Мне надо успокоиться. Прежде всего необходимо найти дорогу. Я подумаю обо всем после! – повторяла Зефирина, стараясь отыскать нужную тропу во враждебном лесу. Внезапно заржал Красавчик, и это указало ей верный путь. Она пошла быстрее и вскоре вышла на поляну, где стояла кузница. – Вы там долго пробыли, я уж не надеялся вас увидеть в такой поздний час… А ваш лакей, он-то где? Я дал двойную порцию овса вашему коню, и он все слопал, будьте уверены. Но вы не можете ехать совсем одна ночью, я провожу вас до монастыря! Говоря все это, кузнец снял свой кожаный фартук и закрыл дверь своей кузницы. Зефирина, покачав головой, торопливо заговорила: – Благодарю вас, но мне во что бы то ни стало надо вернуться в королевский лагерь! Она достала из-за пояса два золотых экю, чтобы оплатить услуги кузнеца. – Но это же верная гибель, ехать одной через лес! – процедил сквозь зубы мужчина, глядя на золотые монеты, украшенные лилиями и восходившим над ними солнцем, блестевшие у него на ладони. – Будьте любезны, не дадите ли вы мне факел? Торопясь уехать, Зефирина поставила ногу на камень, чтобы взобраться в седло. Мужчина пожал плечами: «Если эта девчонка сошла с ума, то это ее дело». Он отвернулся. Дрожащее личико и огромные глаза Зефирины заставили его вновь повернуться к ней. Хотя девушка его ни о чем не просила, он проворчал: – Никто не скажет, что Нарцисс Симон, мастер-кузнец, бросил беззащитную малышку одну в лесу. Если это действительно так спешно, то я пойду с вами, но только за одну вашу улыбку, барышня! И кузнец гордо вложил монеты в руку Зефирины. Когда через час они увидели лагерь, освещенный тысячами огней, она была уже лучшим другом Нарцисса Симона. Этот человек говорил правду в глаза. Под его грубой внешностью пряталась чуткость, проницательность в сочетании с неколебимым здравым смыслом. Впервые в жизни Зефирина узнала о том, какова была реальная жизнь тех, кого в их кругу называли простолюдинами. Симон когда-то был сервом, монахи дали ему вольную, и теперь за сорок пять солей в день он, как и все ему подобные, работал от света дотемна. Несправедливость такого положения вещей внезапно возмутила благородный ум девушки. Однако, слушая кузнеца, Зефирина успокоилась. Она привела в порядок свои мысли. Она знала, как поступит. – Прощайте, мастер Нарцисс, я благодарю вас от всего сердца и прошу принять, в знак моей признательности, этот скромный памятный подарок. С этими словами Зефирина сняла тоненькую цепочку со своего запястья. – Ну, барышня, вот это другое дело! Я принимаю это в знак дружбы! Да хранит вас Господь! Услышав это пожелание, Зефирина задрожала. Ей действительно было необходимо покровительство самого Господа, чтобы довести до благополучного конца свою миссию! Она направилась к конюшням, дала повод Красавчика одному из пажей, поручив отвести коня к Бастьену. Затем, не потрудившись сменить туалет, направилась к «Дому короля». Все четыре павильона ярко сияли, освещенные факелами. Вокруг королевских палаток царила большая суматоха. Придворные сновали взад и вперед. Зефирина увидела своего отца, но предпочла спрятаться за золочеными скульптурами одного из источников. Могла ли она сказать ему: «Ваша жена – презренная негодяйка?» Роже де Багатель отказался бы ее слушать. И даже, если бы он, несмотря ни на что, поверил ей, то все же Зефирина не могла решиться нанести ему этот удар, причинить ему такое горе. Нет, она должна за это взяться иначе! За ее спиной раздалось восклицание: – Божественная Зефирина! Раз вы здесь, значит, вас нет в другом месте! Застигнутая в своем укрытии, Зефирина с облегчением узнала маршала де Ла Палиса. – Сударь… – торопливо сказала Зефирина, – само небо посылает вас! Крайне важно, чтобы я поговорила с королем. Но только наедине! Прошу вас, проведите меня в его покои так, чтобы никто не видел! Жак де Шабанн, господин де Ла Палис внимательно всматривался в напряженное личико девушки, стараясь угадать причину столь неожиданной просьбы. «Неужели это еще одна охваченная жаром любви девчонка, готовая на все, чтобы обратить на себя внимание Франциска I?» Ничем не показывая своего разочарования, Ла Палис спросил: – Могу я хотя бы узнать зачем? Зефирина тряхнула своими рыжими кудрями: – Я не могу вам ничего сказать, сударь. Знайте только, что речь идет о судьбе королевства. Вы должны довериться мне! Зефирина произнесла эти слова с такой серьезностью, что Ла Палис, на которого это произвело впечатление, прошептал: – Хорошо. Я верю в юную особу, самую умную девушку Западного мира! Подождите меня, божественная Зефирина! Не прошло и двух минут, как маршал вернулся. Не говоря ни слова, он сделал знак своей подопечной следовать за ним к палаткам из золоченой ткани. Здесь, в отличие от портика у входа, царило относительное спокойствие. Около дюжины лакеев занимались уборкой: выносили мусор и мыли покрытую эмалью посуду. Открыв калитку в ограде и прошептав ночной пароль: «Амбуаз и Ангулем» на ухо одному из солдат, Ла Палис приподнял пеструю драпировку, что бы пропустить Зефирину в длинный коридор. Все так же молча, маршал повлек девушку к рабочему кабинету. Она заметила прикрепленные к деревянным стойкам карты Италии. Не дав девушке времени разглядеть что-либо еще, Ла Палис отодвинул одну драпировку. В центре комнаты-ротонды возвышалась кровать под алым балдахином, расшитым лилиями. Немного озадаченная, Зефирина оказалась в комнате самого короля, освещенной, как и весь павильон, множеством свечей в канделябрах. – Наберитесь терпения, его величество скоро придет! – прошептал Ла Палис. Он тотчас же удалился. Внезапно обессилев, Зефирина упала в кресло. Она сняла серую шапочку, которая сжимала ей виски. Движением руки распустила свои волосы, золотымиволнами рассыпавшимися у нее по плечам. Чтобы еще раз убедиться в том, что это была не игра воображения, Зефирина взглянула на обагренные кровью перышки голубки. Она сунула их обратно за корсаж, закрыла глаза, вспоминая ужасные происшествия сегодняшнего дня. Казалось, что за двенадцать часов она постарела на двенадцать лет, столь тяжкая ответственность давила на ее плечи. Еще совсем подросток в свои пятнадцать лет, она чувствовала, что стала совершенно взрослой. Сидя с закрытыми глазами, Зефирина слышала смех, звон посуды. Король ужинал в хорошей компании. Тот шпион, который наблюдал за ней на берегу, возможно, был одним из пирующих. Зефирина пыталась вспомнить, его облик, его гибкую походку там, в дюнах. Быть может, однажды она вновь увидит его и обольет своим презрением. Голос короля вернул Зефирину к действительности: – Итак, что же это за столь не терпящие отлагательства известия, прелестная Саламандра? Ухватившись рукой за драпировку, Франциск I с лукавым видом рассматривал Зефирину.ГЛАВА XX СЮРПРИЗЫ АЛЬБИОНА
Зефирина от досады закусила губу. Великое слово было произнесено. Какая-то девушка! Какая-то женщина! Она была лишь одним из этих безмозглых созданий. Если бы она была мальчиком, юношей, все было бы по-другому! Но из-за того, что она носит юбку, король ее даже не слушал. Он смеялся. Вот так! Выслушав ее рассказ, король рассмеялся ей прямо в лицо: – Ну-ну, прекрасная Саламандра! Думай лучше о любовных интрижках… Произнося эти слова, король играл волосами Зефирины. Придя в бешенство, она испытывала желание укусить этого очаровательного короля, который столь легкомысленно отказывался прислушаться к ее предостережениям. – Для особы твоего пола и возраста у тебя слишком большое воображение! – продолжал король. – Все, о чем ты говоришь, очень серьезно. Своими обвинениями ты могла бы отправить свою мачеху на костер, а коннетабля – под топор палача! Завтра, малышка, будет великий день. Завтра официальная встреча с королем Англии. Сегодня вечером у нас будет бал, и мой «брат» Генрих прислал мне целую делегацию своих придворных. Я хочу видеть вокруг себя мои самые прекрасные цветы. Пойди переоденься и возвращайся танцевать павану. Если ты будешь благоразумной и любезной девочкой, я сам, слово короля, станцую ее с тобой. Теперь ступай, Зефирина… И запомни, я тебе категорически приказываю не говорить ни одной живой душе о том, о чем ты мне только что рассказала. Поклянись на распятии! – добавил Франциск I. – Клянусь в этом, сир, потому что вы приказываете! – повторила пришедшая в отчаяние Зефирина. – Но помните, я вас предупреждала, а вы не захотели меня услышать! Не обращая внимания на суровый тон Зефирины, король улыбнулся себе в бороду. – Ты – очень хорошенькая особа, Зефирина. Думай лучше о том, чтобы остаться красивой! Прежде чем она успела пошевелиться, король поцеловал ее в уголок рта. Ни о чем не сожалея и ни в чем не сомневаясь, он выпрямился в своем расшитом золотом камзоле и хлопнул в ладоши. Тотчас же в его комнату вошел паж, одетый в небесно-голубой костюм. – Ла Френей, проводи мадемуазель де Багатель к ее палатке! – приказал король. Настаивать было бесполезно. Так как у нее не было больше никаких аргументов, она молча откланялась, сделав реверанс, и последовала за юнцом с факелом по лабиринту павильона. Как только Зефирина покинула комнату-ротонду, Франциск I поднял драпировку, скрывавшую вход в рабочий кабинет. – Вы слышали, Ла Палис? Что вы об этом думаете? – Трудно сказать, сир. Но если это не ложь, то это правда… а если это правда, то это большое несчастье! – Хм… она казалась искренней… Однако я их знаю, этих молоденьких девушек: никаких мозгов, а темперамента – хоть отбавляй! Маршал де Ла Палис покачал головой: – Мадемуазель де Багатель не такая, как все, сир. Хоть она еще очень молода, но уже сейчас она один из лучших умов вашего царствования. – В особенности она преуспела в том, что своими прекрасными глазами вскружила вам голову, маршал! – усмехнулся король. – Немного есть, сир, но я доверяю ей. Чем больше я обо всем этом думаю, тем больше верю в то, что она стала свидетелем нечто действительно ужасного! Какой ей был интерес рассказывать это? – Женские ссоры! Эта юная особа ненавидит свою мачеху… отсюда и обвинения в жутких преступлениях… Король уселся в кресло, покинутое Зефириной. Стоя перед своим монархом, маршал де Ла Палис был погружен в раздумья. Вдруг он решился и сказал: – Не рискуйте, сир. Прикажите арестовать герцога де Бурбона, прикажите наблюдать за лагерем Генриха VIII, чтобы помешать Карлу V приблизиться! – Хороший совет, в самом деле! Заточить в тюрьму без единой улики самого знатного вельможу моего королевства и рассердить короля Англии, который прибыл с дружескими намерениями. Действовать как тиран в отношении одного и как предатель – в отношении другого. Нет, я хочу быть верным своему слову монархом, хочу верить, что наши соперники поступают так же! Ну же, не делайте такого вытянутого на целый локоть[22] лица и идите пригласите наших дам танцевать павану, Ла Палис… Одетая в великолепное атласное платье цвета индиго, чья широкая юбка с фижмами подчеркивала ее тонкую талию и изящную выпуклость груди, Зефирина смотрела на себя в освещенное свечами зеркало. Ее мысли были далеко. Она едва слышала болтовню своих приятельниц, восторгавшихся балом, а также жалобные упреки мадемуазель Плюш, которая ждала ее в течение всего дня. – Вы выдергиваете у меня волосы, Плюш! – сухо сказала Зефирина, не давая никаких объяснений по поводу своего исчезновения. Раздались первые звуки гобоев и виол д'амур[23]. У Зефирины не хватало духу на то, чтобы пойти развлекаться. Однако она позволила «благородным девицам» увлечь себя за собой. Оживленно щебечущая группка направилась к королевским павильонам. Нет ничего страшнее на свете, чем быть один на один со своей тревогой среди беззаботной толпы. Как только Зефирина ступила в сверкающий мир большой бальной палатки, она почувствовала себя чужой среди присутствующих. Удушающая жара, усиленная сотнями факелов, царила здесь. Но кавалеры и дамы танцевали и, казалось, не испытывали никаких неудобств от жары; они теснились у буфетов, ломившихся от яств, любезничали, состязались в элегантности, кланялись восседавшим на тронах королю и королеве. Зефирина издали увидела своего отца в пестром камзоле. Донья Гермина, или, скорее… Генриетта, блистала в роскошном наряде из бледно-желтой тафты, красоту которого подчеркивали бриллиантовые звезды. Чуть дальше находился герцог де Бурбон, окруженный своими приближенными. При виде того, как эти два сообщника игнорировали друг друга, кто бы мог подумать об их гнусности и низости? «Что делать… что же делать?» – мучительно думала Зефирина, у которой сердце сжималось от бессилия. Словно чтобы опровергнуть сказанное ею королю Франциску I, в большой зал вошла делегация англичан. Встав на цыпочки, Зефирина видела, как мимо нее двигались широкие спины британских вельмож. Поднявшийся шепот, похожий на шум морского прилива, даже заглушил звуки оркестра: – Смотрите… Король… Король Англии… Генрих VIII… Он спрятался среди своих дворян. Он улыбается. Это тот брюнет? Да нет же… У его величества золотистая борода… рыжая, курчавая… вон там… да… Это он… самый сильный… Ах, как он красив! Какое достоинство… какое очарование… изящная осанка… стройные ноги… А королева, Екатерина Арагонская? Ее здесь нет… она ждет в лагере… Говорят, что он пренебрегает ею, предпочитая ей госпожу де Болейн… Генрих VIII! Генрих VIII! Генрих VIII! Это был визит, нанесенный инкогнито, неожиданный, невероятный, еще вчера – невообразимый. – Какой знак дружбы и доверия! – прошептала Иоланда де Флоранж на ухо Зефирине. Должно быть, и король Франциск I был того же мнения. Светясь от счастья, король Франции вскочил со своего трона. Он спускался по ступеням навстречу королю Англии, протянув руки. Под приветственные крики придворных обладатели каштановой и рыжей бороды долго обнимались. Два «брата» ласково хлопали друг друга по спине, улыбаясь друг другу, осыпали множеством комплиментов. – Что вы думаете о короле Англии, Зефи? – спросила Иоланда де Флоранж. «Что он король мошенников!» – хотела ответить Зефирина. Она благоразумно воздержалась от такого ответа и посмотрела на двух королей, которые под руку обходили зал по кругу. Генрих VIII, как и Франциск I, был в расцвете лет. Тридцатилетний мужчина, с бычьей шеей, со здоровым цветом лица человека, привыкшего к охоте и свежему воздуху. Отвечая на вопросы на прекрасном французском языке, король Англии украдкой осматривал глазами гурмана всех красивых дам, которых ему представлял Франциск. После того как они долго разговаривали с коннетаблем де Бурбоном, с маршалом де Ла Палисом, с адмиралом де Бонниве, с маркизой и маркизом де Багатель и другими знатными вельможами королевства, оба короля оказались в центре зала. Здесь находились Зефирина и ее приятельницы, стесненные так, что не могли пошевелиться; фижмы одной налезали на фижмы другой. – А вот и наши благородные девицы, брат мой! – заявил Франциск I. – Вы счастливец, мой добрый брат, рядом с вами целая армия чаровниц! Генрих VIII сопроводил свои слова, сказанные с легким иностранным акцентом, смешком, показавшимся Зефирине очень неприятным. – Мадемуазель де Флоранж… Мадемуазель де Бонниве… Мадемуазель де Багатель… – учтиво представлял Франциск I. Услышав свое имя, Зефирина опустилась в глубоком реверансе. – О, божественная рыжуха! Я считал, что я – единственный обладатель такого редкого цвета волос… Ах, ах, у нас обоих, мадемуазель, волосы, как мех у лисицы! – воскликнул Генрих VIII. Выслушав эту королевскую шутку, все придворные, французские и английские, расхохотались. Оба короля уже собирались пройти мимо. Зефирина выпрямилась, глаза у нее горели. – Ваше величество слишком добры ко мне. К тому же, рыжий цвет, как вы, несомненно, знаете, это цвет честности и порядочности! Четко выговаривая эти слова, Зефирина улыбалась с совершенно невинным видом. Король Франциск I, который слишком хорошо понял двусмысленную фразу Зефирины, хотел увлечь дальше своего «доброго брата» из Англии, однако тот, тяжелый и массивный, отказался двигаться с места. Очарованный юной красотой Зефирины и уверенный в том, что она дает ему прямые авансы, Генрих VIII бросил с видом лакомки: – Хм… что касается порядочности, барышня, то мы знаем только одну дорогу, которая прямиком ведет к добродетели! Не так ли, господа? Когда король Англии произнес эту игривую фразу, смех вокруг зазвучал с новой силой. Генрих VIII, восхищенный собственным успехом, продолжал: – Ха, ха! Но что касается честности, то, клянусь честью короля и иностранца, не очень хорошо знающего язык, расскажите мне, барышня, о чем идет речь? Рукой без перчатки Генрих VIII ласкал подбородок Зефирины. Ничуть не смутившись, она выпалила: – Честность – это от слова Probitas[24], честность, сир, это такая добродетель, которая состоит в том, чтобы скрупулезно соблюдать правила общественной и королевской морали, выполнять законы, установленные правосудием и быть неподкупным. Монархи, которые ведут себя сообразно этой добродетели, храбры, прямы, честны, неподкупны, порядочны, высокоморальны, щепетильны, совестливы, добродетельны и уважаемы своими народами; те же, кто отрицает эти правила, – покрыты позором, недостойны, презренны, зловредны, нечестны и непорядочны! Они – мошенники! Слова Зефирины были встречены смущенным молчанием. Генрих VIII нахмурил брови. Его бледно-голубые глаза, казалось, искали на лице девушки глубинные причины этого словесного состояния. Франциск I тотчас же вмешался, смеясь: – Мадемуазель де Багатель – настоящая эллинская моралистка и замечательный филолог. – О, образованные женщины… эти хуже всех! – проворчал Генрих VIII. – Идемте, брат мой, отведайте наших пирогов, – предложил Франциск I, который знал, что король Англии слыл большим лакомкой. – Клянусь честью, как говорят у вас, я немножко проголодался, это будет очень кстати… Голоса королей удалялись. Свита придворных следовала за ними к накрытым столам. – Какая муха вас укусила, Зефи? – спросила Лора да Бонниве. Зефирина пожала плечами. – Он подействовал на меня раздражающе! – Господи, боже мой, король Англии вас раздражает, и вы отвечаете ему с такой дерзостью! Иоланда де Флоранж задыхалась, уткнувшись в свой платок. Она вновь заговорила, очень взволнованная: – А как вы находите английских вельмож, Зефи? – Я на них почти не смотрела! – чистосердечно ответила Зефирина. – Надеюсь, они пригласят нас танцевать бранль. Лора де Бонниве лихорадочно приводила в порядок свой чепец, в то время как другие девушки расправляли свои широкие рукава и вышитые корсажи, чтобы приготовиться к танцам. – Как раз позади короля Англии герцог Суффолкский, – продолжала с восторгом эта сплетница Иоланда де Флоранж. – Сбоку стоят маркиз д'Орсе и граф Гэлбот… О, он смотрит на меня, подружки. Но маркиз д'Орсе смотрит только на вас, Лора… «Как они глупы! – подумала Зефирина. – Ну можно ли так квохтать из-за взгляда, который соблаговолит бросить на них один из этих англичан? Они отвратительно держатся! До чего же ужасно стоять вот так, зажатой среди этих идиоток!» – О, вон тот красивый блондин, вон там, он, кажется, покорен вами, подружка Зефи! – прошептала Иоланда де Флоранж. – Кто это? – не смогла удержаться от вопроса Зефирина. – Это милорд Мортимер де Монроз. По-видимому, один из самых могущественных и богатых вельмож Англии. Говорят, что у него в Корнуэлле около пяти тысяч овец. Представляете? Решительно, эта болтунья была в курсе всего происходящего! Несмотря на презрение, которое она испытывала к своим приятельницам, Зефирина, польщенная тем, что обратила на себя внимание вельможи, владеющего таким стадом, не могла запретить себе смотреть в его сторону. Она была вынуждена признать, что лорд Мортимер был одним из самых красивых мужчин, которых она когда-либо видела. Ему могло быть двадцать восемь – тридцать лет. Кудри, светлые, как мед, обрамляли лицо с тонкими и правильными чертами. Только нос, слегка искривленный посередине, напоминал о том, что этот вельможа, должно быть, был истинным британским бойцом во время состязаний или на полях сражений. Ободренный взглядом Зефирины, англичанин дважды поклонился, рассматривая ее настойчиво и с нескрываемым восхищением. Внезапно, покинув круг придворных, окружавших королей, он прошел через зал и подошел к группе девушек. «А если это он шпионил на берегу?» – подумала Зефирина, ни жива ни мертва. Она пыталась угадать в мощных плечах, в гордо посаженной голове и в твердой, истинно британской походке милорда Мортимера облик незнакомца и его кошачью походку, что она видела со спины, когда тот удалялся. – Прекрасный Мортимер собирается пригласить вас танцевать павану, Зефи! – закудахтала Лора де Бонниве. В это мгновение паж в небесно-голубом костюме коснулся руки Зефирины… – Мадемуазель де Багатель… – Да, господин де Ла Френей? – спросила Зефирина, узнав того подростка, который провожал ее из королевского павильона. – Его величество приказывает вам удалиться! – прошептал мальчик с искренне огорченным видом. Королевская немилость! Услышав эту новость, обрушившуюся на нее словно молния, Зефирина побледнела. Ей следовало ожидать этого. Франциск I, разумеется, был сердит на нее. Зефирина прикусила губу. Почему она всегда говорит слишком много? Она должна была промолчать и оставить короля самого разбираться со своим «добрым братом» Генрихом, который готовил ему славный подвох! Зефирина быстро взглянула на своих приятельниц. Слишком занятые английскими дворянами, они ничего не заметили. Сопротивление ни к чему не приведет, только вызовет еще большее неудовольствие короля. Надо было безропотно покориться и покинуть бал как раз тогда, когда тот стал интересным. Зефирина незаметно следовала за пажом позади золоченых гипсовых скульптур. Внезапно она обернулась. Прекрасный лорд Мортимер обескураженно смотрел ей вслед. Вдруг Зефирина осознала, что ей нравится ощущать на себе этот мужской взгляд. Словно желая отомстить Франциску I, саламандра хотела заставить сожалеть о себе. Лукавый демон кокетства заставил Зефирину послать англичанину таинственную улыбку Джоконды. Придя в восторг от того, что ей удалось его смутить, она вслед за пажом проскользнула в вестибюль. Солдаты с алебардами все так же окружали большую палатку. Гармоничные звуки лютней удалялись. Снаружи светила луна. Это была одна из тех ночей, когда прилетающий с моря бриз заставлял трепетать цветущие яблони. Зефирина сделала несколько шагов вдоль королевских павильонов. – Должен ли я предупредить вашу дуэнью, мадемуазель? – спросил юный Ла Френей. – Нет, это бесполезно! – ответила Зефирина. Лучше оставить мадемуазель Плюш наблюдать издали за зрелищем бала. К тому же Зефирине не хотелось давать ей объяснения. Чем меньше людей узнает о постигшей ее немилости, тем будет лучше. – Вы позволите мне проводить вас, мадемуазель? – спросил вновь робкий юнец. Зефирина разрешила. Мальчик высоко держал потрескивающий факел. Идя вперед по пустынным аллеям лагеря, он любезно пытался приуменьшить значение королевского решения. – Я знаю короля, мадемуазель. Его величество очень добр. Завтра от всего этого не будет никаких следов… и… хм… как может он сердиться на такую очаровательную девушку! Зефирина рассеянно слушала своего спутника… Сколько ему может быть лет? Тринадцать? Четырнадцать?.. Совсем ребенок… Рядом с ним Зефирина ощущала себя чрезвычайно старой, превосходившей его в опытности. – Вот я и пришла. Спасибо, господин де Ла Френей! – сказала Зефирина, останавливаясь около своей палатки. – Мадемуазель… хм… мое почтение… я… я… Паж старался удержать руку Зефирины. – Вы такая… О, с сегодняшнего вечера я думаю только о вас… я… я был почти рад, что король дал мне такой приказ… я прошу вас, позвольте мне войти с вами… я буду очень уважителен, я вам обещаю… Этот робкий мальчик, внезапно ставший столь дерзким, возомнил, что сможет войти вместе с ней в палатку. Он проворно избавился от своего смоляного факела, оставив его на траве. Осмелев, он сжал талию Зефирины, стараясь поцеловать ее в шею. Кому же можно доверять? Зефирина, разумеется, не была готова к такому внезапному натиску. Сама не зная как, она оказалась в объятиях пажа. Хотя он и был ниже ее ростом, но был крепкий и мускулистый. При свете пламени она видела его юное безусое лицо, уже напряженное, почти искаженное желанием. – Я люблю вас, мадемуазель Зефирина! Зовите меня Эрнестом. Я с ума схожу по вам… Но я уже не девственник… Я уже был с двумя благородными девицами… Позвольте мне пошалить с вами… Прогудев все это, юный Ла Ферней укусил Зефирину. Он, что, с ума сошел? Чего хотел от нее этот Эрнест? Она с любопытством ощущала сквозь его штаны, как какая-то часть его тела стала твердой и колола ее в живот. Эта тайна смущала Зефирину. Со сбившимся дыханием, она боролась с напором одержимого юнца, когда вдруг треск веток кустарника, как раз за самой палаткой, заставил ее вздрогнуть. Она была уверена, что какой-нибудь одинокий гуляющий наблюдал за ними и не упустил ни единого слова, ни единого жеста из всей сцены! Что за день! Зефирина рассердилась на этого юнца. Нанеся изящный удар по коленям своего воздыхателя, Зефирина освободилась. – Omnis homo mendax, – каждый мужчина – лгун! Если вы пойдете за мной, Эрнест, я разобью вам голову… Добрый вечер! С видом оскорбленной королевы Зефирина отвернулась от мальчика, столь же ошеломленного латынью, сколь и ударом, и вернулась в свое походное пристанище. Девушка подождала некоторое время. Убедившись в том, что паж ушел, она быстро разделась при свете свечи. Стоя перед венецианским зеркалом, она сняла свое бальное платье, позволила упасть фижмам и тяжелым юбкам к своим ногам, сняла тонкую рубашку и корсаж. В дрожащем свете свечи Зефирина видела в зеркале свое собственное отражение. Натиск пажа ее взволновал. Она смотрела на свое тонкое, стройное тело с перламутровым блеском, на свою наготу, на свои юные круглые груди с темными сосками, различимыми в полутьме. Зефирину охватила дрожь. В горле у нее внезапно пересохло, она представила себе мужские руки на своей нежной груди… Представила себе этого красивого англичанина, проводящего рукой по нежным волосам внизу живота. В эту ночь Зефирина ощутила, что ее тело создано для любви. Но она, кроме того жара, который ощущала в бедрах, и кроме тех ласк, которые предугадывала, не знала, в чем заключается эта великая тайна любви! Стоя с пересохшим горлом, Зефирина исполненным очаровательной грации жестом подняла свои рыжие волосы на макушку. Гаэтан… Гаэтан… увидит ее такой, обнаженной, принадлежащей ему, рядом с собой, под собой… они будут лежать в одной постели… Гаэтан научит ее любви… После того как ей в голову пришла эта чудесная мысль, Зефирина быстро надела длинную белую рубашку, погасила свечу и проворно скользнула под простыню. Она лежала с закрытыми глазами, и перед ее внутренним взором вновь проходили события этого дня… Эта негодяйка донья Гермина… Коннетабль де Бурбон… Бастьен… Шпион на берегу… Нарцисс Симон… Король… Ла Палис… Генрих VIII… Прекрасный Мортимер Монроз… Все они отплясывали какую-то дьявольскую фарандолу. Утомленная Зефирина заснула… Неожиданно ее разбудил жар потрескивающего костра. Крыша шатра пылала, как факел. Зефирина вскочила. Деревянные стойки, охваченные пламенем, рушились. Пышущее жаром дыхание исходило от всех четырех стен из присборенной ткани. Зефирина испустила крик животного, попавшего в ловушку: как некогда маленькая саламандра, она была теперь пленницей огня. Палатка из золоченой ткани может превратиться в саван из пепла.ГЛАВА XXI НОЧНОЙ НЕЗНАКОМЕЦ
Зефирина глотает клубы дыма. Ослепленная, с грудью, разрываемой жаром, она ползает на четвереньках, ища выход. Окружающий ее со всех сторон огонь заставляет ее отступать к центру палатки. Ее волосы потрескивают. Она торопливо набрасывает себе на голову какую-то шаль, пытаясь их защитить, так же как и лицо. Ее руки уже обожжены горящими обрывками ткани, падающими на ее тело. Как раненое животное, она кружится по палатке в поисках выхода, отказываясь принять такую ужасную смерть. Она рычит, неистово хлопая по своей объятой пламенем рубашке. Огонь ревет все громче. Платья и юбки вспыхивают, как смола, с треском «взрываются» фижмы. Зефирина пытается выйти через заднюю стенку палатки, но вновь отступает. Одна из балок, поддерживавшая хрупкое сооружение, рушится с адским треском. Все кончено. Девушка задыхается, скорчившись. Она ненастоящая саламандра. Она не может пройти сквозь огонь. Голова ее болтается из стороны в сторону, тело погружается в пылающую бездну. Она сдается, ее руки царапают раскаленный пол. Она знает, что погибнет в огне. Она даже больше не сопротивляется. Полузадохнувшись, она вот-вот потеряет сознание. «Тем лучше! – хватает у нее сил так подумать, – она не почувствует боли». Вдруг ей кажется, что она бредит. Чей-то голос, перекрывающий рев пламени, кричит слова, смысл которых она не понимает. Словно во сне, она видит, как чья-то тень преодолевает огонь. Около Зефирины возникает черный силуэт. Этот человек набрасывает на нее мокрое покрывало. Мощные руки заворачивают ее в пропитанную водой ткань, хватают и несут прочь, словно соломинку. По тому, какой она ощущает жар, Зефирина догадывается, что ее спаситель преодолевает стену огня. Девушка задыхается под шероховатой тканью, икает, барахтается. Она слышит постепенно удаляющиеся звуки пожара. Ее уносят подальше от этого пылающего костра. Покрывало сползает с ее лица. Полной грудью Зефирина вдыхает свежий ночной воздух… дыхание жизни. По спине у нее пробегает дрожь. Она жива… жива! – Так… все кончено! Услышав эти слова, сказанные ей на ухо, Зефирина открыла застывшие от только что пережитого страха глаза. Она приходила в себя в объятиях мужчины, черты которого не могла различить. В красноватых отблесках пожара она лишь угадывала контуры мужского лица, выделявшегося на фоне звездного неба. Это лицо склонилось над ее собственным лицом. Со всех сторон доносились крики: – Палатки горят… станьте цепью… не давайте огню распространяться… принесите ведра… пожар у благородных девиц! По аллеям бежали люди. Мужчина нес Зефирину в прохладу рощи. Находясь под защитой его крепких рук, она не могла управлять своим телом. Ее колени непроизвольно дрожали, зубы стучали от страха. Одни части ее тела горели, как объятая пламенем палатка, другие же заледенели. – Спокойно, все хорошо! – с нежностью заговорил вновь незнакомец. Он сбросил плащ, с которого стекала вода, потом опустился на одно колено и хотел положить Зефирину на мягкую траву. В безотчетном порыве она вцепилась в камзол этого мужчины, о котором ничего не знала. Словно животное, устрашенное лесным пожаром, она искала убежища у широкой груди человека, который спас ее из ада. – Не… не оставляйте меня одну! – простонала Зефирина, судорожно икая. Ее руки обвились вокруг шеи спасителя. Она не давала ему уйти, крепко прижимаясь к нему. Мужчина приблизил свое лицо к ее лицу так, что почти касался его, словно хотел проникнуть в ее истинные намерения. Блестели в темноте его черные глаза, обладавшие такой силой, что Зефирина, смущенная этим сверкающим взглядом, откинула голову назад. Ее почерневшие в огне волосы торчали вокруг лба, словно ореол, тысячами крохотных буйных прядей. Рубашка, прожженная во многих местах, позволяла свободно видеть ее обнаженное тело. Ощущая на себе мужской взгляд, Зефирина внезапно осознала, в каком она виде. Она лихорадочно постаралась натянуть бесформенные лохмотья тонкого батиста на свою юную трепещущую грудь. Со спокойной властностью мужчина отодвинул ее руки в сторону, сказав с коротким смешком: – Не прячьте то, что прекрасно! У него был низкий певучий голос, в котором слышались нотки иронии. От его насмешливого тона Зефирина вдруг пришла в себя. Ей хотелось подняться, убежать, избежать новой опасности. Слишком поздно. Сверкающие глаза смело и решительно погрузились в ее собственные. Она протестующе застонала. Губы незнакомца слились с ее губами во властном поцелуе, заставившем ее задрожать. Как-то смехотворно-беспомощно Зефирина ударила наглеца в грудь; она пыталась сопротивляться, пыталась оттолкнуть его. Совершенно не смущаясь, мужчина еще крепче сжал ее в объятиях. Его поцелуй стал еще более страстным. Зефирина находилась во власти этого рта с мясистыми губами, которые раздвигали ее губы, покусывали язык, проникали ей внутрь, ласкали ее небо, зубы и возвращались влажные и горячие, словно для того, чтобы напиться из источника. Никогда еще Зефирину так не целовали, никогда Гаэтан и никто из мужчин с ней так не обращался. Захваченная чудесным вихрем, Зефирина заметила со смешанным чувством ужаса и еще сохранившейся трезвости ума, что она отказалась от всякого сопротивления, находясь в объятиях незнакомца. Более того, быстро всему научившись, она даже вернула ему его долгий поцелуй с многообещающим пылом. Трепеща, приникнув к этому возвращающему ее к жизни рту, Зефирина забывала про все свои страхи; она хотела бы навсегда остаться около этого мужчины, лица которого она даже не знала, но который защищал ее своей силой. Крики приближались. Чьи-то силуэты мелькали вокруг огня. – Там… там… около рощи… там раненый… это женщина! Почти грубо мужчина вырвался из ее объятий. Всего одну секунду он своим горящим взором рассматривал лицо Зефирины, проведя двумя пальцами по ее губам. Зефирине показалось, что среди доносившихся со всех сторон криков и взрывов она услышала: – Жаль… Легкий смешок подчеркнул это слово. Тотчас же став вновь невозмутимым, что указывало на наличие большого самообладания, незнакомец нежно опустил Зефирину на траву. «Вы – лорд Мортимер? Не покидайте меня!» – хотела было крикнуть Зефирина. Она еще хотела спросить его, кто он такой, умоляя его не покидать ее. С горящими щеками, не способная произнести ни единого слова, она смотрела на него сквозь полуприкрытые ресницы. Он разогнулся, выпрямился во весь рост над ней. Зефирина протянула руку. – Не… уходите! – удалось ей прошептать. Словно во сне она отчетливо увидела, как он поднял руку… наверное, послал ей воздушный поцелуй… Шагая широким шагом, гибкой, кошачьей походкой, незнакомец исчез в ночи. Зефирина издала невнятное жалобное восклицание. Какая-то золотая повозка перевернулась в небе. Она вновь упала на траву, потеряв сознание.ГЛАВА XXII ТРИ ПИСЬМА ЗЕФИРИНЫ
– Это несчастный случай! – Это неосторожность! – Какая-нибудь плохо погашенная свеча, наверняка! Когда Зефирина пришла в себя, она подумала, что, выйдя живой из огня, умрет от удушья. Действительно, вокруг нее царила такая суматоха, что ей не хватало воздуха. По меньшей мере добрая сотня людей – вельможи, лакеи – топтались на лужайке. Они волновались, давали советы, дергали ее, поднимали, усаживали, затем вновь укладывали, чтобы тотчас же поднять ее вновь… Движимые самыми лучшими намерениями, они чуть не погубили ее. У каждого было свое лекарство. Одни хотели всю ее намазать растительным маслом, другие были сторонниками того, чтобы всю ее целиком погрузить в большой сосуд с вином, уверяя, что ванна из бордосского вина – первейшее средство от ожогов. Некоторые отдавали предпочтение воде из родника. Дамы бежали к своим палаткам. И возвращались с мускусом, серой, амброй, семенами настурции, луком-резанцем, лошадиным навозом и даже засохшей грязью, перемешанной с коровьей мочой! В то время как услужливые руки растирали ей под покрывалом опаленные огнем ноги и руки, Зефирина пыталась найти среди склонившихся над ней лиц блестящие глаза незнакомца, спасшего ее. Прекрасный англичанин? Был ли это он? – Где он? – пролепетала Зефирина. – Она заговорила! – Она открыла глаза! – Чего вы желаете? – Этого… дворянина! – с трудом произнесла Зефирина. – Кого же?.. Какого дворянина? – Того, который… проходит сквозь огонь! – Она бредит, бедняжка! – говорили дамы, качая головами. Чей-то грубый, зычный голос покрыл весь этот шум и гам. – Клянусь носом самого папы, отодвиньте в стороны ваши головешки! – Да будут благословенны все святые рая! Барышня Зефи, вы живы! Ла Дусер с шедшей за ним по пятам неописуемой мадемуазелью Плюш рассекал толпу. Зефирина испустила вздох облегчения. Появление гиганта-оруженосца и ее дуэньи должно было спасти от ужасной мази с коровьей мочой. – Зефи, моя маленькая девочка… черт побери! Клянусь моей шпагой, не надо волноваться! Мадемуазель Плюш натрет вас мазью, которую я сам составил. Через неделю у вас везде слезет кожа, не останется и следов! Со всей нежностью, на которую был способен этот великан, когда речь шла о Зефирине, он взял ее на руки. Зефирине стало дышаться легче там, наверху, над теснящейся толпой. – Какое несчастье… ваши волосы! – жалобно причитала девица Плюш, глядя на обгоревшие пряди. Зефирина провела рукой по голове. Она сама себя не узнавала. Голова была покрыта ежиком волос, как у мальчика. «Отрастут!» – философски подумала Зефирина. Ее даже радовала мысль, что она будет похожа на юного щеголя. Ее собственное положение слабого создания, представительницы прекрасного пола, уже начинало ее беспокоить, нервировать и приводить в отчаяние. Теперь Зефирина знала, что ее разум превосходил разум большого числа мужчин. Хорошо бы и ее телу быть таким же сильным, как у мужской половины человечества. Страх и слабость, которые она испытала в объятиях незнакомца, оставили ее смущенной, сконфуженной и растерянной, Зефирина была еще слишком молода и неопытна для того, чтобы понять, что именно эта слабость может стать ее силой. – Сюда, оруженосец! – позвала графиня де Монпеза. – Идите в нашу палатку. Дуэнье будет здесь удобно ухаживать за мадемуазелью де Багатель! Все направились к соседнему павильону. Возле пепелища обуглившейся палатки раздавались разрывающие душу крики. – Наши платья! Наши драгоценности! Наши кружева! Иоланда де Флоранж, Лора де Бонниве, Маргарита де Монморанси и их приятельницы предавались отчаянию при виде своих обгоревших нарядов. Они едва повернули головы, когда мимо проносили Зефирину. «Гнусные эгоистки! Могли хотя бы спросить, как я себя чувствую!» – подумала Зефирина, задохнувшись от такого равнодушия. – Привет, Рыжуха! Ты действительно чуть не порыжела! Зефирина посмотрела вниз. Это был Каролюс, который подпрыгивал на своих коротких ножках, пытаясь увидеть юную девушку. Резким движением Зефирина оттолкнула голову карлика. Странная искра промелькнула в глазах маленького человечка. – Ты быстро восстанавливаешь силы, Рыжуха! Смех карлика растворился в шуме толпы. На какое-то короткое мгновение Зефирина пожалела о своих словах и о своем движении, но все, что касалось ее мачехи, было враждебным, отвратительным, ужасным… Она догадывалась о том, что это не был несчастный случай, что чья-то преступная рука, бросила пылающую головню. Но у нее снова не было доказательств. Среди всех этих волнений Зефирине трудно было до конца привести в порядок свои мысли. У нее страшно горели руки, колени и плечи. Несмотря на это, она чувствовала неотложную потребность довериться верному другу, сделать так, чтобы ее защитили. Зефирине нужен был хороший сторожевой пес, который будет показывать зубы, когда кто-нибудь вновь захочет напасть на нее. Когда Ла Дусер входил под украшенный вычурной отделкой навес павильона графини де Монпеза, Зефирина вдруг спросила: – Не можешь ли ты предупредить Бастьена о том, что со мной случилось, Ла Дусер? – Я бы охотно это сделал, но этот плут не появлялся в лагере. – Ты хочешь сказать, что он не вернулся с прогулки? Услышав эту новость, Зефирина побледнела. – Ну, разумеется, я еще не предупредил господина маркиза, но… – Ничего не говори, прошу тебя, умоляю, Ла Дусер… не предупреждай моего отца… – Но дело в том… – Оставь… оставь его в покое… Он не замедлит вернуться! – прошептала Зефирина. Она выглядела такой расстроенной, что Ла Дусер не стал настаивать. Он довольствовался тем, что проворчал, укладывая ее на кушетке в палатке, предоставленной графом и графиней де Монпеза: – Где же это видано, чтобы какой-то серв шлялся где ему вздумается… Но не забивайте себе этим голову, мамзель Зефи! Слово Ла Дусера, я буду молчать, и черта с два, я что-нибудь скажу господину маркизу! Успокоенная этим обещанием, Зефирина закрыла глаза. В то время как девица Плюш снимала с нее обгоревшие лохмотья и обмазывала ее тело с головы до пят мазью, девушка осыпала себя упреками. «Если с Бастьеном что-нибудь случилось, то я в этом виновата!» Она хотела бы повернуть время вспять, вернуть все назад, взять обратно свои злые эгоистические слова. «Завтра он вернется и вновь будет моим другом», – подумала Зефирина, стараясь себя успокоить. Ожоги были поверхностными, и мазь Ла Дусера сотворила чудо. Натертая мазью, посвежевшая, одетая в сорочку, подаренную графиней де Монпеза, девушка теперь отдыхала, не прислушиваясь к болтовне Плюш. Она все еще не спала. Она размышляла, и плоды ее размышлений были скорее горьки. Она осталась совсем одна: без Пелажи, которая могла бы дать совет, без Бастьена, который мог бы помочь ей. Она чувствовала, что перед лицом этого чудовища, всюду подстерегавшего ее, она одинока и беззащитна. У нее появилось желание довериться Ла Дусеру, но поймет ли ее великан-оруженосец? Если король не захотел услышать ее предостережений, то кто ей поверит? К тому же храбрый оруженосец был полностью предан Роже де Багателю. Он ему все рассказывал, а Зефирина не хотела сейчас посвящать своего отца в это дело, пока у нее не будет неоспоримых доказательств. Откровения папаши Коке все время мучили Зефирину. Был ли старик безумным? В глубине души Зефирина не верила в это. Каково же было истинное лицо доньи Гермины: ангел или демон? После того, что случилось сегодня вечером, Зефирина склонялась скорее к мысли об аде. В ожидании того, что сможет обнаружить все нити, ведущие к истине, Зефирина твердо решила стойко защищать свою жизнь. Через несколько месяцев, когда она будет замужем за Гаэтаном, он защитит ее. А сейчас надо трезво смотреть на вещи и быть очень осторожной. Надо уметь ждать! – Дитя мое! – Дорогая Зефирина! Час настал! Услышав эти два восклицания, Зефирина поднялась. Маркиз де Багатель, сопровождаемый шелковистым шорохом платья доньи Гермины, входил, совершенно задохнувшийся, в палатку. – Моя Зефи, моя дорогая… Нам только что сказали на балу. Боже мой, какой ужасный несчастный случай! – говорил, запинаясь, Роже де Багатель, который был бледнее мертвеца. Ясно показывая только что пережитый им страх, он прижал Зефирину к груди. – Успокойтесь, дорогой мой отец, теперь все хорошо, – прошептала Зефирина, тронутая этой нежностью. Она медленно высвободилась из объятий отца и посмотрела донье Термине прямо в глаза. Искреннее беспокойство, которое она читала в глазах мачехи, заставило бы ее еще раз усомниться, если бы она не присутствовала при ужасной сцене в часовне. Опьяняющий запах духов доньи Гермины распространился по палатке. И вдруг какая-то необъяснимая головная боль обрушилась на Зефирину. Устало она опустила свою рыжую головку, со ставшими теперь короткими кудрями, на подушку. – Вы устали, моя Зефи. Мы оставим вас, вы будете спать. Я надеюсь, вы не очень страдаете… – забеспокоился Роже де Багатель. – Нет… Я молилась святой Генриетте… И видите, папа, она спасла меня из огня! Говоря эти слова совершенно невинным тоном, Зефирина украдкой наблюдала за реакцией доньи Гермины. Она была разочарована. На неподвижном и величественном лице «этой Сан-Сальвадор» не дрогнул ни один мускул. Скорее Роже де Багатель казался ошеломленным. Он произнес, запинаясь: – Почему… святой… Генриетте, дочь моя? – Потому что она исполняет все, что я ни попрошу. Я очень долго молилась ей в часовне в Валь-Дорэ и просила, чтобы мы с маркизой де Багатель стали друзьями. В моем сне святая Генриетта послала мне гонца… передо мной явился коннетабль де Бурбон, так же как его сын и Византиец. Зефирина выпалила все это, ни разу не взглянув на свою мачеху. Она чувствовала себя лучше. Головная боль почти исчезла. – У нее жар! – прошептал Роже де Багатель. Он с озабоченным видом коснулся лба своей дочери. Вдруг донья Гермина встала и сказала спокойным и мелодичным голосом: – Поищите свежей воды, Плюш. А вы, друг мой, подождите меня снаружи. Я хочу охладить виски и ноги нашей дорогой дочери, чтобы у нее спал жар! «Эта Сан-Сальвадор» клюнула на приманку. Теперь пришло время Зефирине действовать, и действовать правильно! – Спасибо… спасибо… друг мой, вы так добры! – пришел в восторг Роже де Багатель, целуя руки своей жены. Драпировка опустилась вслед за вышедшими маркизом и Плюш. Зефирина была одна лицом к лицу с доньей Герминой. Если девушка еще сомневалась в виновности своей мачехи, то теперь, увидев, как изменилось ее лицо, сомнения отпали. – Негодная шпионка! Я должна была бы давно вырвать тебе язык. Тем хуже для тебя, скорпион! Я хотела другого, но у меня нет больше сил постоянно устранять тебя с пути, нет больше времени ждать! – скорчила гримасу донья Гермина. Сбросив маску, «эта Сан-Сальвадор» приближалась к ложу Зефирины. С искаженным от ярости лицом, с перекошенным от ненависти ртом, она устремила на свою падчерицу взгляд, исполненный ненависти. Зефирина оставалась на месте, застывшая, парализованная, словно птица, загипнотизированная змеей. Не имея возможности пошевелиться, она видела прекрасные надушенные руки с пальцами, унизанными перстнями. Щелкнув ногтем, донья Гермина открыла оправу большого голубого бриллианта. «Я сейчас умру!» – подумала Зефирина почти равнодушно. Как раз в этот момент где-то совсем рядом раздался взрыв. Должно быть, огонь добрался до запаса растительного масла, находившегося в палатке, соседствовавшей с той, в которой был пожар. Внезапно прийдя в себя, Зефирина вскочила со своей кушетки. – Не приближайтесь, Генриетта! Если вы меня убьете или обезобразите, вы пропали! – пригрозила девушка. При этих словах «эта Сан-Сальвадор» выказала некоторое колебание. Она явно старалась угадать по лицу Зефирины, какую часть в сказанном ею составляет правда, а какую – ложь. – Вы, что же, меня за идиотку принимаете, слепую и недальновидную? Я оставила в надежном месте три письма: одно – для короля Франциска I, другое – для его святейшества папы римского, третье – для Мартина Лютера… – выпалила Зефирина, довольная своей выдумкой. – В них пишу обо всем, что я знаю, а знаю я многое о вас, Генриетта… Если бы я погибла при пожаре, то это было бы ваших рук дело. Моя жизнь – ваша единственная гарантия, если же я умру, вы погибнете на костре как колдунья! – Гнусная негодяйка! – прошипела застывшая в свой черед донья Гермина. – Это вы – гнусная узурпаторша! Поддельная Генриетта де Сен-Савен, принявшая имя Гермины де Сан-Сальвадор… Поддельная графиня, у которой, вероятно, никогда не было мужа, графа де Сан-Сальвадора… Итак, вы обманули доверие моего несчастного отца… Как только вам это удалось, интриганка вы эдакая… Я слишком хорошо это понимаю… вы этого добились с помощью зарезанных голубок и прочей чертовщины. – А-а-а! Когда пробьет час моей мести, ты будешь плакать кровавыми слезами! – прошептала «эта Сан-Сальвадор». – Возможно… но помните, если случится хотя бы маленькое несчастье со мной, три письма будут отправлены из трех разных мест. Их повезуттри гонца, незнакомые друг с другом. Вы видите, моя дорогая Генриетта, счет идет на три! – усмехнулась Зефирина. Когда донья Гермина услышала эту злую шутку, лицо у нее стало воскового цвета. – Так ты действительно все знаешь, змея! Ты тоже ищешь третий номер! – Именно так! – подтвердила Зефирина, понимая, что ни единым жестом или словом не должна показать, что совершенно ничего не разобрала в таинственном восклицании доньи Гермины. – А-а-а! Я должна была этого опасаться! Ты не такая глупая, какой была она. Клянусь тебе Элигором и Валефаром, что земля будет мала для нас двоих. Однажды я сверну тебе шею, пусть на это потрачу всю мою жизнь. Произнеся это очаровательное обещание, донья Термина закрыла оправу своего бриллианта. Внутренне Зефирина поздравляла себя. Ее военная хитрость превзошла все ее ожидания. Настал момент нанести последний удар. – То, что вы строите заговоры с Карлом V, с Генрихом VIII и с отцом вашего незаконнорожденного сына, меня совершенно не волнует! – самоуверенно продолжала Зефирина. Казалось, донья Гермина превратилась в соляной столб. Не слыша ответа, Зефирина быстро нанизывала одно на другое: – Чтобы избежать скандала, связанного с именем Багателей, который неизбежно бросит тень и на меня, я воздержусь от того, чтобы сказать обо всем этом королю. Политика – это его дело! То, что он сохранит или потеряет свое драгоценное герцогство Миланское, это мне совершенно безразлично! Помните только, что все описано в деталях в моих трех письмах… Я говорю это на тот случай, если вы быстро забудете об этом. Зато мне надоело видеть вас рядом с нами, надоело смотреть, как вы водите моего отца на цепочке, точь-в-точь как бродячие артисты водят медведей на ярмарках. – Что вы о нем знаете, претенциозная вы девица… быть может, он очень счастлив! – усмехнулась донья Термина. Не давая этому заявлению произвести на нее хоть какое-нибудь впечатление, Зефирина вновь заговорила надменным и ледяным тоном: – У вас нет выбора! Раз уж вы так любите Испанию, то поезжайте туда и посмотрите, существуют ли на самом деле замки рода Сан-Сальвадор! Зефирина откровенно издевалась над особой, которую ненавидела с детства. При свете свечей лицо доньи Гермины вновь стало бледным и величественным. Только красные губы слегка подрагивали. – Вы прогоняете жену своего отца! – медленно констатировала донья Гермина. – Я удаляю ее как удаляют бешеное животное, сударыня… вот и все! – сухо ответила Зефирина. Если бы глаза доньи Гермины обладали способностью убивать, то ее падчерица была бы сражена на месте наповал. – Ты выиграла в первом состязании! Посмотрим, так ли ты ловка, чтобы выиграть и во втором турнире! Проговорив эти слова угрожающим тоном, донья Термина направилась к драпировке, закрывавшей вход. Здесь она столкнулась нос к носу с неописуемой Плюш, которая возвращалась, неся большой глиняный кувшин. – Ку-ку, а вот и славная водичка из источника, обладающая чудесными успокоительными свойствами, дорогие дамы! – просюсюкала Плюш. Появление девица Плюш пришлось как раз кстати. – Ваша госпожа совершенно не нуждается ни в каком уходе, Плюш! Но вы должны время от времени охлаждать ее мысли. Донья Гермина брезгливо отодвинула дуэнью рукой и исчезла за драпировкой. После нее остался только запах опьяняющих духов. – Мадемуазель Зефи, что… что… происходит? – пролепетала Плюш, смущенная таким несвоевременным уходом. Не отдавая себе отчета в том, что она делает, старая дева вылила столько же воды на свои туфли, сколько и в серебряную миску. – Моя мачеха немножко нервничает сегодня. Завтра утром, при свете солнца, ей будет лучше! – ответила Зефирина. Лукавая улыбка озаряла ее выразительное личико. Она была удивлена легкостью своей победы. Итак, с помощью небольшой доли высокомерия, властности и большого количества выдумки и воображения она заставила опаснейшую «Сан-Сальвадор» покориться своей воле. Зефирина все более и более отдавала себе отчет в том, до какой степени был прав брат Франсуа, когда приобщил ее к образованию и дал понять его силу. Ее превосходство над другими людьми было прямым следствием ее ума! Теперь задачей Зефирины было извлечь из этого обстоятельства все возможное. Несмотря на ожоги, она очень хорошо спала, без всякой головной боли. На следующее утро ее отец с огорченным видом поведал ей о внезапном отъезде своей жены, «срочно вызванной к изголовью дорогого Рикардо, упавшего с лошади!» Услышав это известие, которое также избавляло ее и от Каролюса, Зефирина вздохнула с облегчением. До самого последнего момента она опасалась нового нападения со стороны «этой Сан-Сальвадор». Та же, казалось, была разбита наголову хитростью своей падчерицы. Праздники «Золотого лагеря» окончились для Зефирины. Кроме того, что она потеряла при пожаре все свои наряды, ее кожа облезала большими лохмотьями и не позволяла носить платья, которые могла бы предоставить любезная госпожа де Монпеза. Для того чтобы вернуть палатку ее владельцам, а также для большего удобства Зефирину переместили за стены лагеря, в дом к аптекарю маленького городка Ардре. Она теперь могла носить только рубашку, а тело было покрыто чудесной мазью. Отныне ее единственным развлечением было слушать чтение девицы Плюш, которая в течение дня монотонным голосом читала бесконечные рыцарские романы. Время от времени ее навещал отец, который рассказывал ей сплетни, носившиеся по лагерю. Прошло три дня, но Бастьен так и не вернулся на конюшни. Маркиз де Багатель в конце концов это заметил. Он был в ярости от исчезновения Бастьена и хотел объявить розыск молодого конюха. Если бы его схватили, то в лучшем случае его ожидала порка, а в худшем – колесование или дыба. Для того чтобы показать пример другим, Роже де Багатель, разумеется, шутить не станет. – Это я послала Бастьена в Поссонньер отвезти записку моей подруге Луизе! – заверила Зефирина отца, чтобы защитить юношу. Роже де Багатель перенес свое недовольство на дочь. Он смотрел на нее суровым взглядом, который ей был не знаком. – Вы слишком своевольны. Самая простая вежливость обязывала вас спросить на это разрешения у меня! – Я не хотела вас беспокоить всеми этими домашними проблемами, вы были так заняты! Ну же, отец, дорогой, расскажите мне о том, что происходит между королями. Справившись со своим волнением, Зефирина стала нежной, ласковой, очаровательной. Она окружала своего отца лаской, счастливая от того, что стала с этого момента единственной женщиной в его жизни. Не заставляя себя долго упрашивать, Роже, который прекрасно выглядел после отъезда маркизы, описал Зефирине официальную встречу Франциска I и Генриха VIII в Валь-Дорэ, приемы королевы Англии Екатерины и доброй королевы Франции Клод, пиры, танцы и маскарады, за которыми последовали турниры (по рыцарскому обычаю), соревнования по владению оружием в пешем строю, стрельба из лука и даже рукопашная схватка двух монархов, лицом к лицу. – Наш король умеет драться, как моряк де Кимпер. Ловким ударом его величество свалил короля Англии и заставил его «поцеловать пыль». Видели бы вы это, Зефирина… Генрих VIII поднялся смущенный, он что-то невнятно бормотал, а французский лагерь оглушительно приветствовал Франциска I. Рассказывая об этой сцене, Роже де Багатель был преисполнен гордости. «Это плохо! – подумала Зефирина. – Король Франциск I приведет в раздражение толстого Генриха, и тот еще быстрее побежит поплакать на плече у Карла V!» Не замечая озабоченности дочери, Роже де Багатель продолжал с удовлетворением: – И это еще не все, мое дорогое дитя… Сегодня утром их величества, выйдя с мессы, которую служил Томас Уолси, кардинал Йоркский, оказали мне высокую честь, справившись о вашем здоровье! – Даже король Англии? – не смогла не спросить с иронией Зефирина. – Ну, разумеется. Какой характер, дитя мое! Я должен признать, что не понимаю вас, Зефи. Почему вы всегда принимаете такой воинственный вид? Король Генрих не единственный… один из вельмож его двора тоже очень интересовался вами! – О, скажите скорее, папа… Сердце Зефирины внезапно очень сильно забилось. – Это был милорд Мортимер Монроз… самый богатый вельможа Англии. Говорят, что у него… – Пять тысяч овец! – закончила Зефирина с мечтательным видом. – Ах, так вы в курсе! А не обменялись ли вы несколькими словами с милордом Монрозом во время первого бала? – Да… нет… – Смутилась Зефирина. – А… что он вам сказал, папа? – Только это: «Я узнал о несчастном случае с мадемуазель де Багатель. Как она себя чувствует?» – Ах, это все! – сказала разочарованная Зефирина. – Нет… Милорд Монроз добавил: – «Я прошу вас, господин маркиз, передать ей мои наилучшие пожелания скорейшего выздоровления!» – Ах! Он ни о чем больше не спросил? – настаивала Зефирина. – Да нет… А что бы вы хотели, чтобы он добавил? Роже де Багатель начал с любопытством поглядывать на свою дочь. Зефирина предпочла переменить тему разговора. После того, как они поговорили о нарядах королев и о сплетнях в «Золотом лагере», Зефирина задала последний вопрос, который жег ей губы: – А вы случайно не нашли того дворянина, который спас меня из огня? – Нет… Несмотря на все поиски, никто не объявился! По моему мнению, страх, который вы испытали, заставил вас выдумать спасителя, Зефи! – Да, может быть, папа! – прошептала Зефирина, безотчетно проведя пальцем по губам. Она была в бешенстве, что лежит здесь с красной кожей, обмазанная довольно вонючей мазью и не имеет возможности самой вести следствие. – Хорошо, до завтра, моя дорогая. Мне пора возвращаться на празднество. Черт побери, я чуть не забыл! Вот подарок, который посылает вам король Франциск. Я надеюсь, что вы, Зефи, отдаете себе отчет в том, что его величество проявил чуткость и внимание, потратил время на то, чтобы написать для вас шараду, которую вы, возможно, поймете… Что касается меня, то я ничего не понимаю в этих играх ума! Как только Роже де Багатель ушел, Зефирина открыла маленькую шкатулочку с небольшой насечкой, которую он только что ей передал. Внутри лежала свернутая в трубочку записка. Зефирина проворно ее развернула и прочла следующие слова, написанные собственноручно Франциском I: «Мое первое – место где причаливают корабли. Мое второе слышится в крике раненого зверя. Мое третье – драгоценный металл, из которого отлиты все экю. Таково горячее пожелание ее короля своей хитрой и умной саламандре. Франциск.» Зефирине не потребовалось много времени, чтобы угадать скрытый смысл шарады: «Мое первое – мол… мое второе – рычание… молчание… мое третье – золото…» Молчание – золото!» Зефирина испустила долгий вздох. Она прекрасно поняла смысл королевского послания. Таким образом, Франциск I, все еще упорствующий, напоминал про ее клятву. Большие зеленые глаза Зефирины устало закрылись. Она чувствовала себя слишком молодой, ее слишком удручала раскрытая ею тайна предательства. Король шел с закрытыми глазами прямо в ловушку, расставленную его врагами. Ей оставалось только ждать, когда произойдет катастрофа. Она произошла гораздо быстрее, чем ожидала Зефирина… вестником ее стал очаровательный Гаэтан.ГЛАВА XXIII КРАСНОЕ ОБЛАКО
– Рыцарь Байяр, командовавший арьергардом, был предательски атакован… Раненый выстрелом из аркебузы в бедро навылет, с перебитым позвоночником, доблестный рыцарь без страха и упрека умирал один у подножия дерева в течение трех дней и трех ночей, после того, как отдал категорический приказ сопровождавшим его французам отступить, чтобы не попасть в плен. Этим он вызвал восхищение у своих победителей, испанских полководцев. Боже мой, моя дорогая, я, спрятавшись в одном из гротов, издали наблюдал эту сцену, которую никакое дитя Франции не сможет никогда забыть: смерть этого храбреца на итальянской земле, за которую мы будем сражаться до последнего! Словно для того чтобы смягчить свои воинственные слова, Гаэтан провел рукой по коротким кудрям Зефирины. – Итак, моя любимая, я чуть не потерял вас в пламени… Молодые люди шли по парку. Нежной рукой Гаэтан обнимал Зефирину за плечи. От этого успокаивающего прикосновения сильного тела она забыла обо всем, вновь стала маленькой девочкой. – Ох, Гаэтан, Гаэтан! Мне так вас не хватало в этом ужасном «Золотом лагере»… Она говорила совершенно искренне. Внезапно охваченная волнением, она закинула голову назад. Гаэтан наклонился, и едва коснулся ее губ нежным поцелуем. Зефирина закрыла глаза. Ее охватила истома. Тело ее вздрагивало. Она ждала большей смелости со стороны Гаэтана. Ей хотелось грубых объятий, жарких поцелуев. – Идемте, моя дорогая… Гаэтан увлек Зефирину к поваленному молнией дереву. Усадив ее, сел рядом с ней, обнял за талию и нетерпеливо начал рассказ о тех событиях, которые происходили по ту сторону реки По. Сначала разочарованная, даже раздраженная таким слишком бережным отношением, Зефирина, предчувствуя, что с помощью Гаэтана она переживает исторический момент, понемногу увлеклась рассказом. Итак, после нескольких месяцев отсутствия, Гаэтан только что вернулся из Италии. Его миссия при Святейшем престоле оказалась более продолжительной, чем это было предусмотрено, ибо миролюбивый папа римский Адриан VI, стремившийся смягчить злобу, которую питал Карл V к Франциску I, и даже пытавшийся сблизить этих двух больших «Котов», правивших Европой, умер столь скоропостижно, что впервые в Риме осмелились заговорить о яде. – А не было ли у папы странных вздувшихся гнойников на лице? – Да, именно так… А как вы это узнали, моя душенька? Боже, не знаете ли вы, кто убийца? – воскликнул пораженный Гаэтан. – Во всяком случае, мне знаком этот яд! – просто ответила Зефирина. – Продолжайте, Гаэтан. После того как он дождался избрания следующего папы римского Клемента VII – Юлия Медичи, двоюродного брата другого великого Медичи – Льва X, покровителя искусств, – Гаэтан пустился в обратный путь. Он увозил с собой многочисленные послания его святейшества к королю Франции. Едва взойдя на престол святого Петра, Клемент VII уже рассорился с Карлом V и Генрихом VIII. Он искал союза с королем Франции. – Ну ладно, все это превосходно! – сказала Зефирина, достаточно удовлетворенная. Гаэтан покачал своей кудрявой каштановой головой. – Если так будет угодно Богу, моя дорогая… Священный союз с папой римским нам тоже может принести много неприятностей… Я приехал из Сен-Жермена под Парижем, где сейчас находится король. В прихожих и коридорах дворца шептали, что толстый Генрих подписал в «Золотом лагере» только «Договор о добрососедстве». – Иначе говоря, это – клочок пергамента! – усмехнулась Зефирина. – А как король воспринял те новости, которые вы ему принесли, Гаэтан? – любопытствовала девушка. – Его величество сначала был очень подавлен, когда я поведал ему о смерти шевалье Байяра и о внезапном нападении императорских войск на наши войска в Италии. Затем прибыли другие гонцы с озера Маджоре и из других уголков Италии, а также из-за Рейна… Ланнуа, вице-король Неаполя, заключил союз с княжествами полуострова, напуганными возможностью возвращения французов. Против нас выступают покинувшие нас венецианцы, флорентийцы, ломбардцы, генуэзцы, а также жители Сиены и Лукки… Против нас граф Фюрстенберг с десятью – двенадцатью тысячами германцев. Он заключил союз с Карлом V… Но, что самое серьезное – английские войска могут, похоже, высадиться на севере Франции… – Король слишком доверчив. Я была уверена, что толстый Генрих вел двойную игру… А он тоже присоединился к Карлу V? – прошептала Зефирина. – Если это так, Зефи, то для Франциска речь будет идти не о простой кампании за возвращение герцогства Миланского, ему придется противостоять… – Целой коалиции! – закончила Зефирина. Она вдруг испугалась войны, испугалась будущего, испугалась туч, которые собирались над королевством. Словно угадав мысли Зефирины, Гаэтан внезапно бросил: – Любопытно, моя дорогая, на дороге в Авиньон, около таверны «Три экю», когда я мчался в Париж, я встретил едущую в противоположном направлении карету. Клянусь, я узнал вашу мачеху! – Донья Гермина… на пути в Италию! Зефирина побледнела. Изгнав «эту Сан-Сальвадор», не совершила ли она самую худшую из ошибок? – Маркиза видела вас, Гаэтан? – внезапно спросила Зефирина. – Нет… в конце концов я не думаю… Донья Гермина была очень занята… но я не знаю, должен ли я посвящать вас в это… – Гаэтан колебался. Придя в состояние крайнего нетерпения, Зефирина забросала его вопросами. – Ну говорите же скорей, Гаэтан! Что делала моя мачеха? Говорите, ради Бога… – Ну так вот… Вообще-то, может быть, это и не имеет никакого значения… Маркиза де Багатель высунулась в окошко своей кареты… Она давала приказания своему карлику Каролюсу и служанке… Вы ее знаете, Зефи… Той несчастной немой, с лицом, обезображенным шрамами… Донья Гермина отдала им красный платок с четырьмя завязанными на концах узелками со словами: «Поезжайте быстро оба… со мной останется один Византиец. Ступайте и найдите того, о ком вы знаете, и отдайте ему этот знак. Ему известно, что это означает… Затем возвращайтесь, найдете меня в аббатстве Сен-Сакреман в Салон-де-Провансе. – И что же? – Так вот, это все… Карлик и немая уселись на ослов… В тот момент, когда они уже собирались уезжать по дороге на Фонтенбло, маркиза сказала своей служанке: «И помни, Бертиль, что…» Но я не слышал продолжения этой фразы… – Бертиль! – воскликнула Зефирина, – вы уверены, что донья Гермина назвала немую Бертиль, а не Беатрисой? – Уверен, Зефи… Но разве это так уж важно? Бертиль – это было имя служанки, которая, после того как она украла медальон несчастной Коризанды, как говорили, была съедена волками… Круг сужался вокруг доньи Гермины. Зефирина догадывалась о том, что союз немой (которая умела говорить) с ее мачехой не случаен. Была ли донья Гермина замешана в скоропостижной смерти Коризанды? Зефирина все более и более склонялась к этой мысли. С другой стороны, была ли Гермина де Сан-Сальвадор и Генриетта де Сен-Савен одним и тем же лицом? Зефирина глубоко вздохнула. Она догадывалась о том, что непреклонная судьба опять сыграла с ней шутку на свой лад. Она не могла ничего больше сделать, наверстать упущенное, ничего не могла остановить. К тому же все вообще было плохо! Бастьен, маленький спутник ее детства, так и не вернулся в замок. Зефирина после его исчезновения ощущала большую пустоту и ужасное чувство вины. К счастью для юного серва, когда маркиз де Багатель объявил о его розыске, было уже поздно. Бастьен, должно быть, был уже далеко. Зефирина тряхнула своей огненной головой. Как и саламандра Франциска I, она была игрушкой в руках рока, который привел свои рычаги в действие. С сердцем, сжавшимся от зловещего предчувствия, она уронила голову на плечо Гаэтана. Пела птичка, сидя на ветке серебристого бука. Летний теплый вечер разливался по земле. Легкий душистый ветерок долетал с Луары. Гаэтан держал Зефирину за руку. С необычайной нежностью он перецеловал все ее тонкие пальчики. Рядом с Гаэтаном Зефирине становилось лучше, спокойнее, безмятежнее. Она ласково погладила кудрявую голову юноши. Он выпрямился и едва прикоснулся, словно бабочка, к ее глазам губами. – Моя душенька, я хотел бы утонуть в этих озерах… Почему ваши глаза такие зеленые? – Потому что я люблю вас, Гаэтан… Я люблю вас, – прошептала, вздрогнув, Зефирина. – Сердце мое… Моя божественная… Зефирина… Они долго пребывали в объятиях друг друга, целомудренные, молчаливые. Была уже глубокая ночь, когда они потихоньку вернулись к замку. В то же мгновение темное, почти красное облако закрыло серебристый диск луны.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЛЕОПАРД
ГЛАВА XXIV ВЕЛИКИЙ РАЗГРОМ
Новость настигла Зефирину, когда колокол звонил к вечерней молитве. Крестьяне бежали по покрытым инеем полям. – Беда… Беда в королевстве! Мало-помалу, от прихода к приходу нежный звон, призывавший к вечерне, сменился набатом. Зефирина, гоня коня тройным галопом, вернулась в Поссонньер. Не дожидаясь помощи лакея, она спрыгнула с Красавчика и побежала в парадный зал замка. Госпожа де Ронсар рыдала в объятиях своих дочерей. – Погибло… Все погибло… король предан… в плену… самый большой разгром… – смогла произнести госпожа де Ронсар, прежде чем упала в обморок. Зефирина совершенно не запомнила последовавших за этим известием дней. Как и вся Франция, она жила в состоянии отупения, подавленности, погруженная в оцепенение. Никто не мог поверить ни в поражение, ни в предательство коннетабля де Бурбона. Несмотря на то, что Зефирина знала больше, чем другие, она так же, как ее друзья, утверждала, что сведения ложные. Однако ей пришлось признать очевидность трагической реальности. Каждый час пребывали гонцы и рассказывали подробности драмы. Самое кровавое поражение в истории Франции со времен Айзенкура обрушилось на страну. Двадцать тысяч человек погибли в течение нескольких часов в Павии. Это произошло 24 февраля 1525 года. Те, кто не погиб, попали в плен или пропали без вести. Весь цвет французского рыцарства был побежден коалицией, собранной императором. Не было ни одного замка, ни одного городка, ни одного прихода, которого не коснулась бы эта беда. Становились известны имена погибших: Луи де Ронсар, отец маленького Пьера, отважный Ла Тремуй, граф де Сен-Поль, паж Эрнест де Ла Френей, адмирал де Бонниве, учтивый Ла Палис… Погибли все эти славные дворяне, победители в битве при Мариньяно… Погибла прекрасная молодость! Погибли герои! С лицом, залитым слезами, Зефирина слушала наивную песенку, которую изнуренные солдаты маршала сочинили в честь его храбрости на поле битвы:Наш старый маршал умер,
Погиб он как герой,
За полчаса до смерти
Он был еще живой…
«Я знаю, дитя мое, о нежных узах, которые связывали вас с шевалье де Ронсаром. К несчастью, я сам видел своими собственными глазами, как несчастный мальчик погиб, пронзенный вражескими копьями. Скажите госпоже де Ронсар, что я искренне разделяю ее горе. Я буду ей вечно признателен за то, что она приняла вас у себя на время этой войны, как родную дочь.
Князь Фарнелло ожидает выкупа или вашего приезда через два месяца. Если же этого не произойдет, он передаст меня в руки испанцев. Без золота мне нечего ожидать от них великодушия, они отправят меня в Андалузию, где у меня будет охапка соломы в крепости и кусок хлеба в камере до конца моих дней.
Моя судьба, Зефирина, зависит от вас. Я доверяю вашему решению, я вас благословляю и обнимаю от всего сердца.
Ваш несчастный отец
Роже де Багатель.
Написано в Милане, 20 марта 1525 года».
ГЛАВА XXV ЖЕЛЕЗНАЯ РЕГЕНТША
– Мы благодарим вас за визит, мадемуазель де Багатель. По этим словам, произнесенным сухим тоном, Зефирина поняла, что аудиенция закончена. Итак, регентша Луиза Савойская осталась глуха к ее мольбам. Подавив горечь, Зефирина сделала реверанс. Она отступила к двери, охраняемой снаружи солдатами с алебардами. Уязвленная холодным приемом, который ей только что был оказан, и пренебрегая всяким этикетом, Зефирина не смогла удержаться, чтобы торопливо не бросить при выходе: – От имени моего отца, соратника короля, позвольте мне поблагодарить ваше высочество за все ваши милости. При таком нескрываемом наскоке принцесса вздрогнула. Облачко гнева пробежало по ее челу. Тонкие морщинки собрались в углах губ. Она подняла руку, несомненно для того чтобы приказать своим людям как можно скорее вышвырнуть прочь эту нахалку. Однако ее блестевшие от усталости глаза внимательно рассматривали напряженное лицо Зефирины. Горе, ответственность, траур, невзгоды и опасности дороги, которые Луиза Савойская прочла на лице этой юной девушки, должно быть, растрогали суровую регентшу. – Вернитесь, мадемуазель де Багатель! – внезапно сказала она. С некоторой чопорностью Луиза поднялась из-за стола, за которым без отдыха работала над спасением королевства от того хаоса, в который его погрузил разгром под Павией. – Дитя мое… Вы – девушка из знатной семьи. Вы должны понять, в каком трагическом положении находится Франция. Если бы ваш отец был единственным дворянином, который находится в подобном положении, а король, мой сын, был бы на свободе, государство помогло бы вам. К несчастью, казна опустошена войной. Как мать и принцесса, мы боремся отсюда, из этого славного города Лиона, чтобы сохранить королевство для нашего сына, чтобы сохранить наследство для наших внуков, а землю – для нашего народа. Регентша Франции столь же несчастна и бедна, как беднейший из нищих. Поезжайте в Италию, Зефирина де Багатель! Спасите вашего отца! Только вы можете это сделать. Каждый из нас должен по-своему нести свой крест, бороться за Францию и за свободу. Ваш крест – это связать себя узами брака, не плачьтебольше, такое поведение недостойно девушки благородного происхождения. Идите навстречу вашей судьбе с высоко поднятой головой… Вы меня поняли? Словно для того, чтобы передать ей свою силу, принцесса взяла Зефирину за руку. – Да, сударыня, я во всем буду повиноваться вашему высочеству! – пообещала сломленная Зефирина. Она не испытывала симпатии к Луизе Савойской. Но в этот момент Зефирина ощутила огромное восхищение этой маленькой пятидесятилетней женщиной – железной регентшей, которая боролась, движимая энергией отчаяния. – Вы будете повиноваться во всем! Хорошо, девушка, хорошо… – машинально повторила мать короля. Казалось, в ее голове зародилась какая-то идея. – Посмотрите на меня… Хм… Вы очень красивы, Зефирина де Багатель. А столь же ли вы храбры? Можно та доверять этим прекрасным зеленым глазам? – Приказывайте, сударыня… Я ваша покорная слуга и слуга моего короля! – гордо ответила Зефирина. Регентша отвернулась в задумчивости. Молча она сделала несколько шагов по направлению к столу. Тяжелый маятник стенных часов отсчитывал убегающие секунды. Было слышно, как снаружи, на набережной Роны, ржали и били копытами лошади. – Вы едете в герцогство Миланское, мадемуазель де Багатель. Будете ли вы достаточно ловки, чтобы отвезти и передать… послание в крепость Пиццигеттон? – Ваше высочество желает, чтобы я повидала заточенного там короля? – спросила Зефирина, как если бы речь шла о самой простой вещи в мире. – Вы крупно рискуете, дитя мое, если вас схватят сыщики Карла V, – прошептала смущенная принцесса. – Не сможете ли вы попытаться проникнуть к королю… Вдруг слова принцессы были прерваны пажом, отворившим дверь. – Ваше высочество, только что прибыл граф де Монпеза! – Пусть он войдет, – торопливо приказала регентша. Даже не взглянув на Зефирину, граф де Монпеза, явно обессилевший, вошел быстрым шагом в рабочий кабинет. – Ваше высочество, гонцы вернулись! У меня свежие новости с наших границ! – Итак, что же Генрих VIII? – взволнованно спросила принцесса. – Король Англии плакал от радости, когда узнал о нашем разгроме! – Мошенник! Он нападет? – спросила принцесса, побледнев. – Нет, ваше высочество, толстый Генрих размышляет о слишком сильном блеске Карла V… Это его беспокоит! – Прекрасно! А что папа? – Его святейшество плакал от горя, когда узнал о нашем поражении, но он держится в стороне! – Это к лучшему… Когда в дело замешан кто-нибудь из Медичи, все усложняется. А Карл V? – Запершись в своей молельне в Эскуриале, император молится, прибегает к уверткам, ему не хватает денег, чтобы вооружить новые войска. Он думает, что мы сильнее, чем мы есть на самом деле! Короче, он не решается захватить нашу страну! – Прекрасно… время… нам нужно выиграть время для того, чтобы собрать остатки армии, чтобы принять меры предосторожности, следить за границами… – возбужденно говорила Луиза Савойская, меряя шагами кабинет. – Послушайте, мой славный Монпеза, мы будем вести переговоры с каждым из итальянских князей поодиночке. Каждый прошедший день – это день отсрочки. Совершенно необходимо, чтобы король сделал вид, что согласен на все условия, выдвинутые Карлом V. У меня есть идея, которая запутает императора. Пока он остается в своей молельне, мы застрахованы от самого худшего. Мадемуазель де Багатель? Боже, куда она девалась? Внезапно вспомнив о присутствии девушки, Луиза Савойская искала ее взглядом. Во время разговора, из которого Зефирина не упустила ни слова, она стояла у оконного проема. Внимательно слушая диалог, она в то же время с грустью смотрела на воды Роны, которые мощным серым потоком неслись под пролетами каменного моста. – Я здесь, ваше высочество, – сказала Зефирина, поднимая драпировку. – Я думала, вы ушли! Хорошо, так вы по-прежнему полны решимости? – спросила регентша. – Если я могу быть полезной королевству и королю… более, чем когда-либо, ваше высочество! В то время как регентша торопливо набрасывала несколько строк на пергаменте, господин де Монпеза подошел к Зефирине. – Мадемуазель де Багатель! Мы всегда встречаемся при трагических обстоятельствах! – В последний раз, когда мы с вами виделись, все было не так уж серьезно, ибо только я получила ожоги! – возразила Зефирина. При этих словах, сказанных с деланной веселостью, граф грустно вздохнул. Он покачал своей словно Высеченной из камня головой старого солдата, глядя на эту красивую и гордую девушку. – Ваш отец… он?.. – спросил граф де Монпеза, не решаясь закончить вопрос. – Нет, сударь! Отец – пленник князя Фарнелло! – В руках Леопарда? – воскликнул Монпеза. – Да, именно… – Что требует князь в качестве выкупа? – Меня, господин граф! – бросила Зефирина с презрительным видом. Она отвернулась от явно ошеломленного Монпеза, чтобы взять сложенный вчетверо пергамент, запечатанный сургучной печатью, без адреса, который ей протягивала регентша. – Удачи, Зефирина де Багатель. Я буду молиться о том, чтобы вы смогли преодолеть сети Карла V и передать эту чрезвычайно важную записку в руки нашего горячо любимого сына… Если, по случаю, увидите короля, скажите ему, что… – Голос Луизы Савойской задрожал от рыданий… – Его мать молится, сражается, но, как и все подданные, любит его и уважает. Пусть мой сын не даст себя сломить! Мы победим, потому что наше дело правое, и Господь поддержит самого христианнейшего короля старшей дочери Церкви. Серые глаза Луизы Савойской наполнились слезами. – Мне удастся сделать это, ваше высочество, клянусь! Склонившись в изящном поклоне, Зефирина поцеловала край платья принцессы и вышла. Но на пороге кабинета, дверь которого открыл один из солдат, она услышала, как граф де Монпеза шептал: – Миссия очень важная… ваше высочество не опасается, что… – Надо доверять судьбе, Монпеза! Ну, за работу… Нам надо подготовить письма, чтобы умаслить итальянцев. Последнее, что запомнила Зефирина о регентше, был ее черно-белый чепец, склоненный над рабочим столом. Лихорадочная суета царила в коридорах и на лестницах дворца, в котором регентша расположила свой генеральный штаб. Зефирина прокладывала себе путь среди вельмож, солдат и гонцов, прибывавших изо всех уголков страны. В вестибюле ожидали приема несколько дам. Возможно, они тоже прибыли, как Зефирина, умолять регентшу помочь отцу или мужу, оставшимся в Италии. Когда Зефирина вышла на мощеный двор, церкви Сен-Бонавентур звонили к обедне. – Ну что, барышня Зефи? – спросил Ла Дусер, ожидавший ее возвращения в компании девицы Плюш. – Поторопимся, друзья мои, у нас осталось только восемнадцать дней… – просто ответила Зефирина. – Ифигения, принесенная в жертву богам! – напыщенно воскликнула девица Плюш. Ла Дусер что-то проворчал себе в бороду, и смысл его слов был куда менее поэтичен. Семнадцать дней ушло у Зефирины и ее друзей на то, чтобы добраться до Лиона. Дороги были ненадежны, по лесам бродили отряды наемников, из которых состоят армии всех монархов христианского мира. Кроме того, были еще грабители, бродяги, пройдохи и авантюристы. Все это вынуждало путешественников принимать самые серьезные меры предосторожности. Как только опускалась ночь, они останавливались в таверне или ночевали в доме кого-нибудь из местных жителей. В течение дня Ла Дусер старался присоединиться к группе торговцев или паломников для того, чтобы проехать через лес. Вместе они представляли собой силу. Иногда приходилось избегать и деревень. Словно всех бедствий было недостаточно, «отвратительное животное», бич века, уснувший несколько лет назад, чье название произносили лишь шепотом, с ужасом – чума, вновь явилась и опустошала городки и деревеньки. Когда Ла Дусер замечал трагический красный лоскуток на конце копья, воткнутого сбоку от дороги, они делали крюк, объезжая как можно дальше пораженные лачуги. Все эти объезды задерживали путешественников. Теперь Зефирина сожалела о том, что согласилась взять с собой братьев-близнецов Ипполита и Сенфорьена. Их миссия заключалась в том, чтобы защищать повозку с тыла, а они только и делали, что жаловались на неудобства путешествия, на опасности в дороге и на плохую пищу. Они наперебой хныкали, думая о своих женах, сестрах-двойняшках из Амбуаза. Короче говоря, надоели, стали совершенно невыносимы, и Зефирина подумывала о том, чтобы отправить их назад. Ла Дусер не разделял этого мнения. Оруженосец вооружил братьев аркебузами, к великому страху девицы Плюш, которая с тех пор постоянно оборачивалась и смотрела на этот неуклюжий арьергард. Часто Зефирина, которой надоедали и повозка и болтовня мадемуазель Плюш, садилась верхом на Красавчика. Ей было необходимо побыть одной. Несмотря на крики дуэньи и на упреки Ла Дусера, она скакала вперед, заставляла своего коня перепрыгивать через изгороди и ручьи. До самого Лиона Зефирина лихорадочно искала выход. Но после свидания с регентшей поняла, что надеяться больше не на что. Она с тоской думала о том роковом дне, когда окажется перед лицом князя Фарнелло. По ее коже пробегала дрожь отвращения при одном имени этого человека, которого она ненавидела, не зная его. Она презирала его изо всех сил, но вынуждена связать с ним жизнь в обмен на свободу своего отца. Мысль о том, что этот чужеземец будет распоряжаться ею, пользоваться ее телом, ее молодостью и ее чистотой, вызывала в ней протест. Итак, у этого грубого солдафона будут все права. При этой мысли все в Зефирине бунтовало с головы до пят. Она вся покрывалась «гусиной кожей», стон срывался с ее губ. «Кому было нужно, чтобы Гаэтан умер? Это слишком жестоко! Он ее понимал, он ее любил… Ах, почему она не отдалась Гаэтану прежде, чем он уехал на эту отвратительную войну? Почему он не захотел ее тронуть? Безумие, тогда он ведь был жив…» Прошел год со времени его отъезда. Долгий год в Поссонньере, в течение которого Зефирина созрела, изменилась, развилась. Очаровательная девушка-подросток превратилась в женщину. Она воспользовалась этими месяцами уединения для того, чтобы пригласить, с согласия госпожи де Ронсар, знаменитого профессора из Коллеж де Франс, мэтра Гийома Постеля, который преподал ей начала восточных языков и еврейского. Что касается последнего, то его Зефирина осваивала с большой легкостью. Математик и юрист-филолог приезжали из Тура раз в неделю, и Зефирина с таким рвением набросилась на учебу, что это вызвало мягкую иронию у ее подруг. – Женщина, для чего вам вся эта учеба? – спрашивала Луиза, улыбаясь. Зефирина не могла ответить на этот вопрос. Она страдала из-за разлада между разумом и телом. Ее кожа жаждала ласки, которая бы ее взволновала, а в то же время мозг желал побороть ее слабость. Погруженная в свои мысли Зефирина слишком далеко отрывалась от своих спутников. Очнувшись, она галопом возвращалась к ним и едва слышала почтительные предостережения Ла Дусера и девицы Плюш. В деревнях Зефирина отворачивалась от зрелища, которое она всегда выносила с трудом: от повешенных. Тела казненных болтались, колеблемые ветром, с табличкой на груди, на которой она могла прочесть: Вор! Дезертир! Грабитель! Дурной христианин! Чтобы выиграть время и отдохнуть, Ла Дусер хотел нанять плоскодонную лодку, спускавшуюся вниз по течению Роны, но таяние снегов сделало такое путешествие невозможным. После короткого совещания, было решено из Лиона отправиться по дороге на юго-восток. Им было известно, что местность наводнена ордами беглых каторжников. Они продолжат путь по долине, по направлению к герцогству Валентинуа, а затем – к Авиньону. Когда они приедут в город, бывший когда-то резиденцией папы Римского и остававшийся до сих пор вотчиной его святейшества, то свернут в сторону и поедут по менее людной дороге к Турину, а затем – и в герцогство Миланское. Зефирина и ее спутники очень скоро поздравили друг друга с таким решением. Крюк, который они сделали, стоил того. Правда им пришлось преодолеть несколько разлившихся рек: дорога до города Валанс, столицы герцогства Валентинуа, была гораздо более спокойной. Казалось, преступники остались где-то за Лионом. Освещенные солнцем деревни были, по-видимому, меньше затронуты войной. Менее обеспокоенный Ла Дусер расслабился. Девица Плюш, ставшая менее многословной, успокоилась. Только Зефирина мрачнела все больше, – ведь каждый оборот колеса приближал ее к роковому сроку платежа. – Вон там – крепостные стены! – объявил Ла Дусер. Зефирина взглянула в направлении, указанном оруженосцем. Действительно, уже были видны вырисовывавшиеся вдалеке стены города, бывшего когда-то резиденцией папы. Судя по солнцу, сейчас могло быть около шести часов вечера. Сегодня путешественники будут ночевать в Авиньоне. Дорога стала более узкой. Деревянный мостик нависал над ручьем. Зефирина направила Красавчика к нему. Несмотря на несколько трухлявых досок, мостик выглядел крепким. Она подняла руку, чтобы дать знать Ла Дусеру, что все хорошо. Доверившись своей юной хозяйке, гигант-оруженосец спрыгнул на землю, чтобы направить двух лошадей на этот мостик. Повозка уже была на пол-пути, когда раздался зловещий треск. Одно колесо висело над пропастью. Девица Плюш испускала истошные вопли. Несмотря на геркулесову силу, Ла Дусеру не удавалось вытащить повозку из дыры. Братья-близнецы спешились, но от двух нытиков было мало толку. Зефирина видела, как они тянули и толкали повозку, но все было безуспешно, они не могли сдвинуть ее даже на палец. Нужно было освободить повозку от поклажи. Зефирина, раздраженная этой задержкой, осмотрелась вокруг. Примерно в двухстах туазах[25] над крышей какой-то фермы поднимался дымок. – Я поеду позову на помощь! – крикнула Зефирина. Прежде чем Ла Дусер смог ей помешать, девушка направила Красавчика к жилищу. Она не проехала и пятидесяти туаз под пологом высокого леса, как поняла свою ошибку. – Вот она! Два оборванца выскочили из ямы. Они преградили ей дорогу. Будучи превосходной наездницей, Зефирина подняла коня на дыбы. Она сделала поворот и хотела вернуться к своим спутникам, оставшимся на мостике. Два других наемника, верхом, выскочили из-за изгороди и загородили дорогу. – Ла Дусер! – завопила Зефирина, поняв, что попала в настоящую засаду. Все произошло очень быстро. Она видела, как Ла Дусер бросил повозку и побежал по направлению к ней, подняв кулак. Оруженосец был слишком далеко, чтобы помочь. Какое-то покрывало обрушилось на голову Зефирины. Задыхаясь, она кусалась, отбивалась. Удар кулаком почти доконал ее. Она чувствовала, как чьи-то железные руки стаскивают ее с Красавчика. Ее бросили поперек седла. Болтаясь из стороны в сторону, словно тюк, Зефирина услышала отданный по-испански приказ: – Убейте ее только в крайнем случае! – Зефи… моя маленькая Зефи… они ее похитили! Это был полный отчаяния голос Ла Дусера. После этого Зефирина не слышала ничего, кроме топота копыт по каменистой дороге. Ее похитители удалялись быстрым галопом.ГЛАВА XXVI УЧАСТЬ ХУДШАЯ, ЧЕМ СМЕРТЬ!
Зефирина потеряла представление о времени. Поясницу ломило, в висках стучало, во рту пересохло, грудь обжигало горячим дыханием. Она впадала в долгое оцепенение, потом выходила из этого бесчувственного состояния, когда всадники замедляли бег, чтобы дать перевести дух лошадям. Она не имела ни малейшего представления о том, в каком направлении увозили ее похитители, ни о том, какую цель они преследовали. При остановках эти люди подолгу совещались тихими голосами. Зефирина слышала перешептывания, из которых не могла извлечь ничего существенного. Чтобы она не могла убежать, они связали ей лодыжки и запястья. Не снимая с головы покрывала, они сняли ее с лошади и опустили на мох или на солому. Такое поведение немного успокоило Зефирину. Ее похитители старались сохранить свою добычу в добром здравии. – Она сказала, что даст каждому по две тысячи экю, капитан! – услышала Зефирина во время одной из таких остановок. Она?.. Зефирина вздрогнула. Не исходил ли приказ о похищении от доньи Гермины? Ржание Красавчика приободрило Зефирину. Значит, ее славный конь тоже уведен злоумышленниками. Задыхаясь под тканью, которая стесняла дыхание, Зефирина потихоньку пошевелилась, чтобы ослабить путы и побольше узнать о своих похитителях. После нескольких таких попыток, как раз тогда, когда Зефирина уже достигла некоторого успеха, один из мужчин схватил ее, точно куль. Это был все тот же, кто нес ее. Зефирина узнала его ищущие руки, которые задержались на ее корсаже. Он вновь бросил ее поперек своего седла, и безумная скачка продолжалась в ночи. Сквозь шершавую шерсть покрывала Зефирина неясно различала свет факелов. Она слышала, как колокол прозвонил к девятичасовой вечерней молитве. Значит, они скачут уже три часа. – Капитан… лошади на дороге на Салон! – Нас преследуют! – Невозможно… у них оставались одни мулы! – Спрячемся в развалинах! – сухо приказал тот, кого остальные звали капитаном. Похитители свернули с дороги. По тому, как ступали лошади, Зефирина поняла, что они спускаются в ложбину. Она даже слышала, как внизу журчит ручей. – Если Византиец… – Никаких имен… Замолчи! – бросил капитан. – Уведи ее к башне! Зефирина почувствовала, как похититель уносит ее на плече. Он, должно быть, шел по кустарнику, потом опустил ее на землю. Сердце Зефирины оглушительно стучало. Византиец! Теперь она была уверена в том, что «эта Сан-Сальвадор» замешана в ее похищении. Наверху, на дороге, раздался стук копыт лошадей, пущенных быстрым галопом. Если бы только она могла привлечь внимание этих всадников! – По-мо-ги-те! – завопила Зефирина с энергией отчаяния. К несчастью, тяжелая ткань заглушила ее крик. На ее губы сейчас же легла железная ладонь. – Замолчи, или я сверну тебе шею! – проворчал тот, кому была поручена ее охрана. Зефирина приняла это к сведению. В то же мгновение яростное ржание Красавчика раздалось в ночи. Зефирина, вновь начавшаяся надеяться, прислушалась, но звук галопа быстро удалялся и стал неразличимым, и она ничего больше не слышала, кроме уханья совы. – Не дайте обнаружить себя! Сидите спокойно… Понятно! Не двигайтесь отсюда… Ты, иди со мной… Возьми лошадь девчонки, мы поедем на дорогу в разведку, посмотрим, свободна ли дорога! – объявил капитан, чей фламандский или еще более северный выговор Зефирина хорошо знала. Тотчас же она услышала, как две лошади поскакали рысью. Легкое посвистывание известило ее о том, что ее страж оставался поблизости, в то время как другой негодяй, оставшийся около лошади, прошептал издали: – Ты там, Фес Нуар[26]? – А как же! По «изящному» звуку, последовавшему вслед за этим, Зефирина поняла, что так называемый Фес Нуар длинно сплюнул. – Эй, послушай-ка, Фес Нуар, а что ежели мы этим чуток воспользуемся? – Заткнись, Анклюм[27]! Сказал же капитан, не надо лезть в эту тайну! Надо держаться спокойно… Чего там! – Да ладно! Это ее не убьет! Что до меня, то эта скачка разогрела мои… Зефирина ничего не понимала в разговоре грабителей. Правда, услышала их имена: Фес Нуар и Анклюм! Кто-то шел, продираясь сквозь кустарник. Должно быть, Фес Нуар пошел навстречу своему компаньону. – Ну так что… Давай? – Кто начнет? – Решим это, поборовшись… Зефирина больше не колебалась. Пока бандиты были заняты борьбой, надо было что-то предпринять. Терпеливая работа, начатая во время предыдущей остановки, принесла плоды. Зефирине удалось слегка отодвинуть покрывало от носа и глаз. Она была счастлива глотнуть свежего воздуха и тотчас же увидела возможность сбежать от своих стражников. Она лежала около рухнувшей стены постройки, которая когда-то была английской сторожевой башней. При серебристом свете луны она увидела в двух туазах от себя бандитов с согнутыми спинами. Они поставили локти на большой камень. И, сцепившись руками, выясняли, кто сильнее. Зефирина подтянула колени к подбородку. С большим трудом ей удалось добраться до узла на пеньковой веревке, которая стягивала ее лодыжки. Пот выступил у нее на лбу, в то время как она молча трудилась. Она едва не вскрикнула от радости, когда почувствовала, что ее ноги свободны. Приняв тысячу предосторожностей, девушка перевернулась на бок. У нее по-прежнему были связаны руки. Это положение стесняло ее движения, но добраться бы до обрушившегося мостика, который она угадывала над рвом. Она смогла бы вбежать в густой лес, где похитителям было бы довольно трудно найти ее среди ночи. – Мое угощение! Я выиграл! – Дурак! Она драпает! Услышав крики негодяев, Зефирина поднялась. Ею руководила энергия отчаяния. Она хотела бежать, но ноги затекли и не слушались. Она испустила жалобный крик животного, попавшего в ловушку. Бандиты накинулись на нее и бросили ее на землю. Голова Зефирины ударилась о камень. Оглушенная ударом, она продолжала сопротивляться, лягаться, брыкаться, пинать их ногами, но со связанными руками была бессильна противостоять нападавшим. – Заставь ее замолчать, Анклюм… Но не прячь ее голову. Она милашка. Меня возбуждает ее вид! – Каждому в свою очередь… Давай скорей, Фес Нуар! – умолял Анклюм. – Не боись, дай мне только войти в нее, и дело за тобой, ты, ворюга! Зефирина еще сомневалась в настоящих намерениях этих негодяев. Полузадушенная кляпом, она с отвращением ощущала, как руки Фес Нуара бегали по ее телу, щупали ее, разрывали ткань корсажа. Когда ее юная роскошная грудь была обнажена, Зефирина испугалась, как бы эти бродяги в поисках драгоценностей, не обнаружили бы письмо регентши, спрятанное за корсажем. Однако она быстро поняла, что намерения этих мерзавцев были совершенно другого рода. Тяжело дыша и противно посмеиваясь, они задрали ей юбки. Испытывая стыд от того, что похотливые взгляды этих типов увидят самые интимные части ее тела, она выгнулась дугой на земле. Хорошенько ударив коленом по подбородку Фес Нуара, она отправила его в яму. – Ах, ты, шлюха! Держи-ка ее лапы, Анклюм! – зарычал бандит, вновь принимаясь за свое дело. – Подожди, мы сейчас поржем! – пообещал его компаньон. Он принялся колотить Зефирину, осыпать ее тумаками и наносить ей удары ногами, злобно целясь в грудь и лицо. Один из ударов пришелся ей прямо в подбородок. От боли у нее посыпались искры из глаз. Анклюм вытащил из ножен кинжал. Теперь он развлекался тем, что водил острием по груди Зефирины. – Если ты будешь плохо себя вести, я тебе сиськи отрежу! И, чтобы показать, что его обещание серьезно, мерзавец укусил Зефирину в грудь. С ужасом она теперь осознала, что с ней происходит самая ужасная на свете для молодой девушки трагедия… изнасилование… Она сейчас будет изнасилована этими двумя отвратительными, омерзительными существами. Анклюм услужливо раздвинул ее колени перед своим компаньоном. – Ты видишь, она теперь спокойна, ей это нравится… Ха, плутовка! Ты хорошенькая! Мы сделаем тебе приятное! – насмехался Анклюм. Он сунул руку ей прямо между ног. При этом прикосновении Зефирина вздрогнула от стыда, оскорбленная в своей самой тайной женственности. Она ощущала смешанное чувство отвращения, любопытства и ужаса. Фес Нуар вновь встал над своей жертвой. Вытаращенными от ужаса глазами Зефирина увидела, как мерзавец копается в своих штанах. Издав какое-то ворчание, он вытащил огромный жесткий член, агрессивно нацеленный вперед. Вот как устроен мужчина!? Никогда в своей жизни Зефирина не видела такой уродливой, надутой, ненормальной, чудовищной штуки! Опираясь на локти, Фес Нуар старался засунуть эту поганую, гнусную, скотскую штуку в нее. Протестующий крик смолк, заглушенный кляпом. Зефирина взвилась от отвращения. С отчаянной силой она вновь стала бороться с двумя мерзавцами, удивленными этой новой волной сопротивления. Смерть в тысячу раз лучше, чем это надругательство. Зефирина бросилась вперед на кинжал, который Англюм приставил к ее груди. У нее на губах был вкус мученичества, она предпочитала отдать свою жизнь, как это делали святые, брошенные в яму со львами, чем познать бесчестье. Через мгновение Зефирина будет принята всеми ангелами рая. С каким-то пьянящим чувством она ощущала, как острый клинок погружался в ее плоть… В ее ушах уже звучали божественные колокольчики… Как раз посреди жертвоприношения Зефирина вздрогнула. Чей-то серьезный голос, в котором не было ничего божественного, сухо скомандовал: – Поднимитесь, вы, грязнули!ГЛАВА XXVII СТРАННЫЙ ВРАЧ
Зефирина вытаращила глаза. При свете луны она увидела два силуэта вооруженных мужчин. У одного в руках была дубина, утыканная острыми шипами, у другого – длинный кнут. – Если хотите сохранить жизнь, то не двигайтесь! – вновь заговорил тот, чей голос Зефирина уже слышала. Несмотря на угрозу, Анклюм попытался броситься в кусты. Металлическая дубина тотчас же обрушилась ему на голову. Какая-то липкая и теплая жидкость брызнула на лицо Зефирины, в то время как презренный негодяй ткнулся в землю носом со зловещим бульканьем. Фес Нуар тоже поднялся: – Ну, ладно, чего уж там… Уж и пошутить нельзя… Да вам, друзья, тут тоже хватит… Со смешком, сопровождаемым похабным жестом, бродяга гордо выставил напоказ свой твердый член. Кнут хлестнул его по этой части тела. Издав вой, Фес Нуар присоединился к Анклюму, скорчившись на земле. – Свяжи их, Франк Берри… Погрузи на лошадь. Мы перевяжем раны и допросим их дома! – объявил этот человек. Он положил свой кнут на землю и с тревогой склонился над Зефириной. Забрызганная кровью Анклюма, она закрыла глаза. Ее тошнило от отвращения. Зефирина чувствовала, как ловкие руки торопливо вытаскивали кляп и развязывали путы на ее запястьях. Так как она не шевелилась, две теплые руки стали массировать ей затылок и лоб. При этом прикосновении ее охватило очень приятное чувство, какое-то внутреннее умиротворение и успокоение снизошли на нее. – Мадемуазель… мадемуазель… Вам больше нечего бояться, эти негодяи больше не смогут повредить вам… Вы не ранены? Продолжая говорить, мужчина осторожно приподнял Зефирину. Словно для того чтобы вывести ее из состояния отупления, он подул на ее веки. – Нет, нет… я не думаю!.. – пролепетала Зефирина. Она вновь открыла глаза, стараясь разглядеть в темноте внешность своего отважного спасителя. Он, должно быть, понял этот немой вопрос, понимая, что она боится попасть в руки других негодяев. Он учтиво поклонился: – Доктор Мишель де Нотр-Дам, сторонник мира, врач, фармацевт и собиратель трав из Сапон-де-Прованса. К вашим услугам, мадемуазель. Вы не должны опасаться более. Ваш оруженосец не замедлит к вам присоединиться. Я знал, что вы в опасности, находясь среди этих руин, но он не захотел меня слушать. В данный момент, поверив одной хитрости, ваш Ла Дусер преследует двух других злоумышленников, удирающих по дороге, ведущей к аббатству. Я думаю, они от него ускользнут. Однако радуйтесь. Он приведет обратно вашего коня, а через час к нам присоединится и ваша дуэнья. Вы видите, у вас нет никаких оснований для беспокойства. Мой лакей и я сам, мы позаботимся о вас. Говоря все это успокаивающим тоном, он донес Зефирину до жеребца, который смирно ожидал возвращения своего хозяина позади развалин, в то время как Франк Берри удалялся со своим стонущим грузом. – Господин доктор, откуда вы знаете все то, о чем вы меня известили? – прошептала Зефирина, с ужасом спрашивая себя, уж не оказалась ли она теперь во власти опасного безумца. – Мое жилище находится при въезде в Сапон-де-Прованс, там я окажу вам помощь. Через несколько дней вы сможете продолжать ваше путешествие… Ну-ну, мадемуазель, успокойтесь, вы приедете точно вовремя! – только и ответил врач. Его голос был таким мягким, внушающим доверие, а Зефирина была такой разбитой, усталой, что уже больше не возражала, не удивлялась словам этого странного сторонника мира. Должно быть, Ла Дусер слишком разболтался. Девушка решила, что ее спаситель был всего лишь безобидным оригиналом. Успокоенная этим объяснением, Зефирина уронила голову на плечо доктора де Нотр-Дама и отложила на потом выяснение такого чудесного освобождения. – Пр-р-ивет!.. 3-з-здоровье!.. Здоровье! Привет! Чей-то гнусавый голос встретил появление Зефирины в кабинете доктора Нотр-Дама. Замолчите, Гро Леон[28]! – ответил врач, укладывая девушку на кушетку. Зефирина поискала взглядом этого человека, к которому только что обратился доктор. Но в кабинете, освещенном семисвечником, никого не было. Только качался человеческий скелет, привязанный веревкой. Его окружали банки, бутылки, перегонные аппараты, реторты, напомнившие девушке, что она одинока и беззащитна в руках ученого, который был, возможно, безумцем. Зефирина вздрогнула, кто-то тем же самым гнусавым голосом, раздававшимся с того места, где находился скелет, вновь начал кричать: – Пиявка… Слуга… Слуга… Пиявка! Зефирине стало страшно, а на лице появилось очень смешное выражение изумления. Доктор Нотр-Дам не смог сдержать улыбку. Затем он сурово сказал: – Немного спокойствия, Гро Леон! Вы пугаете нашу гостью. Идите и поздоровайтесь, раз уж вам так этого хочется! А затем замолчите! Раздалось хлопанье крыльев. Большая птица с черным оперением вылетела из-за скелета; полетав под потолком, она опустилась на колени к Зефирине. – Здравствуйте! Симпатия! – прокаркала птица. Когда прошло первое изумление, Зефирина приподнялась на локте. Она ласково погладила пальцем серое пятнышко на шее, единственное светлое пятнышко на черном, блестящем оперении птицы. – Говорящая птица! – воскликнула восхищенная Зефирина. – Это галка, мадемуазель. Она больше, чем дрозд, но меньше, чем ворон, болтлива больше, чем попугай ара… А воровка хуже, чем ворона… Вот таков Гро Леон! Словно понимая речь своего хозяина, птица кокетничала и прихорашивалась. Ощущая ласку Зефирины, она наклоняла голову, и из ее клюва вырывалось нечто, похожее на довольное кудахтанье, прерывавшееся словами: – Здоровье! Привет! Сардина! – Она зовет меня Сардиной! – сказала Зефирина, смеясь. – Это потому, что вы ему нравитесь. Для него это дружеское имя. Он очень любит и легко запоминает слова, начинающиеся на «с». Я нашел его год назад на каком-то поле. Должно быть, несчастный малыш выпал из гнезда. Крыло у него было сломано и волочилось по земле, жалко было смотреть. Я ухаживал за ним как только мог, и, клянусь, это животное оказалось более благодарным, привязчивым и разумным, чем многие люди! Продолжая разговаривать, доктор Нотр-Дам расставлял на низком сундуке масла, повязки и мази. Она же смотрела на врача с возрастающим удивлением. – Вы ухаживаете за птицами, сударь… вместо того, чтобы прикончить их, швырнув камень, как делают многие в подобных обстоятельствах? – Птица стоит человека, мадемуазель! Могу ли я попросить вас расстегнуть ваш корсаж? С недоверчивым смущением Зефирина покорилась. В то время как доктор Нотр-Дам щупал ее пульс и внимательно осматривал раны и кровоподтеки, которыми была разукрашена грудь Зефирины, она заметила при свете семисвечника, что врач гораздо моложе, чем ей показалось ночью, судя по его серьезному голосу. Черная сутана, спускавшаяся ниже колен, – обычная одежда для людей его профессии, – придавала ему важный и суровый вид. Но с того момента, как он снял свои желтые перчатки, широкополую шляпу, длинный и широкий плащ, Зефирина поняла, что, в общем-то, доктор Нотр-Дам еще молодой человек: ему могло быть двадцать три или двадцать четыре года. Он был среднего роста, но очень пропорционально сложен, и, если судить по тому удару кнутом, который он нанес Фес Нуару, он должен был быть крепким и отважным. Но особенно привлекало внимание Зефирины его лицо: белое, непроницаемое, словно высеченное из мрамора. Над прямым, правильным носом поднимался широкий лоб, а его сине-зеленые, с переливом, глаза, казалось, читали в душе Зефирины, словно в раскрытой книге. – Несмотря на мою молодость, мадемуазель, я изучаю медицину на медицинском факультете в Монпелье. Я уже целый год практикую как врач в этой местности. Именно возвращаясь от больного, я встретил ваших людей на мосту… хм… ваши раны поверхностны, но мне не нравятся ни те, что у вас на груди, ни та, что у вас на подбородке. Мне придется успокоить влагу в глубине вашего организма, чтобы у вас не осталось никаких следов на столь прекрасном теле и столь прекрасном лице. Это было бы обидно и досадно… Я вам положу на раны это лекарство, сделанное в Тулузе. Оно немного пощиплет, но неприятное ощущение будет продолжаться недолго. В терапии я предпочитаю использовать растения и травы, которые собираю в полях и лесах… Доктор положил на круглые груди и на подбородок Зефирины нечто вроде припарок с приятным запахом фиалки. Оказалось, что доктор выразился слишком мягко: его лекарство не щипало, а ужасно жгло. Подавив стон, рвавшийся из груди, Зефирина стиснула зубы. Ее глаза наполнились слезами. Внезапно, как по волшебству, боль прекратилась. У девушки появилось ощущение, что от припарок исходил успокоительный холодок. – Ну, вот и все! Вы были очень отважны, – с восторгом сказал молодой врач. – Теперь поспите с этими повязками всю ночь. Завтра или, самое позднее, послезавтра не останется никаких следов от ударов, которые нанесли вам эти скоты. Это будет всего лишь дурным воспоминанием… Пока доктор говорил, его ловкие и мягкие руки накладывали примочки на тело Зефирины. Он очень спокойно поднял ее нижнюю юбку, ища на ногах и на атласной коже бедер ссадины и царапины, которые надо было обработать. По мнению Зефирины, его поползновения зашли слишком далеко. Она чувствовала, что к ней возвращается все ее недоверие. Что она знала об этом слишком молодом враче? Да, он вовремя прибыл в нужное место, чтобы вытащить ее из когтей бандитов. И еще, что он был немножко сумасшедший и хороший говорун. Сухо оттолкнув руки врача, Зефирина вдруг выпрямилась, сидя на кровати. – Благодарю за вашу заботу, господин де Нотр-Дам, я закончу наносить эти мази сама! Несмотря на иронию, которая светилась в его сине-зеленых глазах, молодой врач не настаивал. – Как пожелаете, мадемуазель. В это самое время ваша дуэнья въезжает в город. Как только она сюда прибудет, она поможет смазать ваши раны. Зефирина прислушалась. Она не различала ни звуков катящейся повозки, ни стука копыт. Этот молодой доктор начал ее чрезвычайно раздражать своим внушительным видом оракула. Ей очень хотелось раз и навсегда поставить его на место, показав, что она тоже обладает солидными познаниями в анатомии. – Позвольте мне, сударь, восхититься вашим телосложением, ибо внешние отверстия ваших слуховых каналов, снабжены, несомненно, чудесным аппаратом, который позволяет вам слышать то, что другие совсем не слышат! Зефирина выпалила свою краткую речь с совершенно невинным видом. Но она была разочарована реакцией молодого человека. – Чувствуете ли вы себя достаточно крепкой, чтобы дойти до комнаты, который Франк Берри приготовил для вас? – только и спросил Мишель де Нотр-Дам, казалось, не заметивший иронии Зефирины. Перед лицом этого олимпийского спокойствия ей стало немного стыдно, что она набросилась на человека, который спас ее от бесчестья! Но птичий крик отвлек ее внимание от молодого доктора. – Солидно! Сардина! Сардина! Солидно! Гро Леон хлопал крыльями, сидя на пузатом буфете, с которого наблюдал за происходящим. Зефирина встала на ноги без помощи врача. Она подняла глаза на птицу и испустила возглас изумления. У нее было впечатление, что она смотрится в зеркало. Однако, картина, которую она видела на стене, освещенной свечами семисвечника, была портретом в натуральную величину. Краски были совсем свежими… Это был ее собственный портрет! Еще неуверенно держась на ногах, Зефирина подошла к полотну. – Но ведь это я? – пролепетала она. Взгляд ее изумленных глаз попеременно перебегал с портрета на лицо доктора. – Действительно, я вас ждал неделю назад… Несмотря на то что я всего лишь художник-любитель, портрет получился верным… да… – Должен признаться, что я удовлетворен, сходство большое, не так ли? – спокойно сказал молодой врач, расставляя оловянные сосуды. Зефирина еще раз внимательно рассмотрела портрет и получила весьма неопровержимые доказательства того, что именно она нарисована: на шее у девушки, изображенной на картине, был медальон, разделенная на пятьдесят пластинок цепочка, усыпанная драгоценными камнями, с большим изумрудом посередине, размером с орех. Однако у изумруда была другая оправа. Вместо того чтобы быть окруженным змеями или зажатым в когтях орла, изумруд сжимал в пасти золотой леопард! – Но кто же вы, сударь? Зефирина испытывала смешанное чувство недоверия, восхищения и любопытства. Мишель де Нотр-Дам мягко улыбнулся: – Я – простой человек, мадемуазель! А вот и ваша дуэнья и оруженосец. Они прибыли одновременно и будут очень рады увидеть вас вновь! На этот раз Зефирина услышала звук колес и топот лошадиных копыт, стучавших по мостовой маленькой площади. – Клянусь задницей дьявола, эти мерзавцы от меня ускользнули! – метал громы и молнии Ла Дусер. Радостное ржание было ответом на проклятия и ругань великана-оруженосца. – Ла Дусер… Красавчик! – прошептала Зефирина. Она бросила заинтересованный взгляд на молодого врача. Все происходило именно так, как он предсказывал. – Мерзавцы! Здоровье! Здоровье! Мерзавцы! – орал в прихожей Гро Леон. – Барышня Зефирина! Ах! Вы целы! – смешно сюсюкала девица Плюш, увидев свою подопечную в доме у доктора. – Слава тебе… Достойная старая дева не смогла закончить так хорошо начатую фразу. Она упала в обморок на пол из черной пихты. – Спасена! Цела! Спасена! Цела! – повторял с огромным удовольствием Гро Леон. – Моя малышка! Моя маленькая малышка! Клянусь потрохами Святого Сатурнена!.. Жива, она жива!.. Ах, старый я дурак! Вот славный врачишка, что спас нашу барышню! Грохочущий Ла Дусер со всего маху хлопал молодого врача по плечу. Зефирине хотелось смеяться. Старательно оберегающий свой покой господин Нотр-Дам явно не ожидал подобного гама в своем тихом жилище. Пришедший в восторг от того, что видит такое прекрасное общество в столь поздний час, Гро Леон орал все громче и громче: – Святой Сатурнен… Мерзавец… Мерзавец… Мерзавец… Святой Сатурнен! – О-ля-ля! О-ля-ля! Уй! Уй! Уй! Эти словечки изрекали братья-близнецы Ипполит и Сенфорьен, которых это приключение, казалось, потрясло больше, чем Зефирину. В прихожей невозможно было расслышать друг друга. К большому удовольствию девушки, доктор энергично взял бразды правления в свои руки. Прежде всего он запер галку в кабинете. В качестве лекарства он влепил две добрые оплеухи по впалым щекам Артемизы Плюш. Это лекарство совершило чудо. Оно подействовало лучше, чем микстура. – Где я? Что я слышу? Что я делаю? Что я вижу? – простонала Плюш, открыв глаза. – Мадемуазель де Багатель испытала большое нервное потрясение! – сказал решительным тоном доктор. – Она нуждается в покое и отдыхе. Франк Берри, отведи наших гостей в их комнаты! Все должны спать! Завтра утром мы допросим злоумышленников! Зефирина не проснулась ни утром, ни днем, ни к вечеру. Она проспала глубоким сном без сновидений, не двигаясь, не поведя бровью, тридцать шесть часов подряд. Когда она открыла глаза, доктор Нотр-Дам склонялся над ее подушкой, словно он и не покидал изголовья ее постели. – Уф, мадемуазель! У вас был жар, и я опасался, что вы впали в летаргический сон! – У меня волчий аппетит! – заявила Зефирина с чарующей улыбкой. Она была свежа, как яблоко; она знала, как красива при пробуждении. Чудесные распущенные золотые волосы обрамляли розовое личико. Она кокетливо потянулась, в то время как врач приложил ухо в ее груди, чтобы послушать, как бьется сердце. Зефирина в то же время чувствовала, как его горячие пальцы ищут ее пульс. Ей было приятно ощущать голову молодого врача около своей груди. Расслабленная и полная сил одновременно, Зефирина едва не испустила вздох разочарования, когда Мишель де Нотр-Дам вдруг выпрямился. «Уже?!» – Вот вам шарик, который я составил сам. Это древесина кипариса и растертые в порошок цветы гвоздики. Они очень способствуют восстановлению сил. Примите это лекарство, и я думаю, что через три дня вы будете достаточно крепки, чтобы продолжать ваш путь, мадемуазель! Зефирина не ответила. Молодой врач молча менял ей повязки. Глядя на него сквозь полуприкрытые ресницы, она заметила в этом загадочном человеке некую нервозность. – Ну, вот… все идет хорошо! Сделав это заключение, Мишель де Нотр-Дам собрал инструменты и быстрым шагом вышел из комнаты. Зефирина пребывала в задумчивости. В голове у нее вертелась одна мысль. Почти тотчас же Франк Берри поднялся к ней с подносом, уставленным бульонами с травами, дымящейся похлебкой и самой аппетитной на вид пуляркой. – Они принимают меня за обжору! – сказала Зефирина, улыбаясь. В то время как она уписывала все это за обе щеки, Ла Дусер и девица Плюш болтали, стоя у нее в ногах. Выслушав их смущенные признания, Зефирина понемногу узнала о тех событиях, которые последовали за ее похищением. В то время как великан-оруженосец, обезумевший от ярости и отчаяния, выпрягал мула, чтобы броситься вслед за Зефириной, к мосту подъехал доктор Мишель де Нотр-Дам со своим лакеем Франком Берри и аптекарем господином Мелоном. Поставленный в известность о той драме, которая только что произошла, молодой доктор тотчас же попросил господина Мелона дать свою свежую лошадь Ла Дусеру. Аптекарь, в котором не было ничего от поборника справедливости, не заставил себя просить присоединиться к девице Плюш, стоявшей у повозки. С помощью доктора Ла Дусер вытащил колесо повозки из дыры. И тогда он понял, что доски мостика были подпилены у основания. Без сомнения, этот несчастный случай был, разумеется, подстроен! Не теряя времени, три всадника бросились в погоню за похитителямиЗефирины, назначив встречу, что бы ни случилось, в доме Мишеля де Нотр-Дама в Салон-де-Провансе. Бег своих лошадей они сдержали только один раз, у кузницы по дороге на Салон. Они расспросили кузнеца, и тот ответил, что видел всадников, которые неслись как сумасшедшие, а у одного из них был большой сверток. Да, сверток, который мог бы быть телом человека! Зефирина знала, что произошло потом. Она слышала, как ее спасатели мчались по дороге. Они слышали ржание Красавчика, и Ла Дусер опознал его. Они проехали мимо развалин и углубились в густой лес. Прошло совсем немного времени. Капитан и его пособник, скакавший на Красавчике, бросились по дороге, ведущей в аббатство. Ла Дусер, уверенный в том, что Зефирина с ними, решил следовать по их следам, в то время как доктор, уверенный в правильности своего дара предчувствия, вернулся к развалинам, как раз вовремя, чтобы спасти девушку. Ла Дусер, подъехав к стенам монастыря, заметил, что у бандитов не было никакого подозрительного «свертка». Он напал на одного из них и, несомненно, ранил его, ибо тот свалился с лошади. В то время как Ла Дусер гнался за вторым, первый, воспользовавшись сумерками, исчез. После этого Ла Дусер поймал Красавчика, который пасся в лесу. Он решил положить раненого на седло, но тот, как и первый бандит, исчезли в ночи. Ла Дусер, обезумевший от ярости из-за того, что позволил так себя провести, долго стучал в ворота монастыря. Можно было подумать, что все монахи умерли: никто ему не ответил. Тогда, с опущенной головой, он вернулся к дому доктора Нотр-Дама, где имел счастье вновь найти свою юную хозяйку. День пролетел быстро. Зефирина, однако, немного переоценила свои силы. После того как девица Плюш одела ее в платье из мягкой ткани цвета небесной голубизны, заплела волосы в две косы и уложила их вокруг головы, она решила немного поупражняться в ходьбе в цветущем саду. От нескольких шагов у нее закружилась голова, и она села на каменную скамеечку, скрытую от солнца в тени благоухающей грабовой аллеи, где смешались запахи лаванды и тимьяна. Гро Леон составил ей компанию. Он порхал вокруг нее, любезничал и кокетничал, приносил ей подарки: улитку, земляного червячка, увядший цветок, две испорченные вишни, хвостик лесной мыши, раковину улитки – короче говоря, очарованный Гро Леон старался понравиться. – Сардина! Привет! Сардина! Сапфир! Сардина! Слуга! Гро Леон произносил все слова, которые только знал. – Ты очень любезен. Спасибо, Гро Леон… Играя с птицей, Зефирина не могла не думать с тоской о своем будущем. Все то, о чем она забыла во время своего глубокого сна, быстро возвращалось. «Завтра! Самое позднее, послезавтра она вновь отправится в путь к этому Леопарду… князю Фарнелло… к этому ненавистному человеку… В конце концов лучше умереть, чем разделить столь печальную участь!» – с горечью думала Зефирина. – Зачем приходить в такое отчаяние от жизни, мадемуазель Зефирина? Вы слишком молоды, слишком умны и слишком красивы для того, чтобы не верить в свое будущее… При этих словах, произнесенных мягким голосом, Зефирина вздрогнула. Она не слышала, как подошел Мишель де Нотр-Дам. Он стоял, скрестив руки на груди, опираясь спиной на ствол сливы, и, похоже, какое-то время уже смотрел на нее. Ощущая на себе его ясный и проницательный взгляд, Зефирина слегка смутилась: – Мое будущее так печально и столь достойно сожаления, что лучше о нем не говорить! Не замечая краски, залившей щеки Зефирины, Мишель де Нотр-Дам согнул руку в локте и помог девушке подняться. – А вот и к ужину звонят! Чувствуете ли вы себя достаточно крепкой, чтобы разделить нашу скромную трапезу? Со времени ее завтрака прошло всего несколько часов, и Зефирине не очень хотелось есть. Она рассеянно слушала разговор, который вели доктор, Ла Дусер и девица Плюш. Речь шла об аптекаре, господине Мелоне. Тема разговора мало интересовала девушку. Однако не так обстояло дело с девицей Плюш. Зефирина заподозрила, что ее дуэнья не осталась равнодушной к чарам пузатенького аптекаря. При одном только упоминании имени господина Мелона Артемиза бледнела, краснела, нервничала, сюсюкала, ее нос становился еще длиннее, а глаза часто моргали. С самого начала ужина Зефирина хотела задать один вопрос, но у нее вдруг ужасно заболела голова. В то время как Гро Леон, совершенно не стесняясь, склевывал с ее тарелки остатки пирога с хрустящей корочкой, Зефирина выпила глоток горячего вина из Сен-Рафаэля. Этот напиток с горьковатым привкусом апельсинов приободрил ее. Она произнесла, ни к кому не обращаясь: – Никто из вас не сказал мне, сумели ли вы получить какие-либо сведения от двух злоумышленников? Ответом ей было смущенное молчание. – Мерзавцы… Вышли… Вышли… Мерзавцы! – орал Гро Леон, воспользовавшись всеобщим замешательством, чтобы напиться прямо из кувшина с вином. – Замолчите, Гро Леон! – сурово приказал врач. Он отер жир куропатки, который стекал по его подбородку, и положил на стол кость, которую обгладывал. – Мы не хотели вас беспокоить, мадемуазель Зефирина! Один из них, несмотря на мой уход, умер. Должно быть, Франк Берри ударил его слишком сильно… Что же касается второго, то… хм… Молодой врач смотрел на Ла Дусера. – Тысяча тараканов! Это большая ошибка, моя маленькая Зефи… – жалобно признал великан. – Я думал, что он еле жив, этот негодяй… Но он перерезал веревки и сбежал вчера, прежде, чем пропел петух… Из-за этого неприятного известия или из-за того, что она проспала тридцать шесть часов подряд, Зефирина не смогла уснуть в следующую ночь. Самые безумные картины мелькали у нее перед глазами. Она видела донью Гермину, вооруженную кинжалом. Своего отца, Роже де Багателя, умирающего в цепях в камере. Гнусного Фес Нуара, тянущего к ней свои руки. Бандита сменил человек с головой леопарда… Зефирина слышала, как в комнате, которая находилась как раз над ее собственной, ходил Мишель де Нотр-Дам. Он тоже не спал. Иногда это хождение прекращалось. У Зефирины сложилось впечатление, что молодой врач читал или что-то писал. Наконец, сломленная усталостью, на рассвете она заснула. Девушка чувствовала себя намного лучше, когда проснулась поздно утром. Ровно в полдень она внезапно решила съездить в монастырь Сен-Сакреман. Ла Дусер опасался теперь всего, даже монахинь. Великан-оруженосец устроил эту поездку Зефирины. С ними поехали Франк Берри, братья-близнецы Ипполит и Сенфорьен, девица Плюш, две служанки доктора Мартон и Марта и, наконец, Гро Леон, который вопил, сидя на голове у мула Помпона. Если аббатиса и была удивлена всей этой командой, она этого не показала. – Мы ждем вас в течение часа, мадемуазель! – решительно сказал Ла Дусер, стоя у ворот, в то время как его юная госпожа вместе с тремя сопровождающими дамами и Гро Леоном, которого не принимали за мужчину, входила внутрь монастыря. Это надо было понимать так: «Если вы не вернетесь в течение часа, мы пойдем на штурм». Мать-настоятельница, с елейно сложенными на груди руками и со склоненной под монашеским чепцом головой, показала хозяйке этих мест монастырь, часовню и монашеские кельи. Затем монахини предложили пообедать. Осмотрительная Зефирина не прикоснулась ни к питью, ни к еде. Все это время Мартон и Марта стояли по обе стороны ее кресла. Девица Плюш изо всех сил старалась поддержать разговор. Со своей стороны, Гро Леон забавлял послушниц, повторяя: – Сан!.. Сакреман!.. Слуга!.. Как ни старалась Зефирина, она не находила ничего подозрительного. Ну можно ли представить, что эти святые женщины дали приют «этой Сан-Сальвадор» и ее двум бандитам? Прошел час. Ла Дусер заколотил в ворота. – Вы уже покидаете нас, мадемуазель де Багатель? – искренне удивилась аббатиса. Зефирина и ее сопровождающие подошли к калитке. Прежде чем откланяться, девушка в упор спросила: – Не видели ли вы случайно, ваше преподобие, в последнее время мою дорогую мачеху, донью Гермину, Маркизу де Багатель? Настоятельница, казалось, была очень удивлена этим вопросом: – Нет, дочь моя. Маркиза покинула нас вот уже много месяцев назад; однако нам нанес визит господин ваш отец… – Давно? – с усилием смогла произнести Зефирина. – Да две недели назад или около того, – сказала аббатиса, улыбаясь. – Мой отец!!! Зефирина была так взволнована, что не смогла закончить фразу. Казалось, не замечая бледности своей собеседницы, настоятельница монастыря Сен-Сакреман спокойно продолжала: – Мы будем молиться за ваш брак, возлюбленная дочь моя. Да благословит вас Господь! Зефирина покинула монастырь словно во сне. Либо эта монахиня сумасшедшая, либо Зефирина ничего не поняла. Либо… Либо… Но нет, это невозможно! Роже де Багатель находился в Италии, в плену у князя Фарнелло… Если только не… Ужасное подозрение против собственного отца зрело у Зефирины. Уже не в первый раз возникало у нее необъяснимое чувство тревоги, когда она думала о том, кто породил ее. Настораживали кое-какие, казалось, малозначительные факты! Иногда проявления трусости и малодушия! Кое-когда – молчание… или – взгляд… Роже де Багателю было что скрывать, а Пелажи перед смертью попыталась ей это объяснить. В то время как мадемуазель Плюш ворковала, слушая всякий вздор, который нес господин Мелон, Зефирина молчала, поглощенная своими мыслями. – Мышь! Сардина! Сардина! Мышь! – вопил Гро Леон. Они прибыли к дому доктора Нотр-Дама. – Я полностью восстановила свои силы. Мы уезжаем завтра утром! – приказала Зефирина. Во время ужина Зефирина чувствовала, что взгляд сине-зеленых глаз молодого врача много раз останавливался на ее лице. Зефирина потупила глаза. Она брала двумя пальчиками еду с блюд, которые Мартон и Марта ставили на широкий стол. – Франк Берри поедет с вами до самого герцогства Миланского, Ла Дусер. Так мне будет спокойнее! – вдруг сказал Мишель де Нотр-Дам. – Ох ты, деревянная сабля! Вот так замечательное предложение и благородная идея! С таким славным спутником мы не будем бояться этих чертовых задирателей юбок! Слово Ла Дусера! О, простите меня, дамы! – опомнился Ла Дусер и покраснел. Под тем предлогом, что они уедут утром, Зефирина рано удалилась в свою комнату. Девица Плюш хотела помочь ей уложить вещи в сундуки, но Зефирине хотелось побыть одной. Она отпустила свою дуэнью, медленно разделась, умылась холодной водой с жасминовой эссенцией и надела красивую батистовую рубашку с кружевным воротничком. При мягком свете свечи она посмотрелась в маленькое зеркальце, покусала губы. Распустив волнистые волосы, она долго их расчесывала. Они сопротивлялись, снова ниспадали плотными кудрями ей на плечи, переливчатые и мягкие. Зефирина была очень хороша. Она это знала, и ее отражение в зеркале ответило ей улыбкой. Двери в доме закрывались одна за другой. Огоньки гасли. Должно быть, было 11 часов вечера, когда Зефирина услышала, как доктор Нотр-Дам покинул свой кабинет на первом этаже и стал подниматься по лестнице. Когда он проходил мимо двери ее комнаты, ей показалось, что он замедлил шаг. Возможно, он даже видел свет свечи. И колебался, войти или нет? Сердце Зефирины громко стучало у нее в груди. Она еще не совсем решилась осуществить свой план. На колокольне маленького городка Салон пробило полдвенадцатого. Через шесть часов она навсегда покинет этот гостеприимный дом и его симпатичного владельца, чтобы соединиться с ненавистным, презренным и зловредным существом. Ну, не надо больше увиливать! Зефирина твердой рукой схватила подсвечник. Она легким шагом поднялась по лестнице. На площадке второго этажа луч света пробивался из-под двери. Зефирина тихонько поцарапала ногтями по двери и, не дожидаясь ответа, вошла в комнату. Доктор сидел за рабочим столом в белой рубашке с закатанными рукавами и гораздо больше походил на молодого студента, чем на ученого медика. Он что-то писал на плотном пергаменте, пользуясь длинным гусиным пером. Не поднимая глаз на девушку, словно ждал ее, он просто сказал: – Входите, Зефирина. Что я могу для вас сделать? – Быть первым! Услышав этот лаконичный ответ, Мишель де Нотр-Дам отложил перо в сторону. Он поднял голову и посмотрел на Зефирину. – Я не понимаю… – Вы прекрасно все поняли! – сказала Зефирина суровым тоном. – Я пришла отдаться вам…ГЛАВА XXVIII В КОТОРОЙ, БЛАГОДАРЯ ЗЕФИРИНЕ, «НОТР-ДАМ» СТАНОВИТСЯ БЕССМЕРТНЫМ ИМЕНЕМ
– Если вы ищете эталон мужчины и только, то вы ошиблись адресом, мадемуазель! – сухо ответил Мишель де Нотр-Дам. Уязвленной столь ироничным приемом, Зефирине захотелось убежать, чтобы скрыть свой стыд. Она пришла отдаться этому молодому врачу, он же пренебрег ею, хуже того, он решительно ее отверг. Однако надо было плохо знать Зефирину, – она не собиралась отступать. – Я действительно не понимаю, почему вы не делаете из этого целую историю, господин Мишель. Я пришла попросить вас оказать мне небольшую услугу. Окажите мне ее и не будем об этом больше говорить! – настаивала Зефирина, аккуратно затворяя за собой дверь. На этот раз доктор с такой силой отшвырнул от себя пергамент и бронзовую табуретку, что чернила пролились на карты и манускрипты, разложенные на длинном столе из темного дерева. В два прыжка молодой врач оказался около Зефирины. Он схватил ее за плечи. Его проницательные глаза пристально всматривались в глаза Зефирины. – Я действительно не понимаю, почему вы не позволили оказать «эту маленькую услугу» двум бандитам. Они бы вас не убили! Все, чего они хотели от вас, так это минутного удовольствия. Что касается меня, то вы хотите причинить мне зло – ведь я не смогу умереть с чистой совестью, ибо я причинил бы зло другому человеку… сколько было бы горя и страданий! – закончил свою речь Мишель де Нотр-Дам глухим голосом. – Я глубоко сожалею о том, что причинила вам зло, господин Мишель, – искренне сказала Зефирина, – ну хорошо, не будем больше об этом говорить! Я обратилась к вам потому, что вы человек благородный и великодушный. Меня ожидает гнусный человек, он захочет воспользоваться своим правом в отношении меня. Я не хотела доставить ему удовольствие быть первым. Я думала, что, будучи достойным дворянином, вы поймете мое мучение и не откажете мне в вашей помощи. Но если это будет и для вас столь же мучительно… Продолжая говорить, Зефирина старалась высвободиться из его объятий. Теперь молодой врач не позволял ей уйти. На его красивом лице, внезапно оживившемся от огромного внутреннего волнения, можно было прочесть жестокую борьбу. – Божественная Зефирина… – прошептал молодой человек. – Несмотря на вашу эрудицию и ваши знания, вам надо еще многое узнать. Любовь – это совсем не такая вещь, с которой можно обращаться как с окороком, который обменивают на ярмарке. Ласковым движением Мишель Нотр-Дам привлек голову Зефирины к себе на плечо. Он провел рукой по роскошным рыжим кудрям. – Любовь, как вы говорите, – вздохнула Зефирина, – для меня является синонимом отвратительного животного акта. Но что делать, раз человек, которого я любила, умер. Я предпочитаю, чтобы это были вы, доктор… Ответом ей был вздох. Она отдавала себе отчет в том, как изменился внешний вид доктора. Он прижимал Зефирину к себе, и она ощущала крепость и упругость его мужского тела. Несмотря на отвращение, которое охватило ее в то мгновение, когда она увидела мужское естество Фес Нуара, она не могла не восхищаться этим превращением. Руки Мишеля, внезапно ставшие нетерпеливыми, ласкали ее юные груди, свободные под тонким батистом. Всю ее охватила дрожь. Зефирина подняла глаза на молодого человека. Он был ненамного выше ее ростом. Очень медленно он склонился к ней, коснулся губами ее лба, глаз, спустился к губам. Мягкие и приятно пахнущие губы прижались к ее губам. Это был очень нежный поцелуй, долгий и полный неги. Зефирина снова испытывала те же волнующие ощущения, как в ту ночь, когда был пожар. Правда, эти ощущения были сейчас менее жгучими, но не менее приятными. Какой-то чудесный жар и покалывание охватили ее бедра. Не желая признаться, что ей приятно, она охотно потянулась к молодому человеку. Дыхание у нее стало прерывистым, теперь ей хотелось поскорее «узнать», что произойдет. – Идемте, Зефирина… – прошептал Мишель Нотр-Дам. Она дала себя увлечь на брошенную перед камином медвежью шкуру. Несмотря на то, что стояла весенняя теплая провансальская ночь, в очаге горел огонь. Зефирина вытянулась, согретая пламенем. Ее рубашка приподнялась, обнажая ноги и бедра. Она закрыла глаза и ждала. Так как ничего не происходило, она, удивленная, вновь открыла глаза. Мишель де Нотр-Дам сидел рядом с ней по-турецки и смотрел на нее каким-то странным взглядом. – Ну так что? – спросила Зефирина, приподнимаясь на локте. Пальцы доктора ласково коснулись ее губ, безупречного овала ее ясного лица, на котором следы ударов были уже почти незаметны. – Зефирина… Божественная Зефирина… – глухо повторил молодой человек. – Вы самая чудесная девушка, которую я когда-либо знал, чистая и обладающая такой чувственностью, которая будет сводить мужчин с ума. Ваша откровенность приводит в замешательство, ваш подход к жизни заставляет меня бояться за вас. Я умираю от желания сжать вас в объятиях, но не смогу воспользоваться неожиданной удачей в данных обстоятельствах. Вы будете сердиться на меня за это, и я буду себя за это упрекать. Вы говорите, что в любви есть что-то животное и омерзительное, Зефирина. Любовь – это самый чудесный дар для тех, кто ее испытывает. Я ее испытал… но не вы! Если бы я овладел вами сегодня ночью, вы все равно уехали бы завтра утром, а я бы все время думал, что вел себя как дикий зверь! – Ну, это уже слишком! – воскликнула Зефирина в бешенстве. – Все эти прекрасные слова говорят об одном – вы изменили свое мнение. Ах, господин де Нотр-Дам, я вас поздравляю, вы всего лишь эгоист! Но я-то что буду теперь делать? А? Возмущение Зефирины было столь комичным, что доктор рассмеялся. – Мы все же проведем эту ночь вместе, Зефирина… Я не буду заниматься с вами любовью… но я составлю ваш гороскоп. Это будет моим свадебным подарком. – Гороскоп? Это что еще за причуда? – недоверчиво спросила Зефирина. – Ну-ка, божественная Зефирина, призовите на помощь ваши знания. От латинского horoscopus… и от греческого heroscopos. – Horoscopos… – повторила Зефирина… – это слово восходит к слову «skopein» «час рождения»… Оно означает именно это? – Да. Вы столь же учены, сколь и красивы, моя душенька. Гороскоп – это исследование, которое астрологи проводят, чтобы узнать о судьбе какого-нибудь человека, опираясь на сведения о влиянии на него небесных тел с момента его рождения, наблюдая за состоянием небесного свода и положением небесных тел в данный момент… – Но не является ли это колдовством, господин Мишель? – Нет, Зефирина. Ничего не бойтесь. Астрология – это наука, зародившаяся на Востоке, и в ней нет ничего недоступного для понимания. Она даже может для того, кто пользуется ее благотворной стороной, сорвать печать, которой сейчас запечатаны некоторые философские доктрины, и раскрыть с помощью математики некоторые тайны алхимии. Мишель де Нотр-Дам подвел Зефирину к своему рабочему столу и усадил в странное кресло из меди с высокой кованой спинкой. Затем накинул ей на плечи плащ из коричневой шерсти, похожий на те, что носят пастухи в Альпах, и стал пытаться найти посреди ужасного беспорядка, царившего на столе предметы, которые ему были нужны для его опыта. Зефирина вначале не обратила внимания на обстановку комнаты. Но сейчас она с большим вниманием осмотрела чердак молодого врача. В отличие от врачебного кабинета на первом этаже, содержавшегося в превосходном порядке, эта обширная мансарда под самой крышей напоминала, скорее, логово, которое ее владелец устроил для того, чтобы скрыться от нескромных взглядов. – Никто и никогда не приходил сюда, Зефирина, – сказал Мишель, суетясь и хлопоча. – Даже Франк Берри не поднимается сюда вытереть пыль, и я безжалостно изгоняю всякого, проникшего в комнату… вы – первое человеческое существо, навестившее меня. Не беспокойтесь, ваше кресло сделано из меди, а мое – из бронзы для того, чтобы лучше улавливать таинственные силы мира, находящегося за пределами чувственных восприятий. Среди пыльных книг, старинных манускриптов, реликвий, перегонных аппаратов, реторт и хрустальных склянок, в которых молодой ученый изготавливал целебные напитки и другие жидкости, предназначаемые для больных, Зефирина заметила медали, печати, круглые зеркала, развернутые карты, испещренные цифрами таблицы и нацеленные на звезды астролябии в проемах слуховых окон. Все более и более заинтригованная, Зефирина воспользовалась тем, что Мишель был чем-то очень занят, находясь в глубине чердака, и склонилась над его рабочим столом. Несмотря на высохшие чернильные кляксы, Зефирина достаточно легко прочитала тонкие каракули молодого врача:Вторая центурия
Сидя ночью над таинственным исследованием
Отдыхая в одиночестве на бронзовом седле.
При свете скудного дня…
В шестом месяце, при восходе солнца,
Саламандра, леопард, на Марсовом поле, чтобы сразиться,
Утомленный на небе леопард слышит свой глаз…
Парящий вокруг солнца орел видит, что резвится вместе со змеей!
ГЛАВА XXIX ОТ СЮРПРИЗА К СЮРПРИЗУ
Зефирина пересекла реку По на пароме, которым управляли крепкие перевозчики. В местности, по которой они путешествовали, казалось уже забыли о войне. Здесь не видно было разорения, развалин, беженцев и толп бродяг. Они проезжали Пьемонт и Ломбардию. В деревнях дома были увиты розами, холмы покрыты виноградниками и оливковыми рощами. В переливающихся всеми цветами радуги долинах пышная растительность сверкала под жарким солнцем полуострова. Италия не только не отталкивала Зефирину, напротив, она ее завораживала мягкими склонами холмов, легкой прозрачностью чистого воздуха и заливавшим ее светом. Зефирина была существом слишком тонким и умным, чтобы не быть чувствительной к этой красоте. Но что ослепляло ее больше, чем окружавшие ее пейзажи, так это города, названия которых заставляли ее погружаться в мечту, города, которым было более двух тысяч лет… Суза… Турин… Верчелли… Палестро… Милан… Среди аканта и жасмина юная эрудитка обнаруживала соборы с зубчатыми стенами, роскошные дома с колоннами, богатые дворцы епископов, башни с часами, бесчисленные статуи из многоцветного мрамора, сохранившиеся со времен римлян цирки и арки, колокольни и донжоны[29], чьи кружевные силуэты охряного цвета возвышались над апельсиновыми и лимонными рощами. Видя все это великолепие и роскошь, Зефирина начала лучше понимать «безумное желание» французских королей завоевать и сохранить за собой это драгоценное герцогство Миланское. Храня в своем корсаже бесценное послание регентши, Зефирина хотела было направиться в крепость Пиццигеттон. Но Ла Дусер обратил ее внимание на то, что этот крюк отнимет у них столь драгоценный день, быть может, даже – два. Они могут опоздать. Итак, Зефирина решила ехать по кратчайшей дороге, чтобы сначала спасти своего отца. Девушка думала, что по дороге они столкнутся с враждебным отношением населения. К ее большому удивлению, крестьяне и трактирщики, пьемонтцы они были или ломбардцы, казалось, не сердились на нее за то, что она француженка. Напротив, как только повозка останавливалась во дворах, Зефирину тотчас же встречали горячими словами: – Bella Signorina[30]! Пребывая в состоянии полнейшего смятения чувств и путаницы в мыслях, после ночи, проведенной в скромной гостинице ломбардского городка Виджевано, где она очень плохо спала, Зефирина попросила девицу Плюш помочь ей надеть парадное платье. Она приказала также оруженосцам хорошенько вычистить повозку и коней. Им оставалось проехать всего несколько лье, чтобы достичь цели путешествия. Зефирина хотела прибыть в приличном виде. Под изумленными взглядами хозяина постоялого двора и его слуг, которые совершенно не понимали эту «furia francese»[31], Ла Дусер и Франк Берри, по пояс голые, принялись мыть повозку, мулов, сбрую и,конечно, Красавчика, обливая их водой из ведер. В то время как Ипполит и Сенфорьен с особым усердием чистили щетками штаны и камзолы, девица Плюш старалась чуть-чуть завить свои тусклые волосы. Даже Гро Леон, захваченный этими приготовлениями, полоскал свои запылившиеся перья в поилке черной свиньи. Солнечные часы показывали 9 часов утра, когда французы, сверкая, как новенькие экю, пошли на последний приступ. Зефирина была одета в роскошное платье из синего бархата, прекрасно сочетавшегося с небом герцогства Миланского, с чуть сдвинутой набок шапочкой с синим перышком. Ставшая вдруг молчаливой, она с опаской старалась разглядеть среди цветущего пейзажа владения князя Фарнелло. После того как они миновали Виджевано, им стали часто попадаться идущие навстречу испанские солдаты. С пиками на плечах, затянутые в кирасы, в железных касках, пехотинцы шли ровными рядами. Под предводительством высокомерных всадников в черных камзолах солдаты чеканили шаг, распевая тоскливые кастильские баллады, которые действовали Зефирине на нервы. «Я их ненавижу… я ненавижу их всех, этих душегубов!» И девушка, дрожа, с презрением отводила глаза. Она даже не хотела видеть этих захватчиков, этих мясников, руки которых были запятнаны французской кровью. Однако, когда мимо испанских солдат проезжала повозка Зефирины, они вежливо уступали дорогу. Ничто в их поведении не указывало на малейшее поползновение к проявлению агрессивности. Как всякие мужчины, лишенные женщин, они просто смотрели с явным интересом на повозку и на ее красивую хозяйку. – Гаэтан… Гаэтан, любовь моя! Я отомщу за тебя этим убийцам, – прошептала Зефирина, подавив рыдания. Возможно, побелевшие кости молодого человека гнили всего лишь в десяти лье отсюда, на поле кровавой битвы? Ла Дусер благоразумно постарался объехать это место. На полпути между Миланом и Павией, когда повозка проезжала среди серебристых лавров по западному берегу своенравной реки Ламбро, Ла Дусер вдруг поднял руку: – Клянусь башмаками Святого Юстиниана, вот мы и приехали, и приехали вовремя, барышня Зефи! Девушка взглянула туда, куда указывал великан-оруженосец. Она онемела от удивления: возвышаясь над деревней, спрятавшейся среди зелени, дворец князей Фарнелло возносился серо-розово-белой громадой. Гармоничный и величественный, он стоял на вершине холма с крутыми склонами, укрощенными руками великих мастеров. Зефирина, разумеется, не ожидала увидеть столь роскошное жилище, которым не пренебрег бы и сам король. – Барышня Зефи! О! Барышня Зефи! – восторгалась Плюш. Пребывая в состоянии восторженного изумления, неописуемая дуэнья открывала и закрывала рот, словно рыба, выброшенная из воды. По знаку Зефирины повозка остановилась на обочине грунтовой дороги. Ей нужно было привести в порядок свои мысли, прежде чем встретиться лицом к лицу с врагом. Вся ее небольшая свита, за исключением Ла Дусера, которому были знакомы эти места, с ошеломленным видом рассматривала будущее жилище девушки. – Брови! Синьорина! Синьорина! Брови! – вопил Гро Леон, который, казалось, понимал, что происходит в душе Зефирины. И действительно, нахмурив тонкие брови над потемневшими глазами, девушка, казалось, совершенно не оробела при виде окружающей ее роскоши. Река голубовато-стального цвета несла свои воды у подножия крепости. Пять веков назад дворец Фарнелло со своими башнями, галереями с навесными бойницами, донжоном, был настоящим орлиным гнездом, защищавшим свои земли и деревни. Но умелый архитектор, отдавая дань новой моде, окружил старый замок новыми крыльями, белыми, воздушными, украшенными куполами и колоннами, резными карнизами, которые придавали всему строению очарование и величественное изящество. Сам холм благодаря искусству садовников превратился в обширный цветущий парк с пышно цветущими розовыми кустами, с высокими темными кипарисами, устремленными к небу, с мраморными статуями, террасами, спускающимися к заросшим зеленью берегам реки Ламбро. «И что же? Я уже видела разные замки. Не буду же я вести себя, как ослепленная провинциалка…» – подумала Зефирина, пришедшая в ярость от своего собственного изумления. Наконец она очнулась и, дав знак Ла Дусеру, приказала приблизиться с Красавчиком. Гигант-оруженосец, поняв намерения своей юной госпожи, помог ей сесть в седло, и Зефирина, гордо восседая верхом на своем лоснящемся жеребце, возглавила небольшую группу. По мере того, как Зефирина приближалась ко дворцу, она с тревогой заметила внезапно возникшее движение в аллеях парка. Видно было, что обитатели замка извещены о приближении повозки и всадников. Дворецкие, стражники в униформе, лакеи в ливреях и конюхи бежали к высоким бронзовым решеткам, не позволявшим чужакам проникать в княжеские владения. Зефирина подняла голову. Над двумя столбами, обрамлявшими массивные ворота, красовался герб князей Фарнелло: на голубом поле был изображен леопард с золотой пастью, а сверху серебряными буквами начертан гордый девиз: «Я хочу!». Могло показаться, что Зефирина своим взглядом бросала вызов этому тщеславному гербу, который Франциск I приказал сломать на фронтонах всех домов, принадлежавших юному князю, восставшему против его, Франциска I, власти. Это было десять лет назад, после победы при Мариньяно. Зефирина в ярости стиснула руки, в которых держала поводья коня. Ах, с каким удовольствием она бы вновь разрубила этот проклятый герб! Чей-то слащавый голос прервал ее мстительные размышления. – Signorina de Bagatella[32]? Добро пожаловать, ваша милость… Sua Eccellenza[33] был в большой тревоге и нетерпении… Я ободрять и утешать его, как только мог… Хорошо ли доехали, ваша милость? Зефирина опустила глаза. Кругленький управляющий поместьем, вскарабкавшийся на спину крепкого ослика, приветствовал ее, выказывая самое глубокое уважение. «Его превосходительство нуждался в утешении! Хорошенькое дельце!» – подумала Зефирина, внутренне насмехаясь. «Ну ладно, князь Фарнелло не знал, что его ожидает. Не знал он и того, что у нее не будет с ним ничего общего!» – Мы, я и мои люди, проделали по чудесным дорогам Франции сколь прекрасное, столь и поучительное мирное путешествие! – заверила его Зефирина снисходительно. Она была твердо настроена не дать противнику шанс пробить брешь в ее стене отчуждения. – Мой отец, маркиз де Багатель, все еще пленник в этом доме? – вновь заговорила Зефирина высокомерным и ледяным тоном. – Дон Роже де Багателла вот уже много дней ожидает вашу милость… Его превосходительство не переставал спрашивать меня о приезде вашей милости… После этого многословного объяснения Зефирина догадалась, что запуталась в словах: превосходительством, о котором говорил управляющий, был не князь Фарнелло, а ее отец, Роже де Багатель. Оказавшись столь близко к цели, Зефирина внезапно ощутила желание разрыдаться. Так, значит, аббатиса солгала, или она ошиблась, или… или… В этом зубчатом донжоне, который возвышался над оврагом или, может быть, над рекой, сидел в каменном мешке, в цепях, Роже де Багатель, бледный и обессилевший, ожидал от своей дочери избавления от этой участи. – Хвала Мадонне за то, что защитила нашу будущую, такую прекрасную княгиню! – учтиво добавил управляющий, сложив в благочестивом жесте затянутые в перчатки ручки. При упоминании о браке дрожь пробежала по спине Зефирины. Она больше не могла отступать. Жребий был брошен. Повинуясь знаку пестро разодетого управляющего, четверо стражей широко открыли большие бронзовые ворота, в то время как лакеи выстроились в настоящий коридор почета. – Привет… Лосось… Колбаса… – вопил в качестве приветствия Гро Леон, к огромной радости лакеев. Повозка, Зефирина и всадники проехали следом за толстым управляющим, который трусил на сером в яблоках ослике, углубляясь в обширные владения. Металлический скрежет известил девушку о том, что стражники закрыли ворота за французами. Не совершила ли она ужасную ошибку, послушавшись Ла Дусера? Вот так приехать и с закрытыми глазами броситься в ловушку? Зефирина даже не захотела обернуться: «выкуп» только что прибыл во владения князя Фарнелло. Склон холма был слишком крут для впряженных в повозку мулов. К большому неудовольствию девицы Плюш и к огромному удовольствию Гро Леона, лакеи и конюхи должны были подталкивать повозку сзади. Великолепная мощеная дорога вела вверх ко дворцу. По краям стояли статуи из белого мрамора с синими прожилками, благоухали заросли цветущих рододендронов, виднелись фонтанчики в виде золотых пастей леопардов, из которых изливалась вода. Зефирина призналась себе, что никогда не видела столь прекрасного пейзажа. Однако она относилась с недоверием ко всему этому богатству, ведь она сама стоила двести тысяч дукатов! Гордо восседая на своем жеребце, она рассеянно слушала смешанную франко-итальянскую болтовню упитанного управляющего, который ехал с ней рядом на храбром ослике. – Меня зовут Анжело, прекрасная синьорина Багателла, к вашим услугам… Его светлость поручил мне встретить вашу милость и всеми возможными способами просить извинить его достойное сожаления отсутствие… – Князя Фарнелло здесь нет? – спросила Зефирина, очень заинтересованная этим неожиданным известием. По ее тону управляющий, должно быть, составил себе неверное представление о ее отношении к этому известию. Вероятно, он подумал, что девушка разочарована тем, что не нашла поджидавшего ее «жениха». Его полное лицо приобрело крайне озабоченное выражение. – Пусть ваша милость не истолкует это дурно! Его светлость был вынужден уехать из-за крайне срочных дел. Но пусть ваша милость успокоится: каноник Падре предупрежден, для свадебной церемонии все готово и дон Фульвио Фарнелло, разумеется, вернется до конца недели. Мозг Зефирины работал быстро. До конца недели, с божьей помощью и при помощи некоторого воображения, она и ее отец, быть может, даже вместе с королем, будут уже далеко от этого проклятого герцогства Миланского. Они прибыли на прекрасную, выложенную мрамором эспланаду, возвышавшуюся над зеленеющей долиной. Служанки и лакеи в красно-золотых ливреях спешили навстречу юной всаднице. На площадь перед княжеским дворцом Зефирина ступила, успокоенная выработанным ею планом. Она улыбалась. – Ваша милость, несомненно, желает отдохнуть в своих апартаментах? – тотчас же спросил толстый Анжело. Это бьющее через край желание угодить и приторная любезность возродили недоверие девушки. – Немедленно проводите меня в тюрьму к моему отцу! – сухо приказала Зефирина. Если толстый управляющий и был уязвлен колкостью фразы, то он этого не показал. Продолжая улыбаться, он склонил свое полное тело в поклоне. В то время как лакеи разгружали повозку, он, не говоря ни слова, пошел впереди Зефирины, к которой, конечно же, присоединились Ла Дусер, девица Плюш и Гро Леон. Они шли под высокими сводами по выложенному мозаикой полу. Отливающие всеми цветами радуги струи воды освежали воздух. Зефирина приподняла юбки, чтобы подняться по величественной мраморной лестнице. Два лакея с лицами, столь же непроницаемыми, как лица статуй, открыли двери из вызолоченного дерева, которые вели в большой вестибюль. Девушка шла следом за своим проводником по коридорам, залам и галереям, которые также были выложены желтым, черным, белым и розовым мрамором. Внутренне она восхищалась и удивлялась совершенству убранства и комфорту, необычному для Франции. Вместо маленьких и узеньких окошек дворцов в долине Луары здесь были широкие оконные проемы, в которые лился свет. Эти потоки света освещали гостиные и галереи, щедро украшенные мебелью – столами, столиками с выгнутыми ножками, креслами, покрытыми пестрыми подушками. На стенах, отделанных панелями и украшенных лепкой, великолепные зеркала соперничали по красоте с произведениями современных итальянских художников, чьи подписи на картинах Зефирина читала на ходу: Микельанджело… Рафаэль… Перуджино… Не зная этих имен, она, однако, отдавала себе отчет в том, что речь шла, несомненно, о больших мастерах. Даже двери были разрисованы цветами и фруктами в духе тех фресок, которыми Зефирина восхищалась в мастерской Леонардо да Винчи. Теперь среди всей этой изысканной роскоши ее прекрасное синее платье, которым она так гордилась до прибытия сюда, показалось ей блеклым. Она чувствовала себя такой же неловкой и провинциальной, как какая-нибудь крестьянка, вылезшая из своей дыры. Должно быть, такого же мнения была и девица Плюш, которая сюсюкала, замешкав сзади. – Из всех рыцарей короля Артура только Ланселот видел такие чудеса, которые… Разъяренный взгляд Зефирины прервал неуместные и несвоевременные изъявления восторга ее дуэньи. Теперь управляющий шел впереди них по длинной галерее. Около полусотни портретов в полный рост покрывали стены. Зефирина ни на секунду не усомнилась в том, что перед ней проходили парадом князья и княгини Фарнелло. Мужчины с холодными и высокомерными физиономиями все были изображены художниками в одинаковых военных доспехах. Несомненно, это была семейная традиция: в кольчугах, в доспехах с серебряной и золотой насечкой, со шлемами на головах, они восседали на неистово вздыбленных конях, а сверху был изображен герб и девиз Леопарда. Женщины, в большинстве красивые, сидели в грабовых аллеях или у камина, иногда с ребенком на коленях. У всех были высокие прически и головные уборы и какой-то меланхолический вид. Пройдя среди надменных лиц и нарядов прошлых веков, по мере того, как они приближались к современным портретам, Зефирина не могла сдержаться и искала, с некоторым любопытством, портрет нынешнего князя. Взглядом она задала немой вопрос Ла Дусеру, но оруженосец, казалось, не понял или не захотел понять этот немой вопрос своей юной госпожи. Зефирина уже заметила, что этот великан, обычно столь словоохотливый, погрузился в какое-то тревожащее молчание, когда речь заходила о Леопарде. Был ли князь горбатый, кривой, такой старый и ужасный, что Ла Дусер даже не осмеливался его описать? Управляющий подошел к концу вереницы портретов. Вдруг Зефирина заметила пустое место на стене. Цвет камня и слегка желтоватые пятна свидетельствовали о том, что один портрет, должно быть, сняли со стены совсем недавно. Девица Плюш, которая была заинтригована еще больше, чем ее юная госпожа, пропищала: – А есть ли портрет князя Фарнелло среди портретов его предков? Управляющий Анжело быстро ответил, не оборачиваясь: – Нет, синьорина, портрет дона Фульвио был унесен, чтобы сделать кое-какие поправки. Произнеся эту лапидарную фразу, пухленький ломбардец открыл низкую дверцу в деревянных панелях и отошел в сторону, чтобы пропустить Зефирину. Девушка оказалась в огромной библиотеке. Тысячи книг всех размеров, старые колдовские книги, написанные неразборчивым почерком, и новые манускрипты в богатых переплетах с гербом Фарнелло, горами лежали на тяжелых столах и стояли на полках из черного дерева вдоль всех четырех стен. В резном кресле сидел мужчина. Он читал, сидя перед высоким окном, выходившим на лес, словно был гостем, или даже хозяином этого роскошного жилища. Когда вошла Зефирина, он повернул голову и у него вырвался радостный крик: – Зефи! – Отец!ГЛАВА XXX ОТЕЦ И ДОЧЬ
Зефирина и Роже долго сжимали друг друга в объятиях, слишком взволнованные, чтобы говорить, слишком счастливые, чтобы не уронить несколько слезинок. Славная девица Плюш, потрясенная этой встречей отца и дочери, рыдала на груди у Ла Дусера, очень смущенного этой шокирующей близостью, а Гро Леон гнал волнение от себя прочь, таская сладости из бонбоньерки. Наконец, к Зефирине вернулось хладнокровие. В это время пришли приветливые и миловидные служанки, одетые в изящные ломбардские наряды: в черно-белых головных уборах, с шалями тех же цветов над ярко-красными корсажами, с белыми фартучками, надетыми поверх полосатых юбок. Они принесли освежающие напитки. Зефирина была удивлена, так как в хороших домах во Франции это делали только лакеи. Несмотря на сдержанное выражение лиц девушек, Зефирина чувствовала, что в их взглядах сквозило любопытство. Должно быть, на кухне, в комнатах для слуг и на служебном дворе толки и пересуды шли вовсю. Каждому, разумеется, хотелось больше знать о «французской синьорине», будущей хозяйке этих мест. Зефирина, испытывавшая раздражение от этого интереса, не ответила на реверанс горничных. Она надменно отвернулась, делая вид, что смотрит в окно на деревья в лесу. По знаку Анжело служанки поставили напитки на стол черного дерева, инкрустированный перламутром, и скромно удалились. Управляющий же, прежде чем выйти, осведомился: – Ваши превосходительства ни в чем больше не нуждаются? – Нет, спасибо, мой славный Анжело, все прекрасно! – ответил Роже де Багатель, улыбаясь. «Невероятно! Можно подумать, что мой отец находится в таверне и очень доволен обслуживанием!» – не смогла не подумать Зефирина. – Позвольте мне, ваше превосходительство, от моего лица и от лица всей прислуги передать вам наши горячие поздравления и пожелания счастья в связи с приездом ее милости, прекрасной синьорины! Произнеся эти пылкие слова, управляющий тихонько закрыл за собой дверь, оставив маркиза де Багателя и его дочь только с их преданными слугами. – Отец, отец… Нам надо поторопиться, – тотчас прошептала Зефирина. – Если я правильно поняла, вы пользуетесь здесь определенной свободой… Нам надо бежать до возвращения князя. Ла Дусер нас… Роже де Багатель прервал свою дочь: – Мое дорогое дитя, не блуждайте в мечтах, это невозможно! После молчания, которое длилось для Зефирины целую вечность, маркиз объяснил: – Я не могу и не должен бежать, Зефирина, по двум причинам: первая заключается в том, что я дал моему победителю, в обмен на достойное обращение и благородную участь, мое рыцарское слово не пытаться покинуть его владения. Как человек чести, я не нарушу моей клятвы. Во-вторых, я поступаю так ради вашего будущего и вашего счастья. Как же вы не понимаете, что мы не могли даже надеяться на такое брачное предложение, какое сделал князь Фарнелло? Мы почти разорены, Зефирина. Король Франции теперь не более чем несчастный пленник. Он ничего не может сделать для нашей семьи. Напротив, посмотрите на этот дворец, на эти красоты, на это богатство! Вы будете княгиней, Зефирина! – И я буду замужем за человеком, которого ненавижу! Настолько безобразным, что он велел снять свой портрет, чтобы я его не увидела! – возразила возмущенная девушка. – Вздор! Князь Франелло из благородной ломбардо-сицилийской семьи и… Довольно долго Зефирина вынуждена была выслушивать своего отца, превозносившего преимущества этого брака. – Вы, кажется, забыли, отец, что даже мертвого, я все еще люблю Гаэтана! – Дитя мое, надо думать о живых. Ну-ну, успокойтесь! Однажды вы поблагодарите меня за то, что я воспользовался своей отцовской властью! И так как хорошая весть никогда не приходит одна, я имел счастье вчера вечером получить послание от моей дорогой супруги Гермины, которая ожидает меня в Сен-Савене. Как только будет отпразднована ваша свадьба, я поеду к ней во Францию. – В Сен-Савене! Как странно! – не смогла удержаться от иронического восклицания Зефирина. – У меня были все причины верить донье Гермине, которую некоторые называют Генриеттой, не так ли? Еще совсем недавно, когда я оказалась в Салон-де-Провансе, в нашем аббатстве, где я остановилась, я могла ей верить, отец! Да, кстати, аббатиса уверяла меня, что принимала и вас тоже в прошлом месяце… Здесь Зефирина пришла в ужас от того, как изменилось лицо Роже. Обычно улыбающееся и приветливое, оно было искажено гримасой бешенства, почти ненависти. Глядя на него с недоверием, девушка вдруг поняла, что ее отец стал похож на ненавистную «Сан-Сальвадор». – Если вы проделали весь этот путь для того, чтобы вести себя со мной вызывающе, чтобы восставать против моей воли, чтобы, как всегда, поступать так, как вам того хочется, то уезжайте немедленно! Позвольте, не испытывая угрызений совести, князю Фарнелло отдать вашего отца в руки испанцев. У вас есть все причины «верить», сказали вы? Ну так мне остается сделать только одно с непокорной, глупой, неискренней, скудоумной дочерью! С дочерью, капризы которой, злоба и самые сумасбродные выдумки должны были оттолкнуть от нее мою дражайшую супругу, если бы та ни была настоящей святой! Когда Зефирина выслушала этот невероятный поток желчи, в ней вновь зародилось ужасное подозрение. В этом язвительном и желчном человеке она не узнавала своего отца. Да он ли это? Она в этом сомневалась. Жесткие и блестящие глаза Роже де Багателя как-то странно-пристально смотрели на нее. Питал ли он какое-либо отцовское чувство к своей дочери? Отдавал ли он себе отчет в том, какой жертвы он от нее требовал? Не использовал ли он Зефирину, руководствуясь чудовищным эгоизмом, только для того, чтобы достичь своих целей? Не был ли этот богатый брак выгоден для него, разорившегося ради «этой Сан-Сальвадор»? Или, быть может, как «увидел» Нострадамус, Роже де Багатель уже много лет был пленником «магического квадрата»? В этом случае Зефирина хотела бы помочь своему отцу избавиться от проклятого влияния. Но каким образом могла бы она этого добиться? Находясь в одном из уголков библиотеки, девица Плюш и Ла Дусер замолкли, онемев от изумления. Зефирине стало стыдно, что эта сцена происходила на глазах других людей, пусть даже таких близких. Однако, проглотив обиду и бессильную ярость, она гордо сказала: – Успокойтесь, отец! Вы – господин! Я уважаю вашу клятву, хотя она и была дана Леопарду вынужденно и может иметь лишь относительную ценность. Как покорная дочь, я подчиняюсь вашей воле! Все это было сказано коротко и резким тоном. Зефирине пришлось сделать огромное усилие над собой, чтобы, выходя, не хлопнуть дверью. Для Роже де Багателя дело было сделано. Вновь став очаровательным, легкомысленным и совершенно беззаботным, он осыпал свою дочь тысячами любезностей и ласк, но она оставалась напряженной и равнодушной. Он делал ей комплименты, восхваляя ее изящество, красоту, восхищался ее образованностью, радовался (правда, немного поздновато) встрече с ней. Он играл с Гро Леоном и смеялся над его воплями. Когда, наконец, на колокольне старинной часовни в парке пробило пять часов, он велел Зефирине пойти в ее апартаменты и переодеться к ужину, который вскоре будет подан в ротонде. Ла Дусер остался с маркизом. Покинув библиотеку вместе с шедшей за ней по пятам девицей Плюш и с Гро Леоном на плече, Зефирина вспомнила, что она даже не заговорила о послании регентши. С ужасом Зефирина осознала, что не питает никакого доверия к своему отцу. Она, разумеется, его жалела, но, что было еще хуже, она его презирала!ГЛАВА XXXI ПО ПРИКАЗУ ЕГО СВЕТЛОСТИ
Проснувшись на следующее утро, Зефирине показалось, что она продолжает спать и видеть сон. Что это за кровать, в которой она лежала между тонких посеребренных колонн, поддерживавших балдахин из венецианского шелка с изумрудно-зеленой бахромой? Что это за комната с белоснежными стенами, украшенными золоченой лепкой? Что это за будуар с бледно-голубыми с сиреневым оттенком стенами, в котором через приоткрытую дверь она видела сундуки из черного дерева и кресла кораллового цвета? Понемногу к ней вернулась память, а вместе с ней – протест, тоска и чувство одиночества. Приглушенный шум долетал до нее из примыкавшего к ее комнате кабинета. Зефирина прислушалась. Никаких сомнений: кто-то перешептывался как раз за перегородкой. Не обращая внимания на Гро Леона, дремавшего в складках балдахина, Зефирина тихо встала. Она накинула поверх рубашки домашнее платье с алансонскими кружевами, надела мягкие сафьяновые туфельки на тонких каблучках и немного резко открыла дверь в кабинет. Молодая камеристка ходила по кабинету, раскладывая мягкие простыни и мази, в то время как двое крепких лакеев приносили кувшины с горячей водой, которую они выливали в настоящую оловянную ванну, что было верхом роскоши. Увидев Зефирину, юная служанка сделала изящный реверанс: – О, ваша милость уже проснулись! «Конечно, проснешься при всей этой вашей возне!» – едва не ответила Зефирина надменным тоном. По знаку ломбардки оба высоких парня поклонились и вышли. В кабинете воцарилась мертвая тишина. Из-под полуопущенных ресниц Зефирина с недоверием наблюдала за девушкой. Горничная, возможно, была смущена высокомерным, если не сказать более, выражением лица невесты князя. Она молча занималась своим делом. Эта юная ломбардка была не старше Зефирины. У нее было милое, веселое и честное лицо, кожа красивого абрикосового оттенка, живые глаза блестели из-под накрахмаленного чепца. Зефирина признала, что девушка симпатична и даже очаровательна. В конце концов бедняжка не виновата в том, что Франциск I проиграл битву! В том, что Карл V одержал победу! В том, что герцог де Бурбон предал! И в том, что ее господин, князь Фарнелло, всего лишь… бандит! Не будет ли лучше, если она постарается найти союзников в этом доме, вместо того чтобы замыкаться в своем ледяном презрении? – Я не видела вас вчера вечером? – спросила вдруг Зефирина, приняв решение улыбнуться и заговорить на очень хорошем итальянском языке. Такое внимание, казалось, тронуло юную ломбардку. – Ваша милость очень хорошо говорят на нашем языке, – восхищенно сказала девушка. Затем продолжила с лукавым видом: – Я, как и вся прислуга в замке, видела вас во время ужина и восхищалась вами, но ваша милость меня не видели! Возможно, вы были слишком утомлены путешествием и удалились очень рано в ваши апартаменты! Ужин подавали на эмалированной посуде. В соседстве с Плюш и Роже де Багателем Зефирине было очень тоскливо, и она постаралась сократить пребывание за столом. – Как вас зовут? – спросила Зефирина, снимая кружевное утреннее платье, чтобы погрузиться прямо в рубашке в оловянную лохань. Тонкая ткань сморщилась у нее на теле и собралась складками. Зефирина с наслаждением вытянулась в горячей воде, слушая, как юная горничная отвечает на ее вопросы: – Мария Эмилия Джулия Бенедикта Романа, но все зовут меня Эмилией. По приказу его светлости князя Фульвио я приставлена в качестве прислуги к вашей милости, и я надеюсь, что… Лед был сломан. Замотав рыжие кудри в жгут на макушке, чтобы не намочить, Зефирина слушала болтовню юной горничной. Та же теперь позволила себе разговориться. Говорливая и совершенно не робевшая, она охотно рассказывала о своей жизни и о жизни своей семьи, бывшей в услужении у князя Фарнелло. У нее было множество братьев и сестер, и у каждого была ответственная должность во дворце. Зефирина, приняв твердое решение, предприняла большую «военную» операцию по очаровыванию девушки. Она сделала вид, что ее интересует все, что касается Эмилии. Она хотела знать имена всех членов ее семьи, довольна ли она своей участью и не была ли она просватана за одного из лакеев замка. Да, у Эмилии был жених, но он погиб в битве при Павии… Отвечая на вопрос Зефирины, горничная отвела наполненные слезами глаза. Такое сходство судеб настолько взволновало Зефирину, что она, перестав ломать лицемерную комедию, вдруг поцеловала Эмилию. Она едва не заплакала вместе с ней. Как раз вовремя она взяла себя в руки. Эмилия протягивала ей простыню, чтобы выйти из ванны. Этот отвлекающий маневр позволил Зефирине вновь обрести ясность мысли. Она быстро сняла намокшую рубашку, и на секунду ее очаровательное перламутровое тело отразилось в зеркале. Без всякого самолюбования Зефирина смотрела на свою лебединую шею, на крутой изгиб бедер и на груди с торчащими розовыми сосками. – Как ваша милость хорошо сложены! – восхитилась Эмилия. – Его светлости князю Фарнелло очень повезло! При этом столь прямом напоминании о ненавистном браке щеки Зефирины обдало жаром. Она быстро завернулась в простыню, позволив своей камеристке обсушить себя и подать надушенную рубашку. Разговаривая на всякие безобидные темы, Зефирина дала затянуть себя в корсет, который сжимал ее талию и подчеркивал грудь, одеть одну на другую три юбки, длинную домашнюю кофту. Затем она села перед трельяжем, инкрустированным редкими и красивыми раковинами. В то время как Эмилия расчесывала ее пышные кудри, Зефирина спросила с безразличным видом: – Судя по портрету князя Фарнелло, который я получила еще во Франции, я смогла заметить, что волосы у его светлости достаточно светлые? – о, нет, ваша милость, – тотчас же возразила Эмилия. – У его светлости очень темные волосы и смуглая кожа… из-за сицилийской крови со стороны его матери, покойной княгини из рода Салестра с Сицилии. Его светлость ломбардец только по отцу, покойному князю Фарнелло. Получив эти сведения, Зефирина поздравила себя с избранной стратегией. Она продолжала, улыбаясь: – Темный?.. Должно быть, воображение художника сделало его блондином? – Несомненно, ваша милость. – К несчастью, в дороге мы потеряли несколько сундуков. Эта миниатюра находилась в одном из них. А хотелось бы вам ее показать, Эмилия, и сравнить ее с портретом его светлости, который должен быть среди портретов его предков в фамильной галерее. Рыбка попалась на крючок. – Но, ваша милость, – тотчас ответила Эмилия, – с тех пор как его светлость были ранены, дон Фульвио приказали убрать все их портреты из дворца! – Ах, вот как? Ну да, конечно, где только была моя голова? Он был ранен! – повторила Зефирина с понимающим видом. – О, это было ужасно, донна Зефира! Это произошло год назад, тоже весной, во время стычки около озера Маджоре, немного спустя после битвы, в которой ваш рыцарь Байяр нашел свою погибель. Князь Фарнелло целый месяц пребывал между жизнью и смертью. Он выздоровел, но его левый глаз был окончательно потерян. – Одноглазый! Человек с лицом, наполовину снесенным ударом копья… Так вот что вы от меня скрывали! Лицемеры, притворщики, фальшивые друзья! Я больше никогда не буду вам доверять! О, не возражайте, не говорите мне о своей невиновности! Ты, Ла Дусер… ты об этом прекрасно знал! Хотя бы потому, что ты его видел! А вы, Артемиза Плюш… вы тоже были в курсе дела! И вы промолчали! – метала громы и молнии Зефирина. Под градом этих обвинений Ла Дусер опустил вниз свою славную физиономию с довольно жалким видом. Нос девицы Плюш вытянулся и стал похож на щучий плавник. Что же касается Гро Леона, то он, будучи очень осторожным, делал вид, будто погружен в глубокий сон под пологом балдахина. Тихие звуки мандолины, долетавшие с южного двора, не успокаивали Зефирину. Наоборот, эта музыка действовала ей на нервы. Не обращая внимания на шестерых всадников, которые ехали по центральной аллее к мраморной эспланаде, она захлопнула окно и продолжала свою речь саркастическим тоном: – Кривоногий! Кривой! Какой еще, разве я знаю? Слюнявый! Плюющий в тарелки, из которых ест! Жалкий обломок человека с изборожденным шрамами лицом! Какие-то дряхлые отбросы! Хворый и хилый! Болезненный инвалид! Вот кому мой отец отдает меня, не испытывая угрызений совести, а вы… вы – его сообщники! – Ну что за галиматья, моя маленькая Зефи, это не… – попробовал сказать несколько слов Ла Дусер. – Я больше не твоя маленькая Зефи! – зарычала Зефирина. – Смотри-ка, что я сделаю с твоим князем-пугалом! Хрупкая статуэтка Купидона украшала камин. Зефирина размашистым движением смахнула его в очаг. Алебастровая статуэтка разлетелась на тысячу кусков. Как раз в это мгновение, как в хорошо отрепетированном балете, кто-то тихо постучал в дверь будуара. – Кто там? – спросила Зефирина еще дрожащим от гнева голосом. Из-за закрытой двери ей ответил елейным голосом управляющий: – Это Анжело. Позволит ли, ваша милость мне войти? Зефирина велела знаком девице Плюш открыть дверь. Сама же она устроилась в кресле, схватила рукоделие, над которым работала ее дуэнья, и принялась вышивать с чопорным видом. – Привет! Сосиска! – завопил Гро Леон со своего насеста, в то время как в маленькой гостиной появился какой-то розовый куст. Озадаченная Зефирина подняла голову. – Хорошо ли спали, ваша милость? Выставив вперед свое толстое брюхо, Анжело втащил настоящий розовый куст, который поставил у ног Зефирины. – Более или менее! Удрученное выражение лица Зефирины опровергало ее слова. – Не ощущает ли ваша милость в чем-нибудь недостатка? – с обеспокоенным видом вновь спросил управляющий. – Кроме моей дорогой долины Луары, в чем еще могу я нуждаться? – вздохнула Зефирина. Эти слова она произнесла еще более скорбным тоном. – Довольна ли ваша милость своими апартаментами? – Мне может быть хорошо повсюду с моими людьми и моим вышиванием. Зефирина тяжко вздохнула. – Не жалуется ли ваша милость на услуги своей горничной? – осведомился явно пребывавший в тревоге Анжело. – Да нет, я очень довольна Эмилией! – внезапно искренне возразила Зефирина. Этот допрос уже начал ей смертельно надоедать. – Ваша милость видит, как меня переполняет счастье от этого известия! Со вздохом облегчения Анжело склонил свое пухлое тело в поклоне перед девушкой. Не боясь шипов, он запустил руку в середину розового куста и вытащил оттуда шкатулку из наборного дерева с богатой золотой и серебряной насечкой. Эту шкатулку он с восторженной улыбкой положил на колени девушки. – Его светлость просит у вашей милости разрешения без промедления прийти к вам и приветствовать вас! – Простите? – Зефирина не решалась понять его слова. – Его светлость князь Фарнелло только что вернулся во дворец, раньше, чем мы надеялись его увидеть Его светлость приказал мне передать вам этот скромный подарок. Продолжая говорить, Анжело открыл шкатулку, чтобы показать Зефирине кружевную шаль, расшитую розовыми жемчужинами, блеск которых заставлял оценить их цвет по достоинству. Изо всей этой комедии Зефирина поняла только одно: князь-пугало вернулся втихомолку. Должно быть, он был одним из тех всадников, которые ехали вверх по откосу. Смотри-ка, так значит, эти пол-человека еще были способны сидеть верхом на лошади? Если он думает, что сможет купить Зефирину с помощью своих жемчугов, своих подарков и своего богатства, то он очень ошибается, макака! Зефирина небрежно и сухо закрыла шкатулку. – Эти жемчуга не подходят к моему цвету лица. Верните их вашему господину! – Бе… Бе… что? – запинался Анжело. – И еще скажите, что я слишком плохо себя чувствую, чтобы принять его! Цветущий вид Зефирины опровергал эти слова. В полной растерянности управляющий пытался найти помощь у Ла Дусера и девицы Плюш. Но эти двое, явно удивленные, внимательно разглядывали розовый куст. – Возможно, завтра, когда ваша милость почувствуют себя лучше, вы сможете принять его светлость? – подсказал Анжело. – Ни завтра, ни послезавтра! Мы с князем встретимся в день нашей свадьбы. И это будет еще слишком рано. Спасибо за ваши услуги, Анжело! Ах, да! Унесите также и эти цветы, они вызывают у меня головную боль! Словно оскорбленная богиня, она встала и открыла окно. Затем с помощью батистового носового платка стала изгонять «миазмы» розового куста. Со шкатулкой и розовым кустом в руках несчастный Анжело вышел, пятясь задом, под аккомпанемент насмешливого попискивания Гро Леона, который совершенно распоясался: – Синкопа! Сардина! Слуга! У Зефирины не было времени на то, чтобы вместе с галкой порадоваться их общей победе. Через несколько мгновений Анжело вернулся и вновь постучал в дверь. – Его светлость князь Фарнелло очень обеспокоен состоянием здоровья донны Зефиры. Он приказал своему личному врачу немедленно прийти к вашей милости! – Бесполезно отдавать все эти приказы. Мы нуждаемся только в покое, отдыхе и мире! Мы останемся в наших апартаментах! – сухо ответила Зефирина, употребляя королевское «мы». В течение целого дня Зефирина умирала от скуки в компании девицы Плюш и Гро Леона. Она злилась на себя за то, что послушалась Ла Дусера и не поехала прямо в крепость Пиццигеттон, чтобы попытаться приблизиться к королю и передать ему послание. Ближе к вечеру Роже де Багатель поднялся повидать свою дочь. Она встретила его с томным, надутым и угрюмым видом. Видя ее сварливое настроение, Роже де Багатель ушел от нее довольно рано, не коснувшись в разговоре никаких деликатных тем. На следующий день вновь началась та же комедия с Анжело. На этот раз управляющий принес убор из необработанной великолепной бирюзы, который «его светлость приказал ей передать»! Зефирина точно так же отправила украшение обратно, как и вчера, и приступила ко второму дню добровольного мученичества. К вечеру у нее все тело ломило от бесконечного сидения. А уж о настроении и говорить не приходилось. За произнесенные «да» или «нет» она грубо обрывала и одергивала девицу Плюш, Гро Леона и даже бедную Эмилию, которая начала разочаровываться в такой госпоже. Ее единственным развлечением, если это можно так назвать, был визит Франка Берри. Славный юноша возвращался в Прованс. Зефирина тепло приняла его и передала с ним дружеское послание к Нострадамусу. После отъезда провансальца она еще острее почувствовала одиночество и тоску по родине. На рассвете третьего дня все, казалось, сложилось удачно для нее. Рано утром повозка и несколько всадников покинули дворец. Ла Дусер поднялся предупредить Зефирину, что князь Фарнелло отбыл на целый день. – Оседлай Красавчика! – торопливо приказала Зефирина. – Быть может, такой случай больше не представится… Она наивно думала, что ей позволят поехать гулять туда, куда ей захочется. В тот момент, когда Зефирина, сопровождаемая Ла Дусером и Гро Леоном, порхавшим у нее над головой, собиралась выехать из парка, два оруженосца, одетые в костюмы красного цвета, цвета Леопарда, присоединились к ним. – Я – Паоло, донна Зефира! – сказал один из них, склоняясь к шее своего коня. – Его светлость приказал нам, Пикколо и мне, позаботиться о безопасности вашей милости. Куда ваша милость желает поехать? Зефирина не обманулась. Несмотря на преувеличенную вежливость тона, которым это было сказано, она не была свободна. Этот Паоло, с его строгим лицом, лысоватой головой и хитроватым взглядом, немедленно внушил ей неотвратимую неприязнь. Овладев своими чувствами, Зефирина удовольствовалась ответом: – Я хочу скакать по полям и лугам! Гордая всадница, одетая с утра в серое платье с белым кружевным воротничком, с огненными волосами, убранными под черную сетку под шапочкой с белоснежным перышком, пришпорила коня и поскакала по освещенной солнцем дороге. Зефирина рассчитывала на Ла Дусера в том, чтобы их прогулка совершалась в направлении крепости Пиццигеттон. Она также полагалась на свою собственную изобретательность, необходимую ей для того, чтобы избавиться от своего «эскорта». В течение целого часа всадники скакали по Ломбардской долине среди зеленых пастбищ и богатых виноградников, расположенных на склонах холмов. На взгляд Ла Дусера, возглавлявшего кавалькаду, такова была прихоть девушки. Однако начиная с какого-то момента у Зефирины появилось некоторое неприятное подозрение. Она заметила, как Паоло что-то шептал на ухо Ла Дусеру. Ей показалось, что ломбардец увлекал их за собой в каком-то определенном направлении. Вежливый, даже угодливый оруженосец Леопарда теперь возглавлял скачку. Ла Дусер более не отвечал на тревожные взгляды Зефирины. Внезапно ставший большим любителем сельской природы, гигант-оруженосец с восхищением рассматривал цветы, скошенное сено и с глупым видом улыбался, слушая квакание лягушек. – Не желает ли ваша милость остановиться на несколько мгновений, чтобы выпить сладкого молока ломбардских коз? – спросил Паоло, когда показались колоколенки большого картезианского монастыря в Павии. У Зефирины появилось желание ответить, что этот напиток, с горьким привкусом поражения, вызывает у нее тошноту, но она овладела собой. Слишком уж был хорош случай, чтобы скрыться. – Какая удачная мысль, Паоло! Я обожаю козье молоко. К тому же, буду рада отдохнуть минутку от этой долгой скачки! Она сопроводила свои слова изысканной улыбкой. Гро Леон сидел у нее на плече. Суровое лицо оруженосца расслабилось, когда он услышал столь любезный ответ. С возросшей приветливостью он помог девушке спешиться перед фермой монахов-картезианцев, ибо, разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы женщина проникла в саму обитель! В то время как Ла Дусер в сопровождении Пикколо увел коней на водопой, Паоло отошел в сторону, чтобы позволить Зефирине с Гро Леоном войти в большую живописную комнату. Непрерывный ряд следовавших одна за другой арок, отделанных красным деревом, был освещен проемами, находившимися на уровне плеч. – Желает ли ваша милость чего-нибудь еще? – осведомился Паоло, когда два молодых монаха принесли, целомудренно опустив глаза, кувшин с пенистым молоком и деревянный стаканчик, который поставили на длинный деревянный стол. – Нет, спасибо, я немного отдохну! Как только дверь за монахами и оруженосцем закрылась, она влезла на скамейку, чтобы посмотреть, что творится снаружи. С восточной стороны, кроме двора, где находились оруженосцы и кони, Зефирина видела поля. Большие белые волы, с рогами, изогнутыми в форме лиры, медленно тянули за собой плуги. Волов подгоняли монахи-землепашцы. – Сюрприз! Следи! Следи! Сюрприз! – вопил Гро Леон. Зефирина была такого же мнения. Вокруг было слишком много людей. Она сменила свою наблюдательную площадку и обратила внимание на западную сторону. Здесь картина была совершенно иная: персиковые, абрикосовые и грушевые деревья росли в прекрасном саду, спускавшемся к маленькому озерцу, окруженному плакучими ивами. По другую сторону глади вод Зефирина видела готические башни и решетчатую ограду монастыря. Пройдя вдоль этой ограды, Зефирина смогла бы очутиться на дороге. У нее в кошельке были золотые дукаты, и она, разумеется, нашла бы около большого монастыря какого-нибудь молодца, который продал бы ейлошадь. Сказано – сделано! Зефирина приподняла шлейф своего платья-амазонки, собираясь вылезти через окно. Скамейка была слишком низкая, а окно расположено слишком высоко. Зефирина вновь спустилась вниз и тихонько подтащила к окну тяжелый дубовый стол, затем взобралась на него. Теперь было в самый раз, и Зефирина легко переступила через оконный проем. – Прыгать! Сардина! Прыгать! – посоветовал ей разумный Гро Леон. Повернувшись спиной к саду, она спустила ноги вниз, обеими руками держась за оконную раму. Она хотела послушаться совета Гро Леона: спрыгнуть на землю, которая находилась в пяти футах под ней. Воспитанная в сельской местности и привычная к физическим упражнениям, девушка выпустила из рук раму и… осталась висеть в воздухе, в то время как чей-то металлический голос шептал ей в затылок: – Могу ли я осмелиться помочь вам, донна Зефира?ГЛАВА XXXII КНЯЗЬ – ПУГАЛО
– Я страшно расстроюсь, если в чем бы то ни было буду препятствовать вашим планам, мадемуазель, но ненадежность вашего положения заставила меня немедленно прийти вам на помощь. Во время этой речи в изысканно-вежливых словах сквозила явная ирония. У Зефирины было впечатление, что она парит в воздухе. Затем ее, слегка ошеломленную, опустили на газон, окружавший цветочную клумбу. Тиски, сжимавшие ее талию, разжались. Как разъяренная саламандра, Зефирина быстро обернулась. Она подняла свою рыжую голову и с вызовом взглянула на незнакомца, который поклонился ей с высокомерным изяществом. – Вы плохо рассудили, сударь! Вы вмешались в дело, которое вас совершенно не касалось, ибо мы… Зефирина остановилась на середине своей мстительной фразы. Мужчина выпрямился. Он спокойно надел берет с темно-красным пером на свои агатово-черные кудри и представил взору Зефирины свое гладко выбритое лицо. По тонкой черной повязке, скрывавшей его левый глаз, Зефирина тотчас угадала, кто был ее собеседником. Она смутилась от того, что позволила застать себя врасплох в такой неловкой позе. С удивлением, смешанным с беспокойством, она заметила, что «князь-пугало, хворый, хилый, немощный калека, болезненный, слюнявый и плюющийся», исключая его потерянный глаз, во всем остальном был великолепным рыцарем, не достигшим еще тридцати лет. Это, несомненно, был князь Фарнелло, который гордо нес свое прозвище – Леопард, с его гордой осанкой, ростом гораздо выше среднего, с его статной фигурой с широкими плечами, на которой прекрасно сидел усыпанный железными пряжками и застежками камзол, с мощной шеей, выступающей из ворота рубашки, с заткнутым за пояс кинжалом. Его длинные мускулистые ноги были обтянуты чулками и пестрыми штанами. Крепкий, сильный, гибкий как кошка, этот человек должен был быть опасным противником на поле битвы, лихим рубакой и достойным участником любых состязаний. Серьезное выражение этой мужской физиономии с гладко выбритыми щеками оживлялось только иронической складкой у губ и властным взглядом карего глаза, в котором, однако, казалось, сверкали смешливые искорки, когда он смотрел на Зефирину. – Смею надеяться, что не очень испугал вас! – сказал князь Фарнелло с легким оттенком сожаления в голосе. Он изъяснялся на превосходном французском, в его низком и теплом голосе слышался легкий певучий акцент. – Знайте же, сударь, что я никогда ничего не боюсь! Однако спасибо за помощь. До свидания, сударь! – коротко бросила Зефирина, твердо решив не поддаваться впечатлениям и не показывать того, что она опознала в незнакомце князя Фарнелло. При этом ответе молния сверкнула во взгляде Леопарда. – Никогда ничего не боится! – повторил князь насмешливым тоном. Он явно был не приучен к сопротивлению и к плохому приему. – Никогда, сударь! Придя в восторг от своего обмана, Зефирина повернулась к нему спиной. Она быстрым шагом удалялась к озеру, а Гро Леон хлопал крыльями у нее над головой. В течение некоторого времени она наблюдала, как большой черный лебедь преследовал белого лебедя, любовалась полетом бабочек над берегом озера и игрой солнечных бликов на поверхности вод, изумрудный цвет которых делал ее глаза еще более зелеными. Металлический голос князя прервал ее «мечты»: – Соблаговолите, мадемуазель, опереться на мою руку, чтобы немного прогуляться по грабовой аллее. Сделав три шага, князь догнал девушку. С хорошо разыгранным удивлением Зефирина повернулась к нему, чтобы сказать ему смущенным тоном: – У меня нет такой привычки, сударь, прогуливаться с незнакомыми мужчинами. Эта дерзкая реплика сделала свое дело: на лоб князя набежали морщинки. На какое-то короткое мгновение воцарилась тишина, и только треск кузнечиков звенел над равниной. Вдруг, против всякого ожидания, Леопард разразился громким смехом. Теперь, казалось, эта ситуация его чрезвычайно забавляла. С полуиздевательским и полувосхищенным видом, приложив руку к сердцу, он вновь склонился в поклоне перед Зефириной: – И где только была моя голова? Простите мне мою забывчивость, мадемуазель, и разрешите представиться… Фульвио Фарнелло. Я буду иметь честь и счастье менее чем через неделю стать вашим супругом, донна Зефира. «Он думает, что я от этого сейчас же приду в восторг! Что упаду в обморок, как дура! Что стану издавать восхищенные ахи и охи! Ну что ж, он будет очень скоро разочарован, этот кривой претенциозный дурак!» – подумала Зефирина. Не выказывая ни малейшего волнения, она уставилась своими зелеными глазами на матовое, с красивыми энергичными чертами лицо князя Фарнелло, которое пересекала тонкая черная повязка. – Это счастье, сударь, будет только с вашей стороны. Я хочу вас предупредить, что не испытываю к вам ничего, кроме неприязни, а к нашему браку – живейшее отвращение. Я подчиняюсь моему отцу только по принуждению, не забывая о том, что представляю собой двести тысяч дукатов. Таким образом, не может идти и речи даже о малейшем чувстве к вам. Я также хочу добавить, что я любила одного благородного рыцаря, павшего на поле битвы, и ничто не заставит меня его забыть. Так вот, сударь, если вы продолжаете настаивать на этом, я сдержу слово, данное господином маркизом, моим отцом, и вы можете назначить день свадьбы, когда хотите. В общем-то, чем раньше, тем лучше. – Для того чтобы мы как можно скорее избавились от этого! – закончил князь Фарнелло, не расставаясь со своей улыбкой. – Вот так! Мне нравится такое положение вещей: откровенное и ясное… По крайней мере, точно знаешь, куда идешь… Прекрасно, мадемуазель! Теперь, когда между нами все ясно, не совершите ли вы прогулку со мной вокруг озера? Фульвио Фарнелло согнул руку в локте. Без всяких колебаний Зефирина положила свои чуть дрожащие пальчики на широкий рукав князя. И жених и невеста в сопровождении Гро Леона начали медленным шагом прогулку вдоль цветущих берегов. Несмотря на свой высокий рост, Зефирина была намного ниже князя Фарнелло. Перышко на ее шапочке как раз было на уровне его плеча. Для того чтобы отвечать на светские фразы своего собеседника, Зефирина была вынуждена поднимать голову. Дважды она замечала, как карий властный глаз Леопарда пристально смотрел на нее со слегка насмешливым интересом. Это раздражало и смущало ее, она теряла свою уверенность. Чтобы восстановить душевное спокойствие, она сделала вид, что заинтересовалась большим монастырем. Попросив объяснений, она вежливо слушала, как князь рассказывал о сооружении монастыря: – Семейство Висконти и семейство Сфорца, не прекращавшие бороться друг с другом, соревновались между собой также в благородстве и начали строить в начале прошлого века большой монастырь и храм… Но Лодовико Сфорца, прозванный Лодовико Моро, исчез где-то в плену, не завершив своего дела… И теперь уже семейство Фарнелло в течение последних тридцати пяти лет строило эту ферму, склеп, маленький монастырь и эту церковь… По мере того как «жених и невеста» шли вперед, к ним подходили монахи и кланялись князю, показывая тем самым Зефирине, что этот большой вельможа везде был у себя дома. Мало-помалу ей в голову пришла сумасшедшая идея. Она сейчас воспользуется этим гордым Леопардом для того, чтобы достичь своих целей. – Наши архитекторы, как вы можете судить, мадемуазель, достигли больших успехов! Князь Фарнелло указал на ажурные арки, которые уступами возносились в виде колокольни. Это действительно было сооружение столь же гармоничное, сколь и дерзновенное. – Это точно, – признала Зефирина. – Наш век, сударь, это век палингенеза! – Простите? – спросил князь Фарнелло, останавливаясь. – Не могли бы вы повторить это слово? Ощущая на себе этот властный взгляд, Зефирина, не смущаясь выпалила скороговоркой: – От греческого palin… – новый и от genesie – рождение. Речь идет об античной мистической философии. Мы пережили жестокую эпоху. Мы уходим от нее, такой ограниченной и скудоумной, и возрождаемся для культуры, знания, цивилизованности. Палингенез, сударь, означает, в каком-то смысле, возрождение! – закончила Зефирина безаппеляционно и педантично. Если у Фульвио Фарнелло и возникло желание посмеяться при подобной демонстрации эрудиции, то он этого не показал. К тому же обход озера был почти завершен. Невозмутимый князь Фарнелло повел Зефирину во двор фермы. Шестеро всадников, одетые в костюмы цветов рода Леопарда, окружали теперь черно-золотую повозку. Корона и гордый девиз Фарнелло «Я хочу» были выгравированы на ее дверцах. Завидев жениха и невесту, Паоло, Пикколо и Ла Дусер под уздцы подвели коней. Опустив глаза, Ла Дусер странно шаркал сапогами, приближаясь с Красавчиком. – Грязная фальшивая монета, ты знал о том, что он задумал! Ты мне за это заплатишь! – быстро прошептала Зефирина, когда оруженосец нагнулся, чтобы проверить ремни ее седла. – Грязная! Грязная! – повторил Гро Леон, обладавший тонким слухом. – Проклятый рогоносец! – ответил ему Ла Дусер, брюзжа и ворча проклятия в свою окладистую бороду цвета соли с перцем. Отдав несколько приказаний своим оруженосцам, князь приблизился к Зефирине. – Желаете ли вы сейчас же вернуться во дворец, донна Зефира, или хотите еще на несколько часов продлить эту прогулку по равнине герцогства Миланского? Это было уже хорошо: Леопард протягивал ей руку помощи. – Должна признаться, ваша светлость, что я устала от скачки, – заявила Зефирина, которая могла сидеть в седле без устали полдня… – Напротив, я с большим удовольствием поеду в этой удобной повозке, вместе с вашей светлостью, и проеду несколько лье на юг от Павии. Мне говорили, там очень красиво. Казалось, князь старался угадать по улыбающемуся и почти любезному лицу Зефирины причину столь внезапной перемены. – Ваше желание – закон, донна Зефира! Как галантный мужчина, привыкший к женским капризам, Фульвио Фарнелло помог Зефирине подняться в повозку, затем легко вскочил в нее сам и устроился рядом с Зефириной. – Сардина! Поехали! Поехали! Сардина! – завопил Гро Леон, в свой черед проникая в повозку. Зефирине были знакомы только жесткие деревянные сидения французских повозок. Она пришла в изумление и восхищение от итальянской изысканности. Изнутри повозка была обита алым бархатом, расшитым серебром и золотом. Зефирина отодвинула занавески на окошках, чтобы дышать свежим воздухом. Гро Леон делал вид, что спит, в то время как Зефирина, уютно расположившаяся на мягких подушках, притворялась, будто погружена в созерцание золотистых полей и лугов, усеянных маками. Теплый июньский ветерок растрепал ее рыжие кудри, и они трепетали вокруг ее очаровательного личика, раскрасневшегося от прогулки. Она старалась не поворачиваться к князю Фарнелло, с лица ее не сходило полусерьезное, полумеланхоличное выражение, которое ей особенно шло. Уловка удалась: Зефирина чувствовала на себе заинтригованный взгляд Леопарда. Она знала, что красива, элегантна, утонченна. Эта уверенность придала ей храбрости для атаки закованного в латы упрямства противника. – Какая красивая страна! – восхищенно сказала она, откидываясь на шелковистую спинку сиденья. Девушка явно все более и более возбуждала любопытство князя. Фульвио Фарнелло поблагодарил ее кивком головы. – Вы видите, донна Зефира, я в восторге от того, что Ломбардия вам нравится. Осмелюсь добавить, что, со своей стороны, и вы ее очаровали! Его признательность была выражена как нельзя более любезно. «Погоди, голубчик, ты быстро разочаруешься!» – Зефирина подавила ироническую улыбку и воскликнула с восхищением: – Со своей стороны, ваша светлость, я должна признать, что никогда не видела полей такого восхитительного цвета! – Это правда, мадемуазель. Это утопающая в зелени местность герцогства Миланского и золотистая земля Сицилии, с которой вы вскоре познакомитесь, являются, без сомнения, единственными местами во всем необъятном мире, которые Создатель придумал для того, чтобы подчеркнуть и по достоинству оценить женскую красоту! Произнося эту тираду, князь Фульвио спокойно взял в свои руки ручку Зефирины и со спокойной уверенностью мужчины-соблазнителя повернул эту дрожащую ладонь. Прежде чем Зефирина смогла сделать хотя бы одно движение, чтобы отстраниться, мужские губы надолго припали к покрытой голубыми жилками коже ее запястья. При этом прикосновении жгучий жар опалил ее щеки, она лишилась дара речи, чувствуя, что теряет сознание. От внезапного испуга и удивления она не могла говорить, это было для нее верхом смущения. Хуже того, она была совершенно подавлена прикосновением этого мягкого, нервного и горячего рта человека, который уже вел себя как хозяин. Что с ней случилось? Что за истома охватывает ее тело? Что за недостойная слабость? Толчок повозки вывел ее из затруднительного положения. Девушка резко вырвала руку и, высвободившись из ловушки, так стремительно забилась в глубь повозки, что едва не раздавила несчастного Гро Леона. Не обращая внимания на чуть насмешливый огонек в карем глазу Леопарда, она, не задумываясь, произнесла: – Abyssus abussum invocat – бездна призывает бездну! Как прекрасно сказал Давид в псалме двадцать третьем… Ах, ваша светлость, короли виновны! Князь насмешливым тоном тотчас же ей возразил: – Acta est fabula… Пьеса сыграна, как прекрасно сказал Октавиан Август. Могу ли я все же позволить себе спросить вас, что вы подразумеваете под этими словами, донна Зефира: короли виновны? – Конечно, ваша светлость. Хотя я по рождению француженка, я могу только упрекать короля Франциска за те бедствия, которые из-за его безумной прихоти обрушились на эту прекрасную итальянскую землю! Хитрая маленькая бестия выждала секунду и повернулась к своему собеседнику. Опираясь локтем на оконный проем, Леопард с нескрываемым удивлением смотрел на девушку. – Вот слова, с которыми я могу полностью согласиться. Король Франции когда-то приказал разбить герб Фарнелло на фронтонах наших дворцов… Клянусь моей душой, это дурное деяние принесло ему несчастье. Леопард побледнел, вспомнив об этом, он и не собирался этого забывать. – Я не хотел бы задеть вашу гордость, мадемуазель, вновь заговорил князь Фарнелло, совладав со своей обидой, – но раз уж вы меня поддерживаете, позвольте сказать, что этот король, легкомысленный и бестолковый, получил то, что заслужил! – И это, увы, слишком верно! – без труда признала Зефирина. – Ну вот, мадемуазель! – обрадовался князь Фарнелло. – Смотрите, мы по крайней мере нашли повод для согласия: политику! Смех Зефирины прозвучал под бархатными сводами повозки почти искренне. Фульвио Фарнелло повернулся, чтобы указать рукой на серую точку к югу от Павии: – В двух лье отсюда, за маленьким леском, вы увидите крепость Пиццигеттон!ГЛАВА XXXIII ВСЕ ВМЕСТЕ В ПИЦЦИГЕТТОНЕ
Одна, без князя, только с Ла Дусером, Зефирина никогда не смогла бы приблизиться к тяжелой громаде крепости. Все подъездные пути к ней находились под наблюдением. Но цвета рода Леопарда словно по волшебству служили пропуском и они без препятствия миновали все заставы испанцев. Ландскнехты императора, в доспехах и кирасах, завидев Леопарда, приветственно поднимали копья. Зефирина поняла, как боялся Карл V короля Франции, а поэтому очень бдительно сторожил его. Но что-то происходило сегодня в замке. Люди были возбуждены и растеряны. Очень быстро она получила объяснение происходящему. По знаку князя Фарнелло суровый капитан-арагонец приблизился к повозке. – Каковы причины всего этого волнения? – спросил по-испански Фульвио Фарнелло тем отрывистым командирским тоном, который, казалось, был ему свойствен. – Король Наварры бежал сегодня по веревочной лестнице из замка в Павии, где он содержался в качестве пленника, ваше превосходительство! Мы получили приказ удвоить бдительность по отношению к королю Франции. Но это не касается вашей милости, разумеется! – Спасибо, капитан. Будьте начеку! А мы продолжим наш путь по этой дороге до крепости, чтобы развлечь эту прекрасную даму. Не бойтесь, мы не похитим Франциска де Валуа! Веселый ответ испанского капитана был заглушен топотом конских копыт. Повозка снова покатилась вперед, прямо по направлению к крепости, а Леопард повернулся к Зефирине. – Вы слышали, мадемуазель? Несмотря на свое обещание, Генрих д'Альбер сбежал как лакей. Мне хотелось бы знать, что вы думаете о таком поведении? – У меня нет никакого мнения на этот счет, ваша светлость! – надменно заявила Зефирина. Испытующему взору Леопарда предстало ее непроницаемое лицо. Однако она должна была сделать усилие и овладеть собой, чтобы не обнаружить радость. Благородный король Наварры сыграл славную шутку с Карлом V. Если бы только и Франциск I тоже смог улететь, как маленькая пташка, из-под носа своего победителя! От этой мысли сердце Зефирины выпрыгивало у нее из груди. Башни Пиццигеттона находились теперь совсем близко. – Враг Ломбардии, сам великий Фридрих I Барбаросса, был здесь, прежде чем утонуть в Киликии во время третьего крестового похода. Не доставит ли вам удовольствие посещение садов крепости, донна Зефира? – спросил в упор князь Фарнелло. – Должно быть, с террас открывается действительно прекрасный вид! – Зефирина сохраняла все тот же равнодушный вид. Ответом послужил взрыв смеха. Зефирина хранила спокойствие. Но теперь она была уверена в том, что Фульвио Фарнелло играл с ней, как кошка с мышкой. Был ли он искренен только что? Ломал ли он сейчас перед ней комедию? Та легкость, с которой он позволил увлечь себя в Пиццигеттон, не служила ли доказательством тому, что Леопард решил перейти из одного лагеря в другой? Но он, казалось, не был близок к тому, чтобы простить Франциска I. С другой стороны, Зефирина вспомнила, что регентша отправила тайные послания к великим итальянским князьям. Леопард, несомненно, был одним из них… Сила, которую он представлял собой в самом сердце Ломбардии, имела чрезвычайное значение. И Франциск проявил большую неосторожность, что пренебрег этим. Кроме того, для папского престола князь олицетворял своей персоной римско-сицилийский союз. В то время как Зефирина – неофитка, вступившая на шахматную доску международной политики, – ломала себе голову над тем, каким образом взяться за дело, повозка въехала на хорошо охраняемый мост крепости и затем на широкий двор, окруженный зубчатыми стенами. Вышколенные Паоло и Пикколо открыли дверцы повозки. Князь Фарнелло спрыгнул на неровные камни мощеного двора, снял перчатку, которую надел, когда они были в повозке, и тотчас протянул руку Зефирине. Это был обычный жест дворянина, сопровождающего даму. С едва заметным притворством Зефирина постаралась не коснуться матовой кожи руки Леопарда. Ее рука легла на присборенный рукав камзола князя, и она легко сошла со ступеньки. Не глядя на Леопарда, который теперь предлагал ей свою руку, Зефирина с удивлением рассматривала двор крепости Пиццигеттон. Если снаружи крепость казалась довольно мрачной тюрьмой, то изнутри походила на некий караван-сарай, на Вавилонскую башню, где были представлены все языки и национальности. Около двух сотен оруженосцев, лакеев, конюхов, солдат и слуг, среди которых были испанцы, венецианцы, ломбардцы, англичане, римляне, французы, гельветы, фламандцы, шотландцы, голландцы, австрийцы, германцы, а также слуги и солдаты папы римского, ожидали своих господ возле повозок, коней и носилок. Зефирина тотчас же почувствовала, что в крепости царит атмосфера взаимного недоверия. Люди стояли отдельными группами под яркими флажками и вымпелами своих господ. Они делали вид, что не видят друг друга, и, конечно же, не разговаривали друг с другом. Даже союзники по коалиции не смешивались между собой. Группа людей, принадлежавших другой расе, собравшаяся вокруг статуи Дианы-охотницы, была еще более изолирована от всех других. Зефирина смотрела на этих черноволосых с очень темной кожей людей. Они были одеты в длинные шелковые халаты без рукавов, на головах красовались яркие тюрбаны. Кривые сабли, усыпанные драгоценными камнями, висели у пояса. – Люди с Востока! – прошептала Зефирина. – Действительно, перед вами посланцы «Великой Порты», донна Зефира. Весь мир хотел бы заполучить самого значительного узника христианского мира! – произнес насмешливым тоном князь Фарнелло. Какой-то офицер-распорядитель, судя по цветам его одежды – неаполитанец, подошел к Зефирине и Леопарду, стоявшим около повозки. Не обращая внимания на присутствие девушки, он прошептал на ухо князю несколько слов на неизвестном Зефирине диалекте. Несмотря на охватившее ее любопытство, Зефирина не смогла понять, что он говорил. Князь, чем-то озабоченный, обернулся к Зефирине: – Соблаговолите простить мне мое отсутствие в течение нескольких минут, донна Зефира. Я вернусь очень скоро! Машинально Зефирина посмотрела вслед высокой фигуре Леопарда, который последовал за офицером-распорядителем по направлению к крепости. Какое-то странное чувство охватило девушку. Она уже когда-то видела эти широкие, мощные, неподвижные плечи, эту гибкую, почти кошачью походку. Зефирина нахмурила тонкие золотистые брови. Уж не сошла ли она с ума? Воспоминания теснились в ее памяти: «Золотой лагерь»… Незнакомец на берегу… Дворянин, спасший ее из пламени, зажженного преступной рукой… Жгучий и властный поцелуй, которому она поддалась без сопротивления… Этот порыв, который бросил ее к этому таинственному рыцарю… То наслаждение, которое она испытала в объятиях мужчины, лица которого даже не видела… Никогда Зефирину еще так не целовали… Никто с ней так не обращался… Трепещущая, приникшая ко рту, возвращавшему Зефирину к жизни, она позабыла про все свои страхи… Подхваченная чудесным вихрем, она сама осмелилась вернуть ему с многообещающей страстью его долгий поцелуй… При воспоминании об этом щеки Зефирины запылали, сердце затрепетало, а колени задрожали под длинной юбкой платья-амазонки. Нострадамус «видел» тайную любовь к ней какого-то человека… Князь Фарнелло исчез за дверьми квадратной башни. Зефирина старалась успокоиться. У нее было слишком живое воображение. Это было невозможно. Прежде всего ничто не доказывало того, что человек на берегу, укравший ее перышко, был тем же самым человеком, который спас ее из огня. Девушка старалась вспомнить низкий голос своего спасителя, его чарующие интонации, звучавшие тогда у нее над ухом: «…не прячьте то, что прекрасно», как он осмелился сказать, когда она пыталась натянуть остатки своей сгоревшей рубашки на обнаженные груди. Закрыв глаза, она еще раз переживала эту сцену, увидела еще раз эти черные блестящие глаза, этот обжигающий взгляд, который она не забывала и не забудет, пока живет на белом свете. А вот и доказательство! У незнакомца, спасшего ее, были самые прекрасные глаза в мире, а князь Леопард был кривой на один глаз… Пронзительные крики вернули Зефирину во двор крепости Пиццигеттон. – Клянусь Аллахом, это вор! Не обращая внимания на эти вопли, Гро Леон возвращался, во всю прыть хлопая крыльями. – Сапфир! Сардина! Сардина! Сапфир! Гро Леон, довольный своим подвигом, опустил в вырез платья своей юной госпожи великолепный камень, синева которого была глубже, чем синева небес. Смущенная и озадаченная Зефирина смотрела, как к ней приближается законный обладатель сапфира, утративший свой величественный и серьезный вид. Задрав полы халата так, что стали видны бронзовые икры его ног, с тюрбаном, съехавшим набок, он прибежал и замахнулся на Гро Леона кулаком. Как настоящий трусишка, Гро Леон спрятался за широкой юбкой Зефирины. Об это непреодолимое препятствие турок и споткнулся. – Клянусь моим господином, великим и могущественным падишахом Белого и Черного морей, пусть благородная дама простит мне мой гнев. Человек с Востока очень хорошо изъяснялся на итальянском языке, звучавшем в его устах немного странно, но совершенно понятно. – Вы прощены, сударь, – любезно ответила Зефирина. – Со своей стороны, я прошу простить шутку этой забавной птицы… Вот ваша драгоценность. Зефирина сунула руку за корсаж. Вытащив камень, застрявший у нее между грудей, она подала его, еще теплый, турку. Тот, казалось, заколебался. Он был довольно молод и хорошо сложен. Его явно смутила и взволновала красота девушки. Он поднес свою руку к сердцу, к губам и ко лбу. Это был одновременно очень изящный и исполненный достоинства жест. – Гарун Собаль Рахмет, великий посланец Великой Порты, не смог бы взять обратно то, что Аллах у него отнял. Пусть благородная дама сохранит у себя этот дар. Благороднейшего из благородных и величайшего из великих в память о нашей встрече. – Благодарю вас, сударь, за это намерение, но я не могу принять такой ценный подарок. В то время как Зефирина любезно, но твердо отказывалась от подарка, человека с Востока, казалось, осенила какая-то мысль. Не беря назад сапфира, он вновь склонил свой тюрбан перед девушкой: – Мой господин, образованнейший, богатейший, благороднейший, милосерднейший… «И какой же еще?» – дерзко подумала Зефирина, в то время как турок, невозмутимый и велеречивый, продолжал: – Великий султан и победоносный падишах, возлюбленный Сулейман, не имеет в своем дворце в благословенном Константинополе, женщины с золотистыми волосами, с молочным цветом кожи и с глазами более зелеными, чем самый зеленый из изумрудов в его бесценной сокровищнице… Гарун Собаль Рахмет смог бы предложить до двадцати тысяч драхм чистым золотом, чтобы купить у ее господина даму с изумрудными глазами и отвезти ее в столицу империи… В ответ сухо и надменно прозвучал резкий голос Леопарда: – Донна Зефира не продается! Казалось, турецкий посланник не обиделся на откровенно неприязненный тон князя Фарнелло. – Хозяин женщины всегда остается свободным в своем выборе! Бесповоротно закончив на этом разговор, он коснулся рукой лба и пошел к своим людям, собравшимся около статуи. – Вас, донна Зефира, в самом деле ни на минуту нельзя оставить одну! – тихо и сквозь зубы произнес князь Фарнелло. Он смотрел на девушку своим карим глазом, и в его взгляде сквозила насмешка. Не позволяя себе волноваться, Зефирина метко ответила ему: – Решительно, «просьбы о браке» все пребывают. Все хотят меня купить… «Хозяин женщины остается свободным в своем выборе!» – как он сказал… Вы должны были согласиться на эту сделку! Это вам хотя бы немного возместило потерю ваших двухсот тысяч дукатов! Она в открытую вела себя вызывающе по отношению к князю. Легкое подрагивание левой скулы под тонкой черной повязкой, казалось, свидетельствовало о том, что Леопард немного нервничает. Однако он овладел собой, взял Зефирину за руку и ограничился тем, что коротко сказал: – Идемте, болтушка! Нас ждут! – и повел ее к квадратной башне. – Подождите! – Зефирина позвала Ла Дусера: – На, пойди и отдай с благодарностью этот камень тому турецкому господину, который находится вон там… и следи за Гро Леоном! Отдав это распоряжение, Зефирина последовала за выражавшим явное нетерпение Леопардом. В мрачном и темном вестибюле квадратной башни находился сторожевой пост. Надо было знать пароль, чтобы миновать его. Для князя Фарнелло это означало, что его должен был опознать офицер-распорядитель, вышедший ему навстречу, а также суровые кастильцы, охранявшие крепость. – Могу ли я узнать, куда мы идем? – спросила Зефирина, когда они с князем поднимались по широкой лестнице. На каждом лестничном марше безмолвный испанский страж, смуглый и прямой, как палка, в кирасе, опускал со зловещим грохотом пику после прохода посетителей. – Ну да, моя дорогая! Мы скоро увидим короля! – спокойно ответил князь Фарнелло. – Что? Короля… Франции? От удивления Зефирина остановилась на площадке. Князь Фарнелло увлек девушку под своды небольшой ниши, выдолбленной прямо в скале. – Ведь вы же этого хотели, не так ли? Комедиантка! – Но, я… Находясь в слишком большой близости от пестрого камзола, Зефирина потеряла самоуверенность. Князь крепко сжимал ее запястья, склонившись над ней. «Он меня сейчас поцелует… А я буду отбиваться и царапать его…» – подумала Зефирина ни жива ни мертва. Такая возможность ей не представилась, так как лицо Фульвио Фарнелло застыло в одном дюйме от носа Зефирины. – Вы слишком умны, чтобы строить из себя идиотку, и слишком красивы, чтобы проскользнуть незамеченной. Ваше присутствие здесь и наш брак, мое прелестное дитя, в добавление к тому удовольствию, которое он мне, несомненно, доставит, также полностью соответствуют моим планам на будущее и моим политическим целям. – Да перестаньте же, наконец, думать только о себе! – протестующе воскликнула пришедшая в ярость Зефирина. Против всякого ожидания князь Фарнелло тихо рассмеялся: – А вы, тигрица, прекратите меня терроризировать! Леопард внезапно замолчал. Другие посетители поднимались по лестнице, громко разговаривая. Князь Фарнелло толкнул Зефирину в глубь ниши, и они оба услышали разговор людей, проходивших мимо импровизированного тайника. – Да, ваше превосходительство… Галеры готовы поднять якоря… – Завтра мне станет легче дышать, король Франции поднимет парус и направится в Испанию… Посетители остановились на площадке, чтобы перевести дыхание. Они изъяснялись на очень хорошем французском языке – языке дипломатов, с легким итальянским и испанским акцентом. Говоривший сейчас имел английский акцент… – Хм… Осмелюсь дать вам совет, господин Ланнуа: опасайтесь всего и всех. Быстрый галеот, пришедший с Сицилии или из Марселя, сможет перехватить ваши тяжелые корабли, атаковать их и похитить Франциска де Валуа. – Не беспокойтесь, милорд Монроз… При упоминании этого имени удивленный вздох сорвался с губ Зефирины. Леопард тотчас же прикрыл рот девушки своей трепещущей рукой. Не переставая с любопытством наблюдать за ней, он дал знак не раскрывать их присутствия, чтобы послушать продолжение этой интересной беседы. – Корабль пленника выйдет под охраной других кораблей. Интересы императора и интересы короля Генриха слишком сильно совпадают, милорд! – Так как я чрезвычайный посол Англии, то мне очень приятно это слышать, господин Ланнуа. Но, между нами говоря, не вы несете за это ответственность… – Что здесь за шумное сборище? Что за кавардак? Прежде всего, что делают во дворе турецкие посланцы? – Хм… Великий Сулейман отправил целое посольство для того, чтобы ответить на письмо, которое отослал к нему… хм… хм… я, право, не очень понимаю, каким образом его величество узник… Я должен признать, что положение создалось по меньшей мере затруднительное… – Скандальное, вы хотите сказать… Христианский король, призывающий на помощь мусульманского султана… Куда мы идем, я вас спрашиваю, если более не соблюдаются элементарные законы рыцарства! Услышав эти слова, произнесенные возмущенным тоном, Зефирина рискнула бросить взгляд поверх присборенного рукава Леопарда. Она узнала стоящего на площадке башни красивого англичанина из «Золотого лагеря», милорда Мортимера Монроза. Все такой же светлый, как архангел, напыщенный, великолепный и элегантный, это именно он с такой горячностью говорил с коренастым, плотным дворянином из императорской стражи и с костлявым господином, в котором Зефирина без труда опознала по его золоченым галунам и позументам господина Ланнуа, верховного главнокомандующего Карла V и вице-короля Неаполя. Не заботясь о том, что может обидеть столь важную персону, Мортимер Монроз продолжал упрекать его: – Король Генрих очень настаивает на том, чтобы мы здесь, на Западе, воюя между собой, не втягивали бы неверных в наши военные конфликты! – Это верно! – признал Ланнуа, имевший довольно жалкий вид для вице-короля. – Что скажет император Карл, когда узнает об этом странном посольстве Сулеймана? – Хм… Судя по тому, что мне сказала на прошлой неделе донья Гермина де Сан-Сальвадор… его императорское величество полностью поглощен теми условиями мира, которые он хочет навязать Франциску I. Из-за династических законов наследования престола, которыми император очень дорожит и которым он придает большое значение, трудно исполнить, между нами говоря, обещание, которое он когда-то дал, предоставить французский престол коннетаблю де Бурбону… Но, что бы там ни было, договор будет очень тяжел для Валуа… Пойдем, послушаем его… Трое мужчин удалялись вверх по лестнице. После того как она услышала ненавистное имя «этой Сан-Сальвадор», Зефирина так побледнела, что князь Фарнелло не смог не спросить: – Вы не больны донна Зефира? – Вовсе нет! Идемте! Больше не настаивая, князь Фарнелло протянул руку своей невесте. Она с высокомерным видом проигнорировала его руку и быстро пошла вверх по темной лестнице. Одна ступенька была выщерблена. Башмачок Зефирины попал как раз в выбоину. Она едва не упала навзничь. Девушка рисковала разбить себе голову о каменные плиты, если бы рука Леопарда не удержала ее в последнее мгновение. В течение краткого мгновения, достаточного для того, чтобы маятник часов качнулся из одной стороны в другую, она стояла, зарывшись лицом в мужской камзол. Однако у нее было такое ощущение, что это мгновение длилось целую вечность. От волнения у нее подкашивались ноги. Она чувствовала, как руки князя все крепче сжимали ее в своих объятиях. Разозлившись от собственной слабости, Зефирина почти грубо высвободилась и вновь предприняла свое восхождение под пристальным взглядом Леопарда.ГЛАВА XXXIV САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ УЗНИК В МИРЕ
«Я здесь, сир… вы больше не одиноки!» – хотелось закричать Зефирине, со сжавшимся сердцем наблюдавшей за спектаклем, разворачивавшемся в большом зале, имевшем форму ротонды, в Пиццигеттоне. Узник сидел один за покрытым кружевной скатертью столом. С ним обращались как с королем, но в то же время он был окружен сорока свирепыми кастильскими солдатами с алебардами. Он делал вид, что с прекрасным аппетитом ест блюда, которые ему подавал с соблюдением подобающего этикета и со всеми почестями, полагавшимися королю, предатель, подлец, тот, кто согласился перейти на сторону Карла V… тот, кто изменил ход сражения… проклятый коннетабль… герцог де Бурбон! Около пятидесяти других важных вельмож-иностранцев, в сопровождении нескольких дам («все похожи на шакалов», думала Зефирина, трепетавшая от бессильной ярости и боли), присутствовали на королевском ужине. Князь отвел Зефирину на лучшее место, около зарешеченного окна, выходившего во двор крепости. Слегка наклонив голову, Зефирина увидела сквозь ветви сиреневых глициний Паоло, Ла Дусера, «разговаривавшего» с Гро Леоном, турецкое посольство и всех слуг и оруженосцев тех господ, которые находились в зале. Франциск I сильно похудел, но сохранил величественный вид. Его живые миндалевидные глаза перебегали с одного присутствующего на другого, быть может, в поисках дружеского лица. Зефирина приподнялась на цыпочки, надеясь, что король заметит ее в толпе. Судя по лицу пленника, он не заметил среди присутствующих огненную шевелюру своей хитрой саламандры. – Какая замечательная пьеса для театра! – прошептал металлическим голосом князь Фарнелло в тот момент, когда герцог де Бурбон склонился, чтобы предложить королю голову кабана, лежавшую на эмалированном блюде… – Незабываемый спектакль! Несчастный король… и вероломный предатель – вассал! Дыхание Леопарда ласкало затылок Зефирины. Она обернулась, словно он укусил ее. – А вы, ваша светлость, какую роль вы играете во всем этом? – прошептала девушка сквозь зубы. – У меня роль несчастного отвергаемого жениха! – усмехнулся Леопард. – Я бы сказала, что у вас, скорее, роль обезьяны, таскающей каштаны из огня! Бросив эту злую шутку, Зефирина перенесла все свое внимание на господина де Ре, полномочного представителя Карла V, который, после лицемерного изъявления принятых в подобных случаях формул вежливости, принес и представил условия договора, предложенные императором. – Его величество Карл Австрийский и Испанский, император Великой Священной Римской империи, заверяет своего брата, его величество короля Франции, в том, что у него будет «приятная тюрьма»… «Это слишком любезно для Карла V!» – подумала Зефирина, в то время как посланник продолжал чтение: – И что, оставив в стороне старые ссоры, король Франциск Французский должен будет для того, чтобы вновь обрести свободу, подписать этот договор, вернув Бургундию, города, земли и сеньории усопшего господина прадеда его императорского величества Карла, прозванного Карлом Отважным… Король Франции должен будет вернуть Дофине, графство Тулузское, находившееся в давние времена в зависимости от Арагона… укрепленные города Теруан, Эздин во Франдрии, а также Прованс… Он должен будет заплатить за нанесенный ущерб королю Генриху Английскому и вернуть ему все то, что тому принадлежит по праву!!! Заплатить контрибуции нашей дорогой тетушке Маргарите, управляющей Нидерландами… герцогу Оранскому… Принцессе Шимейской… нашей возлюбленной родственнице, королеве Жермене Арагонской… К несчастью для Франциска I, у Карла V были очень развиты родственные чувства. Перечисление продолжалось, длинное, безжалостное и ужасающее в своей суровости. Совершенно не нужно было так долго ходить вокруг да около, ибо обжора-император хотел получить всю Францию! В наступившей тишине можно было услышать, как пролетит муха. Лицо Франциска I, немного скрытое окладистой каштановой бородой, было таким мертвенно-бледным, что Зефирина опасалась, как бы у него не начался приступ ярости. «Каким образом, ну каким же образом передать ему предупреждение и совет его матери-регентши: согнуться в три погибели… выиграть время… заморочить императору голову!..» Зефирина была в отчаянии от того, что так близка и так далека от короля одновременно. Самые невероятные мысли о том, как приблизиться к нему, проносились у нее в голове. Завопить! Упасть в обморок! Пробиться сквозь толпу! Подбежать к королевскому столу! Вырвать пику! Убить кастильского стражника! Поджечь занавеску! Убить полномочного представителя императора! Позвать на помощь турок! Внезапно Зефирину осенило. Там, во дворе, Гро Леон порхал над Ла Дусером. Как она об этом раньше не подумала? Ей нужно остаться у окна в одиночестве, чтобы выполнить свою миссию. Позади пронзительный взгляд Леопарда следил за всеми ее действиями. Обладая природным даром актрисы, Зефирина издала легкий стон. Она притворилась утомленной долгим стоянием на ногах и, прислонившись к стене, коснулась лба рукой. Это было столь правдоподобно! Как раз то, что надо! Ни слишком преувеличенно, ни слишком скромно! – Не желаете ли присесть? – осведомился князь Фарнелло. – Скорее мне требуется стакан свежей воды, ваша светлость! – ответила Зефирина с утомленным видом. Она проводила взглядом учтивого Леопарда, который удалялся по направлению к одному из камергеров. В этой башне Фульвио Фарнелло будет труднее раздобыть глоток воды, чем найти стул! Оставшись одна около оконного проема, она оглядела зал и господ, окружавших ее. Никто не обращал на нее внимания. Все в этот исторический момент слушали представителя императора, каждый на свой лад. Зефирина заметила стоящего у высокого камина прекрасного Мортимера Монроза, но тот ее, по-видимому, не увидел или не узнал. Сделав вид, что ей необходим свежий воздух, она повернулась к присутствующим спиной. Спрятав руки под полами плаща, она вытащила из-за своего корсажа послание регентши, затем скатала его в маленький шарик, какой только возможно было сделать, и оторвала несколько листочков глицинии за оконным переплетом, чтобы привлечь внимание Гро Леона. Когда третья веточка упала с неба, Гро Леон поднял свою черно-серую головку. Заметив за прутьями решетки свою юную хозяйку, он полетел к ней во весь дух и собирался издать один из своих звучных воплей. Однако бывшая наготове Зефирина схватила его, зажав ему клюв, и спрятала его под своим плащом. Теперь нужно было действовать быстро, так как полномочный представитель императора уже завершал чтение договора: – …И для того чтобы окончательно защитить мир и спокойствие от неверных, король Франции должен будет присоединиться ко всеобщему крестовому походу всего христианского мира, собравшемуся под сенью крыльев императорского орла… Когда он произнес эти слова, Зефирина нагнулась. Ее ловкие руки сорвали одну из подвязок на ноге. Она обвязала ею послание регентши, веточку глицинии и все это привязала к шее Гро Леона. Затем прошептала: – Быстро… лети… к… королю… один… один… король… за столом… Лети! Зефирина распахнула свой плащ. Сделав три взмаха крыльями, Гро Леон пересек зал. Прежде чем стража смогла что-либо сделать, он опустился на стол Франциска I между кубком и серебряным кувшином. – Король… Один… Один… Король! – Говорящая птица! – Цветы для короля-узника! – раздались вокруг голоса присутствующих. Дамы, сопровождавшие победителей, от волнения пустили слезу. Быстрым движением король снял подвязку и сиреневые цветы с шеи Гро Леона. «Только бы он увидел послание!» – молилась Зефирина, привставая на цыпочки. Король смотрел в ее сторону. Зефирине показалось, что он ей подмигнул. – Внимание! Проверьте птицу! Обыщите ее перья! Приказ, произнесенный на плохом французском языке, исходил от капитана-астурийца, более недоверчивого, чем его солдаты. – Клятва… сосиска… сардина! Гро Леон улетел со стола и уселся на заостренный шлем одного из солдат с алебардой. Затем последовала некоторая суматоха и сумятица. Гро Леон перепрыгивал с пик на шлемы, одновременно всячески насмешливо обзывая испанцев. Они же, поскольку их движения были затруднены кирасами, алебардами и кольчугами, подпрыгивали, стараясь поймать галку за крылья. Но они только натыкались друг на друга, в то время как Франциск I делал вид, что не замечает весь этот шум и гам. Стоявший позади короля коннетабль де Бурбон предлагал ему огромное блюдо с заливным из дичи. Нарочно или нет, но неловкое движение Франциска I отправило курочек «танцевать» по полу. Соус бешамель брызнул во все стороны, и его брызги долетели даже до сервировочного столика с пряностями. Зефирина отчетливо видела, как король наклонился, чтобы вытереть руки и рот, как это всегда делалось очень быстро, о кружевную скатерть. Однако на этот раз он оставался склоненным над скатертью долее, чем это было необходимо, и лицо его было скрыто беретом с пером. Зефирина поняла: Франциск I спокойно читал письмо своей матери под носом у стражи. Раздался чей-то рык. Это вопил капитан-астуриец, оказавшийся более прозорливым, чем остальные. – Сир, со всем уважением, с которым я должен относиться к вашему величеству, я приказываю вам передать мне записку, которую вы прячете. Быстрая, как молния, рука короля подлетела к его рту. – Мы на самом деле не понимаем, о чем вы говорите, капитан Эррера! – сказал король, яростно работая челюстями. Капитан выказал признаки неуверенности. Должен ли он наброситься на узника? Но силой открыть рот короля, пусть даже и пленного!? Такое решение принять было нелегко, не обратившись за разрешением к кому-нибудь, олицетворявшему верховную власть! Франциск I воспользовался этой мучительной задумчивостью капитана, чтобы опередить его. Он поднял свой кубок: – За здоровье нашего брата Карла! – сказал король добродушно. Капитану ничего не оставалось делать, как стать по стойке смирно в честь своего императора. Улыбаясь, Франциск I медленно пил горьковатое вино коалиции. Когда его длинная рука, унизанная драгоценными кольцами, поставила кубок на стол, кусочки пергамента плавали, надежно скрытые, в его королевском желудке. С Карлом V сыграли злую шутку, его провели, ибо теперь можно было только разрезать короля Франции, чтобы достать послание! От этого ловкого обмана Зефирине хотелось бить в ладоши и прыгать от радости! Вся эта сцена произошла в течение нескольких коротких мгновений. Все, что за этим последовало, произошло еще быстрее. Капитан Эррера, поняв, что одурачен, приказал своим солдатам с алебардами прекратить глупую погоню за птицей. Очень довольный этим Гро Леон, потерявший в этой свалке несколько перьев, полетел искать защиты на плече у своей юной хозяйки. Это было как раз то, чего делать не стоило. Словно по команде, взгляды всех присутствующих обратились к Зефирине. Взглядам сорока восьми пар глаз, с подозрением смотревших на нее, предстало гладкое очаровательное личико, сиявшее невинностью. Однако сердце ее сильно билось. Именно этот момент Леопард выбрал для того, чтобы вернуться и встать рядом с ней. – Вас действительно нельзя оставлять одну! – прошептал князь Фарнелло. – Вас всегда так мучает жажда? Было трудно понять, шутит ли князь Фарнелло или действительно раздосадован. Видя перед собой это перечеркнутое черной повязкой лицо, этот властный глаз, который смущал Зефирину больше, чем все любопытные взгляды присутствующих, она недрогнувшей рукой схватила серебряный стаканчик, который протянул ей паж. Она старалась пить с безразличием и равнодушием, которое может быть свойственно только человеку с чистой совестью. В это мгновение под высокими сводами зала зазвучал теплый и низкий голос Франциска I. Взгляды всех присутствующих снова, словно по команде, переместились с Зефирины на короля-узника. Каждый из присутствующих стоял с разинутым от удивления ртом, ибо, держа подвязку Зефирины кончиками пальцев, Франциск I пел. Да… Событие невероятное… Король Франции пел как трубадур:Раз уж Господь так пожелал,
Чтобы сожалел о своей я боли,
Я уйду в глубь лесов,
Произносить мои любовные речи.
Кому я выскажу свою муку
И тайну моего страдания?
Никто не отвечает на мой голос,
Мои деревья немы и глухи…
Куда вы удалились, мои прекрасные возлюбленные?
Будете ли вы менять места своего пребывания все время?
Я сожалею о вас, мои прекрасные возлюбленные,
И плачу, мечтая о вашем возвращении…
ГЛАВА XXXV СВАДЬБА
Приготовления к брачной церемонии заканчивались. Во главе целого батальона служанок Эмилия принесла в апартаменты Зефирины роскошное платье из генуэзской парчи, затканной серебряными нитями. – Его светлость приказали мне, чтобы ваша милость примерили венецианскую фату, которая принадлежала покойной княгине, его матери! – сказала Эмилия. «Его светлость приказали! Дон Фульвио желает! Я сказал!.. Я хочу!..» Зефирина знала наизусть лапидарные фразы Леопарда. Не сказав ни слова, она села перед овальным зеркалом. В то время как ее горничная ловко собирала в складки драгоценную кружевную фату с бахромой из жемчуга, которую девица Плюш только что накинула на ее рыжие кудри, Зефирина сделала непроницаемое лицо. Она не слышала ни радостной болтовни Эмилии, ни восторженных воплей своей дуэньи, ни восхищенных криков Гро Леона, раздававшихся при виде свадебных подарков жениха, скопившихся в будуаре. Зефирина пока еще не решилась надеть на палец восхитительное кольцо с сапфиром, окруженным бриллиантами, которое князь передал ей накануне через посредничество все того же Анжело. «Завтра… Завтра я стану его женой!» – думала Зефирина, не сумев подавить тоскливую дрожь. Завтра, после отъезда ее отца во Францию, она останется совсем одна, лицом к лицу с деспотом, привыкшим к тому, что все, звери и люди, склоняются перед его волей, и Зефирина, разумеется, не будет исключением из правил. После возвращения из Пиццигеттона она больше не виделась с князем наедине. Казалось, что Фульвио Фарнелло был чрезвычайно занят различными делами вне стен дворца, если только он по каким-то причинам больше не желал оставаться с ней наедине. У Зефирины создалось впечатление, что он просто ее избегает. Чтобы соблюсти приличия и создать видимость добрых отношений в глазах знатных вельмож-соседей, которые часто наносили визиты, жених и невеста иногда совершали короткие прогулки по парку, сопровождаемые Роже де Багателем, мадемуазель Плюш и несколькими ломбардскими дворянами. Несомненно, для того чтобы избежать разговоров на животрепещущие темы современной политики и жизни, князь говорил о литературе, математике, астрономии, о греческом и латинском языках. Зефирина, сначала хранившая молчание, оживлялась, увлекалась и проявляла недюжинную образованность. Но как только карий с золотистыми искорками глаз Леопарда останавливался на ее лице, она замыкалась в себе, быстро откланивалась и в сопровождении Плюш возвращалась во дворец. Во время одной из таких прогулок князь Фарнелло спокойно объявил, ни к кому не обращаясь: – Король Франции плывет сейчас в Испанию. – Что это такое вы нам говорите, ваша светлость? – воскликнул Роже де Багатель, ласковость и любезность которого по отношению к князю приводили Зефирину в отчаяние. – Его величество отправился в путь три дня назад под хорошей охраной. Судя по тому, что мне рассказали, был составлен целый заговор, целью которого было его похищение где-то в районе Корсики, но король сам отказался бежать! – Если только Франциска I не выдал какой-нибудь предатель, соблазненный золотом Карла V! – презрительно бросила Зефирина. Не дожидаясь реакции Леопарда, ее отца или ломбардских вельмож, она повернулась к ним спиной и пошла наверх в свои апартаменты в сопровождении Плюш и Гро Леона. Зефирина громко хлопнула дверью. Она задыхалась в этом чужом дворце. Она правильно оценила этого Леопарда. Да, разумеется, этот человек не был лишен ни представительности, ни определенного очарования, но это делало его еще более опасным, ибо к его обольстительности добавлялись еще высокомерие, холодность, расчетливость, ирония, спесь, алчность, подозрительность и властность. Фульвио Фарнелло был тираном самого худшего вида: он был уверен в своем могуществе и в своем праве феодала! Он действовал исключительно в своих личных интересах и не испытывал ни к кому ни малейшего чувства. Зефирина была уверена, что он замешан в этой неудачной попытке похищения Франциска I. Она поняла, зачем он поехал с ней в Пиццигеттон: он принимал участие в заговоре и, возможно, хотел использовать ее в своих целях. «Почему… Ах, почему она этого не поняла? Почему не попыталась все поставить на карту? Почему не вмешалась, не попыталась провести, обмануть этих мерзавцев, пообещав от имени регентши большую сумму денег тому, кто освободит короля?!.. Фульвио Фарнелло прислушался бы к таким словам… Золото было единственной вещью, которая интересовала этого алчного князя… А она позволила вовлечь себя в бесполезную болтовню! В беседы, сколь глупые, столь и пустые! Она считала себя очень сильной… Леопард славно посмеялся над ней…» В эту последнюю предсвадебную ночь Зефирина спала очень плохо. Она слышала, как на колокольне часовни колокол звонил каждый час. На рассвете она погрузилась в тяжелый, гнетущий сон, в котором донья Гермина, Рикардо, герцог де Бурбон, Франциск I, несчастная Пелажи, папаша Коке, Карл V, Бастьен, Мортимер Монроз, Леопард, Гаэтан и Нострадамус, живые и мертвые, проходили перед ее взором, кружились, отплясывая бешеную сарабанду. – Время вставать, моя маленькая Зефирина. Славная девица Плюш потрепала свою подопечную по плечу и тут же отпрянула, пораженная синими кругами под ее наполненными слезами глазами и тонким, искаженным страданием лицом. – Клянусь всеми рыцарями Броселианды, моя дорогая, нельзя доводить себя до такого состояния! – заахала Плюш. – Хотела бы я вас видеть на моем месте! – возразила Зефирина. Казалось, такая возможность не повергла в отчаяние Артемизу Плюш. Старая дева присела на край одеяла, взяла за руки Зефирину и начала произносить длинную путаную речь, в которой говорилось о послушании, преданности, самоотречении, взаимном согласии и об откровении тайны жизни… Плюш сейчас заменяла мать Зефирины… Господин маркиз поручил ей, дуэнье, поговорить с его дочерью… Заставить ее понять некоторые деликатные вещи… Рассказать ей о… Хм… В конце концов… что… что сегодня вечером… короче… имея в виду, что… не сопротивляться… Некоторые движения… принять, согласиться… Узы брака… Что потребуется от нее… хм… хм… Это нормально… У мужа есть все права… Девица Плюш кашляла, путалась, покрывалась испариной, сморкалась, обмахивалась веером, перебирала четки, короче говоря, не могла выбраться из туманных объяснений. Зефирина милосердно пришла ей на помощь: – Если вы хотите сказать, Плюш, что я должна как ягненок разделить ложе с «его светлостью-я-хочу!»… так вот, поверьте, его ожидают сюрпризы! – Сюрпризы! Сюрпризы! – заорал внезапно проснувшийся Гро Леон. – Зря Леопард думает, что я беспрекословно подчинюсь его приказам и капризам, да, он ошибается… Я никогда не буду его рабыней, и он всю жизнь будет жалеть, что силой заставил меня выйти за него замуж! Внезапно приободрившись от этих воинственных мыслей, Зефирина вскочила с постели, сопровождаемая потрясенным и удрученным взглядом Артемизы Плюш. «Боже мой, – думала славная добрая старая дева, – я не знаю двух других столь мало подходящих друг другу натур, чем этот загадочный князь Фарнелло и наша неукротимая Зефирина… Если любовь не придет им на помощь, то сколько бурь они переживут в будущем…» Под лучами уже ставшего горячим солнца засверкали шелковые драпировки в апартаментах Зефирины. Начинался очень длинный день. С расшитой жемчугом фатой на голове Зефирина была готова к жертвоприношению. Она слышала стук колес первых прибывших повозок по камням мостовой во дворе, крики носильщиков, доставивших своих господ на свадьбу. Девушка надеялась, что свадьба будет очень скромной, что это будет просто благословение в узком кругу. Но «его светлость» принял другое решение. Судя по приготовлениям и по многочисленным повозкам и лошадям, поднимавшимся по дороге к замку, дон Фульвио Фарнелло придал своему браку с «французской синьориной» блеск, свойственный бракосочетаниям монархов. Окруженная служанками, Зефирина бросила последний взгляд на свое отражение в зеркале. Она увидела какую-то незнакомку, чужую, бледную, далекую, высокомерную. Ее золотисто-медные волосы были подняты вверх и поддерживались усыпанными драгоценными камнями и жемчугами золотыми дугами. Она была в корсете на китовом усе, талия была так стянута, что она едва могла дышать. Присборенные рукава, словно отливающие всеми цветами радуги шары, еще больше подчеркивали изящество груди и хрупкость девичьего силуэта. – По сравнению со всеми княгинями, которые изображены на портретах в галерее предков, ваша милость – самая прекрасная! – восхищенно воскликнула Эмилия, подавая своей госпоже веер, усыпанный блестками в виде цветочков. – Клянусь честью, ты права, Эмилия! Услышав этот металлический голос, Зефирина вздрогнула. Только что в будуар своей кошачьей походкой вошел Леопард. Девушки-служанки стремительно опустились в глубоком реверансе. По знаку князя они, с девицей Плюш во главе, удалились, словно стайка воробышков. Оставшись одна с глазу на глаз с Леопардом, Зефирина, повергнутая в изумление этим неожиданным визитом, предпочла атаковать: – Никогда не слышишь, когда вы входите! – сказала она резким тоном. – Я никогда не вижу, как вы улыбаетесь! – спокойно в тон ей ответил Леопард. В течение секунды жених и невеста смотрели друг на друга. Зефирина первой отвела глаза. Глубоко вздохнув, она сделала вид, что поправляет перед зеркалом декольте и обмахивается веером. – Ну-ну, наберитесь храбрости, донна Зефира… Эта обязанность неприятна, но все это будет продолжаться недолго! Князь подошел к девушке. Подавляя ее своим высоким ростом, он с насмешливым видом смотрел на ее отражение в зеркале. – На самом деле, ваша светлость, если вы говорите о сегодняшнем дне, то это так, но что касается всего остального… Свои слова Зефирина сопровождала выразительной гримаской. – Разумеется, всю жизнь быть привязанной к одноглазому мужу! Это может оказаться… – Я не заставляла вас говорить это! – возразила Зефирина вызывающе. Она не ожидала того, что затем случилось, князь Фарнелло схватил ее за плечи. – Я всегда любил укрощать норовистых кобылиц… Потом они становятся самыми покорными… Прежде, чем Зефирина успела отстраниться, Леопард припал губами к ее шее. Все произошло очень быстро, это было как ожог. Затем князь выпрямился, очень спокойный, прекрасно владеющий собой. Его карий глаз с золотистыми искорками уставился на потрясенную Зефирину. – Так как вы, моя дорогая, отказываетесь принять какой-либо подарок из рук этого бедняги Анжело, я должен был решиться прийти к вам лично и обвить вокруг вашей очаровательной шейки эту скромную безделушку в память о столь тягостном и мучительном дне. Князь Фарнелло вынул из кармана камзола какую-то драгоценность, сверкавшую тысячами огоньков. С нежностью и осторожностью, как самая ловкая горничная, он опустил драгоценность на грудь Зефирины и без труда защелкнул замочек. Зефирина издала приглушенный крик. – Не причинил ли я вам боль? – осведомился Леопард. – Этот… этот медальон! – пролепетала Зефирина, запинаясь. Широко раскрытыми от изумления глазами она смотрела на роскошное и странное украшение, которое князь только что надел ей на шею. Она не могла поверить своим глазам: на тонкой золотой цепочке, разделенной на пятьдесят пластинок, усыпанных замечательными драгоценными камнями, блистал главный камень – изумруд размером с орех, заключенный в золотую оправу в виде пасти леопарда… Третий медальон… Тот самый, который «видел» Нострадамус… – Где… где вы взяли его? – спросила Зефирина, резко поворачиваясь к князю Фарнелло. Ее натиск был таким неожиданным и яростным, что князь едва не отшатнулся, но сдержал себя. – Вы задаете странные вопросы, моя дорогая… Вы что же, на самом деле принимаете меня за бандита с большой дороги? – Я прошу вас, ответьте… – умоляла Зефирина. Ее глаза, более зеленые, чем изумруд, висевший у нее на шее, выдержали мрачный взгляд Леопарда, не мигая. «Что это еще за новый каприз?» – казалось, думал высокомерный вельможа. Внезапно он решил ответить ей и отвечал очень терпеливо, словно обращался к несносной маленькой девочке. – Этот медальон, мое нежное дитя, из шкатулки моей покойной матери, княгини Фарнелло. Он принадлежал многим поколениям нашей семьи. Чтобы быть более точным, скажу, что он является собственностью нашего рода с благословенного года 1187… Ну что, вы удовлетворены?.. 1187 год… Год взятия Иерусалима императором Салладином, как раз перед третьим крестовым походом… – прошептала Зефирина. – Точно, юная эрудитка; в нашей семье даже поговаривали, что с медальоном была связана одна история… История трагической любви, как водится… Вначале, кажется, было три медальона, принадлежавшие трем сестрам… В легенде говорится, что какая-то женщина соберет в своих руках три разбросанных по свету медальона через 333 года… Тогда эта женщина получит доступ к сокровищам великого Салладина, которые стерегут три змеи, три орла и три леопарда… Зефирина была вынуждена опереться о сундук. Три… три… три… Ненавистный голос Гермины вновь зазвучал у нее в ушах: «Ты тоже ищешь третье?» Зефирина больше не сомневалась в том, что «эта Сан-Сальвадор» хотела завладеть тремя медальонами. Была ли она тем чудовищем, которое убило ее мать, нежную Коризанду? Каким образом донья Гермина смогла это сделать?.. Над парком поплыл колокольный звон. Пробило три часа дня. Князь Фарнелло, не сознававший, какое смятение вызвали его слова в душе у Зефирины, подал ей свою руку. – Ну, смелей. Пришел час жертвоприношения! Все ждут только новобрачную… Идемте, моя дорогая… Так как этот рассказ, кажется, вас очень развлек, то будьте уверены, сегодня вечером я буду иметь возможность рассказать вам историю этого медальона полностью… При таком прямом упоминании о приближающейся ночи горячая волна опалила жаром щеки Зефирины. Она отвернулась. Сделав вид, что не замечает протянутой руки князя, она направилась к большой мраморной лестнице. Одобрительный шепот приветствовал появление невесты, ведомой под руку ее отцом. Часовня была забита до отказа. Под ее сводами раздавались григорианские песнопения. Зефирине казалось, что она присутствует на чьей-то чужой свадьбе. Она не ощущала, что все это касается ее, она почти раздвоилась, видела все, слышала все, действовала, говорила, двигалась, как когда-то это делали замечательные механические куклы старого художника мэтра Да Винчи. В то время, когда Зефирина, бледная и очаровательная, поднималась на верхнюю галерею храма вместе с Роже де Багателем, она, ставшая почти равнодушной, узнала среди приглашенных предателя Бурбона, вице-короля Неаполя, итальянских вельмож и испанских грандов, виденных в Пиццигеттоне. Все победители находились здесь, они были свидетелями ее унижения. Стоя на хорах, Леопард ждал свою невесту. Не взглянув на него, Зефирина тотчас же опустилась на колени на одну из скамеечек перед алтарем. Опустив голову на молитвенно сложенные руки, она принялась молиться с такой истовостью, с какой не молилась со времени выхода из монастыря. Обряд бракосочетания совершал прелат из Милана. Словами, исполненными елея, он призывал будущих супругов исполнять свой долг по отношению друг ко другу. – И жена должна слушаться своего мужа, подчиняться ему, должна почитать его и хранить ему верность… «Если он это называет долгом по отношению друг к другу!..» – подумала Зефирина, в которой вновь вдруг заговорил бунтарский дух. – Фульвио Карло Массимо Корнелио Бенвенуто, князь Фарнелло, господин Салимонте ди Седжесте, граф Сиракузский, барон Агридженте и Илла, герцог Сицилийский, маркиз Селестра… хотите ли вы взять в жены присутствующую здесь донну Зефирину, дочь маркиза де Багателя? – Да, я этого хочу! – ответил без колебаний металлическим голосом Леопард. Тогда прелат обратился к девушке: – Зефирина Мария Коризанда Эме Джулия Гортензия де Багатель, хотите ли вы… Ответом на вопрос прелата было долгое молчание. Лишившись от волнения голоса, Зефирина не могла ответить. На галереях возник легкий шепот. Зефирина окинула присутствующих взглядом утопающей. От кого бы она могла ожидать помощи? Разумеется, не от отца, уже открывшего рот как рыба, выброшенная из воды. Не от славной девицы Плюш, шмыгавшей носом над своим молитвенником. Не от Ла Дусера, который не мог понять ее чувств. Не от Рикардо де Сан-Сальвадора, который, стоя рядом с де Бурбоном, украдкой смотрел на ее медальон завистливым взглядом. И не от этого бедного монаха с низко надвинутым на лицо капюшоном, монаха, который молился рядом с исповедальней… Зефирина вздрогнула. Уж не сошла ли она с ума? Она могла бы поклясться, что монах подавал ей какой-то полный тайного смысла знак. – Дитя мое… Ну же, дитя мое! Голос прелата вернул ее к действительности. Зефирина обернулась к священнику, совершавшему бракосочетание. Она чувствовала на себе пристальный взгляд Леопарда. – Вы хорошо поняли мой вопрос, дитя мое? – вновь спросил прелат. – Хотите ли вы взять присутствующего здесь Фульвио Карло Массимо Корнелио… в мужья? – Да, я этого хочу! – прошептала Зефирина так тихо, что только приглашенные, стоявшие в первых рядах, могли ее слышать. По знаку прелата диакон подан на золотом подносе обручальные кольца. Князь Фарнелло схватил руку Зефирины. При прикосновении этих длинных пальцев, таких темных рядом с ее молочно-белой кожей, таких нервных, горячих, мужских, таких властных, привыкших «укрощать норовистых кобылиц», при прикосновении этих пальцев Зефирина инстинктивно отшатнулась. С какой-то неистовой силой, которая, возможно, была вызвана всего лишь нетерпением и раздражением, князь удержал ее руку, затем, возможно, желая смягчить резкость, он почти ласковым движением очень бережно и нежно надел обручальное кольцо на ее дрожащий пальчик. – Слишком поздно, княгиня! – прошептал Леопард. Почти против своей воли Зефирина подняла глаза на того, кто с этой минуты был ее мужем. Золотистые искры сверкали в карем глазу князя Фарнелло. Это было очень мимолетное впечатление. Смущенная Зефирина тотчас же опустила глаза. Она недрогнувшей рукой поставила свою подпись под документом о заключении брака. Звонили колокола. – Да здравствует его светлость! – Да здравствует прекрасная княгиня! Князь и новая княгиня Фарнелло вышли из часовни под приветственные крики крестьян, собравшихся перед ней. Стоя рука об руку с князем, Зефирина сделала над собой усилие. В толпе она вновь увидела того же монаха. Она ясно видела, как он воздел руки к небу, а затем исчез за группой крестьянок. Озадаченная Зефирина вновь поискала его взглядом, но больше не видела капюшона его рясы из грубой шерсти среди кружевных головных уборов. Леопард ничего не заметил. Он увлек Зефирину к украшенной цветами повозке, и новобрачные отправились наверх, во дворец, а все приглашенные последовали за ними пешком. После того как Зефирина выслушала все пожелания благополучия и все поздравления, показавшиеся ей бесконечными, гости отправились на пышный банкет, который был устроен в большой выложенной мрамором галерее. Среди всей этой суеты Зефирина не обменялась ни одним словом со своим мужем. Она постоянно ощущала его присутствие рядом с собой. Изящно беря угощения тонкими пальчиками, она обменивалась любезными фразами со своими соседями слева. Прекрасно исполняя роль хозяина дома, Леопард постоянно склонялся к своей соседке слева, прекрасной княгине Ринальди, даме со смуглым лицом, обрамленным двумя великолепными темно-каштановыми косами. Фульвио ни разу не попытался заговорить со своей женой. «Ну и на здоровье! Пусть себе болтает всякий вздор с этой претенциозной чернушкой!» – думала Зефирина с предубеждением. К четырем часам пополудни большинство пирующих, как это водится, были более пьяны, чем Ной в своем шатре. Маркиз де Багатель, захмелевший более, чем другие, вдруг поднял наполненный до краев кубок. – Я пью за здоровье князя Фарнелло, моего друга… моего благородного победителя… отдавая ему самое дорогое мое сокровище, мою дочь Зефирину… А теперь, когда я сдержал слово, пришло время вам, мой зять, сдержать ваше! Униженная Зефирина видела, что Роже нетвердо стоит на ногах. На вид более трезвый, чем его тесть, князь Фарнелло поднялся в свой черед: – Что сказано, то сказано… Маркиз, вы заплатили самый прекрасный выкуп на свете!.. Вам – свободу! А мне – новобрачную! По тому, каким резким движением князь поднял кубок, Зефирина поняла, что он тоже пьян. – Хорошо сказано, Фульвио! – Браво, Фарнелло! – Выпьем за поцелуй новобрачной! – За ее подвязку! За ее нижнюю юбку! За ее фату! Аплодисменты и приветственные крики, провозглашенные пьяными голосами, становились все громче. «Я их ненавижу, этих пьяниц! Я их ненавижу!» – думала Зефирина, уязвленная фразой князя, которая претендовала, однако, на то, чтобы быть галантной. Чувствуя себя все более и более униженной и оскорбленной, она проводила своего развеселого отца во двор. Она знала о том, что Роже де Багатель принял решение уехать тотчас по окончании брачной церемонии. Когда же пришел момент расставания, она ощутила огромную пустоту и глубокое отчаяние. Во дворе повозка, которой правили, если это можно было так назвать, братья Ипполит и Сенфорьен, оба пьяные и распевавшие песни во все горло, шесть сундуков, четыре лошади и Ла Дусер, более пьяный, чем его господин, ожидали сигнала к отъезду. – Я… благословляю… вас, дочь моя! – заявил Роже де Багатель, тяжело ворочая языком и с большим трудом усаживаясь в седло. – Прощайте, отец… Прощайте… Прощай, мой Ла Дусер! Отец! Зефирина отвернулась с глазами полными слез. – Улыбайся! Сардина!.. Сардина!.. Улыбайся! Гро Леон опустился Зефирине на плечо. Она долго стояла и смотрела вслед повозке, своему отцу и Ла Дусеру; их лошади сами шли вниз по дороге, к подножию холма, они не нуждались в том, чтобы ими правили. Когда всадники и повозка превратились в крохотное облачко пыли посреди ломбардской равнины, она решилась вернуться во дворец. Там начинался бал…ГЛАВА XXXVI БРАЧНАЯ НОЧЬ
Было уже поздно, когда последние пошатывающиеся гости покинули замок. В то время как князь Фарнелло провожал захмелевших знатных гостей во дворе, освещенном светом горящих факелов, Зефирина воспользовалась этой минутой для того, чтобы подняться в свои новые апартаменты, представлявшие собой вереницу роскошно и пышно обставленных комнат на втором этаже южного крыла замка. Зефирина, измотанная более морально, чем физически, прошла прямо в спальню, даже не взглянув на деревянные скульптуры, резьбу по дереву, лепнину, на чеканные бронзовые предметы и на прекрасные драпировки. Она не удостоила взглядом огромную кровать под балдахином, затканным золотой нитью, которая торжественно возвышалась посреди комнаты и, казалось, издевалась над ней. В то время как Эмилия расшнуровывала ее корсет, Зефирина чувствовала, как спину ей буравят колкие взгляды трех других горничных, слышала, как они посмеиваются, обмениваясь намеками. Эти девушки были столь возбуждены, что могло показаться, будто это они ожидают прихода их супруга. – Какую прекрасную пару составляют ваша милость с его светлостью! – Его светлость все время смотрел на вашу милость! – Я была так взволнована, что заплакала… когда новобрачные вышли из часовни! – О, а я… я сказала Раймондо… ты не будешь со мной таким любезным, как его светлость с княгиней! – О, я слышу, как отъезжают повозки! Его светлость скоро придут! – Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Пфф… Зефирина была готова убить этих глупых гогочущих гусынь! – Где моя дуэнья? – сухо спросила Зефирина, пытаясь остановить этот поток глупостей. – Бедная мадемуазель Плюш крепко выпила, ваша милость. Она храпит где-то в кресле. Паоло приказал ее отнести наверх, в кровать! Гро Леон, должно быть, тоже отсыпался после попойки где-нибудь на сундуке на первом этаже. Решительно, Зефирина оставалась одна трезвой в этом дворце пьяниц. Освободившись от тяжелых фижм и корсета, сжимавшего ее талию, она глубоко вздохнула. В одной короткой сорочке она отправилась в туалетную комнату, где в одиночестве освежила лицо и тело розовой водой из кувшина. В зеркале она увидела свое отражение: роскошный медальон сверкал у нее на груди. На Зефирину снизошло вдохновение: она взяла в руку большой изумруд и хорошенько его рассмотрела. А затем, поддев ногтем, раскрыла изумруд. Как и у предыдущего украшения, камень был полый, но в отличие от изумруда, зажатого в когтях орла, в этом была заключена пластинка из странного металла с фиолетовым отблеском. Зефирина вытащила ее из тайника и поднесла к свече. Разглядывая ее, она прочитала две строчки, выгравированные на металле: «Утомленный на небе леопард слышит свой глаз… Парящий вокруг солнца орел видит, что резвится со змеей…» Слова Нострадамуса!!! Разве возможно подобное? Зефирине казалось, что у нее в ушах еще звучит успокаивающий голос Мишеля де Нотр-Дама: «Прежде чем минут три луны, вы будете носить корону на голове, Зефирина!» Рассмотрев получше пластинку из драгоценного металла, Зефирина заметила, что с другой стороны вместо таинственного текста нанесен геометрический рисунок. Это были три треугольника, наложенные один на другой и пронзенные посередине стрелой. Это был, несомненно, какой-то талисман, или план, содержащий только часть тайны Салладина… Чтобы понять смысл загадочных слов, надо было, вероятно, иметь все три пластинки… Через полуоткрытую дверь до Зефирины доносился шепот горничных. – Какой туалет желаете надеть, ваша милость, голубой или зеленый? – спросила Эмилия. – Сейчас иду! – ответила Зефирина. Она быстро закрыла изумруд, сняла тяжелый медальон и положила его на столик с благовонными мазями. Зажав в руке пластинку с таинственными словами, она поискала надежное место, куда бы ее можно было спрятать. Увидев чуть сдвинутую дощечку на паркетном полу, она засунула под нее пластинку. Затем попробовала вытащить ее обратно при помощи пилочки для ногтей. Ее хитрость полностью удалась. Для большей надежности она подтащила ковер и положила его туда, где была щель: он скроет, если в этом будет необходимость, металлический блеск пластинки от пытливого взгляда. Приняв эти меры предосторожности, она вернулась в спальню. Эмилия предложила ей на выбор два ночных туалета из газа, воздушных и прозрачных. Зефирина вздрогнула от возмущения. И речи быть не может о том, чтобы надеть один из этих обольстительных туалетов! На кого она будет похожа? На телку, которую ведут к быку?! – Я надену этот туалет! – сухо приказала Зефирина и указала на строгое платье из черной саржи с наглухо закрытым воротом. Не обращая внимания на ошеломленные лица своих горничных, Зефирина с удовольствием натянула это одеяние старой святоши. – Могу ли я распустить волосы вашей милости? – спросила Эмилия, уже приготовившаяся расчесывать роскошные золотисто-рыжие косы. – Мне и так хорошо, Эмилия. Вы все мне больше не нужны… Благодарю вас за услуги… – сказала Зефирина более мягким тоном. – Спокойной ночи, ваша милость! – хором ответили девушки. Приведенная в отчаяние многозначительными улыбками горничных, она повернулась к ним спиной и приблизилась к открытому окну. Итак, все кончено. Она стала княгиней Фарнелло. Зефирина прижалась пылающим лбом к цветному витражу. Мгновение, которого она так опасалась, наступило… Она осталась одна… совсем одна лицом к лицу с тираном и, что бы там ни говорили, со смертельным врагом Франции… Звук хлопнувшей на первомэтаже двери заставил Зефирину вздрогнуть. Она вышла на увитую цветами террасу. Сделав несколько шагов, она оперлась об искусно украшенную каменную балюстраду. От находившихся внизу зарослей рододендрона поднимались волны одурманивающего запаха. Пахло сиренью, гвоздикой; запах цветов смешивался с запахом перегноя. Легкое облачко тумана виднелось около рожка месяца в небе. Внезапно от набежавших слез у Зефирины защипало глаза. – Медовый месяц… Говорят, англичане недавно придумали это выражение, Honey Moon, чтобы называть так дни, которые следуют за свадьбой… Услышав эти слова, произнесенные теплым голосом, Зефирина быстро вытерла глаза и обернулась. Опять она не услышала, как он подошел к ней. Леопард стоял, прислонясь спиной к ажурной колонне террасы. Он снял тяжелый расшитый серебром и золотом камзол и, должно быть, второпях надел эту рубашку с длинными рукавами, вышитыми серебряной нитью. Рубашка была небрежно стянута широким поясом с золотыми заклепками, из-под рубашки виднелись короткие коричневые штаны. Широко распахнутый ворот рубашки позволял видеть его мускулистую шею и черные волосы на широкой груди. Одетый таким образом, он казался теперь намного моложе, совсем не надменным, более доступным, почти человечным. Лицо его стало спокойным, черты разгладились; он улыбался и внимательно смотрел на Зефирину своим единственным глазом, в котором горел какой-то иной огонек, чем простая насмешка. Ощущая на себе этот жгучий взгляд, Зефирина быстро опустила глаза. Он, возможно, догадался о том, что она плакала, и она не хотела ему показать свое смятение. – Англичане, которым не откажешь в уме, ваша светлость, несомненно хотят этим выражением сказать, что брак – это такое же тяжкое бремя, как и горшок с медом… Она вложила в свои слова всю ироническую холодность, на какую только была способна. Ее слова были встречены легким смехом. – Теперь я спокоен. А то, видя, что вы молчите, я на какое-то мгновение испугался, что брачная церемония превратила вас в покорное создание!.. – На этот счет можете не беспокоиться, ваша светлость! – Так значит, вы намерены навсегда сохранить ваш восхитительный характер? Я в восторге!.. Ну-же, божественная Зефирина, согласитесь по крайней мере выпить вина с вашим злейшим врагом, и, клянусь честью, мы отправимся спать каждый на свою половину… Услышав столь откровенные слова, Зефирина замерла, озадаченная. Князь Фарнелло спокойно открывал усыпанный драгоценными камнями графин, который она прежде не заметила. Графин, оказывается, стоял вместе с лакомствами и конфетами на столике из розового мрамора. – Вы не считаете, что уже выпили слишком много? – бросила Зефирина, на этот раз очень неприятным тоном. – О, моя дорогая! – князь совсем не обиделся на оскорбительный тон. – Поднимем наши кубки в честь любви, чье биение и трепет ваше ледяное сердце не слышит сквозь это строгое платье… Зефирина машинально взяла кубок, который ей протянул Фульвио. Выпив несколько глотков хмельного напитка, она с вызовом сказала ему: – Если вы думаете, что вам будет достаточно заставить меня выпить вина для того, чтобы я все забыла, вы очень ошибаетесь! – О, вы мне приписываете на самом деле самые низменные намерения! – проговорил князь преувеличенно огорченным тоном. – Чья же в том вина? Вы купили меня. Вы унизили меня. Вы принудили меня силой… Вы… Зефирина прервала свое жалобное перечисление. Князь Фарнелло протянул руку, и эта рука, властная, ласковая и нежная, опустилась на ее волосы, погладила и распустила несколько рыжих кудрей. – Чья же в том вина, сударыня? Вы соблазнили меня! Вы очаровали меня! Вы околдовали меня! Продолжая говорить, он взял у нее кубок из рук. Зефирина лишилась дара речи. Несмотря на чуть шутливую нотку, прозвучавшую в его ответе, она не ожидала таких слов. «Я погибла!» – подумала Зефирина. Вдруг она произнесла очень громко: – Умоляю вас, скажите мне правду! – Правду! – повторил князь, улыбаясь. – Да… Разрешали ли вы моему отцу несколькими днями ранее отправиться во Францию?.. Я хочу знать это! Услышав вопрос, произнесенный в виде приказа, князь Фарнелло, казалось, был удивлен, раздражен и, возможно, немного разочарован: – Какая странная маленькая девочка!.. Маркиз ни на единый день не покидал дворца Фарнелло… Казалось даже, что он был очень счастлив, когда гулял по парку… Ну так что, вы удовлетворены?.. Ну же, перестаньте хмуриться и не стройте надутой физиономии, она совершенно не идет новобрачной… Погруженная в свои мысли, Зефирина молчала. Если князь Фарнелло не лгал, то, значит, Роже де Багатель не был в монастыре Сан-Сакреман! Девушка внезапно ощутила, как огромный груз свалился с ее плеч. Дорогой отец, несчастный отец, которого она несправедливо подозревала Бог знает в чем! Ее прелестное личико, обрамленное золотисто-рыжими волосами, разгладилось. Воспользовавшись этим благоприятным обстоятельством, князь теперь нашептывал ей по-итальянски: – Bellissima mia…[35] Не угодно ли прекратить эту бесполезную борьбу… Подумаем лучше о любви… Вы – самая красивая девушка в мире, а я умею ценить красоту… Между мужчиной и женщиной я знаю лишь один возможный способ столкновения и сближения! Позвольте мне заставить вас позабыть обо всем на свете… Tesero mio!..[36] Не от вина ли у нее закружилась голова? Зефирине хотелось вырваться из плена этого вкрадчиво-обольстительного голоса, властного, слегка снисходительного и уверенного в своих чарах; ей хотелось спрятаться от обжигавшего ее шею дыхания, от этого опытного рта, покусывавшего ее ушко, от этих крепких рук, все теснее сжимавших ее талию, от этих не оставлявших никаких сомнений ласковых прикосновений к ее груди, от этого властного и сильного колена, уже легко прокладывавшего себе путь между ее ног. Но она была не способна оказать сопротивление такому вражескому штурму. Совершенно обессиленная, с подкашивающимися ногами и с объятыми пламенем бедрами, она все же сохраняла еще остаток ясности ума для того, чтобы верно угадать, какую игру вел князь: он хотел превратить ее в покорную его воле рабыню, созданную для удовлетворения его прихотей султана, которую он запрет в какой-нибудь башне, когда пресытится ею. Уже уверенный в своей победе, как нетерпеливый мужчина, привыкший ловко вести свои дела и легко добиваться успеха как на состязаниях, так и у женщин, Леопард тихонько подталкивал Зефирину к спальне. Захваченная каким-то вихрем, она с ужасом обнаружила, что оставила всякое сопротивление. При свете свечей кровать под балдахином блистала своей незапятнанной белизной. В последнее мгновение к Зефирине вернулся ее бунтарский дух: – Я вас не люблю… Я вас никогда не полюблю… Если у вас так мало чести… Я… Я… приказываю вам отпустить меня, князь Фарнелло!.. Употребив всю силу своих рук, она пыталась оттолкнуть Леопарда. Весьма далекий от мысли повиноваться ей, он еще крепче сжал ее в объятиях со спокойной властностью: – Тебе нечего опасаться, Cara mia![37] – шептал вкрадчиво-обольстительный голос. – Ты думаешь, я тебя купил… какое гадкое, мерзкое слово… А ведь ты должна была бы гордиться… Я не смог забыть вкус твоих губ… Я не смог забыть твою красоту, это тело, которое я держу сейчас в объятиях… Посмотри же на меня… Изумленная таким поведением и этим обращением на «ты», Зефирина подняла глаза. Князь возвышался над ней, подавляя ее своим высоким ростом. Взгляд его черного с золотистыми искорками глаза смело встретился со взглядом Зефирины. Его тонкие губы изогнулись в улыбке, они шептали: – Вспомни… Леопард сделал движение и вытащил из своего рукава голубое перышко… Зефирина вскрикнула, но крик тотчас замер у нее в горле. Метнулась чья-то тень, и на голову князя обрушилось что-то тяжелое. В ночи прозвучал глухой звук удара. На лице князя застыло удивленное выражение. Очень мягко, словно лишенная управления марионетка, он упал на мраморные плиты к ногам Зефирины. Девушка подняла голову, вздрогнула; она ничего не понимала. Перед ней стоял тот самый монах, который подавал ей знаки во время брачной церемонии. – Кто… что… – запинаясь, пролепетала Зефирина. – Надо действовать быстро! Монах схватил ее за руку. Она было хотела оказать сопротивление. – Моя душенька… Так значит, вы меня не узнали… Монах скинул капюшон. Эта улыбка… Этот голос… Это лицо – видение из загробного мира… Зефирина схватилась рукой за сердце. – Гаэтан… Гаэтан, вы ли это? – Да, моя душенька… Он самый… Я пришел вас спасти, вырвать из когтей этого Леопарда. – Я… Я… Все на свете считали вас мертвым, Гаэтан! Слезы ручьем заструились по щекам Зефирины. От волнения она покачнулась, и он должен был поддержать ее. На какое-то мгновение они замерли в объятиях друг друга, стоя около брачной постели. – Я был действительно ничуть не лучше трупа, моя дорогая! – прошептал Гаэтан. – Без вашего бывшего серва Бастьена я сегодня находился бы на два фута ниже уровня земли… – Бастьен участвовал в битве при Павии? – пролепетала Зефирина. – Он дважды спас мне жизнь… Один раз во время самой битвы, когда я едва не погиб под ударами вражеских копий, а во второй раз, когда прятал меня в лачуге одного ломбардского крестьянина и лечил меня… Но… я расскажу вам об этом позже. Сейчас мы заткнем кляпом рот этому несчастному господину и свяжем его. Гаэтан сорвал с постели простыни. Зефирина, как парализованная, смотрела на него. Она была не в силах помочь ему завернуть большое неподвижное тело князя в это некое подобие савана. Она была слишком смущена и взволнована для того, чтобы поближе рассмотреть судорожно зажатое в руке Леопарда голубое перышко, похожее на то, которое «украл» у нее незнакомец на берегу. Когда Леопард был хорошо завернут и крепко связан, Гаэтан тяжело дыша, попытался втащить его на кровать, но князь был слишком тяжел. Испытывая некоторое замешательство и неудобство, Зефирина была вынуждена взять своего мужа за ноги, в то время как Гаэтан приподнял его за плечи. Уложив князя Фарнелло на кровать под балдахином, Гаэтан рядом с ним так уложил подушки, чтобы создать видимость присутствия рядом другого человека. Затем с головой накрыл Леопарда покрывалом. Видя все эти приготовления, Зефирина отвернулась, сконфуженная и раскрасневшаяся. Гаэтан схватил ее за руку: – Идемте, моя душенька… – Но… что… – Не бойтесь, я прибыл из Франции, мои сестры меня во все посвятили… Ваш отец теперь вне опасности, он спасен… В любом случае Леопарда найдут только завтра днем… У нас впереди есть целая ночь для того, чтобы скакать… – Но куда?.. – Мы поедем в Рим, моя душенька, чтобы аннулировать ваш брак. Идемте же… Несмотря на настойчивую просьбу, Зефирина не могла двинуться с места. Гаэтан обернулся к своей невесте: – Если только вы не… хотите остаться здесь, моя дорогая… Быть может, находясь рядом с этим человеком, вы забыли о нашей клятве? – Нет… нет… Гаэтан, это от волнения… Я его ненавижу! Зефирина схватила плащ, лежавший на табуретке, и решительно последовала за шевалье де Ронсаром. К каменной балюстраде была привязана веревочная лестница. Зефирина соскользнула прямо в объятия Гаэтана. Не переводя дыхания, молодые люди бросились бежать к кустам. Было слышно, как на псарне лаяли собаки. Зефирина вздрогнула: ей показалось, что какая-то маленькая фигурка бросилась по направлению к кедрам, росшим посреди большой поляны. Несомненно, это была тень какого-то ребенка… или тень карлика… Эта тень двигалась в сторону забытой ими веревочной лестницы. «Каролюс!» – подумала Зефирина. Мысль о карлике непреодолимо преследовала ее. Выследила ли уже донья Гермина третий медальон? Девушка обрадовалась, что спрятала таинственный талисман в щели на полу. Она прикоснулась к руке Гаэтана, чтобы показать ему ночного посетителя. Слишком поздно! Тень уже исчезла за зарослями рододендронов. – Сюда! – прошептал Гаэтан. Постоянно оглядываясь и принимая меры предосторожности, он вел Зефирину в глубь парка. Они на ощупь спустились вниз по дороге, которая вилась по склону холма. В стене, окружавшей замок, была приоткрыта маленькая дверца. Лежавший рядом с ней связанный солдат свидетельствовал о том, что Гаэтан уже проходил этим путем. По другую сторону стены их поджидала привязанная к изгороди лошадь. Гаэтан помог Зефирине влезть в седло, потом сам сел впереди… – Моя душенька… – прошептал юноша, захмелевший от своей победы. – Ничто… ничто, клянусь, не сможет нас более разлучить… – Нет, Гаэтан, ничто… Говоря так совершенно искренне, Зефирина все же не смогла удержаться от того, чтобы не обернуться. При свете луны на фоне неба вырисовывались три зубчатые башни дворца князей Фарнелло, возвышавшегося на холме. В ночи зазвучал тоскливый волчий вой. Дрожь пробежала по телу Зефирины. Что это была за боль, от которой сжималось ее сердце? Почему ее терзала и грызла тоска из-за того, что она убегала вот так, словно воровка? Что за непонятное сожаление она испытывала? О чем она сожалела? О ком? Еще было не поздно… Она еще могла вернуться назад… Уж не сошла ли она с ума? Зефирина тряхнула золотисто-рыжими кудрями. Она навсегда покидала этого гордого Леопарда… Она была счастлива от сознания свершившейся мести. Зефирина положила голову на плечо Гаэтана и позволила увезти себя галопом по дороге свободы…Жаклин Монсиньи Княгиня Ренессанса
ПРОЛОГ СТРАННАЯ НОВОБРАЧНАЯ
Огромный ястреб плавно кружил над горными пещерами. Мужчина с тревогой посмотрел на начинавшее розоветь небо. Флорентийская деревня медленно пробуждалась в лучах восходящего солнца. Где-то вдали залаяли собаки. Церковный колокол возвестил начало первой утренней мессы. Мужчина в камзоле и коротких штанах, со шпагой и кинжалом на поясе, вышел проверить, добираются ли стоящие на привязи лошади до листвы растущего вокруг кустарника. Убедившись, что лошади мирно пасутся, он вернулся в Пещеру. Там на подстилке из сухой листвы мирно спала девушка. Копна волос цвета червонного золота с запутавшимися в них травинками скрывала лицо спящей. С выражением нежности, неожиданно появившимся на суровом лице, мужчина несколько мгновений смотрел на свою юную спутницу, потом опустился на листву, с которой только что сам поднялся. Легким движением пальцев он погладил медно-золотую шевелюру, потом бережно отстранил волосы, скрывавшие прелестное лицо с тонкими и одновременно волевыми чертами. Спящая, видимо, находилась во власти сновидений: губы подрагивали, из груди вырвался протяжный вздох. – Мами, пора вставать, – прошептал мужчина на ухо спящей. Но та не желала ничего слышать. Упрямо, не размыкая век, она повернулась на другой бок и уже готова была снова погрузиться в мир грез. – Мами, это опасно. Нам следует немедленно ехать, – продолжал настаивать ласковый голос. Девушка решилась наконец приоткрыть свои зеленые, словно изумруд, глаза. – Гаэтан, у меня все болит… – запротестовала она. – Я понимаю, Мами… Восемьдесят лье за такое короткое время. Ни одно существо слабого пола не выдержало бы такой бешеной скачки, кроме моей Зефирины… Говоря все это, молодой человек касался губами полуоткрытых губ своей подруги. Лицо его побледнело. Желание обладать ею было таким пронзительным. Молодость, словно крепкое вино, ударила ему в голову. Он собрался встать, но она, ласково обхватив его шею руками, притянула к себе. Под плотной тканью ее камзола он ощутил молодую, упругую грудь, единственный предательский признак, скрытый мужским облачением. – Гаэтан, ведь мы теперь далеко, – прошептала Зефирина. – Они не смогут нас догнать… Неужели она не понимала нависшей над ними двойной опасности? Закрыв глаза, Зефирина протянула губы. Прильнувший к ней всем телом Гаэтан чувствовал, что она готова отдаться. У него, однако, закралось подозрение, что, помимо любви, ею движет желание совершить нечто такое, что стало бы непреодолимой преградой между нею и тем, от кого она бежала. В эту ночь, как и во все другие, искушение было так велико, что Гаэтан готов был поддаться ему прямо тут, на итальянской земле. Он боялся, что не совладает с собой и попадется в чувственную ловушку, которая может погубить их обоих. – Мами, мы сможем считать себя в безопасности только в Риме… Я безумно люблю вас, но нам следует сдерживать себя до тех пор, пока Его Святейшество не расторгнет ваш брак… «Заключенный по принуждению и неосуществленный в действительности», – подумал молодой человек, но не решился произнести этого вслух. Зефирина тяжко вздохнула. Из всех зол, которые ей пришлось пережить, самым мучительным, без сомнения, оказалось это вынужденное целомудрие, на которое ее обрекал Гаэтан во время коротких ночных привалов. С юных лет Зефирина де Багатель была влюблена в шевалье де Ронсара и поклялась любить его вечно. И в дар этой любви она готова была принести свое тело. Гаэтан резко встал. Из-под полуопущенных век Зефирина наблюдала, как ее жених, энергично расхаживая по пещере, свертывает одеяло и готовится в дорогу. Война с испанцами заставила его быстро возмужать. Теперь он казался ей выше ростом, шире в плечах и, главное, более уверенным в себе. Его серые глаза, такие добрые там, в Валь-де-Луар, теперь смотрели на Зефирину строго и решительно. – Соберитесь с силами, Мами, нам предстоит долгий путь. Говоря так, молодой человек протянул своей подруге кусок пирога, купленного накануне в какой-то убогой таверне в окрестностях Фьезоле. Но привередничать не приходилось. Зефирина с аппетитом съела свою долю, запила несколькими глотками воды, зачерпнутой прямо из Арно, и связала в пучок волосы, использовав для этого подвязку, случайно сохранившуюся после того, как ей пришлось сменить женское платье на костюм юного оруженосца. Наконец она спрятала свои золотые кудри под шапочкой с пером, и молодые люди вскочили на поджидавших их лошадей. Они объехали стороной Флоренцию, вотчину спесивых Медичи, и только издали увидели мраморную колокольню, устремленную в небо, уже сиявшее своей безупречной голубизной. Избегая больших дорог, кишевших в том, 1526-м году солдатами победоносной армии, надменными испанцами Карла V, беглецы пробирались селениями на юг, в сторону Сиены…* * *
Четверо суток Гаэтан и Зефирина скакали почти без передышки, удаляясь все дальше и дальше от Ломбардии и от дворца принца Фарнелло. Похищенная Гаэтаном в свадебную ночь, Зефирина весь путь совершала верхом. Несмотря на усталость, она не могла отказать себе в желании снова и снова говорить с женихом о тех бурных событиях, которыми оказалась полна ее молодая жизнь, особенно с того момента, как им пришлось расстаться[38]. Они вспомнили все, что случилось, начиная от победы французов при Мариньяне одиннадцать лет назад, принесшей честь и славу ее роду, до поражения под Павией, ввергнувшего Францию в поистине бедственное положение: король Франциск I стал пленником Карла V, цвет французского рыцарства был уничтожен, а отец Зефирины, Роже де Багатель, стал заложником итальянского князя Фульвио Фарнелло, прозванного одноглазым Леопардом, после того, как он в одном из сражений лишился глаза. Чтобы обрести свободу, Роже де Багателю пришлось выбирать между выкупом в двести тысяч золотых дукатов и выдачей единственной дочери замуж за победителя. Зефирина попыталась сделать все возможное, чтобы раздобыть эту громадную сумму. Однако Франция была разорена войной, и регентша Луиза Савойская, мать Франциска I, не могла ей помочь. Зефирина думала, что Гаэтан погиб в сражении под Павией, и знала, что совершенно невозможно рассчитывать на помощь ненавистной мачехи «этой Сан-Сальвадор», маркизы Гемины де Багатель, открыто участвовавшей в заговоре вместе с коннетаблем де Бурбоном, перешедшим на службу к Карлу V. К тому же мачеха так ненавидела ее, что только и мечтала о ее гибели. Вот почему девушка решила, выполняя свой дочерний долг, предложить себя в качестве выкупа. После нелегкого путешествия Зефирина наконец прибыла в роскошный дворец Фарнелло, расположенный в миланском предместье. Она была уверена, что ей придется иметь дело с безобразным, развратным и толстобрюхим чудовищем. Каково же было ее удивление, когда князь Фарнелло предстал перед Зефириной в облике невероятно обаятельного, а потому еще более опасного мужчины. Навстречу ей вышел смуглый, мужественный, властный, «Господин-я-так-хочу», как она его тут же мысленно прозвала, и Зефирина просто вынуждена была признать, что узкая черная повязка, пересекавшая лицо князя, делала его еще более привлекательным… В разговоре с Гаэтаном, однако, Зефирина решила не касаться таких мелочей. Странно, конечно, но из-за впечатления, произведенного на нее, юная особа, чьим образованием в монастыре весьма успешно занимался монах Франсуа Рабле, еще больше возненавидела Одноглазого Красавца, «купившего» ее за двести тысяч дукатов. Она бы еще могла простить бедному, искалеченному горемыке, но знатному сеньору, оказавшемуся победителем и путем безжалостного шантажа так унизившим Зефирину и ее плененного отца! Никогда! И тогда она решила, что заставит его дорого заплатить за одержанную им победу. За четыре дня до пышной свадьбы во дворце, на которой новобрачная в старинной фате и восхитительном, таинственном изумрудном колье – фамильной драгоценности дома Фарнелло, была так бледна, что гости поминутно опасались, не лишится ли она сознания, Зефирина ответила служившему церемонию бракосочетания прелату «да», тем самым лишив себя свободы. В ночь свадьбы Леопард пришел в покои жены, которая по такому случаю надела строгое черное платье с закрытым воротом. В этом одеянии Зефирина была похожа больше на скорбную вдову, чем на юную новобрачную. Полный обаяния, в прекрасном расположении духа, князь Фарнелло увлек Зефирину на благоухающую цветами террасу. Явно смущенный больше, чем ему бы хотелось, знатный итальянский синьор предложил молодой жене прекратить бесполезную вражду и не думать ни о чем, кроме любви. Ответ Зефирины прозвучал резко и оскорбительно. Любить! Да никогда в жизни. Леопард, вступив в сделку с врагами Франции, купил ее, вынудил вступить с ним в брак… Она питает к нему только ненависть, презрение и отвращение… Выслушав все это, князь Фарнелло, однако, совсем не обиделся и даже улыбнулся. Его властная и в то же время нежная, ласкающая рука коснулась рыжих кудрей Зефирины. – А кто в этом виноват, мадам? Вы сами меня соблазнили! Вы меня очаровали! Вы меня околдовали! «Я пропала», – успела подумать девушка, которую князь заключил в свои объятия. Неожиданно из зарослей окружавшего дворец сада выпрыгнула какая-то тень. Это был Гаэтан. Его спас от смерти под Павией слуга Зефирины, Бастьен. Не дав Леопарду опомниться, Гаэтан нанес ему сокрушительный удар по голове. Фарнелло, потеряв сознание, рухнул к ногам жены. Потрясенная тем, что вновь обрела своего жениха, Зефирина сбежала той же ночью из дворца своего мужа. «А что, если он умер?» – думала она, сердясь на себя за то, что испытывает угрызения совести. «Только бы князь, придя в сознание и возненавидев свою французскую жену, не вздумал снова отнять у нее свободу…» Мчась во весь опор по кипарисовой роще, Зефирина поделилась своим опасением с женихом. В ответ на это молодой человек лишь подстегнул коней. Будущее определялось одним-единственным словом: РАСТОРЖЕНИЕ!ЧАСТЬ ПЕРВАЯ РАНЕНАЯ САЛАМАНДРА
Глава I ЗАСТАВА В ПОПИЧИАНО
– Они больше не в силах двигаться! Флоренция осталась позади. Зефирина и Гаэтан удалились от нее на пять лье. И напрасно оба всадника пришпоривали несчастных коней. Измученные животные с появившейся на мордах кровавой пеной, отказывались продолжать путь. А между тем беглецам надо было во что бы то ни стало добраться до ближайшего городка, где бы они могли сменить лошадей. Бывший курьер короля Франции, Гаэтан не раз отвозил послания Его Святейшеству Клименту VII. Молодой человек знал едва ли не все заставы на пути из Парижа в Рим. – Мы подъезжаем к Попичиано, Мами, прикройте свое лицо, – посоветовал Гаэтан, который, несмотря на огромный риск, предпочел взять Зефирину с собой, нежели, подвергая не меньшей опасности, оставить одну в лесу. Они увидели идущую вниз и огибающую покрытый виноградниками холм, пыльную дорогу, по которой вереницей тянулись повозки, запряженные волами. Повозками правили тосканские крестьяне в плоских широкополых шляпах. Натянув шапочку с пером чуть ли не до самых бровей и подняв ворот камзола, Зефирина прищурила зеленые глаза, всматриваясь в открывшуюся перед ними картину. Всадники с пиками в руках, в сверкающих на солнце шлемах и доспехах пытались объехать запрудившие дорогу воловьи упряжки, чтобы первыми въехать в городок. – Черт бы побрал этих проклятых крестьян! – Англичане… – едва слышно прошептала Зефирина. Она сразу узнала и привычные для них грубые выкрики, и мундиры солдат Генриха VIII. – Да, Мами, а вон, ближе к перелеску, там наши… Французские всадники, легко узнаваемые по гордо реевшему белому флагу, украшенному геральдическими лилиями; пытались, не давая повода заподозрить себя в «комплексе побежденных», опередить британцев и первыми войти в городок. Швейцарские наемники в коротких, с напуском штанах, спешились у дома тосканского кузнеца, бывшего одновременно и золотых дел мастером. Немецкие ландскнехты из Нюрнбергского войскового соединения двигались вперед, тяжело ступая затянутыми в желтый сафьян ногами и приводя этим в ярость надменных испанских кавалеристов в золоченых шлемах, красующихся, как и их кони, в коротких черно-золотых доспехах. – Как печально видеть, что родину Данте, Петрарки и Боккаччо насилуют эти варвары! – прошептала Зефирина. Гаэтан не ответил. Образованность девушки его и восхищала, и расстраивала. Ему-то, королевскому курьеру, проводившему большую часть времени в дороге, некогда было обучаться чтению, и знания, которые обнаруживала его невеста, отдаляли ее. Пока, однако, Гаэтану везло. Беглецы уже въезжали в городок, и лучше всего было помолчать. Впрочем, в общей сутолоке молодые люди мало интересовали тосканцев и солдат-оккупантов. Всеобщее внимание привлекли своим появлением пятнадцать турецких солдат султана Сулеймана, в шелковых безрукавках, с кривыми мечами на поясе и огромными разноцветными тюрбанами на голове. Как и все остальные, турки встали в очередь к кузнецу. В конце концов конюшня маленькой заставы в Попичиано превратилась в настоящее вавилонское столпотворение. На всех языках можно было услышать один и тот же возглас: – Прощу вне очереди, служба французского короля… служба Его Святейшества… служба английского короля… регентши… коннетабля… князей… султана… А хозяин постоялого двора, точно владелец гарема, как по волшебству, выводил свежих лошадей в грязный двор, и цена на них непрерывно росла. «Кажется, в это смутное время, – размышляла Зефирина, – выгоду из всего извлекают только итальянцы». В обезумевшей Италии в разгар невероятного политического хаоса сместились все представления о подлинных человеческих ценностях. Никто уже не понимал, кто есть кто и кто чего стоит. Что касается Зефирины, то ей, несмотря на царящий вокруг беспорядок, стали открываться некоторые очевидные факты: прежде всего, Франция, дав разбить себя под Павией, проиграла войну! Франциск I оказался пленником императора Карла V! Коннетабль Карл Бурбонский предал свою страну! Английский король Генрих VIII (не принимавший прямого участия в войне) требовал почему-то свою долю выигрыша, то есть Францию! Но толстяк Генрих так разохотился, что тощий Карл V предпочел договориться со своим пленником, красавцем Франциском. Знатные итальянские сеньоры, чьи земли оказались оккупированы чужеземными войсками, без которых они явно могли бы обойтись, решили в один прекрасный день вступить в сговор с победителем, в другой – с побежденным, в полдень – с папой, а на следующий день – с толстяком Генрихом. Даже турков пригласили «на бал»! Короче, каждый надеялся вытащить каштаны из огня; Зефирина, во всяком случае, видела, как французские, английские, испанские, немецкие, тосканские, ломбардские, венецианские, турецкие, швейцарские и даже кардинальские юнцы, а то и простые капуцины из Ватикана без конца сновали то в город, то из города, высокомерно игнорируя друг друга на забитых до отказа и вконец разбитых дорогах. – Эй, жалкий сопляк, твоя кляча забрызгала мои сапоги, – проворчал какой-то бородатый великан в разодранном камзоле. Зефирина шагала за Гаэтаном, ведя под уздцы обеих лошадей, как настоящий оруженосец, и не обратила внимания на швейцарского наемника. Но раньше, чем она успела извиниться за свою неловкость, мужчина схватил ее за шиворот и одним взмахом руки швырнул так, что она очутилась в грязной вонючей луже. Гаэтан, шедший впереди, не видел разыгравшейся сцены. Громкий хохот за спиной заставил его обернуться. С некоторой опаской он заметил с десяток немецких и английских солдат, которые потешались над Зефириной, растянувшейся в луже. Ее лицо было забрызгано грязью. Бородатый гигант пытался стащить с нее штаны, приговаривая: – Я сейчас, маленький сопляк, пописаю на тебя немножко и смою с твоего лица грязь, к тому же это тебя научит вежливости… – Ну, что ты еще натворил? Простите моего оруженосца, солдат… Одним прыжком Гаэтан очутился между гигантом и лежащей в нелепой позе Зефириной. – Этого несчастного парнишку я взял из жалости… Он немой, – поспешил добавить молодой человек. Зная хорошо подвешенный язычок подруги, Гаэтан опасался, что она голосом обнаружит себя. – О-о… немой, – удивились солдаты. Происшедшее перестало их забавлять, и они начали понемногу расходиться. Только наемник упрямо не желал уходить. – Он немного слаб умишком, но вы не думайте, он и мухи не обидит. Говоря все это, Гаэтан помогал Зефирине подняться. – Э-э, что-то у твоего убогого взгляд слишком уж острый для дурачка, – пробормотал наемник. – Никогда не видал таких глаз… можно подумать, этот паршивец готов ими сжечь меня… – Ну, давай же, покажи, дурачок, как ты раскаиваешься, что нечаянно побеспокоил благородного швейцарского солдата. Извинись, как умеешь, – ворчал Гаэтан. Обрызганная с ног до головы грязью, Зефирина просто умирала от желания двинуть изо всех сил каблуком по ногам швейцарца. Но сдержалась, издав несколько неопределенных звуков… – О… а… а… Мыча что-то нечленораздельное, девушка кивала головой. При этом она опустила ресницы, чтобы скрыть выражение своих глаз. Морщась от запаха, который шел от девушки, швейцарец продолжал бормотать: – Не очень-то у него глупый вид для идиота… Наконец он отстал. Кто-то из его соотечественников пошутил: – Ну что, Гюнтер, решил не наказывать?.. Какой же ты добряк… Облегченно вздохнув, Гаэтан поволок Зефирину на постоялый двор, где рассчитывал найти свежих лошадей. Но если бы они оглянулись, то увидели бы турка, который отделился от группы солдат в тюрбанах и с интересом провожал взглядом обоих молодых людей. – Все в порядке? – прошептал Гаэтан. – О… о…, – подтвердила Зефирина, все еще не отделавшись от языка немых. Она заметила ведро с водой, кем-то оставленное на краю колодца. Пока Гаэтан искал конюха, который сможет привести свежих лошадей, Зефирина пыталась тряпкой смыть грязь с лица и рук. Что касается одежды, то тут требовалось куда больше труда и времени. Было бы, конечно, неплохо принять ароматизированную ванну. – От имени моего господина, всемогущего падишаха Белого и Черного морей, передай твоему господину, что Гарун Собад Рахмет предлагает ему сделку… тысячу золотых драхм или одного из моих черных рабов в обмен на тебя, маленький немой. Услышав гортанный голос, Зефирина обернулась. Нет, решительно это место оказалось несчастливым для нее. Шелковая безрукавка и огромный красный тюрбан украшали человека, в котором она сразу узнала турецкого эмиссара из Пиццигеттоне. Того самого, который хотел купить ее для гарема султана Сулеймана[39]. – Ты понял меня? Вот увидишь, тебе понравится, если поедешь с Гаруном Собадом Рахметом… Какие у тебя прекрасные зеленые глаза, малыш… Очень редкий цвет… На, возьми… Произнося все это по-восточному сладко журчащим голосом, он как будто не замечал ужасного запаха, который исходил от Зефирины, одной рукой нежно поглаживал ее по щеке, в то время как другой протягивал горсть леденцов, будто перед ним был щенок. Прижатая турком к колодцу, юная «немая» едва сдерживалась, чтобы не оттолкнуть его самым грубым образом. Несмотря на житейскую неопытность, Зефирина не раз слышала при дворе разговоры о мужчинах, которые не интересуются женщинами и ищут удовольствий в обществе мальчиков. – Я познакомился с хозяином постоялого двора, он дает нам лошадей. Это был только что вернувшийся Гаэтан. Турок вежливо поклонился ему. – Синьор, ты хозяин этого молодого немого. Я даю тебе за него тысячу золотых драхм… Гаэтан хотя и был удивлен таким предложением, но не подал виду. – Очень сожалею, но этот мальчик не продается. Гаэтан хотел уже взять Зефирину за руку, но турок принялся настаивать: – Великий султан и прославленный падишах больше всего обожает изумруды… Я могу увеличить цену до пяти тысяч золотых драхм, если ты позволишь мне увезти этого зеленоглазого малыша в столицу Оттоманской империи… На этот раз молодой человек ответил сухо: – Я вам уже ответил. Мальчик – мой племянник. Он не продается, поэтому не надо настаивать. Турок, похоже, не был обижен откровенным тоном Гаэтана. Он только коснулся двумя пальцами своего огромного красного тюрбана и поклонился: – Дядя может иметь власть отца… Сказав так, турецкий эмиссар вернулся к пестрой группе своих единоверцев, поджидавших его в другой части двора. Гаэтан и Зефирина с облегчением вздохнули. – Я не должен ни на минуту оставлять вас одну, Зефи, – прошептал он. Зефирина закрыла глаза. Князь Фарнелло говорил те же слова в Пиццигеттоне, после того, как она побывала у заключенного в испанскую тюрьму Франциска I. Зефирина прижала руку к груди. Откуда эта боль, неожиданно кольнувшая в сердце? И вот уже посреди терзавших ее головку беспокойных мыслей всплыл образ надменного, властного мужчины, пожалуй, слишком уверенного в себе, с неотразимым саркастическим взглядом, волнующее воспоминание о котором, как бы она этому ни противилась, настигло ее точно удар бича. – Вам плохо? – забеспокоился Гаэтан. Зефирина покачала головой. Ничего подобного, донна Зефира, как называл ее князь Фарнелло, чувствует себя прекрасно. А через несколько минут молодые люди, оседлав свежих лошадей, уже мчались по дороге, ведущей в Сиену. Было пасмурно. Свинцовые облака затянули все небо. В предгрозовом затишье слышен был лишь цокот копыт по каменистой дороге. Но вот загремели раскаты грома, засверкали молнии, и всадники стали торопить коней. Неожиданно посыпавшиеся с неба градины, величиной с перепелиное яйцо, ввергли животных в панический страх. Трудно даже представить, чем бы все кончилось, не будь Зефирина и Гаэтан прекрасными наездниками. Сквозь треск и грохот разбушевавшейся стихии Зефирина что-то крикнула. Гаэтан скорее догадался, чем расслышал: она предупреждала, что в такую погоду не следует находиться вблизи деревьев. Гаэтан указал пальцем на заброшенную пастушью хижину на вершине холма. Пришпорив коней, молодые люди устремились в этом направлении. В черном небе сверкнула и змеей проползла голубая молния. Зефирина вскрикнула и потеряла сознание.Глава II РИМИНИ И ЕГО БАНДА
«Я мертва…» – подумала Зефирина. Окруженная полной темнотой, она чувствовала себя так, будто плывет по воздуху. «Если только это не сон…» Но мало-помалу сознание и память стали возвращаться к ней. Она почувствовала, что все тело ее болит как после побоев. И в то же время ощущение раскачивания не проходило. Она лежала в абсолютном мраке, без движения, слабее, чем новорожденный, но уж глухой-то она не была. Сначала Зефирина услышала звук плещущей воды. – Так, значит, я жива… где-то в море… на корабле, и из-за этого со мной случилась морская болезнь…» Потом сквозь дремоту до ее слуха донеслись резковатые звуки какого-то струнного инструмента, и одновременно она уловила блаженный, ласкающий запах жаркого из дичи. В конце концов, она была голодна. Зефирина застонала. Но ни единый звук не вырвался из ее уст. Она попыталась перевернуться на бок, но не смогла. Ей хотелось приоткрыть веки, но они будто склеились. И тут Зефирина поняла. На глазах у нее была повязка, а сама она оказалась связанной, с кляпом во рту и в каком-то таинственном месте. И вовсе не из-за молнии она лишилась сознания, а просто лошади наткнулись на протянутую поперек дороги веревку. Они с Гаэтаном попали в настоящую ловушку. «Гаэтан… что с ним произошло? Уж не попала ли я в руки князя Фарнелло?» Но как бы ни была сильна обида, нанесенная женой Леопарду, она была уверена, что гордый ломбардец никогда не позволил бы себе так с ней обращаться. «А турок?.. Может, это он и его янычары похитили меня для гарема Сулеймана!» Последняя мысль заставила ее застонать, беззвучно, конечно. Девушка попробовала еще раз пошевелиться, но, кажется, чем больше она двигалась, тем сильнее в нее врезались веревки. Теперь до нее уже доносились голоса. Потом послышались спускающиеся по ступеням шаги. Зефирина замерла. Чья-то рука стала ощупывать ее грудь, потом настойчиво пошарила между ног. Обреченная на бессилие, она могла только двигать бедрами на жестком полу. Раздался взрыв хохота. – Никакого сомнения, шеф, это – женщина… – Ты уверен, Медная Задница? – Ну, шеф, я все-таки еще могу отличить девицу от парня… Мужчины продолжали обсуждать, но говорили на местном наречии, которое молодая женщина понимала с трудом. Еще чья-то рука принялась бесцеремонно ощупывать ее. Волна жара и стыда залила ее, особенно когда чужие пальцы упорно блуждали вокруг места, подтверждавшего, что она женщина. С пылающими под повязкой щеками она так хотела защитить себя, кусаться, выть, обругать этих мерзавцев, которые нанесли оскорбление ее женскому естеству. Чужие пальцы оставили ее. – Ты прав, Медная Задница. Я думаю, – это хорошая добыча. Вынь-ка у нее изо рта кляп, чтобы мы могли поговорить, – приказал голос шефа. Но как только Медная Задница выполнил просьбу, Зефирина разразилась потоком проклятий. Толстая пятерня тут же прикрыла ей рот. С каким-то дикарским наслаждением она вонзила зубы в навалившуюся на нее руку. Язык ощутил вкус чужой крови, и в тот же миг раздался истошный крик. – Ой-ой, да она бешеная! – Заткни ей снова рот, но сними с лица повязку, чтоб Я посмотрел на ее лицо… Задыхающаяся и обессиленная, Зефирина смогла, наконец, при мерцающем свете фонаря разглядеть своих мучителей и то место, в котором она находилась. Она увидела, что лежит на нарах и что, стало быть, находится в тюрьме. Потолок был таким низким, что оба стоящих около нее человека вынуждены были пригнуть голову. Несмотря на сильное потрясение, Зефирина внимательно разглядывала незнакомцев. – Зверюшка прокусила мне руку до самой кости, – проворчал Медная Задница. Он облизывал рану. Это был человек, что называется, грубо сколоченный, с гривой седеющих волос. На лице его были видны следы оспы. Второй мужчина, много моложе, высокий, очень худой, прятал волосы, как многие моряки, под завязанной узлом косынкой, поверх которой была надета шляпа из липового лыка. И тот, и другой были в одежде, которую носит простонародье: короткие штаны из грубошерстной ткани с открытой застежкой, жилет из бараньей кожи поверх красной блузы. Однако внимание Зефирины привлекла не столько одежда, сколько серьги с алмазами и усыпанные рубинами и сапфирами аксельбанты, которые главарь банды носил с подчеркнутой уверенностью. Он, кстати, поинтересовался: – Come stà signora? (Как вы себя чувствуете, синьора?) Вопрос прозвучал вежливо, но явно неуместно. – Он… рон…, – ответила Зефирина сквозь повязку. – Будете ли вы вести себя спокойно, если я вас развяжу? – спросил он приветливым тоном. – О… у… – Что ж, стоит вам только закричать, и вас снова свяжут! Зефирина опустила ресницы, желая показать, что подчиняется воле своего похитителя. Надо выиграть время, попробовать договориться. Зефирина прекрасно знала свои преимущества, когда имела возможность говорить. Обреченная на немоту, она была мертва. Медная Задница осторожно достал свой кинжал, чтобы разрезать платок, мешавший говорить, и веревки, связывавшие руки. Зефирина даже не моргнула, увидев приблизившееся к ее лицу лезвие. Она потерла те места, где были болезненные следы от веревок. Впрочем, ноги оставались связанными, а спина страшно ныла, но теперь она могла сесть, почти не морщась от боли. – Come stà? – повторил свой вопрос главарь. – Благодарю вас, прекрасно! – не скрывая иронии, ответила Зефирина. – Могу ли я вам что-нибудь предложить? – Принесите что-нибудь выпить, – попросила Зефирина так, будто находилась в харчевне. Повинуясь жесту главаря, Медная Задница вышел. Зефирина спросила: – Не скажете ли, синьор, кому я обязана столь приятным гостеприимством? – Какая вы смелая, – с восхищением произнес молодой человек. Говоря это, он взял табурет и собрался сесть рядом с пленницей. – Уж не собираетесь ли вы убить меня? – Знаете ли вы, кто я? – Понятия не имею, но не сомневаюсь, что вы представитесь. – Я – Римини! Он произнес это так, словно сообщая, что он – император Карл V. – Счастлива познакомиться, синьор Римини… Наступила пауза, во время которой синьор Римини внимательно разглядывал молодую женщину. – Вы нездешняя? – Разумеется. – Как ваше имя? Зефирина ответила без колебаний: – Элен… Элен Рабле… – Вы прибыли издалека? – Из Франции. – А, так вот почему… – Что именно? Римини наклонился к ней совсем близко: – Вот почему вы не задрожали, услышав мое имя, не взмолились о пощаде, как это делают все, и мужчины, и женщины… Я – бандит Римини, наводящий ужас на всю Тоскану, Лацио и Абруцци… Как актер, склонный к импровизации, он выдержал паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом. Зефирина, однако, ничуть не смутившись, спросила с некоторым разочарованием: – А Пьемонт? А Ломбардия? А Калабрия? Разве на них вы не наводите ужас? Черные брови Римини поднялись в изумлении. «Сейчас он сделает из меня отбивную», – успела подумать Зефирина. Но, вопреки ожиданию, Римини громко расхохотался. В это время вернулся Медная Задница. Потрясенный увиденной сценой, он выронил из рук стакан с вином, который принес для пленницы. – Несчастный идиот, ступай и снова принеси ей вина, – проворчал Римини. – Дорогая… синьора Элена, поскольку вас ведь так зовут, я полагаю, вы сможете заинтересовать меня, вот только разделаюсь с вашим спутником… Несмотря на угрозу, Зефирина вздохнула с облегчением. Теперь она знала, что Гаэтан жив. Ум ее энергично заработал. «Коль скоро этот бандит оказался чувствителен к ее обаянию, надо воспользоваться этим и попробовать увидеться с Гаэтаном». – Мессир Римини, – вежливо обратилась к нему Зефирина, – я хочу попросить вас об одной милости… При этих словах лоб бандита собрался в складки, ноздри бледного, точно мраморного носа расширились, а тонкие губы растянулись в усмешке. – Представьте себе, я, на свою беду, свалилась в грязную лужу и очень хотела бы принять ванну… ароматизированную! – добавила она с обольстительной улыбкой. Не говоря ни слова, Римини недоверчиво разглядывал несколько мгновений молодую женщину, потом отвернулся и хлопнул в ладоши. При виде этого безобидного жеста у Зефирины мурашки пошли по коже. Дело в том, что у бандита Римини одна рука была нормальная, а другая – короткая, не больше, чем у двухлетнего ребенка…* * *
– Вы меня удивляете, мессир… Пирр был первым из великих греческих скептиков, чьим учеником вы вполне могли бы быть… С улыбкой на губах и с холодком в позвоночнике Зефирина без умолку щебетала. Облаченная в полинялую фланелевую юбку и блузу из грубой ткани, принудительно «пожертвованные» женами Римини, Зефирина вот уже два часа ужинала, беседуя, возражая, что-то доказывая бандиту-философу и одновременно обсасывая сочные косточки жареного кабана. Свои густые рыжие волосы она заплела в косу и уложила вокруг головы. Одежда и прическа делали ее похожей на тосканскую крестьянку. – Извините, синьора Элена, – возразил Римини, – я слышал о Пирре, которого называли также Неоптолемом… Он был, как вы, без сомнения, знаете, сыном Ахилла и Диадамии… – Да, верно, он взял Трою и женился на своей пленнице Андромахе, вдове Гектора! – поддержала Зефирина. Глаза Римини как-то странно сузились. Он был безусловно умен и обладал эрудицией, которая поразила Зефирину, но она чувствовала, что за внешней цивилизованностью скрывается редкостная жестокость. Зефирину не покидало ощущение, что он играет с ней, как кошка с мышью, и нарочно растягивает ужин в ожидании какого-то события. Она вышла из ставшего для нее тюрьмой помещения, чтобы принять горячую ванну, которую для нее приготовили в огромном ушате. Не скрывая дурного настроения, ее ждали две жены Римини – одна белая, а другая чернокожая. Зефирина наконец поняла, где располагается логово банды. Подземное озеро, служившее укрытием для бандитов, было недосягаемым для полицейских ищеек из Флоренции, которые безуспешно пытались их выследить. Быть может, то был кратер давно потухшего вулкана со скопившейся в нем дождевой водой или глубокий грот, заканчивающийся естественным озером. На многочисленных лодчонках, обшарпанных барках с бамбуковым навесом и даже на самодельных плотах, как попало, жило разношерстное племя мужчин, женщин и детей с одинаково бледными лицами, говорившими о том, что им нечасто приходится видеть дневной свет. Но время шло, и Зефирина все больше чувствовала себя беспомощной перед Римини, во всяком случае, она не знала, что придумать, чтобы вместе с Гаэтаном вырваться из западни. Она заметила, что во время этого странного ужина, проходившего на палубе «адмиральского корабля», то есть самого большого и красивого судна в армаде Римини, Медная Задница несколько раз поднимался на борт и что-то шептал на ухо своему хозяину. Появившийся на берегу крестьянин, которого, судя по одежде, вытащили буквально из постели, должен был принести причитающуюся с него дань. Но так как он отказывался платить, два головореза уволокли его, получив бесстрастно отданный приказ Римини: – Che sia ammazzato[40]! Обреченный тут же исчез за скалами. Через несколько мгновений оттуда послышался такой вопль, что, кажется, и мертвый бы содрогнулся. Зефирина почувствовала на себе взгляд Римини. Он явно искал на ее лице признаки страха. Она же силилась улыбнуться и делала вид, что продолжает есть с аппетитом. Неожиданно глаза девушки прищурились. Она была почти уверена, что всего несколько минут назад «убитый» крестьянин снова явился молить Римини не отнимать у него последние деньги. Что за дьявольская игра тут происходит? Уж не запугать ли ее хотят? И опять ей показалось, что Римини подчиняется какому-то более важному лицу. На освещенном факелами берегу подземного озера люди Римини устроили кабаньи бега. Хрюканье животных и возбужденные крики «владельцев» вызвали у Зефирины отвращение. Недоразвитой рукой Римини поднял наполненный вином серебряный кубок: – Не желаете ли, синьора Элена, посмотреть поближе это истинно флорентийское развлечение? Он как-то подчеркнуто сделал ударение на ее имени. Зефирина кусала губы. Несмотря на отвращение, которое у нее вызывали черные свиньи, это, быть может, единственный шанс узнать, где бандиты держат Гаэтана. – С удовольствием, мессир Римини, – ответила она. Она сделала вид, что допила свой кубок, содержимое которого на всякий случай вылила в озеро, воспользовавшись моментом, когда Римини отвлекся. По жесту бандита обе его жены, все так же агрессивно недружелюбные, снова наполнили кубки. Одна из жен, высокая мулатка, особенно пугала Зефирину. Каждое новое блюдо, поданное на стол, вызывало подозрение – уж не подсыпала ли ей отравы ревнивая «супруга» Римини. Однако ужин продолжался, а Зефирина все еще не чувствовала никаких болей в желудке. Но вот Римини поднялся из-за стола, девушка последовала за ним, и они спустились на берег. Взяв Зефирину под руку, бандит повел ее на противоположную сторону озера. Из огромной пещеры вглубь расходились длинные каменные коридоры. Было ясно, что у входа в каждый такой коридор наверняка стоит бандит с кинжалом на поясе и мушкетом в руке. Единственную, хотя и очень слабую надежду вызывала походка Римини. Ведя долгие философские разговоры, главарь банды не забывал о вине и пил слишком много. Он шатался, когда они приблизились к группе игроков, ставивших на животных. – Десять цехинов на того большого самца! – крикнул Римини, швырнув кошелек. – Сорок паоли на самку! – Два экю за Бертолино. – Восемь байокко за ту… – Один байокко за эту… – Двадцать четыре яйца за себя… – Бутылку вина… – Ставлю мои серьги… Любители этих странных гонок, разгорячившись, все увеличивали ставки. В дело пошли золото, съестное, драгоценности, и все это складывалось в кучу перед огромным существом, лоснящимся от жира и увешанным драгоценными камнями. – Еще двадцать золотых цехинов за свадебную ночь! – объявил Римини и посмотрел на Зефирину своими пронзительными глазами. От этих слов она похолодела. Но, несмотря на громовой хохот, которым разразилась грубая толпа, Зефирина попыталась сохранить самообладание. Мужчины, сидевшие верхом на спинах свиней, чтобы до последнего момента удерживать их на месте, стали выстраивать животных в ряд перед барьером. Запах мочи и помета доводил Зефирину до тошноты. Она бросила быстрый взгляд вокруг себя. Все были так поглощены предстоящими бегами, что никто из банды – ни мужчины, ни женщины, ни дети – не обращали на нее ни малейшего внимания. Вот подняли барьер, гонки начались, и присутствующие наперебой стали кричать, подбадривая каждый своего «конкурента». Подгоняемые ударами бича, свиньи начали бег с яростным хрюканьем и визгом. Они должны были пробежать один круг вокруг озера. От зрителей животные были отделены специально построенным ограждением. Казалось, другого, более удачного случая у нее не будет! С сильно бьющимся сердцем Зефирина сделала осторожный шаг назад, потом второй, третий. Она чуть было не вскрикнула, наткнувшись на чью-то грудь. Это оказалась мулатка. Но, вопреки ожиданию, чернокожая жена Римини приложила палец к пухлым губам. Схватив беглянку за руку, она увлекла ее за скалистый выступ. – Я помогу тебе убежать… Ведь ты этого хочешь? Зефирина кивнула и спросила: – А мой спутник? – Я знаю, где он находится… Зефирина была готова ко всему, но только не к встрече с такой союзницей. – Почему ты хочешь мне помочь? – прошептала она, опасаясь предательства. Мулатка пожала плечами: – Я люблю этого красивого мерзавца; мне и второй его жене, белой, не хотелось бы, чтоб у него появилась третья жена. Если я убью тебя, ему это не понравится, поэтому лучше будет, если ты убежишь… Зефирина не могла не согласиться с мулаткой. Она вдруг почувствовала к ней необыкновенную симпатию. Мулатка сделала знак следовать за ней. Казалось, она знает все ходы и выходы из пещеры наизусть. Во мраке она двигалась, словно кошка. Иногда Зефирине казалось, что она потеряла свою проводницу, но вслед за этим цепкая рука мулатки хватала ее и помогала пройти по ступеням, выбитым в скале или перебраться через какую-то внутреннюю перегородку. Ловко обходя охрану, расставленную Римини, мулатка привела Зефирину во второй грот, который был значительно меньше первого, а посреди грота вместо озера протекала подземная река. У реки, сидя на сером песке, три бандита из банды Римини играли «в пальцы», игру, которой много веков назад, Зефирина это знала, страстно увлекались римские легионеры. Игра состояла в том, что один бандит другому показывал правую руку, на которой загибал один или несколько пальцев. При этом он выкрикивал число оставшихся незагнутыми пальцев. Другой игрок должен был в тот же миг вытянуть свою правую руку с тем же количеством загнутых пальцев. При каждой ошибке и даже колебании засчитывался проигрыш. Третий присутствующий выступал в роли судьи. Несмотря на несложные правила игры, темп ее был таким стремительным и требовал такого внимания, что все трое без конца спорили по поводу результатов. Споры были шумными, яростными, и все время казалось, что игроки вот-вот вцепятся друг другу в глотку. Но Зефирина понимала, что проклятья и угрозы являются частью игры. И ничего удивительного не было в том, что увлеченные игрой бандиты не заметили, как за их спинами тенью проскользнули два женских силуэта. – Гаэтан… – прошептала Зефирина. Да, в глубине грота, за большим камнем, невидимый для увлеченных игрой, лежал молодой мужчина. Голова его была обмотана окровавленной повязкой, свидетельствовавшей, что он сдался не без боя. Услышав свое имя, он открыл глаза. – Зефи… – еле слышно произнес он. Он не мог поверить своим глазам при виде склонившегося над ним золотого видения. – Эй, влюбленные, поторапливайтесь… Резко прервав их нежности, мулатка выхватила откуда-то из своих юбок кинжал и одним движением руки разрезала веревки, которыми Гаэтан был привязан к врытому в песок колу. С помощью обеих женщин молодой человек поднялся, слегка пошатываясь. Они знаками дали ему понять, что надо опустить голову, чтобы охрана его не заметила. – Вы в состоянии идти? – шепотом спросила Зефирина. – С вами, Мами, я готов хоть в ад… «Мы уже там!» – подумала Зефирина. Молодой человек сопроводил свои слова мимолетным поцелуем золотых волос невесты, потом, крепко обняв ее за талию, последовал за мулаткой в темный тоннель, который заканчивался тупиком и каким-то неровным, ведущим вверх, углублением в скале. – Это настоящий природный дымоход, очень узкий, но снаружи никем не охраняемый. Он ведет прямо на поляну, где одни только овцы пасутся. Давайте, лезьте. Это нелегко, но у вас получится. Да хранит вас Бог… – добавила мулатка, в то время, как молодые люди, кивнув в знак благодарности, уже устремились в указанный проход. Чернокожая женщина сказала правду. По мере того как они лезли вверх, подъем становился все труднее. У них появилось пугающее ощущение, что скалистые стены вокруг них все сжимаются и вот-вот превратят в своих пленников. Ползя, скользя, цепляясь, хватаясь друг за друга израненными до крови руками, задыхаясь и теряя силы, молодые люди с трудом поднимались вверх. Чуть не задыхаясь от недостатка воздуха, они уже почти совсем потеряли надежду, когда Гаэтан заметил над головой светящийся круг. – Смелее, Мами, солнце… Отверстие, ведущее на свободу, находилось на расстоянии каких-нибудь двадцати футов. Остаток пути они проделали с энергией отчаяния. – Хватайтесь за мою руку, Мами… я сейчас вытащу вас оттуда… Гаэтан вылез наверх первым. Уперевшись спиной и ногами в стенки каменного колодца и вися над пустотой, Зефирина протянула пальцы с ободранными о камни ногтями. И вдруг застыла от неожиданности. Рука в кружевной пене, опустившаяся ей на помощь, не принадлежала Гаэтану. Зефирина отшатнулась и начала соскальзывать в смертельную бездну, но стальные пальцы успели схватить ее за руку, и тут же она услышала голос, полный иронии: – Я в отчаянии, мадам, оттого что приходится вас разочаровать…Глава III ХОЛОДНАЯ ВСТРЕЧА
– Вы! Зефирина с ужасом узнала человека, с которым, как ей верилось, рассталась навсегда. – Это вас удивляет, мадам? Князь Фарнелло с иронией приветствовал свою жену. Перечеркнутое узкой черной повязкой, его ледяное лицо не предвещало ничего хорошего. Как бы ни было велико самообладание Зефирины, но, измученная тяжелым подъемом, она не смогла не содрогнуться от мысли, что, ускользнув от бандита Римини, попала в руки собственного мужа. На мгновение взгляды супругов встретились. Зеленые глаза Зефирины метали молнии. Карий глаз Леопарда мерцал зловещим светом, не предвещавшим беглянке ничего хорошего. Да, это был все тот же ненавистный ей человек, потерявший в сражении левый глаз, великолепный наездник, которому не было еще и тридцати и женой которого сочла бы за счастье стать любая женщина. Но Зефирина не была обычным созданием. Тот факт, что Леопард – князь с царственной осанкой, широкими плечами, мощной шеей, горделиво выступающей из ворота тончайшей рубашки, – ничего не меняло в сложившейся ситуации. Она ненавидела этого человека, который взял ее как выкуп, и она крикнула бы ему это в лицо в присутствии кого угодно. – Сила, вот ваше единственное достояние, месье! С этими полными презрения словами Зефирина отвернулась. К сожалению, она не могла предстать перед мужем в том виде, в каком бы ей хотелось. Лицо, ноги, руки, юбка были изодраны о камни колодца, по которому она выбиралась на свободу, рыжие кудри растрепались, нос рассекла большая ссадина. Зефирина чувствовала себя совершенно без сил, глаза не выдерживали солнечного света, и вообще она потеряла представление о времени после долгого пребывания под землей. Почувствовав себя очень плохо, Зефирина вдруг зашаталась и едва не свалилась снова в бездну, из которой выбралась. Крепкая рука князя Фарнелло вовремя ее подхватила. Но это состояние длилось лишь несколько мгновений. Может быть, на него подействовало оскорбление Зефирины? Князь, стоявший неподвижно, был невероятно бледен. Зефирина высвободилась из его рук, будто прикосновение мужа обжигало ее. Князь сделал шаг в сторону, и Зефирина увидела перед собой всю поляну. Она оглянулась по сторонам и в отчаянии закричала: – Гаэтан… Около двух десятков всадников, одетых в красно-черно-золотые цвета Леопарда, плотно окружали молодого человека. Очень бледный, со скрещенными на груди руками, с горестно опущенной головой, Гаэтан не мог пошевелиться – две длинных пики были приставлены к его горлу. – Гаэтан… – повторила Зефирина. Она хотела побежать к жениху, но Паоло и Пикколо, оруженосцы князя, тут же удержали ее. – Извините, принчипесса! Паоло опустил тяжелые руки на плечи Зефирины. То ли этот жест, то ли обращение «княгиня» подействовало на девушку, но она задрожала от негодования: – Прочь руки, грубиян! Не меньше, чем его хозяина, она ненавидела этого Паоло, чье суровое лицо, лысеющий лоб, хитрые глаза, сразу вызвали у нее отвращение. – Пусть ваша милость простит меня… Это произнес Пикколо, не постеснявшийся, однако, крепко обхватить ее руками. Клокочущая от ярости, но бессильная, Зефирина увидела, как Леопард размашистым шагом направляется к Гаэтану. С пояса князя свисал дамасский клинок. «Если только я пошевелюсь, если позову… он убьет Гаэтана…» – подумала Зефирина. По знаку Фульвио, всадники расступились, а два приставленных к Гаэтану убийцы отвели пики. Князь всмотрелся в лицо юноши, который по возрасту мог бы быть его младшим братом. Уловил ли он в серых глазах Гаэтана отблеск страшной битвы под Павией, ужас той бойни, ужас пролитой крови? Не устал ли Фульвио Фарнелло сражаться или все еще готов хладнокровно лишить жизни человека, который самым бессовестным образом выставил на посмешище его, высокородного и могущественного синьора, обладателя княжеского герба? Гаэтан де Ронсар понимал, какая ужасная борьба происходит в душе Леопарда. – Имея власть над жизнью и смертью тех, кто находится в моих владениях, я должен был бы перед Богом и людьми задушить вас собственными руками, месье… При этих словах, сказанных князем очень медленно, Гаэтан гордо вскинул голову. – Я человек чести, монсеньор, и никогда об этом не забываю. Сразимся в честном бою, и вам не придется запятнать свою совесть преступлением… – Нет, месье… Фарнелло не бьются из-за столь презренного существа… На Зефирину оскорбление подействовало, точно удар плети. – Но, монсеньор, – попробовал протестовать Гаэтан, – перед Богом эта женщина не принадлежит вам… Зефирина закрыла глаза. Она не сомневалась, что еще секунда, и кровь Гаэтана окропит траву на лугу. Однако князь, похоже, даже не слышал слов Гаэтана. Знатный синьор, казалось, погрузился в размышления. В какой-то момент взор его обратился в небесную синь, где, высматривая добычу, кружили громадные ястребы; затем князь снова взглянул на Гаэтана и отчетливо произнес: – Четверо моих людей сопроводят вас во Францию, месье. Одно лишь слово, малейшая попытка к бегству, и они убьют вас как собаку… Если вы попытаетесь вновь появиться в моих владениях, клянусь Юпитером, жизнь ваша не продлится и минуты. Так что будьте довольны тем, что вам сохранена жизнь. – Позвольте мне хотя бы проститься с ней, – взмолился Гаэтан. Ответ был неумолим, как нож гильотины: – Нет. Зефирина, пригвожденная к месту двумя оруженосцами князя, простонала: – Гаэтан… Гаэтан… Словно не слыша стонов молодой женщины, Леопард сделал знак рукой. Четверо его всадников окружили шевалье де Ронсара. Один из головорезов спешился, уступая свою лошадь пленнику, а второй, для пущей предосторожности, связал руки молодого человека. Долгий прощальный взгляд любимой – вот и все, что осталось Зефирине от ее любви. Она сказала прерывающимся голосом: – Вы не имеете права… вы не имеете права… Это был конец. Четверо всадников и их пленник покинули поляну, перейдя в галоп. Мирно пасущиеся на лугу овцы расступились, пропуская их, и вскоре стук копыт на дороге совершенно затих. – Я вас ненавижу… я вас презираю… Лучше убейте меня. С лицом, залитым слезами, Зефирина осыпала оскорблениями своего мужа. Когда его терпение явно истощилось, князь отдал краткий приказ: – Avanti[41]… И, словно в хорошо поставленном театральном представлении, на поляну въехали носилки, запряженные мулами в кокетливой сбруе и с красным плюмажем. – Я отказываюсь садиться в носилки… Зефирина топнула ногой. Она даже попробовала укусить обоих несчастных оруженосцев. Неожиданно раздавшееся из носилок карканье, прервало ее на полуслове: – Salut, Sardine… Salut, Saucisse[42]! То был Гро Леон, прирученная говорящая галка, последний дар Мишеля Нострадамуса перед тем, как Зефирине пришлось покинуть Салон-де-Прованс. «Нострадамус… добрый мой друг… Знаете ли вы, до какой крайности я доведена?..» – горько сетовала девушка в то время, как Паоло и Пикколо подталкивали ее в носилки, раздвинув малиновые занавески. «Не пройдет и трех недель, Зефирина… на вашей голове засияет корона… Минет пять недель, на рассвете Саламандра, Леопард на Марсовом поле, чтобы сразиться… Леопард усталый в небо свой взор устремляет… Рядом с солнцем видит орла, забавляющегося со змеей… Три планеты воздействуют на вашу судьбу… Венера, Марс и Меркурий… Любовь, война, путешествия…» Так говорил ей Нострадамус в последнюю ночь в Салон-де-Прованс[43]. Восседающий на красных бархатных подушках Гро Леон, шумно размахивал крыльями от радости, что нашел свою любимую хозяйку. – Sauver Sardine! Sauver Saucisse![44] Птица без умолку болтала, стараясь дать понять, что именно она помогла отыскать Зефирину. Приятно удивленные тем, что девушка как-то сразу успокоилась, Паоло и Пикколо расслабили свои объятия. И в тот же миг, воспользовавшись их невниманием, Зефирина выскользнула из их рук. Она с легкостью выскочила из носилок в надежде снова скрыться в отверстии, через которое они с Гаэтаном выбрались из подземелья. Раньше чем Леопард и его люди оправились от потрясения, Зефирина обернулась: – Если вы подойдете ко мне, князь Фарнелло, если только один из ваших приспешников посмеет ко мне прикоснуться, клянусь жизнью, я брошусь в эту бездну! Князь остановился точно вкопанный. Стоявшие вокруг него солдаты, казалось, тоже окаменели и лишь таращили глаза, не смея пошевелиться. Наконец князь решился сделать шаг. – Стойте, или я прыгаю, – крикнула девушка каким-то пронзительным голосом. – Да это же Божье благословение! Уж лучше быть вдовцом, чем мужчиной, женатым на ведьме, не имеющей ни стыда, ни совести! Князь был уже в нескольких шагах от Зефирины. Она быстро перекрестилась. – Прощайте, месье, вы сами этого хотели… С этими словами Зефирина кинулась в пустоту раньше, чем Леопард успел сделать движение и удержать ее.Глава IV СТАРЫЙ МОСТ
Любое человеческое существо, на какой бы ступени развития оно ни находилось, рано или поздно оказывается чувствительным к насмешкам. Есть, конечно, люди, которых не так-то легко пронять, но Зефирина была слишком восприимчива, чтобы не почувствовать себя до глубины души униженной тем глупым положением, в которое попала. Рассчитывая разбиться насмерть, упав в каменный мешок с высоты ста пятидесяти футов, она на самом деле упала на головы Римини и Медной Задницы. – Черт подери! Вот это да!.. – вырвалось у Медной Задницы. Привыкшие к выражениям куда более крепким, бандиты один за другим выскочили из отверстия на поляну, в то время как люди Леопарда, возможно поощряемые хозяином, громко расхохотались. Для молодой женщины это было слишком большим испытанием. Терзаемая одновременно и стыдом, и слабостью, Зефирина предпочла выбраться из нестерпимого для нее положения тем единственным способом, который еще оставался у человека ее пола. Она упала на мягкую траву, «потеряв сознание». Пока по знаку князя двое его верных слуг относили Зефирину в носилки, ей удалось расслышать совершенно невероятные слова, сказанные голосом Римини: – Прости нас, Леопард… – Ты за все прощен, Римини, – спокойно ответил князь Фарнелло. – Ей удалось сбежать от нас… бедняга Медная Задница и все наши люди в пещере предпочли бы иметь дело с сотней полицейских, чем с одной рыжей дьяволицей, вроде этой… Поосторожнее с ней, монсеньор… – Благодарю за совет, Римини… мы сделаем… Зефирина не расслышала конца фразы. Полные решимости, смешанной с подозрительностью, Паоло и Пикколо бережно уложили ее на подушки в носилках, но на сей раз прочно привязали. Гро Леон печально причитал: – Snupide Saucisse… Snupide Sardine![45] Галка явно советовала прислушаться к голосу разума. Зефирина и сама знала, что оказалась не на высоте положения. Носилки трясло. Колокольчики мулов больно отзывались в измученной голове, где и без того теснились мысли, одна безумнее другой… Итак, она потеряла Гаэтана, своего жениха, свою любовь, и снова стала жертвой ужасного супружеского произвола. Незачем самообольщаться. Под цивилизованным обличьем Леопарда скрывается грубое животное, ломбардский властелин, привыкший к беспрекословному послушанию всей этой толпы рабов, блеющих от восхищения. «Монсеньор приказал… Князь желает… Князь Фарнелло требует… Отныне я в полной его власти. Он может сделать со мной все что захочет… бросить в тюрьму, поколотить меня или… хуже того, сделать меня своей игрушкой. Я ведь его жена… его жена…» – думала с отчаянием Зефирина. Она была одна в целом мире, во власти этого деспота, который, конечно, не откажется жестоко отомстить ей за оскорбление. Сознавая весь ужас своего положения, шестнадцатилетняя женщина, привязанная к резному столбцу носилок, точно преступница, залилась слезами, уткнувшись в бархатные подушки раскачивающихся в пути носилок. Удрученная своим несчастьем, она потеряла представление о времени. Плакала ли она всего несколько минут или долгие часы? Похоже, второе предположение выглядело более близким к истине, потому что Зефирина очень смутно помнила, как повозка несколько раз останавливалась в пути. Наверное, меняли мулов, а потом снова – в путь. Может быть, она кричала, отбивалась, звала на помощь… Но кто мог помочь ей? Кто осмелился бы бросить вызов охране, сопровождающей князя Фарнелло? Вдруг Гро Леон уселся прямо на голову своей хозяйке: – Souris, Sardine… Улыбнись, Сардинка… Опечаленная столь безутешным горем, говорящая птица раздвинула клювом малиновые шторки повозки. Сквозь открывшуюся узкую щель Зефирина увидела, что носилки въезжают в предместье какого-то города. Поворачивая во все стороны голову, она искала глазами мужа. Но, кроме Паоло, Пикколо и еще дюжины лакеев, одетых в ливреи, цвета которых соответствовали княжескому дому, она никого не увидела: по-видимому, Леопард не счел нужным сопровождать собственную жену! Не представляя, куда ее везут, Зефирина с любопытством разглядывала пеструю уличную толпу. – Тысяча чертей! – А, чтоб тебя разорвало! – Черт побери! На улочках города звучали привычные для тосканского простонародья ругательства и проклятья. Люди обзывали друг друга такими словами, как «мерзавец», «скотина», «грязная тварь», ничуть при этом не обижаясь. «Во Франции, – тут же отметила про себя Зефирина, отвлекшись от своих дум, – мужчина, которого оскорбили, давно бы уже вынул шпагу из ножен…» Здесь же все было пронизано солнцем и весельем здорового ребенка. В этой толпе городских ремесленников мужчины носили камзолы, присборенные по подолу, и длинные штаны, а женщины – длинные юбки в крупную складку и грубошерстные кофты с баской. Волосы они прятали под полотняными чепцами со сборкой на затылке. Всадники, сопровождавшие Зефирину, с большим трудом прокладывали дорогу сквозь всю эту толчею. Если бы молодая женщина не была привязана, она наверняка выпала бы из носилок. Ей в голову пришла мысль закричать, чтобы привлечь к себе внимание, однако в следующее мгновение инстинкт подсказал ей проявить выдержку. Но этот лицемер Паоло, видно, забеспокоился, потому что сунул свою пронырливую голову за малиновые шторки и спросил с неизменной для него вежливостью: – Все в порядке, principessa[46]? Ответом ему был красноречивый взгляд Зефирины. – Мы прибываем в Фиренце… – сообщил он услужливо, прежде чем его голова исчезла. Фиренце… Флоренция… «Так, значит, мы продвигаемся у северу…» В иных обстоятельствах, возможно, Зефирине с ее образованием доставило бы огромное удовольствие открыть для себя город, чья артистическая, торговая и политическая слава докатилась до нее в Валь-де-Луар раньше, чем случилась эта ужасная война 1525 года. Но сейчас ничто из увиденного ею сквозь раздвинутые занавески не вызывало восторга. Множество гудящего люда сновало по улицам, толпилось перед лавками и деревянными домишками, этими типичными крестьянскими жилищами городских предместий. На верхний этаж домов жильцы поднимались по наружной лестнице и прямо с улицы попадали в комнату, служившую спальней для обычно многочисленной семьи. Во многих окнах можно было видеть сушившееся белье, ноздри Зефирины терзало зловоние грязных улиц, вот только хорошее настроение флорентийцев ей почему-то не передалось. Мало-помалу навстречу стали попадаться здания в несколько этажей, а улицы заметно расширились. Зефирина и ее свита въехали из густо населенных предместий в кварталы, где жили более зажиточные горожане. Купцы, встречавшиеся теперь Зефирине в характерных головных уборах, знаменитых флорентийских шляпах с маленькими отогнутыми полями и эмблемами купеческой гильдии, предпочитали строить дома не из дерева, а из камня. Дома эти были богато украшены, не похожи друг на друга. В центре города земельные участки становились все меньше, а число этажей достигало пяти и даже шести. Зефирине никогда не приходилось видеть такого «леса башен». Она изумлялась их высоте и никак не могла понять, почему все эти сооружения стоят и не падают. – Черт побери, пропустите дона Антонио… – Эй, вы там! Дорогу его преподобию… – Проклятье! Да отойдете ли вы с дороги! Дайте проехать герцогине… – Дьявольщина!.. – О, боги!.. Крики, оскорбления, брань, возгласы непрестанно неслись над всей этой толчеей портшезов и носилок, кативших на колесах, которые Зефирина видела впервые в своей жизни. Снабженные колесами и оглоблями, эти носилки представляли собой нечто вроде высокого прямоугольного ящика. Обычно их тащили, толкали или волокли два или четыре лакея, по ливреям которых можно было судить о важности персоны, сидевшей в носилках. Временами какое-нибудь колесо увязало в грязи, проклятья усиливались. Но сидевшие в носилках знатные дамы в роскошных платьях, расшитых золотом или серебром, и в накинутых на голову покрывалах, украшенных жемчугом и другими драгоценными камнями, оставались при этом невозмутимы. Юная провинциалка была ослеплена неслыханными богатствами, которые ей удавалось видеть сквозь щель в занавесках. На ее наглухо закрытые носилки никто не обращал внимания. На улице встречалось немало и других упряжек с задернутыми шторками, владельцы которых желали сохранить инкогнито. Помимо носилок, можно было встретить множество повозок, предшественниц будущих карет, и всадников. Зефирина поняла, что она ничего еще в жизни не видела. Наконец, сопровождавший ее носилки эскорт въехал в богатый квартал, где мраморные палаццо чередовались с постройками, находившимися еще в лесах. Было видно, что строительная лихорадка охватила всю флорентийскую знать. Дочь родовитого дворянина, Зефирина, проезжая, узнавала герб семейства Медичи на фасаде дворца, построенного лет восемьдесят назад, гербы на фасадах дворцов Строцци, Питти, Бардини и Моцци. Дворцы украшали увитые цветами лоджии, колонны из розового с голубыми и зелеными прожилками мрамора, скульптуры. Несмотря на усталость и тревогу по поводу участи, которую готовит ей муж, Зефирина не могла не отметить в этих великолепных сооружениях характерных флорентийских особенностей: иронии, тонкого художественного чутья, изысканности, ума и любви к зрелищам. Будь обстоятельства другими, Зефирина не устала бы всем этим восхищаться, но связывавшие ее веревки, больно впивавшиеся в щиколотки и запястья, без конца напоминали, что она всего лишь пленница. Первые факелы зажглись, когда носилки Зефирины проезжали по мосту, перекинутому через Арно. Вдоль всего моста, по обе его стороны, расположились лавки ювелиров. Какой-то нищий, сидя на камне, приставал к прохожим: – Пожалейте, добрые люди, несчастного горемыку со Старого Моста… Вдруг Зефирина вздрогнула. Из одной лавки вышла женщина с лицом, скрытым под черным покрывалом. Парчовое платье, отделанное стеклярусом, свидетельствовало о ее высоком положении. Но еще большее внимание Зефирины привлекло следовавшее за ней бесформенное существо: это был, без сомнения, карлик, лицо которого скрывало свисавшее со шляпы желтое перо, слишком большое для его роста. «Каролюс… донья Гермина…» – прошептала Зефирина. Девушка попыталась получше рассмотреть лица элегантной дамы и ее уродца. В колеблющемся свете факелов она увидела, как оба быстро зашагали к носилкам на колесах и сели в них. Лакей без ливреи задернул шторки, двое слуг повезли носилки в сторону палаццо Питти. «Графиня Сан-Сальвадор… Господь небесный, значит, она во Флоренции?..» У Зефирины заболела голова и застучало в висках. Под глазами появились темные круги. Ей показалось, Что даже сквозь занавески к ней проник тяжелый, пьянящий запах духов доньи Гермины, этой негодяйки, подкупленной Карлом V. – Souris, Sardine[47]… После долгой спячки Гро Лео неожиданно пробудился. Он сразу захлопал крыльями, стараясь вызвать улыбку на лице своей хозяйки. «Улыбаться!» Зефирина откинула на бархатные подушки свои золотые волосы и прикрыла глаза. Ее охватила дрожь. Она боялась, боялась настоящего, но еще больше будущего, которое представлялось ей невероятно мрачным.Глава V ВОРОВКА
Колеса носилок монотонно стучали по мостовой. Снаружи до Зефирины доносились односложные распоряжения. – Откройте! – Да, синьор Паоло… Тяжелая дверь медленно повернулась на скрипучих петлях и наконец распахнулась. Прежде чем остановиться, носилки преодолели немалое расстояние. Пикколо широко раздвинул шторки. Зефирина увидела парадный въезд большого дворца из розового мрамора. Подошел Паоло: – Ваша милость прибыли… Произнося эти учтивые слова, он склонился над Зефириной и принялся развязывать веревки. Неподвижность и странное спокойствие молодой женщины поразили его. Он снова склонился над ней и повторил: – Не желает ли княгиня подняться в свои апартаменты? Слишком долго пролежавшая в неудобном положении, чтобы сделать какое-то движение, слишком утомленная, чтобы ответить, Зефирина хотела бы найти сил только для одного – бросить в лицо Паоло какое-нибудь оскорбление, но она не смогла произнести ни единого звука. И вдруг с высокого крыльца, обнесенного изящными пилястрами, донесся крик: – Чтоб мне провалиться… Слава Богу… мадемуазель Зефирина, княгиня… крошка моя… Ну, ваша милость, это же я… ваша Плюш… Губы Зефирины шевельнулись в едва уловимой улыбке. Мадемуазель Плюш, ее дуэнья, следовавшая за нею повсюду со дня отъезда из Валь-де-Луар, бросилась к ней, перескакивая через ступени. Черные юбки кринолина на ее тощем теле развевались во все стороны. Зефирина приподнялась на локте. Поддерживаемая мадемуазель Плюш и Паоло, она смогла встать на ноги. Два лакея, стоя под портиком с канделябрами в руках, освещали мраморное крыльцо. Поднимаясь по ступеням, Зефирина почувствовала во взгляде всех этих людей растущее любопытство. «В каком плачевном состоянии возвращалась их княгиня!» – Splendeur… splendide[48]… – верещал Гро Леон, летая перед дворцом. – Не пожелает ли ее милость последовать за мной, чтобы я показал ей куда идти… – тихо произнес Паоло. Это был вопрос-утверждение. Для пущей надежности шествие замыкал Пикколо. А Артемиза Плюш, от радости, что вновь обрела свою хозяйку живой и здоровой, без умолку разглагольствовала: – Иисус, Мария, Иосиф… ну и приключение! Сколько же вы всего натерпелись, моя маленькая Зефирина? Как подумаю… да кому бы в голову пришло, кто бы мог поверить… быть похищенной в день собственной свадьбы! Ах, разбойники, ах, бандиты… Моя голубка, как же она настрадалась… Монсеньор Фарнелло верно сказал: «Я ее найду…» И клянусь, он сдержал слово. Он, наверное, убил их своими собственными руками! Господь небесный, похитить вас силой, против вашего желания, ради выкупа… Ах, негодяи! Проходя один за другим огромные залы дворца, Зефирина поняла, что «официальная версия», которую Фульвио сообщил челяди, сводилась к следующему: «Княгиня Фарнелло была похищена «против своей воли» разбойниками!» Молодая женщина, чей разум в этот вечер был слишком утомлен всем пережитым, еще не знала, радоваться ей или тревожиться по поводу того, что она узнала из слов дуэньи. Зефирина почувствовала себя больной – по телу внезапно разлился жар. Машинально коснувшись рукой своего лба, обнаружила, что он пылает. Худенькие плечи била дрожь лихорадки. Было невыносимо тяжело шагать по бесконечным коридорам. – Вот покои, предназначенные для вашей светлости, – сообщил Паоло. Он толкнул белую с золотом дверь. – Ужин для ее милости будет подан сюда… Пикколо принесет все, что пожелает ее светлость… Мы отбываем в Ломбардию завтра утром… Не будет ли княгиня так добра подготовиться к отъезду на рассвете… Несмотря на все эти «сиятельство», «светлость», «ваша милость», Зефирина прекрасно понимала, что по-прежнему остается пленницей. Между тем она и не думала возражать и в полном изнеможении опустилась в резное кресло: – Не знаю, смогу ли я завтра отправиться в дорогу, – сказала она тихо. – Я непременно передам дону Фарнелло, что ваша милость устали… и если монсеньор разрешит, отложим отъезд на послезавтра… Неожиданно залившись краской, Зефирина резко встала и с горячностью произнесла: – Я не желаю, чтобы вы просили его о чем бы то ни было. Не хочу, чтобы вы говорили ему об этом… В общем, я чувствую себя прекрасно… Говоря это, молодая женщина зашаталась. Перепуганная мадемуазель Плюш подала знак Паоло. Прежде чем Зефирина успела возразить, оруженосец Леопарда выскользнул из комнаты и запер за собой дверь на ключ. Он тут же отправился в южное крыло дворца и поднялся на следующий этаж. Подойдя к двери, скрытой за гобеленом с изображением какого-то исторического сюжета, который Людовико Моро преподнес отцу князя Фарнелло, оруженосец осторожно постучал. – Входи, Паоло. В комнате с потолком, украшенным лепными кессонами, князь Фарнелло, полулежа, отдыхал на кушетке, покрытой золотой парчой, отороченной собольим мехом. Сейчас он был в белоснежной рубашке с кружевными манжетами, с широко распахнутым воротом, позволявшим видеть мускулистую грудь, и в простых штанах из серого бархата. В этой домашней одежде он выглядел еще моложе. На голове не было берета, но черная повязка все так же перечеркивала лицо. Сейчас, однако, лицо это не выражало ни малейшей напряженности. Князь был спокоен. Две борзых вяло приподнялись навстречу Паоло. – Что скажешь? – спросил князь Фарнелло. – Принчипесса находится в отведенных ей покоях, монсеньор. – Отлично. Как мы условились, отвези ее завтра утром в Ломбардию… Я остаюсь здесь! Отдав распоряжение, князь снова погрузился в чтение. Паоло почесал затылок. – По правде говоря, монсеньор… Принчипесса Зефира очень устала… и опасается, что у нее не хватит сил выехать завтра утром… Лицо князя снова обрело надменное выражение. – Княгине придется сделать над собой некоторое усилие. В конце концов, если усталость ее так велика, что она не может сделать нескольких шагов до кареты, отнесешь ее сам, Паоло, добром или силой… Говоря эти полные иронии слова, он решительно перевернул страницу, давая понять своему оруженосцу, что дело решено. Паоло, однако, не сдвинулся с места. – По правде говоря, монсеньор… у нее… ну да, какой-то странный вид… Я, конечно, не лекарь, но у нее такое лицо, что… Фульвио усмехнулся: – По-моему, Паоло, у тебя слишком мягкое сердце… Оруженосец продолжал переминаться с ноги на ногу: – Эх, монсеньор, принчипесса так молода и… если бы вы ее видели, она такая печальная, такая кроткая… – Печальная… кроткая… эта-то фурия… ну, конечно, она вскружила тебе голову, Паоло, – воскликнул князь, вскочив на ноги, обутые в домашние туфли в виде медвежьих лап. Голос князя дрожал от негодования. Глаз загорелся недобрым огнем. «Никогда он ее не простит», – с грустью подумал Паоло, который долгие годы служил молодому князю чуть ли не нянькой, и потому был единственным в доме Фарнелло, кто осмеливался временами возражать хозяину. – Эта колдунья своими улыбками и слезами добилась того, что ты, Паоло, размяк… Ты меня неприятно удивляешь, – сказал князь и решительным шагом вышел из комнаты.* * *
– Мне сказали, что вам нездоровится, мадам… Коротко постучав в дверь, он быстро повернул торчавший снаружи ключ и вошел к Зефирине. Озадаченная его появлением, молодая женщина машинально выпрямилась, но продолжала сидеть в кресле, не имея сил подняться. Тем временем мадемуазель Плюш и двое слуг готовили в соседней комнате ванну с горячей водой. – Вовсе нет, я чувствую себя хорошо, – с трудом произнесла Зефирина. Глаза ее блестели, лицо вытянулось, нос заострился, скулы покраснели. Все это толькоподтверждало слова Паоло, но князь, полный мстительного чувства, не обратил на это никакого внимания. Подойдя к высокому окну, чтобы демонстративно проверить запоры, Фульвио произнес с иронией: – Я счастлив, что ваше здоровье так скоро восстановилось. Я понимаю, перспектива отправиться в одиночестве в Ломбардию и жить уединенно в башне замка вряд ли может вас порадовать, но кто же в этом виноват, мадам? Нечеловеческим усилием воли Зефирина заставила себя выйти из состояния апатии и дрожащим от волнения голосом ответила: – Я знаю, что вы ужасно обижены на меня и никогда не перестанете мне мстить… Князь прервал ее: – Вы удивительно проницательны, мадам… При свете канделябра лицо князя выражало такую непреклонность, что Зефирина содрогнулась. Она вытерла влажные ладони о свою разодранную в клочья фланелевую юбку. Потом, глубоко вздохнув, постаралась произнести как можно спокойнее: – Я прошу вас, монсеньор, отослать меня обратно. – Это куда же, позвольте спросить? – Во Францию. – Значит, во Францию! – произнес князь саркастическим тоном. – Да, в монастырь Сен-Савен. – Где вы, вероятно, примите постриг? – Где я… но вы должны понять, что после стольких потрясений я нуждаюсь в покое и размышлении. – У меня иные планы относительно вас, княгиня Фарнелло! Фульвио произнес это с какой-то особой насмешкой. Щеки Зефирины горели огнем. Сердце билось с такой силой, что она сама слышала его стук. Ей стало трудно дышать. Едва ли она видела Артемизу Плюш, входившую в этот момент в комнату, с Гро Леоном на плече, чтобы сказать, что ванна готова. – Sermon… Seigneur[49], – пробормотала птица. Одного властного жеста оказалось довольно, чтобы и дуэнья, и птица, точно по волшебству, исчезли. У Зефирины перед глазами поплыли круги. Собравшись с последними силами, она возразила: – Вы неискренний человек, монсеньор, ведь я вас предупреждала… – Предупреждали? Князь вздернул брови, прежде чем снова напустить на себя насмешливый вид: – Не могу припомнить, мадам, чтобы вы имели деликатность предупредить меня о том, что собираетесь убить… – Убить?! – пролепетала Зефирина. – Это самое меньшее, что можно сказать. Нужно было иметь крепкую голову, чтобы избежать этого… – Я… я ничего подобного не хотела… Прижав руку к груди, князь поклонился: – С вашей стороны, мадам, это почти любезность. Не обращая внимания на то, что он перебил ее, Зефирина заговорила торопливо: – Я была откровенна с вами… В первую же нашу встречу я предупредила вас, князь Фарнелло, что не испытываю ни малейшего влечения к вам… – К мужу, у которого всего один глаз! – К нашему браку, – поправила Зефирина. – Я подчинилась отцу против воли и по принуждению… Вы купили меня за двести тысяч дукатов… – По правде говоря, я так ничего и не имею за свои деньги. А глядя на вас теперь, вас и узнать-то трудно… Кстати, не хотелось бы показаться мелочным, мадам, но не можете ли вы мне сказать, что сталось с тем колье, что я преподнес вам в день нашей свадьбы? – Колье? – повторила Зефирина растерянно. – Да, изумрудное колье, взятое из шкатулки моей покойной матери, княгини Фарнелло, которая действительно была достойна носить эту драгоценность. Зефирина наморщила лоб. Она поднесла ладони к мучительно стучащим вискам, стараясь привести в порядок свои путающиеся мысли. «Колье… Длинная нить из пятидесяти пластинок тончайшего золота, каждая из которых инкрустирована великолепными драгоценными камнями. В центре нити сверкал главный камень – изумруд величиной с орех, который держит в своей пасти леопард, из чистого золота… Третье колье, то самое, предсказанное Нострадамусом…» Зефирина вдруг вспомнила себя в ту свадебную ночь, снимающую перед зеркалом восхитительное и таинственное украшение, которое князь преподнес ей утром того же дня. «Эта драгоценность хранится в нашей семье на протяжении многих поколений… Если быть точным, то с 1187 года… Со времени взятия Иерусалима султаном Саладином, как раз накануне третьего крестового похода…» Слова, сказанные князем, молотом стучали в голове Зефирины. Не в силах вспомнить, что же произошло с драгоценностью, она услышала резкий голос Леопарда, снова обрушившийся на нее: – Должен признаться, я считаю вас способной на многое, мадам, но чтобы вы превратились в воровку с большой дороги… Зефирина возмутилась: – Вы называете меня воровкой, а сами связались с бандитами с большой дороги… – Вы, без сомнения, говорите о Римини, мадам?! – Вот именно, месье… – Я мог бы вам ответить, что это не ваше дело, но мне приятно сообщить, что парень этот – настоящий патриот. Он, возможно, и совершал преступления против общества, но от великих мира сего его отличает умение держать данное слово. Мне представился случай избавить его от пыток, и, ей-богу, он всегда помнит об этом. Если, однако, принять во внимание, что только благодаря Римини я смог найти вас, мадам, думаю, вряд ли ему найдется место в вашем сердце… – Вы совершенно правы, месье, – с трудом произнесла Зефирина. – Вот и прекрасно… Однако все это не проясняет, что же вы сделали с колье, и только не говорите, что его у вас украл Римини, я все равно вам не поверю, – заметил князь с сарказмом. – Я… я оставила его на своем туалетном столике, то есть мне так кажется, – прошептала молодая женщина. Язык стал каким-то ватным и с трудом двигался. А Фульвио язвил: – Вам так кажется, да? Вы ошибаетесь, мадам. Его там не было, его вообще нигде не было… Потому что вы и ваш любовник унесли его с собой… – Нет… я… вы знаете… я сегодня видела его… – Колье? – Каролюса… донью Гермину… Я думаю… я уверена… у ювелира, на Старом Мосту… Каролюс появился там, когда я проезжала… я видела его… это… я клянусь вам… клянусь вам… – повторяла без конца Зефирина. Она почувствовала в голове пустоту. Силы иссякли, и она, словно тряпичная кукла, рухнула к ногам Леопарда. Полагая, что это очередная ее уловка, князь выждал несколько мгновений, потом сухо произнес: – Встаньте, мадам, я достаточно знаком с вашими штучками. Зефирина не шевелилась. После некоторого колебания князь наклонился над нею. На нее падала тень от стоявшего рядом комода из красного дерева, инкрустированного слоновой костью. Фульвио протянул руку ко лбу Зефирины. Лоб пылал. Он схватил подсвечник и поднял над ней. Влажная от пота одежда прилипла к телу. Длинные рассыпавшиеся волосы были мокрыми на висках. Лицо стало багрового цвета. Упавший на лицо свет заставил Зефирину чуть-чуть приоткрыть веки. Лихорадочно блестевшие глаза с отчаянием смотрели на Фульвио. – Она… убьет меня, – с трудом проговорила Зефирина и окончательно потеряла сознание. Опустившись на одно колено, Фульвио взял Зефирину на руки. Голова ее беспомощно откинулась назад. – Плюш! – крикнул молодой человек. – Господь небесный, монсеньор убил ее! – простонала дуэнья, появившись на пороге комнаты. – Замолчите, безумная старуха, позовите Паоло, пусть отправляется за доктором! – распорядился князь. В то время, как мадемуазель Плюш поспешно удалялась, Фульвио с бесценным грузом на руках направился в соседнюю комнату, и пока шел, взгляд его, вопреки собственной воле, не мог оторваться от покоившейся у него на плече очаровательной головки. Уложив жену на широкую постель под балдахином из отделанного золотом синего бархата, Фульвио хотел было выпрямиться, но обвившие его шею руки Зефирины не давали сделать этого. – Гаэтан… – бредила молодая женщина, – не бросай меня… молю тебя… я сейчас умру… Она судорожно вытянулась. Щеки пылали, дыхание стало хриплым. – Ну-ну, успокойтесь… Князь поглаживал ей лоб так, будто перед ним была слишком нервная лошадь. Под его ласковой рукой Зефирина понемногу успокоилась. Но князь продолжал гладить ее, пока не услышал за спиной елейный голос. – Монсеньор вызывали меня? Князь обернулся. Перед ним в черной сутане с широким поясом и в черном плаще, доходящем до остроносых башмаков, стоял знаменитый доктор Калидучо. Тот самый, который, как шептались во Флоренции, дважды, в самый последний момент, спас Лукрецию Борджиа от яда, подсыпанного ее любимым братцем Чезаре. – Эта… дама больна… Фульвио указал доктору на Зефирину. – О… – только и произнес врач, надевая длинные желтые перчатки. – Что вы об этом скажете, Калидучо? – О… Потряхивая широкополой шляпой, врач надевал на рукава белые манжеты. После этого он поднял до самого носа горностаевый воротник, чтобы предохранить себя от возможной инфекции. – Что вы скажете о водах[50] больной? – поинтересовался доктор. – Но… э-э… я не знаю. Князь взглянул на мадемуазель Плюш. – Монсеньор, будет лучше, если вы нас оставите… – посоветовал врач. Фульвио колебался. Потом, взяв доктора за полу плаща, отвел его к окну. – Речь идет о княгине Фарнелло, моей… жене. Я желаю, чтобы она выздоровела, Калидучо… Вы хорошо меня поняли? Я требую, чтобы для ее спасения было сделано все возможное… Доктор поклонился: – Монсеньор желает, а Бог располагает… Молитесь, ваша милость, а я сделаю все, что в моей власти. – Но что с ней, доктор? – настаивал Фульвио. – Возможно, перемежающаяся лихорадка, затронувшая мозг, монсеньор. – Это серьезно? Фульвио побледнел. – Более чем… А теперь ступайте, ваша светлость, оставьте меня с больной. Удаляясь, Фульвио услышал, как врач приказал мадемуазель Плюш: – Мадемуазель, позовите служанок княгини, надо снять с нее сырую одежду, согреть постель с помощью кипрского порошка… Пульс очень слабый, мы дадим ей вдохнуть вот этой фиалковой эссенции, а потом я приготовлю ланцеты, чтобы пустить ей кровь. Опечаленная мадемуазель Плюш в ответ лишь молча покачала головой. Она не особенно доверяла врачам. Видно, плохи дела у бедной малышки Зефирины. Сможет ли она вынести лечение доктора Калидучо?Глава VI КНЯЗЬ ФАРНЕЛЛО
Не пожелав вызвать пажа, чтобы тот осветил ему факелом дорогу, Фульвио отправился длинными коридорами на свою половину и поднялся к себе в покои, которые называл своим «убежищем». Построенное тремя веками раньше, его предками, флорентийское палаццо князя было сооружением редкостной гармонии и элегантности. Над центральной частью дворца высилась башня, сохранившая свой первоначальный облик, боковые же крылья были пристроены позже. Просторные залы второго этажа использовались для пышных и многолюдных празднеств, которые в начале века устраивали родители князя. Последняя княгиня Фарнелло была женщиной необыкновенно красивой и светской. Она обожала устраивать приемы и очень гордилась тем, что у нее побывал даже папа, большой покровитель искусств, каковым всегда был Джованни Медичи, принявший на Святом Престоле имя Льва X. Великолепные комнаты второго этажа, куда поместили Зефирину, были личными покоями князей Фарнелло. После смерти родителей Фульвио распорядился запереть их. Себе же он устроил в центральной башне «убежище» из четырех больших комнат: «гардеробной», с примыкающим к ней туалетом, гостиной, молельни и рабочего кабинета. Кабинет был излюбленным местом пребывания князя. Большую часть времени он находился там, окруженный всевозможным оружием, редкими книгами и своими собаками. При появлении хозяина обе борзые, Цезарь и Клеопатра, поднялись с ковра и подошли в ожидании ласки. Одна из них от радости заскулила. – Не шуми, Клео, нам надо вести себя тихо… У нас в доме больная. Рассеянно потрепав загривок своей любимицы, сделал несколько шагов по освещенной канделябрами комнате. Как человек, ищущий, чем бы заняться, потрогал военные доспехи, постоянно надетые на манекены, проверил, легко ли снимаются шлемы, убедился, что наплечники, кольчуги, наколенники хорошо смазаны. Его личное оружие для поединков и охоты – копья, луки, алебарды, колчаны, стрелы, пики, шесты для стервятников, латные перчатки, аркебузы, сети, тенета, силки, шпаги с клинками из дамасской стали и длинные боевые кинжалы висели на стенах, обитых драпировочной тканью. Поправив некоторые предметы, князь подошел к окну и прислонился лбом к цветному стеклу. В лунном свете был виден сад с разбитыми в нем цветниками и клумбами. Скульптуры Нептуна и окружающих его морских богов помельче, выполненные рукою Донателло, казалось, исполняют какой-то танец посреди фонтана, струя которого била вверх из позолоченной пасти леопарда. Но Фульвио не замечал привычных для него красот. Мысли его были устремлены к молодой женщине с зелеными глазами, которая презирала его, унижала и в конце концов осмелилась бросить его, могущественного итальянского князя, перед которым же склонялись. Действительно ли она больна, или это комедия, разыгранная с целью смягчить его? Фульвио ощутил вкус горечи во рту. Почему он не сказал ей всю правду, когда приезжал в Ломбардию? Почему из гордого упрямства не пожелал быть узнанным, а затем и любимым просто так, за собственные достоинства, этой безмозглой эгоисткой… гордячкой… чересчур для женщины начитанной и образованной? Не лучше ли для нее было бы сидеть за вышивкой, чем философствовать? Не больше ли было бы пользы, если бы она вместо спряжения греческих и латинских глаголов научилась вести домашнее хозяйство? Издалека, со стороны флорентийского собора, сооруженного два века назад, послышалось одиннадцать колокольных ударов. Отвернувшись от спящего города, Фульвио подошел к большому венецианскому зеркалу. Несколько мгновений он внимательно всматривался в свое отражение. Бледное лицо с правильными и волевыми чертами было обезображено шрамом, угадывавшимся под узкой черной повязкой, скрывавшей левый глаз. Неужели он на самом деле так изуродован и выглядит так страшно, что она не смогла узнать его? Где же тогда пресловутая женская интуиция? Как могла она не вспомнить их первую встречу[51]? Конечно, тогда у Фульвио были оба глаза. Это произошло незадолго до битвы у Большого озера. Против кого он тогда сражался? Фульвио даже не знал, кто были враги… Последние десять лет он без конца воевал то с французами, то со швейцарцами, то с немцами, то с австрийцами, то с англичанами и даже с другими итальянскими князьями. Эта самая прекрасная в мире земля, кажется, проклята с тех самых пор, как здесь появились французские короли Карл VIII, Людовик XII, а потом и Франциск I. «Украла ли она на самом деле изумрудное колье?» Фульвио внезапно засомневался в этом. В сущности, его расстроила не ценность ожерелья, а сама выходка. «Но, может быть, она его потеряла? По крайней мере, хотелось бы надеяться, что не Римини его присвоил». Охваченный яростью и… ревностью, Фульвио даже не подумал о том, что следовало бы приказать обыскать Гаэтана де Ронсара. Отчего он не убил его своими руками? Какая непростительная слабость! «Я человек чести и никогда об этом не забываю…» Что, собственно, он хотел этим сказать? Гаэтан… Как она выкрикивала его имя. Вспомнив об этом, Фульвио побледнел. «Бесконечная ложь, ухищрения, лицемерие, плутовство… Завтра наверняка придет в себя и снова примется оскорблять, возражать, угрожать и окажется здоровее всех». Подумать только, что он едва не размяк. Завтра же она отправится в Ломбардию и будет находиться там под охраной, пока он, Фульвио, не решит, что с ней делать: отослать в монастырь, расторгнуть с ней брак, вернуть во Францию, заточить в тюрьму. Во всяком случае, наказание, которое он выберет для нее, будет ужасным. При желании Фульвио мог бы даже приказать обезглавить ее, никто бы не осудил его за то, что он избавился от этой неверной французской жены… предательницы и воровки с большой дороги. «Я боюсь… боюсь…» Она дрожала, произнося эти слова. «А если она и вправду больна? Если… если она умрет? Что она хотела сказать этими словами: «Она убьет меня»? О ком она говорила?» С лицом, осунувшимся от волнения, Фульвио ходил по комнате из угла в угол, не в силах успокоиться. Собаки своими прекрасными глазами наблюдали за мечущимся хозяином, будто понимая, что с ним творится. Фульвио сжал кулаки. Нет, она обязательно поправится, и тогда он проявит благородство и позволит ей убраться… ко всем чертям, так будет лучше всего… Здесь, в Италии немало других женщин, может быть, даже намного красивее Зефирины, например, пухленькая брюнетка графиня Андреа Пацци, которая и охотиться умеет не хуже любого мужчины, и перед волком не спасует, или богатая Каролина Бигалло из Рима, давным-давно мечтающая стать княгиней Фарнелло. – Монсеньор… э-э… ваша светлость… При этих словах, прозвучавших тихо, но твердо, Фульвио спустился с небес на землю. Он и не заметил, как вошел Паоло. – Готовы ли вы, ваша милость, принять посыльного? Фульвио знал серьезный характер своего верного оруженосца. Только из-за очень важного дела он позволял себе побеспокоить хозяина в такой час. Почувствовав облегчение, что его оторвали от тяжелых мыслей, Фульвио кивнул. – Посыльный привез послание от его величества Карла V, – прошептал Паоло и отступил в сторону, собираясь впустить посетителя, но князь остановил его: – Как чувствует себя… княгиня? – Доктор Калидучо по-прежнему находится у ее постели… Он останется и на ночь, монсеньор… Температура продолжает подниматься… – Сообщай мне новости каждый час, – приказал Фульвио. – Хорошо, монсеньор… С этими словами Паоло вышел в прихожую и вернулся с посыльным, который на деле оказался дамой! Князь, хотя он и был поражен существом, приближавшимся к нему в шорохе шелков и в густой черной вуали, как истинный аристократ, ничем этого не обнаружил. – Монсеньор… Женщина опустилась перед ним в глубоком реверансе. В ответ Фульвио вежливо поклонился. Существо источало сильный запах пьянящих духов. Жестом Фульвио указал гостье на кресло, а сам сел напротив таинственной особы, присланной Карлом V. После этого своим учтиво-высокомерным голосом князь осведомился: – Я слушаю вас, мадам… Кому обязан честью? – Мое имя вам ничего не скажет, монсеньор, – ответила дама низким, мелодичным голосом… Могу вас заверить, что я преданная служанка его католического величества… И вот тому доказательство… Полная решимости ни за что не приоткрывать вуали, незнакомка извлекла из черных складок платья пергаментный свиток и протянула его князю. Не говоря ни слова, Фульвио сорвал восковую печать, затем встал, подошел к одному из канделябров и с удивлением прочел следующие строки, нацарапанные нервным пером:«Монсеньор и дорогой друг, Податель этой записки, пользующийся нашим абсолютным доверием, сообщит, чего мы ожидаем от вашего любезного сотрудничества в пользу интересующего нас дела. Податель сего вручит вам также в залог нашей дружбы сувенир. В ожидании скорых добрых вестей, примите, монсеньор и дорогой друг, уверения в нашей преданной дружбе, Карлос Рамон».
Если бы Фульвио не знал почерка и подписи властелина Испании, больше похожей на следы мушиных лап, он бы подумал, что это какая-то мистификация. – Карлос Рамон… Что за причуда? – Его величество всего опасается, – пояснило существо, видя изумление Фульвио. – Я виделась с ним в Эскуриале месяц назад перед тем, как сесть на галеру, доставившую меня в Геную. – Его величество должен радоваться своей победе над королем Франции, – сказал Фульвио. – Его величество крайне обеспокоен! – ответила дама, постукивая длинными ногтями по резному подлокотнику кресла. – Как, обеспокоен? – переспросил Фульвио. – Да чем же, святые боги? Разве после Павии его величество не стал единовластным победителем? Король Франциск находится в заключении в Пиццигеттоне, я видел его собственными глазами… и поверьте мне, мадам, из этой крепости разве что маленькая птичка может ускользнуть. – Король Наваррский, однако, сбежал оттуда, монсеньор, – метко парировало таинственное создание. Фульвио пытался угадать черты лица, скрытого под густой вуалью, но, кроме длинных, увешанных кольцами пальцев, элегантной фигуры в платье, расшитом стеклярусом, и доводящих до головокружения духов, так ничего и не смог разглядеть в своей собеседнице. – Только не говорите мне, мадам, что его величество опасается молний Генриха д'Альбре и его малюсенького королевства Наваррского! – сказал с усмешкой Фульвио. У дамы вырвался жест раздражения. Беседа явно принимала непредусмотренный оборот. – Будем говорить коротко и по существу, ваша светлость, – бросила сухо незнакомка. – Монсеньор Ланнуа, вице-король Неаполитанского королевства, у которого пребывает пленник, опасается побега… Он сообщил о своих опасениях императору, и потому император желает перевезти французского короля в Испанию. – Мудрое решение! – признал Фульвио. – Но король Франции по специальному «договору-обязательству» обещал два миллиона золотых экю английскому королю Генриху VIII… – Ну, что касается англичан, с ними в конечном счете все всегда утрясается с помощью денег! – с иронией заметил Фульвио. – Но, если король не заплатит, что вполне вероятно, принимая во внимание скудость французской казны, английский король, без сомнения, предпримет морское путешествие, чтобы… – Захватить Франциска I. Очень может быть, мадам, на его месте я бы сделал то же самое, но мне непонятно, чем может помочь князь Фарнелло его величеству Карлу V? У меня нет мощных кораблей, нет моряков, которые могли бы охранять судно, переправляющее пленника… – Что вы, монсеньор, об этом нет речи. Но вот когда Ланнуа повезет короля Франции в Геную или Неаполь, чтобы оттуда морем переправить в Испанию, император желал бы (это было сказано тоном, означавшим не что иное, как приказ), чтобы ваша светлость «удалил» специального эмиссара английского короля. – «Удалил»? – с удивлением произнес Фульвио. – Ваша светлость пользуется доверием его святейшества папы Климента VII… Добейтесь, чтобы англичанина приняли в Ватикане, монсеньор. Устраните его от Пиццигеттона, где он вертится, словно муха над банкой с медом… Пригласите его к себе в гости, во Флоренцию. Отвезите затем в Рим… Прельстите его, усыпите все его подозрения, пусть вашими стараниями посылает Генриху VIII успокаивающие донесения. А тем временем ваши люди тайно перевезут Франциска I в Барселону, в Испанию… Успокоенный знатным итальянским князем, английский король не заподозрит подвоха и позволит нам выиграть время… Фульвио скрестил длинные крепкие ноги в шелковых чулках и задумался. Теперь он понял, куда клонит тайный эмиссар Карла V. Толстяку Генриху VIII следовало опасаться, помимо всего прочего, как бы два куманька, Франциск и Карл, съехавшись в Испании, не помирились, короче, чтобы король-пленник и его тюремщик-император не заключили союз за спиной Англии. У князя Фарнелло не было никаких особых причин не пойти навстречу Карлу V и Генриху VIII и еще меньше причин содействовать Франциску I, но, будучи тонким политиком, он сказал с сомнением: – Поверьте, мадам, я бесконечно тронут тем доверием, которое по такому случаю оказывает мне его величество Карл V, но по зрелом размышлении… не следует ли мне по причинам внутренней безопасности и по моральным соображениям остаться нейтральным, вне любого сговора?.. Уважая тем самым позиции и интересы разных партнеров и противников? Слушая эти благородные речи, гостья нервно постукивала ножкой в туфле на высоком каблуке по медвежьей шкуре, брошенной на натертый до блеска паркет. – Прекрасно, монсеньор! Его величество, предугадывая, что именно может обеспокоить вашу светлость, предоставил мне все полномочия для ведения переговоров с вашей милостью… А также вот это кольцо, которое он просил вручить вам в знак дружбы… С этими словами женщина в вуали сняла со своего большого пальца массивный перстень, в резной золотой оправе которого сверкала алмазная голова орла, и протянула его князю. При соприкосновении с ее ледяными пальцами Фульвио не смог подавить в себе легкую дрожь. Но то был лишь краткий миг, после чего рука странного создания отстранилась, а Фульвио из вежливости надел подарок Карла V на указательный палец. Ничем не обнаружив, что она заметила, как князь вздрогнул, коснувшись ее руки, женщина продолжала: – Вот, монсеньор, проект, согласно которому император обещает вернуть вашей светлости земли миланского княжества, захваченные французами во время войны 1515 года… Земли, которые Франциск I присвоил… Фульвио Фарнелло подавил вспышку радости, сверкнувшей в его глазу. Он встал и подошел к столу, заваленному картами и старинными манускриптами. – Вне всякого сомнения, мадам, его величество император может рассчитывать на искреннее содействие Леопарда… Прочитав проект договора и обсудив с дамой отдельные детали, князь Фульвио хлопнул в ладоши. В комнате тут же появились два пажа с зажженными факелами. Следуя за пажами и провожая посетительницу, князь спустился с нею по парадной лестнице до самой выходной двери дворца. У бронзового портала ее ждал портшез на колесах и четыре лакея. Из портшеза тут же вышел, чтобы помочь хозяйке, странный карлик с огромной головой, шляпу которого украшали желтые перья. – Мой оруженосец свяжется с вашей светлостью, если возникнет необходимость, – шепнула наперсница Карла V, указав на карлика. – Он появится ночью, и ваши люди впустят его, услышав пароль «Сен-Симеон»… В знак согласия Фульвио учтиво поклонился своей таинственной гостье. Шурша шелками, она поднялась в портшез. За ней последовал карлик. Односложный приказ, и лакеи двинулись почти бегом, таща за оглобли упряжку. Князь Фарнелло постоял еще несколько мгновений на мраморном крыльце, провожая глазами фонари, удалявшиеся в сторону церкви Санта Феличита. Осталось ощущение какой-то неприятной тяжести. Эта женщина оставляла за собой шлейф едких духов, вызывавших у него сильную тревогу. Вернувшись во дворец, Фульвио быстро поднялся в свои покои и вызвал Паоло. – Монсеньор удовлетворен? – спросил верный слуга. В нескольких словах князь ознакомил его с сутью предложенной ему сделки. Глубокая складка появилась на лбу Паоло. – Пусть ваша светлость подумает еще… Английский король враг не из легких… но император в роли друга еще опасней… – Я знаю, – обронил Фульвио. – Это все равно, что играть с огнем, – упорствовал Паоло. – Всего лишь способ действовать по-иному… Однако, как добрый христианин, я не оставлю папу в неведении относительно того, что затевается… Если его святейшество захочет предупредить англичанина об отъезде француза, я не смогу помешать ему в этом!.. Увидев растерянность на лице Паоло, князь Фарнелло не смог подавить улыбку. – Не думаешь же ты всерьез, что я дам заманить себя в ловушку? – Не хотелось бы, монсеньор, потому что, между нами говоря, не нравятся мне происки вашей посетительницы. – Отчего же? – Я случайно увидел, как ее карлик расспрашивал этого болтуна Пикколо… – Расспрашивал? – Да, и мне это совсем не понравилось… нет, нет и еще раз нет… – Черт тебя побери! – воскликнул Фульвио. – Прекратишь ты бубнить одно и то же? А теперь, раз уж начал, говори, что знаешь! Что делал карлик, пока я разговаривал с его хозяйкой? – Этот урод вошел во дворец, проскользнул на второй этаж и там расспрашивал Пикколо… про принчипессу Зефирину… Он хотел знать все: правда ли, что она исчезла… нашли ли ее… хорошо ли она себя чувствует… Я перехватил это чудовище в тот момент, когда он, воспользовавшись невниманием охранника, собирался проникнуть в апартаменты княгини… – Моя… жена под надежной охраной, – усмехнулся Фульвио. – Кстати, как она себя чувствует? – Доктор… желает вас видеть, ваша светлость, как раз по этому поводу, – осторожно ответил Паоло. Новость, которая, казалось, должна была обрадовать князя, подействовала на него удручающе. Температура, буквально сжигавшая Зефирину, продолжала расти. Фиалковая эссенция, ирисовый порошок, кипрская микстура, кровопускание из ног и ушей, – ничто не помогало. Молодая женщина, судя по всему, умирала.
Глава VII МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ
Несмотря на то, что Зефирина уже много дней находилась в бреду, она отчетливо сознавала, что умирает. Лихорадка, охватившая даже мозг, ни на миг не оставляла ее. Сжигаемая внутренним огнем, она то впадала в полную прострацию, то вдруг приходила в необыкновенное возбуждение. Рой сменявших друг друга образов и видений стремительно проносился за непреодолимым барьером ее плотно сомкнутых век. – Мишель… – крикнула Зефирина, проваливаясь в черную дыру. Однако до собравшихся у ее постели не доносилось ничего, кроме едва уловимых вздохов, с трудом вырывавшихся из плотно сжатых губ. – Мишель… – снова и снова повторяла умирающая. Откуда-то до нее доносится странное и прекрасное пение. Но слова песни путаются, сталкиваются…Ночь проводя рядом с тайным ученьем,
Днем в одиночестве силы тая,
Светоч, покинув уединенье,
Счастье несет тем, чья вера сильна…
* * *
В течение долгих восьми дней Зефирина находилась между жизнью и смертью. После «посещения» Нострадамуса молодая женщина молча боролась с паутиной, пытавшейся затянуть ее в черную бездну. Однажды утром Зефирина открыла глаза. Она была так слаба, что не могла позвать тень, которая, как ей показалось, спит на подстилке у очага. Она попробовала с большим трудом повернуться на постели. Какой-то шнурок был привязан к ее руке. Зефирина пошевелилась. Зазвенел колокольчик и разбудил спящую тень. – Зефирина… Мадемуазель… Артемиза Плюш устремилась к больной. – Santé… Sardine… Souci… Saucisse[53]… На самом верху украшенного гербом балдахина, радостно захлопал крыльями Гро Леон. – Маленькая моя Зефирина, э-э… ваша светлость… Как вы себя чувствуете? – спросила Плюш. Не отвечая на вопрос, Зефирина обвела усталым взором роскошное убранство незнакомой ей комнаты. Что за двери из золоченого дерева, шкафы, столы и столики с выгнутыми ножками, сундуки, канделябры, искусно изготовленные из дерева и драгоценных металлов? Какой удивительный паркет с геометрическим рисунком и эти восточные ковры! Что это за мраморные статуи и современные полотна с так живо изображенными на них цветами и фруктами, развешенные по стенам, обитым гобеленами? – Где я? – прошептала Зефирина так тихо, что Плюш едва расслышала. – Как где, во Флоренции. – Во… Флоренции! – повторила Зефирина. – Во дворце Фарнелло… – А-а… – У князя Фарнелло! – Фар… нелло… Казалось, Зефирина не понимает. – У вашего мужа, Фульвио Фарнелло… – мягко настаивала мадемуазель Плюш. – У моего… мужа… – с трудом произнесла Зефирина. Плюш была поражена ее бледностью, выделявшейся даже на фоне кружевной подушки, и совершенно безразличным взглядом. «Лишь бы только разум ее окончательно не повредился…» – подумала добрая мадемуазель с тревогой. А вслух сказала: – Вы нас так напугали, моя маленькая Зефирина. Буквально все во дворце молились за вас и заботились, кто как мог. Сам монсеньор приходил к вашей постели каждую ночь. Он приказал разбросать на улицах вокруг дворца побольше соломы, чтобы заглушить стук проезжающих экипажей, так мучивший вашу бедную головку. Монсеньор Фарнелло уж и не знал, что делать… Он пригласил для вас самых лучших докторов и даже сельских лекарей, которых его светлость привез откуда-то издалека… Добрая Плюш упорно била в одну точку. Но понимала ли Зефирина? Ее поведение заставляло усомниться в этом. Не ответив ни слова своей дуэнье, она отвернула голову, лежащую на батистовых подушках. – Вам надо выпить немного куриного бульона, – решительно заявила мадемуазель Плюш. Хлопнув в ладоши, старая дева позвала двух служанок с приветливыми лицами. С их помощью Зефирина проглотила без всякого аппетита несколько ложек укрепляющего питья. Ей сменили рубашку. «Да, ее не назовешь толстушкой, нашу красавицу, а уж как худа стала, как худа…» – размышляла Плюш. Она с отчаянием смотрела на красивое, но ставшее почти прозрачным тело Зефирины. Того же мнения был, похоже, и Гро Леон, который с грустью каркал: – Squelette… Sardine[54]… В другое бы время Зефирина посмеялась над образным словарем говорящей птицы, начинавшимся почему-то всегда с буквы «S». Но сейчас, измученная сделанными усилиями, она снова уснула. На следующий день больная вышла из состояния апатии на большее время, и даже слабым голосом задала Плюш несколько вопросов: – Какой сегодня день? – Вторник, мадам, – ответила дуэнья. – Осталось две недели до окончания карнавала… – А… окончание карнавала… – повторила Зефирина странным голосом. – Вы к тому дню будете совершенно здоровы, моя дорогая, – сказала Плюш, взбивая кружевные подушки. – Снова сможете совершать верхом приятные прогулки и исполнять роль хозяйки… Хотя и с некоторым колебанием, но Артемиза Плюш сделала ударение на последнем слове. «Лучший способ излечить ее, – решила старая дева, – это говорить с ней немного порезче, заставить ее осознать раз и навсегда, что она замужем… Что ж, тем хуже для маленького шевалье Гаэтана… Надо помирить ее с князем, если только это еще возможно… такой красивый мужчина… Слово Плюш, я этого добьюсь…» – думала Плюш, на которую теперь Фульвио полностью полагался. Аккуратно расставляя на столе тарелочки и оловянные баночки, Плюш, будто не замечая недовольства на лице Зефирины, продолжала рассуждать: – Когда вам станет немного получше, маленькая моя Зефирина, мы вымоем ваши прекрасные волосы, я заплету их и сделаю вам прическу. Тогда вы примите монсеньора и объяснитесь с ним, ничего не тая… Взгляните, какие цветы принес вам его светлость… Плюш с восторгом указала на живописный букет сиреневых цветов, стоящих в вазе на маленьком столике. Улыбка застыла на лице Артемизы Плюш, когда Зефирина резко бросила: – Нет, я не желаю его видеть… – Но, моя маленькая Зефирина, это же ваш муж… – Замолчите, Плюш, не говорите мне о нем… Лишившись дара речи, Плюш беззвучно открывала и закрывала рот, точно выброшенная на сушу рыба. В этот момент очень кстати вошел доктор Калидучо: – Ну, как поживает сегодня наша больная? О, да ее светлость выглядит совсем неплохо… Еще немного, и княгиня сможет верхом совершать приятные прогулки, не правда ли, мадемуазель Плюш? В следующие дни выздоровление пошло быстрее. Зефирина теперь хорошо ела, и силы возвращались к ней. Камеристки готовили для нее жасминовые ванны, девица Плюш вымыла ей голову в гвоздичном отваре, потом высушила всю копну волос при помощи нагретых над печью льняных полотенец. Причесанная и надушенная, Зефирина обретала прежний вид, но теперь выглядела более мягкой в своей слабости и даже, кажется, более красивой, чем раньше. Болезнь обострила ее черты и утончила овал лица. Ей уже не требовалась помощь Плюш, чтобы надеть халат из полупарчовой ткани и даже добраться до кресла, стоящего у окна. Сидя в нем без чтения, без движения, ни о чем не спрашивая, замкнувшись в каком-то сумрачном уединении, она проводила долгие часы, глядя, как Гро Леон летает над кустами, любовно подстриженными целой армией садовников. Это странное состояние очень беспокоило дуэнью. Она сообщила об этом доктору Калидучо. А врач был доволен. Он вылечил тело. Что же касается души, то это за пределами его возможностей! «Ее, по-видимому, гложет какая-то болезненная злоба, которая может привести к новым взрывам… у нее нет матери… Значит, действовать надо мне, и не мешкая…» – решила Плюш. На следующее утро, а это было воскресенье, добрая дуэнья, подхватив руками фижмы, понеслась наверх, в апартаменты Фульвио. – Монсеньор, – решительно начала Плюш. – При всем уважении, которое я питаю к вашей светлости, я хочу знать, каковы ваши намерения… Князь был занят тем, что вместе с Паоло складывал в сундук оружие, камзолы и манускрипты. Услышав слова Плюш, он резко выпрямился. – Ваша светлость отправляется в путешествие? – пролепетала дуэнья. – Завтра на рассвете, в Рим, мадемуазель Плюш, – подтвердил Фульвио. – Но, монсеньор… а… – Что будет с вашей госпожой? Вас ведь это беспокоит? Успокойтесь, мадемуазель Плюш, княгиня Фарнелло сможет вернуться во Францию… вообще может ехать куда захочет и жить, где ей понравится… Паоло вручит ей деньги в сумме, равной выкупу маркиза де Багатель. Пикколо и еще шестеро моих людей проводят вас до Валь-де-Луар, если таково будет ее желание… – Но… От волнения Плюш вынуждена была сесть на табурет, а Фульвио между тем продолжал: – Я должен лично вас поблагодарить, мадемуазель Плюш, за вашу преданную заботу о… (возможно, он хотел сказать «о моей жене»?)… о донне Зефире. Примите это в знак моей признательности… Фульвио достал из сундука тяжелый бархатный кошелек и вложил в руки дуэньи. Невыразительное лицо Плюш покрылось краской. – Больше, чем золотом, монсеньор, сердце мое растрогано вашей добротой… От смущения Плюш едва не заговорила стихами. Она встала и низко поклонилась. Фульвио полагал, что вслед за этим она удалится. – Прощайте, мадемуазель Плюш… – Простите, монсеньор… подумали ли вы, ваша светлость, о Боге? Что Бог сотворил, то и разрушено может быть только им… При этих словах черные брови Фульвио поползли вверх. Не думая о надвигающейся буре, Плюш смело продолжала: – Ваша светлость признает, что княгиня Зефирина является законной женой вашей милости в радости и в горести? Скорее в горести, как мне кажется! Не заметив иронии, Плюш понеслась дальше: – Ваша светлость не может отослать княгиню во Францию. – Почему же, мадемуазель Плюш? – надменно произнес Фульвио. – Она в опасности, монсеньор… Путаясь в словах, прыгая с пятого на десятое, Плюш выложила князю все, что знала или угадала о прошлом Зефирины. Необъяснимая ненависть доньи Гермины, ее мачехи, ужас, который испытывала молодая женщина перед карликом Каролюсом, ее болезненные подозрения, покушение, которому она подверглась в «Золотом лагере». Упоминание о последнем событии, казалось, больше всего остального заинтересовало Фульвио. – И что же, никто так никогда и не узнал, кто вынес донну Зефиру из огня? – спросил неожиданно князь. – Никогда… Но она часто вспоминает об этом неизвестном человеке, рисковавшем собой ради ее спасения… Монсеньор просто не знает, что моя маленькая Зефирина никогда не была неблагодарной. Среди своих сверстниц она самая умная, одаренная, тонкая, образованная, благородная и остроумная… – Не говоря уж о ее дрянном характере… Скажите-ка мне, мадемуазель Плюш, что из себя представляет эта донья Гермина де Сан-Сальвадор? – полюбопытствовал вдруг князь. Описание, полученное им от Артемизы Плюш, заставило князя задуматься. Дама, посланная Карлом V, была на удивлениепохожа на мачеху Зефирины, а тот факт, что ее карлик в шляпе с желтым пером пытался проникнуть в покои его жены, показался ему особенно подозрительным. Под пристальным взглядом Паоло князь в задумчивости ходил взад и вперед по комнате. Внезапно, поставив ногу на табурет, он остановился перед Плюш. Нацелив в нее увешанный перстнями указательный палец, он спросил: – Так что же вы предлагаете конкретно, упрямица вы этакая? С самого детства Плюш, когда говорила, шепелявила и брызгала слюной. Поэтому она очень стеснялась, если ей требовалось высказаться. Но в это утро она явила чудеса красноречия. Час спустя Плюш спустилась в апартаменты Зефирины. Ее длинный острый нос казался несколько короче, а маленькие глазки блестели от удовлетворения. Зефирина сидела, не шевелясь. Она по-прежнему находилась в кресле и смотрела невидящим взглядом на радужные струи фонтана Нептуна. – А вот мы сегодня приоденемся и пойдем подышать воздухом, – сюсюкала Плюш. При этих словах Зефирина взглянула на дуэнью и безразличным голосом прошептала: – Как вам угодно. – Сегодня воскресенье, вам теперь лучше, мы могли бы пойти послушать мессу… – Как вам угодно, – повторила Зефирина тем же отсутствующим тоном. Немного погодя черная с золотом карета князя Фарнелло, запряженная четверкой лошадей, в сопровождении шести человек вооруженной охраны выехала из флорентийского дворца.Глава VIII ВОСКРЕСНЫМ УТРОМ ВО ФЛОРЕНЦИИ
– Vanita… vanitatum et omnia vanitas… Суета сует и всяческая суета… Здесь, на земле, истинное богатство в бедности! Под величественным куполом собора Санта Мария дель Фьоре брат Доменико, соперник Савонаролы, стал новым идолом высшей флорентийской знати. Воскресным утром весь город, давясь и толкаясь, стекался в собор послушать его проповеди. Размахивая руками, сверкая очами и грохоча словами, фра Доменико, при всем том, куда лучше умел сдерживать свои страсти, чем Джироламо Савонарола, который после безграничного поклонения сограждан уверовал в свой непререкаемый авторитет и был, когда пробил час немилости, сначала повешен, а потом и сожжен своими почитателями. Неистовства флорентийцев следовало опасаться. Не на хорах ли собора сорок восемь лет назад произошел драматический эпизод, связанный с заговором Пацци? Эти давние враги дома Медичи попытались 26 апреля 1478 года убить Лоренцо Великолепного. Князь, хотя и был ранен, сумел спрятаться в ризнице, тогда как Джулио пал под ударами убийц… Фра Доменико, конечно, не был участником тех событий, но ему приходилось об этом слышать. Темным сверкающим взором он обвел элегантную толпу, пришедшую послушать проповедь о бедности. Разодетые в пышные одежды – бархатные мавританские, отороченные мехами плащи с капюшоном, изысканные головные уборы с перьями, платья с широкими рукавами, расшитые драгоценными камнями, тончайшие кружева, умопомрачительные украшения, они все были там, на отведенных для них скамьях, в правой части собора, все самые именитые фамилии Флоренции: князья Строцци, стремившиеся отстранить от власти своих соперников Медичи, князья Пацци, Бонди, Барди, Питти, Бардини, Пандольфини… Что и говорить, брат Доменико мог гордиться своими прихожанами. Он уже заканчивал проповедь, когда взор его упал на скамью семейства Фарнелло. Месяцами пустовавшая, эта скамья теперь была занята двумя женщинами: одна, неопределенного возраста, худая и уродливая, не заинтересовала монаха, другая – молодая особа с бледным лицом, безжизненная, но необыкновенно красивая, изящно закутанная в зеленый плащ с капюшоном, из-под которого едва выбивались два-три золотых колечка. То была, вне всякого сомнения, новая княгиня Фарнелло, по поводу которой высший флорентийский свет нашептывал друг другу самые невероятные вещи. «Ведь это о ней говорили, что она, француженка по происхождению, сбежала из дворца своего мужа в ночь свадьбы с каким-то шевалье, но потом была поймана и чуть не погибла от страшной руки Леопарда? Только что-то она не похожа на умирающую, возможно, бледновата и какой-то отрешенный взгляд, устремленный к витражам, вместо того, чтобы слушать проповедь». Брат Доменико решил разбудить ее. Слегка прокашлявшись, он облизал острым, точно жало, языком свои тонкие губы. Прихожане, полагавшие, что проповедь подходит к концу, поднялись со своих мест, чтобы дружно затянуть «Верую». Но тут проповедник в каком-то эмоциональном порыве неожиданно возгласил: – Изыди, Сатана! Все снова сели. Молодая княгиня Фарнелло даже не пошевелилась. Вошедший в раж брат Доменико решил нанести удар посильнее. – А неверную жену постигнет кара… демон станет ей мужем, лишь слезы станут ее уделом, а отчаяние – возмездием… Брат Доменико смотрел прямо на Зефирину. Вокруг начали шептаться. Головы знатных прихожан стали оборачиваться. Все тихо говорили друг другу: – Это княгиня Фарнелло… – А говорили, что он убил ее… – Во всяком случае, он ее прогнал… – У нее были любовники… – Она хотела отравить своего мужа… – Но вместо него сдохла собака князя… – Она, кажется, украла фамильные драгоценности Фарнелло… – Да что тут говорить, француженка… – Зефирина, ее зовут Зефирина… Поглощенная созерцанием световых бликов на готической кропильнице, Зефирина, похоже, не замечала скандала, причиной которого была. «Что за безумная мысль пришла мне в голову, Господи… Мне не следовало приводить ее сюда… а этот монах, что он себе позволяет?» – мысленно упрекала себя мадемуазель Плюш. – Так сказал Учитель… Истинно говорю вам, выбросьте гнилое яблоко, ибо оно погубит другие… изгоните зло… изгоните грех… Но брат Доменико тщетно надсаживал себе грудь. Зефирина, словно неземная, не сделала ни одного движения. Более того, она улыбалась. Вот это уже было слишком. Забыв об осторожности, брат Доменико решил ударить изо всех сил. Тыча пальцем в Зефирину, он возопил во всю мощь своих легких: – Да, дорогие мои братья, грешница находится среди нас… Как истинные христиане, помолимся за упокоение ее мучений. Во имя Господа нашего я приказываю ей покинуть это святое место и не появляться здесь, пока она не наденет власяницу и не совершит покаяния… Брат Доменико умолк с воздетыми к небу руками. В это время князь Фарнелло в бархатной шляпе и в плаще приближался своей мягкой, пружинящей походкой к середине центрального ряда скамей. Может быть, он только появился в соборе и не слышал проповеди? А может, он стоял за колонной и потому никто из присутствующих его не заметил? Новость о его появлении неслась от скамьи к скамье: – Это он… – Леопард! – Значит, он вернулся во Флоренцию! – Он сейчас убьет ее! – Задушит прямо у нас на глазах… – Боже милосердный… в соборе! Пожалуй, никто в этот день не жалел о том, что явился на мессу. Давно уже высшее флорентийское общество не имело случая присутствовать на подобном зрелище. Все вокруг затаили дыхание. Под сводами собора, в мертвой тишине, где были слышны лишь его шаги, Фульвио спокойно подошел к скамье Фарнелло. Коротко поприветствовав мадемуазель Плюш, он демонстративно взял затянутую в перчатку маленькую руку Зефирины и поднес к губам. Потом сел рядом с молодой женщиной и поднял голову с намерением послушать конец проповеди. Головы присутствующих, разочарованных тем, что не придется увидеть кровопролитие, повернулись к проповеднику. Удар, нанесенный брату Доменико, был тяжелым. Надо было поскорее выпутываться из этой скверной истории. Монах принялся торопливо бормотать слова, подходящие в любых обстоятельствах: – Помни, человек, прахом ты был и в прах обернешься… Конец службы доминиканец скомкал и поторопился закончить так быстро, будто у него было назначено свидание с самим дьяволом. Принесли сосуды с вином и водой. Зазвенели колокольчики. Мальчики, поющие в хоре, сбитые с толку такой спешкой, сгрудились в беспорядке и затянули: – lté, missa est…[55] Брат Доменико вздохнул с облегчением, объявив конец службы. После этого он поспешно исчез в ризнице Лоренцо Великолепного, а благородные синьоры и знатные дамы с величественной неторопливостью стали покидать собор. Князь Фарнелло согнул руку, предлагая ее своей жене, но Зефирина с отсутствующим видом прикоснулась пальцами к его парчовому рукаву. Следуя за Плюш, княжеская чета покинула собор. Раскланиваясь направо и налево со знакомыми, Фульвио, однако, своим непроницаемым лицом лишил любопытствующих удовольствия. Любители сплетен остались ни с чем. Да и кому бы захотелось сделать своим врагом столь могущественного человека, как Фарнелло?! На площади перед собором знатные флорентийцы собирались группами, чтобы обменяться впечатлениями. Нищие выпрашивали мелочь. Толстая княгиня Пандольфини первая решилась подойти к князю Фарнелло. – Князь… представьте же нам это восхитительное существо, княгиню Зефирину… Что за прелесть, какая красавица, как обворожительна… Говорят, вы француженка, мадам… Ах, французы! Знаете ли вы, что я имела честь быть знакомой с его величеством Людовиком XII… И тут за ней хлынули остальные. Всем хотелось подойти к Зефирине, которая невольно стала сенсацией воскресного утра. С улыбкой, застывшей на губах, она отвечала на приветствия легким наклоном головы. Создавалось впечатление, что ей непонятно, что происходит. Князь Фарнелло бросил на нее быстрый взгляд. Физическая слабость очень шла Зефирине, добавляя к ее облику пленительную томность. «Неужто она и вправду, оставаясь красавицей, потеряла разум?» – задумывался князь. По его знаку к толпе подъехала черная карета с изображением золотых леопардов, окруженная всадниками из охраны и лакеями в ливреях. – Подождите меня здесь с вашей госпожой, мадемуазель Плюш, у меня есть маленькое дело. Я быстро его улажу и вернусь к вам… Говоря так, Фульвио подал руку Зефирине, чтобы помочь ей подняться в карету. Сознательно или нет, но молодая женщина не заметила его жеста. Она приняла протянутую руку лакея и уселась на мягкие подушки. Лицо ее при этом не выражало никаких эмоций. В то время, как Фульвио удалялся от кареты, дуэнья, сидевшая напротив молодой женщины, спросила: – Хорошо ли вы себя чувствуете, мадам? – Очень хорошо, – ответила Зефирина тихим голосом. – Вы не очень устали? – Нет… отчего же? – Э-э… ну, после того, что случилось… – А что случилось? – прошептала Зефирина. – Хм… эта проповедь… хм… – Плюш запуталась, – да нет, ничего… Вы не проголодались? Может быть, хотите пить? – Как вам угодно, – ответила Зефирина бесцветным голосом. Плюш покачала головой. Видя некогда порывистую, гордую, пылкую, волевую и мятежную Зефирину в состоянии прострации, старая дева чувствовала, как все у нее в душе переворачивается. Вдруг Плюш вздрогнула. В толпе городской знати она заметила женщину в черном бархатном платье, расшитом стеклярусом, с лицом, скрытым густой шелковой вуалью. В числе других прихожан она выходила из собора. Рядом с нею шел карлик в шляпе с желтым пером. – Зефирина, детка, взгляните, не ваша ли это… Мадемуазель Плюш хотела сказать «ваша мачеха», но, взглянув на Зефирину, осеклась. Зефирина, точно маленький ребенок, забавлялась с Гро Леоном. – Милая птичка… хорошая птичка… – нашептывала она на ухо галке. «Стоит ли говорить ей об этом, бедная головка неспособна рассуждать!» – решила Плюш. Дуэнья снова повернулась в сторону дамы с вуалью. Та вместе со своим карликом села в черный экипаж, и тот вскоре исчез в направлении Палаццо Веккио, в котором располагалась «Синьория» Медичи.* * *
Фульвио направился быстрыми шагами к священнику. Не сочтя нужным постучать, князь спокойным жестом отстранил перепуганных его внезапным вторжением ризничих и проник в ризницу, где в этот момент брат Доменико, сняв облачение, в котором служил мессу, надевал мирское платье из грубой шерсти. Ужаснувшись приходу Леопарда, брат Доменико попытался спрятаться за большим распятием. – Послушай меня, служитель Дьявола, – с тихой угрозой заговорил Фульвио. Проповедник неистово перекрестился, желая отвести от себя богохульные слова князя. – Если бы ты не изображал из себя божьего человека, я бы тебе так отделал задницу, что всю оставшуюся жизнь ты бы не мог сидеть в исповедальне. – Но… монсеньор… У брата Доменико дрожали и подгибались колени под засаленным камзолом. – Еще одно слово, и ты будешь собирать свои зубы на дне кропильницы, глупый, самодовольный злопыхатель… Фульвио сделал шаг вперед, отчего монах отскочил назад сразу на три. – Приказываю тебе, слышишь меня, чтобы в следующей проповеди не было ни единого звука из тех гнусных инсинуаций, которые ты излил на голову княгини Фарнелло… Если ты вместо своих гнусностей не заявишь, что княгиня – небесный ангел, то клянусь распятием, за которое ты уцепился, ты у меня вспомнишь Савонаролу… Участь этой окаянной души станет и твоей участью. Ты будешь гореть сначала на земле, а потом и в аду… – Нет, только не это… – простонал брат Доменико, выпуская из рук распятие и шумно падая в ноги князю Фарнелло. – Помилосердствуйте, монсеньер… Я не виноват, злые языки настроили меня против княгини Фарнелло… сплетники… княгиня Пацци… граф Бонди… господа Строцци, Бардини… все. Вы правы, монсеньор, она ангел, да что я говорю, архангел, слетевший с божественного престола. Я так и скажу… я крикну это в лицо всей Флоренции… всему миру… даже дикарям, найденным мессиром Кристофусом Колумбусом… Фульвио не требовал так много. Монах явно перестарался. – Ладно, придите в себя, брат Доменико, – спокойно сказал князь, который блестяще владел искусством кнута и пряника. – Я вижу, вы человек искренний, это злые люди ввели вас в заблуждение… А что вы скажете, если я пожертвую тысячу золотых дукатов на ваши благотворительные дела?..* * *
Соборная площадь уже опустела. Фульвио, довольный удавшейся воспитательной акцией, вернулся к экипажу, который хорошо был знаком всему городу из-за короны и девиза рода Фарнелло: «Я хочу», изображенных на дверцах. Мадемуазель Плюш и Зефирина неподвижно сидели на своих местах. Легким движением князь вскочил в карету. Зефирина не повернула головы. Фульвио высунулся из окошка и крикнул кучеру: – Сначала во дворец, а потом в Сан-Кашано… мы там заночуем… Обращаясь к мадемуазель Плюш, Фульвио произнес тоном, не допускающим возражений: – Вас не затруднит, мадемуазель Плюш, пойти и собрать вещи вашей госпожи? – Значит, монсеньор принял решение… Отправляемся ли мы в путешествие все вместе? – прошепелявила дуэнья. – Значит, – повторил Фульвио с улыбкой, – я действительно принял решение, мы все, мадемуазель, отправляемся в Рим. Мы с княгиней поедем вперед… а вы с Пикколо и повозками, нагруженными вещами, последуете за нами. Глядя на растерянное лицо Артемизы Плюш, Фульвио снисходительно улыбнулся: – Успокойтесь, мадемуазель, на одном из этапов путешествия мы встретимся… – А-а… ну да, конечно… Растерянная Плюш пыталась найти слова, чтобы объяснить. Как сказать князю, что она не предвидела такой стремительной перемены обстоятельств и опасается оставить Зефирину наедине с ним? – Мадам все еще такая измученная… больная… не способная сама… – шептала Плюш. Зефирина, казалось, не слышала их разговора. Она смотрела прямо перед собой, погрузившись в свои бесконечные грезы. Рука князя в бархатной перчатке, много раз мелькавшая перед ее лицом, не вызывала никакой реакции. Прекрасные зеленые глаза глядели не мигая. Брови Леопарда слегка нахмурились. Экипаж подъехал к палаццо князя. Пикколо открыл дверцы. Мысли, терзавшие Плюш, были так заметны на ее унылом лице, что Фульвио улыбнулся: – Не волнуйтесь за княгиню, мадемуазель Плюш, разве я похож на кровожадного волка? Плюш не осмелилась сказать Фульвио, на кого он похож. «Господь милосердный, неужто бедная малютка уступила Гаэтану? Что ж, князь все-таки ее законный муж, и «это» приведет наконец к развязке…» – говорила себе Плюш, неохотно вылезая из кареты. – Мадам желает чего-нибудь? Чтобы выиграть время, Плюш обратилась с вопросом к Зефирине. Погруженная в собственные мысли, Зефирина, похоже не слышала вопроса. – До вечера… или до завтра, мадемуазель Плюш! – бросил Фульвио. «Завтра… Боже правый…» При этих мало обнадеживающих словах Плюш с отчаянием посмотрела на черную с золотом карету в окружении слуг, увозившую Леопарда и его молодую жену, окончательно исцелившуюся физически. Однако с головой у нее не все в порядке: похоже, мозг не выдержал того, что ей пришлось пережить.Глава IX «КАК ВАМ УГОДНО»
Единственной «персоной», без умолку болтавшей в карете, был Гро Леон. Казалось, молчание супругов лишь раззадоривало птицу. В конце концов она совсем распоясалась: – Sardanapale… sornettes… sortileges… sabato… salutare… signore… signora… sacrilegio…[56] За какие-то несколько дней говорящая птица перешла на итальянский язык. Фульвио, которому птица прожужжала все уши своей болтовней, схватил наконец ее двумя пальцами и, раздвинув атласные шторки, защищавшие пассажиров от ветра, выкинул из кареты. Оскорбленный Гро Леон покружил немножко над каретой и сел на плечо Паоло, ехавшего верхом, рядом с дверцей. Быстрым движением руки князь задернул шторки. Обернувшись к Зефирине, которая, несмотря на ухабы дороги, сидела все так же прямо, неподвижно, погруженная в свои мысли, он спросил вежливо: – Не желаете ли перекусить, мадам? Зефирина не ответила на его вопрос. Фульвио дотронулся до ее руки: – Донна Зефира, вы не голодны? Он даже тряхнул ее легонько. Теперь Зефирина словно выплыла на поверхность. Взглянув на Фульвио так, будто видела его впервые, она прошептала детским голосом: – Как вам угодно! – Не хотите ли пить? – Как вам угодно… – Вам не холодно? – Мне холодно? – с усилием спросила Зефирина. – Не знаю… это вы должны знать, жарко вам или холодно. Не накрыть ли вас шалью? – Как вам угодно… Подобно автомату, заведенному ловким механиком, Зефирина повторяла одно и то же: «Как вам угодно». Набросив черное антиохийское покрывало с вышитыми на нем голубыми птицами на ноги Зефирины, князь нагнулся и достал из-под сиденья заготовленную его поваром корзину с провизией. – Может быть, попробуете паштет из печени? – предложил Фульвио. – А может, вы любите павлинье крылышко, если, конечно, не предпочитаете начать с запеченного мяса? Мучимая непреодолимой нерешительностью, Зефирина только кусала губы. Она тихо вздохнула, а на лице появилось выражение беспомощности. – Как вам угодно, – прошептала она. – Как мне угодно! – произнес неуверенно Фульвио. Достав серебряный нож с ручкой из слоновой кости, он нарезал ломтями самой разной дичи, положил на тарелку из позолоченного серебра и поставил перед Зефириной. Себе он отрезал большой кусок кабанины и с удовольствием принялся есть. – Если я согласился на этот тет-а-тет, мадам, то исключительно для того, чтобы проверить, насколько верны заявления вашей дуэньи… У вас, значит, по-прежнему плохо с головой. Вы больше не разговариваете, но если вы и лишились своего острого ума, то ваша Восхитительная красота осталась при вас… И уж коли на то пошло, какой муж не был бы рад такому превращению? Оставайтесь же всегда такой милой, а главное, молчите… Как это говорится в вашей воинственной стране: прежде жить, а уж потом философствовать?.. Не хочу вас обидеть, но вы как раз склонны прежде философствовать, а жить потом… И вот теперь, насколько я понимаю, вы все забыли… Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное и мир на земле тоже… Да будет так! Поглощая кусок за куском с аппетитом, который, казалось, был неутолим, Фульвио задавал вопросы и сам на них отвечал, не глядя на Зефирину. Обглодав какую-нибудь косточку, он небрежно швырял ее через окошко кареты. Не утруждая себя ножом, он руками отрывал крылышки и ножки дичи и обгладывал острыми зубами с ловкостью настоящего леопарда. Зефирина не притронулась к тарелке, лежащей на ее коленях. Лицо не выражало ни скорби, ни скуки, ни удовлетворения, ничего… – О, да вы не едите, мадам! Уж не из клювика ли мне вас кормить? – воскликнул Фульвио, вытирая пальцы кружевной салфеткой. Что ж, попробуем покормить вас, донна Зефира! Он взял кусочек мяса и поднес ко рту молодой женщины. – Ну же, ешьте… – Если… вам… угодно… В то время, как Зефирина откусывала маленькие кусочки сочного мяса, Фульвио всматривался в нее своим проницательным взглядом. – Вы были слишком умны, Зефирина де Багатель, чтобы так сразу превратиться в дурочку… Действительно ли вы ею стали? Красивая и глупая, как гусыня… При этих словах лицо Зефирины осветила легкая улыбка. – Это вкусно… очень вкусно… – Так… отлично… еще кусочек… вот все и съели! Утерев подбородок Зефирины вышитой салфеткой, он налил в кубки пряного розового вина. Вложив один в руку молодой женщины, он поднял второй и произнес: – За наше здоровье… Думаю, никому не приходилось видеть более счастливой супружеской пары… Конечно, вашей поврежденной головке не дано понять того, что я говорю, но это и неважно! Клянусь, я всегда мечтал о жене красивой и глупой, которая станет исполнять все мои желания! Что поделаешь, слабость латинянина! И, похоже, я ее нашел в вашем лице! Может, я и сам поглупею… Как подумаю, что колебался между желанием отослать вас, лишив себя молчаливого удовольствия, которое вы сможете мне доставить, и возможностью воспользоваться вот этим кольцом, внутри которого, из предосторожности, по совету моих друзей Медичи, я постоянно храню яд, чтобы насовсем избавиться от вас, когда вы перестанете меня забавлять… Мы тут, во Флоренции, толк в ядах знаем! Впрочем, я принял иное решение, к тому же более приятное… для меня… Произнося эти по меньшей мере тревожные фразы, Фульвио ни на секунду не отрывал взгляда от Зефирины. Но на лице молодой женщины не дрогнул ни один мускул. Князь высунул голову из кареты: – Паоло, еще далеко? – спросил он. – Четыре лье, ваше сиятельство! – Прекрасно, не беспокойте меня ни под каким предлогом! Нам этого времени более чем достаточно, мадам… Решительно задернув шторки, он склонился к Зефирине. – Цвет лица у вас заметно лучше, как мне кажется… Не будете ли вы так любезны снять блузку, чтобы я мог в свое удовольствие поласкать вашу грудь, донна Зефира… Кончиками пальцев Фульвио прикоснулся сквозь «панцирь» одежды к ее красивой груди, стиснутой тугой шнуровкой. Наверное, лошади неслись слишком быстро, потому что дыхание Зефирины стало прерывистым. – А почему вы больше не говорите своим милым детским голоском? Ну скажите еще раз «как вам угодно»… Немного поколебавшись, Зефирина отчетливо произнесла: – Как… вам… угодно… – Вот хорошо… А теперь раздевайтесь, донна Зефира, чтобы я мог выяснить, можно ли вас все еще считать достойной княгиней Фарнелло… потому что мне необходимо знать, украден ли мой товар… Продолжая говорить, Фульвио отцепил шпагу, снял перевязь, бархатный камзол. Когда на нем не осталось ничего, кроме штанов и широко распахнутой на крепкой груди рубахи, он с довольным видом обернулся к своей молодой жене. С ладонью, прижатой ко лбу, с опущенными веками, Зефирина казалась поглощенной каким-то мучительным размышлением. Надо было быть грубым животным, чтобы не смягчиться, глядя на побелевшие губы, опустившиеся длинные ресницы и повлажневшие от скатившихся слезинок щеки. Фульвио же воскликнул строгим тоном: – Как, мадам, вы все еще не разделись… Что ж, тем хуже, мы окажем вам честь в том виде, в каком вы есть… Черт побери, постараемся хорошо провести время! И, следуя сказанному, князь опрокинул Зефирину на обитую красным атласом банкетку…Глава Х ВОСКРЕСШАЯ САЛАМАНДРА
Таинственная Саламандра! Эта эмблема, без сомнения самая знаменитая из тех, что выбирали себе короли Франции – роза Карла VII, солнце Карла VIII, дикобраз Людовика XII – не переставала интриговать современников Франциска I. Наиболее ученые искали истоки и смысл этой эмблемы, бог знает, по какой причине, в итальянских и латинских изречениях: «Notrisco al Buono stingo el Reo», «Nutrisco et Extinguo»[57]. Каждый образованный человек толковал это по-своему, но в устах короля эти фразы должны были означать: «Я утвержу право и уничтожу несправедливость!», «Мне миловать, мне и карать!» С древнейших времен саламандра, маленькое животное ярко-желтого, а иногда оранжевого цвета, напоминающее луговую ящерицу, славилась тем, будто могла чудесным образом гасить огонь и воскресать, даже если ей отсечь лапы, хвост, голову. Однажды граф Жан Ангулемский, дед Франциска I, решил сделать это животное династическим символом. Он сравнил саламандру, возрождающуюся из пепла и гасящую пламя, с поборником справедливости, уничтожающим зло. Неравнодушный, как многие, к поэзии, принц еще в прошлом веке сочинил маленькое изящное рондо по поводу выбранной им эмблемы:Правитель земной, осторожный и добрый,
Хранитель согласья и мира,
Повсюду гасящий пламя
Людских раздоров и ссор.
Правитель земной, осторожный и добрый,
Хранитель согласья и мира,
Вам приношу я в жертву
САЛАМАНДРУ, ЧТО ГАСИТ ОГОНЬ,
РАССЕЧЕННАЯ…
Глава XI ПУТАНИЦА, ДОСТОЙНАЯ МАКИАВЕЛЛИ
Лорд Мортимер, герцог Монтроуз, полномочный посол его величества короля Генриха, один из самых богатых лордов Англии – ведь говорили же, что у него в Корнуэлле пятитысячное стадо овец, – соскочил с лошади, чтобы поприветствовать Зефирину. Пока он приближался к ней типично английской походкой, держась неподражаемо прямо, молодая женщина, смущенная этой неожиданной встречей, отметила про себя, что герцог оказался намного привлекательнее сохранившегося в ее воспоминании образа. Мортимер де Монтроуз, мужчина лет тридцати с небольшим, благодаря своим белокурым волосам, являл полную противоположность жгуче-черному князю Франелло. Золотистые кудри герцога обрамляли тонкое лицо с правильными чертами. Лишь несколько изломанная в середине линия носа наводила на мысль, что как на поединках, так и на полях сражений этот человек, должно быть, сущий бульдог. «А может, это он был тем незнакомцем на пляже…» При этой мысли сердце Зефирины забилось сильнее. Как всегда, когда была чем-то взволнована, она начала кусать губы, но ей все же хватило самообладания опуститься в глубоком реверансе в тот момент, когда красавец англичанин, сняв шляпу с пером, размашистым жестом мел ею землю. – Всемилостивые боги, ваша светлость, какая радость, какое счастье снова встретить уважаемую миледи Зефирину де Багатель, княгиню Фарнелло… Могу ли я воспользоваться случаем и поздравить вашу светлость со столь удачным выбором? При последних словах Мортимер де Монтроуз взглянул на князя. Мужчины раскланялись друг с другом, после чего англичанин снова рассыпался в комплиментах Зефирине. – Глубокоуважаемая миледи де Багатель без всякого сомнения была самой привлекательной особой на этой «встрече века»… Не правда ли, миледи? Какая удача, что мы оказались в числе тех, кто жил тогда в «Золотом лагере». Бог ты мой!.. И наши короли «братья»… Времена тогда были, клянусь святым Георгием, поспокойнее, чем теперь… ни одна душа на свете не увидит таких чудес! Ах, какое чудное воспоминание для тех, кому довелось видеть!.. В сыпавшихся без остановки восклицаниях Мортимера де Монтроуза без конца путались французские, итальянские и английские слова. Фульвио, если его и раздражала необычная для англичан экспансивность, ничем этого не обнаружил. Напротив, с фамильярностью, которую ему позволяло его положение, он взял полномочного посла за пышный рукав и как бы поощрил: – Я просто счастлив, милорд, что ваша милость приняли наше с княгиней приглашение… «Вот тебе на, оказывается, я уже и англичанина пригласила…» – подумала Зефирина. А Фульвио невозмутимо продолжал: – …разделить с нами экипаж, в котором мы едем в Рим, где мы с княгиней надеемся… «Боже, опять что-то!..» – мелькнуло у Зефирины. – …ваша милость станет нашим гостем на все время карнавала… Пока Мортимер де Монтроуз отвечал князю в не менее изысканных выражениях, Зефирина пыталась понять, что происходит. В голове проносились самые разные мысли. «С чего это Фульвио решил завлечь Мортимера в Рим?» Вообще эта встреча была странной. Очевидно, что и посол, и князь Фарнелло предпочитают не давать пищи для любопытства флорентийцев по Прибытии в их город. Осмотревшись вокруг, Зефирина увидела, что они остановились у маленькой гостиницы с вызывающим Названием «Марцелл из Сиракуз». Свита герцога, состоящая из двенадцати всадников, ожидала поодаль, в месте пересечения двух дорог, у придорожного распятия, и на почтительном расстоянии от людей князя Фарнелло. Во время беседы Фульвио и Мортимер прохаживались вдоль растущих у дороги кипарисов. Посеревшее небо напоминало, что наступают сумерки. Зефирина вдруг почувствовала сильную усталость. Было ли это следствием ужасной болезни или того, что ей пришлось пережить в карете? Ей хотелось лечь на траву и забыться сном. Но тут птичий клекот заставил ее поднять голову. – Sardine… Zuppa…[58] Да, это трус Гро Леон летел к своей хозяйке. Теперь он вовсю хлопал крыльями, любезничал и изо всех сил старался получить прощение за свою «трусость». – Сейчас самое время говорить со мной о супе, а когда ты был мне нужен, что-то тебя не оказалось на месте, болтунишка, – сказала с упреком Зефирина. В этот момент князь Фарнелло с непроницаемым лицом подошел к жене. – Милорд Монтроуз принял приглашение ехать с нами и воспользоваться нашим гостеприимством в Риме… Мы заночуем здесь, в Сан-Кашано. Мортимер отдавал приказания своим людям. Кинув быстрый взгляд на англичанина, Фульвионаклонился к Зефирине. Железной рукой он стиснул запястье жены и произнес: – Если вы попытаетесь сбежать, если причините мне хотя бы малейшее беспокойство, клянусь вашей маленькой рыжей головкой, что… Зефирина прервала его: – Не клянитесь, монсеньор, у меня только одно желание – добраться до Рима и добиться расторжения ненавистного союза. Так что вы очень ошибаетесь… Она умолкла. К ним приближался герцог Монтроуз. Фульвио отпустил ее руку. Сменив тон, Зефирина протянула англичанину свои онемевшие пальцы. – Князь сказал, что вы принимаете наше приглашение! Я в восторге, милорд… Мы поговорим о той паване, которую я не смогла протанцевать с вами… После этих «учтивых» слов, предвещавших новые осложнения, улыбающаяся Зефирина в сопровождении своих знатных спутников вошла в гостиницу. По-видимому, Леопард уже распорядился. Все было готово для приема господ и их свиты. Хозяином «Марцелла из Сиракузы» был грек по имени Аристофан. Без конца расшаркиваясь и раскланиваясь перед их высочествами, их сиятельствами, их светлостями, их преподобиями, их милостями, князем, княгиней, милордом и даже величеством, Аристофан не переставал при этом командовать целым батальоном поваров и служанок, которые готовили еду и обогревали комнаты для знатных гостей. «Во что же мне переодеться, я ничего не взяла с собой?!» – только и успела подумать Зефирина, оказавшись перед ушатом, куда служанки уже налили пенящуюся от мыла воду. Ответ на ее немой вопрос последовал незамедлительно. Во двор гостиницы въехали четыре повозки. В них, кроме мадемуазель Плюш, находились камеристки, слуги, камердинеры, два баула с одеждой, мебель, статуи, картины, даже кровати и ковры. Весь этот огромный скарб неизменно сопровождал любого знатного синьора во всех его переездах. – Моя маленькая… Мадам… Княгиня… Господи, как вы себя чувствуете? – Очень хорошо, Плюш… Немного отдохнувшая Зефирина, нежась в теплой воде, даже напевала, а кончиком ноги играла с Гро Леоном. – Я боялась… Я так боялась, что… Милосердный Боже, как бы это сказать… – шепелявила Плюш. – Что князь воспользуется своими супружескими правами? – спокойно спросила Зефирина. – Ничего подобного, мы по обоюдному согласию собираемся попросить его святейшество расторгнуть наш брак. – Монсеньор согласен? – Полностью. – Силы небесные, развод! От волнения Плюш опустилась на табурет. Зефирина не торопясь вышла из воды. Пока служанки снимали мокрую рубаху, в которой она принимала ванну, и вытирали тело надушенными полотенцами, Зефирина разглядывала себя в зеркало. С тех пор как она ступила на итальянскую землю, она явно подросла на полдюйма. Талия похудела, ребра, пожалуй, слишком выступают, надо чуточку пополнеть, а вот груди по-прежнему кругленькие, и розовые бутончики торчат. По телу снова пробежала дрожь, стоило ей только подумать о неистовых и одновременно сладчайших ласках Леопарда. Сама того не желая, Зефирина опять и опять вспоминала руки Фульвио, прикасавшиеся к самой интимной части ее тела. Погрузившись в мечтания, Зефирина неторопливым движением руки приподняла копну своих рыжих волос, стараясь удержать их над головой. «Если бы Мортимер де Монтроуз увидел меня сейчас?» – внезапно подумалось ей. Сердце в груди сильно застучало. Почему это англичанин все время так странно смотрит на нее? «Что, если он тот самый незнакомец, который вынес меня из огня и поцеловал?» Но тогда почему Фульвио так взволновал ее?.. Слишком склонная к размышлениям, Зефирина, на свою беду, все усложняла. – Мадам желает надеть к ужину платье или юбку? – спросила Эмилия. Зефирина не знала, выбрать ей свободное платье с расширяющимися книзу двухслойными рукавами, которое сейчас держит в руках камеристка или что-то поудобнее, например, легкую накидку из золототканой египетской материи. В конце концов она остановилась на накидке. Переодевшись, Зефирина задумалась, что ей следует сделать. Спуститься на ужин с двумя князьями или таинственно уединиться в отведенных ей комнатах на втором этаже гостиницы? – Его светлость «советует» ее милости отдохнуть. Выезжать придется завтра на рассвете… Это Паоло пришел передать ей слова князя. Зефирине стало ясно: Фульвио предпочитает ужинать наедине с английским послом. «И на здоровье! Думает, я расстроюсь, а мне бы только не видеть его…» С чисто женской логикой Зефирина, еще минуту назад решившая сыграть в загадочную красавицу, теперь злилась оттого, что весь вечер придется просидеть в комнате. После ужина, на который были поданы овощной суп, жареные артишоки, мясо с острым соусом, кнели из домашней дичи, петушиные гребешки, говяжья печень, рулет из свинины, жареные мозги, не считая десерта, состоявшего из померанцев, миндальных пирожных и засахаренных трюфелей, Зефирина, устав от болтовни Плюш, решила лечь спать. Но, едва загасили свечи, у Зефирины сразу пропал сон. Это часто бывает при сильной усталости. Она стала вспоминать дни своей болезни. Действительно ли князь приходил к ее постели? Сама она помнила лишь прохладную руку Нострадамуса, коснувшуюся ее лба. Когда же к Зефирине вернулось сознание, она чувствовала себя еще очень плохо, мысли путались, воли не было… Но мало-помалу ей становилось лучше, и тогда явилась мысль изобразить из себя дурочку, особенно когда в самые страшные дни своей болезни она заметила ужас в глазах Плюш. Желая обмануть наблюдавшего за ней мужа, Зефирина постаралась внушить своему окружению, что после болезни осталась слабоумной. Но как же Леопард разгадал ее хитрость? За дверью послышались шаги. – Доброй ночи, милорд… – Good night[59], монсеньор… Мужчины распрощались на лестнице. Хлопнули двери. Каждый вошел в отведенные ему апартаменты. Зефирина услышала, что за тонкой стенкой одной из ее комнат кто-то без устали ходит туда и обратно. Интересно, кто из князей стал ее соседом? Луч света, проникавший к ней из-под двери, начал удаляться, будто кто-то переносил канделябр в другое место. Со всей осторожностью Зефирина встала с постели. Перешагнув через Плюш и Эмилию, которые спали на брошенных на пол тюфяках, и стараясь не разбудить устроившегося на сундуке Гро Леона, она, крадучись, подошла к стене и прильнула к ней ухом. За стенкой не было слышно ни малейшего шороха. Значит, тот, кто там находится, уснул? Зефирина не могла поверить в это. И тут послышался треск. В соседней комнате открыли окно. Молодая женщина тихонько приоткрыла свое и украдкой выглянула наружу. Одного взгляда оказалось довольно, чтобы понять, как хорошо ее охраняют на случай, если у нее появится желание сбежать, спустившись из окна по связанным простыням. Четыре верных князю головореза с пиками в руках стояли под ее окнами. Она не рискнула высунуться из окна, опасаясь, как бы сосед не заметил ее. А сосед, похоже, любовался ночным небом. Вдруг Зефирина заметила две тени, пересекавшие двор гостиницы. Несмотря на ночной сумрак, она была уверена, что узнала прихрамывающую походку Паоло. Рядом с ним шел сгорбленный человек, лицо которого скрывал капюшон плаща. Оба человека подошли к гостинице. – Ступайте, мессир, монсеньор ждет вас, – прошептал Паоло. «Монсеньор?» Так значит князь Фарнелло – сосед Зефирины! Стоя сбоку от окна, молодая женщина поняла по скрипу снаружи, что ночной гость с трудом поднимается по лестнице, приставленной к стене. Потом послышался невнятный шепот, но Зефирина никак не могла понять, о чем говорили рядом. Любопытство ее разгоралось все сильнее, и она на ощупь вернулась к двери. Дверь оказалась запертой на ключ снаружи. Продрогнув в своей тоненькой ночной рубашке, Зефирина собралась уже лечь в постель, но тут ее осенило заглянуть в нечто вроде чулана, примыкавшего к ее комнате. Стараясь не шуметь, она открыла дверь комнатенки. Едва не опрокинув какой-то жбан, она наконец приникла ухом к стенке и с удовлетворением отметила, что здесь ей отчетливо слышно все, о чем говорят в комнате мужа. – Значит, монсеньор не забыл изгнанника из Сан-Кашано… – шепотом произнес старческий голос. – Никогда, мессир Макиавелли, – ответил князь. – А вот неблагодарные Медичи прогнали меня, – с горечью сказал гость. – Я не Джулио Медичи, мой дорогой Никколо, и никогда не забываю того, чему вы меня учили в юности во Флоренции. Ваша светлость очень добры. – А знаете ли, мессир Макиавелли, что моей настольной книгой является ваш труд «Князь»? – А! «Князь»!.. Монсеньор оказывает мне слишком большую честь. В этом трактате я изложил кое-какие свои соображения, которые могли, если бы они только захотели, помочь великим мира сего… но, кроме вас, монсеньор, умеет ли кто-нибудь из них читать? – Мне говорили, что ваши рассуждение «О Первой Декаде Тита Ливия» являются излюбленным произведением его величества Карла V… Немного вина? – Нет, монсеньор, мои бедные больные кишки уже не выносят его. Вот если вашей светлости будет угодно налить мне воды из этого графина… По звуку булькающей жидкости Зефирина поняла, что Фульвио наполняет кубки. – Как вы, человек, столь поглощенный политикой, проводите свои дни, мессир Макиавелли? – с любопытством спросил князь Фарнелло. – Ну, по утрам встаю вместе с солнцем, монсеньор, и отправляюсь прогуляться в рощу. Оттуда иду к фонтану, с собой беру какую-нибудь книгу… Когда Данте, когда Петрарку, а, случается, одного из поэтов поменьше, вроде Тибулла, Овидия или еще кого-то… «Образованный». Зефирина просто сгорала от желания увидеть лицо странного посетителя. Она подняла голову и увидела, что между перегородкой и потолком есть узкая щель, сквозь которую пробивается свет. Двигаясь бесшумно, точно мышка, Зефирина перевернула пустое ведро, влезла на него и оперлась руками о небольшую деревянную дощечку. Прильнув глазом к щели, она увидела, что происходит в соседней комнате. В дрожащем свете зажженных свечей Фульвио и его гость сидели за столом друг против друга. Посетитель был человеком лет пятидесяти-шестидесяти, заметно потрепанным жизнью. На его лице, некрасивом, но дышавшем умом, только черные глаза под нависшими седыми бровями казались еще живыми. – Пишете ли вы сейчас? – спросил Фульвио. – Я закончил теоретический трактат об искусстве ведения войны, монсеньор, историю Флоренции вплоть до Лоренцо Великолепного и, представьте себе, пьесу для театра, комедию… «Мандрагора». – Как бы мне хотелось ее прочесть. О чем она? – О Лукреции, жене старого доктора Нича, которая обманывает его с молодым Калимачо. Это очень забавно. Но ваша светлость просили меня взобраться по приставной лестнице, чтобы поговорить о театре? – спросил неожиданно писатель, ставя на стол свой кубок. Фульвио сделал то же. – Не совсем, мессир Макиавелли… «Макиавелли, Макиавелли…» Зефирина никогда не слышала ни от кого об этом человеке. Во Франции его имя сразу бы укоротили и звали бы просто мессир Макиавель… Странное имя звучало в голове как что-то непонятное и даже опасное. – Я мог бы говорить с вами о литературе всю ночь, мой дорогой Никколо, – сказал Фульвио, нисколько не обидевшись; но вы правы, мы уезжаем завтра на рассвете. Нашу встречу в Сан-Кашано я устроил только для того, чтобы увидеть вас, а также пригласить к себе на службу и… забрать с собою в Рим. – Стать личным советником князя Фульвио Фарнелло? – сказал гость задумчиво. – Именно так. Человек тяжело вздохнул: – Ах, монсеньор, вы появились слишком поздно. При этих словах брови князя Фарнелло нахмурились. – Значит ли это, что вы снова кому-то принадлежите? – Увы, это так, монсеньор… принадлежу смерти… Мне уже недолго осталось. С каждым днем я становлюсь все слабее, и предложение, сделанное мне вашей светлостью, наполняет меня одновременно и радостью, и печалью. Италию ждут тяжелые времена, и мне б хотелось изо всех сил помочь вашей светлости… В комнате наступило тяжелое молчание. Слышно только, как потрескивают свечи. – Мой врач один из лучших и может помочь вам, Никколо. Странный посетитель оборвал Фульвио выразительным жестом, говорившим: «бесполезно». – Мне кажется, я угадал, что вас терзает, Фульвио… Таков, увы, удел всех итальянских князей. Подлинно великий князь, мой дорогой друг, если вы позволите мне вас так называть, в политике должен принимать во внимание лишь стоящие перед ним цели, не давая воли моральным предрассудкам… Без малейших угрызений совести он должен жертвовать всем, что окажется на его пути к достижению цели. Не доверяйте никому и ничему, князь Фарнелло! Не доверяйте своей семье, своей жене и своим детям, если они у вас есть! Не доверяйте самому себе! Помните, что в итоге вы обнаружите больше преданности и преимуществ в тех людях, которые в начале вашего правления казались вам подозрительными, а не в тех, кто поначалу вызывал ваше доверие. Не доверяйте своему исповеднику… Не доверяйте своему сну, своему лицу, своему взгляду, своим мыслям… Научитесь постоянно их скрывать! Улыбайтесь тем, кого ненавидите, не сближайтесь с теми, кого цените! И помните всегда о той бесценной пользе, которую можно извлечь как из древних, так и новейших событий. Они говорят о том, что всякому новому правителю легче добиться дружбы тех, кого устраивал прежний режим и кто из-за этого был его врагом, чем дружбы людей, ставших его друзьями и помогавших свергнуть ненавистную им власть… – Вы хотите сказать, Никколо, что мне следует больше доверяться моим врагам французам, чем испанцам и англичанам… нашим союзникам? – прошептал Фульвио. – Я хочу сказать то, что сказал. Ваша светлость может толковать сказанное сообразно происходящим событиям. Только не впадайте в роковую ошибку, не позволяйте себе проникнуться к кому бы то ни было искренним доверием, дружбой и особенно любовью. Вот, монсеньор, завет, который из глубокого уважения может оставить вам несчастный Макиавелли. С этими словами мужчина встал, но тут же согнулся от сильного приступа кашля. Князь Фарнелло с теплотой и участием поддерживал больного, пока тот кашлял кровью в маленький таз. – Я проведу вас по нормальной лестнице, – сказал Фульвио, когда Никколо Макиавелли немного успокоился. – Ни в коем случае, монсеньор, – запротестовал гость, утирая обильный пот со лба. – Англичанин может увидеть меня, и это вызовет у него подозрения. Но вашей светлости надо не будить, а, напротив, всячески усыплять его сомнения и сжимать его в руке, как змею. Говоря эти слова, старый человек хитро улыбался. – Я поднялся по приставной лестнице и спущусь по ней. Прощайте, монсеньор, пусть ваша светлость постарается использовать мои теории в практике… И тогда в чистилище, которого мне не избежать за все мои грехи, я смогу порадоваться… Князь и его гость исчезли из поля зрения, и Зефирина поняла, что они подошли к окну. Осторожно, стараясь не шуметь, она тоже соскочила со своего насеста. «Какой макиавеллический человек!» – подумала Зефирина не подозревая, что изобрела новое слово. «Улыбаться тем, кого ненавидишь, не сближаться с теми, кого ценишь… не доверять никому… опасаться всех, даже самого себя». Задумавшись, Зефирина поглядела в окно. Следуя за Паоло, сгорбленный силуэт удалялся от гостиницы. Молодая женщина жалела, что ей нельзя последовать за ночным посетителем. А как бы хотелось поговорить, поспорить, высказать свои мысли в захватывающей беседе с этим мыслителем! «Что это, досужие разглагольствования… политические бредни непревзойденного циника? А, может, гениального теоретика, которому удалось изобрести, синтезировать новую систему управления?» Зефирина улеглась в постель с совершенно окоченевшими ногами. Зато разум ее кипел от всего, что она наслушалась. В конце концов она все же уснула с успокоительной мыслью: «Больше со мной ничего не случится… Завтра мы едем в Рим… В вечный город Рим…»Глава XII ЛИТЕРАТУРНЫЙ НАТИСК
– Salut… Saucisse! Болтовня Гро Леона разбудила Зефирину. Мадемуазель Плюш принесла ей бульон из куропатки. Хорошо отдохнувшая, со свежей головой, Зефирина брызнула несколько капель винной эссенции на лицо и руки. Потом попросила заплести ей волосы в одну косу, так удобнее в дороге, и уложить ее на голове, а сверху прикрепить тоненькую сеточку, усыпанную золотыми бусинками. Выглядело просто и очень красиво. Сунув ноги в модные венецианские туфельки, Зефирина надела принесенную камеристкой короткую рубашку, нижнюю юбку со шнуровкой и особые дамские пантолончики с утолщениями на бедрах. – Какая у вашей светлости красивая фигура! – восхищалась Эмилия, в то время как Зефирина упиралась в спинку кровати, чтобы легче было ее шнуровать. Затянутая так, что едва дышала, она стала размышлять, какой надеть костюм: французский, итальянский или испанский. Последний был особенно в моде у дам из высшего общества. Поколебавшись немного, Зефирина достала из баула черный дорожный костюм, отличавшийся изысканной иберийской простотой. Она тут же надела «сайю», состоявшую из двух частей: «вакеро», приталенного жакета с отстегивающимися рукавами, и «баскинас», трех нижних юбок, каркас которых более эластичен, чем фижмы, но с обручем внизу. Поверх них была надета «ропа», юбка, расширяющаяся книзу и позволяющая без труда ходить и садиться. «Ребато», кружевной воротник, удерживаемый в стоячем положении проволочным каркасом, изящно обрамлял ее лицо, а черная мантилья, наброшенная на золотые волосы, завершала туалет. Окончательно одетая Зефирина, в сопровождении Плюш, Эмилии, Гро Леона, Пикколо и, на всякий случай, Аристофана, спустилась во двор гостиницы. Фульвио и Мортимер ждали ее у кареты. Решив прямо с утра применить на практике ночные советы мессира Макиавелли, Зефирина одарила князя, своего мужа, ослепительной улыбкой, а герцога Монтроуза удостоила лишь вежливым кивком головы. Онемевший Фульвио и удрученный Мортимер поднялись вслед за нею в карету, а Плюш и Эмилия заняли места в одной из трех хозяйственных повозок кортежа. Несколько лье сидевшие в карете ехали почти молча, чему, впрочем, причиной мог быть слишком ранний час. Каждый из троих или дремал, или предавался собственным мыслям. Даже Гро Леон, и тот молчал! Сидя рядом с князем Фарнелло, напротив Мортимера де Монтроуза, Зефирина, расслабленная мерно раскачивающейся каретой, рассматривала затуманенным взором мелькавший перед нею пейзаж. Даже ясное утреннее небо вызывало у нее восхищение, которое с некоторых пор она испытывала вообще к Италии. Как прекрасны залитые солнцем поля и равнины, окружающие Флоренцию! Отчего Зефирину так трогало очарование этих земель, которые она должна была бы ненавидеть? Она уже полюбила Ломбардию с ее мирно плывущими по синему небу барашками облаков, и вот теперь, в золотистом сиянии флорентийской Тосканы, Зефирина чувствовала, как ослабевает ее воинственный пыл. Источником этой волшебной перемены был вовсе не человек, сидящий рядом с ней, а божественный ландшафт, по которому неслась их карета. Между тем время было еще зимнее. Во французском королевстве крестьяне еще дрожали в своих хижинах, а богатые синьоры согревались у жарко натопленных каминов. Здесь же поля, хотя и не позеленели еще от всходов, но вовсю сверкали в теплых солнечных лучах. В зелени листвы виднелись розовые деревеньки, и не будь этих ужасных кондотьеров и испанской солдатни, разъезжающих верхом в своих кольчугах, Зефирина никогда бы не подумала, что полуостров оккупирован иностранной армией. Видя долины, реки, кружевные силуэты кипарисов, целые рощи трепещущих на ветру ив и гордо высящиеся на холмах башни феодальных замков, Зефирина начинала лучше понимать творения современных художников, которые она для себя открыла на стенах палаццо Фарнелло и чьим талантом восхищалась. Этот земной рай, расцвеченный в голубые, розовые, зеленые и золотые тона, то и дело вызывал в ее памяти имена Боттичелли, Фра Анжелико, Рафаэля, пока еще мало известного во Франции. Лицо Зефирины осветила очаровательная улыбка, сделавшая ее похожей на модели этих художников. Неожиданно вырванная из своих грез, она вздрогнула. – Мы приближаемся к папским владениям! – произнес стальной голос князя Фарнелло. – О, значит, мы скоро переедем через исторический Тибр! – отозвался герцог. Бросив взгляд на Зефирину, князь произнес: – Он станет нашим Рубиконом! Alea jacta est! Жребий брошен! Зефирину охватило волнение. Но причиной тому были отнюдь не утешительные слова князя. Она почувствовала, как к ней под юбки пробирается мужская нога. Чье-то колено уже касалось ее собственного. В момент дорожных встрясок оно отдалялось, но потом победоносно возвращалось. Опустив глаза долу и приняв позу мадонны, Зефирина пыталась угадать, кто из двух почтенных господ предпринял наступление. Видя, что князь Фарнелло сидит, прислонившись головой к дверце кареты, молодая женщина отбросила все сомнения. Приняв во внимание направление атаки, она поняла, что это может быть только герцог Монтроуз. – Нам придется спуститься к реке и въехать на паром; разумнее выйти из кареты… – заявил Фульвио, – …но если вы устали, мадам, мы устроим так, чтобы вы не выходили… С выражением полной готовности подчиниться Зефирина ответила: – Нет, монсеньор, мне было бы неприятно создавать неудобства вашим людям, я сделаю то же, что и вы, наша светлость… Не перестающий изумляться, Фульвио смотрел на Зефирину, как на неведомое ему существо. – И все же, миледи, если ваша милость боится простудиться, мы безусловно сможем, монсеньор и я, удержать лошадей, – предложил Мортимер. Зефирина сухо оборвала его: – Благодарю вас… я пока еще не лишилась сил… Колено герцога под юбками как будто замерло в нерешительности. Но теперь атаку предприняла Зефирина. Успокоенный Мортимер снова продвинул ногу. В какой-то момент Зефирина, улыбаясь мужу, позволила красавцу англичанину прижаться к ее ножке. Более того, она пылко ответила ему тем же. Поглощенная этим занятием, она не прислушивалась к разговору мужчин. Солнце, начавшее к этому часу уже пригревать, заставило их наконец разговориться. В который уже раз Зефирина задавалась вопросом: «Не Мортимер ли был тем незнакомцем на пляже?» – Что вы об этом думаете, мадам? Фульвио слегка повернулся к Зефирине. Но она ничего не думала, поскольку не слышала, о чем они говорят. – У меня… нет своего мнения об этом… – ответила молодая женщина. «Нет мнения? У вас?!» – казалось, говорил проницательный взгляд Леопарда. – Что ж, если княгиня не может высказаться, милорд, – продолжил он, – то сам я готов согласиться, что ваше видение нашего времени вполне справедливо. За один век человечество шагнуло по пути прогресса дальше, чем за десять предыдущих веков. Осмелившись оттолкнуться от берега, человек отправился в плавание к новым землям, взять хотя бы Магеллана или Америго Веспуччи, флорентийского мореплавателя, которым мы все так гордимся и который совершил несколько путешествий в Новый Свет… Знаете ли вы, мадам, что знаменитый картограф из маленького городка Сен-Дье, что в герцогстве Лотарингия, использовал собственное имя Америго, чтобы обозначить им Новый Свет? Америка… или, как у вас говорят, Америк. При этом вопросе Зефирина лишь кивнула головой, в то время как одна из ее маленьких ножек оказалась в нежных тисках английских щиколоток. Увлеченный своей речью, Леопард явно не замечал того, что происходит между женой и гостем, и продолжал излагать свои мысли в надежде увлечь герцога: – Не следует забывать и других, Пинцона, Верацано, Кабраля, Себастьяна Кабо, который недавно снова отправился в Америку. Я всеми ими восхищаюсь; иногда, как и вам, милорд, мне хочется бросить всю эту цивилизованную жизнь, снарядить корабль и отправиться на поиски неизведанного. – Это верно, монсеньор, но разве не печально, что, несмотря на небывалый прогресс, человек остается беспомощным перед лицом такого чудовищного бедствия, как чума, способная погубить население целого города? У нас в Лондоне случилось три эпидемии чумы за десять лет, унесших двадцать тысяч жизней. Говоря эти слова, Мортимер де Монтроуз, судя по всему, не слишком удрученный упомянутым бедствием, продолжал свое все более смелое наступление на ножку Зефирины. Она наконец поняла. В соответствии с модой нового времени дворяне с увлечением состязались в гуманизме и морализме. – Согласен с вами, Монтроуз… Фульвио заговорил с англичанином более дружеским тоном. – …но и вы должны согласиться, что благодаря периодам апокалипсиса, вроде того, о чем вы рассказали, благодаря той же чуме, мы получили «Декамерон» гениального Боккаччо. – Да, представленная им картина флорентийской жизни XIV века, наполненная радостями бытия и культурой, без всякого сомнения позволяет считать его величайшим прозаиком Италии, – признал Мортимер. Зефирина была чрезвычайно взволнована непрерывно происходящей в ней борьбой двух сущностей – физической и интеллектуальной, и все больше возбуждалась от прикосновения, скользившего вверх и вниз по ее шелковому чулку. К тому же ее раздражало собственное неучастие в блестящем состязании. И тогда, внезапно обнаружив, что дух ее сильнее тела, она включилась в дискуссию. – Homo férus… – обронила она. Мужчины вежливо умолкли. Обратив взоры к молодой женщине, они приготовились выслушать ее. – Кажется, чуть больше века прошло с тех пор, как этот дикий человек выбрался из варварства и духовных сумерек, разве не так? Начало современной эпохи, в которой живем мы, было провозглашено самым знаменитым человеком – я говорю о Петрарке. Это ему мы обязаны возрождением гуманитарных наук, открывших доступ к ценностям цивилизации. Оба князя не могли не согласиться. Нимало не охлажденное этим обстоятельством, колено Мортимера попыталось пройти между коленями Зефирины. Петрарка оказался неистощимой темой! С порозовевшими от возбуждения щеками Зефирина спорила, доказывала, возражала, а князь Фарнелло внимательно смотрел на нее. «Петрарка делает вас очень красивой!» – казалось, говорил его недоверчивый взгляд. – Soiffard… Soldats![60] Гро Леон, у которого было гораздо меньше причин интересоваться блистательной беседой, чем у трех спутников, проснулся и дал понять, что они подъезжают к реке. Карета остановилась. Упившаяся солдатня дремала на обоих берегах. Это были наемники, скорее всего нанятые французскими князьями и потому томившиеся без дела. Их было около сотни, обросших бородами, в грязной и изодранной одежде, лежащих вокруг костров. Похоже, среди них не было офицеров, и они оказались предоставлены сами себе. Пока карета ждала возвращения парома, Фульвио и Мортимер вышли из нее. Гро Леон воспользовался остановкой, чтобы расправить крылья и полетать над рекой. Оставшись одна, Зефирина высунула голову из окошка, желая полюбоваться мерцающими водами Тибра. Одобрительные крики и соленые шуточки были ответом на ее появление. – Эй, глянь-ка на эту юбку! – Хороша бабенка! – Вот бы сплясать с ней! – Молоденькая, это хорошо! – А у нее там черненькое или беленькое! – И то, и другое, дурень! В сущности, их сальные шутки не были злыми, но озабоченный Паоло подошел к князю и прошептал на ухо: – Пусть монсеньор посоветует ее милости не высовываться, не нравится мне эта встреча. – Ба… да ведь нас человек тридцать вместе с людьми милорда де Монтроуза, и все мы вооружены до зубов, – возразил Фульвио. – Их больше сотни, ваша светлость, и все мертвецки пьяны. И словно в подтверждение слов оруженосца, около дюжины наемников поднялись с земли и, едва волоча ноги, направились к карете. – Спрячьтесь, мадам, – сказал князь, – ваше появление, наверное, возбуждает их… При этих словах, произнесенных с холодной иронией, Фульвио задернул красные шторки и повернулся спиной к Зефирине. Ей хотелось дать ему пощечину. Сквозь щель она увидела, что князь отходит от кареты. И снова странное ощущение охватило молодую женщину. Когда-то она уже видела эти широкие, могучие и совершенно неподвижные плечи при легкой, пружинящей, почти кошачьей походке. Откинувшись головой на спинку, Зефирина задумчиво хмурила свои тонкие брови. Не сошла ли она с ума? Неужто князь Фарнелло, ее муж, был тем незнакомцем на пляже, дворянином, который вынес ее из пожара, подожженного каким-то преступником? Никогда не забыть ей жаркий поцелуй, против которого она не смогла устоять. И этот порыв, бросивший ее в объятия таинственного всадника, это наслаждение, которое она испытала в крепких руках мужчины, лица которого так и не увидела… Никогда ее так не целовали… Трепещущая, всем существом приникшая к этим губам, возвращавшим ей жизнь, Зефирина сразу забыла все свои страхи. Подхваченная волшебным вихрем, она осмелилась вернуть ему долгий, страстный поцелуй… Никогда ни один дворянин не обращался так с Зефириной… кроме Фульвио, тогда, в карете… При воспоминании об этом щеки ее запылали… Нет, это просто смешно, ведь у незнакомца на пляже были оба глаза, а князь одноглаз. Истошный крик вернул Зефирину на землю. И крик это был ее собственный. Четверо наемников проползли под упряжкой и, обманув стражу, вломились в карету. Приставив к ее горлу кинжал, один из наемников заорал сквозь дверцу: – Оружие, золото, мясо и лошадей, или мы придушим малышку!Глава XIII ЛЯ ЛИБЕРТЕ
Зефирину терзали и голод, и холод. Зная, что у дверцы кареты наемники выставили охрану, она боялась пошевелиться и только прислушивалась к тому, что происходит снаружи, но, кроме отдаленных раскатов грома, ничего не было слышно. Наступила ночь. Зефирина привстала. Вся спина ныла, так как она лежала на полу, на жестком коврике. В полном отчаянии она снова опустилась на пол и в ту же минуту скорчилась от удара, который ей нанес один из наемников. Какая все-таки ужасная нелепость связывать все надежды на спасение со своим мужем! «Вот уж поистине ирония судьбы: когда-то она сама была выкупом, а теперь эти бандиты требуют выкуп за нее!» На глазах у Фульвио и Монтроуза, замерших при виде кинжала у ее горла, предатели убили возницу экипажа, подтащили карету к заброшенной ферме, которая, похоже, была выбрана ими для постоя. Пока два негодяя, от которых разило водкой, волокли ее к этому сараю, где ей предстояло провести в ожидании несколько часов, Зефирина успела обратить внимание на главаря банды Изменников. Это был рослый, разбитной парень, лицо которого скрывала засаленная шляпа. Когда он направлялся через двор фермы к берегу Тибра, на конце его аркебузы развевалась белая тряпка парламентера. – Если с Ля Либерте что-нибудь случится, прекрасным господам тоже не поздоровится, – проворчал довольным тоном вояка, запирая Зефирину в сарае. – Ничего… Ля Либерте, он мастак в разговорах! Ну-ка, Лям д'Асье, передай мне бутылочку с зельем, это здорово подкрепляет. – Еще бы, Бра де Фер, у меня уж давно ни крошки в брюхе, просто ужас, как хочется есть… – Эх! Черт бы все побрал… Яволь… Уренсон… Зольдер… Симеон… Лям д'Асье… Рог де Дюр… Вульпиан… Пезано… Тимур… Браоз… Жоли Кер… Лорике… Бюзар… Гоэлан… Со двора до Зефирины доносились голоса солдат, разговаривавших на всех языках и наречиях. В других обстоятельствах она бы позабавилась, слыша прозвища этих людей, забывших, где их дом и какой национальности они были, прежде чем стали наемниками, но сейчас она их просто ненавидела. После одной особенно бурной партии в кости два из них, отзывавшиеся на клички Браоз и Зольдер, принялись тузить друг друга, как раз вблизи забитого досками отверстия в стене сарая. Чей-то крик прекратил игру. После этого все стихло, но кровь пролилась. Небольшой драки оказалось достаточно. Все сразу успокоились. Сколько времени прошло после этого? Когда в желудке у нее заныло от голода, Зефирина решила, что, наверное, уже полночь. Неожиданно сверкнувшая молния на миг осветила сарай – помещение с низким потолком, в углу которого кучей были свалены тюки соломы. Хлопнула дверь сарая. Зефирина страшно перепугалась и вскочила. Стукнувшись головой о потолок, она спрятала ноги под длинными юбками. В мужском платье, рядом с Гаэтаном она чувствовала себя куда увереннее… Гаэтан… Мысль о нем застигла ее врасплох. Она почти забыла его с тех пор, как оказалась во власти Леопарда. «Гаэтан давно бы уже кинулся спасать ее… А этот скупердяй князь Фарнелло, наверное, спит в то время, как она тут валяется на постели из соломы». Обратив злость на Фульвио, Зефирина, пригнув голову, подошла к стене сарая и принялась стучать кулаками изо всех сил: – Я хочу есть! Хочу пить!.. Солдафоны… Вы хуже диких зверей… Она теперь с сожалением вспоминала о банде Римини. Его люди, по крайней мере, кормили ее. – Выпустите меня отсюда, тупицы! Вы что, хотите, чтобы я тут подохла среди этой грязи? Она расцарапала себе руки, колотя по неотесанным доскам. Вдруг, словно по волшебству, дверь сарая приоткрылась. Зефирина хотела выскочить, но два наемника с фонарем в руках не пропустили ее. – Спокойно, дамочка, у нас есть кое-что вам предложить… – Яволь… вот именно… Лям д'Асье вернул Зефирину на соломенную подстилку, а тем временем Зольдер любезно протянул ей кувшин с водкой. – Я хочу супа и хлеба, – ныла Зефирина. – Тысяча чертей, моя красавица, к сожалению, у нас нет ничего, кроме этого, – проворчал Зольдер. И он снова протянул ей кувшин. С быстротой, ошарашившей наемников, Зефирина выхватила у них кувшин и плеснула содержимое им в лицо. – Стерва… – Мерзавка… Пока солдаты протирали глаза, Зефирина кинулась к двери и с разбега налетела на входящего в сарай мужчину. Ничуть не разжалобившись ее криками и слезами, он схватил ее своими сильными ручищами и взвалил на плечо, будто тряпичную куклу. – Браво, так-то вы ее стережете, – сказал вновь вошедший, возвращая свою добычу в глубь сарая. Лям д'Асье и Зольдер стояли перед ним с виновато опущенной головой. – Да что… мы не виноваты, Ля Либерте, она какая-то бешеная… – Яволь, она просила пить. – Ступайте, принесите ей воды, – приказал мужчина, – а вы успокойтесь, мадам, иначе мне придется вас связать. Произнеся эту угрозу, человек по кличке Ля Либерте бережно опустил молодую женщину на соломенную подстилку. При слабом свете фонаря Зефирина плохо различала лицо главаря. Судя по походке, мужчина был молод и силен. Одет он был, как и все остальные, в изодранный мундир, но в отличие от двух предыдущих Ля Либерте был не так грязен. – Давайте, ребята, поторапливайтесь, и заберите этот фонарь, если не хотите, чтобы все знали, где мы прячем пленницу. Эти слова вселили надежду в Зефирину. Если наемник не хотел, чтобы кто-нибудь обнаружил ночью сарай, значит, Фульвио находится где-то поблизости. Лям д'Асье и Зольдер отправились выполнять поручение, а Ля Либерте уселся перед Зефириной на низенькую скамеечку. В темноте Зефирина пыталась разглядеть его лицо. Снова в небе сверкнула молния и на миг осветила сарай. Но шляпа мужчины была по-прежнему надвинута низко на глаза. Она поняла, что он не хочет показывать свое лицо. – Вы француженка, мадам? – спросил он низким голосом. – Не понимаю, зачем вам это. Зефирина совершенно забыла мудрые советы Макиавелли. – Потому что я тоже… вернее, раньше был… – поправился Ля Либерте. – Низко же вы пали. Ничуть не оскорбившись ее замечанием, наемник встал и пошел открывать дверь. Лям д'Асье протянул ему кувшин. – Теперь все в порядке. Скажи остальным, чтобы охраняли все подступы. Свет фонаря стал удаляться. Ля Либерте затворил дверь. – Возьмите, пейте. Он протянул кувшин Зефирине. У нее вновь появилось искушение выплеснуть содержимое ему в лицо. Но зачем? И потом, очень хотелось пить. На ощупь она взяла кувшин. Ее пальцы коснулись руки солдата. Зефирина пила долгими глотками свежую воду Тибра, но, напившись, запротестовала: – Могли бы дать мне хоть кусочек хлеба. Мужчина снова уселся на скамеечку. Зефирина едва различала его во мраке. – Очень сожалею, но у нас нет хлеба, у нас вообще нет никакой еды уже несколько дней. – Что ж, зато у вас есть, что выпить, – усмехнулась Зефирина. – Да, все, что у нас осталось, это бочонки с водкой. – И вы думаете, что это дает вам право требовать выкуп за людей, сделать меня заложницей? Уж не хотите ли вы, чтобы я прослезилась над вашей печальной судьбой? В третий раз сверкнула молния. – Вы судите, мадам, ничего не зная. Ля Либерте встал. Зефирина была почти уверена, что голос наемника задрожал. Довольная тем, что обнаружила слабое место, она продолжила наступление: – Да вы просто банда разбойников вне закона, вы считаете, что вам все позволено, даже похищать жену у мужа, требовать оружия и золота. – Мы потеряли наших командиров под Павией. – По-вашему, это уважительная причина? – Но мы умираем от голода, никто не дает нам никакой еды. – Если бы вы просили вежливо! – Что-что?! – крикнул, не сдержавшись, Ля Либерте. – То, что слышите, – не унималась Зефирина. – С хорошими манерами всегда можно получить то, чего желаешь, и… Одним прыжком мужчина оказался на подстилке и, придавив молодую женщину коленом, стал изо всех сил трясти ее. – Замолчите! Когда вы, наконец, поймете! В деревнях из-за всех этих иностранных армий уже начался голод… Мы ищем, кто бы нас снова нанял, но, если война кончится, у нас не будет хозяина. – Ну, это уж слишком, если вам нужна война только ради… – Зефирине пришлось умолкнуть, потому что Ля Либерте едва не свернул ей шею. – Да знаете ли вы, что такое голод? Сидя в своих дворцах и замках, что вы понимаете в жизни? Только и видите, что согнутые спины своих рабов и слуг… И ни разу не задумались, что речь идет о таких же мужчинах и женщинах, как вы. Полупридушенная, задыхающаяся, Зефирина из последних сил отбивалась от этого взбешенного революционера. Неожиданно поведение мужчины изменилось. Он начал тискать ее, обнимать, прижимать, руки полезли к ней под юбки. Обезумевшие губы искали ее губ. Поняв его намерения, она боролась, собрав последние силы. Колотя кулачками в грудь Ля Либерте, Зефирина с ужасом почувствовала, что по ее телу разливается жар. Горячее мужское дыхание обжигало ей шею. «В кого же я превратилась, если меня может взволновать подобный человек?!» Зефирина яростно сражалась, но, как ей казалось, больше с самой собою, чем с ним. «Боже правый, ее сейчас изнасилуют и ей это не будет неприятно!» Она собралась с последними силами и отшвырнула насильника. Возбужденная охватившим ее желанием, она невольно подумала: «Вот она месть монсеньору, моему мужу». А солдат, будто услышав ее немой призыв, всем своим телом придавил молодую женщину, бормоча при этом нечто непонятное: – Ты моя жена… жена навеки… Ты всегда мне принадлежала… Я никогда не забывал тебя… Зефи… моя Зефи… В небе прогрохотал гром и очередная молния на краткий миг осветила сарай. Но этого было достаточно, чтобы Зефирина разглядела склонившееся над ней лицо, на котором жизнь уже оставила свои следы. – Бас… тьен… В наступившей темноте Зефирина, казалось, продолжала видеть открытое волевое лицо, голубые глаза человека, с которым вместе росла, племянника своей кормилицы Пелажи, своего крепостного Бастьена, который сбежал при обстоятельствах, не особенно лестных для нее[61]. – Бастьен! – повторила она срывающимся голосом. Волшебное мгновение кончилось. Молодой человек отполз на другой край подстилки. Опустив голову на руки, он прошептал усталым голосом: – Да, мадемуазель, это действительно я. Сам того не желая, бывший крепостной снова заговорил со своей хозяйкой в надлежащем тоне. Но она опустилась на колени, чтобы найти в темноте его руку: – Бастьен, друг мой… я так рада, что нашла тебя. Пальцы ее сжали мозолистые ладони молодого человека. Потом она обхватила руками его шею и прижала голову Бастьена к своей. И тут на нее тяжелой волной нахлынуло прошлое. Впечатление было столь сильным, что из глаз Зефирины хлынули слезы. Сквозь эти слезы, прерывающимся голосом она говорила: – Я повсюду тебя искала. О, Бастьен, почему ты так внезапно исчез? Я так боялась за тебя. Потрясенный ее словами, молодой человек сжал Зефирину в своих объятиях. – Извини меня, Зефи, но я больше не мог… «Видеть тебя живой, любить тебя и терпеть пытки, которым ты меня подвергала день за днем», – подумал он про себя. – Мне хотелось свободы, я нашел ее, а мои люди стали звать меня Ля Либерте[62], – произнес он с гордостью. Немного успокоившись и продолжая удерживать руку Бастьена в своих руках, Зефирина спросила: – Гаэтан мне говорил, что в Павии ты спас ему жизнь… – Да, мне повезло. Бедняга… Когда я увидел его лежащим на земле и истекающим кровью, я подумал о вас, о вашем горе… а вы вот теперь замужем за другим и… стали княгиней, – добавил Бастьен с какой-то злой нотой в голосе. – Не суди о том, чего не знаешь, – сказала Зефирина. Перескакивая с пятого на десятое, она рассказала ему все, что с ней приключилось во Франции после разгрома французов под Павией… разорение… отчаянное положение… вынужденное замужество ради спасения отца… В своем рассказе она деликатно умолчала о побеге с Гаэтаном и сразу перешла к финальному событию. При этом голос ее был ровен и естествен: – Мы направляемся в Рим, чтобы добиться расторжения брака. Но ты, как ты дошел до… «Превратился в бандита», – подумала Зефирина. Бастьен тряхнул головой: – Да, я сбежал от вас, точно паршивый пес, ночью, но днем меня могли схватить полицейские ищейки и подвергнуть публичному наказанию. Когда я узнал, что записывают добровольцев на войну, не особенно интересуясь их прошлым, я поступил на службу к мессиру де Ла Палису. После его гибели и поражения под Павией мы, оставшиеся в живых, жалкие, оборванные, голодные, собрались все вместе и стали жить грабежами. Но у итальянскихкрестьян у самих ничего не осталось. И тогда мне пришла в голову мысль пощипать знатных синьоров… – Ты не узнал меня? – с волнением воскликнула Зефирина. – Ей-богу, нет… я хотел захватить вашего мужа или того, второго. Но, когда я увидел вас в окне кареты, сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди… Я сказал себе, что это судьба… Я снова нашел свою Зефи и потому приказал вас похитить. Он умолк. Раскаты грома звучали все дальше и дальше. Полил дождь. Где-то заухала сова. Зефирине в ее мокром платье было холодно. – Но, Бастьен, ты же не можешь продолжать и дальше жить такой жизнью, похищать людей, требовать за них выкупа. – Да, а разве не то же самое сделал ваш князь, если верить вашему рассказу? Но ему, конечно, все позволено, он ведь князь, мне же ничего нельзя, мои ноги покрыты грязью. Зефирина покачала головой: – Послушай, Бастьен, теперь уже поздно, и мы не станем здесь обсуждать права и законы. Но я обещаю тебе уладить твое дело завтра утром. Ты мой крепостной, я твоя госпожа и клянусь, что в Багателе мы дадим тебе свободу… ты сможешь покинуть эту банду негодяев и поступить куда-нибудь на службу. А теперь проводи меня. Зефирина встала. Бастьен продолжал сидеть, будто окаменел. И вдруг из горла его вырвался крик: – Вы стали еще хуже, чем были прежде… Вы так ничего и не поняли… Вы жестоки и высокомерны… Но если вы думаете, что я отпущу вас и отдам другому… Бастьен схватил Зефирину за платье и повалил на пол. И как когда-то в детстве, они боролись и обругивали друг друга всякими словами. Неожиданно дверь в сарай отворилась. Это Лям д'Асье пришел с новостями. Он поднял фонарь над головой. И в тот же момент со двора донесся крик: – К оружию! Горящие головешки, которыми выстреливали из арбалетов, падали на крыши сарая и других строений фермы. Оставив Зефирину, Бастьен вскочил на ноги и собирался броситься к двери, но заколоченное досками окошечко сарая будто взорвали. Доски разлетелись вдребезги, и в сарай влетели, точно два ангела-мстителя с аркебузами в руках, Фульвио и Мортимер. Прежде чем Бастьен успел прийти в себя, Фульвио нанес ему сокрушительный удар по голове. – Не убивайте его! – завопила Зефирина. Но крик ее потонул в грохоте выстрела. Это Мортимер стрелял в Лям д'Асье, который пытался сбежать. Раненный в спину наемник упал как подкошенный. Фонарь покатился по полу. Разбросанная вокруг и облитая водкой, которую Зефирина выплеснула, солома в сарае мгновенно вспыхнула. Перепрыгнув через языки пламени и через тело Бастьена, Фульвио подхватил Зефирину. – Скорее… вы можете идти? – Спасите его… спасите его… Огонь уже подбирался к лохмотьям Бастьена. Дым начинал разъедать глаза. Не обращая внимания на крики Зефирины, Фульвио отшвырнул аркебузу и схватил на руки молодую женщину. Мортимер, прикрывая их сзади, следовал за ними. Во дворе творилось нечто невообразимое. Наемники, обезумевшие от страха, метались кто куда: одни тушили огонь, другие сражались, третьи пустились наутек. Хорошо дисциплинированные люди Фульвио и Мортимера, устроившись за Невысокой оградой, с колена стреляли из арбалетов, продолжая посылать подожженные стрелы. А тем временем Паоло со своей дружиной вооруженных длинными пиками людей гнали и преследовали бандитов. – Прекратите побоище! – умоляла Зефирина. Огонь полыхал уже вовсю. Три постройки старой фермы превратились в настоящий костер. – Уведи княгиню в укрытие! – крикнул Фульвио. Он передал Зефирину в руки Пикколо. Молодая женщина отбивалась изо всех сил. В это время крыша сарая с ужасным треском рухнула. – Бастьен… Бастьен… – рыдала Зефирина. Наемники кричали в страхе: – Где Ля Либерте? Спасайся кто может, Ля Либерте погиб! Пока Пикколо нес Зефирину к карете, она успела заметить, что Фульвио и Мортимер уже пустили в ход кинжалы и рапиры. Издавая яростные крики, оба князя устремились на дюжину солдат, которыми командовал Зольдер. – Давай ко мне, пруссак! – заорал Фульвио. И с явным удовольствием кинулся на противника. После нескольких выпадов и серии мощных ударов сбоку, он выбил шпагу из рук Зольдера и вонзил ему в горло кинжал. А в это время Мортимер свирепо сражался с двумя другими бродягами. Фульвио обернулся, чтобы отразить двойную атаку Браоза и Бюзара. Нанося сокрушительные удары, хватая противников за горло, потроша их и сопровождая все это дикими криками, ни Фульвио, ни Мортимер уже не были похожи на двух благовоспитанных молодых людей, еще недавно рассуждавших о поэзии Петрарки. – Sang… Sermon… Serment… Saperlipopette…[63] В карете Зефирина снова увидела Гро Леона, который чистил подпаленные огнем перья. – Homo férus… дикий человек, – прошептала Зефирина. По щеке ее скатилась слеза, но она поспешила осушить эту соленую, горячую каплю. – Надо мной тяготеет проклятье, я приношу несчастье тем, кто меня любит… Бастьен… бедный мой, неужели ты сгорел в огне? Юная Саламандра разрыдалась. Опечаленный ее горем, Гро Леон подскакал к ней и стал постукивать клювом по голове Зефирины. – Salvare… Sauvée…[64] – пробормотала галка. – Так это ты показал место, где меня держали? О, Гро Леон, – простонала Зефирина. – Лучше было бы мне умереть вместе с моим бедным Бастьеном… Грохот сражения внезапно смолк, и наступила тишина. Было раннее утро. Покрытые шрамами, почерневшие от выстрелов из аркебуз, Фульвио и Мортимер выглядели ужасно. По жесту князя его люди перестали преследовать последних из оставшихся в живых. Хрипы умирающих терзали слух Зефирины. Своей кошачьей походкой Леопард подошел к жене. Где-то пропел петух. Дневная жизнь вступала в свои права, и Зефирина, осушив слезы, с ужасом отметила, что ей все так же хочется есть. По ту сторону Тибра вставало солнце, бросая свои первые лучи на римскую деревню. Под внимательным взглядом Фульвио Зефирина прикрыла глаза, ставшие от слез еще более зелеными. Оказывается, он может убивать! Она ненавидела его еще больше. В голове у Зефирины стали появляться мысли о мести: «Она потеряла Бастьена, но никогда не забудет его… и тоже станет биться за свою свободу».ЧАСТЬ ВТОРАЯ КНЯГИНЯ ФАРНЕЛЛО
Глава XIV ОТКРОВЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
На колокольне святого Петра пробило восемь утра. Князь Фарнелло и его друг милорд де Монтроуз спустились во двор палаццо на виа Джулиа, чтобы, как всегда в это время, отправиться к князьям Колонна и потренироваться в игре в пелот – спорт знатных синьоров. В атмосфере бесконечного хохота и азартных криков знатные господа вовсю потели и не скупились на ставки. Не далее как накануне рыцарь Мальтийского ордена проиграл князю Фульвио 250 римских экю. – Не желаете ли сегодня днем познакомиться с игрой в мяч, которая пришла сюда из Флоренции? – спросил князь. Приятный спутник в подобного рода походах, Монтимер никогда не отказывался следовать за Фарнелло. Пока молодые люди усаживались на парадных лошадей, предназначенных для разных торжественных церемоний и разительно отличавшихся от представленных им конюхами боевых коней, Фульвио вкратце объяснял англичанину, что вдоль стен, ограждающих Ватикан, имеется множество скамей для простого народа и отдельных лож для знати. – Команды, в каждой из которых от двадцати пяти до тридцати игроков, борются за мяч под бурные аплодисменты и свист публики. Некоторые называют эту командную игру словом «кальчо» – удар ногой[65]… Мне кажется, она должна понравиться англичанам! – О… очень интересно! – воскликнул Мортимер. Увлеченный своей ролью чичероне, князь Фульвио потащил своего британского гостя в сторону фонтана с тремя тритонами. В тот момент, когда они поворачивали за угол, князь поднял голову в бархатном берете и взглянул на великолепный фасад своего дворца. Он заметил, как в одном из окон отпрянул назад белый силуэт. На лице Леопарда мелькнула едва уловимая улыбка. Не сказав ни слова, он в сопровождении Мортимера зашагал дальше, к дворцу своих друзей Колонна.* * *
Взбешенная тем, что ее любопытство было замечено мужем, Зефирина задернула на окне плотные парчовые занавески. После некоторого колебания она, зевая, пошла в молельню, потом спустилась в домашнюю часовню. За две недели своего пребывания в палаццо Фарнелло она понемногу стала привыкать к своему новому положению княгини и к древнему городу Риму. Хотя жизнь под одной крышей со своим мужем внушала ей опасения, приходилось признать, что ничего драматического с ней не происходило. Более того, Зефирина почти не видела Фульвио. За две недели она раза два или три издали видела его с Мортимером в одном из многочисленных залов дворца. Населенное целой армией слуг, с патио, окруженным тремя этажами в коринфском стиле, с массивными, нависающими над улицей балконами и богато декорированными гостиными, – таким было римское жилище князя Фарнелло. Это пышное и торжественное сооружение было создано явно не для интимной жизни, но Зефирину это совершенно не трогало. В присутствии десяти одетых в ливреи лакеев, трое молодых людей лишь холодно приветствовали друг друга во время кратких встреч. – Когда же мы отправимся в Ватикан, монсеньор? – спрашивала Зефирина. – Святой отец сейчас очень занят! – отвечал князь, не вдаваясь в подробности. – Может быть, нам достаточно повидаться с одним из его кардиналов? – Сомневаюсь, мадам… Дело князя Фарнелло может быть разрешено только его святейшеством. С этими словами Фульвио раскланивался и удалялся вместе с Мортимером. Зефирина, конечно, понимала, что очень обидела лорда де Монтроуза тем, что не поблагодарила его, рисковавшего собственной жизнью ради ее спасения от рук наемников. Что же до каменного выражения на лице князя, то оно, казалось, говорило: «Я нашел вас в объятиях этого разбойника… Ваша неблагодарность, мадам, не внушает мне ничего, кроме презрения». Но это чувство было у них взаимным. Зефирина с удовольствием бросила бы ему в лицо, что вместо устроенного им пожарища он мог просто отдать золото, оружие и продовольствие, которых требовали наемники. Скупость и только скупость монсеньора была причиной резни… Как объяснить ему, кто такой Бастьен и кем он был для нее? В своем все еще неутихающем горе она спустилась в часовню дворца. Там Зефирина с большим волнением исповедалась дворцовому капеллану. Сумбурно, перескакивая с одного на другое, она выложила священнику все, что накопилось на сердце против Фульвио. В это утро она снова начала свои жалобы: – Я его ненавижу, я терпеть его не могу, отец мой. Я жду нашего развода, чтобы начать жить. Он изгнал моего жениха, он убил друга моего детства. Он купил меня и теперь держит у себя как пленницу. Это настоящий дьявол, отец мой… – Но, дитя мое, – возражал почтенный капеллан, сраженный всеми этими разоблачениями, – князь Фарнелло – ваш муж. В качестве такового его светлость имеет право на… на… Подумайте и о том, что, беря вас в жены, он, наверное, любил вас… Зефирина подскочила: – Любил меня? Никогда! Он вообще любит только себя, свою гордыню, свою власть, своих лошадей… «Я так хочу! Я приказываю!» Женщина для него все равно, что животное… – Но нельзя забывать, что вы его унизили… – Отец мой… – взмолилась Зефирина, – я хочу избавиться от этого человека. Помогите мне добиться расторжения брака, как он сам мне обещал. Я чувствую, он никогда не пойдет в Ватикан… о, Господи… Зефирина сложила в мольбе ладони и опустила голову. – Гордыня, княгиня Фарнелло, ваш главный грех. За это вам надлежит прочесть трижды «Отче наш» и трижды «Богородица»… Но обещаю вам, что доведу до сведения святого престола ваше дело… Почувствовав некоторое облегчение, Зефирина поднялась в свои покои. Под внимательными взглядами занятой рукоделием Плюш и что-то лопотавшего Гро Леона, она принялась кружить по комнате. Минуты две спустя она неожиданно схватила статуэтку Аполлона и швырнула ею в зеркало. – Зефи… мадам… Что происходит? Перепуганная Плюш смотрела, как молодая женщина методично хватала находящиеся в комнате предметы искусства и разбивала их об стену. – Я хочу выходить из дома, я хочу совершать прогулки по городу, я хочу видеть Рим. Мне надоело подыхать от скуки, в то время как месье развлекается! – Но я не уверена… – … будет ли на это разрешение монсеньора?… имею ли я право выйти на прогулку? Ну, что ж! Вот мы сейчас и посмотрим… Подхватив кринолин и перепрыгивая через три ступеньки, Зефирина помчалась вниз по мраморной лестнице так быстро, как только позволяли ее юбки. – Я приказываю оседлать мне лошадь или заложить экипаж. Я желаю выехать в город! – распорядилась Зефирина тоном, не терпящим возражений. Паоло, будто не замечая возбуждения княгини, поклонился: – Монсеньор распорядился сегодня утром заняться приведением в порядок всей имеющейся сбруи… – Что это значит? – Что ваша милость должны нас извинить, но… нет ни одной свободной лошади. Зефирина топнула ногой: – Тогда я отправлюсь в портшезе. – Но все лакеи заняты приготовлениями к карнавалу, ваша милость. – Что ж, тогда я пойду пешком, – сказала Зефирина и направилась к высокой двери, выходившей в мощеный двор. – Ваша светлость, даже не думайте, в городе очень опасно, вы можете столкнуться с плохими людьми. – Значит ли это, Паоло, что я здесь пленница, а вы мой тюремщик? – произнесла Зефирина с презрением. – Мне горько это слышать, ваша милость. Уж лучше вашей светлости поговорить с монсеньором, когда дон Фульвио вернется. Говоря это с горестным видом, Паоло тем не менее продолжал стоять у двери непоколебимо, точно Атлас, поддерживающий небесный свод. Зефирине пришлось смириться с неизбежностью. Чтобы выйти из дома, ей пришлось бы убить Паоло. Вне себя от ярости, она уселась в вестибюле и, скрестив руки, стала ждать…* * *
– Вы желали говорить со мной, мадам? Разгоряченные, вспотевшие, Фульвио и Мортимер в прекрасном настроении возвратились домой. Зефирина встала. – Вот именно, монсеньор. В то время как Мортимер, поклонившись ей, поднимался в отведенные ему апартаменты, Фульвио подошел к Зефирине. Его богато расшитый камзол был распахнут на груди, и она почувствовала исходивший от него сильный мужской запах, смесь мускусных духов и пота. – Говорите же, мадам, я вас слушаю, – сказал Фульвио таким тоном, будто очень торопился. Преодолевая себя и не глядя на мужа, Зефирина произнесла с нажимом: – Я желаю знать, месье, я пленница или нет? – Почему же? Разве у вас сложилось такое впечатление? – Я не могу выйти из дворца. Ваш Паоло охраняет дверь, словно цербер. Раздраженная присутствием лакеев, Зефирина машинально понизила голос. – А-а… а вы, значит, желали бы выходить? – громко спросил Фульвио. – Да. – Зачем? – Как это, зачем? Да просто потому, что мне хочется, – задыхаясь от возмущения, ответила Зефирина. Какое-то мгновение Фульвио смотрел на нее, и во взгляде его вспыхивали золотые искры. Казалось, его все это забавляет. – Но ведь нам не всегда удается иметь то, что хочется, мадам… После паузы, подчеркнувшей эту многозначительную фразу, он добавил: – Ну, хорошо, пойдемте со мной. Широкими шагами, не заботясь о том, поспевает ли за ним Зефирина, Фульвио направился в свои покои, располагавшиеся в южном крыле второго этажа. При его появлении обе борзые, Цезарь и Клеопатра, встали и подошли к хозяину в ожидании ласки, а получив ее, спокойно вернулись на место и улеглись у камина, в котором в довершение ко всей роскоши день и ночь пылал огонь. Зефирина не могла отказать себе в желании осмотреть покои мужа, заполненные доспехами, аркебузами, брошенными на пол шкурами диких животных и кроватью под балдахином, пурпурный полог которого был задернут. Небрежным жестом Фульвио указал ей на Кресло. Пока Зефирина осторожно усаживалась, стараясь не сломать обручи своего кринолина, Фульвио иронизировал: – Что за дьявольские ухищрения, мадам! Черт побери, как это вы, женщины, можете носить на себе столь противоестественные вещи? Почему с помощью всевозможных нелепостей скрываете именно то, что вызывает у мужчин особое восхищение? Не обратив внимания на то, что щеки Зефирины заливает краска смущения, он скинул свой камзол и мокрую от пота рубашку и протер тело винным спиртом. Чтобы не видеть полуобнаженный торс мужа, Зефирина решительно прикрыла веки, в то время, как князь беззаботно напевал весьма фривольную песенку:Вот лавочка для бешено влюбленных
Торгуют здесь тщеславьем и гордыней
И прочими подобными вещами.
Сюда, красотки с тощими задами,
Здесь быстро вам поможет округлиться
Устройство для сокрытия детишек,
Лишь стоит вам напялить на себя
Сей кринолин, да, кринолин,
Щит вашей добродетели надежный…
Глава XV ВЕЧНЫЙ ГОРОД
– Ради всего святого, мадам, я больше не могу. – Soupiere… Souliez… Soumission…[66] Мадемуазель Плюш и Гро Леон восстали. За три дня, верная своему обещанию, Зефирина изъездила и обошла Рим вдоль и поперек. Запасясь старинным планом, который нашла в библиотеке дворца, юная грамотейка все же не удовлетворила ни жажды знаний, ни желания постичь Вечный город, в котором во времена Римской империи всегда находили прибежище не меньше двух миллионов человек, хотя число постоянных жителей не превышало сто тысяч. Древняя стена Аврелиана по-прежнему определяла границу Рима. Зефирина не один раз побывала не только у этой стены, но и на древнем коровьем рынке, у терм Диоклетиана, переоборудованных в церковь, у мавзолея Адриана, в Колизее, который был в таком плачевном состоянии… Все эти развалины заставляли взволнованно биться сердце Зефирины. Лишенные своих богатейших архитектурных украшений во времена византийских императоров, разграбленные варварами, превращенные в Средние Века в крепости, все эти бывшие храмы, дворцы патрициев, амфитеатры и термы были обезображены и растащены архитекторами нового века, названного веком Возрождения. Ослепленная грандиозными руинами, Зефирина была возмущена тем, что ее современники, забыв о величии прошлого, точно хищники кидались на римские памятники, чтобы использовать их камни для строительства современных зданий. И хотя она не могла не признать великолепие растущих как грибы после дождя новых кварталов, последние привлекали ее куда меньше, чем древние развалины. Забыв о парижской грязи, она страдала от тлетворного запаха городских улиц. Смрад от гниющего на улицах мусора усугублялся отсутствием в жилых домах «удобств», из-за чего людям приходилось справлять свои нужды в подворотнях, на лестницах и даже во внутренних двориках богатых дворцов. Зефирина, привыкшая к чистоплотности, характерной для анжуйцев, была потрясена бесцеремонностью римлян. Однако большая бухта Тибра, несмотря на вонь, выглядела так живописно, что Зефирина часто просила отнести туда свой портшез. В лабиринте римских улиц и улочек, в которых она без устали разъезжала, дворцы, монастыри, церкви чередовались со скромными жилищами ремесленников и простых горожан. Кондотьеры, не расстающиеся со шпагой задиры-дуэлянты, папские гвардейцы, испанские гранды, побежденные, но не утратившие гордости французы, предавшие Францию вместе с коннетаблем де Бурбоном, сновали по улицам, направляясь кто к оружейникам, кто к ювелирам, кто к еврейским портным. Люди иудейского вероисповедания, которых в городе было тысяч пять, очень преуспевали. Иногда Зефирина просила доставить себя в окрестные виноградники или сады, которые подступали к самому городу, а кое-где пересекали и городскую черту. Большущие быки с огромными рогами преспокойно возлежали у подножия древних обелисков, а стада коз паслись среди развалин. Стоя на одном из холмов, Зефирина могла хорошо разглядеть Ватикан, папский дворец, Сикстинскую капеллу, построенную в прошлом веке, базилику святого Петра, сооруженную двадцать лет назад архитектором Браманте, наконец, старинный замок Святого Ангела, крепостные стены которого, воздвигнутые в III веке и перестроенные в XV веке, были свидетелями многих драматических событий. Думая о всех тех, кого в этих стенах предали смерти, Зефирина отвернулась, чтобы не видеть этот укрепленный овал. Вот так, разглядывая и размышляя, она снова и снова возвращалась к древним римским памятникам, которые приводили ее в необыкновенное волнение. – Взгляните, Плюш, это, наверное, мавзолей Августа. – Да, мадам. – А тот огромный египетский обелиск, лежащий на земле словно труп, может, это подарок Клеопатры Цезарю… – Ах, Цезарь… Как это печально, мадам. Он весь разбит… эта штука, о которой вы сказали, – подтвердила дуэнья, которую античная цивилизация оставляла равнодушной. – А вот те разрушенные стены – без сомнения, Палатинский холм! – Без всякого сомнения, мадам. – А где же знаменитый Табулярий? – Ах это… понятия не имею. – Souci… Sornettes[67], – заявил протест Гро Леон. Не обращая внимания на жалобы своих спутников, Зефирина продолжала свои археологические изыскания. Вернувшийся в прежнее состояние и ставший снова коровьим рынком, Форум представлял собой заросший бурьяном пустырь, окруженный наполовину погребенными памятниками. Шедевр римской архитектуры, театр Марцелла, утратил сорок из пятидесяти двух аркад, украшавших его наружную стену, после того как в него хлынула толпа нищих, а потом и кузнецы со своими лавчонками. Целыми днями только и слышен был грохот наковален, да из разрушенных окон свисали грязные лохмотья. – Какой ужас, эти люди не испытывают никакого уважения к своему прошлому, – возмущалась Зефирина. – Ах, мадам, просто настоящее не веселит этих бедняг, – прошепелявила Плюш, семеня вслед за Зефириной. Понемногу римляне стали узнавать носилки княгини Фарнелло. Эта непохожая на других молодая женщина была одержима желанием ходить пешком. Странное поведение для особы ее положения. Не боясь порвать юбки об острые камни, с вечной дуэньей, с говорящей птицей над головой и двумя вооруженными охранниками, она с каким-то воодушевлением без конца бродила среди руин! Вечером, возвращаясь из своих походов, Зефирина встречала обоих князей, мирно беседовавших в саду. Позабыв о своих обидах, она возбужденно делилась с ними своими открытиями. – Представляете себе, мессиры, в Термах Каракаллы прямо из каменной кладки растут колючие кустарники и плющ; что же касается самого знаменитого свидетельства итальянского гения, я имею в виду Колизей, так вот там, где львы пожирали первых христиан, теперь не осталось на месте ни единой мраморной скамьи, а арена завалена обломками самых разных веков. Стена ограждения вот-вот рухнет. Как нестерпимо жаль смотреть на этот величавый эпилог погибшей цивилизации. Видя волнение Зефирины, князь Фарнелло в этот тихий вечер не мог удержаться, чтобы не пошутить: – Вот он, глас, вопиющего в пустыне… Задетая за живое, Зефирина возразила: – Боги на стороне победителей, но Катон – за побежденного. Если дело справедливо, это когда-нибудь будет признано! Фульвио призвал герцога в свидетели: – Взгляните, Монтроуз, на этот зеленый плод, который нам предстоит «съесть». Единственная вещь в мире, способная взволновать княгиню, эпоха Кастора и Поллукса. – О… Фарнелло, как этим близнецам повезло! – отозвался Мортимер, сохраняя на лице флегматичное выражение. С того момента, как Зефирина получила свободу, она почувствовала, что поведение лорда по отношению к ней изменилось. Может быть, он тоже просто «проглотил» свою обиду? – Княгиня Каролина Бигалло приглашает нас на костюмированный бал по случаю карнавала, мадам… не окажете ли вы нам честь, милорду де Монтроузу и мне, пойти туда вместе с нами? – спросил Фульвио небрежным тоном. Зефирина помолчала немного, прежде чем ответила не менее безразличным голосом: – А почему бы и нет, монсеньор? Ведь княгиня Бигалло, я полагаю, одна из ваших лучших подруг… Обмахивая себя опахалом из перьев, Мортимер невзначай осведомился: – Может быть, ваша милость согласится поужинать сегодня с нами? Мне кажется, мы с Фарнелло сейчас готовы съесть быка. При этих словах все трое от души рассмеялись. Зефирина спустилась вместе с ними в гостиную, освещенную сотней свечей, где уже был накрыт стол. Сидя очень прямо, в своем малиновом платье, расшитом серебром, Зефирина внимательно слушала беседу мужчин. – Ваше гостеприимство, Фарнелло, как бы это ни было мне приятно, слишком затянулось. А я еще должен осуществить одно маленькое дельце. Мне предстоит отправиться в Пиццигеттон, чтобы повидаться с королем Франциском. – Ба, Монтроуз, да у вас уйма времени, к чему так спешить, – сказал Фульвио, принимаясь при этом с фушиной (маленькой вилкой) в руках штурмовать жаркое из молодого кабана. Зефирина собралась приступить к трапезе, пользуясь по обыкновению собственными пальцами. При этом она с опаской поглядывала на острый предмет в руках мужа, который, по ее мнению, было опасно подносить ко рту. – Попробуйте воспользоваться вилкой, моя дорогая. Я велел подать на стол одну специально для вас, – мягко посоветовал Фульвио. – Вы знаете, флорентийцы пользуются этим прибором уже два века, и, пожалуйста, не говорите, как некие французы-ретрограды сказали об одном госте, взявшемся за вилку, «что ему не удалось совместить оба конца». – О… Оба конца! Рот и вилку… Ужасно смешно, Фарнелло. Мортимер рассмеялся, пытаясь одновременно подцепить с помощью нового для него предмета кусок мяса. Но действовал он не очень ловко, и куски шлепались в его тарелку, поднимая брызги. При этом герцог явно развлекался. Зефирина, хотя и забавлялась, но более сдержанно. Она осваивала новшество с большей грацией и так успешно, что вскоре уже бойко управлялась с вилкой. На это Фульвио отреагировал полунасмешливо, полувосхищенно: – Истинное удовольствие, мадам, видеть, как вы ловки, за что бы ни взялись. Под восхищенным взором князя Зефирина слегка порозовела. Она отвела глаза и начала разговор о политике, где чувствовала себя значительно увереннее: – Кажется, до сих пор, милорд, не было разговора о заключении договора о мире и дружбе, по которому его величество Генрих VIII взял бы на себя миссию добиться от Карла V выдачи нашего короля Франциска? У Мортимера был полон рот. Проглотив кусок, он ответил: – Совершенно верно, миледи… пока я нахожусь здесь, в Италии, чтобы быть посредником у плененного короля, Фиц Вильям и доктор Тейлор обсуждают проблему с мадам регентшей Франции. Врагом вашей страны является вовсе не Генрих VIII, миледи, – вступился за короля Мортимер. «Еще бы, толстяк Генрих вовсю мечтает нацепить корону Франции на собственную голову или, по крайней мере, поделить королевство с Карлом V», – подумала Зефирина. Будто угадав ее мысли, Мортимер продолжил: – «Кого я поддерживаю, тот – хозяин», – сказал мне в Лондоне король Генрих. Вместо того, чтобы напасть на Францию, Генрих VIII, если потребуется, поддержит вашу страну! «Невероятно! Этот король Генрих строит из себя властелина. Он мнит себя управителем Европы!» – До тех пор пока Франциск I будет сохранять Англию в качестве балансира между собой и Испанией, миледи, равновесие и валюта будут держаться. Высказывая это экономическое соображение, Мортимер выпрямил под столом ногу и отправил ее на поиски ножки Зефирины. Молодая женщина при этом натиске не отступила. Она ответила и тоже слегка продвинула свою ножку, слушая при этом с повышенным вниманием Фульвио: – Золотые слова, Монтроуз, – согласился князь. – Потому что главным вопросом всегда были и остаются деньги. И как бы сильно ни пострадала Франция после поражения под Павией, следует признать, что она все равно намного богаче Испании, выигравшей войну. – Ах, богатства Франции! – вздохнул с восхищением Мортимер. – Ну, господа, не надо преувеличивать, – возразила Зефирина, вернув свою ножку на место. – К моменту моего отъезда Франция была совершенно обескровлена. – За последние несколько месяцев ваша страна, миледи, уже оправилась от поражения! Даже в городах имеется годовой запас продовольствия. – Мы тут, в Италии можем лишь мечтать об этом, – заметил Фульвио. – Но, Фарнелло, хищник находится в Испании, и вы это хорошо знаете, – возразил Монтроуз. – Пока вы, итальянские князья, не осознаете, что вашим единственным союзником может быть не Карл V, а король Генрих… – Извините, милорд, – сухо прервала его Зефирина, – но самым естественным союзником Италии была бы Франция, если бы… – Если бы только ваши короли сидели у себя дома, моя прелесть… – обронил Фульвио, кладя себе на тарелку целую куропатку. Но это замечание не сбило Зефирину с толку: – А если бы вы тут все не передрались между собой, у Карла VIII, Людовика XII и Франциска I появился вполне достойный собеседник и партнер. Князья, герцоги, итальянские царьки, все вы, вместо того чтобы объединиться в одно королевство, без конца ссоритесь, устраиваете заговоры и разжигаете пожар в Европе… Так поступают Венеция, Флоренция, Милан, Парма, вы, монсеньор, и ваша Ломбардия! Каждый из своего угла норовит дернуть за ниточку. Будь я итальянкой, я бы после Павия жила здесь в постоянном страхе, потому что Франциск I мог быть вашим союзником, но Карл V, уже хозяин Неаполя и Милана, не остановится перед тем, чтобы покорить весь полуостров и завершить все своейкоронацией в Риме… – Неплохо размышляете, мадам, – признал Фульвио. – Мой Бог! – только и воскликнул в ужасе Мортимер. – Корона Карла Великого! – снова заговорила Зефирина. – Перечитайте историю, господа. Я уверена, что Карл V стремится к мировому владычеству, к глобальной монархии. Той же идеей были одержимы Юлий Цезарь и Ганнибал. – Мой Бог! – снова воскликнул Мортимер. – Ну, теперь вы видите, Монтроуз, что значит умная жена, – с иронией произнес Фульвио. – Перед вами лучшее в мире жаркое, а у вас от ее рассуждений пропал аппетит. Обиженная Зефирина сделала движение, собираясь выйти из-за стола, но Фульвио жестом остановил ее: – Не сердитесь и сядьте, моя дорогая. Итак, что за трогательный парадокс: вы мечтаете об объединении земель разрозненной Италии. А ведь это было заветной мечтой моего отца – превратить Италию в единое королевство… – Где королем, вне всякого сомнения, должны быть именно вы, Фульвио I! – съехидничала Зефирина. Не обратив внимания на шпильку, Фульвио продолжал: – Не думаю, что объединение может произойти завтра. Венецианская Республика, Медичи во Флоренции, герцог Миланский Франческо Сфорца, князья Колонна и Орсини в Риме, его святейшество папа Климент VII, Парма, Генуя, Неаполь, Сицилия и Сардиния, я сам и моя Ломбардия… объединяемся ради национальной независимости. Какая соблазнительная идея, прелестная дама. С этими словами Фульвио наклонился, чтобы коснуться губами пальцев Зефирины. При этой ласке она не смогла подавить в себе дрожь. Отдергивая руку, Зефирина нечаянно опрокинула золотой кувшин с водой. Два лакея кинулись к столу, чтобы навести порядок на кружевной скатерти. Насмешливый взгляд князя, казалось, говорил: «По части галантности вы не так сильны, как в политике!» Но тут Мортимер вывел Зефирину из затруднительного положения, сказав: – Мы тут все свои. Я хочу сообщить вам один секрет. Завтра у меня будет… как это у вас говорится… аудиенция у его святейшества папы, и вы бы мне оказали большую услугу, Фарнелло, если бы сопроводили меня в Ватикан. – Всегда рад быть полезным, Монтроуз, но зачем я вам там нужен? – спросил Фульвио с той особой интонацией приветливости, смешанной с недоверчивостью, которая и придавала ему эту кошачью повадку. Мортимер кинул быстрый взгляд на снующих слуг. Явно не желая быть услышанным любопытными ушами, он заговорил по-английски, поскольку и Фульвио, и Зефирина хорошо понимали этот язык. – Речь идет не о какой-то мелочи, а о государственной тайне, друзья мои. Король Генрих влюблен… Став неожиданно почти сообщниками, Фульвио и Зефирина многозначительно переглянулись: «Какое отношение имеют к нам амурные дела толстяка Генриха?» Не замечая иронического взгляда молодых супругов, Мортимер продолжал в том же тоне: – Ваше приглашение поехать в Рим, Фарнелло, было как нельзя более кстати. Я получил приказ, не привлекая внимания, повидаться с его святейшеством и поговорить по поводу… ну… по очень важному делу, которое мучит его величество Генриха. – Говорите же яснее, Монтроуз, или не говорите совсем, потому что, клянусь, я ни слова не понял в этой вашей истории. Я полагаю, вы не собираетесь обсуждать с его святейшеством любовные страсти, которые король Англии питает к очередной юбке. – Вот именно, собираюсь. Король безумно влюбился в одну из фрейлин ее величества королевы Екатерины. Счастливую избранницу зовут Анна Болейн, и я… ну, да, у меня поручение… прощупать папу на предмет, если можно так выразиться… на предмет… – Надеюсь, вы не имеете в виду расторжение брака? – воскликнул Фульвио. – Вот именно это… – жалобно подтвердил Мортимер, – …и я подумал, что вы там будете очень кстати, как итальянский князь, пользующийся доверием его святейшества, и сможете мне помочь. – Я?! – Король Генрих будет вам очень признателен! – поспешил заверить князя Мортимер. – Я… милосердные боги… Ах ты, дьявольщина! Продолжая чертыхаться, Фульвио неожиданно расхохотался, приведя в полное замешательство Мортимера. – Не понимаю, что здесь… – обиженно произнес англичанин. – Я тоже! – сухо обронила Зефирина. Фульвио вытер глаза и постарался быстро взять себя в руки. – Клянусь всеми богами, извините меня, Монтроуз, я ваш человек. Мы отправимся туда даже втроем. Что вы об этом думаете, мадам? Фульвио обернулся к Зефирине. – С огромным удовольствием, монсеньор. Она произнесла эти слова подчеркнутым тоном. – Но, может быть, княгине… не очень… Герцог явно не хотел брать с собой Зефирину. – Да нет же, Монтроуз, моя жена лучше меня сможет походатайствовать за другую женщину, ведь правда, моя бесценная? – обратился князь к ней с улыбкой. – Ваша светлость хорошо знает человеческую душу! – согласилась Зефирина. Отвернувшись от мужа, она перенесла свое внимание на Мортимера и спросила: – Кажется, королева Екатерина урожденная инфанта Арагонская? При этом вопросе одна из ножек Зефирины двинулась под столом на поиски Мортимера. Добравшись до цели она наступила на его ногу, словно говоря: «Не беспокойтесь, я на вашей стороне». Успокоенный Мортимер ответил на призыв ее ножки и сказал: – Да, миледи. Именно тут его слабое место. Желая законно развестись с королевой Екатериной Арагонской, родственницей императора и родной матерью наследницы престола, Марии Тюдор, король Генрих хорошо знает, что вызовет недовольство короля Испании и императора Священной империи, Карла V…* * *
Пока служанки раздевали ее, Зефирина впервые за долгое время стала напевать рондо, которое Франциск I, уже в плену, сочинил для нее.Куда исчезли вы, цветы любви моей?
Кому вы счастье дарите теперь?
Я так томлюсь без вас, цветы любви моей,
И слезы лью… Господь, тоску души умерь…
Глава XVI ДЖУЛИО МЕДИЧИ
– Приветствую вас, мессир Микеланджело. – Мое почтение, ваша светлость. – Что за новость мы только что услышали от Бенвенуто Челлини? Вы, кажется, превратились в портного? Князь указал на новенькие с иголочки костюмы папских гвардейцев, в которых широкие желтые полосы чередовались с красными, штаны были менее пышными, чем обычно, и доходили до колен. Коротко стриженные головы гвардейцев украшали серебряные шлемы с чеканкой, а в руках у них были длинные алебарды. – Это верно, его святейшество заказал мне униформу для своей личной гвардии. Должен признаться, что, оставляя на несколько часов купол святого Петра, где очень устаю, я с большим удовольствием отдавался разработке костюмов. Не пожелает ли княгиня Фарнелло высказать свое искреннее суждение о моей работе? Человек, учтиво обратившийся к Зефирине, уже своими современниками воспринимался как великий Микеланджело. У Зефирины не закралось ни малейшего сомнения в искренности почтительного тона, которым горделивый Леопард разговаривал с художником. На вид мастеру было лет пятьдесят, но годы не отняли у него природной живости. Борода и курчавые, слегка седеющие волосы обрамляли лицо с удивительно правильными чертами. Его карие глаза, светившиеся каким-то внутренним огнем, с восхищением остановились на Зефирине. – Я нахожу вашу работу необыкновенно красивой, мессир Микеланджело, и уверена, его святейшество не пожелает изменить в них ни единой детали[68]! – сказала Зефирина с легким реверансом, который могла себе позволить знатная женщина в отношении гениального художника. – О… Я обязательно расскажу об этом королю Генриху. Верьте мне, он обязательно пожелает, чтобы вы приехали, по доброй воле или нет, в Лондон и сделали эскизы платьев для королевы… Между нами говоря, бедняжка так безвкусно одевается! При этих нахальных, шепотом произнесенных словах Мортимера, вся компания, состоявшая из англичанина, Фульвио, Зефирины, Бенвенуто Челлини и Микеланджело, прыснула со смеху. – Не позволит ли ваша милость запечатлеть в скульптурном портрете восхитительные черты ее светлости, княгини Фарнелло? – отважился спросить Челлини. Значительно моложе Микеланджело, Бенвенуто даже не пытался скрыть восторг и волнение, которые у него вызвал облик Зефирины. Князь Фульвио удивленно сдвинул брови. – У княгини совсем нет времени, чтобы позировать, Челлини. «Ну, разумеется, меня можно и не спрашивать», – подумала Зефирина. – Почему бы и нет, я с удовольствием побываю в вашей мастерской, месье Челлини, – сказала она громко, с обольстительной улыбкой. Взгляд Леопарда предвещал грозу. С уверенностью, которую черпал в своем исключительном положении художника, пользующегося покровительством пап, в разговор вмешался Микеланджело. – Пусть ваше сиятельство не усмотрит ничего плохого в просьбе моего молодого коллеги Челлини. Если бы Боттичелли был жив, он без сомнения обратился бы к вашей светлости с той же просьбой. У княгини редкостный овал, подходящий для лиц мадонн, а выходящая из волн морских Венера с золотыми волосами – всего лишь бледное отражение красоты ее милости. «Вот так-то!» – подумала про себя Зефирина. – А я уже однажды позировала мессиру Леонардо да Винчи, – призналась молодая женщина[69]. – Ах, Леонардо… Я бы хотел посмотреть на этот портрет, – сразу откликнулся Микеланджело. – Он находится во Франции. Его купил король Франциск. Картина называется «Джоконда». – Джоконда… Джоконда… Оба художника не скрывали своего восхищения. – Нам не раз приходилось слышать об этой картине, о том, какая она прекрасная, возвышенная, божественная, а Леонардо – самый великий художник! Пыл художников остудил появившийся в гостиной папский гвардеец. Стукнув жезлом по натертому до блеска паркету, он произнес низким голосом: – Его светлость, монсеньор князь Фарнелло, его сиятельство, полномочный посол милорд де Монтроуз… Оставив обоих художников, Зефирина грациозно приподняла край своего кремового платья с золотыми прошивками и с сосредоточенным видом последовала за своим мужем. Не обращая на нее никакого внимания, Фульвио и Мортимер широким шагом направились к «дверям святого Петра».* * *
Ранним утром, проехав по узким улочкам, служившим подступами к папскому дворцу, Зефирина в носилках, а князья верхом въехали в государство Ватикан. Молодая женщина испытала необыкновенное волнение, когда оказалась внутри крепостной стены, возведенной еще в IX веке папой Львом IV. Она знала, что как раз тогда были упразднены языческие боги, уступившие место христианству, которое император Константин сделал в 330 году государственной религией. В V и VI веках в результате нашествия варваров Римская империя перестала существовать. Попав под опеку Византии, Вечный город после долгого лихолетья впервые нашел опору в лице своего духовного пастыря, архиепископа Рима. Однако в 756 году Пепин Короткий, отвоевав полуостров у оккупировавших его ломбардцев, вернул освобожденные земли не византийскому императору, а ставшему папой архиепископу Рима, оказавшись тем самым основателем церковного государства. Трое молодых людей сошли на землю во дворе папского дворца. Очарованная Зефирина во все глаза разглядывала эпическое творение, обязанное своим рождением капризам десяти высших церковных иерархов. Эти десять превратили свою резиденцию в подлинный архитектурный ансамбль, который, по мнению молодой женщины, не имел себе равных ни по стилю, ни по пропорциям. – В IV веке папа св. Дамасий приказал построить оборонительное сооружение вокруг прежнего собора св. Петра, – сказал князь Фульвио. – В IX веке Лев IV создал Читта Леонина, а сто лет назад, в XV веке, папа Николай V начал строительство нынешнего дворца… Александр VI Борджиа его расширил, Иннокентий VIII построил библиотеку и вот эту виллу, бельведер, которую господин Браманте недавно вписал в ансамбль дворца с помощью вновь построенного патио. Что же касается остальной застройки города, в котором окна всех зданий выходили на собор св. Петра, то, например, папа Сикст IV приказал построить в 1475 году всем известную Сикстинскую капеллу… Вся она внутри украшена фресками господ Синьорелли, Боттичелли, Перуджино… Если у нас будет время, мы туда пойдем. Продолжая двигаться дальше, Фульвио, оказавшийся весьма знающим чичероне, знакомил своих гостей с историей Ватикана. В тоне его, однако, сквозила едва уловимая аффектация, и Зефирине показалось, что отчасти он рассказывает все это то ли, чтобы эпатировать Мортимера, то ли желая дать понять жене, что не она одна владеет знаниями. – О… очень интересно, – согласился англичанин. – Возведенная на месте погребения св. Петра первая церковь имеет под собой в качестве опоры стену цирка Нерона, – продолжал Фульвио невозмутимо. – Если не ошибаюсь, в 1506 году папа Юлий II поручил тому же Браманте построить новый собор св. Петра, который вы теперь видите. Мой отец сам видел, как закладывали фундамент. Над этим гигантским сооружением работало множество архитекторов. От Рафаэля до Сангалло Младшего. Теперь вот Микеланджело завершает абсиду. Никогда до этого Зефирина не слышала, чтобы ее муж говорил так долго. Зачарованная всем, что предстало ее глазам, она не отрывала взгляда от Фульвио, боясь упустить хоть слово. Поэтому она не заметила возникшей перед нею ступеньки и споткнулась. Если бы Фульвио не подхватил ее, она бы упала. – Не покидайте нас, мадам, – шепнул при этом князь. Горячие его губы коснулись ушка Зефирины. Она вздрогнула, а рука Фульвио, скользнув по спине, замерла на ее талии. Это было хуже всего. Взбешенная тем, что его прикосновение приводит ее в такое волнение, она выскользнула и постаралась смешаться с довольно большой толпой кардиналов, епископов, аудиторов, прелатов, верховных нотариусов, гонфалоньеров, булавоносцев, привратников, гвардейцев, солдат, кондотьеров, конюших, судебных исполнителей, собравшихся у входа во дворец. В самом дворце было и того хуже. В странном чередовании сверкающих блеском гостиных и темных коридоров, винтовых лестниц и узких тоннелей, в которые они заводили, Зефирина увидела, что большая часть Ватикана занята галереями, часовнями, кухнями и даже плавильней, в которой отливали пушки! Рядом с высшими иерархами церкви и знатными людьми было множество людей подчиненного звания, но все они чувствовали себя в этой обстановке очень естественно. Кроме слуг, работающих внутри дворца, Зефирине было забавно видеть, что коридоры заполняли целые семьи, приехавшие из окрестных деревень, чтобы повидаться со своими родными: служащими, дьячками, конюхами. Неопрятные капуцины жевали хлеб, сидя на корточках в нескольких шагах от знатных синьоров, поджидавших приема в передней. – Монсеньор князь Фарнелло… Милорд де Монтроуз… – выкрикнул толстый гвардеец зычным голосом. Головы всех присутствующих повернулись в сторону избранных счастливчиков, получивших позволение войти в святая святых: личные покои Климента VII. – Княгиня нас сопровождает, – заявил Фульвио, видя, что гвардеец не дает Зефирине войти. Наверное, он знал князя, потому что тут же поклонился ему и пропустил Зефирину. Она последовала за князьями, почтительно склонив голову. Явно знакомый с обстановкой, Фульвио пересек коридор, затем небольшую прихожую. Еще один гвардеец, предупрежденный о визите, открыл перед ними тяжелую дверь черного дерева, и все три посетителя вошли в светлую гостиную с кессонным потолком – рабочий кабинет папы. Они услышали, как низкий голос пророкотал: – Черт побери, Джакомо… кто мне тут устроил весь этот беспорядок? Зефирина, обомлев, подняла голову. Она приготовилась увидеть папу в светлой одежде, сидящим на престоле св. Петра. Нынешний служитель Христа, кардинал Джулио Медичи, ставший папой три года назад под именем Климента VII, ходил широкими шагами вдоль большого стола, заваленного картами, рукописями и пергаментами. Его слишком длинная красная сутана волочилась по полу. На груди у него, к тому же, была кольчуга, а на голове – берет с пером. В таком облачении Климент VII больше походил на военачальника, чем на духовного пастыря. Физически мощный и громогласный, пятидесятидвухлетний папа не производил впечатления человека с легким характером. Тщедушный писарь, которого его святейшество назвал Джакомо, дрожал словно пергаментный лист, который ему предстояло отыскать среди вороха бумаг. – Так ведь… я это положил вот сюда, ваше святейшество. И он робко указал на стол. – Идиот несчастный, да если б ты их туда положил, они бы там лежали. Ах, чтоб тебя! Найдешь ли ты мне, наконец, это дело на Лютера, о котором мне прожужжали все уши? Джованни Медичи (Лев X) отлучил его от церкви, а ему хоть бы хны! Господь всемогущий, ну почему ты не призвал его к себе? При этих словах папа с упреком возвел очи горе. Если этот ничтожный паршивец будет продолжать драть глотку в Германии, мы того и гляди дождемся второго раскола, как в печальные времена Авиньона. Джакомо, разрази тебя гром, а в этом сундуке ты не искал?.. Ха! Реформа! Это же надо, я устраиваю собрание выборных церковных представителей, чтобы вышвырнуть этого подонка на обочину империи, так шесть князей и четырнадцать городов начинают протестовать… и их называют «протестантами»! Если ты сию минуту не найдешь то, что мне надо, то получишь пинка под зад! А-а, ну вот, наконец… Дрожащий Джакомо принес несколько свитков пергамента. – Спасибо, мой маленький Джакомо, вот видишь, стоит тебе постараться… Ну, хорошо, а теперь ступай, поперебирай четки, помолись. Мне надо спокойно изучить эту проблему. Когда наступит время следующей аудиенции, предупреди меня. – Кх… так ведь… Кх… – осторожно кашлянул Джакомо. Климент VII поднял голову. Прищурив большие навыкате глаза, так что Зефирине показалось, будто он плохо видит, и узнав своего посетителя, папа добродушно воскликнул: – А вот и ты, князь Фарнелло. Каким добрым ветром тебя занесло? Задавая вопрос, Климент VII протянул руку Фульвио. Князь подошел и приложился губами к перстню на его руке, затем, отступив на шаг, ответил: – Я имею честь, пресвятой отец, сопровождать к вам полномочного посла Англии, милорда Мортимера де Монтроуза. – Благослови тебя Бог, сын мой! Папа так быстро осенил его крестным знамением, что Монтроуз не успел коснуться коленом пола. Заметно взволнованный папским благословением, Мортимер продолжал стоять на коленях и так упрямо держал голову опущенной, что Клименту VII ничего не оставалось, как повторить свой жест. – Ну, хорошо, сын мой, мы видим, что вы добрый христианин. Как поживает его величество Генрих? – спросил папа, когда Мортимер поднимался с колен. – Очень хорошо, пресвятой отец. Король Англии поручил мне передать вашему святейшеству, помимо пожеланий доброго здоровья, свои самые благие намерения и заверить, что каждое утро и каждую ночь его величество в своих молитвах не забывает упоминать имя вашего святейшества. – Нам приятно это слышать! – ответил папа таким тоном, будто говорил: «На коней». – Подойдите, дети мои. Рукой в кольчуге Климент VII указал на табуреты, поставленные полукругом перед его креслом, стоящим на небольшом возвышении. Фульвио и Мортимер подошли к табуретам, чтобы сесть. «Неужели они оставят меня стоять здесь?» – подумала в растерянности Зефирина. – Постойте, а это что такое? Сощурив глаза, Климент VII неожиданно обнаружил присутствие Зефирины. Тыча в нее пальцем, его святейшество устремился к молодой женщине точно разъяренный бык. Ни жива ни мертва, Зефирина опустилась перед ним в глубоком реверансе, в то время как Фульвио, вернувшись к ней, сказал: – Прошу меня простить, пресвятой отец, я забыл попросить вашего благословения для княгини Зефирины Фарнелло. – Твоя жена? Папа недоверчиво обошел вокруг Зефирины. – Да, пресвятой отец. Ваше святейшество помнит, конечно, что, кроме своего разрешения на мой брак, он прислал мне своего легата, чтобы благословить наш союз в Ломбардии, – пояснил Фульвио. «К чему эти подробные объяснения? Мы тут для того, чтобы говорить не о женитьбе, а о разводе», – подумала с раздражением Зефирина. – Ты сделал удачный выбор, князь Фарнелло. Поздравляю тебя… Настоящая, племенная кобылка… Венецианка? Флорентийка? – Нет, пресвятой отец… Француженка, – ответила Зефирина. – И дерзкая к тому же! Быстренько наделай с десяток детишек, Фарнелло, или хлопот не оберешься, – посоветовал папа. – Ну, ладно, пойдем, дочь моя. Климент VII направился к своему трону. Зефирина заметила, под красной сутаной у папы сапоги со шпорами. – Пресвятой отец, – начал Мортимер, когда Фульвио и Зефирина сели рядом с ним, – как полномочный посол, я не стану ходить вокруг да около… – Вот и хорошо, сын мой, иди прямо, чтобы не заблудиться, – одобрил папа.* * *
– О-о… как разболелась моя бедная голова. Герцог де Монтроуз проводил руками по своим белокурым волосам, состроив гримасу на лице. Зефирина наверняка нашла бы ее комичной, если бы в тот момент сама не находилась под сильным впечатлением визита к папе. Извинившись перед своими хозяевами, Мортимер, пошатываясь, поднялся по лестнице к себе в апартаменты. Оставшись в вестибюле наедине со своим мужем Зефирина сухо сказала: – Вы это сделали нарочно. Фульвио, казалось, с трудом удерживал смех. – Вы меня удивляете, мадам. Разве я не пошел навстречу вашим желаниям? – Вы макиавеллический человек! – бросила, не подумав, Зефирина. – Макиавеллический! – повторил Фульвио. Слово показалось ему интересным и достойным существования. – А ну-ка, подойдите сюда, философ в юбке, и расскажите, как вы его придумали. Рука Фульвио поймала Зефирину в тот момент, когда она собиралась последовать примеру англичанина. Проводив молодую женщину в гостиную первого этажа, Фульвио повторил: – Вам, значит, совершенно необходимо совать вашу маленькую, хорошенькую мордочку повсюду. Мне следовало, конечно, знать, что, даже умирая от усталости, вы все-таки способны подслушивать у дверей и пользоваться советами Никколо Макиавелли. Не давая себя смутить, Зефирина тут же парировала: – А мне следовало знать, что вы заранее представляли, каким будет ответ папы и потому с такой легкостью согласились взять меня в Ватикан вместе с Мортимером. Сама того не желая, Зефирина кусала губы, чтобы не рассмеяться, вспомнив сцену, которую она только что наблюдала. Сидя на троне, Климент VII, казалось, дремал, слушая речь Мортимера в защиту развода короля Генриха. Проговорив добрых десять минут и перечислив все возможные доводы, включая и законное желание английского короля иметь наследного принца, что, кажется, было совершенно не по силам королеве Екатерине, Мортимер наконец умолк, ожидая ответа папы. В худшем случае, полномочный посол ждал завуалированного отказа, который мог звучать приблизительно так: «Пусть его величество Генрих немного потерпит. Мы обдумаем этот вопрос». Но папа вдруг с необыкновенной живостью вскочил со своего трона и ринулся к англичанину. Схватив его за воротник, Джулио Медичи принялся трясти бедного лорда. – Нет, нет и нет. Вот ответ, который ты передашь своему господину. А кроме того, прикажешь ему от имени папы в течение сорока дней носить власяницу… и чтобы этот толстый бесстыдник поостерегся в течение указанных дней соваться со своим «хозяйством» в ядовитые прелести той особы, о которой ты мне здесь так красиво распелся! А эту Болейн пусть отошлет в монастырь с обритой головой и голым задом! Что же до королевы Екатерины, так Бог допустил ее быть на троне Англии, Бог и сохранит ее там до самой смерти. И пусть Генрих намотает это себе на ус и изо всех сил старается сделать жене сына, а иначе ему несдобровать! – О… но, пресвятой отец… – попытался возразить Мортимер. Покраснев от ярости, Джулио Медичи громыхал: – Никаких возражений, прошу тебя! Твой король – католик, христианин и подчиняется моей власти… Ведь он не собирается стать одним из протестантов этой гнусной реформации! А раз так, к черту даму Болейн! никакого развода с королевой… никакого расторжения брака! Дело было решено. Оставив Мортимера, в ужасе опустившегося на табурет, Климент VII обернулся к князю Фарнелло и спросил его с неожиданной мягкостью: – Ну, а ты, мой дорогой сын, о чем ты хочешь со мной поговорить? – Не я, ваше высокопреосвященство, а княгиня Фарнелло желает обратиться к вашему святейшеству с просьбой, – ответил Фульвио с чрезвычайной учтивостью. «Грязный лицемер», – обругала его мысленно Зефирина. Святой отец подошел к молодой женщине. – Говорите, не бойтесь, мое дорогое дитя, – произнес Джулио Медичи добродушным тоном, который при необходимости умел напускать на себя. Насмешливый взгляд Леопарда, казалось, говорил: «Ну, чего же вы ждете, молите папу о расторжении нашего брака!» Зефирине надо было решаться. Упав на колени перед Климентом VII, она прошептала: – Я прошу благословения вашего святейшества. – Вот оно, дочь моя, вот оно: ad vitam aeternam in temporalibus. Джулио Медичи быстро перекрестил Зефирину, протянув руку над ее покрытой вуалью головой. – Встаньте, дочь моя, – продолжил папа все тем же добродушным голосом. Он протянул руку молодой женщине. – Я вижу в вас добрую христианку, это очень хорошо. А чтобы убедиться в этом окончательно, я хочу, чтобы вы исповедались. И прежде чем Зефирина оправилась от удивления, папа увлек ее туда, где стоял его трон. Властным жестом он дал понять Фульвио и Мортимеру, чтобы они отошли в сторону, а Зефирине – преклонить колени на ступеньках перед троном. – Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа… Dominus vobiscum… Низко опустив голову Зефирина, собралась перечислить все совершенные ею грехи, как вдруг услышала, что папа шепотом говорит ей поразительные слова: – Так вы, значит, родом из французской земли, дочь моя. Надеюсь, вы не меньше, чем Богу, верны своему королю-мученику и пленнику. Это было так невероятно, что Зефирина мысленно спрашивала себя, уж не грезит ли она. Папа – союзник Франциска I! Но, быстро овладев собой, она прошептала: – Да, ваше высокопреосвященство. Хотя я и замужем за одним из его противников, я остаюсь верна моему королю Франциску I. Я видела его в Пиццигеттоне, и мне удалось передать ему послание его матери, мадам регентши Франции… Не опасаясь никакого подвоха со стороны папы, Зефирина со сложенными, словно для молитвы, руками говорила очень торопливо. – Само небо посылает мне вас, дочь моя. Этот трусливый негодяй Карл V с помощью своего агента Ланнуа заставил короля Франции покинуть Пиццигеттон. Через несколько дней Франциск I приплывет на корабле в Испанию, где будет заточен в замок Алькасар… Мне требуется надежный гонец для передачи Франциску целого ряда предложений. Его так тщательно охраняют, что моим прелатам не удалось к нему проникнуть. Испанские охранники уже убили двух моих людей у самых стен крепости. Может быть, женщина… а еще лучше княгиня. Но вы мне должны поклясться на этом кресте, что ничего не расскажете никому, даже князю, вашему мужу. Зефирина от всей души поклялась в том, о чем ее просил этот странный папа, сначала заговорщик и политический деятель, а уж потом пастырь человеческих душ. – Ну, хорошо, а как все-таки вы собираетесь проникнуть к королю? Зефирина покачала головой: – Я не пойду туда сама, ваше святейшество, я отправлю того, кто сможет пройти там, где никто другой не сможет. Джулио Медичи нахмурил свои густые брови. – Моя ручная галка знает короля. Она передаст ваше послание, пресвятой отец. Клянусь, вы можете мне довериться. Джулио Медичи внимательно разглядывал обращенное к нему гордое и умное лицо. Он увидел на нем следы печали, несчастий, разрушений и одновременно честность. Вот почему слова ее вселили в него надежду. – Доверить птице судьбу Европы… Но у меня нет другой возможности. Я доверяю вам, дочь моя, – сказал вдруг Джулио Медичи. Вот каков мой план… «Священная лига»! Папа предлагал, чтобы Франциск I, хотя и пленник, сделал соответствующие политические распоряжения своей матери, регентше Франции, и добился перераспределения существующих альянсов: венецианцы, сторонники папы, миланцы и другие участники конфедерации, такие, как, например, генуэзец Андреа Дориа, помирились бы с Францией и общими усилиями изгнали бы испанские войска из Италии. «Снова война против Карла V, – подумала Зефирина, слушая папу в кольчуге. – Но на сей раз без участия Англии.» Толстяк Генрих не посмеет даже шевельнуться. Вместе с дамой Болейн он у папы в кулаке. А чтобы еще больше упрочить союз с Францией, Климент VII предлагал свою маленькую кузину, еще ребенка, Екатерину Медичи, герцогиню Урбинскую, в жены младшему сыну Франциска I, принцу Генриху. – Запомните ли вы все это? – с беспокойством спросил папа. – Да, ваше святейшество, у меня неплохая память, – успокоила Зефирина. – Что ж, действуйте, дочь моя, и да благословит вас Бог… Для папы вопрос был решен. – Ваше высокопреосвященство, – прошептала Зефирина, не двигаясь с места, – мне бы тоже хотелось обратиться с просьбой к вашему святейшеству. – Если только это в моих силах, дитя мое, я выполню ее с большим удовольствием, – ответил Климент VII ласково. И тогда торопливой скороговоркой Зефирина выпалила: – Ваше высокопреосвященство, умоляю вас, расторгните наш брак с князем Фарнелло. Умолкнув, Зефирина боялась пошевелиться. – Да что же это с ними всеми сегодня происходит? – воскликнул папа. Своими большими навыкате глазами Джулио Медичи посмотрел на князя Фарнелло, который поодаль тихо беседовал с Мортимером. – Чертов глупец, – процедил сквозь зубы папа. – Что он мне тут устраивает, недотепа! Боюсь, ты так не любишь этого сердцееда Фульвио, что не сможешь держать язык за зубами. – Но, ваше святейшество… – попыталась возразить Зефирина. – Никаких возражений, я этого не выношу, княгиня. Если я приказываю, значит, должно быть выполнено. Повинуйтесь. Через несколько месяцев, если ничего не изменится, мы расторгнем ваш брак. Идите, дочь моя, и пусть Дух Святой осветит ваш путь! Говоря эти слова, Джулио Медичи встал. Шпоры звякнули о паркет. – Джакомо… Будь ты неладен, куда ты опять подевал пергаменты? Нет, мне все-таки придется дать тебе пинка под зад. Маленький писарь явился бегом. Аудиенция закончилась. Фульвио, Мортимер и Зефирина, пятясь, вышли из кабинета. Не произнося ни слова, все трое подошли к своим лошадям. На обратном пути каждый был погружен в свои мысли. У Мортимера они были трагическими, – как он сообщит королю Генриху об отказе папы? Взбудораженными и одновременно тревожными были мысли Зефирины. Ей доверено выполнение важной миссии, зато развод теперь отложен до греческих календ! И только у Фульвио, судя по всему, было прекрасное настроение. – Его святейшество довольно долго исповедовал вас, – обронил Фульвио. – Это оттого, монсеньор, – ответила Зефирина, – что список моих грехов слишком велик. – Я не сомневаюсь, мадам, и понимаю, что папе следует быть в курсе. Но, видимо, их оказалось не столько, чтобы получить его согласие на развод… – Приятный сюрприз может случиться в любой момент. С этими словами Зефирина присела перед князем и унеслась по главной лестнице дворца. Если бы она обернулась назад, то увидела, что Фульвио не отрываясь смотрит, как грациозно она поднимается на второй этаж. «Я непременно укрощу эту кобылицу, но до того, как это случится, я бы не пожалел целого мешка дукатов, чтобы узнать, что сказал ей этот пройдоха Джулио». – Ваша светлость… Мысли хозяина прервал вошедший в комнату Паоло. – Что там еще? Оказалось, что с паролем «святой Симеон» и посланием явился карлик таинственной дамы, выполнявшей поручение Карла V. При виде неприятного коротышки Фульвио с трудом подавил дрожь. Разговаривая с князем, карлик с любопытством взглянул на потолок, откуда доносился стук каблучков Зефирины. И тут Фульвио неожиданно для себя пожалел, что согласился оказать услугу императору Карлу V.* * *
А тем временем Зефирина, отослав Плюш и служанок, уселась за стол. Оставшись в компании с Гро Леоном, молодая женщина сидела некоторое время, задумавшись, потом обмакнула гусиное перо в чернильницу и стала писать:Мое первое принесено легким ветерком зефиром.
Мое второе является пастухом в Граде Ангелов.
Мое третье хочет отойти от кровожадного волка.
Мое четвертое должно приблизить меня к матери.
Мое пятое может рассчитывать на далеких друзей,
танцующих священную джигу.
Мое шестое: Vagister dixit[70], пусть рыбак
продолжает удить рыбу.
Мое седьмое: на кузине пастуха сыну надо жениться.
А все вместе, и в том клянусь, привет от высокого друга,
желающего вам блага.
Глава XVII БАЛ-МАСКАРАД
Каролина Бигалло меняла уже двенадцатый туалет. Примерив одно за другим платья султанши, средневековой дамы с высоким конусообразным головным убором, византийки, гречанки, критянки, египтянки, прекрасная римлянка остановилась, наконец, на платье вавилонянки, в котором она походила на изображение на античном барельефе. Ее густые черные волосы, завитые с помощью маленьких железных щипцов одной из самых умелых служанок, были взбиты до небывалой высоты. Руки Каролины, пышная грудь и точеные ножки, которые она выставила напоказ, укоротив кружевной край платья до щиколоток, все было увешано браслетами и причудливо перевитыми золотыми ожерельями. Каролина удовлетворенно взглянула на себя в зеркало. В свои двадцать два года княгиня Бигалло, богатая и уже освободившаяся от старого мужа, которому хватило такта умереть через год после свадьбы, считалась самой прекрасной партией в Риме. Как обычно, в этот вечер она не скупилась на беспричинные пощечины своим служанкам, а потом снова и снова ломала голову над мучившим ее вопросом: «В каком костюме будет на балу эта французская дрянь?» С тех пор как Бигалло узнала о женитьбе Фульвио на упомянутой дряни, злоба ее не утихала. Женись он хотя бы на Андреа Пацци из Флоренции, еще куда ни шло – нормальное соперничество, но отыскать себе эту чужестранную шлюху, к тому же рыжую, а может, и колдунью… От одной только этой мысли Каролина, суеверная как все римлянки, задрожала. Впрочем, она быстро успокоила себя тем, что постоянно носит на груди коралловый амулет, спасающий от дурного глаза. А зеленые глаза француженки, без сомнения, имеют колдовскую силу и вполне могут навлечь беду. В это утро одна из стен дворцовой ограды обвалилась, и вода в Тибре сильно поднялась. Подобно многим своим согражданам, Каролина видела в подобных событиях знак свыше, предупреждающий о грозящей беде. Некоторое время Каролина колебалась, не надеть ли ей кольцо смерти, вещь очень удобную, когда нужно избавиться от какого-нибудь врага. Достаточно сжать руку француженки с такой силой, чтобы порошок, спрятанный в заостренной части кольца проник в ее ладонь. Ее противница тогда сразу упадет в состоянии каталепсии. После этого достаточно будет получать по капле яда раз в неделю, и через два года эта мерзавка сдохнет. Но это чересчур долго… Каролина Бигалло решила ничего не готовить заранее и положиться на свое вдохновение, действуя по обстановке. Может быть, лучше заплатить Адриано, чтобы он во время мессы воткнул длинную иглу в шевелюру этой интриганки. И это будет только справедливо! Ведь это о ней рассказывали такие ужасные вещи! Неужто красавец Фульвио действительно стал рогоносцем! Но в таком случае у Каролины, возможно, еще есть надежда. Тогда незачем прибегать к преступлению, от которого ее изо всех сил пытался отговорить глупец исповедник, и от этого мерзкого создания Каролину избавит сам муженек. «Утешительница», вот какую роль ей следует играть. – Княгиня, первые гости уже появились, – дрожа, сообщила служанка. – Идиотка! Не могла раньше предупредить. Рука Каролины с размаху опустилась на щеку несчастной. После этого она спустилась по широкой парадной лестнице дворца, продолжая задавать себе все тот же вопрос: «Во что будет одета эта дрянь?»* * *
Не подозревая, какую вызвала бурю мстительных чувств, «дрянь» тем временем тоже собиралась на маскарад и тщательно выбирала наряд. Правда, у нее было значительно меньше причин для волнений, чем у Каролины. И оттого Зефирина сменила всего три платья, прежде чем выбрала туалет для маскарада. Она остановилась на персидском платье из светло-зеленого шелкового муслина, в нескольких местах перехваченного тесьмой, на конце которой сверкала жемчужина. Несмотря на неутихающую злость к Фульвио, Зефирина не могла не признать, что он прекрасно разбирается в туалетах и ее гардероб, на удивление, богат и изыскан. И это было весьма кстати, потому что у Зефирины не было своего портного. Каким-то чудесным образом платья, драгоценности и безделушки незаметно попадали в ее апартаменты. Зефирина знала, что, будь она честна перед собой, она должны была от всего этого решительно отказаться, но природное кокетство, увы, было одним из ее недостатков. «Способ действовать по-иному!» – вспомнила Зефирина, ища себе оправданий за то, что принимает его подарки. «Когда я отсюда уеду, я все оставлю», – решила она. Подобно своей неведомой «сопернице», она посмотрела на себя в зеркало. – Вы там будете самая красивая, моя маленькая Зефирина, то есть княгиня, – прошепелявила Плюш. Зефирина промолчала, но в глубине души очень надеялась, что так и будет. Туалет ее дополняла густая вуаль, того же цвета, что и платье, под которой молодая женщина спрятала свои горящие огнем волосы. И вот, наконец, в руках у нее оказалась последняя, недавно вошедшая в моду и очень веселившая Зефирину деталь – черная бархатная маска, позволявшая скрыть лицо. Эмилия накинула ей на плечи короткий плащ, подбитый бобровым мехом. – Монсеньор просит вашу милость спуститься в голубую гостиную, – объявил Паоло. Зефирина знала, что новостей от Гро Леона она дождется не раньше, чем через два-три дня, и потому решила в эту ночь не думать ни о чем, кроме карнавала. – О… добрый вечер, миледи! – Добрый вечер, ваша милость! Зефирина не могла удержаться от смеха. Фульвио и Мортимер неплохо подготовили свой сюрприз. Оба были одеты совершенно одинаково, в костюмы лесных королей и венки из зеленых веток. А так как они оказались одного роста, то в масках Зефирина не могла различить, кто из них князь, а кто лорд, если только они не подавали голос. На Капитолии зазвонил колокол, объявляя начало карнавала в городе. – Вашу руку, мадам! – произнес голос Фульвио. – О… Не подарит ли мне ваша милость первую павану? Кажется, Мортимер оправился от охватившего его волнения. Вместе с двумя своими кавалерами Зефирина направилась к карете, запряженной шестеркой белых лошадей, украшенных по случаю праздника. Фульвио наклонился к жене: – А что, если нам обоим заключить мир на время карнавала? – Мир на три… – Нет, у нас карнавал длится одиннадцать дней, – сообщил твердо Фульвио. Зефирина не успела ответить. Лакеи помогли ей подняться в карету. Фульвио и Мортимер заняли места по обе стороны своей дамы. Кучер хлестнул лошадей. Факельщики побежали впереди лошадей. Поначалу Зефирина пыталась не поддаваться настроению, царившему на улицах, но ее хватило ненадолго. Как только на Капитолии зазвучал колокол, весь Рим ринулся на улицы. На одиннадцать дней в городе воцарился праздник. Охваченная всеобщим безумием, Зефирина включилась в битву конфетти, отзывалась на крики и взрывы смеха и всеобщей радости, охватившие весь город. – О… красавица, поехали с нами! Обычно флегматичный Мортимер совершенно преобразился при виде множества хорошеньких женщин, восседавших на праздничных колесницах, украшенных зеленью и цветами. Огромная толпа продвигалась вслед за экипажами и всадниками. Множество любопытных смотрело на всю эту толчею из окон домов, приветствуя проезжавших в каретах знатных синьоров. Высунув голову из кареты, Зефирина смеялась, махала рукой и думала: «Они все сумасшедшие, эти римляне!» Сатиры, мавры, дервиши в чалмах, турки, короли со скипетрами в руках, ненастоящие нищие, моряки, маски комедии дель арто – «убийцы», арлекины, Пьеро, адвокаты, пульчинеллы, женщины, переодетые в мужчин, и мужчины, переодетые в женщин, короче, годились любые костюмы, кроме монаха, монахини и священника. – Здесь что же, все жители наряжаются в дни карнавала? – спросила Зефирина. – Да, милая дама, за исключением церковников, евреев и куртизанок, – пояснил Фульвио. – Но это же несправедливо. Почему они не имеют права на это, как все остальные? – Потому что так принято. Довольно вам, наконец, пытаться переделать весь мир, резонерка вы этакая. И Фульвио насыпал горсть конфет в руку Зефирины. Их лошади с трудом пробирались по запруженным улицам. На карету сыпался град мелких шариков. Это были «пуццолана», кусочки вулканической породы, обмазанные гипсом и беленные известью, которыми кидались друг в друга возбужденные люди. Фульвио протянул Зефирине картонный рожок, чтобы она могла защитить свое лицо в маске от этой «картечи». И вдруг Зефирина вздрогнула. В черных носилках, которые несли четыре янычара, сидела женщина, лицо которой скрывала маска Медеи. Зефирина почувствовала, что женщина в маске пристально всматривается в нее. Молодая женщина скорее всего не обратила бы внимания на эту Медею, если бы не маленький человечек, высунувший вслед за незнакомкой голову. Карлик, лицо которого также было в маске, швырял из носилок вонючие шарики, и толпа вокруг хохотала. «Каролюс… донья Гермина…» – прошептала Зефирина. Она забилась в глубь кареты. Все-таки глупо бояться. Ведь она в маске. Если эта «Медея» и была доньей Герминой, проклятая негодяйка не могла ее узнать. Фульвио и Мортимер не заметили ее паники. Да и потом, они уже подъезжали ко дворцу княгини Каролины Бигалло. Лакеи в богатых, голубых с серебром ливреях торжественно выстроились плотной стеной вдоль всей мраморной лестницы, освещенной факелами. Сверху донизу расстилалась ковровая дорожка, по краям которой стояли кадки с миртовыми и апельсиновыми деревьями. – Вон Колонна… и Орсини… – сообщил Фульвио, указывая на почти по-королевски роскошные упряжки двух соперничающих семейств. Князь Колонна был одет в костюм галла, а Орсини – в афинянина. Зефирина знала, что около тридцати семейств, еще с раннего средневековья ввязавшихся в политическую борьбу, составляли бесспорную элиту римской аристократии. И в числе первых следовало назвать семейства Колонна и Орсини, которые прибыли в этот вечер на бал в сопровождении целой армии охраны и солдат. Кроме них, были также Савелли, Конти, Корсини, Дориа, Боргезе, Массимо. Как это было принято в дни карнавалов, никто из слуг не объявлял имен подъезжавших гостей. Поэтому хозяйке дома предстояло угадать или ошибиться в тех, кто скрывается под маской. – Добрый вечер, Каролина… Не пытаясь изменить свой голос, Фульвио склонил голову, увенчанную венком лесного короля. Княгиня Бигалло ответила чуть слышно: – Фульвио, дорогой… Как я рада принять вас у себя вместе, как я понимаю, с княгиней Фарнелло! Черные глаза Каролины пытались сквозь маску угадать лицо Зефирины. Зефирина, войдя во дворец, оставила, в соответствии с местным обычаем, свою подбитую мехом накидку в руках у Паоло. Каролине Бигалло пришлось удовлетвориться созерцанием лишь груди, талии и рук Зефирины. «Шлюха… дрянь… хоть бы ей стать горбатой!» – клокотало в душе у Каролины, обнаружившей, что соперница красива. Но вслух, взяв себя в руки, она сказала: – Мне так хочется стать вашей подругой, княгиня Фарнелло. Вы знаете, Фульвио мне как брат… Он от меня ничего не скрывает. Зефирина, несмотря на «любезность» хозяйки дома, почувствовала в ее голосе желчь. И, опустившись перед ней в реверансе, ответила: – Князь, со своей стороны, также говорил мне о братских чувствах, которые он к вам питает, мадам. Я просто счастлива познакомиться в этот вечер со старшей сестрой, которую он обрел в вашем лице… При этих словах у Мортимера начался приступ кашля, а Фульвио поспешил вмешаться, представив хозяйке лорда. – Что это на вас напало, тигрица? – спросил Фульвио, когда направился с Зефириной в бальный зал. – Вы хорошо ее знаете, – заносчиво сказала Зефирина. – Если пожелаете познакомить меня даже со всеми вашими любовницами, мне это безразлично, но только пусть они не наступают мне на ноги. – Я еще не видел никого, кто бы отважился так рисковать, – заявил Фульвио. Зефирина была уверена, что под маской он смеялся. Она отвернулась, и тут на ее счастье во всех бальных залах начали танцевать фарандолу. Схваченная поначалу за руку каким-то дервишем в чалме, Зефирина внезапно обнаружила, что танцует с человеком в костюме нищего. Позади него отплясывал огромный парень в длинной белой рубашке с красными пуговицами. – Что означает этот костюм? – спросила Зефирина. – То, что он жертва французской болезни, мадам, которую французы, в свою очередь, называют итальянской болезнью… И нищий громко расхохотался. Во всех бальных залах по углам стояли огромные столы, ломившиеся от множества закусок и выпивки. – Не мучит ли вас жажда, прекрасная персиянка? – спросил нищий. При звуках виол синьоры и дамы приготовились танцевать павану. Несколько растерявшись в этой суматохе, Зефирина согласилась последовать за своим партнером. Предложив молодой женщине кубок с мальвазией и нарезанную маленькими кусочками и запеченную в тесте дыню, нищий снял с лица маску. – Уф-ф, от такого количества свечей здесь невыносимая духота. Перед Зефириной стоял молодой человек лет двадцати пяти, с бледным лицом, обрамленным тонкой бородкой. У него были красивые карие глаза и уверенная улыбка соблазнителя. – Я не спрашиваю вашего имени, прекрасная персиянка, но не согласитесь ли вы показать мне это личико, которое, я уверен, необыкновенно красиво? – Только после того, как я узнаю, кто вы, – ответила Зефирина, позволив себе самую чуточку кокетства. – Мануэль Массимо… к вашим услугам… Теперь ваша очередь. – Подождите немного, – сказала Зефирина. – Вы француженка, и вам недостает слов. – Нет, мессир, просто я еще не назвала вам время, когда покажу свое лицо. – Будь проклято мое любопытство. Я теперь всю ночь буду ходить за вами по пятам, прекрасная персиянка, чтобы узнать, кто вы, потому что, клянусь Богом, вы не Конти, не Савелли, не Гаэтани… Вы мне подарите эту павану? Молодой человек был очень симпатичным, обольстительным и веселым. Выйдя на середину зала вместе с пятьюдесятью другими парами, приготовившимися к танцу, Зефирина спросила: – Скажите, князь Массимо, не был ли римлянин Максимус вашим предком? Медленные и торжественные движения паваны начались с приветствия мужчин и приседания дам, потом все пары, взявшись за руки и подняв их вверх, делали шаги вперед, потом назад. При этом танцующие могли беседовать и улыбаться. Мануэль Массимо кивнул головой, покрытой лохмотьями: – Я не смог бы это доказать, но какой-то слушок об этом вот уже тысячу лет бытует в нашей семье… Говоря это, молодой человек рассмеялся, обнажив зубы ослепительной белизны. Он чуточку отступил. Теперь шла фигура «вращения». Мужчина, стоя на одном колене, должен был водить рукой даму вокруг себя. – Вот посмотрите, – сказал он, подняв голову к Зефирине, – мы тут в Риме все такие. Маттеи, например, считают, что их род восходит к Муцию Сцеволе, Ченчи – к Кресценцию Центиусу, Санта Кроче – к Валериусу Публиколе, Альтиери – к Гамилькару, Фарнелло – к Фабиусу Руллианусу, римскому консулу… Молодой человек встал. Теперь был его черед вращаться вокруг неподвижно стоящей Зефирины. Изящно округлив руки над головой, Зефирина внимательно смотрела на Мануэля, стараясь понять, с умыслом ли он произнес фразы, относящиеся к князю Фарнелло. Но молодой человек, казалось, решил просто поухаживать за ней и с удовольствием провести вечер. Пока Мануэль, уперев одну руку в бедро, склонился перед другой дамой, Зефирина рассеянно искала глазами своего мужа. Один из лесных королей пылко прижимал к своей груди какую-то рабыню. Не Фульвио ли это? Она свернула себе шею, пытаясь получше разглядеть эту парочку. – Да, прекрасная дама, вот я и сбился с прямого пути! Сбившись с ритма и перепутав движения, в то время, как танцующие должны были меняться партнерами, Зефирина отдавила ноги какому-то галлу, который был без маски. Это оказался князь Колонна. Его грубоватое лицо любезно улыбалось. – Извините меня, монсеньор, я немного… задумалась. – Да, я заметил. Теперь нам надо догнать других. Но задача эта оказалась не из легких. Князь и Зефирина все время попадали не в такт. Когда другие танцоры сходились, они расходились, если другие вращались, они стояли без движения. Зефирину вдруг начал душить смех, также, впрочем, как и ее нового партнера. Она потеряла Мануэля с какой-то торговкой каштанами. Павана, наконец, кончилась, и некоторое время она оставалась с князем Колонна. – Не желаете ли, прелестная персиянка, уединиться в какой-нибудь комнате, чтобы показать мне свое лицо? – прошептал Колонна тоном человека, которому не терпится довести дело до конца. Зефирина была в нерешительности. Она прекрасно понимала, куда он клонит. От необходимости ответить ее избавил несчастный случай. Некая дама, наряженная ангелом, подожгла свечами свои крылья. – Горит… горит… С ужасными криками и смехом все принялись поливать ангела фруктовыми соками и компотами, чтобы затушить пожар. Страху было больше, чем причиненного вреда. Даму, пожелавшую упасть в обморок, увели куда-то на верхний этаж. Bo-время этого переполоха Зефирина потеряла князя Колонна и не особенно сожалела об этом. Какое-то время она еще побродила по гостиным, переходя от одного накрытого стола к другому. Слуги без устали предлагали шербет и прочие разные лакомства. Зефирина как раз что-то жевала, когда какой-то патриций в красной тоге пригласил ее на следующую павану. Зефирина было согласилась, но тут застежка на одной из ее туфель лопнула, и Зефирине пришлось объяснить патрицию свою беду. – На верхних этажах камеристки очень быстро вам все починят. Идите и возвращайтесь побыстрее, я буду вас ждать, прелесть моя. Зефирина решила последовать совету патриция, тем более что в гостиных всеобщее безумие достигло апогея. Вино текло рекой, и гости не отказывались пить его сверх всякой меры. Теперь уже можно было по пальцам пересчитать тех, кто еще не был пьян. Зефирина с трудом пересекла бальный зал и поднялась на следующий этаж, где было заметно спокойнее. Там она легко отыскала камеристок, которые старательно чинили и поправляли все неполадки. Ангел Рая, полуобнаженная, посапывала в уголке, пока одна из мастериц приводила в порядок крылья. Поджидая свою туфлю, Зефирина неожиданно почувствовала грусть, какая случается, когда оказываешься среди людей, веселящихся без всякой причины. «Я совсем одна в целом мире…» – подумала Зефирина, и ей захотелось заплакать. Поблагодарив женщину, починившую туфлю, и дав ей за это цехин, Зефирина задумалась, возвращаться ли в гостиные. Там было так шумно и так невыносимо душно, что она решила поискать во дворце уголок попрохладнее, где можно отдохнуть от всех безумств. Второй этаж был освещен значительно меньше, чем первый. Зефирина не спеша направилась по коридору. Попробовав войти в одну из комнат, она увидела там компанию дам, которые, судя по громкому смеху, рассказывали друг другу что-то очень презабавное. Зефирина прислушалась. – У Колонна, моя дорога, эта штука больше, чем у Аполлона. – А у Орсини? – Меньше мышонка. После этих слов все принялись смеяться и галдеть, точно куры в курятнике. Раздосадованная тем, что ничего в этом галдеже не поняла, Зефирина двинулась дальше. Дойдя до места, где коридор делал поворот, она увидела распахнутую дверь и собралась войти в полутемный – горела всего одна свеча – будуар, как вдруг услышала шорох шелков, доносившийся из глубины. Стараясь не привлечь к себе внимания, Зефирина попятилась назад, и тут до нее донесся страстный шепот: – И я, я тоже этого хочу, дорогой князь… Не в силах преодолеть любопытство, Зефирина прижалась к стене. Осторожно заглянув в будуар, она заметила в темном углу, на низеньком диванчике полулежащую парочку. Мужчина не снял маски. Однако он был в костюме лесного короля. Женщина, чьи задранные юбки обнажили все ее прелести, оказалась прекрасной Каролиной Бигалло. «Фульвио и Бигалло…» Чувствуя отвращение, Зефирина собралась уйти, но тут другая пара пристроилась в полумраке коридора, буквально преградив ей путь. Это оказались Мануэль Массимо и торговка каштанами. Без тени смущения эта дама позволила задрать себе юбку, и что еще хуже, расставила ноги, громко шепча: – Ну же, ну… милый… скорее… Смущенная и сгорающая от стыда Зефирина не смела ни шевельнуться, ни тем более пройти мимо своего недавнего «покорителя». Прижавшись спиной к деревянной панели, ни жива ни мертва, Зефирина не в силах была оторвать взгляд от торговки каштанами, тело которой медленно двигалось то вперед, то назад. Зефирина кусала губы, чтобы не закричать. Продолжая обнимать и целовать в губы прислонившуюся к стене женщину, Мануэль быстрым движением раздвинул нищенские лохмотья. Зефирина едва не лишилась сознания. Ей показалось, что Мануэль словно пришпилил женщину, совершая медленное, но неутомимое движение вперед-назад. Женщина простонала: – Быстрее, мой милый… С каким-то хрипом, больше похожим на рычание, Мануэль Массимо сильно ударил ее нижней частью живота. Зефирине не хотелось оборачиваться в ту сторону, где на диванчике вволю наслаждались ее муж и Каролина. По звукам, доносившимся оттуда, Зефирина поняла, что они достигли последней стадии. Не желая больше ничего видеть, она закрыла лицо руками. Так вот что такое любовь. Вот это скотство. Как же она была права, отбиваясь от Фульвио. Он бы ее вот так же унизил, как эту Каролину, которая там кудахчет. – Как хорошо… еще… иди же… И вот последний вскрик. Торговка каштанами и Мануэль привели в порядок свою одежду и, как ни в чем не бывало, спустились в гостиные, где продолжались танцы. Путь был свободен. Зефирина ринулась в темноту, подвернув на бегу ногу. Вздохи, смех, возгласы и крики неслись из всех будуаров, занятых множеством пар. Полураздетые мужчины и женщины менялись друг с другом партнерами. Доведенная до крайнего отвращения этой поистине сарданапальской ночью, Зефирина остановила наконец свой бег в зимнем саду, заполненном зелеными растениями. С глазами, полными слез, она сорвала с лица маску и опустилась на плетеный диванчик, чтобы перевести дух. «Как я была права, что ненавидела Фульвио. Гнусный тип, не выношу его… ненавижу… презираю». От ярости Зефирина терзала свой кружевной платок. – О… миледи, какой приятный сюрприз! Зефирина перестала вытирать глаза, Мортимер, вполне возможно, нуждавшийся тоже в отдыхе, сел на соседний плетеный стул, повесив свой кипарисовый венок над кустами гортензий. Он не снял маску, но Зефирина узнала бы его голос из тысячи других. – Ах, Мортимер, это вы… – вздохнула молодая женщина, немного тревожась оттого, что говорит громко. – Вы позволите сесть рядом с вами, миледи? – спросил вежливо герцог де Монтроуз. – Ну, конечно, идите сюда. Зефирина подобрала юбку своего платья, чтобы освободить место рядом с собой. Своей особой походкой, казавшейся в темноте еще более прямой, английский герцог подошел к Зефирине. – О, миледи, отчего у вас такие грустные глаза? Присаживаясь рядом с ней, Мортимер взял руку Зефирины и поднес к своим губам. Губы его, горячие, мягкие, нежные, от пальцев двинулись к запястью. – Ах, Мортимер, – снова вздохнула Зефирина, не отнимая руки. – Я уверена, вы чувствуете то же, что и я. Эта ночь просто омерзительна, вместе со всеми находящимися здесь людьми. Это… это… Зефирина просто не находила слов. Воспользовавшись ее замешательством, Мортимер обнял Зефирину за талию. – Да, миледи, я тоже думаю, как вы. О… Я вообще не могу понять, как муж может оставить такую красивую женщину. – Нечего сказать, муж, со своей Бигалло, этой гнусной, вульгарной бабой. Знаете, чем занимается в эту минуту мой муж? – сказала, задыхаясь, Зефирина. Извиваясь, точно змея, герцог поглаживал одной рукой грудь Зефирины, а второй все сильнее прижимал ее к себе. – Бедная очаровательная миледи… мне хочется утешить вас. Губы Мортимера приближались к губам Зефирины. – Да, Мортимер, утешьте меня… мне хочется отомстить ему… – О… да, миледи. Я отомщу за вас, – твердо сказал Мортимер. Слова эти герцог произнес каким-то странным тоном. И прежде, чем Зефирина успела пошевелиться, губы его впились в нее властным поцелуем, от которого она почувствовала во всем теле дрожь. Никогда бы Зефирина не подумала, что флегматичный англичанин способен на такую страсть. Не пытаясь сопротивляться, Зефирина ответила на этот жгучий поцелуй. Она ощущала властную силу этих пухлых губ, которые, разжав ее зубы, овладели ее языком, нежно коснулись нёба, а затем, влажные и горячие, снова вернулись к ее губам, будто утоляли жажду у источника. Никогда еще никто не целовал Зефирину так – разве что тот, незнакомый шевалье. Захваченная неведомым ей доселе волшебным вихрем, Зефирина заметила, что даже не сопротивляется в объятиях герцога де Монтроуза. – Мортимер… – выдохнула Зефирина… – так, значит, это вы были там, в «Золотом лагере»?.. Не ответив ни слова, лорд решительно уложил ее на диван. Рука его приблизилась к вырезу платья, чтобы прикоснуться к ее юным, набухшим от желания грудям. И в эту минуту Зефирина вздрогнула, заметив в свете лунного луча тяжелый перстень с печаткой на указательном пальце молодого человека. Леопард с золотой головой! Герб рода Фарнелло. – Фульвио… Зефирина изо всех сил оттолкнула от себя князя. В ответ она услышала смех. Фульвио снял маску. Несмотря на темноту, Зефирина увидела, как его единственный глаз блестел от удовольствия. – Фульвио, – повторила Зефирина, – вы бессовестный человек! Она почему-то готова была рассмеяться и в то же время испытывала некоторое замешательство. – Вот видите, мадам, до чего я дошел в своем стремлении соблазнить собственную жену, – вздохнул князь в притворном отчаянии. Испытывая удовлетворение, которое она изо всех сил старалась не обнаружить, Зефирина с радостью подумала: «Так, значит, Бигалло там с Мортимером!..» А вслух сказала насмешливо: – Я и не знала, что вы обладаете талантом подражателя, монсеньор. – Вы вообще плохо меня знаете, мадам, – ответил Фульвио ласковым голосом. Предложив руку своей молодой жене, он сказал: – Не желаете ли вернуться домой, Зефирина? Голос Фульвио звучал нежно, что, впрочем, не ввело Зефирину в заблуждение. «Давайте, забудем все и будем любить друг друга». Вот что хотел сказать Фульвио. Покоренная, готовая упасть в объятия того, кто был ей мужем только по имени, она коснулась своими слегка дрожащими пальцами его рукава и спустилась вместе с ним в гостиные. «Я люблю его… Я люблю своего мужа… я отрекаюсь… я буду принадлежать ему… Фульвио… Фульвио», – повторяла про себя Зефирина. Это неожиданное открытие ее сразило. – Подождите здесь, Зефирина, я пойду поищу вашу накидку, – сказал Фульвио. Двигаясь своей кошачьей походкой, князь отправился на поиски своих людей. Снаружи вокруг дворца была невообразимая толчея. Слышалось щелканье кнутов, крики людей, ржание лошадей. Уже кое-кто из гостей начал покидать бал. Кучера переругивались друг с другом, их хозяева бегали в поисках своих портшезов, носилок или карет. А тем временем в коридорах и вестибюлях дворца лежащие вперемешку пьяные мужчины и женщины приходили в себя после перепоя. Дрожа от холода в своем прозрачном платье, Зефирина спряталась от сквозняка за кадкой с апельсиновым деревом. Тяжелые драпировки скрывали вход в помещения, где обычно размещаются лакеи и охрана дворца. Ожидание показалось ей слишком долгим. Зефирина решила выйти на крыльцо и посмотреть, не вернулся ли Фульвио, но в эту минуту услышала за драпировками шепот, пригвоздивший ее к месту. – Это приказ, Карл, – сказал женский голос. – Но это же очень важно, Генриетта, ты уверена, что хорошо поняла приказ императора? – ответил мужчина. Зефирина прижала руки к губам, чтобы не дать вырваться возгласу изумления… «Карл… Генриетта…» Донья Гермина и Карл Бурбонский… Неужто это они, ее злейшие враги, в нескольких шагах от нее, за этим занавесом? – Каролюс возвратился из Генуи с посланием. В нем все четко сказано. Читай. Если все сложится так, как мы рассчитываем, задуманное должно произойти в последний день карнавала… При звуках этого ледяного голоса Зефирина почувствовала, как ее охватывает дрожь. Проклятая! Конечно, это она, ее мачеха, со своей подлой душонкой, предавшая короля Франции, и коннетабль де Бурбон – слуги императора Карла V. Не опасаясь быть услышанными, оба заговорщика, пошуршав пергаментом, продолжали разговор шепотом: – Все это, конечно, очень хорошо, Генриетта, но я жду обещания императора… Он удерживает Франциска, и я все еще не король Франции… – Ты его получишь, Карл, обещаю. Ты будешь первым Бурбоном на французском троне… Карл V – человек слова. Осталось последнее препятствие. Ты должен его преодолеть, Карл, и потом, ты ведь будешь не один, князь Колонна обещал поддержать меня, и не только он… Князь Фарнелло тоже с нами! Ты видишь, итальянские князья наши союзники. Соглашайся, Карл, скажи «да», которое откроет тебе врата Рая… – Мне не нравится идея захвата папы. Зефирина больше не в силах была слушать. С меховой накидкой на руке князь возвращался к своей молодой жене. Торопливо покинув свое укрытие, она пошла впереди мужа. Вероятно, лицо ее так побледнело, что он заволновался: – Вам плохо, Зефирина? – Просто холодно. Зубы ее стучали. Садясь в карету, она сделала над собой усилие, чтобы принять помощь Фульвио. К тому же она боялась находиться с ним в карете наедине, К счастью, у старой княгини Савелли сломался портшез. Фульвио не мог не предложить ей воспользоваться его экипажем. Не вслушиваясь в лепет старой патрицианки, Зефирина попыталась навести порядок в своих мыслях. Прежде всего, что ей стало известно? 1. Что подготавливается какое-то страшное дело в последний день карнавала. Какого рода дело? Она не знает. 2. Что замышляется нечто против папы. Что именно? Она и этого не знает. 3. Что Колонна и князь Фарнелло, благодаря донье Гермине, союзники Карла V. Того, что Фульвио находился в контакте с ее мачехой и участвовал в заговоре в пользу Карла V, Зефирина не могла ему простить. «Как могла она быть такой наивной и позволить себе поддаться обаянию князя?» Ей не следовало забывать, что она замужем прежде всего за врагом Франции… И то, что Фульвио соблазнитель, заставляющий ее волноваться, ничего не меняет. Саламандра должна сражаться с Леопардом. Фульвио, вероятно, почувствовал перемену, которая произошла в ее настроении. За всю дорогу она не произнесла ни одного слова. Как только старая княгиня была высажена у своего палаццо, Зефирина забилась в угол кареты. Так же молча, в сопровождении лакеев, державших в руках канделябры с зажженными свечами, Зефирина и Фульвио вместе поднялись по парадной лестнице. Наверху Зефирина остановилась: – Спокойной ночи, Фульвио. У меня так разболелась голова, что я должна поскорее пойти к себе. – Вам бы следовало сказать это раньше, княгиня Савелли наверняка отнеслась бы к этому с пониманием, и мы бы сначала отвезли домой вас. Прикрыв глаза, чтобы не встретиться взглядом с Фульвио, она промолчала. – Спокойной ночи, Зефирина… Фульвио поклонился. Взяв ее руку, он коснулся губами пальцев, и поцелуй его был таким горячим и долгим, что Зефирину снова охватило волнение. Она резко отняла руку, так, что Фульвио не успел ее удержать, повернулась и почти побежала в свои апартаменты. При ее появлении ждавшая хозяйку Эмилия спросила: – Ваша светлость провели приятный вечер? – Необыкновенно приятный… Иди спать, ты мне не нужна, – сказала Зефирина. Оставшись одна, она заперла дверь, повернув ключ на два оборота, и со слезами упала в кресло. Горькие мысли мучили ее: «Раньше, когда я его ненавидела, все было так просто… Но где набраться мужества, чтобы шпионить за ним теперь, когда я люблю его? Господи, помоги мне».Глава XVIII ДУЭЛЬ
Ожидая в любую минуту, что Леопард взломает ее дверь, Зефирина в конце концов уснула. Солнце было уже высоко, когда ее разбудил птичий клекот. Это Гро Леон вернулся и теперь стучал клювом по стеклу. – Salutation… Sardine[73]. В ночной рубашке, босиком, Зефирина подбежала к окну и растворила его. Галка важно протянула шею. К ней была привязана прикрытая цветком записка. Зефирина развернула свернутый в трубочку листок и прочла следующие слова, написанные с сильным нажимом, таким знакомым ей почерком Франциска I:Давно всем известно, тот громче кричит,
Кто с вестью недоброю в дверь к нам стучит.
О жизни моей вы хлопочете там,
Меня здесь тревожит, не худо ли вам.
Скажите об этом Голубке Святой.
А если злой волк вам бедой угрожает,
То как вас утешить, мать моя знает.
Кто ждет, тот дождется – всему черед свой,
Даже в Самарканде джиге – Голубки Святой.
День этот должно печальным назвать,
Избавления жертвам уж неоткуда ждать.
Таков ответ дорогого опекуна,
Полученный девой в конце поста.
Остерегайтесь Орла, потому что случайно
Удалось подслушать план его тайный.
Цель плана – Голубка. Бойтесь Леопарда также,
Он друг Орла, а это очень важно.
* * *
Следующие дни прошли спокойно. Князь и Мортимер уехали из Рима в неизвестном направлении. У Зефирины их отъезд вызвал одновременно и облегчение, и досаду. После жаркого поцелуя на балу она боялась оставаться наедине с Фульвио и в то же время желала этого. Может быть, ей следовало вызвать его на разговор и выяснить, посвящен ли он в то, что замышляется на последний день карнавала. Спасаясь от скуки и одиночества этих дней, Зефирина или просиживала в домашней библиотеке, или просила заложить экипаж и отправлялась на прогулку по Риму. Но ее уже утомили все эти крики, маски и переодевания. Карнавал, по ее мнению, слишком затянулся. Она устала наблюдать необузданное веселье. По мере того как проходили дни, в ней росло беспокойство из-за того, что должно случиться. И, похоже, Зефирина была не единственной, кто предчувствовал приближение неведомой беды. По распоряжению монсеньора Паоло остался при ней. Оруженосец князя, видимо, что-то учуял то ли в поведении Зефирины, то ли в атмосфере города. Всякий раз, когда княгиня желала поехать на прогулку, он усиливал охрану. Теперь при каждом выезде Зефирину сопровождало по двадцать солдат с каждой стороны экипажа. «Чего он так боится? Что я нарушу данное слово и улечу, словно маленькая птичка?» – думала Зефирина, и была явно несправедлива. Надеясь почерпнуть какую-нибудь информацию из светских бесед, она приняла приглашение навестить однажды днем старую княгиню Савелли. Но там, если не считать нескольких ровесников прошлого века, чьи разговоры крутились только вокруг семейства Борджиа, Зефирина не услышала ничего интересного и уже встала, чтобы откланяться, когда мажордом объявил: – Княгиня Колонна. Зефирина снова села и сделала вид, что слушает птичью болтовню старых дам. – Собираетесь ли вы, княгиня, как в прошлом году, устроить фейерверк в последний день карнавала? С таким вопросом княгиня Савелли обратилась к княгине Колонна. Эта дама показалась Зефирине настолько же неприметной и вялой, насколько ее муж в костюме «галла» предстал перед Зефириной суровым и победоносным. Не думаю, моя милая. Князь решил, что нам следует завтра отправиться из Рима в Неаполь. – Как жаль, значит, вы не увидите закрытия карнавала. – Увы, это так. Затем беседа перешла на иную тему, потому что в это время в гостиную вошла княгиня Орсини. Зефирина заметила подчеркнутую холодность в отношениях между вновь вошедшей и княгиней Колонна. – Бедняжки, они ведь так любят друг друга, они дружат с детства, но их мужья в ссоре, – прошептала на ухо Зефирине герцогиня Русполи. – Не понимаю, зачем им поддерживать мужей в их злобе, если у них самих нет повода для вражды? – удивилась Зефирина. Герцогиня взглянула на молодую француженку с чересчур смелыми взглядами так, будто рядом сидело порождение дьявола, и ничего больше не сказала. Лакеи внесли первые свечи. Княгиня Колонна уехала. Зато приехала Каролина Бигалло. Она села напротив Зефирина и спросила: – Вам нравится в Риме, мадам? – Все больше и больше! – ответила Зефирина с довольной улыбкой. – Но у нас тут воздух не очень здоровый для слишком деликатных особ! – бросила Бигалло с понимающим видом. – В таком случае вам не следует здесь оставаться, мадам! – Я надеюсь увидеть вас у себя в четверг, этот день у меня отведен для иностранцев. – А вы заходите ко мне по пятницам. Я в этот день принимаю автохтонов. Не поняв произнесенного слова, Бигалло резко встала. Она решила, что Зефирина ее оскорбила, и пересела к княгине Орсини: – Вы слышали, француженка назвала меня автохтоном! – Автохтоном? Словечко пошло по гостиной. Зефирине больше нечего было здесь делать. Она достаточно узнала. В сопровождении своей дуэньи она подошла попрощаться с княгиней Савелли. – Заходите ко мне, дорогое дитя, – громко сказала старая княгиня. А на ухо прошептала: – Только не называйте больше Каролину автохтоном, она такая ранимая. Маленькие черные глазки княгини смеялись. Зефирина почувствовала, что ей очень нравится княгиня Савелли и пообещала: – Обязательно и с большим удовольствием, мадам. Она сказала это совершенно искренне. «Итак, Колонна покидают Рим». Поглощенная своими мыслями, Зефирина не заметила, как доехала до дому. Въезжая во двор, она чуть не подскочила. Паоло произнес: – Кажется, монсеньор и милорд вернулись! Пряча волнение, вызванное этой новостью, Зефирина заставила себя выйти из кареты не спеша. Ни о чем не спрашивая слуг, распрягавших взмыленных коней Фульвио и Мортимера, молодая женщина решила пройтись немного по саду. Ей хотелось подготовиться к встрече с мужем. Подготавливая мысленно фразы, которые произнесет, Зефирина пыталась представить, как поведет себя князь. Примется ли он укрощать ее, выкажет презрение или начнет соблазнять? Предположив последнее, она вздрогнула. Решив для себя, что не должна поддаться соблазну, Зефирина вошла во дворец. И тут же, у порога остолбенела. Со второго этажа неслись яростные крики. Столпившиеся в вестибюле слуги не смели пошевелиться. Все стояли с открытым от изумления ртом и смотрели туда, откуда доносились крики. – О… вы меня просто обманули! – Странный способ отблагодарить меня! – Вы обыкновенный лжец! – Берегитесь, пока вы мой гость, вы для меня неприкосновенны… – О… я уезжаю. – Как вам угодно! – Вероломный князь! – Герцог-комедиант! – Вы настоящий предатель! – Неблагодарный. – Король Генрих проучит вас. – Наверное, прикажет поколотить меня палкой? – Нет, прикажет посадить вас в лондонский Тауэр. – Мне кажется, вы шутите… – Черт побери… Зачем вы прятали его от меня? – Тысяча чертей, вы же не просили меня держать вас в курсе перемещений короля Франции. – Проклятый князь, мне надо было следить за пленником, а он теперь плывет по морю к Карлу V! – Огорчен за вас, но вы не просили помогать вам в ваших делах. – Вы нарочно завлекли меня сюда… – Черт бы вас побрал… мне кажется, вы тут совсем не скучали… – О… черт… еще этот папа, отказавший в разводе! – Ну, тут я ни при чем. – Пропустите меня, я должен немедленно повидаться с Колонна и коннетаблем Бурбонским. – Это вы сможете сделать только через мой труп. При этих словах Зефирина, стоявшая в толпе лакеев и горничных, решительно направилась к мраморной лестнице. В сопровождении Плюш и слуг, убежденных, что принчипесса уладит ссору между князем и милордом, она поднялась по ступеням. – Господа, прошу вас! Появление Зефирины в апартаментах князя было подобно камню, брошенному в лужу с утками. Стоящие друг перед другом как петухи, готовые к бою, Фульвио и Мортимер обернулись. Остановившаяся на пороге Зефирина улыбалась и всем своим видом призывала к умиротворению. – Я прошу вас, вы оба будете потом жалеть о сказанном… Английский бульдог вдруг подошел к Фульвио. – Вы не способны даже на то, чтобы такую красивую женщину сделать счастливой, Фарнелло. – Вы мне заплатите за это, Монтроуз! Оскорбление и присутствие Зефирины помутили разум князя. Мортимер понял, что зашел слишком далеко, но было поздно отступать. К тому же он понимал, что его провели, и кто? Итальянец! Обеими руками Фульвио выхватил из ножен кинжал и рапиру. Мортимер сделал то же самое. И, несмотря на крики Зефирины, оба князя изготовились к бою. – Уйдите отсюда, мадам, – крикнул Фульвио. – Князь поступил неосторожно, этот англичанин самый известный дуэлянт в Англии, – прошептал Паоло. Оруженосец молил небо, чтобы у Мортимера не оказалось такого учителя, каким у Фульвио был великий Луиджи д'Ампресо, неподражаемо владевший венецианским оружием и единственный в мире знавший прием «удар Кастора и Поллукса». После обычных перед началом боя вызовов, Фульвио и Мортимер устремились навстречу. Оба молодых человека прекрасно знали дуэльную науку сражения со шпагой в правой руке и кинжалом в левой. Побелевшая, как бумажный лист, Зефирина теперь уже ничего не могла сделать и понимала, что противники будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Но как такое могло случиться? Опрокидывая столы и стулья, оба князя «прощупывали» друг друга, пытаясь выяснить, насколько каждый из них владеет искусством. Они расстегнули камзолы. Шпаги были наготове. Мортимер сделал блестящее обманное движение шпагой, которое Фульвио отразил, чтобы тут же сделать выпад кинжалом. – Здесь мало места, чтобы можно было размять ноги, – крикнул Фульвио. – Совершенно верно, а мне так хотелось бы заставить вас потанцевать! – согласился Мортимер. Не отрывая взгляда от противника, Фульвио направился к двери. Лакеи столпились в углу коридора. Зефирина хотела воспользоваться паузой и упросить дуэлянтов остановиться. Паоло больно схватил ее за руку. – Нет, княгиня, слишком поздно… Продолжая сражаться, оба князя выскочили на лестницу. – Ола! Факелы! – прорычал Фульвио. Лакеи с канделябрами в руках устремились к месту боя. Зефирина последовала за ними. «Господи… неужто это моя вина?» Почувствовав себя намного свободней в вестибюле, Мортимер наступал как настоящий бульдог. Он все чаще применял обманные движения. Фульвио отступал к двери, ведущей в сад. Князь вел очень тонкую игру, но, казалось, был озадачен смелыми боковыми выпадами, которые прекрасно получались у англичанина… Дважды Мортимер едва не выбил шпагу из рук князя. С помощью кинжала Фульвио пытался найти прорыв в обороне противника, и Мортимеру с трудом удавалось не допустить этого. Кружась с бешеной скоростью, он продолжал отбиваться. А Фульвио теперь вовсю разгорячился. Он угадывал тактику Мортимера, который хотел теснить и преследовать его до тех пор, пока наконец Можно будет воспользоваться промахом в защите и атаковать с фланга. Удар был бы смертельным. Фульвио понял, что такой боковой выпад был коронным у мастера Боснела, опытного Йоркского бретера. Фульвио понимал, что английский бульдог предпочитал стремительный и скорый бой и не рассчитывал на продолжительное сражение. Князь же, наоборот, еще только вошел во вкус. Ему хотелось выиграть время и поводить противника. Поглощенный сражением, Фульвио смутно видел золотую головку Зефирины, склонившейся над мраморной балюстрадой. У нее был взволнованный вид. Кем? Чем? Своим будущим? Тем, что будет с англичанином? А, может, с ним, Фульвио? Ну уж только не этим. Она слишком хорошо умела заставить его почувствовать свое отношение. Думая об этом, Фульвио стал рассеянным, а это было совсем недопустимо. Взяв себя в руки, он нанес два удара, которые задели англичанина. Тот, отразив удар первой позиции, тут же в ответ начал атаку с фланга. Зефирина, не сдержавшись, закричала. Открыв ударом ноги дверь, Фульвио выскочил в сад. Ему не хватало воздуха. Мортимер последовал за ним. При свете факелов оба князя продолжали биться среди деревьев. И тут Фульвио вдруг увидел, что Мортимер открылся. Прекрасно владея рапирой, англичанин время от времени пренебрегал кинжалом. Бой длился слишком долго. Мортимер совершил ошибку и, желая ее исправить, нанес удар, порвав камзол Фульвио. Оба противника кружились вокруг статуи Юдифи и Олоферна… Опершись о статую, Фульвио отразил ударправой. Теперь он затеял игру на сближение, чтобы избежать удара левой, а тем временем его кинжал отразил «высокий крест». Похоже, прием, разработанный Луиджи д'Ампресо, вполне действовал. Фульвио открылся, «приглашая» врага воспользоваться этим. Мортимер всей мощью ринулся, желая нанести рапирой удар сбоку. Фульвио ускользнул. Он вскочил на край фонтана. Но вместо ответного удара, которого ждал Мортимер, он устремился к нему, скрестив кинжал и шпагу выше уровня сердца. Нанесенный удар был неотразим. В какой-то миг Фульвио увидел изумление в голубых глазах Мортимера. И сам не зная, почему, он в последнюю секунду отвел на полдюйма вправо и шпагу, и кинжал. Оба клинка вонзились в грудь Мортимера. Сохраняя все тот же почти детский взгляд, англичанин рухнул, прошептав: – О, мои поздравления… Удар Кастора и Поллукса… И с этими словами, воздающими должное прежде всего игре по правилам, белокурая голова Мортимера де Монтроуза упала назад, в лужу крови. – Боже правый, вы убили его! – воскликнула Зефирина, подбегая к князю Фарнелло. Фульвио, очень бледный, протянул Паоло рапиру и кинжал. – Сожалею, мадам, что не мог доставить вам удовольствие и сделать вас вдовой именно теперь… – прошептал он. Зефирина в негодовании топнула ногой: – Замолчите же, князь Фарнелло, вы только и делаете, что говорите глупости… Вы ранены? Она взяла руку Фульвио и проверила, есть ли рана в том месте, где порван камзол. Увидев, что все в порядке, она, не боясь испачкать платье, опустилась на колени перед умирающим. – Он еще дышит, – прошептала Зефирина. На жест князя к нему подошли Паоло и Пикколо. Со всеми возможными предосторожностями они подняли с земли герцога де Монтроуза и понесли в его апартаменты. – Господа, вы свидетели, что дуэль была честной, – обратился князь к английским слугам Мортимера. – Да, монсеньор, мы можем это подтвердить. Поскольку доктора Калидучо здесь не было, послали за римским врачом, который, осмотрев зияющую рану, прижег ее каленым железом, после чего с мрачным лицом объявил: – У него в моче кровь… Больше трех дней синьор не протянет…* * *
«Смерть Мортимера принесет нам несчастье». Зефирина корила себя за то, что не смогла остановить эту ужасную дуэль. Фульвио после дуэли заперся в своих апартаментах и не выходил. Было что-то около полуночи. В доме стояла мертвая тишина. С улиц по-прежнему доносились крики и смех карнавальной толпы, к которым Зефирина уже притерпелась. Море танцующих фонариков двигалось в сторону Ватикана. Зефирина в ночной рубашке, облокотившись на подоконник, предавалась мрачным мыслям. «Она приносит несчастье всем, кто к ней приближается. Там, наверху, лежит бедный Мортимер, за которым ухаживает Плюш и который наверняка умрет, а Фульвио…» Зефирина прервала тягостные размышления. Какое-то маленькое, бесформенное существо в широкополой шляпе с пером следовало за Паоло к главному входу во дворец. «Каролюс?» Зефирина вышла из комнаты. Ее больше не охраняли. Поднявшись по служебной лестнице, она на цыпочках стала подкрадываться к покоям Фульвио. Но она слишком поторопилась и чуть не столкнулась со слугой, который нес канделябр, освещая путь Паоло и карлику. Зефирина спряталась в темном углу и замерла, пропуская молчаливое трио. Как она и догадалась, карлик направлялся к князю. Постучав в дверь, Паоло вошел к князю вместе с карликом. Зефирина была вне себя от злости, потому что слуга с канделябром остался стоять у двери. К счастью, на противоположной стороне вестибюля стояла большая серебряная напольная ваза, доверху наполненная всякими сладостями. Паж-сладкоежка не удержался, подошел к вазе и стал набивать рот конфетами и печеньем. Зефирина немедленно воспользовалась этим. Она подбежала к двери, тихонько открыла ее и спряталась за драпировкой в маленькой прихожей, откуда четыре двери вели в спальню, гостиную, молельню и рабочий кабинет его светлости. Дверь кабинета была слегка приоткрыта. Зефирина, как в театре, услышала голос князя. – Вы скажете своей госпоже и герцогу Бурбонскому, что, оставаясь по-прежнему союзником его императорского величества, я тем не менее не присоединюсь ни к Колонна, ни к коннетаблю, о чем честно их предупреждаю. Более того, я решительно не советую им участвовать в подобном предприятии, иначе они покроют себя позором в глазах всего христианского мира. – Но, монсеньор, ваша светлость совершенно напрасно опасается! Никто не причинит папе никакого зла; мы просто хотим помешать ему плести заговор вместе с королем Франции. Нам пока неизвестно, как, но Франциск I и папа переписываются. Мадам регентша Франции дала согласие на создание коалиции против Карла V, которую новые союзники называют Священной Лигой… Моя госпожа надеется на ваш положительный ответ. Зефирина вытерла вспотевшие ладони о свою рубашку. «Да, это голос Каролюса». Он заговорил о донье Гермине. Ради удовлетворения своей ненасытной жажды власти негодяйка была готова на все, даже на захват папы. – Ну хорошо, я передам вам свой окончательный ответ через Паоло завтра в полдень… Сообщите это своей госпоже… Если я дам согласие, Паоло явится к вам с белой нарукавной повязкой, а если мой ответ будет отрицательным, то нарукавная повязка будет красной. – Белая повязка – ваша светлость с нами, красная повязка – Ваша светлость против нас, – повторил голос Каролюса. – Прошу прощения, красная означает мой нейтралитет, – поправил Фульвио. Смех Каролюса заставил Зефирину вздрогнуть. – Император не признает никакого нейтралитета, монсеньор, ваша светлость или с нами, или против нас! – Прощайте… Паоло проводит, – сухо прервал его князь. Зефирина почувствовала, как в двух дюймах от нее прошли Паоло и Каролюс. Она услышала, как Паоло окликнул пажа-сладкоежку, и вся троица спустилась по лестнице. Соблюдая осторожность, Зефирина вышла из-за драпировки. Подойдя к приоткрытой двери, она увидела Фульвио стоящим у окна и глядевшим в ночное звездное небо. Несколько мгновений она колебалась, не вернуться ли ей к себе так же, как пришла. Но что-то заставило ее, вопреки собственной воле, войти в комнату князя. При появлении Зефирины Цезарь и Клеопатра повернули к ней головы и тихо заскулили. Фульвио резко обернулся. Лицо его было измученным. – Зефирина, что вы здесь делаете в такой поздний час? Вы простудитесь… Он сам толком не знал, что говорит. Заметив на кресле плащ, Зефирина накинула его себе на плечи и подошла к мужу. – Они хотят похитить папу, правда? Не отвечая на вопрос, Фульвио приблизил лицо к молодой женщине. Приподняв пальцем ее подбородок и глядя в прекрасные зеленые глаза, которые в эту ночь не отворачивались от него, он произнес: – Мы только и делаем, что причиняем друг другу боль, Зефирина… а я к тому же причиняю боль и другим… Я очень привязался к Мортимеру. Если он умрет, я буду корить себя за это всю жизнь. Это было сказано необыкновенно мягким и печальным голосом. Зефирина покачала головой: – Нет, Фульвио… Мортимер не умрет, это невозможно… Он не умрет. – Вы, Зефирина, решаете и объявляете: «Так не должно быть, потому что я этого не хочу», но мы не можем изменять судьбу. Я попробовал, но у меня ничего с вами не получилось. Вот, посмотрите, я получил это сообщение из Франции. Зная вашу реакцию, я уже несколько дней не решаюсь показать вам его… Но сегодня ночью я понял, что устал от всей этой бесконечной комедии… Фульвио протянул молодой женщине пергамент, и при свете свечи она прочла: «С милостивого соизволения ее королевского высочества мадам регентши Франции, шевалье Гаэтан де Ронсар и мадемуазель Бернадетта де Вомулер сообщают князю и княгине Фарнелло о своем бракосочетании, состоявшемся 15 числа прошлого месяца в узком кругу, в родовом замке Поссоньер, где они и собираются отныне проживать…» Замок Поссоньер… Вся семья Ронсаров в сборе, за исключением тех, кто погиб под Павией. Маленький Пьер Ронсар, наверное, вырос. Сколько ему теперь? Уже три года, кажется… «Маленький Пьер будет большим поэтом», – часто говорила его мать. А Луиза? Ее подружка Луиза… Как счастлива была Зефирина в этой семье. А может, она любила не столько Гаэтана, сколько сердечную атмосферу семейства Ронсаров? «Гаэтан и Бернадетта… А он не терял времени. Да, он быстро утешился». Зефирина положила сообщение на стол. Казалось, она должна была кричать от боли. Но, как ни странно, новость оставила ее равнодушной. Было лишь ощущение легкой грусти, смешанной с беспокоящим душу воспоминанием. Бернадетта? Не та ли это пансионерка из монастыря Сен-Савен, которую так радовали бурные ласки Альбины де ла Рош-Буте[76]? Да и сама Зефирина, разве она не была взволнована этой отчаянной девицей, превратившей девичий дортуар в место знакомства с плотскими прелестями. Даже не покраснев при этом воспоминании, Зефирина пожала плечами. Как далеко все это! Когда же это Фульвио изгнал Гаэтана? Три месяца назад, год, три года или три века? Неужто Зефирина и вправду, сама того не ведая, стала княгиней Фарнелло? Из деликатности Фульвио отвернулся к окну и, казалось, что-то разглядывал в темноте римской ночи. Зефирина сделала шаг в сторону мужа. – Благодарю вас, Фульвио, что вы сообщили мне это. – Возможно, вы от меня этого не ждете, но я очень огорчен за вас, Зефирина, – сказал Фульвио. «Боже, как я, должно быть, смешна… принимать соболезнования от мужа по поводу жениха, который женился на другой!» – подумала Зефирина. Фульвио подошел к ней. – Вопреки всему, что нас разделяет, я клянусь вам, вы будете отныне последним человеком в этом мире, кому я бы осмелился причинить горе… Что я могу сделать для вас? Взволнованная тем, что Фульвио подошел совсем близко к ней, Зефирина вдруг решилась сказать: – Вы можете изменить судьбу, Фульвио. Все в ваших руках. И я хочу этого больше собственной жизни. Перехитрите этих предателей… Предупредите папу, чтобы он мог укрыться в надежном месте, где будет в большей безопасности, чем в Ватикане, открытом всем ветрам. Подняв к нему лицо, Зефирина молила его так горячо, как только умела, когда хотела кого-нибудь убедить. – Я прошу вас, Фульвио, послушайте меня… Не впутывайтесь вместе с Карлом V, Бурбоном и Колонна в это гнусное дело! Переходите к нам, в наш честный и справедливый лагерь детей Церкви. Разрушим планы противника. С предателями надо вести себя по-предательски… Я умоляю вас, Фульвио, ведь речь идет о чести рода Фарнелло, и вы это хорошо знаете. Зефирина попала в самую точку. – Но за каждым шагом, за каждым жестом папы неотступно следят. И я никого не могу к нему послать, – прошептал молодой человек. – Зато я могу… У меня есть Гро Леон. Глаза Зефирины горели от волнения. – Заговорщица! Мне следовало догадаться, ведь в последнее время вы вели себя так благоразумно! Значит, это вы связной агент между Франциском I и папой… В Риме существует только одно место, где можно защитить его святейшество, – сказал Фульвио, садясь за стол. – Это – здесь. И пальцем, на котором сверкал герб Леопарда, он ткнул в большую карту Рима. Зефирина наклонилась, чтобы взглянуть в указанное место. Это был замок Святого Ангела.* * *
Зефирина спустилась к себе на рассвете. Впервые у нее появилось ощущение, что у них с Фульвио есть что-то общее. Сблизившись на почве политики, Саламандра и Леопард полночи просидели вместе, обдумывая план действий. «Я лезу на пороховую бочку, – подумал Фульвио, – но я должен сделать это ради папы». Если бы он был до конца откровенен с собой, то добавил бы к этому: «А еще я хочу этого ради Зефирины». Он не позволил себе ни единого жеста, чтобы удержать молодую женщину, когда она с лицом, сияющим от счастья, отправилась к себе, присев на прощанье. Проявляя учтивость, князь проводил ее до двери. Пока она спускалась по лестнице вслед за освещавшим дорогу факельщиком, Фульвио, не отрывая взгляда, смотрел на удаляющийся силуэт, потом вернулся в комнату и сел за свой рабочий стол. Гладя шелковистую голову Клеопатры, князь едва слышно произнес с улыбкой: «Божественная Зефирина…»Глава XIX ЛЮБОВНИК И ЛЮБОВНИЦА
Карл Бурбонский с такой силой ударил кулаком по столу, что лежавшие на нем печати, карты, пергаменты подскочили. – Все идет не так, как надо, Генриетта… Послушай, что мне только что сообщил твой сын. Повтори все это матери, Рикардо… Князь Фарнелло, который, по твоим словам, является нашим союзником, на рассвете вызвал на помощь капитана Ренцо да Чери! Того самого Ренцо, который так успешно когда-то защищал от меня Марсель! За несколько часов Леопард и он смогут поднять четыре тысячи человек… четыре тысячи, ты слышишь… ты меня уверяла, что Рим беззащитен, а мы, оказывается, собираемся напасть на папу, забаррикадировавшегося в крепости… Вне себя от ярости, коннетабль де Бурбон расхаживал по своей палатке взад и вперед под сверкающим молниями взглядом доньи Гермины. Прикрепленная к волосам цвета воронова крыла черная вуаль была на сей раз откинута, и можно было видеть, что мачеха Зефирины, женщина лет сорока, все еще не потеряла своей мрачной красоты. Сохраняя внешне олимпийское спокойствие, женщина, продолжавшая носить имя маркизы де Багатель, обнаруживала волнение лишь тем, что постукивала ногой по ковру. Невероятно худой, с костистым лицом, покатым лбом, коротко остриженной бородкой, беспокойным мутным взглядом, Карл Бурбонский, этот «внук» Людовика Святого, был необыкновенно похож на свой портрет кисти Тициана. Как могло случиться, что знатный французский синьор, герой Мариньяна, самый знаменитый человек во Франции, глава могущественного рода Бурбонов, высшее военное должностное лицо французской короны, коннетабль Франции, двоюродный брат Франциска I, дошел до того, что предал своего короля, пэров Франции и саму Францию в сражении под Павией? «Это все из-за Сан-Сальвадор», ответила бы на это Зефирина, первой узнавшая об измене и попытавшаяся предупредить об этом Франциска I[77]. Конечно, измена произошла не без участия Гермины де Сан-Сальвадор, черного ангела Карла V, но начало этому было положено мрачной историей с наследством Анны де Боже, оспоренным у Карла Бурбонского матерью Франциска I. По этой причине король и его кузен стали врагами. Самолюбие коннетабля было задето тем, что Франциск I способствовал присуждению спорного наследства именно мадам Луизе, своей матери. А в результате Карл Бурбонский, умело подогреваемый доньей Герминой, вместе с войском и оружием перешел на сторону Карла V. В благодарность за это император сулил ему корону Франции. После победы под Павией Карл Бурбонский уже видел себя на троне своего кузена Франциска, попавшего в плен, но, как оказалось, продал душу дьяволу: Карл V постоянно оттягивал выполнение своего обещания и никак не желал выпускать из когтей добычу. – Что касается англичан, то их, как всегда, в нужный момент не доищешься… Монтроуз исчез, а мог бы привезти золота, чтобы я заплатил армии. Донья Гермина пожала плечами: – Англичанин? Золота? Ты грезишь, Карл! Впрочем, он все равно мертв или почти мертв. – Кто? – Фарнелло его почти убил… А если он и выживет, то ему нелегко будет объяснить Генриху VIII многие вещи, и в частности, почему он вместо того, чтобы вести наблюдение в Пиццигеттоне, явился сюда любезничать с дамами. В довершение ко всему, папа отказал королю в расторжении его брака с королевой. Так что на Монтроуза не приходится рассчитывать. – Вот видишь, остается один Колонна! Карл Бурбонский перестал ходить по палатке и машинально потер кружевной манжетой грязный нагрудник своей кирасы. Донья Гермина решила, что самый напряженный момент в его состоянии прошел. Незаметным движением руки она приказала своему сыну Рикардо выйти: из палатки, а сама, покачивая бедрами, подошла к коннетаблю. – Это она… Карл… мне давно надо было ее убить. – Кто? – угрюмо спросил Бурбон. – Моя падчерица, Зефирина де Багатель… Я уверена, это она все подстроила и отговорила Фарнелло. Мне следовало опасаться ее… но я-то думала, что она после страшной лихорадки превратилась в идиотку. А эта негодяйка выздоровела, и я подозреваю, помирилась со своим мужем. Если это действительно так, месть моя будет ужасной. Донья Гермина достала из кошелька три маленьких восковых фигурки. У одной из них были рыжие волосы, у другой – черные кудри, а у третьей – русая шевелюра. Поставив их в ряд на столе, донья Гермина вонзила в каждую по игле в том месте, где должно быть сердце, и при этом приговаривала: – Заклинаю Всемогущим Астаротом, князем Ваалом! Трижды, с помощью магии, злодейка Зефирина избежала гибели от яда, огня и проклятий. Молю тебя, Агалиарепт, мой повелитель, помоги мне уничтожить как можно скорее эту мерзавку вместе с предателем Фарнелло, а заодно и шутом, именуемым королем Франции. Очисть место для истинного короля, Карла Бурбонского… Коннетабль в это время стоял, отвернувшись. Он был бледен и явно побаивался подобных сеансов, к которым донья Гермина все же его приучила. Пытаясь избавиться от влияния, которое эта женщина оказывала на него столько лет, он сказал: – Все это сплошной вздор… Этим твоим куклам не открыть мне дороги на Рим и тем самым во Францию… – Не богохульствуй, Карл! Я много сделала для тебя, ты это знаешь. Смотри, не навлеки на себя гнев нашего высшего повелителя, того, что выше Карла V… Князя Тьмы – Вельзевула… – шепотом закончила донья Гермина. При виде ее пылающего взора Карл Бурбонский опустил глаза. Пока донья Гермина прятала свои восковые фигурки в кошель, Карл Бурбонский снова возразил: – Не думаю, что ситуация, в которую мы попали – дело рук твоей кривляки-падчерицы. Здесь тридцать тысяч солдат требуют жалованья. А у меня ни одного лиарда. Императору нужно два месяца, чтобы прислать мне деньги. Колонна сам без денег. Зато Фарнелло богат. Он один бы мог заплатить всем моим людям. Но этот проклятый Леопард уже не с нами, а ты требуешь от имени императора, чтобы я атаковал Ватикан и захватил папу в плен! Черт побери, да мои войска просто откажутся идти на это. Не отправляться же мне одному, пусть даже подземным коридором, соединяющим Ватикан с замком Святого Ангела, и объявить Клименту VII: вы мой пленник! В палатке наступило тягостное молчание, не нарушаемое ни Холодным северным ветром, ни возгласами солдат, расположившихся лагерем в нескольких лье от Рима. Довольный тем, что смог высказать донье Гермине все, что его мучило, коннетабль улегся на походную кровать. Донья Гермина подошла к нему, шурша шелковыми юбками. – Пообещай своим солдатам богатые трофеи, и тебе не придется платить… – прошептала Сан-Сальвадор. Карл Бурбонский думал, что ослышался. – Ты спятила, Генриетта, уж не о разграблении ли города ты говоришь! – Именно об этом, ты правильно понял, Карл… Надо проучить этих римлян, а заодно и их заговорщика папу. – Император хочет захватить папу в плен, но ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь, Генриетта? – возразил бурбон. – Та-та-та! То, чего хочет Карл V он хочет любой ценой! Говоря эти слова, донья Гермина опустилась на колени около коннетабля. Небрежным движением она положила руки поверх штанов любовника. Он сначала покраснел, но тут же лицо его побледнело. На протяжении многих месяцев занятая плетением заговоров – сначала путешествие в Испанию, в Эскуриал, чтобы получить распоряжения Карла V, потом во Францию ради собственных дел – донья Гермина была лишена объятий Бурбона. А между тем он находился у нее под каблуком почти двадцать лет. Ей были известны буквально все его слабости, и не только моральные, но и физические. Она умела взволновать его и прекрасно сознавала пагубную власть, которую имела над этим могущественным и одновременно слабым существом. Жажда власти, мечта о престоле и о богатстве связали его с этой женщиной, которая шла напролом, не отступая ни перед чем, даже перед убийством. Несмотря на то, что был женат, несмотря на многочисленные любовные приключения, Карл Бурбонский сохранил к монашенке Генриетте, с которой познакомился в монастыре, какую-то болезненную страсть, вернее, он испытывал сексуальное влечение к ее порокам. Она знала все его вкусы, даже самые извращенные. И только она умела удовлетворить эти вкусы. С пересохшим от волнения горлом Карл Бурбонский сразу понял, что лучше было бы немедленно встать с кровати и отказаться от ласк доньи Гермины, но на это он не был способен. Еще со времен Павии ему ни разу не удалось удовлетворить ни одно из своих желаний. Возможно, это было божьим наказанием, но только Бурбон с тех самых пор стал импотентом. Он испробовал и девушек, и юношей, но все было напрасно. Донья Гермина засунула свои длинные руки к нему под одежду и без всякой нежности схватила безжизненно свисавший кусочек плоти. Вместо ласковых слов она стала издеваться над ним: – Ты всего лишь незаконнорожденный. Ничтожный вассал! Жалкое отродье, гнусная вонючая свинья! Ты, король? Нет, ты – раб! Подумать только, кому я передаю распоряжения… Я могу делать с тобой все, что хочу. А ну, раздевайся, здесь я командую! Давай-ка, паршивый пес, побегай, побегай… Донья Гермина резко встала. Заметив висящий на стене палатки собачий хлыст, она схватила его и щелкнула им в воздухе. Дрожа от восторга, Карл Бурбонский торопливо скинул с себя штаны, чулки и башмаки, оставшись при этом в кирасе и кольчуге. Нижняя часть его крепкого тела, от живота до кончиков ног была теперь обнажена. Его половой член стал понемногу увеличиваться. Коннетабль опустился на четвереньки. Когда хлыст с размаху опустился на его зад, он заскулил от восторга. – Побегай, грязная свинья, я никогда не буду твоей, ты мне слишком отвратителен… беги… беги… Каждое оскорбление донья Гермина подкрепляла ударом хлыста, от которого на коже герцога оставались красные полосы. Герцог же, скуля и лая, точно пес, пытался уклониться от ударов и, бегая на четвереньках, прятался то под стол, то за кресло, то за стул и даже в открытый сундук. И отовсюду донья Гермина выгоняла его хлыстом. Кнут полосовал ляжки герцога, напрягавшиеся от удовольствия при каждом ударе. – Повторяй за мной каждое слово… Я лишь жалкое ничтожество… – Да, да, я лишь жалкое ничтожество! – стонал, захлебываясь от удовольствия, Карл Бурбонский. – Ты мой раб, и я могу делать с тобой все, что захочу, даже посадить на кол… даже убить. – Да, ты моя королева! Ты можешь сделать со мной все, что захочешь, даже посадить на кол. С видимым злорадством донья Гермина, крепко сжав рукоятку хлыста, внезапно всадила ее глубоко в задний проход герцога. Тот завертелся на месте, напрягся, заплакал, застонал, заохал… И тут неожиданно наступил кульминационный момент. Его член гордо поднялся. Поднялся с пола и Карл Бурбонский. – Теперь твоя очередь, сука! Вырвав из рук доньи Гермины хлыст, он замахнулся. Но в этот момент Сан-Сальвадор схватила арбалет и нацелила его прямо на герцога. – Если ты только подойдешь ко мне, я тебя убью. Хрипя, плюясь и изрыгая проклятья, коннетабль двинулся на донью Гермину. – Клянусь, я убью тебя… грязная свинья, – пригрозила Сан-Сальвадор. Карл Бурбонский протянул руки, отшвырнул арбалет и схватил женщину. – Теперь я твой хозяин, – прохрипел он. – Да, ты хозяин, – согласилась она с неожиданной покорностью. Герцог повалил ее на кровать. Задирая, точно обезумевший, одну за другой ее юбки, он обнажил лоно доньи Гермины и, урча от вожделения, навалился на нее всем телом. Комкая юбки и обрывая кружева, он грубо перевернул ее на живот, чтобы сделать с нею то, что он обычно любил делать с юными пажами. Но тут внезапно желание куда-то исчезло. Герцог был вне себя от злобы. Ведь он был так близок к цели. Донья, Гермина вонзила ему в тело свои скрюченные ногти. Отвернувшись от него, она усмехнулась: – Ты жалкий пес… я прикажу посадить твой толстый зад на кол какой-нибудь ограды. Распаленный желанием, Карл Бурбонский отхлестал ее по обеим щекам. – Замолчи сейчас же, я твой Хозяин, а ты моя сука. Приказываю тебе лаять. Донья Гермина выполнила. И тут Бурбон наконец вонзился в нее с такой силой, будто нанес удар кинжалом. Негодяйка улыбнулась, испытав удовлетворение. Бурбон старел, и каждый раз ему требовалось все больше времени, чтобы привести себя в нужное состояние. Она же каждый раз боялась, что он не доведет дело до конца. Но на этот раз он снова оказался в силе. У своего уха она слышала учащенное дыхание мужчины, испытавшего наслаждение, которого никакая другая женщина не в состоянии была ему дать. Желая сделать его удовольствие более полным, донья Гермина, приподняв голову над подушкой, стала издавать жалобные стоны. Последняя свеча догорела. Заключительный спазм Карла Бурбонского был так силен, что он просто рухнул на свою любовницу. Пробыв несколько мгновений в забытьи, он встал и, не дав себе труда одеться, высек искру, чтобы зажечь свечи в канделябре. Донья Гермина села на край кровати. Карл посмотрел на нее с восхищением. Ни единый волосок из ее прически не выбился. Коннетабль взял с кресла халат, надел его поверх кирасы и повязал поясом. Затем уселся в кресло, по-прежнему не отводя взгляда от Гермины. Он хорошо понимал, что эта женщина – его злой ангел, но ничего не мог с этим поделать. – Карл, – прошептала донья Гермина, прекрасно знавшая о его сомнениях, – я никогда никого не любила в жизни, кроме тебя… ты станешь величайшим королем Запада. Ничего не ответив, он подошел к столику и налил себе в кубок сицилийского вина. Жадными глотками герцог выпил пьянящий напиток и подошел к выходу из палатки. Откинув полотнище, служившее дверью, он позвал своего адъютанта: – Рикардо! Молодой человек немедленно прибежал. Не глядя на свою мать, он встал перед коннетаблем по стойке «смирно». – Вызови командиров, – распорядился герцог де Бурбон. Жестом руки он дал понять донье Гермине, что ей следует скрыться во второй комнате его просторной палатки. Шесть суровых капитанов, набранных из тех свирепых кондотьеров, которые готовы служить любому, кто платит, вошли в палатку герцога де Бурбона. Все шестеро неловко переглянулись. – Монсеньор, что касается нас… мы еще смогли бы пойти на это, но солдаты в армии плохо обмундированы, плохо накормлены, без денег… Они отказываются выступать без жалованья. – Я знаю, – спокойно сказал Карл Бурбонский. – Но я обещаю им… захват города, богатую добычу, женщин и выпивку. Не веря собственным ушам, командиры переглянулись, и наконец один решился спросить: – Не хочет ли монсеньор сказать, что наши люди смогут раздобыть себе жалованье в Риме? – Да, ведь, кроме всего прочего, этот город очень богат… Так что солдаты смогут найти себе все, что захотят, прямо на месте. Передайте мой приказ людям, – сухо ответил Карл Бурбонский. Командиры, судя по их лицам, были потрясены. Им, ведущим жизнь наемников, приходилось совершать многое: убивать, грабить, насиловать и прочее. Но Рим – это Рим… И то, что подобный приказ им отдает французский принц, привело их в полную растерянность. – Теперь идите, на рассвете мы снимаем лагерь, – закончил разговор коннетабль. Поприветствовав принца, командиры удалились. Адъютант Рикардо хотел последовать за ними, но Бурбон задержал молодого человека. Несколько мгновений он молча смотрел на этого не по-мужски привлекательного, худощавого и развязного юнца, бывшего его собственным сыном, но в конце концов отказался от внезапно возникшего желания сказать тому правду о его происхождении и ограничился простым распоряжением: – Пойди, скажи донье Гермине, что я хочу побыть один, Рикардо. Неожиданно у принца начался озноб. Подойдя к скамеечке для молитв, он опустился на колени и, целуя распятие, прошептал с тревогой: – Господь милосердный… я вверяю тебе мою душу. Донья Гермина вместе с сыном покинула палатку через выход, предназначенный для слуг. Небо на горизонте начало бледнеть, предвещая скорый рассвет. Из лагеря доносились голоса. Просыпавшихся солдат ждала приятная весть. – Извините меня, матушка, но я должен пойти собрать вещи принца, – предупредил Рикардо. – Ступай, малыш, ступай, – с нежностью сказала донья Гермина. Она стояла и смотрела на удалявшегося молодого человека, единственного во всем мире, который вызывал у нее неподдельную любовь. «Рикардо…» Стоило ей только подумать о том, что Зефирина отказала ее дорогому мальчику… Да за одно это она должна умереть. Донья Гермина постаралась не дрожать, хотя ночью было очень свежо. – Возьми, накинь это, Генриетта. Карлик Каролюс протянул ей плащ, который Сан-Сальвадор набросила на плечи. Карлик поднял голову к той, кому был предан душой и телом. – Не волнуйся, все будет хорошо, – сказал он, стараясь успокоить ее. – Пошли, не стой тут, а то простудишься… Идем в твою палатку… Ты устала. Я сейчас помассирую тебе спину. Идем же, Генриетта. Следуя за Каролюсом, донья Гермина взглянула в ночное небо, на котором сверкали звезды. – Ра! Вельзевул… Молю тебя, дай нам победу! Сжав кулаки, донья Гермина с такой силой вонзила загнутые ногти себе в ладони, что брызнула кровь. И, будто отвечая ей, в небе прозвучал крик ночной птицы. Это был ворон, а может быть, галка, стремительно летевшая в сторону Рима.Глава XX СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЯ
– Sac… Scelerats… Salvador… Sorciere… Soldats… Spixante Sille… Soif[78]. Зефирина раньше всех почувствовала надвигающуюся опасность. Едва взошло солнце, она принялась искать Гро Леона и нигде не нашла его. Тщетно она звала галку, та не откликалась на ее зов, и вот теперь птица вернулась не только усталая, но и насмерть перепуганная. Из того, что птица пыталась сказать, Зефирина понимала не все, но догадалась, что городу грозит нечто более страшное, чем все представляли. – Мое платье-амазонку! – крикнула она служанкам. С тех пор как Фульвио согласился организовать защиту папы, Зефирина пребывала в невероятном возбуждении. На настойчивые требования Фульвио покинуть Рим она с гордостью отказалась уподобляться трусливой княгине Колонна. «Ведь Карлу V была нужна не она, а папа». Точно в замок, пробудившийся от прикосновения волшебной палочки феи, во дворец Фарнелло без конца прибывали гонцы, всадники, лейтенанты, капитаны и наемники. Очень понравился Зефирине друг Фульвио, Ренцо да Чери. Горделивый тридцатилетний кондотьер, Ренцо во многом очень напоминал князя. Высокий, чернокудрый, Ренцо да Чери даже не пытался скрыть того восхищения, которое у него вызывала прекрасная княгиня Фарнелло. За сутки, благодаря золоту князя Фарнелло, Ренцо собрал, о чем уже знал Бурбон, войско в четыре тысячи человек, которое разместил за крепостными стенами Борго (окраина Рима), чтобы не допустить проникновения в город любого мало-мальски подозрительного «субъекта». А тем временем Климент VII и его кардиналы перебрались из Ватикана в замок Святого Ангела. Этой ночью Фульвио и Ренцо не покидали Борго. Прождав их допоздна, Зефирина в конце концов уснула, но очень скоро проснулась с чувством сильной тревоги и стала искать Гро Леона. – Скорее… скорее… – торопила служанок Зефирина. Пока девушки затягивали на ней черную юбку и застегивали казакин, отделанный шнурами, молодая женщина отдавала распоряжения мадемуазель Плюш: – Заверните кое-какие вещи, но чтобы свертки были как можно меньше, Плюш. Возможно, нам придется очень скоро покинуть дворец. – Но, мадам… – запротестовала дуэнья. – Делайте, что я сказала, Плюш! Зефирина схватила хлыст с золотой рукояткой. – А как же бедный раненый синьор? – Пусть немедленно приготовят широкую доску и подстилку, чтобы можно было перенести милорда де Монтроуза. – О, Господи… Иисус Мария, Иосиф! Не слушая дальнейших причитаний мадемуазель Плюш, Зефирина бегом спустилась по лестнице. Во дворе она увидела Паоло и еще человек двадцать головорезов, составлявших охрану дворца. – Паоло, мне необходимо увидеться с князем, – сказала Зефирина. – Ваша светлость… Оруженосец князя не решался подчиниться. – Торопитесь, поедем со мной. Бурбон приближается. У него шестьдесят тысяч солдат. – Что, правда шестьдесят тысяч? – переспросил обомлевший Паоло. – Я их не считала. Но в любом случае этот предатель приближается с целой армией. Прокладывая себе как можно скорее дорогу в Борго, Зефирина, Паоло и два гвардейца должны были объезжать людей в масках, пляшущих и веселящихся в этот последний день карнавала. Несмотря на всеобщее веселье, Зефирина чувствовала, что по городу распространяется тревога. Перед каждым появлением наемников Ренцо да Чери некоторые жители Рима наглухо запирались в своих домах. Только приблизившись к окраинам города, Зефирина, Паоло и солдаты смогли пришпорить коней и пустить их в галоп. Фульвио и Ренцо находились у стен укрепления. Они отдавали распоряжения людям, вооруженным аркебузами, когда увидели мчащуюся Зефирину в костюме амазонки. – Да здравствует принчипесса! Наемники приветствовали молодую женщину, словно мадонну. Фульвио, недовольный, спустился с крепостной стены. – Ради всех святых, мадам, ну что вы здесь делаете? – проговорил он раздраженно, помогая при этом Зефирине спуститься с лошади. Она положила руки ему на плечи, в то время как он обхватил ее за талию. Тела их невольно соприкоснулись. Во взгляде Леопарда сверкнула молния. Это длилось всего лишь миг. Смущенная Зефирина опустила глаза. Еще мгновение Фульвио не выпускал ее из своих рук, затем поставил на землю и спросил смягчившимся голосом: – Что происходит, Зефирина? В нескольких словах молодая женщина сообщила мужу все, что узнала от Гро Леона. Галка, будто желая подтвердить слова своей хозяйки, летала над укреплением и выкрикивала: – Salopards…[79] Вкратце это было именно то, что думали и все остальные. Неожиданно кто-то крикнул со стены: – Вот они! Фульвио и Зефирина поспешили к Ренцо да Чери. Кондотьер указал им на точку на западе, которая на глазах росла. Сначала на холме Монте Марио появились немецкие пехотинцы, служащие наемниками у коннетабля, потом стали видны воины с тяжелыми аркебузами, стрелки, вооруженные арбалетами, копьеносцы, рейтары, испанская кавалерия, артиллерийские расчеты, волокущие за собой пушки и ядра, а за ними те, кто нёс флаги и знамена. С высоты крепостных стен защитники города с отчаянием смотрели на эту демонстрацию силы. – Гро Леон не лгал, – прошептал князь Фарнелло. – Бурбон движется с целой армией. – Их там более сорока тысяч, – отозвался Ренцо да Чери. – Нас же с трудом наберется четыре тысячи. В людском море, надвигавшемся на город, Зефирина искала флаг Бурбона. Молодая женщина взяла у Ренцо да Чери подзорную трубу. Это было недавнее изобретение, представлявшее собой увеличительное стекло цилиндрической формы. Зефирина поднесла прибор к правому глазу и, «пошарив» по армии, неожиданно вздрогнула. Среди фур и повозок она увидела черные носилки с задернутыми занавесками, в которые были впряжены мулы. – Донья Гермина, я уверена, это она… злой ангел… – прошептала молодая женщина. Она подняла голову. Фульвио коснулся ее руки. – Пора уезжать, Зефирина. Паоло, – приказал князь, – проводи княгиню во дворец и оттуда вместе со всеми домочадцами переправь в замок Святого Ангела, под покровительство папы. – Я хочу остаться с вами, – возразила Зефирина. Не слушая ее, князь взял жену за руку и повел к лошади. – Князь Фарнелло уходит… Князь уходит с княгиней… Спасайся кто может, – завопила толпа наемников. Никто и ахнуть не успел, как началась паника и наемники Ренцо бросились врассыпную. – Остановитесь, приказываю вам. Вы получили жалованье за участие в сражении, – кричал вдогонку Ренцо, а Фульвио громким голосом убеждал: – Останьтесь, вы получите двойную плату. – Останьтесь, я тоже остаюсь. Последнюю фразу крикнула Зефирина. Увидев панику, она вырвалась из рук Фульвио. Подойдя к пушке и поставив ногу на лафет, она крикнула еще громче: – Вы кондотьеры или бабы? Неужели вы бросите женщину одну против сорока тысяч мужчин? Новость мгновенно облетела наемников. – Княгиня Фарнелло хочет сражаться… Княгиня Фарнелло остается. Мало-помалу люди стали возвращаться и занимать свои места. Один из них, огромный рыжий ирландец, крикнул: – Если твоя жена остается, князь Фарнелло, мы останемся, но, если она уедет, мы тоже уедем. – А ты не говорил нам, Ренцо, что каждому из нас придется сражаться против десяти, – с упреком сказал другой. – Ну, так что будет делать княгиня? – крикнула группа канониров. Фульвио взглянул на Зефирину. Она гордо выпрямилась над зубцом крепостной стены. – Что будем делать? – шепнул князь Ренцо да Чери. – Она нравится людям, ей надо остаться, если не хочешь, чтобы мы с тобой оказались тут одни, – также тихо ответил Ренцо. Фульвио кивнул. – Друзья мои, княгиня остается! Раздалось громкое «ура», подкрепленное пушечным выстрелом. Не тратя времени на детальные распоряжения, Бурбон отдал приказ начать штурм крепостных стен, окружавших Рим. – Огонь! – взревел Ренцо да Чери. Три маленькие пушечки защитников города отвечали на снаряды наемников. Воины с арбалетами, засев за оградой, осыпали стрелами подступавших всадников, а те, у кого в руках были аркебузы, для каждого выстрела использовали фитиль и кресало. – Спрячьтесь немедленно, – закричал Фульвио Зефирине. Молодая женщина пригнула голову. Через несколько мгновений началась осада стен со всех сторон. – Ammazza! Ammazza![80] – вопили люди Бурбона. Уже начали приставлять к стенам первые лестницы для штурма. – Горох! Горох! – закричали в один голос Фульвио и Ренцо. Целые тазы раскаленных шариков, слепленных из горячей смолы, смешанной с древесным углем, стали высыпать на головы тех, кто пытался взобраться на стену. Зефирина услышала крики боли и запах горелого мяса. Сидя на корточках под одним из зубцов стены, она ничем в эту минуту не напоминала великолепную княгиню Фарнелло. Теперь это была просто молодая женщина, испуганная страшным шумом, воплями, выстрелами и ядрами, сотрясавшими стены. В западной части крепостной стены уже были проделаны бреши. – Черт побери… Пораженный в голову ирландец, в руках у которого была аркебуза, рухнул рядом с Зефириной. Едкий желтый дым заставил ее закашляться. Из-за этого дыма она ничего не видела вокруг, а бесконечные проклятья, крики боли и победные возгласы тех, кому удавалось прорваться, ее совсем оглушили. И вдруг она услышала совсем рядом с собой какой-то скрежет. К зубцу стены, за которым она пряталась, снаружи приставляли лестницу. Не очень понимая, что делает, Зефирина схватила аркебузу, выпавшую из рук мертвого ирландца. Ей никогда не приходилось пользоваться этим оружием, но как всякая девушка из знатной семьи, она знала, как оно действует. Дрожа от страха, но оставаясь при этом упрямой саламандрой, Зефирина все же осмелилась выглянуть на мгновение наружу. Она действительно не ошиблась. Около дюжины солдат во главе с командиром, который только что спешился у самой стены, начали штурм ее зубца. Увлекая за собой подчиненных, командир первый поднимался по ступенькам лестницы. Зефирина изо всех сил прижала к себе аркебузу. Зажмурив глаза, она поднесла тлеющий фитиль к стволу и нажала на курок. К ее великому удивлению, прозвучал выстрел. В ответ на него кто-то застонал от боли. Она открыла глаза и глянула вниз. Раненный в пах командир свалился с лестницы на землю. Во время одной из вспышек Зефирина увидела под открытым забралом худое, костистое лицо герцога де Бурбона. – Ангел смерти… – заикаясь, проговорил коннетабль. Уже помутившимся взором он смотрел на казавшееся невозможным лицо Зефирины, склонившееся над стеной. Она едва успела спрятать голову, потому что сразу несколько солдат уже целились в нее. Со всех сторон кричали, и это были панические крики штурмующих: – В герцога де Бурбона попали! Герцог умирает[81]! Зато осажденные ликовали: – Княгиня убила герцога де Бурбона! Да здравствует княгиня! Ур-р-ра княгине Фарнелло! Она наш ангел-спаситель, паша мадонна. Люди Ренцо хотели поднять Зефирину на руки и пронести с триумфом. Они целовали край ее платья, говорили о чуде. За несколько минут в Борго смогли заделать бреши и вздохнуть с некоторым облегчением. С почерневшим от пороха лицом, в разорванном камзоле к Зефирине подошел Фульвио. Она все еще держала в руках аркебузу. С приближением князя люди расступились. Не сказав ни слова, Леопард склонился над Зефириной. Губы ее коснулись волос жены. В глубоком волнении он прижал ее к себе. – Моя Зефирина… Молодая женщина в смущении смотрела на мужа, который уже возвращался к Ренцо. Ну, конечно, ей уже были знакомы эти могучие плечи и эта кошачья походка. Незнакомец на пляже, благородный дворянин, спасший ее из пожара, зажженного преступной рукой, это все он, ее муж, князь Фарнелло. Она всегда знала это, но почему-то отказывалась признать. Из груди ее вырвался непроизвольный крик: – Фульвио! Фульвио… Князь обернулся. Казалось, он все понял. Он приложил палец к губам, словно хотел послать ей поцелуй или попросить помолчать. Доставленный в походную палатку умирающий герцог де Бурбон, не переставая, повторял: – Ангел смерти… я видел ангела смерти… мне нужен исповедник. Слух о ране коннетабля мгновенно распространился по лагерю. К изголовью умирающего примчалась донья Гермина в сопровождении неотступного Каролюса. Глядя на кровь, хлеставшую из паха, врач не решился зондировать рану. – В этом месте я не могу сделать прижигание. Дело герцога безнадежно! – прошептал он командирам. Командиры расступились, видяприближающуюся донью Гермину под густой вуалью. Они знали, что какая-то неизвестная женщина, фаворитка принца, следовала за армией. – Генриетта, – простонал раненый, вытянувшись на кровати. Донья Гермина опустилась рядом с ним на колени. С глазами, побелевшими от близкой смерти, Карл Бурбонский сделал ей знак наклониться к его губам. – Генриетта… выслушай мою последнюю волю… не надо, передай им… ты мне… клянешься. Донья Гермина положила руку с загнутыми ногтями на лоб умирающего. – Конечно, я клянусь, Карл… клянусь повиноваться тебе. – Пусть подойдут мои командиры, – еле слышно произнес герцог де Бурбон. – Дорогой мой друг, что вы хотите им сказать? – шепотом спросила донья Гермина. Невероятным усилием воли герцог попытался встать. Низ живота его будто пронзили кинжалы. – Возмездие, – прошептал он. Собрав последние силы, он сказал так, чтобы слышала только Генриетта: – Надо… все остановить… я хочу… вернуться обратно… быть похороненным в Милане… Скажи им… не надо идти на Рим… на Рим! С этими словами Карл Бурбонский откинулся назад с широко раскрытыми глазами[82]. Донья Гермина своей рукой закрыла ему глаза. Не выказав никакого чувства, она обернулась к командирам: – Вы слышали последние слова коннетабля, господа? На Рим! На Рим! Это его приказ, он неизменен… Несмотря на смерть, герцог Карл Бурбонский хочет, чтобы вы взяли город.Глава XXI РАЗГРАБЛЕНИЕ РИМА
– Надо отступать! Покидаем укрепление… – крикнул Ренцо да Чери. Фульвио видел – ситуация катастрофическая. Вражеские войска хлынули в Борго со всех сторон. Поначалу осажденные полагали, что со смертью коннетабля штурм прекратится, но они ошибались. Под ударами пушечных ядер крепостная стена разлеталась вдребезги. В пробитые бреши устремлялись дикие орды. – Паоло, уведи ее добром или силой, – распорядился князь. Держа в руках секиру, князь сражался с двумя ландскнехтами, вооруженными палицами. Отовсюду доносился один и тот же крик: – Убей! Где золото? «Это не солдаты, а какие-то шакалы, которым пообещали добычу», – подумал с ужасом Фульвио. Захватчики уничтожали все на своем пути. Они уже проникли в первые дома и начали выкидывать из окон и тюфяки, и людей. Паоло не отозвался на крик хозяина. «Где же она?» Этот вопрос неотступно терзал Фульвио. Прокладывая секирой дорогу среди орд испанцев, Фульвио подоспел как раз в ту минуту, когда Зефирину схватили два наемника, вооруженных алебардами, в одном из дворов Борго. – Это та женщина, которая убила герцога! – вопил один из солдат. Он взметнул пику. И в тот же миг Фульвио метнул секиру прямо в шею наемника, в то место, где между шлемом и кирасой была щель. Наемник с хрипом свалился наземь. Хлынувшая из раны кровь забрызгала Зефирину. Второй солдат сразу сбежал. Фульвио сгреб Зефирину одной рукой и крикнул: – Бегите в замок Святого Ангела… Скажите папе, что мы бьемся насмерть, но не сможем помешать вторжению врагов в город. Говоря это, Фульвио тащил Зефирину к какой-то церкви. Там у защитников города были спрятаны лошади. Несмотря на длинную юбку, Зефирина изо всех сил мчалась за Фульвио, который поддерживал ее. В церкви Фульвио наугад взял одну из лошадей под уздцы. Слегка присев, он подставил под ногу Зефирине скрещенные руки, чтобы помочь ей взобраться в седло. – Это седло не для амазонки, так что садитесь верхом, – посоветовал он. Подобрав юбки до колен, Зефирина послушалась мужа. Фульвио продолжил свои инструкции: – Скачите… прямо в замок Святого Ангела… Вы обещаете мне, Зефирина? – настойчиво спрашивал князь. Он поднял голову к Зефирине. – Да, Фульвио. Внезапно покоренная, Зефирина наклонилась и поцеловала мужа в губы, потом прошептала: – Фульвио… Это вы были тем дворянином, который спас меня в «Золотом лагере»? Ничего на это не ответив, Фульвио шлепнул ладонью по крупу лошади и, желая удачи, поднял руку. Дождавшись, пока молодая женщина исчезла за домами предместья, князь вернулся к месту сражения. Ему навстречу шел Паоло с кровоточащей раной над бровью. – Ты в состоянии держаться на лошади? – спросил Фульвио. – Да, монсеньор. При этих словах оруженосец обмотал рану шейным платком. – Следуй за княгиней в замок Святого Ангела, – приказал князь. Паоло запротестовал: – Монсеньор, я не могу уехать, вы же теперь один против двадцати. Фульвио раздраженно оборвал его: – Святые боги, следуй, тебе говорят, за нею и охраняй ее. Бог знает, что ей еще может взбрести в голову. И, оставив оруженосца, Фульвио побежал на помощь Ренцо да Чери, сражавшемуся с десятью ландскнехтами.* * *
В Риме ничто уже не напоминало о карнавале. Жители города, подгоняемые разрывами пушечных снарядов, покидали дома и укрывались в церквях и монастырях. Многие, катя перед собой ручные тележки со скарбом, покидали город и направлялись на юг. А кое-кто, как Зефирина, пытался пробраться в замок Святого Ангела. Невообразимая давка царила на улицах, площадях и под триумфальными арками, все еще украшенными цветами. Зефирине было невероятно трудно пробираться сквозь обезумевшую толпу. Не зная дороги, она снова и снова кружилась между Палатином, старым Форумом и Капитолием. И тогда она вернулась к дворцу Фарнезе. Подъезжая, Зефирина заметила опустевшее жилище старой княгини Савелли и тут поняла, что находится неподалеку от дворца Фарнелло. Позабыв все наказы Фульвио, она решила проверить, все ли в доме покинули палаццо. В пустынном мраморном дворике истошно лаяла брошенная собака. Всмотревшись, подъезжая, Зефирина увидела, что это бедняга Цезарь. – Бедненький, совсем один остался… А где же Клеопатра? Ушла, наверное, со всеми, а тебя забыли. Разговаривая с собакой, которая подошла к ней, чтобы лизнуть руки, Зефирина соскочила с лошади. – Saint Ange… Saintete… Serment[83]. Над Зефириной летал Гро Леон. С перьями, взъерошенными от грохота канонады, галка напоминала своей хозяйке предписания Фульвио. – Лети ты первый к его святейшеству, Гро Леон. А я вскоре последую за тобой, – сказала молодая женщина. С умницей Цезарем, следовавшим за ней по пятам, Зефирина вошла в вестибюль. Ей вдруг стало страшно. Вокруг не было ни души, и шаги гулко звучали по мраморным плитам пола. – Есть здесь кто-нибудь? – крикнула Зефирина. В ответ на одном из этажей хлопнуло окно. Она была готова повернуться и бежать. Упрекая себя в трусости и поглаживая голову Цезаря, чтобы набраться храбрости, Зефирина поднялась в свои апартаменты. Настежь открытые сундуки свидетельствовали о том, что Плюш наспех похватала одежду. Возможно, она не забыла украшения и ценные вещи. Затем Зефирина прошла в комнаты Мортимера. Там ее ждала та же картина. Похоже, герцога вынесли на тюфяке, потому что постели в комнате не было. – Больше никого нет? – снова крикнула Зефирина. Снова где-то стукнуло окно. Идя на этот звук, Зефирина поднялась на третий этаж, где находились апартаменты Фульвио. Она не сразу решилась войти. И все-таки, против воли, толкнула дверь в рабочий кабинет мужа. Цезарь тут же залаял, призывая хозяина. Зефирине казалось, что она совершила недостойный поступок: без разрешения проникла в тайное убежища Фульвио. Она обошла кабинет и вошла в соседнюю комнату, откуда доносился шум. Это была спальня. Зефирина с любопытством взирала на балдахин с задернутым над кроватью пурпурным пологом. Вот, значит, где спал Фульвио. Молодая женщина раздвинула полог. Из уст ее вырвался крик. Над изголовьем висел портрет более молодого, вероятно, двадцатилетнего Фульвио. Кружевной воротник обрамлял безбородое лицо улыбающегося князя. Карие глаза сверкали радостным светом… Его оба глаза… Зефирина оперлась коленом на постель, чтобы прочесть надпись на медной пластинке. «Его светлости князю Фульвио Фарнелло последний знак уважения от Рафаэля. 1520». Выходит, тогда у Фульвио были оба глаза. Зефирина этого не знала, потому что все портреты князя исчезли из галерей дворца. Вероятно, он стал одноглазым Леопардом совсем недавно… Два года? Три года? Неожиданно Зефирина поняла, как тяжко должен был страдать Фульвио из-за своего увечья, и куда больше морально, чем физически. – Фульвио, – прошептала молодая женщина, и глаза ее наполнились слезами. – Я стану вашей, я буду любить вас и заставлю позабыть все страдания, которые мы пережили. А если уже поздно… если Фульвио убит? Эта страшная мысль потрясла ее одновременно с раздавшимися во дворе криками солдатни. – Эй, вы, сюда! Зефирина подбежала к окну и тут же отпрянула назад. Во дворец ворвались пьяные варвары. Они разбежались по саду и стали бить статуи. «Нечего сказать, хороша армия Бурбона, просто банда хищников, сметающих все на своем пути!» Истошно крича, всадники влетели на площадку перед парадным входом и верхом въехали в вестибюль. Зефирина услышала, как они начали крушить хрустальные люстры. – Ра… золото… драгоценности! – вопили они. Потом все кинулись вверх по мраморной лестнице и принялись рвать полотна художников. Некоторые спустились в кухню и набросились на еду и вино, дырявя секирой бочки с мальвазией. Придя в ужас от мысли, что ее могут схватить, Зефирина вместе с Цезарем поднялась и спряталась на последнем этаже, где жили горничные и служанки. Она молила небо, чтобы эти дикари не поднялись выше. Бегом Зефирина добежала до чердачной комнатки с покатым потолком. Две девушки, работавшие раньше на кухне и которых она плохо знала в лицо, сидели там на тюфяке, тесно прижавшись друг к другу. При виде Зефирины они вскрикнули. – Тихо! Замолчите, – приказала Зефирина, едва переводя дыхание. – Принчипесса, – прошептали обе разом. Присутствие Зефирины их немного успокоило. – Что вы тут делаете? – шепотом спросила Зефирина. – Вы что, не поехали вместе со всеми? – Нет, принчипесса, нас забыли, – ответила одна из девушек. Сколько им могло быть лет? Семнадцать… Восемнадцать… – Как вас зовут? – спросила Зефирина. – Меня – Карлотта, а мою сестру – Карла, – ответила та, что побойчее. Снизу неслись крики. Дикари швыряли мебель из гостиной в окна, чтобы устроить во дворе костер. – О, мой Бог, – застонали Карла и Карлотта. – Есть ли какой-нибудь чердак еще выше? – спросила Зефирина. – Да, принчипесса. – Давайте поднимемся. Сейчас они заняты грабежом… Может, им не придет в голову забираться сюда. Вы знаете, как пройти на чердак? – обратилась к девушкам Зефирина, стараясь сохранять спокойствие. – Да, принчипесса. Для большей предосторожности Зефирина схватила в качестве орудия защиты кувшин и открыла дверь. В коридоре было свободно. Но внизу, как раз под ними, вандалы крушили все в покоях князя. – Принчипесса, скорее… сюда, – зашептала Карлотта. А наемники с дикими криками уже поднимались на этаж для прислуги. Молодые женщины во главе с Карлоттой побежали по лабиринту узких темных коридоров, добрались до винтовой лестницы и стремглав поднялись на чердак. – Черт побери… я слышал шум… Здесь кто-то есть, – раздался грубый голос. Зефирина и служанки закрыли за собой дверь. Они услышали, как кто-то бежит. – Хуренсон… Ра… это собака. Бедный Цезарь, схваченный солдатами, заскулил. – Грязная скотина, она меня укусила… Давай, бери ее, Ганс, мы ее поджарим и сожрем. Снова послышался лай, потом на чердаке наступила тишина. У Зефирины сердце разрывалось от жалости к Цезарю. В сущности, бедное животное спасло им жизнь. Она вытерла потные дрожащие ладони о юбку, потом сделала знак насмерть перепуганным девушкам сесть под балкой. На чердаке было просторно, но темно. Зефирина подошла к слуховому окну и встала на цыпочки. Окно находилось в середине крыши, и было невозможно увидеть, что происходит во дворе. – Принчипесса, что с нами будет? – жалобно спросили Карла и Карлотта. Зефирина вернулась к девушкам. – Давайте вместе поищем, нет ли здесь для нас какой-нибудь другой одежды. По виду обеих служанок было ясно, что они ее не поняли. – Нам нужны блузы, штаны и шляпы. Карла и Карлотта отступили, перекрестившись: – Принчипесса, это же большой грех, обряжаться в мужскую одежду. – Что ж, дело ваше, если вы предпочитаете, чтобы вас схватили и изнасиловали солдаты. – Нет, принчипесса. Напуганные угрозой, девушки принялись рыться по сундукам и корзинам. Оказалось, что чердак заполнен целой грудой старинных пергаментов, писем, манускриптов, молитвенников, картин, старинного оружия, шлемов, доспехов, стрел, колчанов, а в дальнем углу обнаружилась даже одна пушка. «Не выходить же нам в самом деле отсюда в доспехах времен крестовых походов!» – подумала Зефирина. Она представила себе лица наемников при виде шествующих перед ними трех средневековых рыцарей. – Принчипесса, я нашла. Довольная Карла показала залатанную одежду. На глазах у изумленных девушек Зефирина сняла с себя платье амазонки, нижние юбки и корсаж. Как человек, привычный к подобного рода переодеваниям, она облачилась в одежду римского крестьянина, состоящую из хлопчатобумажной кофты и длинных панталон с застежкой, а также жилета из дубленой бараньей кожи и шерстяного колпака, под который можно спрятать волосы. – Теперь вы, – распорядилась Зефирина. Куда более стеснительные Карла и Карлотта сняли свои фланелевые юбки и надели такую же одежду, как их госпожа. – Очень неплохо, – решила Зефирина. Потом сказала: – Теперь нам надо дождаться ночи. Успокоившиеся, готовые повиноваться жесту и взгляду, Карла и Карлотта сели рядом с княгиней. Сама же Зефирина сидела на чердачном полу, откинув голову назад, и терзалась одной-единственной мыслью: «Где сейчас Фульвио? Захвачен ли Рим войсками и что в таком случае произошло с защитниками Борго? Ранены, погибли или бежали?» Зная князя, она не сомневалась, что он будет биться до конца. Наступала ночь. Карла и Карлотта задремали. Зефирина тронула их за плечо. Девушки мгновенно проснулись. – Пора. Зефирина раздала своим спутницам кинжалы с длинной рукояткой, найденные в куче старого оружия. Себе она тоже взяла один и спрятала под кожаной безрукавкой. Соблюдая осторожность, все три покинули чердак. Вокруг была такая темнота, что никто ничего не видел. К счастью, Карла и Карлотта хорошо знали все коридоры. Подойдя к верхней части лестницы, ведущей на этаж князя, Зефирина выждала некоторое время. В доме была такая тишина, что это показалось ей подозрительным. Неужели вся эта орда покинула дом? Взявшись за рукоятку кинжала, засунутого под жилет, Зефирина двинулась дальше во главе своего маленького отряда. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, со следующими за ней девушками, которые, несмотря на страх, чувствовали себя вполне сносно, Зефирина добралась до лестничной площадки на этаже князя. Здесь ее ждало зрелище, которого она никогда бы не смогла себе вообразить. При свете догорающих свечей было видно, что вокруг не осталось ни единого целого предмета. Все, что возможно, было растаскано, сломано, вырвано, украдено, разрушено. И поверх всего этого разрушения со всех сторон несся храп. Перепившись вином и водкой, наемники спали вповалку в опустошенных комнатах, вестибюлях и на лестницах. Пятна блевотины покрывали единственный еще не разрушенный во дворце предмет: мраморный пол. По главной лестнице невозможно было пройти. Около двух десятков солдат, одетых в кольчуги, спали и икали на ступенях. Зефирина направилась к лестнице для прислуги. Здесь дорога казалась свободной. Кроме двух отупевших от вина солдат, валявшихся на паркете, молодые женщины не видели никаких помех. Один пьянчуга приоткрыл заплывшие глаза, но тут же снова закрыл их, не проявив интереса к проплывшим мимо силуэтам. Теперь Зефирине и ее спутницам оставалось лишь пересечь вестибюль и двор. По знаку княгини беглянки спрятались в буфетной, в которой после этой орды не осталось ни единой корочки хлеба. Сквозь приоткрытую дверь Зефирина изучила обстановку. Человек двадцать наемников, развалившихся на том, что еще недавно было ковром, загораживали собой служебный выход. С другой стороны, у выхода на главное крыльцо, положение было не лучше: там едва державшиеся на ногах солдаты стояли, с позволения сказать, на карауле… Зефирине было видно в щель, как двигались их алебарды. На шлемах отражались отблески костра, разожженного во дворе палаццо. Ей стало ясно, что надо решиться обойти тех спящих, что лежат у служебного выхода. Вдруг заскулила собака. Это оказался неподжаренный Цезарь. Он узнал Зефирину, несмотря на ее наряд. – Молчи, мой хороший, – едва слышно выдохнула Зефирина, радуясь, что собака жива. Пора было решаться. Не могла же она вечно торчать в этой буфетной, иначе к утру все они проспятся и протрезвеют. Зефирина вышла из укрытия. В сопровождении служанок и Цезаря она обошла кучку храпящих и сопящих. Держа одну руку на рукоятке кинжала, она протянула вторую к дверной ручке. И тут на губах ее застыл крик. Сверху по лестнице спустился испанец и загородил собой выход. Зефирина успела заметить его черные и свирепые глаза под нависшими бровями. Он был в кольчуге, закатанной над расстегнутой перевязью. Без сомнения, испанец направлялся справить нужду. Дальше все произошло с невероятной быстротой. Он не ожидал столкнуться нос к ному с тремя крестьянками. Рука его легла на руку молодой женщины. – Римлянин, можно позабавиться! – сказал он, еле ворочая языком. Движимая инстинктом самосохранения, Зефирина высвободила руку из-под жилета и изо всех сил всадила кинжал в оголенный живот испанца. Он зашатался и поднес руку к боку. Зефирина воспользовалась этим моментом и отпихнула его. Не помня себя, она помчалась к ограде двора и выскочила на улицу. За ней бежали служанки и собака. – Ловите их… Этот негодяй убил меня… Итальянец достал меня… Собрав последние силы, испанец поднял своих товарищей. Как в кошмаре, Зефирина видела, что сидевшие у костра повскакали с мест. Вино, к счастью, сделало свое дело – двигались и соображали погромщики плохо. Все еще держа окровавленный кинжал в руке, Зефирина добежала до потайного хода, который был открыт. Позади себя она услышала страшный вопль. Это солдатня поймала одну из девушек. – Черт побери, да это женщина! Не желая знать, что случилось с несчастной, Зефирина продолжала бежать. Позади себя она слышала топот. Потом раздались выстрелы из аркебузы. Несколько пуль рикошетом отскочили от стен палаццо. Зефирина повернула направо, налево, прямо, снова направо… и снова налево, потом прямо. Она отдалялась от центра Рима. После долгого бега, от которого перехватило дыханье, она очутилась в большом саду, окруженном разрушенными стенами. Зефирина бросилась в провал в стене. Не зная, куда прыгает, она упала у развалин здания, чувствуя, как сильно закололо у нее в боку. Позади кто-то бежал. Это были Карлотта и Цезарь. – Бедная моя сестричка… Что с нею теперь будет? – простонала девушка, падая рядом со своей хозяйкой Зефирина печально покачала головой. Она слишком хорошо знала, что должно случиться. Сначала дикари надругаются над Карлой, а потом, если несчастная еще будет жива, кто-нибудь из изуверов изрубит ее на куски. Обхватив Карлотту руками, Зефирина прошептала: – Мы уже ничем не можем помочь твоей сестре, Карлотта… Боже мой, как это ужасно… но оставаться здесь значит ждать, пока нас тоже изнасилуют и убьют Карлотта долго плакала на плече у Зефирины. Тем временем над развалинами начинал заниматься день. У статуи фарнезского быка Зефирине стало ясно, что они нашли себе убежище в термах Каракаллы. Беглянок начал мучить голод. Бедный Цезарь тоже скулил, но Зефирина решила, что надо побыть в укрытии до наступления следующей ночи. – Когда опять стемнеет, мы попробуем добраться до замка Святого Ангела, – сказала она вслух. Сказала, чтобы успокоить свою спутницу, хотя смертельный страх не покидал ее ни на минуту. Наверное, уже весь город захвачен. Где теперь Фульвио и Ренцо да Чери? Продолжают ли еще защищать папу?* * *
– Где же она? – кричал Фульвио, явившись в крепость. Никто не видел Зефирину. Паоло поехал той дорогой, по которой должна была отправиться, как он полагал, княгиня. Но не обнаружил никаких следов молодой женщины. С запекшейся на лицах кровью, в разодранной одежде, Ренцо и Фульвио готовились к обороне. Расхаживая вдоль крепостной стены, Джулио Медичи, в кольчуге, шлеме и закатанном кверху платье, так что стали видны его сапоги со шпорами, громким голосом поносил врага, устроившего в городе пожар. – А ну-ка, ребятки, давайте, поворачивайте ваши пушки на этих ублюдков… тысяча чертей! Я отлучу от церкви этого гнусного пса Карла V. Те из защитников, кто еще был жив, буквально онемев от этих слов его святейшества, готовили к бою пушечные ядра, разжигали огонь, подогревали вар. Множество простых людей и аристократов нашли себе убежище в старом замке, возвышавшемся над Римом. – Где же она, монсеньор? Куда пропала, ради всего святого. Это причитала мадемуазель Плюш, которая, расталкивая толпу перепуганных крестьян и обессилевших солдат, пробиралась к Фульвио, стоявшему на стене крепости. Князь увел дуэнью в галерею с навесными бойницами и сказал: – Не волнуйтесь… Она могла спрятаться в каком-нибудь доме или… «Или воспользоваться происходящими событиями и сбежать», – подумал Фульвио. Но вслух добавил: – Этой ночью я выйду из крепости и поищу ее. – Вы, монсеньор? – прошепелявила плачущая Плюш. – Я тоже пойду, – буркнул Паоло, которого уже перевязали. – Даже не заикайся. – Ну хоть раз в жизни монсеньор может меня послушать! Их спор прервал Ренцо да Чери: – Леопард, ради Бога, мне чертовски не хватает людей. – Иду, – отозвался князь. – Кстати, как Мортимер перенес транспортировку? – спросил он Плюш, прежде чем уйти. – Милорда де Монтроуза поместили в башню. А он, как только открыл глаза, потребовал себе аркебузу, чтобы сражаться. – Замечательно, значит, он вне опасности… я сейчас приду его навестить. Фульвио почувствовал огромное облегчение, узнав, что Мортимеру уже лучше. Часам к пяти вечера имперские войска предприняли первую атаку на крепость. К счастью, они были плохо организованы, к тому же переоценили свои силы. Возглавляемые Фульвио и Ренцо канониры и стрелки сбросили врага в Тибр. Немало их осталось лежать и на земле перед крепостью. – Ур-ра Леопарду! Ур-ра нашему командиру Ренцо! Да здравствует папа! – взревели солдаты, оставшиеся верными папе. – Они перестроят свои силы и завтра утром повторят атаку, – убежденно сказал Ренцо да Чери. – Я покину тебя на ночь, друг мой, Ренцо. И если меня не будет на рассвете, это значит… Фульвио сделал отчаянный жест рукой. Ренцо да Чери потащил князя к просвету между зубцами стены. – Слушай и смотри. И он протянул князю подзорную трубу. Из города неслись страшные крики, вопли женщин и детей. Сквозь увеличительное стекло Фульвио разглядывал Рим. Вокруг творилось что-то чудовищное. Церкви, дворцы, жилые дома подверглись грабежу и пожару. На другом берегу Тибра, на площадях были видны повешенные на столбах люди. Некоторых подвергли колесованию. Обезумевшие женщины метались, прижимая к груди детей. Фульвио с ужасом и отвращением смотрел, как ландскнехты поднимали грудных детей на острие своих пик. – Я должен туда пойти, Ренцо… Не говори ему ничего, – добавил князь, указывая на папу. Видя такую решимость, Ренцо лишь вздохнул: – Что ж, у тебя есть только один способ пробраться, Леопард, – сказал капитан. Жестом он указал на валявшиеся под стенами крепости трупы ландскнехтов. – Дождись ночи, теперь уж недолго. Дневное светило опускалось за горизонт. Но, прежде чем на небе появилась луна, в западной части идущей вокруг крепости дороги можно было наблюдать довольно странное зрелище. По указанию Ренцо два его человека, два ловких сицилийца, занялись поистине чудовищным делом. Сделав себе из полена, веревки и рыболовного крючка удочки, оба «рыбака» старались поймать необычных рыб: тела двух ландскнехтов. Когда над опустошенным Римом взошла серебристая луна, Фульвио и Паоло, облаченные в зеленые штаны, короткие камзолы, сапоги с тупыми носами и черные плащи немецких наемников, в шлемах и с алебардами в руках, прошли, освещая себе путь фонарем, в узкий потайной коридор, соединяющий крепость с Ватиканским дворцом. Фульвио надеялся, что лютеране не обнаружат замаскированный выход, находившийся в тронном зале прямо за престолом папы.Глава XXII БОЙНЯ
Гро Леон знал, что совершил непростительную глупость. Вместо того чтобы лететь, как ему велела хозяйка, прямо в замок Святого Ангела, он решил по пути немного отдохнуть на крыше какой-то церкви. В течение нескольких дней Гро Леону пришлось подвергнуться тяжкому испытанию. Летая от одного к другому, доставляя послания сначала Франциску I, потом папе, он не должен был ошибиться ни в направлении, ни в адресате. Птица Нострадамуса и сама понимала, что она не совсем обычное пернатое. Не только среди себе подобных, но и среди людей галка была умнее многих. И вот теперь, в первый раз, Гро Леон расслабился. Он просто устал и дрожал всем своим тельцем. Может, он заболел, а может, подобно людям, Гро Леон был напуган страшным зрелищем, которое творилось внизу, в городе. «Может быть, моя госпожа в опасности… я должен лететь туда», – подумал Гро Леон. Но он не мог, при всем желании, покинуть укрытие, потому что кто-то захлопнул окно. Теперь, сидя на колокольне, Гро Леон оказался пленником… и отнюдь не единственным! Там был еще звонарь, который, опустившись на колени, молился. От него очень плохо пахло. А Гро Леон был птицей деликатной. Поэтому он с отвращением открывал и закрывал свой клюв, тяжело дыша. У звонаря оказалась в руках горбушка хлеба, и он с аппетитом ел. Гро Леону тоже очень хотелось есть. Он с завистью стал летать над чужим обедом. Но, видно, не следовало ему этого делать. Звонарь, еще минуту назад такой набожный, теперь вскочил, и глаза его загорелись алчностью: – А, вот и дичь для супа! Гро Леон получил страшный удар по крылу. Из-за наполовину поломанных перьев он полетел немного криво, но все же сумел забраться под самый верх колокольни и там, спрятавшись в какой-то щели, предался размышлениям о безбожии и бессердечности людей…* * *
Тем временем находившаяся в термах Каракаллы Зефирина открыла глаза. Наступила ночь. Она не могла поверить, что проспала весь день. Над городом-мучеником всходила луна. Вдалеке полыхали костры, освещая ночное небо. Если у Зефирины, Карлотты и Цезаря еще был шанс пробраться в крепость, то только теперь – или никогда. – Мадам, мне хочется есть, – прошептала Карлотта. – Мне тоже, – призналась Зефирина. Она попыталась сориентироваться. Шагая сквозь пустырь, заросший чертополохом, Зефирина ломала голову, как могло случиться, что один из самых прекрасных городов, гордость христианского мира, захвачен и наводнен вражеской армией за несколько часов, и отдан на разграбление распоясавшейся солдатне? Приближаясь к воротам Себастьяно, девушки услышали крики и стоны, доносившиеся из церкви Сан Бальбино, куда Зефирина несколько раз заходила раньше, чтобы полюбоваться средневековыми фресками. Молодая женщина и ее спутники выглянули из густой травы, чтобы взглянуть в широко распахнутые двери церкви. – Боже мой, мадам, у них нет ничего святого, – простонала Карлотта. В церкви происходило что-то ужасное. В абсиду набилось десятка два мертвецки пьяных солдат. Из стульев, скамей и молельных скамеечек они устроили на хорах огромный костер. Но женщин ужаснул не сам костер, а подвешенные к потолку вниз головой несколько мужских фигур. – Где ты прячешь свое золото? – кричал один из ландскнехтов подвергавшемуся пыткам человеку. А так как страдалец не отвечал, варвар рубанул мечом по тем лохмотьям тела, благодаря которым несчастный все еще висел. Ландскнехты грубо хохотали при виде распростертых на полу изувеченных тел. Некоторые были уже мертвы, другие, с распоротыми животами, истекали кровью, стонали, в то время как с балок под потолком свисали части их тел. – Боже… – молил последний из пытаемых, – прими душу Мануэля Массимо под Твое святое покровительство! Зефирина не смогла сдержать крика. Мануэль Массимо! Молодой, красивый князь, так самозабвенно развлекавшийся со своей дамой на костюмированном балу… – Осторожно, мадам, – испуганно зашептала Карлотта. Но варвары, привлеченные криком Зефирины, пошли на звук, освещая себе дорогу фонарем. Молодые женщины и Цезарь, отступив назад, успели скрыться. Они побежали в западную часть города, где, как им казалось, было поспокойнее. Обогнув гробницу Сципионов, затем церковь Сан Джованни, где дарохранительница была взломана, а подсвечники и кадильницы украдены, Зефирина решила пройти через театр Марцелла. Продвигаясь вдоль его стен, она увидела вдалеке охваченный пламенем дворец Орсини. Дворец Ченчи был уже опустошен, а дворец Фарнезе разграблен. Заметив группу орущих солдат с руками, полными украшений, жемчуга, золота, с перекинутыми через плечо мешками, набитыми церковной утварью, девушки стали прятаться то за выступом стены, то в подворотне, то за деревом. Инстинкт самосохранения заставлял их творить чудеса. Даже Цезарь скоро научился прятаться от диких орд наемников. Чем ближе к центру Рима приближались молодые женщины, тем невыносимее открывались их взору картины. «Почему… ну почему?» – в отчаянье задавала себе один и тот же вопрос Зефирина. Женщины со вспоротыми животами и юбками, задранными выше головы, валялись на всех улицах. Задушенные младенцы плавали в лужах крови. Люди всех сословий, от самых бедных до самых знатных, нашли свою смерть на остроконечных столбах дворцовых оград. У ворот Портезе беглянкам повезло – они наткнулись на старый деревянный мост, готовый вот-вот рухнуть. Преимуществом этого ветхого сооружения было то, что он не охранялся. Через этот мост Зефирина и ее спутники устремились к предместьям Рима, расположенным на пути к Ватикану и замку Святого Ангела. Приближаясь к базилике Святого Петра, Зефирина и Карлотта увидели, что папская резиденция также осквернена. Имперские солдаты устроили конюшню прямо под «Снятием креста» Микеланджело. Святотатствующие ряженые выходили из дверей Ватиканского дворца. Лютеране облачились в священные одежды папы и его кардиналов. С тиарой на голове они впрягались в повозки, в которых сидели обнаженные женщины. Несчастные дрожали от страха и холода. Они старались прикрыть свою наготу руками и волосами. «Мы тоже могли быть среди них!» – подумала Зефирина, содрогаясь. – Долой папу! Долой папистов и да здравствует Лютер! – орали ландскнехты, круша статуи на площади Святого Петра. Зефирина начала понимать. К удовольствию, которое эти ученики Лютера получали от грабежа, добавлялось кощунственное неистовство от разрушения ненавистной религии. И тогда Зефирина содрогнулась. «Господи, мир сошел с ума. Папа был прав, это больше, чем просто раскол, это война разных вер, религиозная война». – Эй, ты там и твой приятель… паписты! – заорал ландскнехт. Он только что заметил выглядывавшие из-за постамента статуи шапки Зефирины и Карлотты. Забыв о всякой осторожности, Зефирина, Карлотта и Цезарь помчались прочь. Они бежали, не чувствуя под собой ног, а сзади слышался топот лютеран. – Ату! Держи их! – кричали вдогонку ландскнехты, забавляясь охотой. В темноте ночи раздались выстрелы из аркебузы. Добежав до окраины и попав на темные улочки, Зефирина решила, что они спасены, – преследователям надоела охота. – Черт побери! Возвращаемся к своим! Но, к несчастью, в этот момент группа пьяных солдат с факелами в руках вышла из дома, по виду напоминавшего купеческий. У каждого был полный мешок. Солдаты перегородили всю улицу. Попав между двух огней, Зефирина какое-то мгновение колебалась и уже хотела бежать назад, но недавние преследователи, запыхавшиеся от бега, закричали своим единоверцам: – Держите их, это паписты! Услыша такое, лютеране побросали свои мешки и кинулись на Зефирину и Карлотту. – Пошли, поджарим их прямо перед их идолами! – предложил один из солдат. Бедных женщин поволокли, избивая и грозя кинжалами. Бедняжки падали и снова поднимались, пинаемые ногами. Когда Зефирина с руками в крови, с опухшим лицом и заплывшим глазом замешкалась встать, упав в очередной раз, один из наемников потянул ее за шапку. При виде ее рассыпавшихся по плечам роскошных золотых волос, солдаты остановились как вкопанные: – Ба, да это женщина! Десять рук тут же потянулись к Зефирине, пытаясь пощупать ее грудь и залезть между ног. Она закричала от отвращения. Но это было жалким сопротивлением, и она попыталась кого-то укусить, а кого-то ударить ногой. «Надеюсь, они убьют меня быстро», – мелькнуло у нее в голове. Точно так же солдатня обращалась и с Карлоттой, но та, онемев от страха, даже не плакала. Похотливо посмеиваясь, лютеране сорвали с молодых женщин рубашки и, без конца поддразнивая, гнали их, оголенных до пояса, в Сикстинскую капеллу. Короткая передышка, которую получили Зефирина и Карлотта, объяснялась тем, что вандалы вернулись забрать свои мешки с награбленным добром. Когда приходилось выбирать между золотом и женщинами, у них не было колебаний. Не доверяя друг другу, они хотели сначала спрятать добычу в надежное место, а уж потом приниматься за пленниц. Внутри Сикстинской капеллы, под фресками Боттичелли и Микеланджело, перед глазами пленниц предстала ужасная картина. К убийствам, пожарам, грабежам, трупам замученных пытками, богохульному маскараду, бурлескным кортежам и всевозможным оргиям эти подонки добавили последнее и худшее надругательство – превратили Сикстинскую часовню в бордель. Зефирину и Карлотту втолкнули в толпу других обнаженных женщин. Все они, молитвенно скрестив руки на груди, «ждали» своей очереди. На алтаре солдатня соорудила нечто вроде кровати. С расстегнутыми ширинками они послушно стояли в очереди. Одна из несчастных, совершенно обнаженная, лежа с раздвинутыми ногами на алтаре, перед опустевшей дарохранительницей, была в этот момент жертвой нескольких солдат, которые сменяли один другого. Она не протестовала. Лишь живот ее содрогался от боли. Сама она окаменела. Бедра были в крови. В конце концов, когда она, судя по всему, была уже мертва, кто-то отволок ее в сторону и швырнул точно манекен. Зефирина услышала, как мягко упало тело женщины на мраморные плиты. – Сейчас я! Моя очередь! У алтаря возник спор. Какой-то немецкий громила хотел опередить швейцарца. – Карамба! Да тут на всех хватит! В спор вмешался испанский сержант, стараясь навести, что называется, порядок в своих войсках. Он руководил изнасилованием с истинно испанской твердостью и строгостью. – Мадам… Мадам… Ища поддержки, Карлотта цеплялась за свою хозяйку. – Помолчим и помолимся, моя маленькая Карлотта, – прошептала Зефирина. Находясь в толпе дрожащих от ужаса женщин, молодая княгиня опустилась на колени и, обхватив голову руками, с давно забытой горячностью стала произносить молитвы своего детства. Зефирина вдруг почувствовала себя мученицей… Подобно святой, она вместе с первыми христианами Рима изопьет до дна всю чашу страданий. – Теперь ты! – Прощай, Карлотта, – пролепетала Зефирина. Грубые руки сорвали с нее остатки изодранных в клочья панталон. Совершенно нагая, она прошла вдоль грязно посмеивающейся очереди. Иные, не стесняясь, возбуждали себя и одновременно расталкивали друг друга, чтобы взглянуть на нее, лежащую на алтаре. Закрыв глаза, Зефирина прижала к груди сцепленные пальцы рук. Итак, ей суждено умереть самым гнусным образом, изнасилованной, точно животное, целой армией. На пороге своего мученичества она почему-то вспомнила стихотворение, некогда сочиненное Франциском I:Как зверь безумный, пущенный на волю,
Я, вспомнив время, проведенное с тобою,
Усну спокойным сном: да упокойся с миром!
Глава XXIII АГРИППА КОРНЕЛИУС НЕТТЕСГЕЙМСКИЙ
Облокотившись на подоконник того, что осталось от дворца Фарнелло, донья Гермина, подобно Нерону, смотрела на полыхавшие в Риме пожары. Освещенное четырьмя свечами, тело коннетабля де Бурбона лежало в пустой комнате на походной кровати. Смерть его совершенно не огорчила донью Гермину. Напротив, она даже испытала облегчение. Ведь это она сулила герцогу златые годы и прочие чудеса, чего Карл V никогда бы не выполнил… Бурбон раздражал ее своей слабостью, доверчивостью. Да что там говорить, он был просто тряпкой в энергичных руках доньи Гермины. Она слышала от перепуганных лютеран, что герцога убил под стенами Борго белокурый ангел… женщина… Некоторые из воинов называли даже имя этой женщины, имя княгини Фарнелло. «Она… если только это она, я прикажу изрубить ее живую на куски». Ничто не могло противостоять донье Гермине! Ни мужчины, ни короли, ни император Карл V, который, она это знала, слегка побаивался ее, ни, разумеется, ее собственный муж, этот жалкий глупец Роже де Багатель, превращенный ею в марионетку и наверняка ждущий ее, словно покорная овечка, в Валь-де-Луар. Нет, ничто не в силах противиться ей, кроме этой ненавистной рыжей дряни, ее падчерицы Зефирины. Донья Гермина подозревала, что ее соперница пользуется какой-то магией. Вполне возможно, ей покровительствовал не менее могущественный мастер, чем гениальный немецкий некромант Агриппа Корннелиус Неттесгеймский. Именно Корнелиус, безумно влюбленный в донью Гермину тогда, когда она еще звалась Генриеттой, обучил ее колдовской науке. Однако, увидев, сколь велики успехи егоученицы, Корнелиус пожалел о том, что слишком многое ей сообщил. Он заставил ее поклясться Христом-Богом, что она никогда не употребит во зло свои знания. Христом-Богом!.. Нет, Дьяволом! Генриетта поклялась. Потом уже она стала доньей Герминой де Сан-Сальвадор, затем маркизой де Багатель, и все ей в жизни удавалось, все, кроме одного: никогда она не могла сломить Зефирину. После того как она трижды приближалась к цели, но так и не могла осуществить желаемое, Гермина поняла, что ее заклятья отскакивают от Зефирины, будто она заслонена каким-то щитом. Магические круги и наводящие порчу квадраты, начерченные мелом, всевозможные чары, змеиная кожа, высушенные и истолченные в порошок жабы, не приводили к желаемому результату. Может быть, Мишель де Нотр-Дам, тот маг, что жил в городе Салон-де-Прованс и со временем стал называться Нострадамусом, покровительствовал этой несчастной Зефирине? При этой мысли донья Гермина заскрежетала зубами. Ее красивое лицо исказилось от бессильной злобы. Находясь постоянно в привилегированном положении представительницы Карла V в армии вандалов, донья Гермина распорядилась доставить себя и тело своего любовника во дворец Фарнелло. Выставив пьянствующую солдатню, донья Гермина обосновалась в комнатах второго этажа. Мебели во дворце почти не осталось, все было разграблено. И все-таки донья Гермина чувствовала, что она находится именно в комнате Зефирины. Удостоверившись, что, не считая трупа герцога де Бурбона, она совершенно одна, донья Гермина приподняла парчовую юбку, под которой находились еще две. Из третьей юбки она достала маленькую, подвешенную на золотой цепочке коробочку. Открыв ее ключиком, который постоянно носила на шее, она выковырнула оттуда две пластинки из необычного металла с фиолетовым отсветом. После долгого разглядывания пластинок, она не сдержала стона: – Я не выдержу этого! Я чувствую, сокровище Саладина находится где-то совсем близко. Как только я до него доберусь, прощай, Карл V, я сама смогу поднимать целые армии, в одиночку править Испанией… Францией… Германией… заполучить трон Карла Великого! Женщина, правящая всем Западом! Все достигнутое мной до сих пор, лишь детские игрушки… К черту мужчин с их капризами, вроде этого кретина Бурбона! Но где же, где третья пластинка? Астарот, ответь мне. У меня в руках три колье! Но не они меня интересуют. Вельзевул… После свадьбы рыжей третий изумруд оказался пустым. Может быть, Каролюс спрятал ее перед тем, как отдать мне ожерелье семейства Фарнелло? Эта неожиданная мысль поразила Сан-Сальвадор. Но она тут же решительно отвергла ее. Невозможно! Каролюс, конечно, временами до идиотизма чувствителен, но не до такой же степени, чтобы предать ту, с которой связан своей судьбой. От волнения она до крови прикусила себе язык. Нет, надо действовать. Вечно занятая делами Карла V, она уже многие месяцы не находила времени для оккультных наук. Но сначала надо избавиться от мужа, который ей совершенно не нужен… При свете зажженной свечи Сан-Сальвадор присела на стул рядом с трупом. Пододвинув к себе дорожный несессер, она достала из него чернильницу, пергамент и гусиное перо. Своим особым почерком с немыслимыми завитушками она нацарапала следующие слова:«Мой дорогой супруг, Очень скоро вы увидите свою верную Гермину, которая так томится без вас. Удерживает меня лишь необходимость исполнить срочный и благой долг, но пусть эти лепестки напомнят вам о нашей цветущей любви. Мое сердце с вами. Ваша Генриетта».
Проявляя крайнюю осторожность, она надела на руки длинные перчатки с черными манжетами. Затем водрузила на лицо маску с остроконечным носом, защищавшую ее от ядовитого запаха, и только после этого извлекла из кожаного мешочка с металлической застежкой несколько увядших лепестков розы. С помощью маленькой палочки донья Гермина сбросила на пергамент три лепестка. Потом снова тщательно закрыла мешочек и запечатала письмо черным воском, предварительно разогретым над свечой. Проделав все это, она сняла маску и перчатки, подошла к двери и позвала своим мелодичным голосом: – Бизантен! На зов тут же явился кривоногий наемник огромного роста. Рябое лицо под шлемом было неподвижно, как у статуи. Желтые глаза взирали на донью Гермину без всякого выражения. – Ты сейчас отправишься во Францию, с письмом маркизу де Багателю. Отдашь его только ему в руки и никому другому. Ты хорошо меня понял? – Очень хорошо, донья Гермина. Вот только оседлаю лошадь и сразу отправлюсь. Протягивая ему письмо, она несколько мгновений колебалась. Впрочем, могла ли эта чудовищная женщина испытывать какие-то угрызения совести? Донья Гермина взяла плоскую коробочку из сандалового дерева и вложила туда свое послание. Теперь, успокоившись, она добавила: – Не вынимай пергамент из коробки и не падай в воду. А теперь иди, Бизантен, поезжай как можно скорее. Я с нетерпением буду ждать твоего возвращения с хорошей вестью. Гигант, выполнявший мелкие поручения, поклонился и вышел. Выглянув в окно, Сан-Сальвадор увидела, как он пересек двор, забитый лошадьми и людьми в доспехах. Когда Бизантен скрылся за полуразрушенной оградой палаццо, на лице доньи Гермины появилась удовлетворенная улыбка. «Участь отца решена, теперь займемся дочкой». Погрузившись в разработку дорогого ее сердцу замысла, донья Гермина не заметила, что в комнату кто-то проник. – Берегись, Генриетта, наступит день, когда сотворенное тобой зло вернется и нанесет удар по тому, что тебе дороже всего. Услышав знакомый низкий голос, пораженная донья Гермина обернулась: – Корнелиус… это ты? – Да. Немолодой, но все еще статный мужчина появился в свете тускло горящих свечей. – Агриппа Корнелиус Неттесгеймский! – проговорила донья Гермина. Она протянула руки навстречу гостю. – Рада видеть тебя, Корнелиус… Как поживаешь? – Хорошо… и плохо, – ответил посетитель, не подав руки донье Гермине. – В наши дни жизнь у алхимиков трудная. Я переехал в Нидерланды и там написал сатиру «О недостоверности и тщете наук». Я также нахожусь в переписке с очень одаренным молодым человеком по имени Мишель де Нотр-Дам… Еще обдумываю большой трактат о сокровенной философии, а кроме всего этого думаю о тебе, Генриетта. – Обо мне, Корнелиус? – удивилась донья Гермина. Она снова протянула руку, чтобы коснуться Агриппы Корнелиуса Неттесгеймского, величайшего мага всех времен, этого странного человека, выходца из могущественной кельнской семьи. Но ее рука встретила только пустоту. Она жалобно спросила: – Корнелиус, где же ты? Легкая улыбка появилась на бледном лице чернокнижника: – В Риме, рядом с тобой, Генриетта, и одновременно в своем рабочем кабинете в Нидерландах. Я пришел сказать тебе: прекрати свои злодеяния, Генриетта, останови человека, который скачет как вестник смерти. Оставь в покое Саламандру! Сдержи силы зла, иначе они ударят по тебе, да так страшно, что я ничем не смогу тебе помочь, Генриетта… я больше не смогу… я не… И тут, словно на него набросили кисею, лицо Корнелиуса стало растворяться, а голос – удаляться. Донья Гермина закричала: – Подожди, останься еще, Корнелиус… Почему ты стал моим врагом? Невероятным усилием воли алхимик остановился: – Я не враг тебе, Генриетта, но вижу все, что происходит в Риме. Этот ужас – дело твоих рук. Я вижу, что ты замышляешь убийство своего мужа… Я вижу молодую женщину, которую ты преследуешь своей ненавистью… Я вижу твою судьбу, Генриетта, и она страшна. Вернись назад, уйди в монастырь и раскайся. Стань снова монахиней, надень власяницу… не касайся больше магии, которой я тебя обучил на свое несчастье. Послушайся меня, пока еще есть время, Генриетта, иначе я ни за что не отвечаю… Прощай. Голос умолк. Агриппа Корнелиус Неттесгеймский исчез. Донья Гермина бросилась в коридор. У дверей стояли два ландскнехта с факелами в руках. – Где мужчина, который только что вышел отсюда? – пролепетала донья Гермина. – Но, мадам, никто не выходил! – Но ведь сюда вошел высокий мужчина, – настаивала она. – Нет, мадам, никто не входил… никто не выходил. С лицом, белее мрамора, донья Гермина вернулась в комнату. Дрожащей рукой она провела по холодному лбу. «Это просто усталость… я становлюсь нервной, – подумала она. – А где, собственно, Каролюс? Этого глупца никогда нет в нужную минуту». Она достала из дорожного несессера бутылочку с зеленой жидкостью. Этот настой на травах, который ей привез один купец из Аравии, обладал способностью успокаивать, возвращать силы, погружаться в грезы и видения. Она выпила несколько капель. И, как всегда, спустя несколько минут таинственная горьковатая жидкость под названием «гашиш» принесла ей успокоение. Донья Гермина вышла из комнаты. Следуя за солдатом, освещавшим ей дорогу, она спустилась в гостиную, где капитан Аларкон устроил штаб армии. В окружении лейтенантов и своего нового адъютанта, Рикардо де Сан-Сальвадор, капитан разрабатывал план наступления на замок Святого Ангела. – Чем могу служить, мадам? – учтиво спросил испанец. – Капитан, у меня, кажется, есть возможность преподнести вам папу. Доверьте эту миссию моему сыну Рикардо, а в обмен отдайте мне княгиню Фарнелло… Капитан озадаченно почесал бритую голову под кольчужным наголовьем, которое так и не успел снять. – Это та женщина, что убила коннетабля? – Она самая, капитан. – К сожалению, мадам, никто не знает, где она находится. – Вероятно, в замке Святого Ангела или где-нибудь в городе. Пошлите патруль на ее поиски. – Можно попытаться, но я ничего вам не обещаю, мадам. Кроме нескольких полков, как, например, полк капитана Эрреры, все остальные уже вышли из подчинения и заняты резней. Пройдет несколько дней, пока они успокоятся. А что касается папы, то я с удовольствием поручу эту миссию Рикардо, вот только как добраться до Климента VII? – спросил испанец. Ангельская улыбка осветила лицо доньи Гермины. – Мне говорил сам герцог Бурбонский, что существует потайной подземный переход, соединяющий Ватиканский дворец с замком Святого Ангела…
Глава XXIV КАТАКОМБЫ
– Патруль! – прошептал Фульвио. Зефирина теснее прижалась к мужу. Он взял ее за руку и дал знак замолчать и пригнуться. То же самое сделали Паоло и Карлотта. Сидя на корточках у маленького окошечка, беглецы прислушались к раздававшемуся с улицы стуку солдатских сапог. Выглядывая в окошко, они видели, как мимо лачуги, в которой они спрятались, проходят солдаты, вооруженные алебардами, во главе с сержантом-испанцем.* * *
Оставив позади себя замок Святого Ангела и Ватиканский дворец, беглецы запутались в темном лабиринте Трастевере. В кривых улочках этого квартала на правом берегу Рима Фульвио надеялся отыскать брошенный жителями домик, где можно спрятать женщин, подыскать им какую-нибудь одежду и хорошенько поразмыслить о том, как пробраться в замок Святого Ангела. Нечего и думать о потайном подземном ходе из Ватикана. Назад вернуться невозможно. На площади Святого Петра наемники, взбешенные тем, что их провели, наверняка энергично разыскивают лже-ландскнехтов и двух женщин, похищенных у них. Первая часть плана осуществилась так, как и была задумана Фульвио: ведь армия рейтаров не могла находиться повсюду одновременно. Около портика с колоннами беглецы спешились. Спрятав лошадей в сарай, они торопливо вошли в какую-то нищенскую лачугу, которая явно не вызвала интереса у грабителей. Внешний вид ее был так жалок, что ни одному мародеру не пришло бы в голову искать в ней сокровищ. На ощупь, не смея зажечь огонь, Фульвио и Паоло обнаружили там среди плошек и прочей рухляди дурно пахнущие нищенские лохмотья. Нищество в Риме было весьма прибыльным делом, и беглецы, судя по всему, нашли прибежище в логове одного из таких нищих. Одеваясь в лохмотья, Зефирина заметила, что Фульвио не смог отказать себе в желании взглянуть на ее наготу, мерцавшую в слабом лунном свете. «Выберемся ли мы когда-нибудь из этого ада?» – подумала Зефирина. – Что-то сталось с бедным Цезарем? – прошептала Зефирина. – Я думаю, он из этого выберется, тем более что именно он помог нам отыскать вас, – ответил Фульвио. – Я заметил его перед Сикстинской капеллой. Поэтому мы с Паоло и смогли подготовить ваше похищение… Похищение сабинянок! – договорил Фульвио, склонившись к молодой женщине. Сердце Зефирины заколотилось. Она только не могла понять, отчего: то ли из-за опасности, то ли потому, что Фульвио сильно сжал ее руку. – Кто идет? Сержант поднял факел над головой. – Друг! Патруль остановил двух ландскнехтов, ограбивших церковь, судя по дароносицам, которыми оба были нагружены. – Друг-то, может, и друг, но вы должны назвать пароль, – сухо возразил сержант. – Золотое руно! – Этот пароль был вчера. Один из ландскнехтов повернулся к другому. – Ганс… ты того, знаешь? – Бурбон и Аларкон! – Это было позавчера… Целься! – приказал сержант. Его люди нацелили на грабителей аркебузы. – Э… постойте, командир… Мы верные солдаты императора… вы совершаете ошибку. – Пароль, да поживее, иначе мои ребята сейчас изрешетят вас, – пригрозил сержант. – Мы знали… клянусь… Готфрид, ну вспомни. – Эску… потом что-то там такое и аль… Ох, проклятье. – Эскуриал и Алькасар… Ведь так, сержант? Тот, кого звали Гансом, с облегчением вытер пот со лба. – Ваше счастье, что память к вам вернулась, вы дешево отделались, парни. Офицер сделал знак своим людям опустить аркебуза. Грабители собрали дароносицы, рассыпавшиеся по земле. – Но что все-таки происходит, сержант? Мы честные солдаты… Коннетабль обещал нам свободную наживу… Мы что, больше не имеем на это права? – Можете красть сколько вам влезет, но у нас есть приказ разыскать двух фальшивых ландскнехтов с двумя женщинами и доставить их по возможности живыми в штаб-квартиру… Тем, кто их поймает, назначено большое вознаграждение. – Да ну! – 2000 дукатов! Голос сержанта удалялся по направлению к башне Ангилларо. Беглецы с облегчением вздохнули. Но тут, к несчастью, спрятанные в сарае лошади заржали. Патруль немедленно вернулся назад. – Наверняка кто-то прячется в этих домишках! – крикнул сержант. – Обшарьте все до последнего угла! Выкурите их оттуда, как крыс! Рукоятками алебард и прикладами аркебуз солдаты принялись высаживать двери. Внутрь домов они швыряли горящие факелы. Из некоторых домов послышались крики женщин и плач детей. Пасмурный день занимался над Римом. Огонь пожаров разгорался уже над кварталом Трастевере. Надо было действовать быстро и при этом не привлекать к себе внимание. – Разделимся на две группы, Паоло, надо постараться выбраться по Виа Аурелиа Антика. Постараемся где-нибудь понадежнее спрятать женщин, а сами вернемся во что бы то ни стало в замок Святого Ангела… Ну, удачи вам. Распорядившись так, Фульвио надел поверх своей одежды нищенские лохмотья. Морщась от тошнотворного запаха, он молил Бога только о том, чтобы тот, чьей рванью он воспользовался, не был прокаженным. Паоло сделал то же, что и его хозяин. Дверь их лачуги разлетелась вдребезги в тот момент, когда четверо беглецов выскочили с противоположной стороны в маленький палисадник и помчались сквозь лабиринт нищих лачуг. Паоло и Карлотта свернули чуть влево, к западу, Фульвио и Зефирина вправо, к востоку. – Сюда… сюда! – закричал сержант, заметив силуэты. Послышались выстрелы из аркебузы. Вскочив на преградившую дорогу стену, Фульвио протянул руку Зефирине, чтобы втащить ее за собой. В эту минуту пуля попала ему в левое плечо, и он зашатался. С лицом, искаженным от боли, он все-таки поднял Зефирину, и они оба спрыгнули по другую сторону стены. – Фульвио, вы ранены… На груди у него расплылось пятно крови. С трудом дыша, Фульвио прошептал: – Быстрее, Зефирина, я знаю место, где мы можем спрятаться…* * *
На рассвете черные тучи затянули небо. Зефирина и Фульвио попали на заброшенное кладбище. Князь потерял много крови. Он с трудом шел. Зефирина поддерживала его, но Фульвио всем телом навалился на ее плечо. Стиснув зубы, она продолжала идти вперед, превозмогая усталость. – Я должна сделать вам перевязку, – прошептала она. – Не сейчас, позже, – выдохнул князь. Подбородком он указал ей на вход в подземелье за часовней. Со стороны это был небольшой земляной холмик, на котором росли полевые цветы. Фульвио и Зефирина оказались на кладбище не одни. Несколько нищих, в таких же лохмотьях как и они, мелькнув среди могил, куда-то потом исчезали как по волшебству. Под насыпным холмиком находилась лестница, скрытая от глаз посторонних колоннадой портика. Лестница вела вниз, под землю. – Катакомбы! – прошептала Зефирина. Фульвио в ответ только кивнул. – Ребенком я здесь часто играл к огорчению моего воспитателя. Он кусал губы, чтобы не стонать от боли. – Это очень старые карьеры, и я не думаю, что испанцы знают об их существовании. Пошатываясь и обхватив одной рукой шею Зефирины, Фульвио увлек молодую женщину в глубину карьера. Многочисленное племя бездомных, нищих и попрошаек нашло себе прибежище в катакомбах. Несколько факелов, расставленных на большом расстоянии друг от друга в бесконечных подземных коридорах, освещали их тени. – Люцерны! Зефирина вспомнила слово, обозначавшее вечернюю церковную службу первых христиан, которая проводилась в ночь с субботы на воскресенье. Казалось, Фульвио знал, в каком направлении идти. Дыхание его стало хриплым, а он все шел по запутанным коридорам и щупальцеобразным галереям, которые на взгляд новичка расходятся в самых разных направлениях. Зефирина начинала понимать, что сеть подземных ходов, казавшаяся беспорядочной, создана по строгому звездообразному плану и охватывает огромные пространства. Зефирина подняла с пола смоляной факел. Теперь, если бы не рана Фульвио, они могли бы двигаться быстрее. Катакомбы под Виа Аурелиа были многоярусными. По прикидкам Зефирины, глубина их должна была составлять около шестидесяти футов. Иногда, наткнувшись на перепуганных нищих, она со страху отскакивала в сторону. Впрочем, из-за их дурно пахнущих лохмотьев нищие в катакомбах не обращали на них никакого внимания. Мало-помалу Зефирина освоилась в подземелье. Так же, как и ее некогда могущественный муж, княгиня Фарнелло была теперь всего лишь беглянкой, вступившей на путь первых христиан. Прошагав довольно долго, они вышли в крипту – небольшое сводчатое помещение. В нишах крипты высились один над другим, точно соты в улье, украшенные скульптурными изображениями саркофаги. За этим небольшим залом последовали другие. Это были, как поняла Зефирина, подземные часовни. В некоторых из них были воздвигнуты мраморные алтари. Кое-где на стенах сохранилась роспись с изображением птиц, амуров и изящных орнаментов. «Живописцы катакомб… Художники, которых людское безумие вынудило покинуть свежий воздух и дневной свет». Внезапно Зефирина вскрикнула. Поглощенная своими мыслями, она не заметила сделанное в рыхлом полу углубление, переполненное человеческими скелетами и черепами. – О, Фульвио! – простонала молодая женщина. – Ничего не бойтесь, это всего лишь кости мучеников… Пойдемте. При этих словах Фульвио зашатался и, наверное, упал бы, если б Зефирина не поддержала его. – Прошу вас, остановимся здесь, – взмолилась она. – Я… думаю… действительно… надо, – согласился Фульвио. Его ноги отказывались идти. Зефирина помогла ему опуститься около одного из саркофагов. – Позвольте, я посмотрю. Зефирина приблизила факел к ране. С большой осторожностью она раздвинула лохмотья, потом распахнула камзол. Она постаралась сохранить на лице бесстрастное выражение. Кровь струилась из большой раны под ключицей. – Надо бы… снять доспехи, – с трудом произнес Фульвио. – Боже мой, у меня же нет ничего, чтобы перевязать вам рану, – с отчаянием воскликнула Зефирина. Слабеющей ладонью Фульвио коснулся ее руки: Уходите, Зефирина… Если будете идти все время на запад, у вас будет шанс… Вы созданы, чтобы жить… Жить… Слова отняли у Фульвио последние силы. К глазам Зефирины подступили слезы. Зубами оторвав от своей относительно чистой рубашки кусок ткани, она прижала комок к ране, чтобы остановить кровотечение. От сильной боли голова Фульвио откинулась назад. – Фульвио… – заплакала она. Леопард потерял сознание. Зефирина впала в отчаяние. Если она будет бездействовать, если срочно не призовет кого-нибудь на помощь, он умрет. Ужас положения, в котором она оказалась, потряс ее. Затерянная глубоко под землей, в катакомбах, которых она не знала, не представляла, куда идти. Он сказал, на запад… Но где здесь запад? «Мне ничего не остается, как ждать смерти вместе с ним», – решила Зефирина. Прижимая голову Фульвио к своей груди, она погрузилась в размышления. К чему продолжать борьбу? Их судьба предопределена, и судьба эта трагическая. Фульвио, потерявший столько крови, угаснет у нее на руках, а она, блуждая по лабиринту, сложит свои кости рядом с костями мучеников, приняв самую страшную смерть – от голода. Факел начал потрескивать. Огонь грозил вот-вот погаснуть. Драматизм ситуации усугублялся тем, что вот-вот наступит полный мрак. Зефирина стала всхлипывать. Она вдруг снова почувствовала себя ребенком, который от горя призывает на помощь самых близких ему когда-то людей: няню Пелажи и папашу Коке, убитых доньей Герминой, любимую лошадь Красавчика, отца Роже де Багателя. «Милый папочка, если бы вы видели вашу Зефирину… и вы, Бастьен… Гаэтан». Зефирина корила себя, что не была добра с ними. Она всем приносила несчастье и теряла тех, кто любил ее. Горько разрыдавшись, Зефирина склонилась над неподвижно лежащим мужчиной. – О, Фульвио… я люблю вас. Она коснулась своими губами его губ и вздрогнула. Находясь в бессознательном состоянии, князь едва ощутимо ответил на ее поцелуй. Неожиданно для самой себя Зефирина встала. Слезы на глазах высохли. Фульвио прав. Она хочет жить, любить, спасти этого человека, своего мужа. «Нострадамус, дорогой мой друг, подумай обо мне! В череде ужасных событий я потеряла звезду Давида, которую вы мне подарили… Но я молю вас, направьте меня». Закрыв глаза, Зефирина изо всех сил призывала на помощь мага из Салон-де-Прованса. Может быть, и вправду ее мысли донеслись до молодого человека, работавшего у себя в кабинете? Никакого ответа в катакомбы не пришло. Но на Зефирину снизошло великое успокоение. Со всей решимостью она освободилась от ухватившихся за ее пояс рук. И тут же ей стало не по себе: казалось, глаз Фульвио смотрит на нее с упреком. Может быть, он боялся, что она послушает его и сбежит? – Фульвио, я иду поискать помощь, – зашептала Зефирина. – Держитесь, я вернусь… Слышал ли он ее? Во всяком случае, он вздохнул и закрыл свой единственный глаз. А если Фульвио был еще способен думать, не решил ли он, что Зефирина покинула его? Она оторвала от рубашки полоски ткани и заново перевязала рану. Затем прижала голову к его груди. Сердце Фульвио бьется слабо, но равномерно. Зефирина встала и, взяв в руки факел, сделала несколько шагов в сторону. Но она заколебалась. Как трудно уйти так сразу, Оглянувшись, она посмотрела на большое распростертое тело. И образ запечатлелся в ее мозгу. Потрескивая последними искрами, факел окончательно погас. Все, теперь полная темнота. Зефирина должна была бы выть от страха, но, по неведомо какому чуду, она воспринимала это без паники. Двигаясь вдоль стены, она вышла в коридор. В какую сторону направиться? Он говорил, на запад. Зефирина решила пойти вправо. Она идет… Натыкается на какое-то препятствие. Боясь упасть, ползет на четвереньках. Слева, где-то далеко в галерее, колеблется круг света. Друг или враг? Зефирина выпрямляется, чтобы пойти в этом направлении. Свет удаляется. Прижимаясь к стене, она, что есть сил, бежит за ним. Неужели она потеряет этот огонек? Изнемогая от усталости, задыхаясь, она кричит: – На помощь! На помощь! Голос ее звучит глухо, как из могилы. В довершение к пережитому ужасу Зефирина чувствует, что падает… проваливается в бездну. Не помня себя, она тут же вскакивает, топчется на месте и кричит нечеловеческим голосом. В непроглядном мраке пальцы ее всюду натыкаются на кости скелетов. Вот Зефирина и попала в яму с костями мучеников, которая станет и ее могилой.Глава XXV РИМСКИЕ ПОПРОШАЙКИ
– Вот так кузнечик! – Ты кто будешь? – Чего это ты здесь делаешь? У края ямы над Зефириной склонились три страшноватые рожи, освещенные каким-то подобием фонаря. – Я прошу вас, господа, помогите мне, – взмолилась молодая женщина, подняв к ним голову. Топча ногами кости, она протянула руку к этой неожиданно явившейся помощи. Ее просьба вызвала у трех субъектов приступ необыкновенного веселья. – Хи-хи… господа… хо-хо… господа! Похоже, эти типы не спешили вытаскивать Зефирину из ямы. – Ты девчонка или парень? – неожиданно спросил один из мужчин, вытирая слезящиеся глаза. – Ни то, ни другое! – ответила она недоверчиво. – Здорово, ни девица, ни парень! Очень даже необычно! Приятель говорившего поднял фонарь над ней. Третий оборванец вообще исчез из поля ее зрения. Двое присевших у края ямы встали. Зефирина отчаянно закричала, точно попавший в западню зверь. – Не бросайте меня! У вас нет сердца! Вы что, оставите меня умирать здесь?! – Не трепыхайся понапрасну, мотылек! – Паньото пошел за веревкой. Очень скоро Зефирину вытащили из ямы. После падения с высоты десяти футов она немного ушиблась, но осталась невредима. Она с недоумением смотрела на трех оборванцев, которые так великодушно помогли ей: все были безобразны на вид, горбаты, кривобоки. У одного не было носа, у второго – руки, а третий ковылял на деревяшке вместо ноги. От их лохмотьев шла ужасная вонь, но это не помешало им вполне «по-светски» представиться. – Мы – неразлучная тройка из Понте[84]. Я – Паньото, король нищих, – поклонился безносый. – Вот это мой брат Палько (однорукий), а это мой кузен Панокьо (он указал на безногого). А ты, мотылек, тебя как зовут? – Зефирон! – тут же ответила молодая женщина, предпочитая мужскую форму своего имени. – А мы что-то тебя совсем не знаем. Ты в каком квартале работаешь? – спросил Паньото, гордо назвавшийся королем нищих. – Да когда как, иногда в Трастевере, иногда в Монти или в Сан-Эвстахио, – уверенно сказала Зефирина. Из-за лохмотьев, которые были на Зефирине, все трое подумали, что она тоже принадлежит к братству нищих. – Ты еще совсем молоденький. Ну, как, можешь идти? Ты себе рожицу не поранил, Зефирон? А как ты готовишься, когда идешь побираться? – проявил профессиональное любопытство Паньото. Он коснулся рукой того места, где полагалось быть носу. Зефирина вздрогнула. Она не раз слышала, что в Риме некоторых детей уродовали в раннем возрасте, подготавливая их к попрошайничеству. Не позволяя себе расчувствоваться при виде этих несчастных, она сказала твердым голосом: – Да уж что-то придумываю… я научилась гримироваться. – Ты чего, делаешь себе всякие болячки на твоей хорошенькой мордашке? – Да, и… шрамы всякие тоже. Мой брат, он потерял один глаз, – объявила Зефирина. – Это везуха, лишиться глаза еще в колыбели, – восхищенно признали все трое. После этого они как будто стали торопиться. – Прощай, Зефирон, до скорого… Нищие собрались уходить. Придя в ужас от мысли, что может потерять своих спасителей, Зефирина догнала их. – Мой брат ранен и лежит где-то тут, в катакомбах. Не оставляйте меня, помогите мне найти его и вылечить. – Ты не знаешь, где он? Палько аккуратно снял со своих нечесаных волос вошь и, положив ее на зуб, прикусил. – Нет, он в какой-то крипте, полной саркофагов, может, там, а может, в этом направлении… В отчаянии Зефирина тыкала то в один, то в другой коридор. – Однако пора ужинать. – Ужинать! – растерянно повторила Зефирина, у которой желудок свело от голода. – А как же, голубчик… если подлый испанец мешает нам заниматься нашим честным ремеслом, то это вовсе не значит, что надо ходить с пустым брюхом, ведь верно? Ну, давай, идем с нами, Зефирон, а после ужина мы все вместе займемся твоим брательником… Слово короля, – величественно заявил он. Зефирине пришлось подчиниться. Она последовала за тремя нищими, и очень скоро все пришли в просторную крипту. Зефирина и представить себе не могла, что в катакомбах находится столько «обитателей». Добрая сотня оборванцев, похожих на Паньото, Палько и Панокьо, горбатых, кривобоких, с обезображенными лицами теснилась вокруг огромного котла, который в другое время вызвал бы у нее отвращение… В котле варилась лошадиная голова, вполне возможно отнятая у врага, а также капуста и чечевица. Все было хорошо организовано. У нищих имелись глиняные миски, старые, правда, чуть ли не античных времен, но у каждого своя. Один калека, совсем без ног, сидя на саркофаге, разливал похлебку по мискам. Время от времени едоки подходили к римским амфорам, наполненным вином, чтобы утолить жажду. Паньото представил Зефирину всем присутствующим. Тот факт, что она пришла с «королем», вызвал у нищих некоторое почтение. Однорукий Палько дал ей понять, что она может взять себе еды из котла. Деликатная княгиня Фарнелло не заставила просить себя дважды. Она съела попавшие ей куски мяса, хватая их прямо руками, выпила бульон и даже облизала миску. После чего стала с нетерпением ждать, когда нищие выполнят свое обещание. Наконец, насытившись, Паньото встал. Потирая живот, он обратился ко всем: – Друзья! Требуется помощь от нашей нищенской братии. Брательник нашего юного кореша Зефирона ранен и к тому же неизвестно где лежит… Он такой же честный нищий, как мы… Надо его найти! Ты, Эмпирик, пойдешь со мной. – Хорошо, твое величество! Маленький старичок, тощий как скелет, подчинился приказу «короля», а остальные, взяв факелы, разошлись по коридорам. Зефирина была в восторге от такой дисциплины и совершенно растрогана подлинной доброжелательностью этих несчастных, отверженных людей. С того момента, как она оказалась среди них, она ни разу не почувствовала страха. Более того, несмотря на отталкивающий физический вид представителей обоего пола, Зефирина от общения с ними испытывала истинное облегчение. – Ты и правда, Зефирон, не помнишь… где он, твой брательник? – снова спросил Палько. – Нет, я только помню, что это была крипта. – Черт побери, да если здесь чего навалом, так это как раз крипт. Их тут, наверное, штук двести пятьдесят… – Двести пятьдесят! – с ужасом повторила Зефирина. – Ну-ну, мышонок, не отчаивайся. Продолжая постукивать своей деревянной ногой, Панокьо дружески хлопнул Зефирину по плечу. По коридорам катакомб несся свист. Это нищие перекликались друг с другом. С помощью свиста они сообщали, что ничего не нашли и предупреждали, что начинают поиск в другом направлении. Прошло уже больше часа, и Зефирина начала впадать в отчаяние. «Если уж нищие не смогут его найти, то никто не сможет», – подумала она, шатаясь от усталости и тревоги. Стиснув зубы, она продолжала идти вслед за Паньото, Палько и Панокьо. За спиной слышалось прерывистое дыхание Эмпирика. Несмотря на тщедушность, маленький старикашка двигался очень бодро. У пересечения четырех галерей нищие остановились и сделали знак Зефирине и Эмпирику, чтобы они тоже подождали. Эмпирик, воспользовавшись остановкой, подошел к Зефирине. Она буквально подскочила, когда старик ущипнул ее своими крючковатыми пальцами за ягодицу и прошептал: – Почему это ты говоришь, что ты парень? У тебя задница, как у хорошей девицы… Это открытие повергло Зефирину в ужас, Но она не успела ничего ответить. Из галерей раздались свистки – три долгих и два коротких. Паньото, услышав их, спокойно сказал: – Порядок, нашелся твой братишка… Пошли туда. Фульвио оказался вовсе не в крипте. Собрав последние силы, князь в полной темноте попытался взобраться на небольшой холмик, который при свете оказался кучей человеческих костей. Счастье еще, что он, подобно Зефирине, не свалился в яму. Кровь, вытекавшая из раны, оставила длинный след на полу подземелья. – Фульвио! Зефирина бросилась к лежавшему без сознания мужу. Нищие столпились вокруг раненого. – А ну, расступитесь все, положите-ка мне парня на саркофаг, чтобы я мог его обследовать, – приказал Эмпирик. Приказ был исполнен мгновенно. – Посветите мне! К Фульвио приблизили два фонаря. Зефирина едва не закричала. Побелевший нос и восковой цвет лица Фульвио заставляли предположить худшее. – Рана опасная? – шепотом спросила Зефирина, в то время как Эмпирик, раздвинув лохмотья и «повязку», расстегнув камзол, добрался до окровавленной груди князя. – Ты задаешь дурацкие вопросы, – скривился Эмпирик. – На моем брате одежда, которую мы украли у одного солдата… – попыталась объяснить Зефирина. Она боялась, что испанский камзол заставит нищих усомниться в подлинности ее и Фульвио. – Лучше помоги подержать твоего братца, чем все время болтать ни о чем, – проворчал Эмпирик. Что и говорить, характер у него был отвратительный. При помощи ножа, который он предварительно подержал над огнем, Эмпирик стал исследовать рану Фульвио. От сильной боли Фульвио громко застонал. Прикусив губу, чтобы самой не закричать, Зефирина вместе с Паньото, Палько и Панокьо, помогала удерживать тело князя на саркофаге. Вдруг Эмпирик издал радостный возглас. – Готово… я там у него чуть собственную руку не потерял, ребята! Своими грязными пальцами он торжествующе показывал всем чугунную пулю, которую выковырнул кончиком ножа. – Легкое не задето. Твой братишка еще сможет просить милостыню… Если, конечно, это является его ремеслом! – добавил Эмпирик с ухмылкой. И опять она не успела ничего возразить. В крипте запахло паленым мясом, а Фульвио буквально взвыл. Эмпирик прижег рану. Потом достал откуда-то из-под лохмотьев пучок травы, тряпки и шарики глины. Руки его с невероятной ловкостью соорудили подобие пластыря и наложили его на рану. Зефирина, окончательно растерянная, обеими руками поддерживала голову Фульвио. Князь открыл глаз. Вернулось ли к нему сознание? Зефирина прикоснулась губами к его покрытому испариной лбу. – Мы спасем вас, – прошептала она. – Надо же, мотылек, как ты, оказывается, любишь своего братишку! – хохотнул Эмпирик. – Ладно, ребята, я уже закончил… Несите его теперь к нам. Из нескольких жердей нищие соорудили носилки и положили на них раненого. Зефирина пошла вместе со всеми, держа в своих пальцах пылающую от жара руку Фульвио.* * *
Живя в подземелье, подобно первобытным людям, Зефирина утратила представление о времени. Сколько они уже находились в катакомбах? Два дня, неделю? Она не знала. Все долгие часы после операции она была рядом с Фульвио. По совету Эмпирика она не давала раненому пить, а лишь смачивала его пересохшие губы дольками апельсинов и лимонов, которые ей давали Паньото, Палько и Панокьо. Удивительно, но у нищих ни в чем не было недостатка. Точно по волшебству продукты и питье доставлялись в подземелье теми, кто время от времени выходил наружу. Чем дольше Зефирина находилась среди нищих, тем лучше начинала понимать, отчего они так гордились своей «профессией». Обтирая в очередной раз влажное лицо Фульвио, она заметила, как пристально смотрит Паньото на руку ее мужа. На его указательном пальце, как всегда, сверкал перстень-печатка с гербом Леопарда. Торопливо повернув перстень печаткой внутрь, Зефирина попыталась объяснить: – Мой брат… нашел это кольцо. Под дырочками некогда существовавшего носа рот Паньото сморщился в усмешке. – Не доверяешь нам, Зефирон… А между тем ни один настоящий римский нищий в жизни еще не обкрадывал своего ближнего. Мы, конечно, попрошайничаем, но берем только то, что нам дают… по доброй воле! Зефирина опустила голову от этого неприкрытого упрека. С некоторым усилием она сняла перстень с согнутого пальца Фульвио и протянула Паньото, тихо сказав: – Прости меня, Паньото, возьми это на память о моем брате и обо мне. Будь он в сознании, он сам бы от души подарил это кольцо Палько, Панокьо и тебе… Прими этот скромный подарок в знак моей признательности. Зефирина обладала даром добиваться прощения. – Ну, если в знак признательности и от души… тогда мы принимаем, ведь верно? – согласился за всех Паньото. Палько и Панокьо кивнули. Передавая друг другу кольцо Фульвио, они разглядывали его со всех сторон, пробовали своими почерневшими зубами и убеждались, что это настоящее золото. – Тут все тебя уже полюбили, Зефирон, – подтвердил Палько, – а это значит, что мы и вправду все теперь братья. В подтверждение сказанного он смачно плюнул на обрубок своей руки, а Панокьо проделал то же самое со своей отсутствующей ногой. Паньото же сунул большой палец в дырку собственного носа. Довольная тем, что стала членом такой семьи, Зефирина уснула прямо на полу, у ног Фульвио. А князя положили в самом удобном месте крипты, в углублении известняковой скалы. Вскоре уже все нищие храпели. Внезапно Зефирина проснулась. Чья-то рука тянула ее за волосы, спрятанные под шапкой. В колеблющемся свете тусклого фонаря она увидела Фульвио, который, склонившись над ней, с удивлением разглядывал ее. – Зефирина… что вы… что мы делаем здесь? – произнес он с трудом. Несколько храпунов что-то проворчали во сне. Зефирина приложила палец к его губам. Поднявшись со своего места, она ласково подтолкнула мужа обратно в глубь ниши. Там она снова уложила его на постель из тряпья и легла рядом. – Тише… мы находимся в катакомбах, вместе с римскими нищими… Прильнув губами к его уху, она рассказала ему обо всем, что с ними приключилось, о его ранении и об их спасении. Может быть, князь, слушая ее, постепенно уснул? Зефирине даже послышался легкий вздох. Решив, что он спит, она хотела покинуть его постель, но руки Фульвио крепко обхватили ее за талию. Очень осторожно, стараясь не коснуться головой больного плеча, она комочком свернулась рядом с его большим, крепким телом. Ей было слышно, как стучит сердце Фульвио. Она чувствовала тепло и вдыхала его запах. Лежа неподвижно, она словно кошка всматривалась в полумрак открытыми глазами и с волнением думала: «Я лежу рядом с моим мужем… с ним… Что бы случилось, если бы мы оказались в настоящей постели?» Похоже, что и Фульвио был не совсем без сознания. Зефирина чувствовала, как шевелится его тело, пытаясь повернуться к ней. Наконец, чувствуя равномерное дыхание Фульвио у своей шеи, Зефирина и сама заснула глубоким сном. Когда она проснулась, на поверхности уже давно был день, судя по тому, что Эмпирик и Палько неподалеку возились вокруг котла, выполняя обязанности кашеваров, а все нищие покинули крипту. Зефирина отвернулась от них, хотела встать, и вздрогнула. Явно не спящий глаз Фульвио внимательно смотрел на нее. Сам Фульвио улыбался, и его лицо светилось такой нежностью, какой она в нем не подозревала. – Наша первая ночь любви отличалась большим благоразумием, родная моя… – вздохнул он. Губы Фульвио коснулись ее щеки и ласково скользнули к уголку ее рта. Она вспыхнула. С невесть откуда обретенной прежней силой Фульвио прижал ее к своей груди. – Значит, ты меня не бросила. Ты решила спасти мужа, которого ненавидишь. Прекрасная моя, мне всей моей жизни не хватит, чтобы превратить тебя в счастливейшую из княгинь Фарнелло… Голос князя дрожал от сдерживаемой страсти. Зефирина тихо вскрикнула. Все, чего она опасалась, случилось. Рядом с Фульвио она лишалась всякой воли. Он превратит ее в свою рабыню. Но даже понимая это, она в каком-то опьянении млела от восторга, чувствуя, как его властные губы подчиняют ее. Теряя над собой власть, Фульвио вдыхал ее дыхание, пил ее слюну. Сорвав шапку, он погрузил пальцы в ее кудри и неистово гладил откинутую назад златовласую голову. Одни в целом мире, на своем нищенском ложе, ослепленные любовью, молодые люди несколько секунд смотрели друг на друга в изумлении. Зефирину охватило почти болезненное чувство счастья. Она знала, что создана для этого мужчины, жесткого, волевого, но в состоянии влюбленности умеющего быть удивительно нежным. Она еще не произнесла слов, которые навеки свяжут ее с ним: «Фульвио, я люблю вас…» Он снова запрокинул ее голову назад, но тут рядом с ними раздался насмешливый голос Эмпирика: – Ха-ха! Какие смешные брат и сестра! Я вижу, мой больной совсем поправился… Нежно отстранив Зефирину, Фульвио встал. Его еще немного пошатывало, но он поклонился и сказал: – Значит, это тебе я обязан жизнью, друг. Благодарю тебя. Клянусь, если мне удастся вернуть хоть часть моего состояния, я сделаю все, чтобы ты до конца своих дней ни в чем не нуждался и жил в покое… А что касается этого юного бездельника, – добавил князь, ущипнув Зефирину за щеку, – твой проницательный взгляд быстро разгадал его секрет… Он, конечно, мне не брат. Это моя жена. – Ха-ха! Эмпирика не просто обмануть… Я же видел, что у него задница не парня, а хорошей бабенки! – Золотые слова, друг мой, по проницательности тебе нет равных, – заявил Фульвио, бросая на Зефирину многозначительный взгляд. Несколько смущенная, она не знала, как реагировать на подобные оценки своего тела. К счастью, в подземелье стали возвращаться другие нищие. По, к несчастью, они принесли плохие новости: обманув часовых, расставленных Ренцо да Чери и проникнув в тайный ход, скрытый за папским престолом, испанцы ворвались в замок Святого Ангела. Папа и кардиналы стали пленниками, заключенными в башню замка. Солдаты Ренцо да Чери сражались до последнего.Сам кондотьер исчез бесследно. Возможно, он и его люди были брошены в Тибр. Разграбление замка было полным. Вандалы поубивали даже детей, искавших спасения у его святейшества. Фульвио и Зефирина была сражены тем, что узнали. «Мадемуазель Плюш… Мортимер де Монтроуз… Паоло, Карлотта, если они успели туда добраться… Пикколо… Эмилия… неужели они все убиты и задушены рейтарами Карла V?» Возмущение и злость охватили нищих. – Скоты! – Убийцы! – Испанские предатели! – Проклятый Карл V! – Они не имели права захватывать нашего папу! Все нищенское братство было в гневе. Зефирину поразила реакция этих жалких людей, в сущности, отбросов общества, живших тем не менее по своим законам, имевших собственную честь и гордость. – Посмотри на этих нищих, Зефирина, – прошептал Фульвио. – Им нечего терять. Однако они являются прообразом того, чем станет христианство завтра, узнав о злодеянии Испании и Бурбона. Рим, захваченный, разграбленный, разрушенный, плененный папа. На лбу императора навек останется несмываемое пятно… Зефирина взглянула в помрачневшее лицо мужа. «Итак, Леопард в результате этих страшных событий оказывается на стороне Франциска I. Он не вернется к Карлу V». Зефирина опустила глаза, чтобы не обнаружить вспыхнувшую в них радость. Значит, она достигла своей цели! И, будто поняв, о чем она думает, Фульвио сжал ее руку. – Саламандра в конце концов всегда побеждает… – прошептал он. Перекрывая ропот толпы нищих, Фульвио громким голосом обратился к ним: – Друзья мои, я, как и вы, итальянец. Меня зовут князь Фарнелло, а это моя жена, княгиня Зефирина. Мы сторонники папы. Своей жизнью мы поклялись спасти его… По рядам нищих прошел ропот. Паньото, Палько и Панокьо воскликнули: – Мотылек, я же говорил! – Мне он тоже показался странным, наш Зефирон! – Это не парень, это – дама! Комментарии следовали один за другим. Впрочем, тот факт, что Фульвио оказался князем, нищих оставил равнодушными. Может быть, потому, что в Риме было много лже-аристократов, а может, потому, что было время утреннего супа! На этот раз «угощение» состояло из сваренной в котле свиной головы и хлеба. Поглощая еду с аппетитом выздоравливающего больного, Фульвио спросил Зефирину: – Кто из этих людей, по вашему мнению, самый умный? – Это Паньото, король нищих, – уверенно ответила Зефирина. – Тот, у которого нет носа… И она указала на нищего, вместе с собратьями сидевшего у котла. – В сущности, я чувствую себя прекрасно среди этих замечательных людей. У каждого из нас чего-то не хватает… – отметил князь, касаясь своего отсутствующего глаза. – Фульвио! – прошептала Зефирина с мягким укором. У него была привычка обнимать ее всякий раз, когда он подтрунивал над своим увечьем. Видя выражение лица Зефирины, он не мог сдержать улыбки. Сменив тему, он сказал: – Пойдем, поговорим с королем. Ему еще трудно было вставать. Зефирина подставила свое плечо, и молодые люди, осторожно обходя едоков, направились к Паньото. – Ты позволишь? – обратился к нему Фульвио. Царственным жестом тот пригласил гостей сесть. – Послушай, Паньото, – с ходу начал Фульвио, – когда я ребенком играл в катакомбах, говорили, что одна из них проходит под Тибром и поднимается до замка Святого Ангела. Это правда? Король нищих поскреб затылок. – Точно, как раз под мавзолеем этого парня, которого звали Адрианом. Выход из подземного хода – прямо над гробницей. Потом, когда этот приятель Аврелиан построил вокруг Рима городскую стену, он превратил эту гробницу в крепость. Да только все это, детки мои, было во времена царя Гороха. – В III веке, – уточнила Зефирина. – Может быть, но теперь уже неважно, в III или IV веке. – Короче, такой ход существует и ты его знаешь? – не давал отклониться от темы Фульвио. – Ну конечно, знаю, и Палько тоже знает. Фульвио и Зефирина с надеждой переглянулись. Паньото тут же перехватил их взгляд. – Ну-ну, ангелочки, рано радуетесь. Что с того, что есть. Это еще ничего не значит. Туда веем скопом не сунешься. Там с трудом могут пробраться несколько человек, да и то не спеша… Римляне понастроили там всяких ловушек, вроде ям, утыканных острыми пиками, ну и прочее в таком же роде. Их еще надо суметь обойти… Требуется воображение, как у тех ребят. Я вот только рассказываю об этом, а меня уже трясет. Прежде всего вам надо понять, что римляне и не думали загонять туда христиан, наоборот, боялись, что эти типы полезут в подземелье, чтобы отламывать пальцы ног у их обожаемого Адриана… В этом смысле римлян можно понять, ведь верно? – Хм… Фульвио оставил при себе свое мнение о пальцах ног императора Адриана. Он лишь спросил: – Ты уверен, Паньото, что эта катакомба не то же самое, что подземный ход между Ватиканом и замком Святого Ангела? Паньото снова принялся за еду. Обсасывая с грацией кошки свиное ухо, он ответил: – Черт побери, конечно, уверен, потому что потайной ход папы давно уже ни для кого в Риме не является тайной… и меня, Паньото, ничуть не удивляет, что эти чечеточники пронюхали про это… С этими словами Паньото сплюнул густую черную слюну, адресованную испанцам, а затем, почесав дырку посреди своего лица, сказал с лукавым видом: – К чему ходить вокруг да около, мой князь. Я вижу, куда ты клонишь. Но ты и твоя маленькая женушка, вы мне нравитесь. Это ж надо было посмотреть, как она тебя любит! Я же не бесчувственный. Она так плакала, бедняжка, я даже сказал Палько и Панокьо: «Приятно посмотреть, как один брат любит другого, а вы, подлецы, не станете рисковать своей старой шкурой ради моей морды». Под взглядом Фульвио, казалось, говорившим: «Вы плакали, мадам!», Зефирина попыталась спрятать лицо под кудрями, выбившимися из-под шапки. Стараясь придать голосу твердость, она спросила: – Паньото, скажи честно, сможешь ты или нет провести нас этой дорогой? – Ну, конечно. Только у нас мало шансов выйти оттуда живыми, потому что, окажись мы там, к примеру, вдесятером, что мы скажем этим чертовым плясунам сегидильи? «Ку-ку, вот они мы, хотим поздороваться с нашим папой!..» Мы только и успеем, что поздороваться, они тут же перестреляют нас, как кроликов. Справедливость его рассуждений была настолько очевидной, что Фульвио и Зефирина удрученно переглянулись. – Я пойду один, – решил Фульвио. – Я пойду с вами, – тут же сказала Зефирина. – И оба попадете прямо на небо, что и говорить, мудрено придумано. Глаза Зефирины наполнились слезами. Она не в силах была смириться с тем, что надо отказаться от борьбы. – Паньото, помоги нам вырвать из испанских когтей папу и его спутников, если только они еще живы. Ее слезы, кажется, потрясли нищего. – Послушайте, у меня, похоже, появилась неплохая идея, но вы все должны будете слушаться меня… Итак, вот как мы будем действовать… Пригнув к себе грязными руками головы Фульвио и Зефирины, король нищих долго что-то шептал им. То, что он говорил, было, наверное, очень интересно, потому что лица молодых людей прояснились. Когда Паньото закончил свою речь, Фульвио прошептал изумленно: – Четыре тысячи нищих… да это целая армия! Мы верим тебе, друг, но я должен честно тебя предупредить, что моя жена и я, мы потеряли все, что имели. У нас нет ни одного цехина, ни одной драгоценности… Почему же вы?.. Фульвио не решался высказать свою мысль. За него договорила Зефирина: – Почему ты соглашаешься пойти на это, Паньото? Ведь все вы очень рискуете. Ответ короля нищих был полон достоинства: – Думаете, только князья мечтают о славе, мои овечки… может, нищие Рима тоже мечтают войти в легенду!Глава XXVI ЗАМОК СВЯТОГО АНГЕЛА
– Капитан, тут делегация нищих явилась… Просят принять их… При этих словах лейтенанта Рикардо де Сан-Сальвадор капитан Эррера со злостью ударил сапогом по сундуку с доспехами. – Повесьте их! – Ваше превосходительство, – настаивал сын доньи Гермины, – эти оборванцы предлагают расчистить улицы… Капитан перестал ходить по комнате. – А что им нужно взамен? – Ничего особенного, только право взять себе одежду с трупов. – Ну, хорошо, пусть поднимутся… Нет, лучше я спущусь во двор посмотреть на них. Эррера был в препакостном настроении. Все в Риме шло из рук вон плохо. Конечно, имперские войска удерживали в плену папу, но после недели оргий и убийств, совершенных по большей части ландскнехтами-протестантами, горы трупов на улицах источали чудовищный смрад. Тела пяти или шести тысяч мужчин, женщин и детей, павших от рук убийц, теперь разлагались на улицах Вечного города. Солдаты, пресытившиеся своими злодеяниями, прихватив добычу, разбрелись по деревням. И будто мало было всего, что уже произошло, на Рим свалилось новое несчастье. В разных местах города появилась чума. Уже заболели солдаты. Эррера боялся даже думать, что произойдет, когда люди, расставленные на своих постах, узнают о надвигающейся эпидемии. В эту ночь Эррера плохо спал. С зубчатой стены, окружающей замок Святого Ангела, он слышал уханье сов, летавших над городом. Неужели придется посылать патруль на улицы этого проклятого города! Да эти посланные ни за что не вернутся назад: станут либо пьянствовать, либо грабить, либо насиловать, чего доброго еще и сами окажутся убитыми, если по неосторожности забредут куда-нибудь на окраину… Нет, все шло ужасно. Капитану Эррере было отчего огорчаться. Он ненавидел Рим, ненавидел замок Святого Ангела, ненавидел Италию… и проклинал свою роль надзирателя папы. Лежа на походной кровати, Эррера в конце концов уснул. Во сне ему привиделся кошмар. Целое скопище теней, повылезавших изо всех дыр, точно крысы, набросились на него, чтобы задушить. Бедняга с криком проснулся. Одетый в кольчугу, которую никогда не снимал, капитан поднялся по каменной винтовой лестнице до этажа, на котором находился пленник. Охрана заверила его, что все спокойно, и Климент VII спит в окружении своих кардиналов. «Подумать только, папа спит… Ему везет!» – Не желаете ли, капитан, чтобы кто-нибудь туда вошел и спросил у святого отца, все ли в порядке? – спросил молодой сержант. – Ни в коем случае… Ради всего святого, пусть спит! Спускаясь вниз по ледяным ступеням, Эррера пыхтел, точно кипящий котел. – Что за поручение… нет, что за проклятое поручение! С каким бы удовольствием он оказался сейчас снова, несмотря на изнуряющий климат, в Новой Испании[85], в пяти тысячах лье отсюда, со своим другом Кортесом, и убивал бы ацтеков, набивая себе карманы золотом. Так нет, императору понадобилось послать его месить итальянскую грязь, и именно на него взвалить обязанность сначала стеречь короля Франции, а теперь еще и папу. Какое невезение! Эрреру каждый раз трясло, стоило ему только вспомнить, как повел себя Климент VII после того, как замок Святого Ангела пал. В сопровождении своих людей Эррера первым вошел в просторное помещение, в котором прятался папа. Капитан ожидал увидеть человека, сломленного поражением. Как бы не так! В полном папском облачении, с жезлом в руке, Климент VII громовым голосом поносил их: – Изыди, сатана! Убирайся с глаз наших, проклятый испанец! Ты можешь применить физическую силу, но в наших руках власть Божья. Мы отлучим от церкви и тебя, и твою армию, и твоего Карла V, которого мы лишаем права молиться Господу нашему Иисусу Христу, потому что он оскорбил его! – Но, ваше святейшество… – попытался возразить Эррера, делая шаг вперед. – Назад! Запрещаем говорить с нами! Если ты посмеешь коснуться хоть волоса на папской голове, ты умрешь, пораженный дьяволом, и отправишься на веки вечные гореть в адском пламени… Около полусотни кардиналов плотной и неподвижной группой стояли за спиной папы. Эррера был уверен, что почтенные прелаты прятали позади себя кого-то еще, возможно, солдат, беженцев и даже заговорщиков. Капитан настаивал: – Вашему святейшеству нечего бояться ни за себя, ни за кардиналов, но если ваше святейшество прячет других… Эррера протянул руку, чтобы отстранить святого отца со своего пути, и тут же получил сокрушительный удар жезлом по руке. – На колени перед своим папой, которого ты осмеливаешься сделать пленником! Все на колени! Солдаты, если вы будете молиться Богу и раскаетесь в своем злодеянии, то, может быть, еще избежите вечной кары, и страшное наказание Господа нашего падет лишь на голову Карла Антихриста. К величайшему изумлению Эрреры, грубые солдаты, привыкшие убивать на полях сражений, подчинились. Дрожащими голосами они стали молить папу: – Это не наша вина, святой отец… Мы подчинялись приказам императора. Мы никому не позволим причинить зло вашей священной особе… Благословите нас, ваше святейшество, благословите нас! – умоляли они. Вынужденный поступить так же, как его люди, капитан получил папское благословения. С этого момента все будто перевернулось. Теперь папа отдавал приказы: – А теперь, дети мои, уходите. Как и наш Господь Иисус Христос, мы не держим зла на своих палачей. Мы даже будем молиться за спасение ваших душ… Идите, дети мои, оставьте меня наедине с моими викариями. Испанцы-католики подходили по очереди приложиться к папскому перстню. Сочтя момент подходящим, чтобы посмотреть, кто же все-таки прячется позади его святейшества, Эррера, как и его солдаты, тоже подошел к руке папы. Преклоняя колено, он попытался кинуть любопытный взгляд, но тут же получил новый удар жезлом, теперь уже по затылку, да еще очень своевременную угрозу, которую папа прошептал ему на ухо: – Если только ты сию минуту не уберешься отсюда, жирная скотина, я сделаю тебя в глазах твоих головорезов ответственным за все, и они с моего благословения сдерут с тебя шкуру! С этими словами папа выпрямился и сладким голосом провозгласил молитву «Городу и Миру». Как только за ними закрылась дверь, Эррера осознал, что все его люди не сделают ни единого жеста против Климента VII. Что за судьба! В эту минуту капитану очень хотелось увидеть на своем месте Карла V! Он снова вспомнил, сколько унижений ему пришлось пережить в Пиццигеттоне от своего первого пленника, короля Франции, который мало того, что продолжал плести интриги, но постоянно насмехался над ним и даже пел, чтобы выставить его в смешном свете. И вот теперь новый пленник грозит ему небесными карами. Какую собачью жизнь он ведет, служа Карлу V! И в довершение ко всему еще эта женщина, донья Гермина, у которой повсюду шпионы и которая шлет донос за доносом в Эскуриал! Несчастный капитан все еще предавался мрачным мыслям, когда к нему подошел Рикардо и объявил о приходе делегации нищих. Эррера спустился во двор. По его приказу охрана пропустила группу оборванцев в ограду крепости. Возвышавшийся над Тибром замок Святого Ангела имел пять этажей и был окружен мощной стеной с башнями по углам и восьмигранными бастионами. Первый этаж занимали часовня и погребальные урны. На втором этаже размещались склады продовольствия, в основном масла и зерна, а также камеры для пленников. На третьем этаже находился приемный зал, оружие папской гвардии и залы правосудия. На четвертом – личные коллекции папы и прекрасная лоджия Юлия II, построенная архитектором Браманте. Именно здесь капитан разместил свою штаб-квартиру. Наконец, на пятом, последнем этаже, под самым небом, в просторной округлой гостиной находилось земное убежище папы! – Ваша светлость… Человек десять нищих склонились перед Эррерой. Боясь заразы, толстый капитан достал из-под нагрудной части доспехов кружевной платок и прикрыл им нос. – И как вы только не боитесь заявляться сюда, банда нечестивцев? – проворчал он, внимательно разглядывая кучку оборванцев. Горбатые, кривобокие, однорукие, одноногие, безглазые калеки в тошнотворных лохмотьях представляли собой отбросы общества. Если бы не чума, они были бы последними, от кого капитан Эррера мог ждать угрозы. И, словно отзываясь на его мысли, один из нищих произнес со вздохом: – Увы, монсеньор, чего нам бояться? Это сказал довольно крупного роста горбун с лицом, покрытым язвами и кровоточащим глазом. По-видимому, он был слеп, потому что опирался на тщедушного человечка, не решавшегося поднять глаза, со щеками, исполосованными коричневатыми шрамами. – Нас просто мучит голод, – заныл третий бедолага, у которого не было носа. Безносый блаженно улыбался, обнажая остатки почерневших зубов. Люди Эрреры, все до одного испанцы, глядя на этих отщепенцев, посмеивались. Относясь к ним, как к животным, солдаты забавлялись тем, что бросали нищим очистки от овощей и горбушки черствого хлеба. При этом они старались швырнуть эти объедки обязательно в грязь или в лужу. А несчастные нищие, с трудом ковыляя, радостно кидались подбирать грязные огрызки. Это выглядело так уморительно для завоевателей, что солдаты стали собираться во дворе, покидая наблюдательные посты на стене, окружающей замок, где скучали от безделья. Один за другим они подходили к своим товарищам, чтобы повеселиться. А из окон крепости «продовольствие» все прибывало. Теперь уже в развлечении принимал участие весь гарнизон, во дворе стоял хохот. Эррера, наивное дитя, позволил своим людям немного развлечься. Сам он тем временем вел переговоры с оставшимися около него тремя нищими. – Так вы что же, вшивота, предлагаете очистить улицы от трупов? – Да, твоя светлость, – скривился рослый одноглазый горбун. – У твоего высокородия мы просим только позволения взять одежду с этих трупов. Ну, и в обмен на нашу услугу пусть нам дадут немного хлеба… – Банда вонючих шакалов, я могу позволить вам очистить все улицы, а потом повесить всех… Эта угроза, казалось, не произвела никакого впечатления на горбуна. – Ваша светлость, конечно, может это сделать, – ответил он спокойно, – но он этого не сделает… Кто тогда уберет с улиц наши трупы? Горбун вдруг понизил голос: – Ваше высокородие, без сомнения, знает, что на окраинах города появилась чума. Надо действовать быстро… – А у тебя неплохо язык подвешен, негодяй, – проворчал Эррера. – Я, пожалуй, прикажу немного укоротить его, чтобы ты был поскромнее. Нищий, у которого не было носа, встал перед своим товарищем: – Монсеньору офицеру не следует сердиться, потому что римские нищие все до одного преданы делу Испанца… Мы, ваше высокородие, готовы дать себя четвертовать ради вашего императора! Известно, что нет ничего более «трагичного», чем одиночество победителя, завершившего свое злодеяние. В тех, кто выжил, он чует скрытую ненависть и не может побороть в себе чувство страха. Довольный тем, что обрел союзников, пусть даже столь жалких, капитан Эррера совершил ошибку. Оставив позади себя охрану и Рикардо, он спустился на две ступеньки, отделявшие его от нищих. – Что ж, хорошо, мои смельчаки, мы тоже не людоеды! Вам дадут настоящего белого хлеба, но только после того, как город будет очищен… – Ур-ра господину офицеру! – заорал горбун оглушительным голосом. Это был сигнал. Нищие, подбиравшие в грязи объедки, выпрямились. Часть из них подбежала к своим товарищам, а часть к потайному ходу. Капитан Эррера, будто по волшебству, исчез с глаз своих солдат. У испанцев наступила минута замешательства. Для нищих этого оказалось достаточно. Когда капитан возник вновь, голова его была зажата руками горбуна и безносого. К горлу несчастного были приставлены два кинжала. – Ни звука, ни с места, или мы придушим вашего командира как поросенка… Произнося эту угрозу тоном человека, привыкшего повелевать, горбун распрямился. Тщедушный человечек, на которого он опирался, связывал руки капитану. Теперь глаза его были открыты, и глаза эти оказались удивительного зеленого цвета. – Скорее, Зефирина, – прошептал ей горбун. И все-таки Рикардо де Сан-Сальвадор услышал и вздрогнул. «Зефирина?» Как и его товарищи, Рикардо окаменел, завороженный сценой. Ускользнув от нищих, он бегом вернулся в замок. Во дворе замка царила паника. – Бегом! – скомандовал сержант солдатам, которые оставили свои алебарды в залах замка. – Целься! Огонь! – приказал лейтенант тем, чьим оружием была аркебуза, но их оружие осталось на крепостной стене. – Цельтесь! – орал унтер-офицер арбалетчикам, которые по лености тоже оставили оружие. – Не стреляйте! – взывал Эррера, боясь, что его убьют. – Не слушайте, стреляйте! – вопил лейтенант, довольный возможностью избавиться от Эрреры. – Повинуйтесь, не стреляйте! – надсаживал глотку сержант, которому Эррера обещал продвижение по службе. Раздираемые противоречивыми приказами, солдаты в беспорядке натыкались друг на друга, бегали во всех направлениях, пытаясь отыскать оружие, теряли свои шлемы. – Смотрите туда! Точно полчища крыс, римские нищие устремились в замок Святого Ангела. Около полусотни нищих с бледными, бескровными лицами вылезли из старых колодцев, находившихся в центре двора. То были катакомбные бродяги, которые сумели пройти подземным ходом до гробницы Адриана. Воспользовавшись всеобщей паникой, Палько и Панокьо подскочили к потайному входу. Двумя точными ударами кулака они убрали единственного человека, который еще оставался на посту, и широко раскрыли двери. Пятьсот нищих, вооруженных камнями, дубинами и рогатками, ворвались в крепость с криками «Да здравствует папа!». Ответом были крики испанцев, не привыкших сражаться с вонючими привидениями. – Сюда! – Вот они! – А вон еще! – Не зевай! Перепрыгивая с помощью крючьев через водяной ров и забираясь на стены, покинутые стражей, часть нищих заполнила замок Святого Ангела. Оказавшись в меньшинстве, осыпаемые градом камней, гонимые отовсюду ордой нищих, напуганные наступлением, начатым откуда-то из-под земли, испанцы сгрудились внутри крепости. Они забаррикадировались на лестницах, попрятались в подвалах и камерах для узников. Некоторые скрывались в помещениях четвертого и пятого этажей. – Пошли туда, друзья! Увлекая за собой Зефирину и Паньото, Фульвио (ведь это он был рослым горбуном) схватил руку молодой женщины. Вместе с сотней нищих они ворвались в замок Святого Ангела и понеслись по лестницам на поиски папы. На пятом этаже все остановились у последнего поворота винтовой лестницы. Человек десять испанцев засели за перевернутыми столами. Угрожая нищим пиками и аркебузами, они не подпускали их к высокой двери у лестничной площадки. – Если только вы приблизитесь, я войду туда и собственной рукой убью папу! – крикнул молодой офицер. Гримаса исказила его женственное лицо, выделявшееся какой-то порочной красотой. Зефирина с ужасом узнала Рикардо де Сан-Сальвадор, отпрыска доньи Гермины. Неужели эти чудовища будут вечно попадаться ей на пути? Она судорожно сжала руку мужа. – Вы знаете его? – прошептал Фульвио. Знала ли она Рикардо! Грубый юнец, которого донья Гермина хотела женить на ней и от которого ее спас король! – Это сын моей мачехи. Мы, можно сказать, вместе росли. Берегитесь его… Он очень коварен и жесток. Фульвио посмотрел на жену. По глазам он понял, сколько страданий причинили ей эти люди. «Если только мы вырвемся отсюда, – подумал Фульвио, – Боже, как я буду баловать мою Зефирину». Услышав угрозу Рикардо, нищие остановились. Фульвио несколько мгновений колебался, но все же сказал: – Отойдите, молодой человек, вы не захотите взять на душу это худшее из всех преступлений… – Черт побери, очень сожалею, но клянусь, я это сделаю! – с усмешкой ответил Рикардо. – Вот так вляпались! Что будем делать, мой князь? – прошептал Паньото. – Он хочет нас напугать, я думаю, он не посмеет… – шепотом ответил Фульвио. Он почесал накладные язвы, которые стягивали ему кожу на лице. Зефирина выпустила его руку. Опершись на лестничные перила и пряча голову за плечом Фульвио, она обдумывала ситуацию. На одной стороне около сотни людей, столпившихся на лестнице, на другой – десять человек, охраняющих дверь. Неожиданно Рикардо указал пальцем на Фульвио и Зефирину. – Эй, ты, верзила, ну-ка дай взглянуть на лицо малыша, который прячется за твоей спиной… Неужто это вы, моя дорогая Зефирина, в этом нищенском одеянии? Прежде чем Фульвио успел вмешаться, Зефирина сделала шаг вперед. – Да, это я, Рикардо. Глаза молодой женщины метали молнии. – Что же такое случилось с великолепной Зефириной де Багатель? В каком жалком состоянии вы оказались, моя милая! – усмехнулся отпрыск Сан-Сальвадор. – В куда менее жалком, чем вы, Рикардо, вместе с вашей мамашей. Вы ошиблись в выборе – стали убийцами. От бешенства лицо Рикардо задергалось, а ненависть сделала его похожим на мать. – Еще посмотрим, плохой ли выбор мы сделали, княгиня Фарнелло. По жесту Рикардо один из его людей повернул громадный ключ, на который была заперта дверь Климента VII. Но, несмотря на все старания, солдат никак не мог открыть дверь. На помощь ему подошел второй испанец. Но тщетно они стучали, толкали, колотили по двери, ничего не получалось. – Мой лейтенант, они забаррикадировались изнутри, – растерялись испанцы. – Откройте немедленно эту дверь! – взбесился Рикардо. Во время их разговора нищие, столпившиеся на лестнице, занервничали. Удары прикладов громыхали по двери папских покоев. Поглощенные этим занятием, Рикардо и его люди не заметили Палько и Панокьо, прятавших у себя под лохмотьями отнятое у врагов оружие. Испанцы отыскали секиру. Тяжелая дубовая дверь начала разлетаться в щепы. – На приступ! – заорал Рикардо. Он встал в рост за столами, служившими укрытием, чтобы увлечь за собой солдат. И этот момент не пропустил Фульвио. – Действуй, твое величество! – прошептал князь, обращаясь к Паньото. Король нищих держал в руках рогатку с вложенным в нее камнем. Прицелившись и оттянув ремень, он выпустил снаряд. Застигнутый в разгар движения, Рикардо де Сан-Сальвадор рухнул. Красное пятно появилось на бледном лбу. Возможно, он лишь потерял сознание, потому что слабо, но все же шевелился на полу. И в ту же минуту на лестнице началась кровавая драка. Насмерть перепуганная стража палила из аркебуз, пускала стрелы из арбалетов. Зефирина почувствовала, что ее левая рука неожиданно одеревенела. Пуля вырвала из руки клок кожи. Позади нее Эмпирик, шатаясь, прислонился к стене. Палько лишился пальца на здоровой руке, Панокьо держался на единственной оставшейся у него ноге, а Фульвио не замечал, что у него из уха течет кровь. Все произошло в одно мгновение. С бешеным криком Фульвио увлек нищих за собой. Беспорядочно палившие испанцы были все же слишком малочисленны, и постепенно один за другим падали под ударами прикладов, пик, алебард, мачете, секир и даже котла. – Не делайте этого! Нет… – закричала Зефирина. Нищие хватали мертвых и живых испанских солдат и выбрасывали их через амбразуры, достаточно широкие на этом этаже. Крик Зефирины относился к Рикардо. Несмотря на все свое отвращение к этому человеку, она хотела защитить его от этой страшной смерти. Но было слишком поздно. Издав нечеловеческий крик, сын доньи Гермины последовал за своими людьми и переломал себе все кости, упав с высоты более ста пятидесяти футов в ров вокруг замка Святого Ангела. Зефирина не успела пожалеть о трагической участи Рикардо де Сан-Сальвадор, потому что нищие уже открывали вторую створку двери и раздвигали мебель, наваленную пленниками за дверью. – Проклятые бездельники, ишь какой гвалт устроили! – громыхал за дверью голос Климента VII. Фульвио, Зефирина и нищие точно из пушки влетели в покои папы. Все вокруг было перевернуто, опрокинуто, свалено в кучу. Столы, стулья, кресла, буфеты нагромождены у двери, чтобы враг не смог войти. Стоя в окружении своих кардиналов, одетый в странную черную юбку, с латами на груди и в шляпе с пером, Климент VII протягивал руки: – Дорогие дети мои, ну и адский же шум вы устроили. Подойдите же, чтобы я мог вас обнять… Нищие дружно, как один, воскликнули: – Да здравствует папа! Благословите нас, святой отец! Опустившись на колени вместе с нищими, Зефирина тоже получила благословение. Фульвио в этот момент уже встал. – Ваше святейшество, нельзя терять времени. – О, это ты, князь Фарнелло! – воскликнул папа, узнав под лохмотьями Фульвио. – Как я рад тебя видеть. Черт побери, а вот и твоя прекрасная зеленоглазая кобылка! – Значит, теперь мы уже не хотим покинуть своего мужа? Вот видишь, князь Фарнелло, нет ничего лучше войны, когда надо объездить строптивых лошадок… Давясь беззвучным смехом, Джулио Медичи, казалось, ничуть не беспокоился о собственной участи и не спешил покинуть крепость. А между тем стоявшие за плотной стеной кардиналы дрожали от страха. – Ваше святейшество, – снова вмешался Фульвио, – римские нищие захватили замок Святого Ангела, но очень скоро другие гарнизоны, стоящие в городе, предпримут наступление. Нельзя медлить, эти благородные люди поклялись спасти ваше святейшество… – Мужественные сердца, – соглашается Климент VII. Не боясь испачкаться об его грязные лохмотья, он прижимал к груди Паньото. Фульвио вновь прервал душеизлияния папы. – Пора уходить, ваше святейшество! Мы сможем бежать через катакомбу, выход из которой нищие обнаружили в одном из колодцев. – Да, надо бежать… Скорее, ваше святейшество! – взмолились кардиналы. – Замолчите, сборище набитых дураков! – рыкнул на них папа. Повернувшись к Фульвио, Зефирине и нищим, Климент VII воздел руки: – Дети мои, как мне благодарить вас? Но знайте, папа не покинет Рим, свой священный город! – Ваше святейшество, испанцы… – начал было Фульвио. – Эти шакалы меня не пугают, князь Фарнелло. Я остаюсь в Риме… Они могут убить меня, как это случалось с другими мучениками. Но я, Климент VII, наместник Бога на земле, я остаюсь, и более того, возвращаюсь в Ватикан! И знаешь, почему? Чтобы наср… на Карла V… Его бы устроило, чтобы я сбежал. Он бы тогда посадил на мое место другого. О! Ему хотелось сделать папу пленником! Ничего, он еще увидит, во что ему обойдется повисший на его руках король Франциск I и свалившийся на голову Климент VII! Посмотрим, не тяжел ли ему покажется лавровый венок победителя… Папа прошел сквозь почтительно молчавшую толпу нищих, увлекая за собой в глубину круглой гостиной Фульвио и Зефирину. – Бургундия Карла Смелого, на которую так зарится Карл V… Слово Медичи, ему никогда не получить эту прекрасную католическую землю. Черт подери, да я жизни своей не пожалею, поддерживая Франциска I! Что, по-твоему, Карл V станет со мной делать? Думаешь, убьет меня? Хорош же он будет, этот трус, с трупом папы на руках! Нет, мой птенчик, если такое случится, все покоренные им государства взбунтуются. А теперь слушайте мою волю. Что касается тебя, князь Фарнелло, ты покинешь Рим, потому что здесь тебе угрожает смертельная опасность. Ты уедешь отсюда со своей маленькой женушкой, чтобы сделать ей дюжину детишек, и будешь ждать от меня известий в твоих владениях в Сицилии. Тебе все понятно?.. И забери с собой того удальца, за которым мне удалось поухаживать, а заодно и уберечь от этих убийц! Климент VII указал на лежащего за сундуком на матрасе Паоло. Оруженосец, грудь которого была перевязана, попытался встать при виде подходивших к нему папы и хозяина. – Паоло… Князь был счастлив увидеть живым своего верного спутника и бросился к нему, обняв от души. От сильной боли Паоло только прикрыл глаза. – Карлотта… Эмилия… Пикколо… О! Мадемуазель Плюш! Зефирина была вне себя от радости, увидев дуэнью и всех слуг дома, которых папа во время штурма замка взял под свою защиту. В глубине гостиной было много и других людей, которых Зефирина не знала, в том числе несчастные женщины, прижимавшие к груди своих детей. Зефирина с каждой минутой все больше восхищалась папой, не пожелавшим стать конформистом. – Мортимер! Герцог де Монтроуз тоже оказался среди спасенных от рук убийц. Еще очень слабый, он сидел в кресле и не мог подняться, чтобы поприветствовать Зефирину. – О, миледи… Город Рим полон всяких сюрпризов, вы не находите? Все с той же флегматичной улыбкой английский бульдог, похоже, совершенно не утратил во всех передрягах хладнокровия. Зефирина взяла его за руку: – Мой дорогой друг, если бы вы знали, как мы волновались за вашу жизнь. Я просто счастлива, что папа взял вас к себе! Она не заметила пронзительного взгляда, который бросил на нее Фульвио. А тем временем папа отдавал последние распоряжения: – Ты, князь Фарнелло, организуешь уход из города всех этих замечательных людей через эту твою катакомбу! В этот момент в гостиную вбежали двое нищих из квартала Трастевере и сообщили, что гарнизоны, стоявшие у Тибра, направляются на штурм замка. Две тысячи нищих не подпускают их к мостам, но они долго не продержатся. В считанные минуты, благодаря Фульвио, Климент VII покинул замок, а гражданские лица бежали из города через колодец, служивший входом в подземелье. Во дворе замка, перед тем как его оставить, образовались две группы людей. В одной находился папа, его кардиналы и толпа нищих, которые собирались пешком отправиться в Ватикан. В другой – все те, кто намеревался покинуть город через катакомбы. В момент прощания глаза Зефирины наполнились слезами – приходилось расставаться с новыми друзьями, с Паньото. Вести по катакомбам их должен был Палько. Панокьо совсем не мог идти. – Я, наверное, отрежу тебе и вторую лапу! – хохотнул оправившийся от ран Эмпирик. – Что ж, безногий калека, в нашем деле это даже хорошо! Прощай, мотылек… Прощай, мышонок! – Береги получше своего братишку, Зефирон! Римские нищие по-своему прощались с Зефириной. Она каждого обнимала, не испытывая ни малейшего отвращения. – Прощайте, мои друзья, спасибо вам за все. – Прощайте, синьора. В последний момент, при виде колодца, куда ему предстояло спуститься, Мортимер предпочел пойти с папой. А может быть, просто лорду стала надоедать слишком бурная жизнь супругов Фарнелло! – Очень хорошо, оставайся со мной, англичанин. Мы еще сможем обсудить развод этого толстяка, твоего короля… Прощайте, Артемиза! – О! Ваше святейшество… ваше святейшество! Я никогда не забуду… – зашепелявила мадемуазель Плюш, прощаясь с папой. – Благодарю вас за вашу юбку, которая оказала мне важную услугу, дочь моя, – произнес Климент VII. И он слегка похлопал по щеке Артемизу Плюш. При этом пальцы его задержались чуть дольше, чем позволяли приличия, но в конце концов его святейшество объявил: – Ну, ладно, в путь, чертовы мошенники. Мы возвращаемся к себе, дети мои. Теперь нас будет у тебя двое, Карл V! Это были последние слова, которые Зефирина услышала от папы. Она еще несколько мгновений видела папу в черной юбке Плюш, заменившей его собственное платье, разорванное во время сражения, видела окруживших его кардиналов и около тысячи нищих, выполнявших роль почетного эскорта. Все они вышли из южного потайного хода, чтобы по опустевшим улицам отправиться в папскую резиденцию, в Ватикан. – Идемте, Зефирина, мы последние! Фульвио взял ее за руку, чтобы отвести к колодцу. – Что с ним будет, Фульвио? – прошептала Зефирина. Она в последний раз взглянула на фигуру папы, скрывшуюся с толпе нищих. – Вечная слава! – убежденно произнес Фульвио. – Но Карл V собирается… – Ему придется договариваться, а Климент VII сможет… – Устроить заговор! – договорила Зефирина. И оба рассмеялись. – Salut! Sardine![86] При этих звуках Фульвио и Зефирина подняли головы. К ним приближался Гро Леон, изрядно исхудавший. Из-за ощипанных крыльев он летел с трудом. – А вот и ты! – сказала Зефирина. – Вовремя же ты появился. Она была как никогда права. За неделю вынужденного поста в церкви, где он оказался запертым вместе со звонарем, Гро Леон так обессилел, что скорее свалился, чем сел на руки своей хозяйки. – Бедненький мой, что с тобой стало! Зефирина поцеловала взъерошенный хохолок птицы. – Мы тоже не лучше выглядим! – заметил Фульвио. С нежностью он погладил запачканную щеку жены. Оба посмотрели друг на друга: грязные, замызганные, в рванье, с искусственными язвами на лице, с настоящими ранами и царапинами на теле, к счастью не очень серьезными. – А неплохо бы нам немножечко помыться, как вы считаете? Зефирина не успела покраснеть при столь откровенном намеке Фульвио. С противоположного берега Тибра раздался бой барабанов. Испанцы и ландскнехты строились под командованием капитана Аларкона, которому явно не нравилось, что сбежавший пленник добровольно возвращался в свою тюрьму! Схватив Зефирину за руку, Фульвио потащил ее в темный колодец, который должен был вывести их на светлую дорогу…ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СИЦИЛИЙСКИЕ НОЧИ
Глава XXVII МЕСТЬ ЛЮБВИ
Зефирина вздохнула. Начинался новый чудесный день. Яркий солнечный свет слепил глаза и заставлял ее щуриться, а воздух, благоухавший ароматами цветущих апельсиновых, лимонных и миндальных деревьев, щекотал ноздри. Она потянулась под покрывалом на своем удобном ложе, потом вскочила босыми ногами на пол, отделанный мозаичной плиткой, и подбежала к окну, полюбоваться пейзажем, который изо дня в день не переставал восхищать ее: над восточной частью острова и над обширной равниной города Катаньи, на окраине которого находились сицилийские владения семейства Фарнелло, на десять тысяч футов над уровнем моря возвышалась Этна. С какой бы стороны Зефирина ни смотрела на вулкан, она всегда испытывала одновременно и восхищение, и трепет при виде снежной шапки на тяжелой голове «великана». В парке, уступами спускавшемся к Ионийскому морю, буйная зелень неведомых молодой женщине растений сверкала под солнцем всеми красками, благоухала всеми ароматами и шелестела листвой. Гранатовые, фисташковые, ореховые кустарники, без сомнения завезенные сюда из Греции, соседствовали с деревьями, которыми Сицилия была обязана арабам, как, например, финиковые пальмы, рожковые деревья, тутовник. Что касается фиговых деревьев и агав, то Зефирина знала, что лет двадцать назад их черенки были завезены из Новой Испании конкистадорами. Чувствуя себя словно в раю, Зефирина снова вздохнула и направилась к двери, чтобы позвать Эмилию и Карлотту. После того как девушки надели на нее белое платье с круглым воротничком и уложили словно корону, заплетенные в косу волосы, Зефирина спустилась в сад. Вместе с Гро Леоном и мадемуазель Плюш она обошла вокруг старинного дома. На месте старой башни, возведенной в 392 году тираном Дионом сиракузским и разрушенной в 902 году арабами, которым предки князя Фарнелло по материнской линии оказали яростное сопротивление, нынешний замок был заново отстроен нормандским бароном Гийомом де Карентаном, с которым семьи Савелли – Фарнелло породнились в результате брака в 1078 году. Фасад украшали красивые окна, каждое из которых обрамлял оклад из черной пемзы и вулканической лавы. Так украшали все местные жилые здания. Палаццо Фарнелло, заметно модернизированное за два последних века, высилось со всеми своими террасами и окружающей здание мощной стеной над заливом Оньино, куда, как гласит легенда, высадился после долгих скитаний Улисс. Навестив в одном из парковых павильонов Паоло, который потихоньку поправлялся, Зефирина вернулась в замок. Возвратившись к главному входу, она вздохнула в третий раз. – Вы устали, моя маленькая Зефирина? – забеспокоилась Плюш. – Нет, я прекрасно себя чувствую, Артемиза, – сказала Зефирина, ласково беря под руку дуэнью. – Может, приказать заложить коляску? Поедем, полюбуемся окрестностями, взглянем на древний греческий театр в Таормине… Говорят, там очень красиво, – предложила Плюш. – Нет, пойду почитаю… и подожду… Зефирина прикусила губу, не договорив. Она, наверное, хотела сказать «возвращения мужа», но вовремя спохватилась и докончила: – …когда придет время обеда. Оставив мадемуазель Плюш в галерее и прихватив какой-то толстенный том, Зефирина поднялась по садовой дорожке как можно выше и устроилась в маленькой беседке, нависавшей над самым морем. Несколько минут Зефирина рассеянно листала страницы найденного в библиотеке старинного манускрипта. Она даже попыталась вникнуть в текст, оказавшийся трудом неизвестного монаха, повествовавшего о знаменитой «сицилийской вечерне», этом кровавом эпизоде, имевшем место 30 марта 1282 года в Палермо. Ничтожный повод повлек за собой сначала избиение французов, а затем и дикое побоище, охватившее весь остров. В иное время Зефирина, всегда увлекавшаяся культурой и историей, обязательно заинтересовалась бы этим рассказом, но теперь она довольно быстро оставила книгу на каменном столике, а сама погрузилась в глубокую задумчивость. Вот уже две недели, как Зефирина находилась на «треугольном» острове, и все это время она металась между ощущением райского блаженства и отчаянием. И всем этим тайным мукам было одно имя: Фульвио! После страшных испытаний в Риме молодые люди и их спутники с помощью нищих покинули город через катакомбы и добрались до Неаполя. Продвигаться в нужном направлении, в основном по ночам, с тяжело раненным Паоло, с девушками, непривычными к дальним пешим походам, и с мадемуазель Плюш, которая при каждом удобном случае заговаривала об этом и том же: «Уж и не знаю, что бы с нами было, если бы не святой отец! Подумать только, ведь он буквально спрятал меня под своей сутаной! Ах, воистину святой человек наш святой отец! Как вспомню, что там творилось, и снова вся дрожу!» – нет, это было совсем нелегким делом! Произнося последние слова, Плюш прижимала к груди руки, закатывала к небу глаза и действительно содрогалась. Зефирина никак не могла понять, был ли то страх старой девы перед ворвавшимися в замок испанцами или счастливейшее в ее жизни воспоминание! Зефирина сильно подозревала Артемизу Плюш в том, что та влюбилась в папу. Неделя,проведенная ею в заточении вместе с Климентом VII, кажется, совершенно вскружила голову доброй дуэнье. Вскружила до такой степени, что Зефирина начала думать, уж не отважился ли Джулио Медичи в минуту озорного помрачения оказать честь целомудренной дуэнье и при том ничуть не утомляя себя манерами, достойными папы? Впрочем, времени размышлять о состоянии души Плюш совсем не было. Фульвио и Зефирине пришлось проявить немалую сноровку, чтобы по дорогам, кишащим испанцами, добраться вместе со всеми своими людьми на двух телегах, набитых сеном, до Неаполя. Первой телегой правил Фульвио, второй – Зефирина. Сколько было случаев, когда молодым людям пришлось натерпеться страху. Отлично справляясь с ролью крестьян, они без труда ускользали от любопытства слишком усердных солдат. Любопытные отношения сложились в те дни между Фульвио и Зефириной. Временами молодой женщине казалось, что муж взял ее к себе в качестве оруженосца. Со времени их пребывания в замке Святого Ангела Фульвио как будто стал питать к ней огромное доверие. В пути он не раз интересовался ее мнением о дороге, об обстановке. Он внимательно выслушивал все, что она говорила, но так как они никогда не оставались наедине, разговор на этом затухал. На сеновалах или в открытом поле Фульвио укладывался спать рядом с Пикколо и Паоло, за которым князь преданно ухаживал. Зефирина ложилась рядом с Плюш и служанками. Она злилась, что ей не удается уединиться с Фульвио. Однажды ночью, несмотря на дневную усталость, ей никак не удавалось заснуть рядом с храпевшей Плюш. Зефирина встала и вышла из овчарни, в которой они нашли приют. В крестьянском платье, заменившем ей нищенские лохмотья, она сделала несколько шагов и прислонилась к оливковому дереву. В звездном небе Зефирина заметила одну более крупную, чем другие, звезду, такую яркую, что не могла оторвать глаз от нее. Она не заметила, как человек, одетый в простецкую рубаху, приблизился к ней неслышной кошачьей походкой. – Да, прекрасная дама, не только мы, жалкие людишки, но все вокруг, от Солнца до Луны, вращается вместе с Землей! Фульвио склонился над Зефириной. От этих слов она невольно торопливо перекрестилась. – Замолчите, мессир… ваши слова – чистая ересь! Белые зубы Фульвио сверкали в ночи. Он молча смеялся. Потом приподнял ее подбородок, заставляя снова взглянуть на небесный свод. – Как вы, Зефирина, умнейшая среди людей своего поколения, можете скатываться до таких банальностей? В науке не может быть ничего еретического, речь может идти только о математических понятиях. Однако, – возразила Зефирина, – если, как вы, Фульвио, утверждаете, Земля вращается, то прежде всего мы не могли бы находиться в стоячем положении, а предметы, подброшенные нами вверх, падали бы не к нашим ногам, а… позади нас. – Неплохо рассуждаете, – согласился Фульвио. – Я по памяти перепишу для вас трактат моего польского друга Коперника, который он прислал мне из Торуни накануне разграбления Рима. Я знаю, что он прав. Вот послушайте, Зефирина… Разговаривая с ней, Фульвио прижал ее головку к своему плечу. – …Воздух, облака, птицы и мы сами вовлечены в движение Земли… и еще семи планет, которые вращаются вокруг Солнца. – А Аристотель и Птолемей говорили, что… – Что вы самый прехорошенький маленький солдат на земле, которая вертится… и к черту всех астрономов. С легкомыслием, приводящим ее в отчаяние, Фульвио чмокнул Зефирину в лоб и, прежде чем удалиться, дал совет: – Быстро отправляйтесь спать, Зефирина. Если все сложится хорошо, завтра мы сядем на корабль и отплывем в Неаполь… Благодаря личному знакомству Фульвио с живущим в порту еврейским ростовщиком, которому лет десять назад князь спас жизнь в какой-то драке, беглецы смогли погрузиться на маленький трехмачтовый парусник, совершавший под командованием португальского капитана каботажное плавание между Мессиной и Мальтой. За тысячу цехинов с носа, не выясняя личности пассажиров, капитан согласился высадить княжескую чету и их спутников в порту Катаньи. Тем не менее Фульвио предпочел принять меры предосторожности, потому что Сицилией правил ненавидимый местными жителями вице-король Испании. Князь надеялся, что вандалы, бесчинствовавшие в Риме, не догадались послать своих эмиссаров и предупредить, что князь перешел на сторону папы. В пылу творимого в Риме разбоя люди Карла V вполне возможно считали, что князь Фарнелло мертв, если только вообще не забыли о нем. Во время плавания, которое из-за безветрия длилось несколько дней, Зефирина вместе с Плюш и служанками томилась в трюме для зерна, в котором португальские моряки устроили для них уголок. Фульвио и его спутники спали в другом трюме. Молодая женщина надеялась, что сможет на корабле помыться, но это оказалось недоступной роскошью. Посреди ночи она проснулась, терзаемая удушающим запахом галерников. Зефирина никак не могла привыкнуть ни к стенаниям этих людей, прикованных к своим скамьям, ни к ударам бичей, которые безжалостно раздавали надсмотрщики, как только паруса обвисали и не могли помочь гребцам. Утром Зефирина поднималась на палубу и встречалась с Фульвио, который вел вежливый разговор то с капитаном, то с его помощником. – Хорошо ли вы спали, Зефирина? Бодритесь, мы скоро будем на месте… Фульвио отводил молодую жену на полубак. Там, целуя ей руки, расспрашивал, не нуждается ли она в чем-нибудь, потом оставлял ее с Плюш, а сам спускался к Паоло. Зефирина терялась в догадках, почему он по большей части избегал ее. «Может быть, он уже жалеет, что слишком расчувствовался и взял меня с собой… Да он, в сущности, и не способен любить». Зефирина облокотилась на борт корабля. Погрузившись в собственные мысли, она всматривалась сквозь ночной сумрак в проплывающие мимо острова и в огромный пламенеющий кратер Стомболи. Неожиданно сзади подошел Фульвио и опустил руки ей на плечи. Зефирина попыталась скрыть выступившие на глазах слезы. Фульвио, словно не заметив этого, указал на вулкан: – Никогда не следует пренебрегать гневом этих гигантов. В 79 году нашей эры вблизи Неаполя Везувий похоронил под раскаленным пеплом города Геркуланум и Помпеи… От этих городов ничего не осталось… Парочки обнявшихся во сне людей не успели даже проснуться. От этих слов Зефирина вздрогнула. Фульвио обнял ее за талию и продолжал шептать на ухо: – Задумайтесь, Зефирина, об их судьбе… любить и умереть, прижавшись обнаженными телами друг к другу и застыв навеки. Губы Фульвио нежили щеку Зефирины. Она трепетала от счастья. – Что до меня, Фульвио, я предпочитаю жизнь… с человеком, которого люблю. Она откинула голову. Фульвио склонился над ней. Но именно такую минуту выбрал этот тупица, португальский капитан, чтобы сообщить: – Мы скоро пройдем Мессинский пролив… В следующую ночь я вас высаживаю, синьор Корнелио… Это имя Фульвио выбрал себе, чтобы сохранить инкогнито. Сойдя на берег, супруги Фарнелло наняли мулов и через два дня прибыли в свой сицилийский замок. Ничто в доме не было готово к их приему. Управляющие – Марко и Перрукья – подняли на ноги всю деревню. Вскоре целая армия молодых сицилийцев сновала в старом замке. Первым делом хозяева принялись устраиваться. Фульвио учтиво передал Зефирине ключи от всех апартаментов, башен, подсобных помещений и подвалов. Кроме того, он отвел ей самые лучшие комнаты в замке – комнаты второго этажа с балконами, нависавшими над морем. Прямо из своей громадной кровати с балдахином, в которой она спала одна, Зефирина могла любоваться лазурными волнами. – А где ваши апартаменты, Фульвио? – спросила, превозмогая себя, Зефирина. С легкой улыбкой Фульвио ответил: – Разумеется, в башне тирана… Зефирина обиженно закусила губу. Башня Диона Сиракузского была самым удаленным от ее комнат местом. «Почему он все время дразнит меня? – размышляла она. – Я не собираюсь валяться у него в ногах… если только рана не мучит его». Зефирина наблюдала за Фульвио. Но князь, похоже, совсем поправился. Он ездил верхом, совершал долгие прогулки, на которые ни разу не пригласил Зефирину… и даже ходил купаться в море. Короче, Фульвио явно восстановил свое здоровье. Надо сказать, он баловал Зефирину нещадно, задаривая ее украшениями и платьями, которые заказывал в Палермо, Мессине, Катанье или Сиракузе. Он постоянно интересовался, довольна ли она своими апартаментами, слугами, климатом. Но по вечерам, учтиво поцеловав ей руки, исчезал из дворца. Зефирина сохла. Она вскакивала по ночам, надеясь увидеть мужа входящим к ней в спальню. Но ничего не происходило. Просыпаясь утром, она слышала фырканье только что вернувшейся в конюшню лошади Фульвио. Приходилось признать очевидное: все ночи Фульвио проводил вне замка… В довершение ко всем своим огорчениям Зефирина узнала от своих служанок, что княгиня Каролина Бигалло прибыла в свой замок в Таормине. Задыхаясь от ревности, Зефирина тем не менее старалась сохранять безразличный вид, вполне соответствовавший положению жены, которая, никогда не принадлежа мужу, оказалась обманутой.* * *
Однажды вечером на ужин в палаццо прибыли сицилийские князья, соседи и друзья Фульвио. Слушая их беседу, Зефирина познакомилась с историей Сицилии. Сама того не желая, несмотря на ужасное настроение, она не смогла удержаться и приняла участие в бурных спорах. – Я где-то читала, что первыми поселенцами вашего острова были три народа: сикулы, сикамы и элимы… Это так, монсеньор? С этим вопросом Зефирина обратилась к своему соседу по столу, старому князю Франческо Пилозо, потомку нормандских королей Сицилии, Гийома I и Гийома II. – Вы правы, княгиня, но эти народы вскоре были изгнаны финикийскими мореплавателями. С приходом греков финикийцы перебрались в Карфаген, один из основанных ими городов… – А правда, что Пиндар, Эсхил и Платон приезжали пожить в Сицилию? – спросила Зефирина. – Так говорится в текстах. Тираны сиракузские даже чествовали Пиндара, и я готов в это поверить, княгиня, потому что сам Улисс, согласно «Одиссее», высадился на Сицилию прямо у порога вашего дворца… Смерть Миноса, который преследовал сбежавшего с Крита Делала, произошла тоже здесь, неподалеку. А уж если вспомнить миф об аргонавтах, его события и вовсе разворачивались на нашей горячо любимой Сицилии. – А как же владычество римлян и византийцев?.. – Да, на некоторое время они покорили остров, но затем их вытеснили остготы, потом арабы в VII веке… Наконец, в 1072 году сюда пришли мои предки, норманны, во главе с Робертом Гискаром и его легендарно храбрым братом Роже… – Не при их ли мудром правлении, мессир Пилозо, Сицилия разбогатела, началось промышленное изготовление льна, были построены дворцы, замки, соборы? – Совершенно верно, мадам, – с гордостью подтвердил старый Франческо. – Во времена правления норманнов Сицилия процветала. – А разве при швабах было не то же самое? – Должен признать, что после смерти Гийома II Нормандского, когда немецкий император Генрих VI утвердил свои права и завладел островом… – В 1194 году? – Именно, мадам, начался довольно удачный период. Сын Генриха и Констанцы, великий Фридрих II Гоген-штауфен оставил по себе воспоминание как об исключительном монархе. До самой своей смерти в 1249 году он безвыездно жил на нашем острове, в окружении великолепного двора, где блистали многие художники. К несчастью, после него воцарилась анархия. Против бастарда Манфреда выступил папа Урбан IV, француз. Ее Величество призвала на помощь Карла Анжуйского, вашего короля Людовика IX (Людовика Святого)… Это был печальный период, да, простит мне Господь, если я вас обижу, анжуйской оккупации… – Увы, мессир, я знаю, что французы за время своего правления вызвали к себе всеобщую ненависть, закончившуюся знаменитым бунтом и резней, получившей название «сицилийская вечерня». – После этого события сицилийцы сами обратились за помощью к королю Педро Арагонскому, и тот прислал на остров своего второго сына Фердинанда… С этого времени наша судьба изменилась. Отделившаяся от Неаполитанского королевства Сицилия пережила долгий период нестабильности, отмеченный и жестокой враждой феодалов, и неоднократными эпидемиями черной оспы… И вот, наконец, немногим более ста лет, начиная с правления короля Мартина Арагонского, наш остров получил административную автономию и управляется вице-королем Испании. – Мессир Пилозо, как же случилось, что вы, знатные сицилийцы, соглашаетесь терпеть высокомерие и диктат каталонской аристократии? – спросила Зефирина, изящно отделяя при этом хребет от лежавшей на ее тарелке жареной рыбы. – С большим трудом терпим, мадам, гнем спину и ждем лучших времен. – Выходит, никто и не думает выступать против Карла V? – возмутилась Зефирина. Присутствующие за столом умолкли, слушая беседу Зефирины и потомка норманнов. Чтобы смягчить неловкость, вызванную последним вопросом молодой женщины, Фульвио громко расхохотался: – Берегитесь, Пилозо, жена моя – опасный противник в словесных турнирах. Я пока не знаю никого на свете, кто бы мог с нею тягаться… Повернувшись к Зефирине, Фульвио поднял свой кубок. Гости сделали то же. – Друзья мои, – сказал Фульвио, – я приготовил для вас сюрприз. Наша дива Мария Соленара, чье пение мне столько раз приходилось слышать в театре Катаньи… «Ну вот, незачем и спрашивать у Фульвио, где он проводит все вечера: оказывается, он слушает, как блеет эта коза!» Гости зааплодировали. Зефирине пришлось выслушивать бесконечные рулады этого «к несчастью» прекрасивейшего созданья с великолепными черными волосами и горящими очами, которое без стесненья вовсю строило глазки хозяину дома. А когда все присутствующие стали хором подпевать какой-то «идиотский» припев со словами о знойном солнце и о страсти, Зефирина думала, что задохнется. Фульвио бросил в сторону певицы цветок. Та поймала его на лету и поднесла к губам. Это было уже слишком! Зефирина с трудом досидела до начала весьма увлекательного выступления сицилийских «пупарос» – кукольников, чьи одетые в костюмы куклы говорили и жестикулировали на фоне крошечного замка, оживляя для зрителей старинные народные сказки. И пока гости внимательно следили за приключениями неведомых французам марионеток, Зефирина встала и вышла на террасу. Она больше не в силах была все это терпеть. К горлу подкатывало рыданье. Она сама себе была смешна. Заболеть любовью и ревностью к человеку, который потешался над ней. «А что, если найти его и умолить прекратить эту жестокую игру, если кинуться к нему в объятия… закричать «я – ваша… я люблю вас, Фульвио!»? Безжалостно теребя кружевной платок, Зефирина вдруг похолодела: она вспомнила слова, сказанные когда-то Фульвио: «Я вам откровенно скажу, донна Зефира, придет время, и я отомщу вам за каждое ваше оскорбление… В тот день, когда вы запросите пощады, когда на коленях станете молить, взывая к моему великодушию, к моей любви, вот тогда наступит мой час, и не слово прощения вам будет ответом, а моя месть. Это будет мой реванш!» Так говорил Фульвио в карете, когда Зефирина кричала ему о своей ненависти. Ослепленная яростью, она издевалась над ним, и вот теперь он мстит ей на свой лад… Но ведь последние события их так сблизили… Зачем он заставил ее поверить в свою любовь? «Cara mia… Amore mio»[87]. Он так по-особенному произносил эти слова, понятно, только для того, чтобы еще больше посмеяться над ней, а потом отшвырнуть. Зефирина пошла в беседку, где так любила уединяться. Сюда почти не долетали голоса из гостиной. Ласковый ветерок обдувал ее плечи. Запах жимолости, смешанный с морским воздухом, вызывал у нее головокружение. Она прислонилась головой к стене беседки и дала волю долго сдерживаемым слезам. Полумесяц, плывший в ночном небе, был затянут легким облачком. Зефирина чувствовала себя такой одинокой в этом мире. Никто не любил ее, кроме Плюш и Гро Леона, никто не жалел. И вдруг она замерла. Из кустов рододендрона послышались дребезжащие звуки лютни, и звуки эти приближались. Какой музыкант осмелился подойти к ее беседке? Зефирина быстро вытерла слезы. В темноте зазвучал голос певца-сказителя. Певец с юмором рассказывал трагикомическую историю несчастного тирана, которым помыкала прекрасная чужестранка. Прислушавшись к интонации голоса, Зефирина не хотела верить своим ушам. И в этот момент легкой, пружинящей походкой, которую Зефирина узнала бы из тысячи, к беседке подошел мужчина. С сильно бьющимся сердцем Зефирина взглянула на выступившее из темноты ночи лицо, которое скрывала маска. – Фульвио… – только и смогла прошептать Зефирина. Да ей бы и не удалось произнести больше ни слова. Губы князя прильнули к ее устам. Поцелуй был властным, полным любви и безумия, и заставил Зефирину затрепетать от страсти. Притянутая точно магнитом к этому властному рту, сулившему ей жизнь, Зефирина отвечала Фульвио все более и более горячими поцелуями. А в мозгу молнией пронеслось: «Как могла она жить, не ведая такого наслаждения?!» Забыв о каком бы то ни было сопротивлении, отбросив всякую гордость, она сама отвечала на ласки, сама уступала свои губы, с жадностью касалась языка, нёба, зубов Фульвио, а ее собственный язык и губы стали горячими и влажными, точно пили из источника. На мгновение он отстранился от нее, желая увидеть эту прелестную откинутую назад голову, которую крепко сжимали его руки. – А вы делаете успехи, моя прелесть, – отметил он. Глаза Фульвио улыбались под маской. Он снова насмехался над ней. Зефирина попыталась высвободиться из его объятий. Однако он тут же крепко схватил ее. – Нет, любовь моя, больше этого не должно быть между нами… Со спокойной уверенностью Фульвио держал в объятиях свою молодую жену и не торопясь осыпал частыми поцелуями ее лицо и закрытые глаза, осушал невысохшие еще на щеках слезы. – Моя Саламандра, родная моя… Божественная моя Зефирина! Говоря так, Фульвио снял с лица маску. Как некогда незнакомец в «Золотом лагере», он провел двумя пальцами по дрожащим губам Зефирины. – Посмотри на меня, любовь моя, я тот, кто всегда любил тебя… с той ночи пожара, когда держал тебя в своих руках там, во Франции… Это был я… Я так и не смог забыть тебя… Страсть моей жизни… Мое сокровище… Отныне не надо никакой гордости в наших отношениях, только любовь. – Но зачем понадобилось заставлять меня так долго ждать? Вы хотели отомстить мне? – пролепетала Зефирина. Брови Фульвио подскочили вверх. Видно, он забыл о своих угрозах. – Ты скоро поймешь, любовь моя… Да, я собираюсь осуществить свою месть, любя тебя со всей страстью, на какую способен… нынешняя ночь будет нашей ночью, и мы проведем ее одни в целом мире, – шептал Фульвио. Его нетерпеливые руки обхватили Зефирину. И пока губы их неустанно тянулись друг к другу, Леопард поднял свою молодую жену. Опустив голову на его плечо, Зефирина позволила отнести себя к стоявшей поблизости оседланной лошади. Ей показалось, что Неизвестность и Чудо подхватили ее и понесли на своих крыльях. В душе ее звучала музыка. Фульвио любит Зефирину… Зефирина любит Фульвио. И в этот миг немыслимого счастья Зефирина с волнением подумала о Нострадамусе. Наверное, маг знал о ее любви к Фульвио… Прямо над головой Саламандры, в небе Сицилии ярко сияли звезды Большой Медведицы.Глава XXVIII ДОМИК НА ЭТНЕ
Зефирина с удивлением оглядывала место, куда ее привез Фульвио. При свете факела, который Фульвио держал в руках, они поднимались по тропинке, вьющейся среди каштанов и берез, пока наконец не добрались до поляны. Маленький домик, прижатый прямо к горе, сверкал зажженными за окнами светильниками. Фульвио соскочил на землю. Воткнув факел в специальную подставку из кованого железа, он вернулся к лошади и, не давая Зефирине спуститься самой, взял ее на руки. – Где мы? – прошептала она. – На склонах Этны, любовь моя. В домике, который я приказал построить для нас с тобой, мое сокровище… В месте, далеком от людей и от всего мира… Место это такое же новое, как и наша любовь… Вот почему я не хотел ни подходить к тебе, ни дотрагиваться до тебя… ведь иначе я бы просто не выдержал. Точно дикий зверь добычу, Фульвио внес Зефирину в единственную комнату комфортабельной хижины, построенной из блоков затвердевшей лавы. Перед жарко пылавшим камином стояла просторная кровать, застеленная белоснежным покрывалом. Фульвио осторожно опустил на него Зефирину. С какой-то мучительной медлительностью князь расшнуровывал платье Зефирины, затем расслабил корсет, и из него брызнули юные упругие груди, о которых он столько грезил. Своими воспаленными губами он сразу припал к призывно торчащим розовым кончикам. Внимательно следившая за разливавшимся по всему ее телу наслаждением, Зефирина закрыла глаза. «Наконец она узнает великую тайну». Зефирина всегда чувствовала, нет, знала, что Фульвио, как опытный и утонченный любовник, будет обращаться с нею бережно. Он же, уверенный, что до него она принадлежала другим мужчинам, решил вести себя с нею так, будто ею никто не обладал. Лучшего доказательства своей любви не мог предложить этот латинянин, согласившийся примириться… с другими! Он так долго желал ее, что, когда приблизился миг обладания, Фульвио ощутил почти боль и некоторую неуверенность. И в этот миг сама Зефирина ободрила его. В своем нетерпении, наконец, принадлежать ему, она обвила его шею руками и притянула к себе. По-прежнему не открывая глаз, Зефирина чувствовала, что и живот, и грудь его содрогаются от наслаждения. Наполовину обнаженная ласковыми руками Фульвио, с юбками, отброшенными так, что открылось ее нежное, женственное лоно, Зефирина лишь вздыхала. Фульвио не мог оторвать взгляда от нее, такой красивой, томной, с влажными губами, с рассыпавшимся золотом волос, обрамляющих ее поразительное лицо. Именно к нему теперь был обращен этот вечный призыв женщины: – Иди… иди… Он не мог больше сдерживаться. Желание его было слишком сильным. Оно пьянило его, как старое вино. Ему хотелось бы не спеша подготовить ее к кульминации, осыпая поцелуями и утонченными ласками, но он не в силах был больше ждать. Не потрудившись полностью раздеться, а лишь сорвав с себя камзол и штаны, разорвав мешающие юбки Зефирины, Фульвио рывком раздвинул ее ноги бросился на нее, точно варвар. Зефирине показалось, что ей нанесли удар кинжалом. Она закричала от боли, чем просто потрясла Фульвио, а потом все смешалось, и боль, и наслаждение. Отдавшись размеренному ритму любви, Зефирина дала увести себя в неведомую страну.* * *
– В следующий раз, моя прелестная дама, все будет гораздо лучше… – с нежностью произнес Фульвио. Не желая показать, как он потрясен тем, что Зефирина оказалась нетронутой, князь ласково приподнял голову жены и стал покрывать ее поцелуями. Как все влюбленные мира, чья страсть оказалась взаимной, молодожены долго не могли разнять объятий. Они то шептали друг другу нежные слова, то вдруг надолго умолкали. Потихоньку Фульвио довершил раздевание Зефирины, затем отшвырнул подальше собственную рубашку и штаны, и оба скользнули под покрывало. Прижавшись всем телом к мужу, Зефирина думала в опьянении: «Я стала настоящей женщиной… Вот, оказывается, что такое любовь, вот что значит это сказочное наслаждение… этот дар всего его существа». Легкая боль внизу живота напоминала ей, если еще в этом была какая-то необходимость, что отныне тело ее благодаря Фульвио стало совсем иным. – Я обожаю любовь, я обожаю тебя… – шептала Зефирина, подняв голову к Фульвио. Губы их снова слились. С чувственной грацией и новым для нее желанием она устремилась к мужу. Захлестывавшая радость и неодолимое желание переполняли Фульвио. Господи, как он любил свою маленькую княгиню! Он открыл в ней еще более страстную натуру, чем мог предположить. За внешними проявлениями красивой интеллектуалки в ней скрывался темперамент, куда больше привлекавший Фульвио, чем все ее рассуждения. Однако, сгорая от желания открыть ей все тайны любви, князь высвободился из объятий жены. Он встал и со спокойной беззастенчивостью уверенного в своих силах мужчины протер все тело ароматной эссенцией. Лежа на постели в сладостной истоме, Зефирина разглядывала мускулистое тело своего мужа. На спине, на груди, на ягодицах она увидела шрамы, напоминавшие о былых сражениях. Взгляд ее задержался на мужских достоинствах Фульвио, силу которых она уже любила и власть которых над собой признала. Фульвио надел халат из красного атласа, завязал пояс и вернулся к Зефирине. Встав одним коленом на постель, он приподнял покрывало. – Ты такая приятная… – прошептал он, погладив рукой золотистый пушок между ног. Она затрепетала, готовая снова раскрыть ему свои объятия. Однако, сдерживая собственное желание, Фульвио остановил ее жестом. На вышитых простынях остались капли крови. – Нет, нет, не сразу… Мне следует подумать о тебе… Иди сюда, любовь моя. Подавив порыв, с которым не смог справиться в первый раз и так грубо, не помня себя, набросился на жену, он протянул ей прозрачный пеньюар. Неожиданно засмущавшись, Зефирина хотела как-то спрятать свою наготу от восхищенного взгляда мужа. Но он отстранил ладони, которыми она прикрыла грудь, и тихо сказал с улыбкой: – Не надо скрывать то, что красиво. При этих словах Зефирина бросилась в его объятия. – Фульвио, ты говорил мне эти же слова в «Золотом лагере». Почему же ты мне сразу не признался, кто ты? О, Фульвио! «От скольких бед и страданий ты бы нас избавил», – подумала она про себя. – Я же пытался, – возразил Фульвио. – У меня долго хранилось голубое перо, которое я взял у тебя на пляже. Я собирался показать тебе его в день свадьбы, сокровище мое. Конечно, если бы я успел это сделать, мы бы не вели такую долгую борьбу… Но моя Зефирина не желала ничего ни слышать, ни видеть. Ну что мог сделать глупейший из влюбленных, натыкаясь на непримиримость упрямой девственницы? Да ты у меня вызывала просто страх… Вид у него при этом был такой комичный, что Зефирина расхохоталась. – Ты, Фульвио, боялся?.. Леопард, заставляющий всех вокруг дрожать… нет, я не верю… Это ты все время старался меня запугать. – Хм… Хочешь есть? Фульвио подвел жену к маленькому столику у камина, уставленному разными яствами. Усевшись по-турецки на медвежью шкуру, они с присущим всем влюбленным аппетитом стали поглощать все подряд: и мессинскую рыбу-меч, и сардины, приправленные зеленью, и помидоры, и лук. – Тебе нравится наша сицилийская кухня? – спросил он. – Я обожаю ее… как тебя… – вздохнула Зефирина. При этом она решительно расправлялась с крылышком фаршированной рагузской индейки. Фульвио налил ей в кубок марсалы, от которой у Зефирины слегка закружилась голова. – А почему ты плакала там, в беседке? – тихо спросил Фульвио. Он дотянулся через круглый столик до руки жены и поднес ее к своим губам. – Почему я плакала, монсеньор Фарнелло?.. Действительно неплохой вопрос! – отозвалась Зефирина. – Потому что ты бросил меня из-за этой певички! Фульвио рассмеялся. – Святые боги, моя Зефирина ревнует к Марии Соленара! Нет, это просто замечательно! – Вам бы не следовало насмехаться, мессир мой муж, – рассердилась Зефирина. – Потому что я люблю вас всей душой. Я отдала вам свое сердце, и если вам угодно потешаться, если вы всего лишь играете со мной… Оставив тарелку, Фульвио подошел к жене. Он прижался лицом к ее золотым волосам и сказал: – Неужели ты не чувствуешь, что любима… что я люблю тебя, и люблю безумно? – Только меня? – повторила Зефирина. – Тебя и только тебя… Что значат для меня другие женщины? – О! А ваша Каролина Бигалло… – возразила Зефирина. – Чего ты боишься?.. Ты, моя нежная, моя прекрасная, моя Саламандра… Перейдя на итальянский и произнося слова с чарующей интонацией, Фульвио продолжал: – Cara mia[88], как ты можешь сомневаться в своей власти надо мной, bellissima mia[89]… Каролина Бигалло, Андреа Пацци – случайные встречи. Мария Соленара – другое дело. Она входит в группу сицилийцев, готовых оказать сопротивление любому угнетателю… Вот почему я так часто с ней виделся с момента нашего приезда. Члены «Почетного Общества» защищают нашу свободу. Они встречаются в театре Катаньи, где она поет… Зефирина скорчила гримасу. – Нечего сказать, прекрасное объяснение… Могли бы и меня взять с собой, мессир. – А мне хотелось, чтобы моя Зефирина отдохнула от пережитых нами драм… Мы подготавливаем акцию сопротивления, и мне нужно чувствовать себя спокойно… Не бояться за свою Зефирину, не думать в такую минуту о любви. «Не подвергать ее новым опасностям», – подумал про себя Фульвио, но вслух этого не сказал. – И как же вы себя называете? «Почетное Общество»? – Да… или еще Maffia[90], что по-тоскански означает «нищета». Очень скоро по всем городам Сицилии прозвучит клич: «Смерть Испании, Италия зовет!» Фульвио не решился сказать, что на самом деле в этом возгласе звучит не «Испания», а «Франция». Но Зефирина и сама это знала. Посмотрев на мужа с признательностью, она прикрыла глаза. – Maffia… бр-р-р… какое неприятное, недоброе слово… От него дрожь по телу… – Родная моя, «Почетное Общество» объединяет только истинных патриотов. Ты очень впечатлительна. Твои нервы все еще не успокоились от того, что произошло в Риме. Постарайся теперь думать только о нас. Мне не следовало говорить с тобой об этом. Довольно того, любовь моя, что ты, наконец, знаешь, кто я и почему так добивался нашего брака. До тебя я был одиноким человеком. Меня волновала только судьба моей страны, политика и война. Прости, но голова моя была занята только одним: отомстить твоему королю за все, особенно за Мариньян. Когда я прибыл во Францию с посланием от Карла V Генриху VIII, женщины существовали для меня только как развлечение. О женитьбе я совсем не помышлял. Первой, кого я увидел в «Золотом лагере», оказалась какая-то болтливая глупышка, раздававшая слугам направо и налево бесконечные приказания, да еще тоном, который меня изрядно позабавил. Потом я снова увидел тебя, уже на турнире, посреди этого курятника фрейлин… Ты выглядела очень гордой, изящной и до невозможности хорошенькой. Я так загляделся на тебя, что чуть было не позволил противнику выбить себя из седла… Он, впрочем, оказался слабым соперником. – Так, значит, черный рыцарь это были вы… В глубине души я всегда это знала! – прошептала Зефирина, пряча голову у него на груди. – Но ты не знаешь, что было потом… Я спал на пляже. Чтобы укрыться от ветра, улегся за стволом засохшего дерева. Вдруг просыпаюсь и вижу – на пляж является моя Зефирина с бедно одетым парнишкой, с тем самым Бастьеном, которого ты мучила. «Что за маленькая, хорошенькая ведьмочка, – подумал я, – хорошо бы заставить ее взмолиться о пощаде». Ты меня заинтриговала. Уже тогда что-то в тебе слишком манило… Шутки ради я стащил твою шапочку с голубым пером, и до самых событий в Риме перо это было всегда со мной, – сказал со значением Фульвио. – А что потом? – спросила Зефирина, как маленькая девочка, которой не терпится узнать продолжение истории. – Я должен был уехать на следующий день и совсем не хотел идти на бал, который давал Франциск I. Миссия специального посланца Карла V обязывала меня держаться в тени. Размышляя о политических союзах, возможных в то время, я отправился в «Золотой лагерь». Все его обитатели были заняты тем, что танцевали павану. Вдруг я увидел в темной аллее какой-то свет и нечто маленькое и бесформенное, бежавшее мне навстречу с криком: «Скорее, месье, женщина в горящем шатре… она не может выйти оттуда…» – Маленькое существо… карлик? – спросила, побледнев, Зефирина. – Да, карлик, но тогда, ночью, у меня не было времени разглядеть его лицо. – Каролюс… неужели он хотел меня спасти? – задумчиво прошептала Зефирина. Губы Фульвио коснулись ее виска. – Не думай больше обо всем этом, моя родная. Ты теперь со мной, со своим мужем… нет, любовником, и знаешь почти все о нашей первой встрече. – Ну, не совсем, мессир. Почему после того, как вынесли меня из огня с риском для собственной жизни и смутили своим поцелуем, вы оставили меня в одиночестве? – спросила с упреком Зефирина. – Да потому, госпожа резонерша, что вспомнил о вас, когда взял в плен маркиза де Багателя. Тут я понял, что это перст судьбы… Вот почему я попросил у вашего почтенного отца руки его единственной дочери. Зефирина скорчила мину. – Что и говорить, любопытный способ заставить полюбить себя, – заявила Зефирина. – Требовать меня в качестве выкупа, вот мысль, достойная мужчины! – Не мог же я написать вам письмо и подписаться: «Кавалер, который не может забыть вас и безумно вас желает!» – Это было бы куда лучше, и потом чего вы ждали от такой жены, как я? – Ну, я хотел, чтобы жена была красивой и чувственной, горячей и нежной, верной и ласковой… В общем я мечтал как раз о такой, как ты, любовь моя. Произнося эти слова своим особенным, низким голосом, он все время гладил жену. Не умея скрыть захлестнувшего ее блаженства, она снова бросилась в его объятия. – Мне следовало начинать с этого, – согласился Фульвио, потому что никакого другого языка между мужчиной и женщиной не существует.* * *
Каждую ночь Фульвио возвращался к Зефирине, на их «необитаемый остров», в сказочный домик любви. Иногда молодая женщина просыпалась среди ночи от какого-то глухого удара, похожего на далекий взрыв. Но постепенно она научилась не бояться горы. – Это вулкан рокочет, – объяснил Фульвио. – Не волнуйся, уже лет сто, как он спит словно добродушный великан. Ощущение, что Этна живет и спит прямо под их домиком, больше не смущало Зефирину. Слыша гул, она не просыпаясь, убеждалась, что муж рядом и успокаивалась. Весенние ночи… Золотые ночи… Сицилийские ночи, наполненные пьянящим ароматом… Зефирина никогда не забудет вас. Она зарывается головой под руку мужа. Ее влажные губы с нежностью касаются его шеи. Она чувствует, как пульсирует под кожей артерия. Она вдыхает запах его тела, смешанный с ароматами амбры и мускуса. Постепенно голова ее скользит вниз до тех пор, пока тубы не находят черный оазис. Она зарывается в него своим лицом. Фульвио не спит. Он ловит ее и снова втаскивает на себя. – Как быстро ты всему научилась, любовь моя… Ночь за ночью Фульвио не уставал восхищаться тем, как быстро она осваивает волшебную науку любви. Дошло до того, что ненасытная Зефирина почти приковала Фульвио к своему телу. Когда он говорил, что «потом получится лучше», он был прав. Каждый прожитый день все больше и больше сближал их и интеллектуально, и физически. Рядом с Фульвио Зефирина забыла свою стыдливость. Она предавалась любви, отдавалась чувству, требовала ласк, даже самых смелых. Она таяла под губами Фульвио и осыпала самыми безумными поцелуями его тело, которое теперь изучила до мельчайших подробностей. Подобно лаве, клокотавшей в груди великана, прятавшегося под их домиком, страсть Фульвио разгоралась, нарастала, ища выхода и твердела. Нервным коленом он вновь опрокидывал Зефирину. Она открывалась ему навстречу, вся горячая, влажная. Он давил на нее всей своей тяжестью. Бедра Зефирины манили его, доводя до безумия, но он сдерживал себя и опять отдалялся… В слабом лунном свете он ясно видел восхитительные формы Зефирины. Бедра казались все более вожделенными, груди все более совершенной округлости. Она очень изменилась за эти дня. С каждым днем Зефирина становилась все больше женщиной и от этого все более притягательной. Он любил ее… Боже, как он любил свою княгиню! В страстном нетерпении она часто оказывалась над ним. Он уклонялся от этого, отстранялся, ускользал… Ему хотелось заставить ее умереть от любви. Тело Зефирины пронизывала дрожь. Губы Фульвио нежно кусали ее розовые соски, заставляя их твердеть, отстранялись, подстерегали, обдували своим дыханием и возвращались, забавляясь, а потом потихоньку начинали скользить вниз. Зефирина трепетала, ощущая скольжение этого чувственного рта, исторгавшего из нее тихие вскрики. А в это время всезнающие руки Фульвио продолжали нежить ее тело. Руки добирались до самого чувственного места, задерживались там, играли, исчезали, уступая место губам. Губы, яростные, безжалостные, подчиняющие, ласковые, впивались в нее, словно хищник, добравшийся, наконец, до источника. Наслаждение Зефирины все нарастало, становясь безмерным. Ей казалось, что этому не будет конца. Тонкий знаток любовной игры, Фульвио довел Зефирину почти до предела и вдруг остановился, заставив ее застонать от разочарования. Она задыхалась, что-то лепетала, металась. Не ведая жалости, Фульвио снова стал возбуждать ее, набросившись на другую часть этого податливого тела. Он вел себя как уверенный в своих силах самец, решивший навязать свою волю. Она взбунтовалась, опрокинула его, оказалась сверху… Теперь она не безвольная жертва, но восставшая… Пришла ее очередь подчинить его своим ласкам. Превращенный в мужчину-игрушку, он снисходительно уступает ей инициативу. Он научил ее всему. Она вбирает его в себя, пожирает и согласна умереть в этот блаженный миг. Но она слишком рано, слишком быстро подводит его к высшему мгновению… Он противится этому, отстраняется и снова тянет ее на себя… Крепкие, высоко стоящие груди делают ее похожей на воительницу. Она взлетает на него как амазонка и словно целится из арбалета в мужчину, которого любит. Но нет, она хочет гораздо большего… Ей хочется, чтобы он совершил насилие, чтобы пронзил ее… чтобы заставил умереть… Из его горла рвутся звуки, похожие на рычание хищника, он снова ускользает… рывком переворачивает ее на спину… распластывает… Ему хочется научить Зефирину новым наслаждениям… Вожделение пьянит Фульвио так же, как перламутр ее кожи в самых потаенных и возбуждающих местах… Она принадлежит ему, он хочет знать о ней все. Его ловкие пальцы проникают в нее. Он снова заставляет ее вздыхать, содрогаться и стонать. Она выгибает спину. Он тянет ее длинные золотые волосы. Она кусает его руку. Он не целует, нет, пожирает ее затылок, потом отстраняется и падает навзничь перед последним броском. Она возвращается к нему и своими свежими губами успокаивает его. Точно дикарь, он подхватывает ее на руки и подносит поближе к огню. Лежа на медвежьей шкуре, они смотрят друг на друга, ослепленные любовью, с губами, побледневшими от наслаждения. Зефирина протягивает руки к Фульвио. С глухим стоном он набрасывается на нее, свою жену… свою маленькую смелую княгиню… свою любовь. Фульвио снова пытается совладать со своим любовным неистовством. Поначалу он осторожно погружается в это гнездышко, будто только на него рассчитанное. Опьяненной Зефирине удается на мгновение замереть, но она вся горит… Она не может больше ждать. Саламандра притягивает к себе Леопарда… они сливаются в одно. Он знает, что настал момент идти до конца. Зефирина будто распадается на части, раздавленная этой благословенной тяжестью мужчины, которому она принадлежит навеки. Полный внутреннего внимания, Фульвио замедляет движение. Он ищет губы Зефирины. Она стонет… и чувствует, как на них накатывает волна взаимного наслаждения. Своими бедрами, вибрирующими в такт, Зефирина поощряет мужа… любовника. Он больше не в силах сдерживаться. Задыхаясь, оба наконец наслаждаются высшим мигом блаженства. И кажется, что где-то в глубинах земли вулкан тоже рокочет от удовлетворения…Глава XXIX ПРАВИЛА ПРОСТЕЙШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Долго еще Фульвио и Зефирина лежали без движения на медвежьей шкуре. Совершенство пережитых ощущений погрузило их в состояние блаженного бесчувствия. Пламя в камине отбрасывало золотые блики на их все еще сплетенные тела. Неожиданно Фульвио высвободился из ее объятий: – Я хочу вернуть одну вещь, которая по праву принадлежит тебе, любовь моя. Он дотянулся до камзола, небрежно брошенного на пол. Зажав что-то в кулаке, он протянул руку Зефирине. – Смотри! Он разжал кулак. – Фульвио, ты нашел ее! – воскликнула Зефирина. На его ладони блестела металлическая пластинка с фиолетовым отливом. Та самая, которую Зефирина обнаружила в день своей свадьбы под центральным изумрудом третьего колье с головой леопарда. Склонив головы, молодые люди прочли строчки, выгравированные на драгоценном металле:«Леопард утомленный в небо свой взор устремляет,
Рядом с солнцем видит орла, тешащегося со змеей»
* * *
Через несколько месяцев Зефирина заметила, сколь значительными оказались результаты уроков математики. Она решила немного подождать и убедиться, что не ошибается, прежде чем заговорить об этом с Фульвио, Она с удивлением наблюдала, как постепенно округляется ее талия. Мадемуазель Плюш тоже заметила перемену. – Вы должны сказать об этом своему мужу, моя маленькая Зефирина… э-э… ваша светлость. Почтенная дуэнья была шокирована тем, что Зефирина держала случившееся в секрете. День клонился к вечеру, когда молодая женщина, сидя в беседке, объявила новость онемевшему Фульвио. – А вот теперь, любовь моя, нам придется быть очень благоразумными… никаких безумств, никакой акробатики, никаких верховых поездок в наш домик. Именно этого Зефирина и боялась. – Впредь, мадам, – твердо заявил Фульвио, – мы остаемся дома, как добропорядочные горожане! Стараясь скрыть свое волнение, Фульвио наклонился к Зефирине. Молодые люди обменялись долгим поцелуем. Они не видели, что в это время со стороны Мессинского пролива появился корабль под черными парусами, и корабль этот направлялся к Сицилии.Глава XXX ЧЕРНЫЕ ПАРУСА
– Упомянутая персона остановилась в Сиракузе, монсеньор. Мужчина, которого певица Мария Соленара спешно прислала к Фульвио, был одним из самых верных друзей маффии. Гонимый испанцами Джакомо, вступив в тайное общество, из простого рыбака превратился в прославленного разбойника, любимого героя жителей окрестных деревень, разбросанных по склонам Этны. И надо сказать, он прекрасно справлялся с ролью защитника отечества. – Она прибыла одна? – спросил Фульвио. – Ее сопровождает несколько слуг, один гигант по имени Бизантен и один лилипут, ну, то есть карлик, монсеньор… – Под каким именем они высадились на берег? – Синьора Тринита Орландо. – Тринита Орландо, – повторил Фульвио. Он задумался, потом снова обратился к гонцу, который мял шапку в руках, ожидая его распоряжений. – Можешь ли ты описать мне эту даму? – Конечно, монсеньор… По распоряжению Марии Соленара я последовал за этой дамой, как только она сошла с корабля, приплывшего под венецианским флагом. Она остановилась в маленьком доме, рядом с монастырем капуцинов. Я встал на паперти церкви Санта Лючия, откуда и наблюдал за окном и за маленьким садом. У дамы черные волосы, она всегда одета во все черное и часто носит густую вуаль. Я, однако, смог увидеть ее лицо, очень, кстати, красивое. Монсеньор будет, наверное, надо мной смеяться, но у этой женщины такие черные глаза и такие красные губы на совершенно белом лице, что я даже испугался… Глядя на сурового Джакомо, трудно было представить, что он может чего-то бояться. Он тем не менее торопливо перекрестился большим пальцем, как это принято у сицилийцев. Вопреки опасениям маффиозо, Фульвио и не думал над ним смеяться. Он сделал несколько шагов по своему кабинету с выходом на балкон, который нависал над морем и над террасами садов. Лицо князя напряглось, когда он увидел сверху отяжелевшую фигуру Зефирины в розовом платье. Под руку с мадемуазель Плюш она прогуливалась среди магнолий. Зефирина была уже на седьмом месяце беременности. Чувствовала она себя прекрасно и с каждым днем становилась князю все дороже. Он вернулся к Джакомо. – Поблагодари Марию Соленара. Продолжай наблюдать за дамой Орландо, и если только она вздумает выехать куда-нибудь из Сиракузы, предупреди меня немедленно. Следи за всеми ее перемещениями, которые она может предпринять, чтобы встретиться с испанским вице-королем… – Хорошо, монсеньор, но только дама Орландо по два раза в день ходит молиться в монастырь капуцинов. – Не пропускай ни малейшей мелочи, потому что если эта особа является агентом Карла V, княгине Фарнелло грозит серьезная опасность. Да и нам всем тоже, потому что где бы ни появлялась донья Гермина, она сеет преступления, несчастья и разрушения. Чтобы отогнать от себя возможные напасти, Джакомо сделал известный жест, направив мизинец и указательный палец в сторону Сиракузы. Беседа была окончена. Гость вышел. Но Фульвио тут же догнал его и вручил ему туго набитый кошелек с деньгами, вырученными от продажи зерна, на которое в сицилийских угодьях Фульвио в этом году, к счастью, был урожай. Если бы не это, была бы просто катастрофа, потому что из Ломбардии и Флоренции теперь не поступало ни цехина. – Что вы, монсеньор, об этом не может быть речи, с гордостью отказался маффиозо. – То, что Джакомо делает, он делает для Бога, маффии и Сицилии… – Нет-нет, возьми, это поможет твоим братьям с большей пользой сражаться против нашего врага. – Ну, если это для «Почетного Общества», я принимаю. – А теперь иди… и следи повнимательнее, Джакомо. – Не беспокойтесь, мой князь, я эту Орландо не оставил одну, друзья из маффии продолжают за ней наблюдать… Несмотря на эти успокоительные слова, глубокая складка прорезала лоб Фульвио, когда он спустился в столовую, где его ждала к ужину Зефирина. – Что происходит, Фульвио? – спросила она с проницательностью любящей женщины. – Ничего, моя родная, все идет хорошо… Фульвио обнял жену. Как и все молодые родители, ожидающие ребенка, они говорили о предстоящем рождении. Было решено, что, если родится девочка, ее назовут Коризандой, как звали мать Зефирины, эту бедную молодую женщину, умершую в двадцать один год, чуть ли не сразу после родов, а если мальчик, то – Луиджи, как звали отца Фульвио. Беременность изменила характер Зефирины, он стал намного мягче. Лицо ее не только не подурнело, но по-особому засветилось счастьем и красотой. Она не противилась тому, что все в доме, начиная с Фульвио и кончая мадемуазель Плюш и всей челядью замка, лелеяли и холили ее. Даже Гро Леон, понимая ее состояние, собирал на лугу цветочки и приносил ей в клюве. Когда Зефирина была маленькой, она постоянно мыслями возвращалась к своей умершей матери. Став девочкой, Зефирина почему-то стала забывать о ней в своих молитвах. Теперь же, чувствуя, как шевелится ее собственный ребенок, она никак не могла отрешиться от мысли о сходстве судьбы бедной Коризанды со своей судьбой. Действительно ли ее мать умерла от родов или, может, от руки злого чудовища? По мере приближения родов тревожные мысли становились все неотступней: «А вдруг она, как и ее мать, умрет, дав жизнь ребенку…» Впрочем, благодаря Фульвио страх этот скоро прошел. Всеми возможными способами он старался уберечь ее от усталости, раздражения и забот. Он не стал ей сообщать тревожные новости, которые находящийся под надзором папа сумел передать ему из Рима. Множество гонцов прибывало на Сицилию, провозя князю записочки. Среди прочих однажды прибыл монах. Задрав сутану, он достал письмо от Климента VII, в котором его святейшество сообщал, что Карл V хочет обменять Франциска I на его детей, наследников французской короны! А однажды вечером появилась довольно усатая монахиня и предупредила князя о возможном наступлении французов на Сицилию. На следующий день какой-то капуцин объявил о союзе с англичанами, а еще днем позже некий лже-лютеранин сообщил, что Генрих VIII в ярости от того, что не может жениться на Анне Болейн, вышел из римской католической церкви, чтобы реформировать собственную религию и, естественно, возглавить новую церковь. Потом пришла наспех нацарапанная записка от Мортимера, в которой говорилось: «Привет, Фарнелло, я поправился. Я вернулся в Англию. Мое почтение княгине… Ваш, несмотря ни на что, Мортимер». В разгар всех этих треволнений, как это и предвидел Фульвио, Карл V был предан позору всей Европой, даже Генрихом VIII, пришедшим в ярость из-за того, что император держит под арестом папу. Регентша Франции, мадам Луиза, приготовилась в случае необходимости объединить в порыве негодования всех королей, принцев и глав государств. Лишь два человека в Европе, похоже, ничего не знали, о всеобщем возмущении: Зефирина в Сицилии, совершенно позабывшая о политике и поглощенная мыслями о будущем ребенке, и Франциск I, узник башни Алькасар, думавший так много о политике, что забыл о собственных детях. А мадемуазель Плюш не забыла папу. Она даже осмелилась спросить Фульвио: – Не получал ли ваша светлость известий о его святейшестве? – Да, мадемуазель, папа вас целует! – ни на минуту не задумавшись, объявил ей уверенным тоном князь. От счастья дуэнья сильно покраснела и еще больше зашепелявила. Последующие дни проходили спокойно и неотвратимо приближали Зефирину к родам. Фульвио придерживался современных взглядов по данному вопросу, чтоб не сказать революционных. Повитухам, принимавшим обычно роды, принц предпочел практикующего врача из Палермо, доктора Витторио Урсино, которого он пригласил во дворец незадолго до приближающегося события. Этот ученик француза Лорана Жубера-отца, преподающего на медицинском факультете в университете Монпелье, развивал теорию гигиены, которая у современников вызывала по меньшей мере улыбку. Оригинал Урсино утверждал, что когда врач моет руки, прежде чем погрузить их во внутренности роженицы, чтобы извлечь оттуда ребенка, риск заражения многократно снижается. Он также приводил в качестве примера огромной опасности отсутствие выгребных ям и пренебрежение нормами личной гигиены, причем самой элементарной. Кроме того, он утверждал, что в жаркую погоду инфекция в первую очередь проникает в дома, расположенные вблизи кладбищ. Увы, бедный доктор Урсино в Сицилии, так же как Жубер-отец во Франции, проповедовал в пустыне. Только Фульвио и Зефирина, поначалу шокированная мыслью рожать с помощью мужчины, а затем быстро согласившаяся с новыми концепциями гигиены, поддержали доктора. Уже была приготовлена колыбель с гербом Фарнелло. Карлотта, Эмилия и целая армия молодых сицилианок из окрестных деревень, не говоря уж о мадемуазель Плюш, лихорадочно шили и вышивали приданое для новорожденного. Желая помочь работницам, Гро Леон без конца верещал: – Satin… Sardine… Satisfaction![91] Вместе с выздоровевшим Паоло, Фульвио, ничего не говоря Зефирине, совершил объезд своих земель. По склонам Этны он установил дозорные посты с часовыми, а также распорядился укрепить крепостные стены вокруг замка со стороны моря. Если не считать этих предосторожностей, относительно которых Фульвио не питал слишком больших иллюзий, он и не мог предпринять чего-то более серьезного против врагов, о которых ничего не знал. Так что дворец ждал какой-то акции со стороны полуострова, а Зефирина ждала маленького князя.* * *
Первое ожидание реализовалось однажды утром в облике посыльного, которого Зефирина никогда уже не ждала увидеть. Находясь в своей комнате, она услышала чьи-то громкие проклятья, доносившиеся со двора замка. Забыв о своем состояний, Зефирина понеслась вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени, и бросилась в объятия измученного дорогой гиганта, прибывшего из Франции. – Ла Дусер! – закричала Зефирина. Она была просто без ума от радости, увидев оруженосца своего отца. На руках у Ла Дусера и Пелажи она, можно сказать, выросла. – Мой дорогой Ла Дусер, как я счастлива тебя видеть, как счастлива, – повторяла она. – Как поживает отец? Не ответив на вопрос, Ла Дусер, в свою очередь, разглядывал Зефирину. – Черт побери, вон вы, оказывается, в какую отличную лошадку превратились, мамзель Зефи… э-э… ваша светлость. – Для тебя я всегда буду Зефи… Видишь, я жду ребенка. Ты останешься здесь, Ла Дусер, ведь правда, и научишь его, как когда-то меня, ездить верхом. Ты проголодался? Пить хочешь? – По правде говоря, да, не откажусь… И он вошел вместе с Зефириной в замок. Она хлопнула в ладоши, и молодые сицилийцы, восхищенные французским великаном, вынесли ему из кладовой множество всякой снеди. Поедая кусок за куском, Ла Дусер отвечал на вопросы Зефирины о том, как прошло его путешествие. Он сел на корабль в Марселе, высадился в Генуе, добрался до Павии, потом до Флоренции и Рима. В городе, который восставал из пепла, ему удалось навести справки о князьях Фарнелло благодаря монаху, служащему привратником у кардинала. После этого он снова погрузился на корабль в Неаполе и добрался до Палермо. Оттуда, в сопровождении одного мельника, члена маффии, Ла Дусер добрался верхом на муле до замка. – Как поживает отец? – снова спросила Зефирина. В этот момент вошел Фульвио. По лицу Ла Дусера князь понял, что оруженосец не решался говорить с Зефириной, видя ее состояние. Под каким-то надуманным предлогом он увлек Ла Дусера в свой рабочий кабинет. – Итак? – спросил князь. – Вот ведь беда, господин маркиз умер. Что за проклятая жизнь. У меня тут есть послание для его дочери. Что же мне делать, монсеньор? Фульвио считал недопустимым скрывать смерть отца от Зефирины. Он только хотел подвести ее к этому постепенно. Но надо было плохо знать Зефирину, рассчитывая, что от нее можно что-то скрыть. – Почему вы не хотите сказать мне правду? Отец умер, да? – прошептала молодая женщина, когда Фульвио и Ла Дусер вышли из кабинета. Глаза ее наполнились слезами. По жесту князя Ла Дусер достал письмо с гербовой печатью рода Багателей. Пергамент был в пятнах воды и грязи. – Долгая дорога… – счел нужным извиниться Ла Дусер. Зефирина сорвала восковые печати, развернула пергамент и прочла строки, написанные крупными неровными буквами: «Моя дорогая дочь, Я умираю, возможно отравленный преступной рукой, некогда убившей вашу бедную мать. Но я виню себя и только себя за собственную слепоту и трусость. У смертного порога я снова обрел свою религию и ясное сознание. Я скоро встречусь с той, которой мне следовало всегда оставаться верным, с моей Коризандой. Я изменил свое завещание. Вы остаетесь единственной наследницей всего, что у меня еще осталось. Перед тем как предстать перед Богом, я наконец понял, какой смертный грех совершил, скрывая подлинную личность моей супруги. Своей детской интуицией вы ее разгадали, дитя мое. Гермина де Сан-Сальвадор, урожденная Генриетта Сен-Савен, была одной из двух незаконнорожденных сестер вашей бедной матери. Возможно, именно она убила вашу мать… У Пелажи были подозрения, и она меня об этом предупреждала, Я не желал ее слушать. Я и сегодня еще не знаю правды. Сомнения обступают меня. Я – великий грешник, я смирился с преступлением. Я скрывал его от всех, даже от моего короля, перед которым я сегодня винюсь через это письмо в своей лжи. Найду ли я себе оправдание в ваших глазах, дочь моя, не знаю. Временами сильные головные боли и провалы в памяти заставляют меня думать, что та, кому я дал свое имя, подсовывала мне какие-то приворотные зелья, заставляя меня находиться в ее зависимости. По какому-то чуду я от этого освободился… Простите меня, моя Зефирина, я не был вам хорошим отцом. Мне бы хотелось еще многое вам сказать, но глаза мои перестают видеть, а рука деревенеет. Прощайте, я вас благословляю. Не забывайте в ваших молитвах о кающейся душе вашего отца. Роже де Багатель». Сочувствуя горю своей молодой жены, Фульвио старался быть предельно деликатным. Он решил оставить ее на несколько мгновений одну и дать ей возможность облегчить душу слезами. Но потом он увел ее на крепостную стену и там, наедине, постарался найти утешительные слова. Зефирина давно уже ничего не скрывала от Фульвио. Поэтому она дала мужу прочесть письмо отца. – Вторая сестра… Кто же она? – спросил Фульвио. Зефирина покачала головой. – Я не знаю, – сказала она с отчаянием. – Еще Мишель де Нотр-Дам говорил мне о какой-то родственнице, которая меня защищает. – Ты, видно, очень дорожишь этим Нострадамусом, – прошептал Фульвио. Как ни велико было горе Зефирины, она улыбнулась. – Не ревнуй, я принадлежу тебе полностью… Сдерживая неодолимое желание сжать ее в своих объятиях, Фульвио проворчал: – Будешь тут ревнивым. Ты мне нужна вся, целиком, даже твои мысли… А что можно еще ждать от итальянца с примесью сицилийской крови, любовь моя? Зефирина положила голову на плечо мужа. Он поцеловал ее волосы и сказал: – Твой несчастный отец стал жертвой интриганки… Если бы только это. Она натворила куда больше. Ведь она колдунья, Фульвио. Ну, как ты можешь объяснить тот факт, что матушка-настоятельница монастыря Сен-Сакреман в Салон-де-Прованс, где я остановилась на пути к тебе в Ломбардию, уверила меня, что видела моего отца и даже говорила с ним, тогда как на самом деле он находился у тебя в плену, в твоем миланском замке и ты сам мне поклялся, что он оттуда ни на шаг не отлучался? Фульвио решительно покачал головой. – Вздор все это, мой ангел, почтенная монахиня выпила лишнего, а то и просто обманула тебя по какой-нибудь причине, возможно даже, вполне объяснимой. – По какой же, мессир математик? – Это, наверное, была твоя мачеха… Сен-Сакреман… Сан-Сальвадор… Сен-Савен… – Моя мачеха, переодетая в аббатису? – Ей хотелось тебя напугать, навредить твоему отцу. Но вот чего я сам не понимаю, так это почему она не воспользовалась случаем и не попыталась тебя убить!.. – Из-за трех писем. Зефирина рассказала Фульвио, как в «Золотом лагере» она пригрозила донье Гермине, сказав, что в случае ее внезапной смерти три письма, прямо обвиняющие ее в этом, будут немедленно отправлены папе, Мартину Лютеру и Франциску I. – Боже, оказывается, моя Зефирина умнейшая женщина! Подумать только, окажись ты глупой, тебя бы уже не было в живых… Я так люблю тебя, – прошептал Фульвио. – И я люблю тебя, – ответила она. Над зубчатой стеной плавно кружила чайка…* * *
Когда Фульвио случалось отсутствовать, Зефирина имела обыкновение совершать прогулки под руку с Ла Дусером. Гордый этой своей обязанностью, гигант шагал рядом с ней, и вид у него был прекомичный, когда он пытался ступать мелкими шажками. Горе молодой женщины было все еще слишком велико, чтобы расспрашивать оруженосца о последних днях своего отца. Она знала только, что он умер в присутствии священника, и это вносило в ее душу успокоение. – Видел ли ты семейство Ронсаров? – спросила она. – Да, видел… Мамзель Луиза всегда вас помнит… Месье Гаэтан… э-э… Ла Дусер почесал затылок. – Я знаю, что он женился, – сказала Зефирина. Ее удивляло собственное безразличие к человеку, который был ее первой любовью. – Да, он поселился в Поссоньере. Луарская земля! Как все это теперь далеко. Рядом с теплым морем Зефирина чувствовала, что ребенок изменил ей и душу, и тело. Она стала итальянской княгиней, княгиней своего времени, именуемого Ренессансом.* * *
Неделю спустя после приезда Ла Дусера Зефирина как-то спала, прижавшись к Фульвио, и увидела ужасный сон. Ребенок уже родился. Она видела это прелестное существо лежащим в колыбели, рядом с ее кроватью. Внезапно откуда-то из стены появилась женщина в длинной белой рубашке и с закрытым вуалью лицом. Она подошла к колыбели и склонилась над ребенком. Откинув вуаль, женщина посмотрела на лежащую в постели Зефирину. Из зеленых глаз скатились тяжелые капли. Слезы текли по ее лицу, молодому и очень красивому. У этой прелестной молодой женщины были такие же рыже-золотые волосы, как у Зефирины. На ее шее висело длинное ожерелье из пластинок с вправленными в них драгоценными камнями. В самом центре находился большой, величиной с орех, изумруд. Оправой ему служила змея с человеческой головой. «Зефирина… Зефирина, – нежно зашептала женщина. – «Матушка… милая матушка, так это вы!» Зефирина протянула руки к призраку. Но вместо того, чтобы обнять свою дочь, дама в белом взяла из колыбели ребенка. Зефирина улыбалась от счастья, что видит младенца на руках у матери. Прижимая новорожденного к груди, дама в белом стала говорить нараспев: «Маленькая Коризанда родилась, маленькая Коризанда не будет жить, проклятая ее украдет… Она уже приближается, скачет галопом. Ты слышишь ее? Она хочет забрать твоего ребенка… Берегись, доченька… я пришла, чтобы спрятать малышку, она не найдет ее…» Зефирина дико закричала. Дама в белом, внезапно заслоненная черными парусами, исчезла вместе с ребенком в стене. Зефирина проснулась в объятиях Фульвио. – Мой ребенок… – снова вскрикнула она. – Не бойся ничего, на этот раз не очень сильно, – почти крикнул Фульвио, стараясь перекричать глухой гул, как будто тысяча лошадей неслась галопом. Кровать ходила ходуном. В комнате все трещало и двигалось. Картины срывались со стен, вазы и канделябры падали на пол. Балдахин над головами Фульвио и Зефирины шатался точно парус на ветру. «Эта штука сейчас придавит нас», – успела подумать Зефирина. Ей казалось, что эта дьявольская сарабанда продолжалась целую вечность. И вдруг все, как по волшебству, прекратилось. В комнате все затихло. Во дворце наступила необычная тишина, нарушаемая лишь шумом морского прибоя. – Что… что это такое? – заикаясь, спросила Зефирина. – Землетрясение. На этот раз не сильное, – сказал Фульвио, обнимая жену. – Не сильное? Какого же тебе еще нужно?! – Видела бы ты то, что было двадцать лет назад. От Мессины до Сиракузы все посыпалось, а мой дворец выдержал, всего несколько трещин на стенах, – с гордостью сказал Фульвио. Потом спросил с тревогой: – Ну, как ты, дорогая? Привычным для всех будущих мам жестом Зефирина притронулась руками к животу. Ребенок, пораженный происходящим не меньше матери, перестал шевелиться. Но, как только мать успокоилась, он снова задвигался. Она чуть было не рассказала Фульвио о своем кошмарном сне, но потом подумала, что момент для этого не слишком подходящий. Погладив, в свою очередь, живот Зефирины, Фульвио встал, быстро надел домашнее платье и пошел справиться, много ли разрушений в замке. Теперь во дворце все ожило. Крики мадемуазель Плюш и верещанье Гро Леона перемежались хлопаньем дверей. Лежа под покрывалом, Зефирина закрыла глаза. Она была уверена, что видела свою мать, и знала, что та пришла предупредить ее о большой опасности. Зефирина вытянула ноги. Она почувствовала слабую боль в пояснице, но не придала этому значения. Она теперь была такой толстой, что у нее вообще все вокруг болело. Даже грудь набухла и стала огромной. Если она ложилась на спину, то ребенок не давал ей дышать. Она потянулась. Боль повторилась, словно кто-то время от времени наносил уколы. Как и землетрясение, она появилась внезапно. Зефирина, нимало не взволнованная, собиралась уснуть, как вдруг из горла ее вырвался хрип. Боль неожиданно стала нестерпимой. Живот стал каменным. В этот момент в комнату вошла мадемуазель Плюш. – Представляете, маленькая моя Зефирина… земЛа Дрожит… У нас, в милой нашей Луарской земле, ничего подобного нет. По моему мнению, это выглядит как-то не слишком по-христиански… – Плюш! – простонала Зефирина. Она кусала кружевную обшивку простыни. – Мой Бог, что случилось, светлость? Ах! Пресвятая Дева! Неожиданно Плюш опомнилась. С трудом подхватив подол жесткой от крахмала ночной рубашки, почтенная старая дева понеслась по коридору. Все, что она при этом могла произнести, состояло из нескольких слов: – Ла Дусер!.. На помощь! Ла Дусер! Но Зефирине нужен был вовсе не оруженосец, а врач. Поднятый с постели столько же причитаньями дуэньи, сколько землетрясением, лекарь тут же примчался к постели княгини. Бледный как смерть Фульвио держал руку жены: Ла Дусер говорил что-то нечленораздельное. Мадемуазель Плюш хныкала. Эмилия и Карлотта натыкались друг на друга. Гро Леон верещал, а Зефирина в постели охала. Доктор Урсино решительным тоном призвал собравшихся у постели роженицы к спокойствию. Для начала он выставил всех, включая мужа, за дверь. Затем приказал приготовить тазы с горячей водой. Наконец, впустил в комнату двух почтенных матрон, которые должны были помогать ему в работе, засучил рукава на своих коротких, но сильных руках и подошел к Зефирине, корчившейся от боли. Она стонала и кусала себе руку, стараясь справиться с болью. – Никогда не думала, что это так больно… И долго это будет продолжаться? Учтиво улыбаясь, доктор Урсино наклонился над ней. Ощупывая сквозь рубашку ее живот, он произнес малоутешительные слова: – Что за нетерпение, княгиня… у первородящей, каковой вы являетесь, это мероприятие наверняка продлится всю ночь…Глава XXXI СИНЬОРА ТРИНИТА ОРЛАНДО
А в это время в Сиракузе, испытавшей не менее сильную встряску, синьора Орландо оттолкнула от себя стеклянный шар, в который перед этим всматривалась. В глазах ее блеснуло торжество. – Ты превзошел мои самые несбыточные желания, Велифар… Я смогу отомстить за моего Рикардо… Отомстить этой дряни за нас обоих! С того момента, как она появилась на острове под именем синьоры Тринита Орландо, донья Гермина ждала подходящего случая покинуть Сиракузу – она быстро узнала, что за ней следит маффия. Так что Сан-Сальвадор не стала сообщать о своем приезде на Сицилию испанскому вице-королю. Да и зачем? Она приехала сюда не ради Карла V, а ради осуществления своей мести. Когда она узнала об ужасной смерти единственного в мире любимого существа, своего сына Рикардо, она впервые в жизни лишилась сил и была убита горем. Раскаяние в совершенных ею самой злодеяниях? Неизбежность возмездия, о котором ее предупредил Агриппа Корнелиус, ничуть не взволновала ее. Напротив, вновь ожившая ненависть теперь полностью была направлена на Зефирину. Донья Гермина узнала, что Фульвио и Зефирина были среди нищих в замке Святого Ангела. – Почему я не прикончила ее еще в колыбели? – в тысячный раз терзала она себя вопросом, кусая до крови красивые белые руки. Когда я увидела, что это девочка и что я не могу поменять ее на своего мальчика, я должна была ее задушить… Почему я этого не сделала[92]? В дни, когда ее охватывало полное отчаяние, так, что она даже к пище не прикасалась, Каролюс не отходил от нее. – Успокойся, Генриетта, успокойся, – умолял он ее. – Ты всегда ее защищал от меня, – набрасывалась на него с упреками донья Гермина. – Если бы не ты, я бы уже достигла своей цели. Ты помешал мне осуществить предсказание. Мы бы уже давным давно владели сокровищем! Мой Рикардо никогда уже не сможет им воспользоваться. И в том, что он умер, тоже ты виноват, потому что ты сохранил жизнь этой проклятой рыжей. Под градом упреков нелепое лицо карлика сморщилось. Своими короткими пальцами он вытирал слезы, которые текли по щекам доньи Гермины. А тем временем из Франции с хорошими новостями вернулся Бизантен: «Маркиз де Багатель благополучно получил письмо от своей супруги. Надышавшись лепестков розы, он впал в каталепсию. Врачу удалось вернуть его в сознание, но только на несколько дней, и в конце концов Роже де Багатель умер, а Бизантен счел благоразумным побыстрее уехать». Довольная тем, что с одним делом покончено, Сан-Сальвадор приказала своему беззаветно преданному слуге разыскать следы Фульвио и Зефирины. Бизантен начал поиски в Риме. Наконец он вернулся с ценной информацией: – Князь и княгиня Фарнелло находятся на Сицилии… – Мы отправляемся за ними, чтобы завладеть последним талисманом и чтобы ты, Бизантен, раз и навсегда, избавил меня от нее. После того как программа действий была определена, на ярко-красных губах доньи Гермины обозначилось подобие улыбки. Вот так однажды вечером она и прибыла на венецианском корабле под черными парусами в порт Сиракуза. Подобно пауку, донья Гермина не любила торопиться. Она не спеша плела свою паутину. Чтобы уйти от слежки Джакомо и других маффиози, которых она заметила на паперти церкви, требовалось какое-то непредвиденное событие. Каждый день донья Гермина молила Сатану помочь ей добраться до замка Фарнелло. Дьявол в ответ на ее мольбу наслал землетрясение! Донья Гермина не ведала страха. Во время землетрясения крики женщин, плач детей, беготня мужчин по извивающимся улицам вызывали у нее лишь усмешку. Сама она пробиралась по улицам, облачившись в платье врача: длинный широкий черный плащ и островерхая шляпа с полями, низко опущенными на лицо. В сопровождении Каролюса и Бизантена, одетых в платье «помощников лечащего врача», она прошла мимо паперти церкви Санта Лючия, но там никого не было. Оконные витражи повылетали из рам. Из-за двух расколовшихся пилястр портик церкви и розетка над фасадом сильно покосились. Донья Гермина ехала на одном из мулов, которых раздобыл Бизантен, и теперь вся троица без хлопот покинула Сиракузу. Они миновали укрепления, окружавшие замок Эуралио, грандиозное здание, построенное Дионом Старшим около 400 года до рождества Христова и выстоявшее все землетрясения. Судя по ангельской улыбке, осветившей ее лицо при созерцании величественного сооружения, донья Термина испытала острое чувство родства к сиракузскому тирану. Затем она проехала мимо Латомийского карьера, мимо тюрем, устроенных прямо в скалах, куда тиран бросал своих пленников, заставляя их умирать медленной смертью. «Какой человек! Какой правитель! Бросить в тюрьму семь тысяч афинцев, взятых в плен в сражении с Никием и Алкивиадом! Теперь времена изменились!..» Мысленно солидаризируясь с Дионом-тираном, донья Гермина зло ударила каблуками по бокам мула и направилась к пустынным холмам, лежащим на пути к Этне. Над островом Ортигия в Ионийском море вставало солнце. Занятые созерцанием восхитительного пейзажа вокруг старинного финикийского города Сиракуза, донья Гермина и ее спутники не заметили человеческую фигуру, бесшумно перепрыгивающую со скалы на скалу. Это был маффиозо Джакомо. Несмотря на то, что его сильно напугал земной толчок, он, верный данному обещанию, продолжал следить за синьорой Тринита Орландо.Глава XXXII СЮРПРИЗЫ ЗЕФИРИНЫ
У Зефирины не осталось сил на крик. Уже прошла ночь, наступал день, а ребенок все еще не появился. Зефирина знала, что у него неправильное положение. – Ягодицами идет – перешептываются матроны. Проявив поначалу смелость и упорство, Зефирина уже ни на что не реагировала. Ей было так плохо. Эта боль просто выше человеческих сил. Она захотела умереть. «Пусть меня оставят в покое!» Бедная, распятая Саламандра. Волосы налипли на виски. Сил хватает лишь на короткие стоны. – Бодритесь, княгиня, я попытаюсь перевернуть ребенка, – говорит доктор Урсино. С него стекают крупные капли пота. У доктора такой же измученный вид, как у Зефирины. Всей тяжестью своих тел матроны нажимают на живот молодой женщины. Они требуют: – Тужьтесь, мадам, тужьтесь… У Зефирины больше нет сил. Ребенок не желает рождаться. Она снова страшно кричит. Рука доктора Урсино терзает ее тело, погружается в него. Его пальцы хотят заставить ее раздвинуться. Но тело отказывается это делать. И еще этот запах… эта кровь… Зефирина начинает икать. – Фульвио… я хочу видеть мужа… Вскоре она чувствует, как узкая длинная ладонь князя ложится на ее влажный лоб. У стоящего над ней Фульвио потрясенное лицо. Он кричит доктору: – Милосердный Боже, да сделайте что-нибудь, чтобы ей не было так плохо… В своем страдании Зефирина испытывает глубокое удовлетворение, слыша, как Фульвио распекает акушера. Однако Урсино отводит князя к окну и начинает говорить с ним шепотом, но Зефирина все прекрасно слышит: – Монсеньор, она больше не предпринимает никаких усилий, ребенок начинает уставать. Придется выбирать между матерью и ребенком. Вашей светлости решать… – Ради всего святого, – не выдерживает Фульвио, – спасите мать! Спасите мать! Зефирина хочет возразить. Она счастлива, что Фульвио выбирает ее, но всеми силами своей души желает, чтобы ребенок жил. Она кусает губы, стискивает кулаки, пытается найти хоть немного сил. Фульвио возвращается к ее постели. Как раньше всегда делал это у себя в конюшне, когда рожала одна из его кобыл, он наклоняется к жене. Ей очень больно. Она не в силах даже стыдиться того, что лежит перед ним в таком положении. Фульвио ласково поглаживает ей поясницу. – Хочешь пить? – шепотом спрашивает он. – Да… Доктор собрался возразить. Но Фульвио не оставил ему на это времени. Зефирина жадно пьет воду из кубка. Ее тут же вырывает. Она стыдится своего жалкого состояния. Слезы навертываются на глаза. Она кашляет. – Вот так… Ну, давай, Зефирина, вдохни поглубже, моя прелесть… тужься медленно, но ритмично… Вдохни еще раз… Вытолкни мне этого ребенка… Нашего ребенка, любовь моя… Вырви его оттуда, он хочет жить… и ты тоже… Фульвио ободряет ее. Он осторожно давит на ее живот, совсем не так, как матроны. Зефирина чувствует, что боль стала другой. В ответ на страшные и бесполезные схватки она только тяжело дышит. Ребенок, однако, начинает опускаться и, наконец, движется к выходу в жизнь. Зефирина старается изо всех сил. В какой-то момент она набирается смелости опустить глаза. Между ног у нее появляется маленькая головка. – Ну вот… теперь не спешите, княгиня… сейчас я его поймаю… очень-очень осторожно… хорошо… Отлично… Доктор Урсино бережно извлекает новорожденного. Торжествующим жестом он поднимает вверх маленькое, облепленное чем-то липким, тельце. – Это девочка, княгиня, и вполне живая… – объявил доктор Урсино. Она и вправду шевелится, малютка Коризанда! – Любовь моя… Взволнованный Фульвио целует Зефирину в лоб. Из глаз молодой женщины текут слезы. «Девочка… Фульвио, наверное, расстроен…» – Все в комнате суетятся. А Зефирина чувствует себя как-то странно. Она все еще стонет. – Все идет хорошо… твои мучения окончены, – шепчет Фульвио. – Я очень рад, что у меня дочь. Он говорит это искренне и только самую чуточку лжет. – Мне больно! – кричит вдруг Зефирина. – Это ничего, надо подождать, сейчас выйдет плацента, княгиня, – объясняет доктор. – Но… Зефирине кажется, что плацента слишком уж большая. От боли, которая возобновляется с новой силой, она кусает руку Фульвио. – Черт побери, да там, оказывается, еще один! При этом возгласе доктора все бросают родившегося младенца и бегут к Зефирине. Около Коризанды остается только Плюш. Именно она оказывает малышке первую помощь. Доктор и матроны снова суетятся вокруг Зефирины. Молодая женщина кричит от ужасной несправедливости. Схватки становятся все болезненней и чаще. И снова Фульвио стоит рядом и ободряет жену. Он осторожно проводит рукой по ее животу. – Ну же, давай, любовь моя… Обессиленная Зефирина даже не смотрит в сторону появившегося младенца. – Это сын! Сын! – кричит Фульвио. Ошалев от счастья, он сжимает жену в объятиях. – Близнецы! Моя Зефирина умеет преподносить сюрпризы, да еще какие! Фульвио смеется. Зефирина откидывает голову назад. Она так счастлива и хочет сказать об этом, но говорить не может. Теперь она чувствует себя лучше, боль прошла… Вот только ее беспокоит одна мысль. Она сдвигает брови и, наконец, шепчет с огорчением: – Фульвио, у нас же только одна колыбель… В ответ она слышит хохот Фульвио и чувствует его губы на своих. – Божественная Зефирина, дорогая моя жена, не волнуйся, мы подумаем об этом завтра… Он смотрит, как солнце заливает комнату. – …да нет, дорогая, уже сегодня. Зефирина опускает веки. Она слишком устала и очень хочет спать. Мысль, которая приходит ей в голову в эту минуту, заставляет ее улыбнуться: «Сегодня она стала матерью семейства… Завтра займется своими близнецами, Луиджи и Коризандой…» Под взволнованным взглядом мужа Саламандра засыпает безмятежным сном молодых рожениц.* * *
В десятый раз Зефирина склоняется над своими малышами. Как и положено, мальчика, наследника рода, уложили в колыбель,украшенную княжеским гербом, а девочку, бедного лягушонка, в большую корзину, временно превращенную в кроватку, пока деревенский столяр соорудит новую колыбель, достойную юной принцессы. Как все матери мира, Зефирина без конца любуется своими детьми. Она в восторге оттого, что смогла создать такое чудо. Она пересчитывает их пальчики, целует ноготочки, поглаживает пальцем носики и ушки. Луиджи уже выглядит крепеньким. У него вид настоящего мальчишки с волевым характером. За ушком у него есть маленькое красное пятно, вроде цветочка или морской звезды. Благодаря своим черным волосам он очень похож на Фульвио. – Тысяча чертей, ну и молодец! Я сделаю из него лучшего в мире фехтовальщика! – пробасил Ла Дусер. Коризанда рядом с братом кажется маленькой. Золотые волосы и маленький носик делают из нее миниатюрную копию Зефирины. Как два котенка, малыши приоткрывают глаза, но Зефирина просто в отчаянии оттого, что никак не может разобрать их цвет. Шесть дней… Ее младенцам уже целых шесть дней. Зефирина вздыхает от счастья. Вопреки устойчивой традиции своего времени, она отказалась от услуг солидной кормилицы, которую Фульвио привел к ней из деревни. К огромному неудовольствию мадемуазель Плюш, княгиня Фарнелло решила сама вскармливать своих детей. – Моя Зефирина никогда ничего не делает, как другие, – сообщил Фульвио, подчиняясь желанию жены. Кто бы теперь узнал гордеца Леопарда в этом муже, готовом безоговорочно выполнить любое желание своей молодой жены? С тех пор как появились близнецы, Фульвио полюбил жену еще сильнее, если только это вообще было возможно. Ничто, по его мнению, не могло быть чрезмерным для нее. На другой же день после рождения детей он вызвал ювелира из Катаньи, чтобы заказать для жены драгоценности, достойные королевы. Фульвио не представлял, как он за них расплатится. Доходы с других владений в настоящий момент к нему не поступали. С безразличием знатного барина, никогда не знавшего лишений, он, подобно всем Фарнелло, не привык вникать в материальные обстоятельства. Со вчерашнего дня князь был крайне озабочен. Зефирина сразу это подметила. Несколько раз за день он обращался к ней с вопросом: – Как ты себя чувствуешь, дорогая? – Прекрасно… – Само собой разумеется, тебе не следует пока еще вставать… Лежа на просторной, удобной кровати в изящной ночной рубашке с аккуратно уложенными волосами, Зефирина умело руководила у себя в спальне и служанками, и детьми. Все свидетельствовало о том, что она очень быстро вновь обрела прекрасное настроение, здоровье и аппетит. – Двадцать один день постельного режима, без малейшей попытки встать, как и полагается человеку в вашем положении. В противном случае, я ни за что не отвечаю, – распорядился доктор Урсино перед отъездом в Палермо, необыкновенно довольный состоянием здоровья молодой матери. Утром шестого дня Фульвио, спавший в дни выздоровления жены в соседней комнате, зашел по обыкновению проведать Зефирину и детей. Он был одет не по-домашнему. Запыленные сапоги служили доказательством того, что он уже успел совершить утреннюю прогулку. – Ну, как ты, любовь моя? – спросил Фульвио. Зефирина потянулась. – Отлично. – А малыши? – Да ты только взгляни на эти сокровища… Князь наклонился над детьми, и тут Зефирина заметила, что лицо его осунулось так, будто он не спал ночь. Зефирина нахмурилась. Фульвио что-то скрывал от нее. Старое чувство ревности снова зашевелилось в ней. Может быть, Фульвио провел ночь за пределами дворца? Что, если он из мужского каприза пожелал увидеться с Каролиной Бигалло? С внезапно проснувшимся подозрением Зефирина внимательно разглядывала мужа. Он был еще не брит, и от пробивавшейся щетины щеки казались серыми. – До вечера, дорогая… Князь рассеянно поцеловал жену. Она подождала, пока он вышел из комнаты, затем решительно откинула покрывало и встала. От слабости ее слегка шатало. Она почувствовала покалывание в икрах, но, к своему удивлению, смогла дойти до окна. Море не казалось таким лазурным, как обычно. Из-за легкого тумана солнечные лучи были тусклыми. Но Зефирина думала лишь о тучах, которые могли омрачить ее любовь. Она подошла к двери и, приоткрыв ее, позвала: – Эмилия, Карлотта! Платье! На ее голос примчалась мадемуазель Плюш. – Маленькая моя Зефи… Мадам! Доктор предупреждал!.. – К черту доктора, мне надоело валяться в постели. Живее, я хочу одеться… – Sardine… Socisse[93], – осуждающе заверещал Гро Леон. Сидя на своей жердочке, галка целыми часами наблюдала за своей хозяйкой и за детьми. В бешенстве от того, что ни одно платье на нее не лезет, Зефирина решила надеть плиссированный сюркот и широкую юбку, позволявшую ей чувствовать себя достаточно комфортно, несмотря на располневшую талию. «Какой ужас, я все еще невероятных размеров. Стану ли когда-нибудь прежней, чтобы нравиться ему?» – размышляла Зефирина. Она с отчаянием смотрела на свои разбухшие груди, выпиравшие из-под сюркота. Ей приходилось слышать рассказы о мужчинах, которые после рождения ребенка больше не прикасались к своей жене. Они отдалялись от нее, видя отныне в ней не супругу, а только мать. Мысль эта приводила Зефирину в ужас. Надо действовать, немедля. Она набросила на плечи короткий плащ. Несмотря на вопли Плюш, предрекавшей «самые страшные послеродовые последствия из-за ее собственной неосторожности», Зефирина покинула южное крыло замка и поднялась по лестнице в башню, желая разыскать Фульвио. В рабочем кабинете князя не было. Зефирина спустилась во двор. У входа стояли на карауле солдаты. Солнце все так же тускло светило в знойно-влажном мареве тумана. Молодая женщина направилась в конюшню. Лошади Фульвио в стойле не было. Зефирина обратилась к конюху: – Тебе известно, где князь? Пикколо ответил: – Монсеньор уехал в домик на Этне… «Что может делать Фульвио в убежище нашей любви?» Стараясь сохранять на лице бесстрастность, она спросила: – Князь поехал туда один? – Нет, за ним приехал Джакомо с Сицилии… Зефирина продолжала расспрашивать: – Я что-то не вижу Паоло, он тоже сопровождал князя? – Нет, ваша светлость, по указанию монсеньора Паоло и Ла Дусер уехали в деревню… «В деревню!.. Интересно, зачем это Фульвио понадобилось избавиться от Ла Дусера?» Совершенно неудовлетворенная полученными ответами и ослепленная ревностью, Зефирина приказала: – Пусть мне оседлают лошадь! Несмотря на удивленное лицо Пикколо и крики мадемуазель Плюш, прибежавшей в конюшню, Зефирина вскочила на лошадь. – Господь милосердный, это через шесть-то дней после родов… Кто же так делает? Пикколо, не позволяйте вашей госпоже ехать одной, – шепелявила Плюш. – Пикколо, оставайтесь здесь, я знаю дорогу, – приказала Зефирина. – Пикколо, не слушайте ее. – Пикколо, я приказываю повиноваться мне. Заметавшись между дуэньей и княгиней, Пикколо не знал, кого слушать. В полной растерянности он то вскакивал на лошадь, то снова соскакивал на землю, «Разве не наказывал ему монсеньор строго-настрого оставаться в замке и охранять княгиню и детей?» Зефирина воспользовалась его колебаниями. В обязанности Анжело, служившего привратником, входило никого не впускать в ворота замка. Однако князь ничего не говорил о тех, кто пожелает выйти. Да и потом, княгиня есть княгиня! За последние несколько месяцев, особенно после рождения близнецов, она стала пользоваться у слуг огромным авторитетом. Поэтому Анжело не посмел не открыть ворота. Пришпорив кобылу, Зефирина галопом понеслась к домику. Она решила во что бы то ни стало выяснить, какую тайну от нее скрывал Фульвио. Молодая женщина знала дорогу от замка до их убежища. Ведь они с Фульвио столько раз уединялись там как днем, так и ночью! По мере того как Зефирина поднималась все выше в гору по дороге, обсаженной каштанами, воздух вокруг становился все более пыльным. Зефирина провела рукой по губам. Вкус на губах был каким-то сернистым. Она обратила внимание, что совсем не слышит пения птиц. Подняв голову, она посмотрела на вулкан. Из кратера поднимался белый дымок. Зефирина уже привыкла к сюрпризам подозрительного великана. Как все прочие местные жители, она научилась не бояться его. «Моя гора немного покашляет… потом успокоится», – любил говорить Фульвио. Тишина тем не менее вокруг была такой тревожной, что Зефирина пожалела об отсутствии провожатого. И потом, может быть, она ошибается, но ей показалось, что из-за деревьев кто-то за ней наблюдает! Она резко обернулась и заметила, она теперь была почти уверена, чью-то тень, которая тут же скрылась. От страха Зефирина едва не повернула назад, но тут же высмеяла себя за трусость, отнеся это на счет недавних родов, и продолжила путь по склонам Этны.Глава XXXIII СЕМЕЙНЫЙ СБОР
Выехав на поляну перед хижиной, Зефирина вздохнула с облегчением. Похоже, проходил военный совет. С десяток мулов и лошадей, в том числе и скакун Фульвио были привязаны рядом с домом. Несколько сицилийцев охраняли подступы. Увидев княгиню, которую все хорошо знали, мужчины сняли береты для приветствия. Один из них подошел к Зефирине, но вместо того, чтобы помочь ей сойти с лошади, суровый сицилиец взял лошадь под уздцы и повернул ее, собираясь отвести на дорогу. – Примите мои извинения, княгиня, монсеньор распорядился никого не впускать. Эта короткая, так хорошо и давно знакомая фраза, раздражила ее. – Это распоряжение меня не касается, – сухо сказала молодая женщина. – Отпусти лошадь и помоги мне сойти. – Я не имею права, княгиня. – Кто ты, чтобы говорить со мной в таком тоне? – Джакомо, княгиня, лейтенант Марии Соленара. Зефирину затрясло от гнева. Она сейчас положит конец свиданиям этой певички, возглавляющей маффию, и своего мужа. Зефирина занесла хлыст над Джакомо. В тот момент, когда она соскочила на черный гравий, дверь дома открылась. Привлеченный спором, Фульвио вышел узнать, что происходит. Лицо его было серьезно. При виде взбешенной Зефирины и сконфуженного Джакомо, Фульвио не выразил ни удивления, ни недовольства. Он только произнес почти шепотом: – Какая неосторожность, Зефирина!.. – Я хотела… – начала она, еще красная от возмущения. Фульвио мягко прервал ее: – А я, я все эти дни надеялся оградить тебя от тягостных впечатлений. Входи, – сказал Фульвио. И, взяв жену за руку, он посторонился, пропуская ее в дом. Зефирина думала, что увидит там Марию Соленара и ее лейтенантов. Зрелище, представшее ее глазам, заставило Зефирину остолбенеть. Привязанная к креслу, с лицом, искаженным злобой, при виде Зефирины донья Гермина с новой энергией начала выплевывать яд: – Негодяи… А вот и ты! Ну, убейте меня, задушите меня, как вы это сделали с моим Рикардо… Из ярко-красных губ доньи Гермины вырвался стон. Пришедшая в ужас от этих обвинений, Зефирина закрыла лицо руками. Фульвио обнял ее за плечи. Бесцветным голосом он бросил донье Гермине: – Замолчите, мадам, здесь вам не причинят никакого зла! Чего не могу пообещать вам по поводу ваших гнусных намерений… – Разве Сицилия принадлежит вам, Фарнелло? Я что, не могу ходить там, где мне вздумается, мой дорогой зять?.. В конце концов, вы же действительно мой зять, ведь верно? – усмехнулась донья Гермина. Зефирина пришла в себя и успокоилась. Она подняла голову и взглянула в лицо чудовищу, убившему маркиза де Багателя. «Бедный отец… Как мог он попасть под такое ярмо?» Потом громко спросила мужа: – Что она сделала, за что вы ее задержали, Фульвио? – И связали точно овцу Авраама, приготовленную для заклания! – крикнула донья Гермина. – Если бы вы вели себя спокойно, мадам, мы бы обращались с вами по-другому, – с презрением произнес Фульвио. Повернувшись к Зефирине, он объяснил: – С того момента, Как она высадилась на Сицилии, эта женщина выдает себя за синьору Тринита Орланда. Переодевшись в платье врача, она вчера вечером пыталась проникнуть в замок. При ней был вот этот флакон с жидкостью, одна капля которой убила в одну секунду гусыню на птичьем дворе. Желая наглядно продемонстрировать действие яда, Фульвио капнул немного маслянистой жидкости в очаг. Под действием яда пепел начал зеленеть и закипать. Зефирина не могла сдержать дрожи. Не от такой ли страшной микстуры умерла ее мать, бедняжка Коризанда, лицо которой сразу вздулось? – Это яд Борджиа, рецепт которого считался навсегда утерянным… – прошептал Фульвио. – После этого ужасного отравляющего вещества на лице жертвы остаются следы как от оспы… – Гнусный вор, чтоб ты подох от язв! Мало того, что ты меня схватил, ты еще и предатель, обещавший хранить верность Карлу V! Берегись, император нелегко выпускает добычу из когтей! Бойся его мести, Фарнелло, если не боишься моей! На эти угрозы последовал полный глубокого презрения ответ Фульвио: – Я боюсь, мадам, только Божьего суда… И, повернувшись к Зефирине, добавил: – А еще у нее было вот это под юбками. Джакомо, когда схватил ее, порвал цепочку. Фульвио показал маленькую позолоченную коробочку, в которой находились две металлические пластинки с лиловатым отливом, совершенно такие же, как та, что Зефирина нашла в последнем изумрудном колье. Молодой женщине хватило самообладания не задавать вопросов. Она лишь обменялась взглядами с мужем. По выражению его лица она поняла, что он достал из тайника в камине третью пластинку. Дьвольское создание, вероятно, разгадало этот молчаливый диалог, потому что из горла ее вырвалось подобие змеиного шипения. – О, Велифар, ты не допустишь такого злодеяния! Эти негодяи хотят воспользоваться тем, что мне принадлежит по рождению… Услышь меня, Агалирепт, верни мне могущество, которое в своем безумии у меня хочет отнять Агриппа Корнелиус… Дай мне знак, что ты слышишь мой голос, Вельзевул… По лицу доньи Гермины текли слезы. Несчастная могла бы вызвать к себе сочувствие, если бы мольбы ее не были обращены к дьяволу. Чтобы изгнать нечистый дух, бродивший, она это чувствовала, вокруг их хижины, Зефирина перекрестилась. Донья Гермина заскрипела зубами. Фульвио вытер пот со лба. Вместо этой гнусной Медеи он предпочел бы иметь дело с сотней наемных солдат. Он отвел Зефирину в угол. – Надо решить, что с ней делать, – прошептал он. Не ответив прямо на вопрос, Зефирина спросила: – Как вы ее обнаружили, Фульвио? Князь не сразу решился расстроить Зефирину, но, подумав, сказал: – Вместе с людьми из маффии мы постоянно следим за всем, что происходит на острове, потому что ты должна согласиться – она совершенно права, Карл V так легко не признает себя побежденным. Люди Марии предупреждают меня обо всех подозрительных лицах, прибывающих на остров. Это Джакомо выследил ее еще в Сиракузе… И он же, обогнав ее на склонах нашей горы, предупредил меня о ее приближении. Мы задержали ее вместе с одним из сообщников у калитки… Другой сумел убежать, но я послал Паоло и Ла Дусера поискать его как следует в деревне, потому что только они знают этого третьего в лицо… Стыдясь того, что в глубине души обвиняла Фульвио в желании избавиться от Ла Дусера, она вспомнила замеченную ею тень, когда поднималась к хижине, и рассказала об этом Фульвио. Но он успокоил: – Не волнуйся за детей, замок хорошо охраняется… Это ты совершила безумную глупость, отправившись сюда без сопровождения. Если бы я только мог такое предположить… – сказал с упреком Фульвио. Зефирина знала, насколько прав ее муж. Поэтому она решила вернуться к первой теме. – Что будем с нею делать? – Если ты не возражаешь, я отправлю ее под надежной охраной во Францию, чтобы она там ответила за все свои преступления перед правосудием и регентшей… Через неделю голландское судно должно уйти из Палермо в Марсель… Теперь ты знаешь все, тебе решать, – закончил Фульвио. Последние фразы князь произнес громко. Донья Гермина скорчила гримасу: – Посмотрите на жену, Фарнелло. У нее нет ни малейшего желания передавать меня правосудию ее страны. Ведь правда, дорогая падчерица? Дорогая племянница! Разве ты захочешь отправить на костер единственную из оставшихся у тебя родственников? Нет, конечно! Честь семейства Багатель будет запятнана… вот ведь затруднение! Какой у нас получился неожиданный семейный сбор, а ей до сих пор не все известно! Донья Гермина расхохоталась каким-то безумным смехом. – Каролюс, расскажи-ка нашей гордой княгине правду, а мы посмотрим, не поубавится ли у нее спеси. – Привет, Рыжуха! При звуках этого картавящего голоса у Зефирины волосы встали дыбом. В полумраке, царившем в комнате, она и не заметила сидящего на пуфике связанного Каролюса. Как бы ни было ей неприятно с ним разговаривать, Зефирина подошла к карлику. Его нелепая голова поднялась над горбатым плечом. – Будь добра, Рыжуха, прикажи расслабить мне веревки, а то у меня ужасно затекли руки… Несмотря на неприязнь, она наклонилась над ним, чтобы растянуть узлы веревок, связывающих кисти рук и щиколотки. – Ты очень добра, Рыжуха… – Я вовсе не добрая, Каролюс, я никогда не могла выносить твоего присутствия. Но сегодня, – Зефирина посмотрела на обмякшую в своем кресле донью Термину, – она права, мы сошлись на перекрестке наших дорог, и я хочу знать, правда ли, что я обязана тебе жизнью? – А я всегда был сентиментальным, малышка… – Значит, ты признаешь, что действовал вопреки моей воле, воле твоей сестры! – закричала на Него донья Гермина. – Замолчи, Генриетта! – приказал Каролюс с некоторым достоинством. – Есть вещи, о которых не следует говорить. – Слишком поздно, Шарль-Анри, слишком поздно, Генриетта. Она начинает улавливать часть правды, наша Зефирина. Какое для нее счастье познакомиться, наконец, со своей настоящей семьей! Семьей, которую от нее всегда скрывали! Милый дядюшка и милая тетушка… Ну что, княгиня, не пора ли падать в обморок, рыдать на руках у моего зятя… – насмехалась донья Гермина. Далекая от того, чтобы лишиться сознания, Зефирина подошла к этой безумной Женщине и, чтобы заставить ее замолчать, влепила ей со всего размаха пощечину. – Замолчите немедленно, ничтожество… Шарль-Анри расскажет все сам…Глава XXXIV ТРИ СЕСТРЫ
Рассказ Каролюса начинался, точно сказка доброй феи, а закончился как рассказ старой колдуньи. «В год милостью Божией 1187-й над всем христианским миром грянул гром! Султан Саладин захватил Иерусалим. Во время третьего крестового похода, затеянного германским императором Фридрихом I Барбароссой, французским королем Филиппом Августом и английским королем Ричардом Львиное Сердце, чтобы отомстить султану, многие рыцари совершили славные подвиги. Среди этих рыцарей было три молодых человека, ставших за время похода неразлучными друзьями: француз Юг де Сен-Савен, англичанин Вильям Витклиф и ломбардец Раймондо Фарнелло… После одной битвы, особенно тяжелой для крестоносцев, в песках под Триполи, султан Саладин, узнав о лихорадке, охватившей христианских королей, послал им в шатры розовый шербет, изготовленный с использованием ливанского снега[94]… Освежающее мороженое вовсе не было отравлено. Фридрих Барбаросса, Филипп Август и Ричард Львиное Сердце сумели оценить благородство врага и почувствовать признательность. Поэтому они отправили трех друзей, Юга Сен-Савена, Вильяма Витклифа и Раймондо Фарнелло в качестве эмиссаров с подарками, достойными властелина пустыни. Саладин принял рыцарей с большим уважением. Однако крестоносцы позволили себе непростительную слабость, безумно влюбившись в трех самых любимых дочерей султана от рабыни-христианки из его гарема, бывшей греческой княгини, отличавшейся не только красотой, но и умом. Злоупотребив гостеприимством султана, молодые воины похитили ночью Гелу, Гортензию и Елену. Пойманные людьми султана в пальмовой роще, пленники были готовы к тому, что им просто отрубят голову, но Гела, Гортензия и Елена бросились к ногам отца и сумели разжалобить его. – Ну что ж, уезжайте, неблагодарные, – сказал им Саладин. – Я страшусь за вашу судьбу, но в доказательство моего снисхождения даю вам еще один шанс: вот колье, которое я даю в подарок каждой из Вас. Тот из ваших наследников, кто сумеет собрать все три колье в своих руках до истечения 333 лет и растолкует мое послание, получит доступ к сокровищу, охраняемому тремя змеями, тремя орлами и тремя леопардами. Этот ребенок и станет избранником моего сердца… моим настоящим духовным наследником… Прощайте, дочки. Пусть, несмотря ни на что, Аллах благословит вас и обратит благосклонность солнца пустыни на ваши головы… Говоря эти слова, Саладин надел на шею Гелы, Гортензии и Елены по восхитительному изумрудному колье. Единственное различие этих украшений состояло в том, что самый крупный, центральный, изумруд одного был оправлен в кольца свернувшейся змеи, другого – в когти орла, а третьего – в пасть леопарда. Прибыв в военный лагерь трех королей, девушки отреклись от религии своего отца и после свадьбы, сыгранной в присутствии всех рыцарей в боевых доспехах, приняли религию своих мужей. Позже судьба разлучила дочерей Саладина. Старшая, Елена, последовала за своим супругом Раймондо Фарнелло и армией Фридриха Барбароссы. Как и германский император, князь Фарнелло вскоре утонул в Киликии, входившей в состав азиатской части Турции, на юго-востоке Анатолии. Его молодая жена, ожидавшая в тот момент ребенка, смогла добраться до Ломбардии; родственники князя Фарнелло приняли невестку очень сдержанно. Впрочем, у нее имелись все доказательства законности брака. Как только Елена родила сына, наследовавшего имя Фарнелло, родственники приняли ее окончательно. Однако бедная Елена не смогла забыть ни обожаемого ею Раймондо, ни песков дорогой ее сердцу пустыни и вскоре зачахла в суровой ломбардской башне. Своему сыну, князю Раймондо II, оставшемуся сиротой с колыбели, она оставила в наследство колье с пастью леопарда. Драгоценность сохранялась в семье Фарнелло, которая поспешила забыть Елену. Гела, средняя дочь султана, вышла замуж за Вильяма Витклифа и последовала за мужем и Ричардом Львиное Сердце на Кипр. Во время попытки английского короля завладеть островом рыцарь Витклиф был убит при осаде с моря. Гела, также ожидавшая ребенка, сумела добраться до Франции. Ценой неимоверных трудностей ей удалось встретиться с любимой сестрой Гортензией, ставшей женой Юга де Сен-Савена. Измученная лишениями и невзгодами, бедная Гела по приезде в Валь-де-Луар родила мертвого ребенка, девочку по имени Генриетта. Свое колье Гела положила в гробик дочери, а сама с помощью сестры и ее мужа вступила в монастырь Сен-Савен, где со временем стала аббатисой. Духовный свет, исходивший от нее, был так ярок, что церковь поговаривала о ее канонизации. И если замысел этот не осуществился, то скорее всего из-за ее мусульманского происхождения. Гела умерла в возрасте ста лет, никогда не забывая своего отца и ни дня не пропустив, чтобы удалиться в глубь монастырского парка и помолиться у могилы своей маленькой Генриетты. Младшая из трех сестер, Гортензия, без всяких затруднений вернулась в Валь-де-Луар вместе с мужем Югом де Сен-Савеном. Он был сиротой и единственным наследником своей семьи. Ему не пришлось давать отчет в своих поступках никому, кроме короля, а король Филипп-Август совершенно не возражал против этого союза. Молодые супруги жили счастливо в башне Сен-Савен до тех пор, пока двоюродный брат Юга, граф Бельяр, не позавидовал их любви. Низкий и завистливый человек, Бельяр не мог выносить, когда кто-то другой счастлив. Неоднократно он обращался к Гортензии с пылкими объяснениями, но она отвергла его. Что же произошло дальше? В один прекрасный день четверо крестьян принесли безжизненное тело Юга, смертельно раненного кабаном во время охоты, на которую несчастный молодой граф отправился вместе с Бельяром. Положив обе руки на живот своей молодой жены, Юг собрал последние силы и сказал: «Это он, Бельяр… он меня убил… Спасайся…» Обезумев от горя, Гортензия кинулась под защиту своей сестры, аббатисы Гелы. Она умерла при родах в монастыре, дав жизнь маленькому Югу II де Сен-Савену, которому и досталось в наследство последнее изумрудное колье со змеиной головой. Аббатиса Гела похоронила Юга и Гортензию рядом с маленькой Генриеттой. Их сердца она распорядилась поместить в две погребальные урны, а урны замуровать в часовне в глубине парка. Там, где находились урны, была сделана надпись, которую Зефирина когда-то обнаружила благодаря мамаше Крапот: «Юг и Гортензия де Сен-Савен. Их тела и сердца соединились при жизни. Вместе они останутся и после смерти. 1170–1190». Предкам Зефирины было по двадцать лет. Прошли годы. Юг II де Сен-Савен, дитя любви рыцаря-христианина и дочери Саладина, создал собственную семью. Изумрудное колье бедной Гортензии стало драгоценностью, которую старшие сыновья дарили в день свадьбы своим женам. Мало-помалу они стали забывать его происхождение. Было известно, что внутри имеется какая-то таинственная пластинка. Дамы, входившие в семью Сен-Савен относились к ожерелью как к амулету, как к талисману, приносящему счастье, тем более, что на протяжении веков состояние и могущество графов де Сен-Савен только увеличивалось. Один из потомков этой семьи, по имени Эркюль, был соратником Жанны д'Арк, затем фаворитом Карла VII, а его сын Анри, дед Зефирины по материнской линии, пользовался полным доверием своего короля Карла VIII. Доверие это было столь глубоким; что король послал его в Бретань за маленькой герцогиней Анной, герцогиней в сабо, ставшей впоследствии королевой Франции…»* * *
Дойдя до этого места в рассказе, Каролюс сделал паузу. Фульвио и Зефирина больше не испытывали страха перед ним и развязали ему руки и ноги. С некоторого момента донья Гермина как будто задремала. После того как она накричалась, Каролюс напоил ее какой-то тягучей жидкостью. Мерзкое существо затихло сразу, точно по волшебству. С блаженной улыбкой на ярко-красных губах донья Гермина грезила, словно поверженный ангел. Каролюс возобновил рассказ. Зефирина затаила дыхание. Она чувствовала, что карлик подходит к развязке…Глава XXXV ТАЙНА ДОНЬИ ГЕРМИНЫ
«Однажды, во время своего путешествия в Бретань, Анри де Сен-Савен наткнулся в Броселиандском лесу на девушку, почти ребенка, и притом диковатую, по имени Сармор. Ее красота и ум могли сравниться только с двумя другими присущими ей исключительными свойствами: она обладала даром целительницы и даром прорицательницы. При помощи таинственных трав Сармор вылечила колено Анри, которое он сильно поранил на одном из турниров. Влюбившись без памяти в бретонку-колдунью, Сен-Савен представил ее герцогине Анне. Герцогиня согласилась взять девушку к себе на службу кастеляншей. После этого влюбленные прибыли в Валь-де-Луар. Герцогиня Анна вышла замуж за Карла VIII, но ее кастелянша никак не желала подчиняться придворному протоколу. Вечно босоногая, Сармор продолжала бегать по лугам и лесам в поисках таинственных трав. Вот так и случилось, что однажды в лесу она встретила герцога Людовика Орлеанского, решившего отдохнуть под персиковым деревом. Из-за своего несчастного брака с Жанной, уродливой дочерью Людовика XI, герцог Орлеанский без конца обращался к прорицателям и магам, пытаясь узнать свою судьбу. Глядя на воду, натекавшую из родника, куда она бросила ветку тимьяна, Сармор сообщила ему: – Став королем под номером XII, ты женишься на королеве Франции. – Королеве Анне? – воскликнул Людовик. – Король Карл VIII скоро умрет, ты женишься на его вдове, королеве Анне, – повторила Сармор. – Благодаря тебе Бретань останется за Францией. – Но моя жена… Жанна… – пролепетал Людовик. – Ты разведешься с ней… Совершенно потрясенный, Людовик Орлеанский не смог удержать язык за зубами. Он рассказал о странной кастелянше своей кузине, фрейлине королевы, а та, в свою очередь, сообщила новость Анне Бретонской. Королева, тайно любившая Людовика Орлеанского, боялась провидческого дара Сармор. При дворе уже начали шептаться о «бретонской колдунье». Королева попросила графа де Сен-Савена увезти подальше свою любовницу. Анри поселил Сармор в маленьком, но комфортабельном доме городка Сен-Савен, равноудаленном как от монастыря, так и от родового замка. В этом доме Сармор родила дочь, названную Генриеттой. Отец признал ее и даже дал ей право носить фамилию Сен-Савен, не без частицы «де». Однако вскоре ветреный Анри начал уставать от бедняжки Сармор и подумывать о выгодном браке с красавицей Марией-Зефириной де Отон. Пытаясь вернуть себе обожаемого любовника, несчастная Сармор без конца готовила какие-то приворотные зелья и травяные настои, пила их, а по ночам танцевала при лунном свете. Но, увы, все было напрасно. Влюбленная Сармор утратила весь свой дар. В день свадьбы Анри и Марии-Зефирины, в тот самый момент, когда граф вручал жене фамильное изумрудное колье, несчастная Сармор, возможно отравившись своими зельями, произвела на свет странное дитя, то ли девочку, то ли мальчика, никто так и не понял. «Дьявольское отродье!» – прошептал кюре, который пришел крестить ребенка и с изумлением взирал на слишком большую голову и горб новорожденного. Не желавшая мириться с правдой, Сармор решила назвать сына Шарль-Анри. Питая отвращение к уродцу, не имевшему определенного пола, граф де Сен-Савен не пожелал его признать. Он решительно отказывался видеть в нем мальчика и из чистой насмешки называл Генриетта II. Графиня Мария-Зефирина де Сен-Савен родила графу дочь невиданной красоты, Коризанду. С легкомыслием и недальновидностью, присущими знатному синьору той эпохи, граф Анри часто приводил поиграть свою незаконнорожденную дочь Генриетту в замок. Он любил это угрюмое и умное дитя и предлагал его в качестве подружки своей малышке Коризанде. И что могла думать Генриетта, дочь брошенной отцом женщины, видя роскошь в которой жила Коризанда? Коризанда была добра к своей старшей сестре, но душа Генриетты ожесточалась с каждым днем при виде страданий Сармор и несправедливости, с которой был отстранен Шарль-Анри – Генриетта II. Именно в те времена Генриетта стала называть свою «сестру-брата» не Генриеттой II, не Шарлем-Анри, а Каролюсом. А меж тем Каролюс почти не рос. Зато у него был веселый нрав, к тому же он безгранично обожал свою сестру Генриетту. Истерзанная горем, тосковавшая по своему Броселиандскому лесу, которого ей ни за что не следовало покидать, Сармор умерла так же, как и жила, с босыми ногами при лунном свете. Колдунью похоронили ночью, а граф Сен-Савен был вынужден забрать обоих детей в замок. Графиня Мария-Зефирина громко закричала, увидев карлицу-карлика и приказала мужу убрать с глаз ее этих бастардов. Тогда граф Анри отвез детей в монастырь Сен-Савен, в тот самый, где два века назад жила Гела и куда пятнадцать лет спустя отправилась учиться Зефирина. Генриетте было десять лет, Шарлю-Анри – восемь, как и Коризанде. Граф решил, что Генриетта пострижется в монахини. Она и стала сначала монахиней, а потом аббатисой. Судьбой Каролюса никто не обеспокоился. Красавица Коризанда часто приходила в монастырь повидаться с сестрой, которую нежно любила. Догадалась ли она, кем был Каролюс? Во всяком случае, никто никогда не слышал от Коризанды, даже почтенная Пелажи, ни слова, позволявшего думать, что она что-то знает об узах их родства. Однажды Каролюс, которому маленький рост позволял пролезть всюду, копаясь за обвалившейся монастырской стеной, обнаружил в гробу с останками младенца Гелы, наполовину торчавшим из земли, изумрудное колье. Каролюс, которому в то время исполнилось шестнадцать, хотя выглядел он пятилетним, притащил колье, словно забавную игрушку, своей сестре Генриетте. Она сначала подумала, что это то фамильное колье, которое ее отец подарил своей жене, ненавистной Марии-Зефирине. Внимательно разглядывая драгоценность, Генриетта, однако, заметила разницу. Выковырнув ногтем центральный изумруд, она нашла первую металлическую пластинку. На одной стороне пластинки были выгравированы сцепленные один с другим круги, пронзенные факелом. На другой стороне можно было прочесть надпись на латинском языке:«Правитель с болью в душе стоит у стены городской,
Преданный дочерьми ради замужества.
За златом и серебром Саладина, зарытым под грудой
Песка, смущенный наследник отправится».
«Через море, бурный океан,
Страшась язычника с сердцем из треснувшей бронзы.
Рядом с мудрым братом огонь и солнце подадут
Весть о (3451:10)хЗ, земля сарацинская страшится варварского железа…»
* * *
Все еще под сильным впечатлением признаний Каролюса, молодые люди покинули свой горный домик. Зефирине надо было спешить. Малыши, оставшиеся в замке, ждали, чтобы мать накормила их. Фульвио отдал распоряжения сицилийцам, охранявшим дом. Садясь на лошадь, он бросил озабоченный взгляд на вершину Этны. Дымок над кратером больше не вился. Зефирина заметила, что ей легче дышится. – А ты что скажешь, Джакомо? – спросил князь. Прошлой ночью, далекий от «развлечений» с Бигалло, в которых его подозревала Зефирина, князь вместе с Джакомо поднялся на вулкан до самого кратера. Он хотел собственными глазами увидеть, как велика опасность. За пятнадцать веков христианской эпохи Этна взрывалась сто сорок раз. Самые сильные извержения, однако, произошли до рождества Христова, в 475 и 396 годах. На вопрос князя маффиозо лишь покачал головой: – Трудно сказать, монсеньор, он ведь ужасный хитрец… но «Большая Пасть»[95], похоже, уснула… Зефирина отметила про себя, что Джакомо говорит об Этне как о живом существе. Однако сосредоточиться на этих мыслях ока не успела. В эту самую минуту на поляну на бешеном скаку влетели два всадника. Это были Паоло и Ла Дусер. Оба в один голос крикнули: – Тревога!..Глава XXXVI СОКРОВИЩЕ САЛАДИНА
Воспользовавшись отсутствием княжеской четы, около сотни испанцев совершили внезапную высадку на берег, чтобы напасть на замок. Предвидя такую возможность, Фульвио распорядился врыть в песок с внешней стороны крепостных укреплений толстые бревна и выкопать ямы-ловушки, замаскировав их сетями, в которых испанцы должны были запутаться вместе со своим оружием. Пикколо и его люди прекрасно справлялись с обороной замка. С помощью бомбард защитники сразу же отбросили испанцев к их кораблям. Именно в этот момент возвратившиеся Фульвио и Зефирина на полном скаку пронеслись по подъемному мосту, который вслед за этим был немедленно поднят. – Боже праведный, неужто нам никогда не будет покоя! – прошепелявила Плюш. – Моя маленькая Зефи, от такой гонки у вас будет не молоко, а взбитое масло! Пока Плюш громко возмущалась, в чем ее энергично поддержал Гро Леон, пока вокруг раздавались крики, распоряжения, выстрелы аркебуз, пушек и других орудий, Зефирина кормила детей. Весь этот шум и грохот ничуть не уменьшил аппетита ее милых крошек. Луиджи оказался намного прожорливее своей сестры, ну просто дикарь, родившийся к тому же с одним зубом. Пока он яростно терзал грудь, Зефирина нежно поглаживала красное пятнышко за его ухом. У Коризанды тоже было такое же малюсенькое пятно, только на затылке. «Звезда Саладина…» – подумала Зефирина, дав себе слово рассказать об этом Фульвио. Закончив кормление, она положила Луиджи в колыбель, украшенную короной, а Коризанду в корзину оставив их под присмотром бдительной мадемуазель Плюш, она вышла из спальни и направилась к Фульвио, который с другими людьми находился на крепостной стене. Испанцы исчезли с горизонта. – Они обязательно повторят атаку, но только теперь уже с суши… У нас есть немного времени, чтобы подготовиться. Ты немедленно отправишься в Катанью и зафрахтуешь большегрузный корабль, на котором ты, дети и домочадцы отплывете на Мальту. Там вы будете под защитой моего кузена, шевалье де Родоса. – А потом? Придется плыть в Аравию, пересечь Африку, вдоль берегов которой проплыл мессир Васко да Гама, – энергично запротестовала Зефирина, – затем тащиться до мыса Бурь[96]… Маловато для меня, господин супруг мой, если вы ищете способ стать снова холостяком! Об отъезде не может быть речи. Мы остаемся с тобой, Фульвио… – Невыносимая Зефирина, – прошептал Фульвио с нежностью. – Будь же хоть раз благоразумной… – А ты сам? Очень ли ты благоразумен, бросая вызов Карлу V? Нет, Фульвио, мы будем жить с тобой или умрем все вместе. Как она переменилась, маленькая Саламандра! Она стала настоящей женщиной, рассуждает с редким благородством и как жена, и как мать, и как княгиня. Взволнованный Фульвио больше не возражал. У него было много случаев убедиться, как трудно, чтобы не сказать невозможно, заставить Зефирину изменить свое мнение. В замке, приведенном в боевую готовность, Фульвио распорядился приготовить зажигательную смесь для греческого огня. На всякий случай за решетками подземелья, доходящего до выступающих из воды скал, были припрятаны шлюпки и рыбацкие лодочки. Паоло и Ла Дусер получили приказ как можно быстрее добраться до Катаньи и предупредить Марию Соленара и других членов маффии обо всем, что произошло. Фульвио раздумывал над тем, надо ли перевезти пленников из домика на Этне в замок. По зрелом размышлении он все же предпочел оставить Сан-Сальвадор и Каролюса вдали от тревожных событий, которыми донья. Гермина могла воспользоваться, чтобы сбежать. Для большей безопасности Фульвио послал нескольких сицилийцев с провиантом и одеждой, обещанных Каролюсу, и для дополнительной помощи Джакомо в его нелегкой задаче стража пленников. После этого наступило долгое ожидание. Спустилась ночь. Испанцы Карла V, по всей вероятности, собрались в Таормине. Паоло и Ла Дусер вернулись с хорошими новостями: маффиози Марии Соленара, узнав о случившемся, явились из маки в замок. По мере того, как ряды защитников пополнялись, возвращалась надежда. «Ну, теперь-то мы покажем этому, Карлу V…» Яркие факелы горели вдоль крепостной стены. Защитникам замка разносили еду и подогретое вино, приправленное корицей. Мужчины, аккомпанируя себе на цитре, напевали сицилийские песни. Проведя смотр своего войска, Фульвио и Зефирина вернулись в замок и уединились в гостиной первого этажа. – Поднимись к себе и ложись спать, – посоветовал Фульвио. – Ночь будет долгой. – Нет, не сейчас, – сказала Зефирина, хотя чувствовала себя очень усталой. – Знаешь, чего мне хочется… Говоря это, она взглянула на него своими необыкновенными зелеными глазами, в которых горело любопытство. Фульвио покачал головой. – Посмотреть эти три пластинки! – прошептала она с видом азартного игрока. При свете канделябра, склонившись над столом из черного дерева, они разложили таинственные талисманы. Их лиловатый металл мерцал каким-то странным светом. Фульвио загасил все свечи. Металл светился. Не испытывая необходимости в дополнительном освещении, они попробовали приложить пластинки одну к другой, но было ясно, что здесь возможны несколько комбинаций. После многочисленных попыток, всякий раз менявших весь рисунок, Фульвио и Зефирина решили поставить на первое место ту, где изображены три треугольника, наложенных друг на друга по черепичному принципу и пронизанных стрелой. Второй была пластинка с тремя кругами и проходящими сквозь них факелами. Последней была поставлена пластинка с тремя прямоугольниками, пронзенными копьем. При таком расположении пластинок текст на обороте гласил:«Леопард утомленный в небо свой взор устремляет.
Рядом с солнцем видит орла, тешащегося со змеей.
Правитель с болью в душе стоит у стены городской,
Преданный дочерьми, сбежавшими ради замужества.
За златом и серебром Саладина, зарытым под грудой
Песка, смущенный наследник отправится
Через море, бурный океан,
Страшась язычника с сердцем, из треснувшей бронзы,
Рядом с мудрым братом огонь и солнце подадут
Весть о (3451:10)хЗ, земля сарацинская страшится
Варварского железа…»
«Через море, бурный океан,
Рядом с мудрым братом огонь и солнце подадут…»
Глава XXXVII ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕЛИКАНА
– К оружию! Крик дозорного прозвучал в 5 часов утра. Фульвио и Зефирина так и не раздевались этой ночью. Они тут же устремились к крепостной стене. Со стороны Таормины к замку подползала извивающаяся змея вражеского войска, сверкая металлом доспехов под лучами встававшего солнца. Поблескивая касками и латами, шли испанские гарнизоны, переброшенные сюда через Мессинский пролив, чтобы наказать мятежного князя. – Черт побери, монсеньор, да их тут больше двух тысяч, этих рогоносцев, – оценил ситуацию в свойственной ему манере Ла Дусер. – Карл V обстоятельно готовит всякое дело. Он насылает на нас всю иберийскую Сицилию, – признал Фульвио. – Сколько нас здесь, Паоло? – Вместе с только что прибывшими людьми маффии чуть меньше двухсот, монсеньор, – спокойно ответил оруженосец. Фульвио не мог скрыть тревоги, промелькнувшей на его лице. Со времени обороны Борго он, как никто, знал, что в битве, где один сражается против десяти, силы противников слишком неравны. Но, как бы там ни было, в настоящий момент испанцы, похоже, не собирались начинать атаку. Не сделав ни единого выстрела, они расположились полукругом на почтительном расстоянии от замка Фарнелло. Со стороны моря то же самое сделали три испанских галиота, остановившись в четырехстах морских саженях от берега. Бортовые пушки были нацелены прямо на крепостные стены и исключали всякий побег из замка морем. Таким образом обитатели замка оказывались осажденными. Фульвио прижал к груди Зефирину. Как жалел он в эту минуту, что послушался своей неосторожной Саламандры. – Смотри, – сказала Зефирина. От войска отделился всадник. В руках у него был белый флажок. – Не стреляйте! – приказал Фульвио. Испанец галопом примчался к калитке в крепостной стене. Не замедляя шага лошади, он забросил на укрепление свернутый в трубку пергамент с привязанным к нему камнем и тут же умчался обратно. Это был ультиматум: «Если в полдень князь Фарнелло не сдастся на милость императора, с суши и с моря начнется беспощадная атака. Но, если князь подчинится, он должен будет выйти из замка один по подвесному мосту в рубашке и с веревкой на шее, как раскаявшийся преступник, чтобы затем отбыть под охраной в Испанию и предстать перед судом императора. Милость Карла V простирается до того, что княгине Фарнелло и ее детям будет предоставлена свобода под надзором…» – Я иду… – заявил Фульвио. – Если ты это сделаешь, то после твоего ухода я вместе с детьми брошусь в море, – пригрозила Зефирина. – Княгиня права, монсеньор, – осмелился возразить Паоло. – Если Карлу V кто и нужен, так это только вы, ваша светлость. Как только его капитаны возьмут вас в плен, ничто не помешает этим псам изрубить нас всех на куски, включая княгиню и детей. Вспомните Рим, монсеньор… – Да, монсеньор, давайте лучше сражаться, – поддержали маффиози, явившиеся, чтобы дать отпор испанцу. – Мария Соленара подошлет нам еще подкрепление… – И это станет одновременно началом большого восстания… – Вся Сицилия поднимется… – Сразимся, Фульвио… Может быть, Лотрек и французы придут нам на помощь. Надо держаться, Фульвио, – молила Зефирина. – Ур-ра княгине! Фульвио вынужден был согласиться с мнением подавляющего большинства. – Ну, тогда, друзья мои, _ сказал Леопард, – нам следует подготовиться… Зефирина навсегда запомнит то раннее утро, показавшееся ей самым коротким и, одновременно, самым долгим в жизни. Пока Фульвио организовывал оборону, она помчалась с крепостной стены в башню, чтобы покормить детей. Луиджи и Коризанда как будто чувствовали царившее вокруг беспокойство. Обычно такие мирные близнецы, сейчас вовсю надрывались, стараясь перекричать друг друга и без конца требовали материнскую грудь. За четверть часа до полудня Зефирина, оставив детей с Плюш, Эмилией, Карлоттой и Гро Леоном, поднялась на зубчатую крепостную стену замка, чтобы присоединиться к Фульвио и другим защитникам. Поверх юбки в сборку она надела мужской камзол, а под него кольчугу тонкого плетения. Свои золотые волосы она спрятала под шлемом. В тревожной тишине, наступившей перед роковым часом, капеллан благословил всех осажденных, преклонивших перед ним колени. Встав с колен, Фульвио и Зефирина обменялись долгим поцелуем, соленым от морских брызг. Колокол пробил двенадцать ударов. Подъемный мост замка так и не опустился, чтобы выпустить раскаявшегося преступника! Приведя в движение тараны, катапульты и бомбарды, испанская армия ринулась к замку. На море корабли стали приближаться к стенам нависающего над морем замка. Открылись бортовые люки, и оттуда показались орудийные стволы. Зефирина закрыла глаза. Бессознательным движением руки она коснулась медальона, который Фульвио надел ей на шею. «Милосердный Боже, защити нас… Саладин, помоги нам… Нострадамус, друг мой, не забывайте о нас…» – молила Зефирина. Трагическая тишина наполняла атмосферу. Будто в ответ на молитву Зефирины все услышали неслыханную по мощи канонаду. Грохот взрыва был так силен, что Зефирину отшвырнуло к бойнице, выходящей на внутреннюю круговую дорогу вдоль крепостной стены. Почти сбитая с ног этим взрывом, она успела подумать: «Испанцы взорвали дверь в крепостной стене…» Удивленная тем, что еще жива, она открыла глаза, с трудом поднялась и в облаке дыма увидела Фульвио и его людей. Они тоже вставали, пошатываясь. А за стенами замка слышались крики. – Огонь… огонь… От едкого дыма Зефирина закашлялась. Все вокруг нее бегали, звали друг друга, кричали, смотрели на небо. Она задыхалась, отплевывалась, шаталась. Наконец подошла к зубцу стены, защищавшей замок со стороны суши. Зрелище, представшее ее глазам, было завораживающим. Два жерла центрального кратера Этны изрыгали горящую лаву и тучи пепла с головокружительной высоты в двадцать пять – тридцать тысяч футов, и все это затем стекало по склонам горы. – Мой вулкан спасает нас… – прокричал Фульвио. Он подбежал к Зефирине. Чудовищный грохот вулкана привел в ужас испанцев. Они удирали как кролики. Побросав свои аркебузы, солдаты бежали в сторону Мессины. Некоторые из них бросались в море, чтобы вплавь добраться до кораблей. Даже не пытаясь спасать своих соотечественников, капитаны кораблей отдали приказ поднять паруса. Всадники уносились в бешеном галопе, сшибая на своем пути пеших. Расплавленная лава, эта страшная пламенеющая магма, стремительно катилась по склонам, сметая все на своем пути, покрывая луга, заливая ручьи, сжигая лес. – Каролюс… Донья Гермина… Несмотря на ненависть, которую Зефирина питала к мачехе, она не могла не ужаснуться при мысли о том, что той грозит участь быть заживо сожженной лавой. Фульвио протянул руку. В трех тысячах футов от замка он указал на то место, где находился построенный им домик. Скоро все склоны горы будут покрыты лавой. – Слишком поздно, чтобы послать им помощь. Мы уже ничего не сможем сделать для них, но Джакомо знает Этну лучше, чем кто-нибудь другой… Пойдем, Зефирина… Фульвио оторвал Зефирину от стены. Он крикнул, желая перекрыть общий шум: – За тысячу лет лава только раз доходила сюда, до самого моря… Зефирина хотела верить, что второго раза не будет. Направляясь бегом к замку, Фульвио протянул жене платок, чтобы она прикрыла лицо. Сыпавшийся отовсюду горячий пепел проникал в горло, в нос, обжигал глаза и волосы. – Всем в лодки! – кричали сицилийцы. – Дети! – закричала Зефирина, ничего не видя в вихре летящего пепла. – Беги за ними… Лава, кажется, очень густая, понадобится по крайней мере полчаса, чтобы магма добралась сюда. Ла Дусер, проводи княгиню. Я спущусь в подземелье, чтобы подготовить уход и предотвратить панику. Зефирина, не теряй времени… Она увидела, как после этих слов Фульвио бегом пересек засыпанный пеплом двор. Кашляя под платком и сплевывая какую-то сернистую грязь, Зефирина не решилась подняться по центральной лестнице и предпочла на четвереньках вскарабкаться по лестнице для слуг прямо в свои апартаменты. Едкий дым проник во все уголки, в то время как клокотание вулкана продолжало сотрясать замок. – Поторопимся, моя маленькая Зефи… мне что-то совсем не по нраву вся эта чертовщина! – пробубнил Ла Дусер. Но Зефирина и без того пулей влетела к себе в спальню. Там никого не было. Обе колыбели были пусты. Гро Леон и тот дезертировал со своей жердочки. «Плюш, наверное, спустилась с детьми по большой лестнице», – подумала Зефирина. Ла Дусер торопился, не отступая от нее ни на шаг, а она неслась по парадной лестнице, перепрыгивая через несколько ступеней и крича: – Плюш… дети… Внизу, в вестибюле, она наткнулась на Карлотту. Насмерть перепуганная девушка держала одного из малышей в руках. – Спасибо, Карлотта. Не зная, кто именно из детей оказался у нее, Зефирина схватила и прижала к себе ребенка. Задыхаясь от дыма, она спросила молодую итальянку: – Где Плюш? – Пошла искать вас, мадам! – Со вторым малышом? – Да, она спускалась впереди меня, и я больше не видела ее. Она, наверное, в подземелье… – Давай накроемся чем-нибудь… Зефирина подняла верхнюю юбку, накрыв ею свою голову и младенца. Заглянув в сверток и заметив выбившиеся из-под чепчика золотые волосенки, она поняла, что в руках у нее Коризанда. Карлотта последовала за своей хозяйкой. Ла Дусер снял с себя камзол и накрыл им свою голову. Откуда-то появился Пикколо с лицом, накрытым простыней. Он толкал перед собой перепуганных поварят. – Ты видел Плюш с Луиджи? – крикнула Зефирина. – В замке больше никого нет, все в подземном туннеле. Идемте скорее, княгиня… Он протянул ей руку. Успокоенная Зефирина побежала вместе с Пикколо, Ла Дусером и Карлоттой к галерее, которая вела от укрепления к морю. Пробегая через двор перед парадным подъездом, она заметила плывшее в небе пылающее облачко. Вырывавшиеся из кратера огненные снопы становились все мощнее. Волны лавы хлестали из взбесившейся Этны. Страшная магма уже прокатилась по домику их любви. Крепко прижимая ребенка, Зефирина бросилась вместе со своими спутниками в спасительный туннель. Внутри туннеля чуть-чуть легче дышалось. Фульвио и Паоло собрали там всех обитателей замка. – Плюш, где Плюш? – кричала Зефирина. – Может быть, там… Слуги расступались, давая пройти Зефирине с ребенком. Они указали ей на ступени, ведущие в ангар с лодками, выходящий прямо на море. Приходя все больше в отчаяние оттого, что нигде не находит Артемизу Плюш, Зефирина устремилась к Фульвио. Он был занят тем, что помогал усаживать в лодку очередную группу спасаемых. Как только лодка заполнилась, крепкие парни вытолкнули ее из тоннеля в море, а Фульвио крикнул им вдогонку: – Отплывайте от берега как можно быстрее. Плывите прямо в открытое море и не возвращайтесь… Мужчины в лодке тут же налегли на весла и устремились прочь, напуганные «огнем Господним». – Фульвио, ты видел Плюш и Луиджи? – закричала Зефирина. – Нет… Приходилось признать очевидное. Никто не знал, где находится дуэнья и наследник. На какой-то миг затеплилась надежда, когда появилась Эмилия и спасенный ею Гро Леон. Крылья птицы отяжелели от пепла, и она не могла летать. Эмилия лишь подтвердила слова Карлотты. Карлотта с Коризандой следовала за мадемуазель Плюш, которая спускалась с Луиджи по парадной лестнице как раз в тот момент, когда Зефирина и Ла Дусер карабкались по черной лестнице. И с тех пор ни дуэнью, ни ребенка никто не видел. Зефирина в отчаянии заламывала руки. – Они задохнулись… наш сын… Луиджи… – Успокойся, они, должно быть, где-то в замке, я пойду и приведу их. Паоло, замени меня и займись погрузкой, – приказал Фульвио. Затем строго сказал Зефирине: – Садись немедленно в эту лодку, я сейчас вернусь… – Нет, я буду ждать тебя… – крикнула молодая женщина, рыдая. – Паоло, если я не вернусь через пять минут, отплываешь сам и забираешь с собой княгиню, если потребуется, даже силой! Я приказываю тебе уехать вместе с ними! – Хорошо, ваша светлость, – спокойно ответил оруженосец. – Я иду с вами, монсеньор, – сказал Ла Дусер. – Я тоже, – повторил Пикколо. – Нет, ты остаешься с моей женой и ребенком, – распорядился Фульвио. С этими словами он коснулся своей узкой ладонью лба Зефирины, затем лобика малышки. После этого, сопровождаемый Ла Дусером, он побежал к выходу из подземелья, и исчез в дыму.* * *
– Пять минут давно уже истекли, пора ехать, княгиня, – сказал Паоло. – Нет еще, – взмолилась Зефирина. Прижав к груди малышку Коризанду, Зефирина все еще надеялась дождаться возвращения Фульвио и Ла Дусера вместе с Плюш и Луиджи. Почти все обитатели замка были погружены в лодки и находились уже далеко в море. Вместе с Зефириной и малышкой оставались Паоло, Пикколо, Эмилия, Карлотта, Гро Леон и несколько маффиози, чьи грубые, обветренные лица были знакомы Зефирине. У выхода из туннеля море бурлило и ударяло об решетку короткими, нервными волнами. Порывы ветра пытались утихомирить море. Сверху густо сыпал пепел. Набросив платок на лицо, Паоло вышел наружу, чтобы посмотреть, что происходит. Он вернулся с испачканным лицом и почерневшими волосами. – Магма от нас на расстоянии всего одного лье. Еще немного, и будет поздно. Пора садиться в лодку, княгиня, – настаивал оруженосец. – Смотрите, вон Ла Дусер! – закричала Зефирина. Едва держась на ногах, великан Ла Дусер появился в верхней части туннеля. В руках он нес бездыханную Плюш. – А Луиджи… Фульвио?.. – ужаснулась Зефирина. Ла Дусер в отчаянии качнул головой: – Не знаю, мы там разошлись. Наверху настоящий ад. Гора выплевывает раскаленные камни, башня замка в огне. Я нашел мадемуазель Плюш в каком-то чулане, без сознания. – Мой муж… мой ребенок… Зефирина рванулась было к выходу. Паоло и Пикколо общими усилиями едва остановили ее. Теперь уже силой они отнесли ее в лодку. Мадемуазель Плюш, которую Ла Дусер уложил на дно лодки, тихо стонала. – Луиджи… – Где он, Плюш? – кричала Зефирина, в то время как мужчины выталкивали лодку из туннеля в море. – Я спускалась с малышом по лестнице… какой-то мужчина… мне показалось, что это Бизантен, вырвал у меня Луиджи и сильно ударил меня… Из груди Зефирины вырвался вопль смертельно раненного животного. Слепо преданный донье Гермине и оставшийся на свободе Бизантен похитил ее ребенка. Но почему? Для кого? Чтобы отдать его этой мерзкой женщине, если ее не сожгла магма? Или чтобы приподнести если не отца, князя Фарнелло, то его сына этому кровопийце всей Европы, Карлу V?.. Лицо Паоло исказилось страдальческой гримасой. Он бросил последний взгляд на единственную оставшуюся в ангаре лодку. С помощью Пикколо и Ла Дусера он поднял ее на воду, поставив всего на один легко поднимаемый якорь. Пикколо и Ла Дусер подняли на борт последних беглецов. – Отъезжайте скорее, торопитесь! – заорал Паоло. Он рывком вытолкнул лодку, войдя по пояс в воду. Сидящие в лодке хотели помочь ему тоже взобраться. Но в последний миг, нарушив приказ князя, Паоло остался на берегу. Слишком отрешенная в своем горе, чтобы сопротивляться этому поспешному отплытию, Зефирина почувствовала, что головы ее коснулось горячее дыхание смешанного с пеплом воздуха. Как и все остальные в лодке, защищаясь от горячего пепла, она прикрыла свое лицо и личико Коризанды смоченными в морской воде тряпками. Пылавшая огнем земля с каждым ударом весел отдалялась. Четверо маффиози изо всех сил налегали на весла, стараясь вырваться из ада до начала сильного прилива, неизбежного, как только магма достигнет воды. Подняв глаза, Зефирина посмотрела на удалявшийся берег, и тут ей показалось, что она видит в зияющем отверстии туннеля движущийся мужской силуэт. «Паоло или князь?» – Фульвио! Луиджи! – страшно закричала Зефирина. Она так опасно наклонилась над бортом лодки, что Ла Дусер схватил ее за талию. – Ну-ну, моя маленькая, будьте же благоразумны… «Быть благоразумной, что, собственно, это означает?» – Фульвио… Луиджи…. – без конца повторяла Зефирина, рыдая. Голос ее, однако, терялся в грохоте чудовищных взрывов Этны.* * *
Наступила ночь. После долгой борьбы с болтанкой и дождем из пепла лодка взяла курс на юг. Несмотря на все попытки Ла Дусера приободрить ее, Зефирина по-прежнему пребывала в состоянии полного отупения. Впрочем, в состоянии прострации находилась не только она. Катастрофа так подействовала на всех, что выжившие никак не могли поверить в свое спасение. Позади, у линии горизонта, огненная вершина вулкана, точно огромное красное солнце, освещала черные волны. Измученные качкой, промокшие, обгоревшие, обессиленные спасенные начали понемногу шевелиться, разминать одеревеневшие руки и ноги и разговаривать друг с другом. – Куда же это мы, тысяча чертей, движемся? – озадаченно поинтересовался Ла Дусер. – Согласно направлению ветра, то есть прямиком на Мальту, – ответил Пикколо. Даже не улыбнувшись на нелепый вопрос, Пикколо обернулся к Зефирине и спросил: – Не надо ли вам чего-нибудь, княгиня? Зефирина не ответила. «Могли ли у нее быть какие-то желания?!» Все, чего она сейчас желала, это чтобы ее оставили в покое и дали умереть от одиночества, холода и отчаяния. Она свернулась клубочком на дне лодки и тут вдруг почувствовала маленькую ручку, шлепавшую по ее груди. «Боже мой, Коризанда, ее дитя, о котором она забыла и, убегая, так прижала к груди, что едва не задушила…» Маленький лягушонок хотел есть и рассерженно попискивал. – Мадам, вы должны подумать о своем ребенке, – сказала Плюш. Устыдившись, Зефирина при помощи Карлотты стащила с себя холодившую тело кольчугу, расстегнула корсаж и стала кормить изголодавшегося ребенка. Пока малышка жадно сосала грудь, Зефирина гладила ее золотистую головку. Пальцы ее рассеянно касались похожего на звездочку красного пятнышка на затылке. У девочки была такая же отметина, как и у ее брата-близнеца. – Луиджи… Фульвио… мой сын, мой муж… Зефирина с трудом подавила рыдания, которые снова подступили к горлу. Благодаря маленькой Коризанде она снова обретала мужество и пыталась отыскать луч надежды. «Недопустимо отчаиваться, – говорила она себе. – В конце концов, нет пока никаких свидетельств того, что они мертвы… Если только Луиджи похищен слугами доньи Гермины и Карла V, Зефирина обязательно отнимет его у похитителей. Теперь она верила Каролюсу. Может быть, если он не погиб, карлик поможет ей… А если Фульвио жив, она обязательно найдет свою любовь, даже если для этого придется обойти всю землю…» Над Средиземным морем дул теплый ветер сирокко. Он обогрел беглецов. Может быть, дующий из Африки ветер, тоже знак судьбы? Пальцы Зефирины коснулись висевшего на шее медальона. Талисман Саладина… – Я буду жить для тебя, дитя мое, моя доченька… – прошептала Зефирина. И она поцеловала своего маленького лягушонка в лобик. – В эту ночь я клянусь тебе, мы будем бороться ради единственного сокровища на земле, твоего отца и твоего брата…* * *
Назавтра Зефирина высадилась на Мальте и возобновила свою борьбу с Карлом V. Вдалеке красное солнце Этны начинало бледнеть. Все еще с мокрыми от слез глазами Зефирина во мраке ночи бросала вызов сицилийскому великану. Да, завтра все начнется снова…Жаклин Монсиньи Кровавая Роза
ПРОЛОГ ВЕЛИКИЙ МАГИСТР
Тяжелая посудина качалась под порывами ветра. Это было судно, напоминающее по своим размерам старинный средневековый корабль. На борту «Святой Маргариты» находилось сто десять человек экипажа и девятьсот пассажиров. На носу корабля, облокотившись о бортовые перила, одиноко стояла молодая женщина, и ее тонкий черный силуэт четко вырисовывался на фоне темно-синей глади пролива, окруженного кольцом золотистых скал. Освещенный весенним солнцем остров Мальта постепенно сливался с горизонтом. С мостика, находящегося на корме, капитан, бывший родосский рыцарь, с видимой легкостью руководил маневрами этого морского чудовища, водоизмещением в тысяча шестьсот тонн. – Отдать швартовы! Марсель! Подтянуть брамсель! Словно не слыша окружающего шума, треска парусов на четырех мачтах, рева запертого в трюме-стойле скота, восклицаний пассажиров, столпившихся на нижней палубе, мяуканья кошек, взятых на борт для охоты на крыс в трюмовых отсеках с зерном, ржания лошадей, уже начавших страдать от морской болезни в своих «конюшнях», приказов капитана, молодая женщина в черном, казалось, превратилась в скорбную статую. Единственным признаком жизни были тихие слезы на ее матовых щеках, катившиеся из глаз, способных соперничать своим изумрудным цветом с морской пучиной. Когда корабль вышел в открытое море, поднявшийся ветер, ледяной не по сезону, заставил ее зябко поежиться и накинуть на свои золотисто-рыжие волосы капюшон длинного плаща. – Улыбнись! Крошка! – каркнула большая черная птица и с фамильярностью близкого друга устроилась у нее на левом плече. Молодая женщина оторвала, наконец, свой горестный взгляд от земли. Подчинившись приказу птицы, она быстро утерла слезы, затем грациозно подобрала нижнюю юбку, всю в шуршащих фижмах, и собралась вернуться на «галерку», привилегированное место на судне, где на верхней задней палубе располагались роскошные каюты. Если бы в этот момент молодая женщина взглянула наверх, то увидела бы, как какой-то матрос с тонкими чертами лица сверлит ее взглядом. Держась за конец троса, он с легкостью добрался до середины мачты. Когда женщина поравнялась с ней, тяжелая бухта каната рухнула к ее ногам. – Эй, парень! Осторожнее! Ты мог ушибить ее светлость! – тут же раздался суровый голос. Матрос жестом извинился и словно обезьяна вскарабкался на ванты. – С вами все в порядке, сударыня? – с беспокойством осведомился офицер. – Да, мессир, – ответила молодая женщина. – Меня послал за вами его преосвященство! В сапогах, шляпе, в красной кирасе, украшенной белым крестом, офицер, молодой рыцарь из ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, склонился перед путешественницей. – Его преосвященство желает видеть меня сейчас? – удивилась та. – Если это не затруднит вашу светлость! – ответил рыцарь, на которого, судя по всему, красота собеседницы произвела большое впечатление. Чуть заметно поколебавшись, женщина легким движением освободилась от птицы. – Лета, Гро Леон! Захлопав крыльями, птица вспорхнула на верхушку мачты, где находился «неловкий матрос», и со всей силы прокаркала: – Simagrées! Sardanapale[97]! Рыцарь поднял к небу свое обветренное лицо и посмотрел на птицу-пересмешницу. – Эта забавная пичуга – ворон или сорока? – спросил он. – Нет, мессир, ни то, ни другое. Она из породы галок, но прежде всего, это друг, самый смелый и верный друг, – ответила молодая женщина и добавила: – Я готова следовать за вами, мессир. Если иерусалимского рыцаря и удивил ответ пассажирки, которая говорила о птице как о разумном существе, то он из вежливости ничем этого не показал. Когда молодая женщина проходила рядом с бизань-мачтой, судно качнуло, и она потеряла равновесие. Она ударилась бы головой о высокие, искусно отделанные перила, если бы рыцарь не подхватил ее твердой рукой. Оглушенная женщина невольно прижалась лбом к кирасе. Рыцарь задержал ее на мгновение дольше, чем нужно. Она резко высвободилась. – Благодарю, мессир… Ее бледность обеспокоила молодого человека. – Вам нехорошо, сударыня. Средиземное море может быть очень жестоким к тем, кто не привык к скачкам его настроения… – Я чувствую себя превосходно, мессир. Не будем заставлять ждать его преосвященство! – сухо возразила она. Рыцарь поклонился и, вновь взяв на себя роль проводника, направился к «цитадели», находившейся в конце верхней палубы. – Княгиня Фарнелло! – шепнул он на ухо вооруженному стражнику, стоявшему в коридоре возле резной деревянной двери. – Надо посмотреть, закончил ли его преосвященство молитву! Сержант удалился в комнату, но почти сразу же вышел, и в ту же минуту раздался звучный голос: – Войдите, дочь моя!.. В сопровождении рыцаря Зефирина, княгиня Фарнелло, вошла в самую просторную комнату на корабле. Справа стояла кровать под балдахином, в центре на ковре возвышался массивный стол, на котором лежали пергаментные свитки и морские карты. Слева, под распятием, находилось кресло черного дерева и скамеечка для молитвы. Когда Зефирина вошла, со скамеечки поднялся мужчина лет шестидесяти с коротко остриженными волосами, седеющей бородой. Лицо его было сурово, однако при виде посетительницы оно осветилось улыбкой. Это был Вилье де Лиль-Адан, великий магистр ордена святого Иоанна Иерусалимского[98]. – Довольны ли вы тем, как вас разместили, дорогая княгиня? – спросил Вилье де Лиль-Адан, знаком приказав выйти рыцарю и вооруженному слуге. Зефирина склонилась в реверансе, благодаря великого магистра. – Заботами вашего преосвященствамоего ребенка, моих людей и меня разместили в великолепной каюте… «Не такой роскошной, как эта», – чуть было не добавила Зефирина, чья природная дерзость придавала ей особое очарование и была хорошо известна всем знавшим ее. – Прекрасно. Если вам что-либо понадобится, сразу же предупредите Фолькера, рыцаря из нашего братства, которого я посылал за вами. Это прекрасный молодой человек, он из семьи Хозертаунфен, насчитывающей шестнадцать поколений дворян, как и положено по уставу нашего ордена. Продолжая говорить, Вилье де Лиль-Адан указал княгине Фарнелло на стул с высокой спинкой, а сам сел в кресло под распятием. Глава ордена выглядел величественно, в черной сутане иерусалимских рыцарей и в красной кирасе с восьмиконечным крестом на одной стороне груди и геральдическими лилиями на другой. Зефирина с признательностью смотрела на этого человека, который после ужасной катастрофы в Этне[99] приютил ее у себя на Мальте и вместе с маленькой дочерью Коризандой поручил заботам братьев – врачей, которые спасли их от гнилой лихорадки, грозившей смертью им обеим. – Если Богу будет угодно, дней через тридцать мы достигнем берегов Испании, – произнес Вилье де Лиль-Адан. – Капризные ветры Средиземноморья, кажется, благоприятны для нас. У нас четыре галеры, которые обеспечивают нашу охрану, так что, думаю, неверные не осмелятся напасть на нас… Великий магистр откашлялся, и Зефирина поняла, что сейчас он скажет то, для чего позвал. – Дочь моя, что вам делать в Валенсии? Ваша судьба связана с Францией. Почему бы вам не отправиться туда? Я готов высадить вас в Марселе. И даже дать несколько рыцарей, которые бы проводили вас до Турени… Зефирина кусала себе губы, чтобы не закричать, Франция… Долина Луары… Победа Франциска I при Мариньяне… «Золотой лагерь»[100]. Ее жизнь, жизнь девушки, избалованной отцом и ненавидимой мачехой Доньей Герминой де Сан-Сальвадор… Все эти события были такими далекими и одновременно такими близкими. Ужасная болезнь, терзавшая ее в течение долгих месяцев на Мальте – с бредом, горячкой и беспамятством, сделала Зефирину очень ранимой. На глаза навернулись слезы. Она попыталась овладеть собой. – Вернуться во Францию вдовой, ваше преосвященство… носить, словно старуха, траур по супругу, смириться с исчезновением сына… Нет… Я хочу искать справедливости у короля Испании. Волнение было слишком велико. Она с трудом удержалась от рыданий. Вилье де Лиль-Адан добродушно взирал на молодую двадцатилетнюю женщину, такую прекрасную и бесстрашную. Он видел на этом тонком лице следы глубоких потрясений: после поражения в битве при Павии отец заставил ее выйти замуж за итальянского князя Фульвио Фарнелло, «спесивого кривого ломбардца» по прозвищу «Леопард». Боже, она так ненавидела своего мужа, что сбежала от него, а затем с презрением отвергала все его попытки к примирению, но в один прекрасный день узнала в нем незнакомца из «Золотого лагеря»… и признала свое поражение! Она стала женщиной в его объятиях на Сицилии, в их владениях, где им пришлось после разграбления Рима скрываться от гнева Карла V. Забыв о войне и борьбе партий, князь и княгиня Фарнелло познали один короткий год счастья. Зефирина ждала ребенка. И, поскольку, она всегда поступала не так, как все, на свет появились двое близнецов: Коризанда и Луиджи. Князь Фарнелло чуть не лишился разума от гордости и счастья. Шесть дней спустя после рождения детей армия Карла V атаковала дворец Фарнелло, чтобы покарать мятежного князя, который, поддержав Священную лигу папы и Франциска I, осмелился восстать против императора. Во время боя началось извержение вулкана Этна, обратившее испанцев в бегство и вынудившее осажденных бежать морем. Вот тогда и произошло самое ужасное. ЛУИДЖИ ИСЧЕЗ ИЗ КОЛЫБЕЛИ! Отправившись на его поиски, князь Фульвио так больше и не вернулся. Потоки кипящей лавы приближались к сицилийскому дворцу. Зефирину, прижимавшую к сердцу дочь Коризанду, силой посадили на лодку. Она получила приют у рыцарей госпитальеров, которым также пришлось покинуть Родос после ужасной битвы с султаном Сулейманом и искать убежища на «арабском озере» – другими словами, на Средиземном море. Счастье Зефирины, что она обрела в лице Вилье союзника, обладающего хоть какой-то властью. В бреду она бормотала одно и то же: – Фульвио… Луиджи… Когда-то, в году 1524, в Италии великий магистр познакомился с князем Фульвио Фарнелло. Это произошло до женитьбы его на Зефирине. Очарованный обаянием князя Фарнелло, его смелостью и умом, столь же своеобразным, сколь просвещенным, Филипп Вилье де Лиль-Адан сохранил о нем впечатления как о человеке необыкновенном. Тронутый страданиями молодой вдовы и обеспокоенный тем, что она без конца повторяла: «…они живы… я чувствую… я знаю… мой муж жив… и сын тоже, его похитили», Вилье попытался вразумить ее: – Но, дорогая княгиня, необходимо признать очевидное… Вулкан все уничтожил. От Сиракуз до Катаньи все опустошил вулкан. – Они живы… Я чувствую это… Не успев еще восстановить силы, Зефирина хотела вернуться в Сицилию, чтобы начать поиски мужа и сына. Желая успокоить ее, великий магистр послал двух рыцарей навести потихоньку справки. Днем позже они вернулись, не узнав ничего конкретного, но обнаружив след, дающий слабую надежду: люди видели, как в порту, чудом уцелевшем от извержения, на испанскую галеру взошла какая-то женщина в черной вуали в сопровождении карлика. – Донья Гермина де Сан-Сальвадор… Моя мачеха… А с ней Каролюс… – простонала Зефирина. – Не было ли у нее на руках младенца? Об этом, к сожалению, рыцари ничего не могли сказать. Но зато они раздобыли другие сведения у одного человека, принадлежавшего к мафии (тайное общество). У этого мафиози в бухточке был домик. Он утверждал, что его разбудил шум сражения: высокий безоружный человек отбивался кулаками от дюжины солдат Карла V. Те с большим трудом взяли над ним верх и, связав, бросили в лодку. Мафиози полагал, что «товар» ожидает с другой стороны бухты легкая «carabo a vela»[101] поскольку заметил три мачты, покачивающиеся на волнах при свете луны. Он бросился за подмогой, но предрассветное море было спокойным и пустынным, а на горизонте – ни паруса. Промахнувшаяся чайка ударила крылом в иллюминатор каюты. Зефирина нервно подскочила. Вилье де Лиль-Адан, который не желал прерывать молчания, чтобы не нарушить ход ее мыслей, мягко проговорил: – Вы отважная женщина, княгиня Фарнелло. Если такова ваша воля, то я попытаюсь помочь вам, хотя и не одобряю этого… Дитя мое, как вы рассчитываете получить доступ к императору? Зефирина провела по лбу исхудалой рукой. После болезни ее мучили головные боли и обмороки. По словам Фульвио, она была самой образованной и умной женщиной своего поколения, но теперь чувствовала себя отупевшей. – Я думаю, – начала с усилием Зефирина, что пойду ко двору и попрошу аудиенцию у его величества и… объясню ему суть дела… – Тс-с-с, – Вилье де Лиль-Адан поднялся и принялся расхаживать взад-вперед под распятием. – Карл V то в Толедо, то в Вальядолиде… Все время в путешествиях, с ним только небольшой эскорт, дитя мое. Дело в том, что его католическое величество не путешествует по-королевски со всем двором, мебелью, посудой… Великий магистр иерусалимских рыцарей взглянул на распятие и, помолчав, продолжил: – Я собираюсь увидеться с императором, чтобы попросить у него пристанища на Мальте для нашего ордена. Он единственный, кто обладает для этого властью. – Ваше преосвященство возьмет меня с собой к Карлу V? – попросила Зефирина, преисполняясь надеждой. Вилье де Лиль-Адан, остановившись, покачал головой. – Должен напомнить вам, дочь моя, что орден братьев госпитальеров приносит тройной обет послушания, бедности и целомудрия… При этих последних словах Зефирина, не выдержав, покраснела. Филипп Вилье де Лиль-Адан лукаво усмехнулся, заметив смущение собеседницы. – Мы, дорогая княгиня, прежде всего монахи, воины христовы, и я сильно сомневаюсь, что император, который очень строг в вопросах религии, будет доволен, увидев, как я схожу с корабля в сопровождении столь молодой и красивой женщины… Замешательство Зефирины стало еще более заметным. Великий магистр снова принялся прохаживаться возле иллюминатора. В голубой морской дали Зефирина заметила белую пенную струю. – Нет, думаю, у меня есть лучшее предложение для вас, дитя мое. Вы не задавались вопросом, почему мы назвали этот корабль «Святая Маргарита»? Вилье де Лиль-Адан понизил голос: – У нас будет что-то вроде свидания с мадам Маргаритой… Зефирина вытаращила глаза: – Ваше преосвященство хочет сказать, что… герцогиня Алансонская… родная сестра короля… – Да, княгиня Фарнелло, я доверяю вам государственную тайну. Маргарита Ангулемская, в ближайшем будущем королева Наваррская, «Маргарита из Маргарит», жемчужина из жемчужин[102]… Принцесса Маргарита – гордость семьи Валуа, должно быть, уже взошла на корабль в Эг-Морте. В этот самый момент она плывет в Испанию. Ее королевское высочество намеревается вымолить у императора Карла помилование для своего брата! Несчастье эгоистично. За своими бедами Зефирина совершенно забыла, что король Франциск I все еще томится в плену у Карла V в Мадриде!ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗОЛОТОЕ РУНО
ГЛАВА I КРОВАВАЯ РОЗА
Зефирина в задумчивости направилась в предоставленную ей каюту. Уже в коридоре были слышны вопли Коризанды. Юная мать вихрем ворвалась в каюту. Эмилия и мадемуазель Плюш передавали друг другу младенца, пытаясь его успокоить. – Soupons! Sauvage[103]! – каркал Гро Леон, не стесняясь высказывать свое мнение об этом избалованном ребенке. – Она больна? – обеспокоенно спросила Зефирина, взяв девочку на руки. – Ничего подобного, черт побери, мамзель Зефи, у нее есть характер, у маленькой чертовки, в точности как у вас в ее возрасте! – заявил гигант Ла Дусер – этот исполин, воспитавший княгиню Фарнелло, так и называл ее мамзель Зефи. В объятиях матери Коризанда успокоилась. – Она хорошо поела? – продолжала расспрашивать Зефирина. – Об этом можете не беспокоиться, сударыня… Я в трюме подоила Розали, и наша маленькая княгиня все выпила, – заверила Эмилия. «Коза Розали!»… Зефирина вздохнула. Из-за лихорадки ей пришлось прекратить кормление ребенка. Ее молоко стало опасным для девочки, и пришлось взять в кормилицы одну толстую мальтийку. Молоко этой доброй женщины пошло на пользу Коризанде, но, к сожалению, Зефирина не смогла уговорить ее оставить остров. Тогда Ла Дусеру пришла в голову мысль взять козу. Он заявил: «Будь ты хоть распоследним дураком, совсем пропащим человеком, для тебя нет лучшего молока, чем козье. Я сам вырос на нем, и, пусть отвалятся рога у всех обманутых женами болванов, мамзель Зефи увидит результат своими глазами!» Надеясь от всей души, что вскормленная козьим молоком маленькая княгиня не усвоит манеру выражения исполина, мадемуазель Плюш изготовила деревянный сосуд, горлышко которого было закрыто тканью, позволяющей молоку сочиться капля по капле. Коризанда быстро привыкла к нему и сосала с аппетитом. – Да уж, сударыня, мне кажется, что наша дорогая малышка не ценит своих хрустальных слезок, столь мучительных для наших сердец, – всхлипнула Артемиза Плюш. От малейшей качки почтенная дуэнья бледнела и зеленела. С неподдельной нежностью Зефирина утешила ее как могла и посоветовала прилечь. – Увы! Когда я стою, ноги подкашиваются, когда лежу, задираются кверху… Что за дьявольщина эта вода!.. – вздохнула несчастная Плюш. Однако же она легла на кровать. – Ваша светлость не голодны? Эмилия устроила нечто вроде шкафчика для провизии в сундучке из-под одежды. – Нет, благодарю… У Зефирины не было аппетита. – Вам нужно подкрепиться, малышка. Если хотите показать где раки зимуют этой скотине, этому болвану, этой заднице под номером пять! Усевшись на сундук, Ла Дусер принялся надраивать до блеска свою шпагу. Все еще держа на руках Коризанду, которая теперь мурлыкала от удовольствия, Зефирина в свою очередь прилегла на кровать под балдахином. С другой стороны, не шевелясь, словно Мертвая, лежала Артемиза Плюш. Все преданные слуги разместились в каюте своей хозяйки. «На море, как на море», – заявила Зефирина. Было решено, что несравненная Плюш будет спать в центре единственной кровати между Эмилией (место возле стены) и Зефириной (рядом с ивовой колыбелью дочери). Ла Дусер, этот старый великан, герой Мариньяна, возьмет подушку и воспользуется ковриком возле кровати. Пикколо, молодой оруженосец, либо ляжет на одеяле в коридоре, либо спустится на нижнюю палубу, где переночует с моряками в смешной висячей кровати, позаимствованной мессиром Христофором Колумбом у испанских индейцев. Матросские команды из цивилизованных стран приспособили гамак туземцев для отдыха на своих кораблях. Испуганный Пикколо предпочел коридор этим сатанинским качелям. Что же касается Гро Леона, то и для него, конечно, нашелся насест рядом с кроватью хозяйки: в данном случае его роль сыграли спицы перевёрнутого корсажа. Однако первую ночь галка предпочла провести снаружи. Недоверчивая птица спала вполглаза и, нахохлившись на вантах, бормотала: – Saumon! Saumatre[104]!* * *
С тех пор как Зефирина приехала на Мальту, из всех средств к существованию у нее остались лишь несколько драгоценностей, захваченных в последний момент. Она не могла больше платить жалованье своим людям. Ни один из них не огорчил хозяйку упреками. А о том, чтобы оставить молодую вдову с ребенком, они даже и не помышляли. Каждый чувствовал, что на него возложена священная миссия: в отсутствие князя Фарнелло защищать его жену и… всеми средствами пытаться вернуть маленького Луиджи, бесчестно похищенного, ибо в отношении самого Фульвио они не разделяли надежд Зефирины. Они видели объятый пламенем дворец, в котором исчез вслед за своим хозяином и верный Паоло. Только одна из служанок, Карлотта, встретила на Мальте родственную душу в лице каменотеса. Ее сердце не устояло перед мольбами влюбленного. С благословения Зефирины счастливая Карлотта осталась на острове. Как раз перед отплытием Зефирине удалось продать одно из своих колец, крупный сапфир в брильянтовой оправе большой ценности. Это был подарок Фульвио, но Зефирине не хотелось быть в тягость великому магистру. Выручив от продажи десять тысяч цехинов, Зефирина, успокоившись насчет ближайшего будущего, закрылась в своей каюте. Ла Дусер вышел подышать воздухом на палубу. Зефирина воспользовалась этим, чтобы снять корсаж, кринолин, баскины из негнущейся ткани, и осталась в одной лишь рубашке из тонкого полотна. Пока Эмилия расчесывала ее пышные, несмотря на болезнь волосы, Зефирина наклонилась, чтобы поцеловать Коризанду. Девочка была великолепна – забавна и своенравна, уже очень смышленая и живая. Волосы ее были того же рыжего оттенка, что и у матери. В который раз, лаская их, Зефирина подумала о Луиджи, о малыше, которого видела всего шесть дней его жизни… которого у нее украли по прошествии этих шести дней… На затылке Коризанды пальцы Зефирины нащупали красное пятнышко в форме цветка, украшавшего ее нежную кожу. Словно предусмотрительная судьба избрала этот знак, чтобы отметить навсегда ее близнецов. У Луиджи было такое же пятнышко за ухом… КРОВАВАЯ РОЗА.ГЛАВА II ТРЮМ «СВЯТОЙ МАРГАРИТЫ»
Впервые за долгое время Зефирина, стиснутая Плюш так, что нечем было дышать, спала очень хорошо. Преследовавшие ее жуткие кошмары, в которых Фульвио исчезал в языках пламени, а ужасная тень доньи Гермины завладевала Луиджи, уступили место потрясающему видению: Зефирина едет верхом по парку ломбардского дворца Фарнелло, вдыхая ароматы акантов и жасмина. Как гордая амазонка, она скачет бок о бок с Фульвио. Князь задает ей один из своих излюбленных научных вопросов, которые вызывали между ними долгие споры. – Дорогая моя… Десять первых чисел обладают потрясающими свойствами, особенно число десять, или декада. Даже сама душа является числом, которое движется! Что скажет дорогая супруга по поводу этого принципа Пифагора?.. Зефирина отвечает: – Пифагор? Я ничего больше не знаю, любовь моя… Представь, я стала идиоткой… Она не испытывает ни малейшего огорчения, напротив, ее охватывает восторг. – «Идиотка! Идиотка!», – хохочет она. Раздаются радостные крики: «Мама… Папа…» Их догоняют двое прекрасных детей, лихо пустивших своих пони в галоп. – Фульвио… Это Коризанда и Луиджи. Луиджи вернулся!.. Вскрикнув от счастья, Зефирина проснулась. Комната утопала в солнечных лучах. Мадемуазель Плюш была совершенно неспособна подняться с кровати. Зефирина стала ухаживать за своей бедной дуэньей. Она смочила ей виски винным спиртом и пообещала спросить еще какое-нибудь средство у экипажа. В своей корзинке щебетала в ожидании завтрака Коризанда. Вскоре с молоком Розали вернулся Ла Дусер. С большим удовольствием Зефирина сама покормила дочь. Затем тоже выпила молока, а Эмилия тем временем пошла за самой ценной на корабле жидкостью – пресной водой, которую и принесла в двух оловянных кувшинах. Зефирина умылась. С помощью Эмилии надела платье, такое же простое, как и накануне. В туго зашнурованном корсете, с волосами, расчесанными на прямой пробор, в маленьком турете[105] в форме сердца, позволяющем видеть ее золотистые косы, Зефирина выглядела очаровательно. Такого мнения придерживалась Эмилия, заявив: – Сударыня сегодня утром выглядит, словно восемнадцатилетняя послушница… В сопровождении Гро Леона, порхавшего над чепцом, Зефирина спустилась прогуляться на заднюю палубу. Прежде чем сделать несколько шагов, она бросила взгляд на рангоут. На мачтах, где раздувались от ветра паруса, она увидела улыбающихся марсовых, приветствующих ее с дружеской простотой, присущей всем морякам. Зефирина несколько раз вдохнула полной грудью. В отличие от Плюш, морской воздух приободрил ее. Она привыкла к качке, которая даже стала ей нравится. Она с интересом разглядывала косяк дельфинов, следовавший за судном, когда за спиной раздался голос рыцаря Фолькера. – Ваша светлость хорошо спали? – Превосходно, мессир… – Не нужно ли чего-нибудь вашей светлости? – Ничего, мессир, только немного покоя возле этой необъятной синевы, – сказала Зефирина. Ответ был не из самых любезных. Но он не обидел рыцаря, который продолжал: – Его преосвященство приказал мне находиться в вашем распоряжении, сударыня. Что вам угодно? «Хочу спокойствия и, прежде всего, не разговаривать с вами», – чуть было не вырвалось у Зефирины. Фолькер смотрел на нее с восхищением. Под этим мужским взглядом Зефирина внезапно обрела женскую интуицию и ответила: – Что ж, дайте мне руку, мессир, и прогуляемся на солнышке. Рыцарь не заставил просить себя дважды. Они прогуливались по палубе, и после того, как были обсуждены обычные банальности, Фолькер счел своим долгом объяснить Зефирине названия всех парусов – марселя, брамселя, как малого, так и большого бом-брамселя, не забыв о швартовых и о новом парусе на бушприте… В конечном итоге беседа оказалась не лишенной интереса и отвлекла Зефирину от мрачных мыслей… Подул восточный ветер: он пришел из Африки[106] и был сухим и горячим. Рыцарь предупредительно осведомился: – Может быть, ваша светлость желает укрыться от ветра? Не хотите ли осмотреть конюшни, парадных и боевых коней? – Почему бы нет… Хорошая наездница, Зефирина понимала разницу между лошадьми для парада и для войны. Рыцарь повел княгиню на нижнюю палубу. Он так был поглощен своим ухаживанием, что не заметил, как чья-то тень проскользнула за ними. – Sangdieu! Sardanapale[107]! Это каркал Гро Леон, взгромоздившись на снасти. Птица покружилась над палубой, а затем спикировала к роскошным каютам. Зефирине казалось, что они спускаются к самому килю. Фолькер показал ей все. Молодая женщина восхищалась устройством судна. Она поняла, какими пользуется привилегиями, живя словно в раю, когда увидела всех этих несчастных людей, набившихся на нижней палубе. Запах здесь стоял невыносимый, поскольку пассажиры справляли свои естественные потребности там, где их застигала нужда, и довольствовались тем, что смывали за собой, плеснув ведро морской воды. Осмотрев камбуз, отсек с провизией, молодые люди вернулись к «стойлам». Зефирина погладила Розали, которая заблеяла от радости. В следующем отсеке, освещенном через отверстия для пушек, располагалась конюшня. Перед глазами Зефирины предстало настолько отвратительное зрелище, что она отпрянула. Около сорока лошадей были подвешены к потолку при помощи ремней, пропущенных у них под брюхом. Ноги несчастных животных болтались в двух шагах над подстилкой: видеть подобную возмутительную жестокость было невыносимо. И, в довершение к этому варварству, конюхи стегали лошадей, а те вздрагивали и жалобно ржали. Зефирина пробормотала: – Почему с ними так жестоко обращаются? Фолькер не понял, о чем идет речь, а потом объяснил: – Напротив, это весьма гуманно. Лошади, сударыня, очень плохо переносят море. От качки они могут упасть или, хуже того, пораниться, поэтому мы привязываем их к потолку… – Но зачем стегать их? – возмутилась Зефирина. – Чтобы они совсем не одеревенели… Взгляните: Паша, мой боевой конь, очень доволен… И, подойдя к большому жеребцу темно-рыжей масти, рыцарь схватил хлыст, находившийся тут же на вешалке, и принялся сначала слегка, а затем все сильнее и сильнее стегать его по крупу. И в самом деле, казалось, своим ржанием конь благодарит хозяина. После этого визита Фолькер повел Зефирину в винный погреб. – Сударыня, вы мне позволите предложить вам кубок мальвазии или токайского? – Превосходное средство против морской болезни. Зефирина подумала о бедной Плюш. – Я охотно отнесла бы его своей компаньонке. Она слегла и сильно страдает… Рыцарь Фолькер зажег свечу и повел молодую женщину к бочкам. Он взял два оловянных кубка, висевших на перегородке, и как человек, хорошо ориентирующийся в погребе, направился прямо к бочонку с токайским. Зефирина услышала, как заполняются сосуды. Затем рыцарь вернулся и протянул один из кубков молодой женщине. – Пусть это путешествие принесет вам счастье, княгиня Фарнелло… Он усадил Зефирину на пустой перевернутый бочонок, сам же, оставшись стоять, принялся разглагольствовать о подстерегающих опасностях и суевериях моряков. – Знаете ли вы, сударыня, почему запрещается свистеть на борту кораблей? Потому что это вызывает сильный ветер и бурю… Голос рыцаря журчал и был не лишен приятности. Не думая ни о чем, Зефирина пила маленькими глотками. Действительно, токайское пошло ей на пользу, дало ощущение силы и приятным теплом разлилось по телу. Продолжая говорить, Фолькер взял пустой кубок Зефирины и направился к бочонку, чтобы вновь наполнить его. – Нет, нет, мессир… А то у меня голова закружится! – проговорила молодая женщина со смехом. Мерцающее пламя свечи внезапно погасло. В темноте Зефирина услышала шум, словно кто-то наткнулся на какое-то препятствие. Слегка обеспокоенная, она прошептала: – Мессир Фолькер, где вы? Совсем рядом послышался шум крадущихся шагов. Ощутив внезапную ярость, она теперь вполне понимала, чего хочет рыцарь. «Обет целомудрия»… Однако брат госпитальер не слишком с ним считается! Чья-то рука схватила ее за горло. Это было не ласковое прикосновение влюбленного, а смертельная хватка убийцы. Зефирина почувствовала злобное дыхание. Кто-то покушался на ее жизнь. С силой, которую она в себе даже не подозревала, Зефирина в полной тишине отбивалась от нападающего на нее человека. Пытаясь задушить ее, убийца потянул за цепочку от драгоценного медальона, который она носила на шее. – Ко мне… на помощь! – Удалось ей крикнуть. Толстая ручища легла на рот, заглушив ее крик. На своих губах Зефирина ощутила прикосновение мерзкой бородавки. Она была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Убийца неумолимо тащил ее за бочки с мальвазией, чтобы закончить там свое грязное дело.ГЛАВА III ТАЙНА ЗЕФИРИНЫ
– Есть здесь кто-нибудь? – Разрази меня гром, это здесь! – Тысяча чертей, свечу! – Ради всех святых, сударыня? – Проклятье! Крошка! Ла Дусер, Пикколо, Гро Леон и матрос Гароно ворвались в погреб. – Мамзель Зефи… Мамзель Зефи, отзовитесь! – вопил Ла Дусер. – Здесь! Здесь! – Гро Леон кружил над бочками. Трое мужчин бросились туда. Зефирина без движения лежала на полу. Пикколо взял ее на руки. Ла Дусер бормотал: – Малышка моя… Неужели этот недоделанный рыцарь убил ее?.. Великан всхлипнул. Пока трое мужчин занимались Зефириной, слушали, стучит ли сердце, смачивали виски остатками токайского, убийца, словно змея, проскользнул за бочками и выскочил в люк. Напрасно Гро Леон закаркал: – Saumure! Satan[108]! Когда Гароно и Пикколо бросились в погоню, было уже слишком поздно, убийца испарился. Трое спасителей отыскали рыцаря Фолькера. У несчастного был сильно рассечен лоб. Он потерял много крови, видимо, от удара палкой. Зефирина постепенно приходила в себя. Первым ее движением было нащупать драгоценный медальон, чтобы убедиться, что он все еще у нее на груди. Успокоенная, она положила голову на плечо Ла Дусера, который понес ее в каюту. – Мой милый Ла Дусер… Ты опять появился, чтобы спасти мне жизнь… – Вот уж нет, мамзель Зефи, это Гро Леон поднял шумиху, храбрый парень Гароно встревожился, Пикколо послал за мной… Я, старый дурак, позволил вам шататься одной, теперь я от вас ни на шаг не отстану, черт меня побери! Ла Дусер внезапно замолчал. Среди всеобщего шума – криков ожившей мадемуазель Плюш, испуганной Эмилии, Коризанды, которая вопила, чтобы не отстать от остальных, карканья Гро Леона – в комнате послышался голос великого магистра Вилье де Лиль-Адана, очень встревоженного новостью. – Я приказал обыскать весь корабль, дочь моя… но если вы не можете описать того, кто напал на вас, сомневаюсь, что мы найдем его… Как вы себя чувствуете, дитя мое? – Гораздо лучше, ваше преосвященство… Зефирина попыталась встать. – Не шевелитесь… Возможно кровотечение… Вилье де Лиль-Адан сел на табурет; прощупав Зефирине пульс, он прошептал: – Будьте осторожны, дитя мое. Видимо, в этом необъятном мире у вас есть опасный враг, и он на борту. Словно крыса, он сейчас забился в нору. Вы должны выходить из каюты только в сопровождении кого-нибудь. По моему приказу два вооруженных слуги будут охранять вашу дверь. Кроме как убить вас… хотел ли еще чего-нибудь этот человек? – осторожно осведомился Вилье де Лиль-Адан. Зефирина чуть было не доверила тайну великому магистру. В медальоне, который она носила на груди и который Фульвио подарил накануне ее бегства с Этны, находился талисман, принадлежащий семьям Сен-Савен и Фарнелло: три металлические пластинки, три изумрудных колье, с таинственными надписями, указывающими путь, как считали молодые супруги, к сокровищам Саладина[109]. Фульвио вручил их Зефирине с нежными словами: «Спрячь это на своей роскошной груди, cara mia. Не расставайся с ним ни днем, ни ночью, не рассказывай о нем ни одной живой душе, талисман Саладина принадлежит тебе по праву. А пока, пусть тебе не все понятно, береги его, как зеницу ока, для наших детей…» Зефирина полностью доверяла Вилье де Лиль-Адану, но с мудростью, поразительной для двадцатилетней женщины, она предпочла обойти этот вопрос: – Я думаю, ваше преосвященство, что… этот человек покушался на мою честь. Вилье де Лиль-Адан побледнел. Насильник на борту судна, принадлежащего рыцарям, служителям Господа. Какой стыд! – Святым Иоанном, нашим покровителем клянусь, княгиня Фарнелло, что если мы найдем негодяя, в присутствии всей команды его руки будут прибиты к мачте, язык пронзен кинжалом, и, прежде чем бросить его в море, ему выльют на голову кипящую смолу… Дав это обещание, вызвавшее у Зефирины отвращение, Вилье де Лиль-Адан откланялся. Зефирина же, которая, казалось бы, должна была волноваться, успокоилась. Убийцу не нашли, что избавило ее от зрелища, обещанного великим магистром. Но, самое главное, Зефирина теперь была уверена, – донья Гермина жива. Это она подослала головореза, чтобы убить ее! У Зефирины было доказательство, что ее мачеха по-прежнему упорствует в своей ненависти. Но молодая женщина была счастлива. Если донья Гермина жива, значит, Луиджи – тоже. Единственное, что оставалось непонятным: это она преследует донью Гермину или же донья Гермина охотится за ней. Минуло несколько дней, когда можно было не опасаться за жизнь рыцаря, и очень бледный Фолькер появился на палубе. Лоб его украшала большая повязка, и теперь у несчастного пропало всякое желание любезничать. Неверные варвары предприняли несколько попыток атаковать флот ордена. Обе стороны обменялись пушечными залпами, чтобы продемонстрировать свое господство на Средиземном море, но ни одно из ядер не достигло цели. Не считая этих происшествий, в целом плавание прошло довольно спокойно. Благодаря своей хозяйке, мадемуазель Плюш открыла целебные свойства токайского. Она провела остаток путешествия в постели, и никто не знал, являлась ли тому причиной качка, или доброй Артемизе представился прекрасный случай отдать должное своей слабости к Бахусу. На двадцать восьмой день плавания, когда Зефирина с Коризандой находились в каюте, рыцарь Фолькер, к которому стали возвращаться повадки дамского угодника, постучал в дверь. – Сударыня… видны берега Испании.ГЛАВА IV ВАЛЕНСИЙСКИЙ НИЩИЙ
Если и существовало в начале XVI столетия место, где путешественник пожелал бы остаться навсегда, то это была, конечно, восхитительная Валенсия. Все там утопало в зелени: зеленые деревья, зеленая трава, виноградники и пальмы. Regalada – так называли ее арагонцы, Зефирина переводила это как «Дарованная земля». Едва она ступила на берег, опьяняющие ароматы лимонных, апельсиновых, тутовых деревьев наполнили ее новыми силами. Расположенная в долине Лирии, похожая на клубочек, свернувшийся на правом берегу Турии, или, как называли ее арабы «Белой реки», Валенсия была изумительным городом, чьи улочки вычерчивали своенравные пируэты. Великий магистр совершил высадку во главе двадцати рыцарей, оседлавших своих боевых коней. Чтобы соблюсти приличия, необходимые Вилье, Зефирина следовала за ними в портшезе, а ее люди – на мулах. Двое этих мощных животных тянули маленькую повозку, где находились походные сундуки и… Розали. Проезжая в портшезе по городу, Зефирина заметила огромное количество памятников, напомнивших ей, что Валенсия находилась в руках мавров до 1238 года, когда Иаков I, король Арагона, по прозвищу «El Conguistador», вернул его христианскому миру. – Да, сударыня, вы вновь стали думать о своих бесценных занятиях, и мне это очень приятно. Значит, вы поправляетесь, – заявила Плюш. Она держала на руках Коризанду. Гро Леон спал. – Вы тоже, милая Артемиза! Токайское спасло вам жизнь! В багаже я обнаружила несколько кувшинов. Разумеется, я оставила их на борту! – с серьезным видом ответила Зефирина. – Святая дева! Вы не могли этого сделать! Мой бедный больной кишечник и моя изжога вновь возьмутся за старое. Портшез качается, словно ореховая скорлупа на волнах, среди которых мы недавно находились, – захныкала несчастная мадемуазель. – Soib! Soib![110] – каркнул в подтверждение Гро Леон. Не зная, смеяться или жалеть свою любимую компаньонку, Зефирина вынула один кувшин, спрятанный в корзине. – Успокойтесь, милая Плюш, я подумала о вашей изжоге. Наполнив кубок токайским, молодая княгиня собиралась уже протянуть его мадемуазель Плюш, но замерла, увидев процессию вымаливающих прощения грешников. На головах у них были высокие капюшоны, одеты они были в широкие рубахи. Они с покаянными воплями до крови бичевали себя, направляясь к собору. Портшез Зефирины вынужден был остановиться около готического портала, чтобы пропустить их. Несчастный нищий, бедный горемыка, потерявший руку и ногу, умолял: – Сжальтесь! Один реал! Я голоден и хочу пить… – Возьмите, добрый человек. Зефирина отодвинула занавески на портшезе. Одноногий несчастный устремился за подаянием. Молодая женщина вложила ему в руку несколько монет, которые нашла в кармане, затем протянула кусок хлеба с салом и кубок вина. – Мое токайское! – запротестовала Артемиза. Под негодующим взглядом Зефирины дуэнья мгновенно притихла. – Благослови вас Господь, сударыня, – прошептал бедняга. Он выпил кубок до дна и, протянув его Зефирине, с жадностью принялся за ломоть хлеба. Процессия прошла. По знаку Ла Дусера портшез тронулся в путь. И тут ужасный звериный крик заставил окаменеть Зефирину и ее спутников. Нищий повалился на землю, на губах его выступила зеленая пена, он выл: – Ко мне… умираю… внутри огонь… Ах, сударыня… это дурно… Гореть вам в аду… Отравить… несчастного… попрошайку… Священника… я хочу священника… Ааа… Зефирина, объятая ужасом, вышла из портшеза. Пикколо, Эмилия, Ла Дусер бросились на помощь несчастному, Зефирина заметила фонтан. Она зачерпнула воды, но когда вернулась, нищий уже был мертв. Лицо его исказила гримаса. Вокруг них начала собираться толпа. Зефирина ощущала на себе злобные, недоверчивые взгляды. Все видели, как молодая женщина подала несчастному кувшин вина и ломоть хлеба. К ним уже спешил священник из собора. Зефирина со слезами на глазах на очень хорошем испанском рассказала, что произошло. У нее хватило сообразительности высказать предположение, что нищий, видимо, поперхнулся хлебом. Она назвала себя. Титул княгини оказал магическое действие на служителя Господа. После того как долгое объяснение, казалось, было почти закончено, в разговор вмешались два монаха, чьи зеленые кресты инквизиции, нашитые на плечах, заставили вздрогнуть Зефирину: Кто не слышал об огромной власти инквизиции в Испании? Зефирина знала, что они могут заточить ее со всей прислугой в каменном мешке. – Вот вам за ваши добрые дела, святые отцы! Зефирина достала кошелек, полный реалов. Трое священников рассыпались в благодарностях. Толпа расступилась, и Зефирина смогла пройти, осыпаемая благословениями за щедрость. В портшезе Плюш беспрестанно бормотала, стуча зубами: – Боже милостивый, сударыня, ведь это выпить должна была я. Боже милостивый, сударыня, это я… Едва они выехали из Валенсии, Зефирина приказала остановиться. Она вынула кувшин и опрокинула его содержимое на траву. Под воздействием яда растения съежились. – Soufre! Soufre![111] – закаркал Гро Леон. Ла Дусер понюхал горлышко: – Точно, это смесь на основе серы и мышьяка! – Так делается яд Борджиа… – прошептала Зефирина. – Какой-то мерзавец покушался на… – На меня! – простонала Плюш. – Нет, черт возьми, старая дура, – оборвал ее Ла Дусер, – на княгиню! Нужно смотреть в оба, быть начеку, разрази меня гром! Убийца идет по нашим следам, мамзель Зефи. Я так думаю, что он действует по указке вашей негодяйки-мачехи, доньи Гермины, чтоб ее черти разорвали! Ла Дусер в присущей ему манере, как всегда, верно ухватил суть вещей. – Ты прав, Ла Дусер, но больше всего я ненавижу убийц за то, что они погубили невинного человека. Они должны были подумать, что во время путешествия не только я могу выпить это вино. Спутники Зефирины переглянулись. Холодная решимость доньи Гермины обрекала на гибель их всех. Что же касается Коризанды, то чудовище, видимо, уготовило ей судьбу Луиджи… Надо ли говорить, что остаток дня прошел мрачно. Погруженные в свои мысли, Зефирина, Плюш и Ла Дусер не произнесли ни слова. За ними следом, также в молчании, верхом на мулах ехали Эмилия и Пикколо. Через несколько лье рыцарь Фолькер и вооруженный слуга догнали портшез Зефирины. Предусмотрительный Вилье де Лиль-Адан приказал им следовать на расстоянии за княгиней Фарнелло и в случае необходимости оказать помощь. – У вашей светлости были неприятности в Валенсии? – спросил Фолькер. – Нет, мессир… только один несчастный калека отдал богу душу, когда мы проезжали мимо собора. – Ну тогда я спокоен, сударыня. Мы будем ехать сзади на расстоянии пятисот шагов. Если вам что-либо понадобится, взмахните белым платком. Зефирина видела, что Фолькеру не терпится остаться рядом с портшезом. Она сама в его присутствии почувствовала бы себя увереннее, но ей не хотелось нарушать приказа великого магистра. Кроме того, какая-то гордость мешала ей рассказать Фолькеру, как все произошло на самом деле. Она попросила своих людей ничего не говорить вечером и магистру. Ла Дусеру это не понравилось. Следующей ночью он не сомкнул глаз, бродя вместе с Гро Леоном вокруг постоялого двора. Инстинкт подсказывал ему, что убийца еще вернется, чтобы удостовериться в своем злодеянии.ГЛАВА V ДОПРОС
На башне пробило два часа, когда Ла Дусер услышал какой-то шорох в роще. Гро Леон прокричал по-совиному. Тренированное ухо великана уловило этот сигнал. Прячась за кустами, Ла Дусер совсем распластался по земле. Через минуту снова все стихло, и в свете луны он увидел, как кто-то выскользнул из леска. Вдали залаяла собака. Человек побежал к сараям. И, пробравшись внутрь, бесшумно приблизился к портшезу. Вероятно, того, что он увидел, ему показалось недостаточно, и он стал подниматься по деревянной лестнице, ведущей в комнаты. Тяжелая ручища Ла Дусера опустилась ему на плечо. Мужчина, довольно коротконогий, но с мощным торсом, обернулся и сделал попытку вцепиться в горло оруженосцу. Но несмотря на свою силу, справиться с гигантом был не в состоянии. – Saigne! Saigne![112] – каркал Гро Леон. Ла Дусер не нуждался в советах. В руке его блеснул кинжал. Он приставил его к шее незнакомца, не выпуская того из своих железных объятий. – Кто ты такой? – Заблудившийся путешественник. Тиски Ла Дусера сжались сильнее. Человек задыхался. – Пощадите, иначе я сейчас умру. – Как бедняжка княгиня Фарнелло? – проревел Ла Дусер. – Она умерла? – прохрипел мужчина. – Сознаешься в своем злодеянии? – Мерзавец! Предатель! – повторял Гро Леон. – Кто приказал тебе убить нашу госпожу? Ла Дусер заставил бандита встать на колени и приставил кинжал к его горлу. – Я Гр… Гр… – сипел незнакомец, и в горле у него что-то клокотало. Вне себя от ярости, Ла Дусер уже не соизмерял своих сил. Кости негодяя захрустели. – Остановись, Ла Дусер. С фонарем в руках на верхней ступени лестницы появилась Зефирина. Она была одета и держала палку, доказывающую, что тоже ждала ночного нападения. – Дай ему говорить! Зефирина бесстрашно приблизилась, сощурилась, разглядывая тяжело дышащего человека с изрытым оспой лицом. – Я узнаю тебя. Ты – матрос со «Святой Маргариты», который уронил, когда я проходила мимо, бухту каната… – Чего вам надо? Я не понимаю вас, синьора… – Ты итальянец? – продолжала Зефирина. – Венецианец! Я не имею никакого отношения к вашей истории… Я… только искал кусок хлеба… когда этот ненормальный набросился на меня. – Покажи руки. Мужчина, стоявший на коленях, согнувшись в три погибели под гигантским коленом Ла Дусера, был вынужден повиноваться. На правом указательном пальце у него красовалась огромная бородавка. – Это ты напал на меня в трюме. Кто приказал тебе убить меня? Говори! Или мой оруженосец сделает из тебя отбивную. Человек застонал: – Синьора, кто вам внушил такое… Я только… – Выколи ему глаза, – холодно произнесла Зефирина. Ла Дусер не заставил себя просить дважды. Кинжал вплотную приблизился к глазному яблоку негодяя, и тот, обезумев от ужаса, взмолился: – Только не это… Пощадите!.. Я все вам скажу… Три месяца назад я находился в Канди[113], человек, назвавшийся Бизантеном… – Зефирина еле удержалась, чтобы не вскрикнуть. Значит, Бизантен, вернейший сообщник доньи Гермины, уцелел во время извержения Этны. – …Пришел поговорить со мной в порт, сославшись на одного из моих венецианских друзей. Тем же вечером он назначил мне встречу. Я отправился туда. Меня приняла дама, лицо ее скрывала вуаль. Она дала мне тысячу золотых цехинов и обещала, что я получу столько же, если сейчас же отправлюсь на Мальту и… займусь вами. Я должен был представить ей доказательство, что вы мертвы… но, главное, она хотела… – Этот медальон… – Зефирина показала золотой кулон, который всегда носила на груди. – Да… Но, клянусь небом… я не знаю зачем… Она хорошо мне заплатила… и все… Клянусь, я ничего не имею против вас, синьора. – Я убью его, – прорычал Ла Дусер. – Отпусти этого человека! – приказала Зефирина. – Но… – Слушайся меня. Ла Дусер убрал колено, позволив венецианцу подняться, схватил своей огромной ручищей его запястья и крепко связал их ремнем. Зефирина присела на сундук и на несколько минут погрузилась в размышления. – Если ты говоришь искренне, даю тебе честное слово, что тебя оставят в живых… Если нет, мой оруженосец придушит тебя, как крысу. – Сударыня… – взмолился убийца. – Отвечай просто и кратко. Ты знаешь имя этой дамы? – Бизантен представил мне ее как синьору Триниту Орандо. «Имя, под которым обычно путешествует донья Гермина!» – Где ты должен был с ней встретиться, чтобы доложить об успехе своего предприятия? – Я обещал вернуться в Канди в следующеммесяце, если бы мне удалось сесть на корабль, после того, как… гм… – Убил бы меня, – спокойно закончила Зефирина. – Ну да… хм… Но вас хорошо охраняли рыцари и… я вместе с вами сел на «Святую Маргариту», но… – Ты не ответил на мой вопрос. Теперь тебе нужно возвращаться в Канди? – Нет, прошло два месяца, и я должен отправиться в Мадрид… Синьора Орландо будет там уже завтра. Зефирина с трудом сдерживала дрожь. Она попыталась сохранить спокойный тон, когда задала следующий вопрос: – Где? – Что где, синьора? – Где у тебя встреча с синьорой Орландо? – Она сама должна оставить мне свои распоряжения у оружейника на площади Майор… Больше я ничего не знаю… Человек казался искренним. Какой слабый след! В который раз волчица недосягаема. Зефирина откашлялась. – А эта дама была одна в своем доме в Канди? – Во всяком случае, я видел только ее, вернее, вместе с Бизантеном, могу поклясться в этом… На какое-то мгновение Зефирина поддалась отчаянию, но затем вновь продолжила допрос. – Я верю тебе, но попытайся вспомнить… Говорила ли она о ком-нибудь? Называла ли кого-нибудь, чье-то имя? Мужчина наморщил лоб, затем прошептал: – Нет, ничего не помню, кроме того, что какой-то младенец где-то рядом орал во все горло, а госпожа Орландо крикнула: «Каролюс, утихомирь же Рикардо, у нас деловой разговор…» Видимо, бледность Зефирины испугала венецианца, потому что он пробормотал: – Это вы и хотели услышать, синьора? Зефирине удалось овладеть собой, и она проговорила: – В конце концов, ты просто хочешь получить свою тысячу цехинов… Если я дам их тебе, ты поступишь ко мне на службу? – Это не очень-то правильно… Договор есть договор… Теперь вы, наверное, захотите, чтобы я свернул шею этой Орландо. Честно говоря, это мне не слишком-то по нутру… Все-таки и у нас есть свое достоинство. – Он еще говорит о достоинстве, этот головорез. Я убью его! – воскликнул Ла Дусер. – Успокойся. Слушай внимательно, венецианец, эта женщина похитила моего ребенка, моего сына Луиджи… итальянца, как и ты. Венецианец перекрестился. – О, мадонна, я этого не знал, синьора… Украсть ребенка у матери, это… это очень плохо. Видимо, у бандита были абсолютно четкие представления, что является христианским поступком, а что нет. – Подожди! Зефирина наклонилась и вынула из потайного кармашка на юбке, пришитого Плюш, кошелек. – Вот пятьсот реалов. Обещаю тебе столько же, когда найдется мой сын, если нам поможешь. Она положила кошелек на сундук. – За такую цену, Principessa[114], я его и в аду сыщу, твоего сынишку! – заявил венецианец, с вожделением покосившись на золото. – Освободи его, Ла Дусер. Этой ночью ты будешь спать в сарае. А завтра мы вместе отправимся в путь. – Разрази меня гром! Тысяча чертей! Вы не в своем уме, мамзель Зефи! А если он смажет пятки салом, этот недоделанный рогоносец. Ла Дусер кипел от бешенства. – Я его лучше в пруд закину! Понятно тебе! Ударом кулака великан уложил венецианца на землю. – Я дала слово. Слушайся меня, Ла Дусер. Гигант пропустил это мимо ушей, он прошептал: – Нужно его прирезать, мамзель Зефи… Я сделаю это за гумном, ни одна живая душа ни сном ни духом… Валяясь в пыли, венецианец с вполне понятным беспокойством прислушивался к этому разговору. Ла Дусер пнул пленника ногой в бок. – Теперь ты будешь отвечать за венецианца, Ла Дусер. Если с ним что-нибудь случится, я тебе никогда не прощу. Молодая женщина отвела оруженосца в сторону, чтобы итальянец не смог их услышать. – Разве ты не понимаешь, что он – единственная нить, связывающая нас с Луиджи? Он стал мне почти симпатичен, после того как рассказал, что мой ребенок жив… Прошу тебя, Ла Дусер, помоги мне! – Гром и молния! Теперь, когда нам все известно… можно и того… чик-чирик. – Развяжи его, – приказала Зефирина. Со слезами на глазах бедный гигант повиновался хозяйке. – Semon! Sardine![115] – казалось, Гро Леон был недоволен так же, как и оруженосец. – Вот золото, венецианец, теперь ты можешь убежать, предать меня или остаться с нами, чтобы получить остальное, – произнесла Зефирина. Растерев затекшие запястья и спрятав кошелек, мужчина бросил не слишком приветливый взгляд на Ла Дусера, затем, прижав руку к сердцу, поклонился: – Меня зовут Тициано, синьора… всеми святыми клянусь, теперь, когда познакомился с вами, сожалею, что обещал пришить вас. Слово Тициано, вы мне нравитесь, вы храбрая дамочка… И вы спасли мне жизнь! Мадонной клянусь, я выручу вашего мальчонку… Тогда мы будем квиты… По рукам, principessa! Под укоризненными взглядами великана-оруженосца и галки Зефирина пожала венецианцу Тициано руку, украшенную большой бородавкой.ГЛАВА VI НРАВЫ И ОБЫЧАИ
Против всех ожиданий, на следующее утро венецианец появился у дома в момент отъезда. Зефирина представила его своим людям, а те, предупрежденные Ла Дусером и Гро Леоном, бросали на него красноречивые взгляды. Когда Тициано хотел помочь мадемуазель Плюш забраться в портшез, достойная Артемиза закричала: – Убери лапы, висельник проклятый! В последующие дни венецианца, который молчал, словно воды в рот набрал, постепенно приняли, или, по крайней мере, стали терпеть в маленьком отряде. Пикколо и Эмилия были с ним почти любезны. Только Ла Дусер и Гро Леон держались неприступно. Они неустанно следили за всеми поступками и словами Тициано, а галка без конца кружила у него над головой. Одно только утешало исполина. Ослушавшись Зефирину, он все-таки предупредил великого магистра. Вилье обещал дать подкрепление рыцарю Фолькеру, который неотступно следовал за ними. Таким образом, день за днем рыцари из ордена и княгиня Фарнелло двигались по Испании на расстоянии лье друг от друга. Дорога, местами немощеная и ухабистая, вела через Утиел, Кастильо де Гарсимуньос, Алкасар де Сан Хуа прямо в Гвадалахару… Одно обстоятельство очень удивило Ла Дусера: в Испании все говорили по-испански! – Рогоносцы недоделанные! Не могут, как порядочные люди, болтать по-французски! – ворчал великан. Второе наблюдение, проезжая мимо маленьких городков, сделала Плюш: – Фижмы здесь носят пышнее, чем в Италии, сударыня… Вам нужно сменить гардероб… В Сицилии Зефирина потеряла все: те несколько платьев, что у нее были, она приобрела на Мальте, где и не слышали о последних веяниях моды. Словно провинциалка, ослепленная роскошью, молодая женщина из окна портшеза или со спины мула, если ехала верхом, смотрела на дам высшего общества, прогуливавшихся возле церкви, всегда в сопровождении лакея или дуэньи. Скрывая лица мантильей, прекрасные испанки с гордостью демонстрировали свои «гуардаинфанте», гигантские фижмы, на внутренних негнущихся обручах, благодаря которым топорщились, начиная с талии, все нижние юбки и платье, придавая одежде форму колокола. Глядя на них, Зефирина чувствовала себя неуютно. Но у нее не оставалось времени грустить по этому поводу, ибо она была занята материальной стороной путешествия. Десять тысяч цехинов таяли на глазах. По вечерам Зефирина должна была удостовериться, купили ли Ла Дусер и Пикколо кур и жаркое у крестьян или куропаток и кроликов у охотников. На это уходило несколько реалов. В противоположность гостеприимным французам, у которых пища имелась в изобилии, на испанских постоялых дворах было лишь то, что привозил с собой сам путешественник. На остановках Зефирине удавалось раздобыть для себя и своих женщин кровать, а для мужчин – охапку соломы в общих комнатах. Один Ла Дусер спал, завернувшись в одеяло, на пороге комнаты Зефирины. Но и в комнатах, и в конюшне кишели блохи, с которыми соперничали только клопы. Наутро все начинали беспрерывно чесаться. Зефирина, узнав, что здесь продается все, даже то, чего не существует, сделала еще одно открытие: вентерос[116] были большими мошенниками, чем разбойники с большой дороги. На каждой остановке Зефирина и ее люди «теряли» один сундук из багажа. Если так продолжалось бы дальше, они приехали бы в Мадрид с пустыми руками. Ла Дусер решил следить за багажом, чтобы поймать вора, но испанцы оказались ловчее его. Прекратить кражи удалось только Тициано, вступившему с вентерос в переговоры. – Чтобы не случалось больше «пропаж», синьора, нужно платить на чай пять реалов сверху! Зефирина так и поступила, и кражи прекратились, словно по волшебству. С этого дня Ла Дусер стал вести себя почти вежливо по отношению к венецианцу. Зефирину удивлял гордый и обидчивый характер жителей этой страны. Хотя все испанцы были чрезвычайно любезны, у молодой женщины сложилось впечатление, что все они, от мала до велика, презирают остальной мир. Горожане и крестьяне, с которыми доводилось общаться Зефирине, казалось, с трудом верят, что в мире существуют, кроме Испании, другие земли и другие короли. Чем дальше Зефирина продвигалась по стране, тем сильнее ее мучило нетерпение. Ей хотелось подстегнуть мулов и помчаться к цели во весь опор. Однажды утром ее постигло огромное разочарование. – Эта венецианская задница исчезла! Сообщая новость, Ла Дусер с упреком смотрел на Зефирину. Она поверила в клятвы Тициано, надеялась, что ее снисходительность не будет иметь слишком тяжелых последствий. Чтобы Ла Дусер не слишком торжествовал, она заявила: – Этого я и желала. Ла Дусер удалился, бормоча что-то невразумительное. Кроме беспокойства, которое испытывала Молодая женщина при мысли о том, что Тициано может поставить в известность донью Гермину о ее намерениях, Зефирина вспомнила об отданном ему золоте. Она оплакивала свою тысячу реалов, как настоящий скупец, и думала, не лучше ли было послушать Ла Дусера и позволить прикончить венецианца. Она как раз размышляла об этом, когда на девятнадцатый день пути, гораздо более утомительного, чем путешествие на корабле, перед маленьким отрядом показались стены Гвадалахары. Зефирина заметила крест, возвышавшийся на высокой башне Аламбры. Гро Леон вспорхнул к воронам, которые кружились в голубом небе. На постоялый двор опустилась ночь, когда Вилье де Лиль-Адан через рыцаря Фолькера передал Зефирине записку: «Сегодня, когда пробьет полночь, у южной потайной двери дворца де Л'Инфантадо».ГЛАВА VII СЕСТРА И ПРИНЦЕССА
Гвадалахара, как было известно Зефирине, служила в свое время оплотом римлян; затем завоеватели – мусульмане – прозвали ее «Каменная река», откуда и произошло испанское название. Город, за который в течение всего XII века сражались христиане и арабы, был взят Альваром Фаньесом, боевым соратником Сида, но через некоторое время вновь отбит маврами. Добившись, наконец, в 1441 году статуса свободного города, Гвадалахара стала частью владений могущественной семьи Мендоса, герцогов де Л'Инфантадо и испанских грандов, она стала их главной резиденцией. В пол-двенадцатого Зефирина в надвинутом на глаза капюшоне, в сопровождении Пикколо, поднималась к дворцу, совершенно не представляя, что ее ожидает. Подозрительный Гро Леон летал вокруг своей хозяйки. Ла Дусера она предпочла оставить, чтобы тот охранял Коризанду, ибо опасность грозила отовсюду, в том числе и со стороны венецианца. Ночь выдалась прохладная. Ожидая возле стены, Зефирина пожалела, что не надела под накидку шаль. С двенадцатым ударом, скрытая в небольшой стене низенькая дверь приоткрылась. Человек с фонарем сделал знак молодой женщине и ее оруженосцу следовать за ним. Гро Леон, в свою очередь, хотел залететь вовнутрь. Мужчина захлопнул дверь перед самым его клювом. Обиженный Гро Леон поднялся над стенами и увидел, как его хозяйка пересекает двор, окруженный галереей, и входит в другую потайную дверь, ведущую во дворец. Человек с фонарем молча поднимался по винтовой каменной лестнице впереди Зефирины и Пикколо. Дворец, казалось, никто не охранял, если только этот человек не выбрал дорогу, известную ему одному. – Мы идем к великому магистру? – прошептала Зефирина. Продолжая подниматься, человек приложил палец к губам. Оказавшись наверху, он тихонько постучал в дверь. Ему открыл лакей без ливреи. Мужчина прошептал ему на ухо несколько слов. Лакей сделал знак пройти в коридор, который охранял. Человек с фонарем продолжил путь. Миновав коридор, он открыл следующую дверь, ведущую в пустую приемную. – Останьтесь здесь, – прошептал он Пикколо. Оруженосец сделал протестующее движение. Зефирина успокоила его жестом. Человек с фонарем приподнял ковер, отделяющий приемную от молельни. – Никуда не уходите, сударыня… мы пришли… – сказал он на очень хорошем французском. Зефирина хотела что-то спросить, но проводник уже исчез. Зефирину начали раздражать все эти тайны. Она подождала несколько мгновений, которые показались ей вечностью. Терпение никогда не входило в число ее добродетелей. Она стала нервно постукивать ногой. Молодая женщина уже собиралась вернуться к Пикколо, когда женская рука приподняла ковер, и в комнату вошла одетая во все белое дама. Зефирина мгновенно узнала ее. – Ваше королевское высочество! Зефирина склонилась в глубоком реверансе. Она хотела поцеловать край белого платья, но принцесса удержала ее. – Встаньте, дорогая Зефирина… Маргарита Ангулемская нежно заключила ее в свои объятия. Поцеловав Зефирину в лоб, принцесса повлекла ее к скамье. Молодая женщина хотела остаться на ногах, но Маргарита заставила ее сесть рядом. – В подобной ситуации не до церемоний. Разве мы могли подумать всего пять лет назад в Блуа, что встретимся вот так, дорогая Зефирина. Я все знаю, Вилье де Лиль-Адан поведал мне о ваших несчастьях… и я хочу помочь вам. – Сударыня… – прошептала Зефирина, – признательность моя… – Не будем меняться ролями, ведь это наша признательность – моя и моей матери – навсегда принадлежит вам. Нам известно, как бесстрашно вы вели себя в Пиццигетоне и в Риме, пытаясь освободить короля[117]. Мы бесконечно вам благодарны. После Павии мы поняли, кто нам предан по-настоящему… Итак, что я могу сделать для вас? – просто спросила Маргарита. Зефирина с волнением смотрела на принцессу. В возрасте тридцати четырех лет Маргарита Ангулемская, дочь Карла Орлеанского и Луизы Савойской, сестра Франциска I, вдова Карла IV, герцога Алансонского, обладая большими нежными, хотя и слегка потускневшими глазами, очаровательным округлым ртом, говорившим о чувственности и украшавшим ее довольно круглое, ласковое лицо, не была по-настоящему красива, но так мила, что ее обаяние, улыбка, ум и благородство характера привлекали к ней сердца. – Сударыня, мне необходимо увидеть императора, чтобы походатайствовать о своем муже, если он еще жив… – Без пропуска вам это не удастся, Зефирина. – Увы, мне это известно. – У вас его нет, а у нас есть…, – с тонкой улыбкой произнесла Маргарита. – Карл V должен был дать мне пропуск, чтобы я смогла повидать брата. Он написал: «Выдан госпоже Маргарите Французской и ее фрейлинам», не уточнив, сколько их. С сегодняшнего вечера вы поступаете ко мне на службу, вы сможете проходить везде, и мы сыграем отличную шутку… Казалось, Маргариту веселила возможность провести победителя своего брата. – Сударыня, должна сказать вашему высочеству, что я не одна, – прошептала Зефирина. Маргарита сделала жест, означавший «вздор». – Завтра утром ваша свита соединится с моей… Маргарита Ангулемская оглядела мрачное черное платье Зефирины. – Только нужно приодеть вас, дитя мое! Она хлопнула в ладоши, и появился человек с фонарем. – Сильвиус, – приказала Маргарита, – позаботьтесь о княгине Фарнелло, это друг, преданный нашему делу. Идите, Зефирина, и да хранит вас Господь. Аудиенция была закончена. Зефирина поцеловала принцессе руку и, пятясь, вышла. Симон де ла Э[118], которого принцесса называла ласковым уменьшительным именем Сильвиус, с рвением принялся помогать Зефирине. Поскольку молодую женщину удивило, что Маргарита нашла пристанище в этом дворце испанских грандов, Сильвиус объяснил, что герцоги Мендоса предоставили принцессе свою резиденцию, дабы не нанести удар по самолюбию короля Франции и «ублажить» Карла V, который не желал принимать ее в собственных владениях. Сильвиус добавил, что Франциск I популярен в Испании и что простой народ, так же как и аристократия, шокированы вестью о жестоком заточении.* * *
Одетая, как принцесса Маргарита и ее фрейлины, в белое (цвет королевского траура) Зефирина со следующего утра оказалась в гораздо более комфортабельной обстановке. При свете утреннего солнца в новых шелковых одеждах, чья яркость подчеркивала цвет ее лица и блеск золотисто-рыжих волос, Зефирина, подобно бабочке, вылупившейся из куколки, возродилась, обретя прежнюю красоту и здоровье. На рассвете у нее даже пробудился аппетит, и она с удовольствием выпила куриный бульон с яйцами, приготовленный Эмилией. Только одно огорчало Зефирину. Она не повидала великого магистра и не поблагодарила его. Вилье де Лиль-Адан на рассвете уехал в Толедо, где надеялся «поймать» Карла V. Четырнадцать лье отделяли Гвадалахару от Мадрида. Понадобилось около четырех-пяти дней езды на упряжках, лошадях, мулах, портшезах, повозках, запряженных быками, чтобы преодолеть их. Часто принцесса Маргарита просила Зефирину пересесть к ней в карету, чтобы поболтать. Зефирине доставляло удовольствие беседовать с принцессой. Маргарита была очень образованной женщиной, и одна лишь Зефирина могла соперничать с ней. Принцесса была сильнее в иврите, Зефирина лучше владела греческим. Во время этих интеллектуальных поединков, которые так ей нравились, Зефирина обретала новые познания. Овдовев совсем недавно, принцесса Маргарита собиралась вновь выйти замуж за короля Наваррского Генриха д'Альбре. Казалось, ее привлекала мысль царствовать в этой стране. Она обладала вольнодумным умом и хотела защитить еретиков[119] в своем будущем королевстве. Монах Лютер, о котором Зефирина не раз слышала, что он приспешник сатаны, очень интересовал госпожу Маргариту. Зефирина слушала внимательно. Она не знала, что и подумать о таких не слишком-то католических взглядах. Очень живая, Маргарита уже успела переменить тему. Она хотела детей. Несколько раз она просила Зефирину принести Коризанду. Ей явно нравилось играть с малышкой. Иногда Маргарита декламировала старые поэмы на языке северных провинций Франции. Ей нравился трувер Блонде де Нель, спутник Ричарда Львиное Сердце:Люблю на жаворонка взлет
В лучах полуденных глядеть:
Все ввысь и ввысь – и вдруг падет
Не в силах свой восторг стерпеть.
Ах, как завидую ему, когда гляжу под облака!
Как тесно сердцу моему, как эта грудь ему узка!
ГЛАВА VIII ИДАЛЬГО ИЗ МАДРИДА
– Эй, день добрый, сеньор! Всадник, к которому обратилась Зефирина, только склонил голову в черной шляпе с пером. – Куда ведет эта дорога? – спросила Зефирина, высунувшись из окна кареты. Уже два раза свита госпожи Маргариты сбивалась с пути в предместьях Мадрида, упираясь то в стену, то в ров в поисках входных ворот в город. Раздосадованная на своих оруженосцев, совсем не понимавших местного наречия, принцесса попросила Зефирину расспросить всадника, которого сопровождал кабальерисо[120] без ливреи. Видимо, им встретился один из мелких идальго, если судить по темному плащу, штанам и бедному камзолу, потертому на рукавах. Единственным светлым пятном в его костюме был гофрированный воротник, да и тот достаточно запачкался от долгого пути. Простой вопрос Зефирины, казалось, поставил его в тупик. – Чего вы хотите? – спросил идальго. У него был непонятный акцент, чудная манера говорить, спотыкаясь на каждом слове. Зефирина с трудом понимала его. Ее удивили пристальный взгляд и бледность лица. «Я разговариваю с идиотом», – решила молодая женщина. Разинутый рот всадника убедил ее в невысоком уровне его умственных способностей. Несмотря на молодость, он носил усы и реденькую, довольно запущенную бороденку. – Куда ведет эта дорога? – повторила Зефирина, и сразу же добавила: – Вы понимаете? – Очень хорошо, – ответил, слегка заикаясь, идальго. Он явно норовил заглянуть вовнутрь кареты. Рыжая шевелюра Зефирины скрывала от него принцессу Маргариту, сидевшую на задней скамье. – Укажите самую короткую дорогу в Алькасар, – продолжала Зефирина. – Налево мост, – с трудом выговорил идальго. Он обернулся к своему кабальерисо, и тот скороговоркой пробормотал в седую бороду: – Направо, подъем. Зефирине послышалось, что кто-то хихикнул. Она не вполне разобрала, что ей сказали. – Могу я попросить вас об одолжении? При этих словах во взоре всадника сверкнула молния, затем он снова молча наклонил голову. – Говорите медленно, сударь, я вас не понимаю, – очаровательно улыбнулась Зефирина. Быть может, всадник ожидал услышать иную просьбу? Он удостоил собеседницу тенью улыбки, тронувшей углы большого рта, а затем спросил: – Вы говорите по… по-французски? – Да, мы несчастные французы, заблудившиеся у стен Мадрида. – Я… це… ценю… ваш яз…ык. Мы… мы… едем… в… том же… на… правлении, это не… далеко… Сле…дуйте за нами. Если идальго был посредственным оратором, то всадником оказался превосходным и, махнув рукой в перчатке, пригласил кортеж следовать за ним. Ехавший сзади кабальерисо, казалось, был недоволен поворотом событий. Он следовал за своим господином словно тень и, проезжая, одарил Зефирину взглядом столь же дерзким, сколь злобным. Молодая женщина откинулась назад. – Какие же мрачные эти испанцы, – усмехнулась она. Маргарита нервно обмахивалась веером. – Вашему высочеству плохо? – забеспокоилась Зефирина. – Просто не терпится встретиться с дорогим братом. Вы не заметили ничего необычного в этом идальго? Из окна кареты принцесса Маргарита Ангулемская провожала глазами черный силуэт кабальеро. – Несколько странный… глуповатый и, конечно, заика, сударыня! – сказала Зефирина со смешком. – Но он знает дорогу. Принцесса Маргарита рассмеялась вслед за своей спутницей. На несколько мгновений они стали всего лишь молодыми насмешницами. – Я уже где-то видела его лицо, – продолжала Маргарита. – Но не могу вспомнить где… Прекрасный белый лоб принцессы перерезала озабоченная морщинка. – Ну, сударыня, мужайтесь, мы приближаемся к цели. Зефирина указала на улицы Мадрида. Везде царило большое оживление. Двигавшемуся за идальго кортежу трудно было прокладывать дорогу. Не такому большому, как Париж, городу Мадриду не повезло – он был лишен судоходной реки. Это вынуждало передвигаться только по земле: на ослах и в повозках, запряженных мулами и быками. Длинные караваны создавали нескончаемые вереницы за городской чертой перед воротами в крепостной стене. В самом городе крики торговцев безделушками, парфюмерией и вышивками смешивались с возгласами жителей, занимавшихся своими делами, тащивших дрова, птицу или кувшины с водой. – До свидания! – До скорого! – Бутылку вина! – Осторожно! – Завтра! – Осторожно, вода! Во всей этой сумятице Зефирине удалось заметить, что совсем немногие дома имеют два этажа. Даже солидные здания выглядели непритязательно. Они были построены из самана или кирпича. Лишь дома знатных вельмож имели каменные фасады. Окна маленькие, часто их закрывал смазанный маслом пергамент, через который проникали лишь слабые лучи света. Почти на всех были стальные решетки, служившие, скорее, не для украшения здания, а для защиты от бродяг или… предприимчивых любовников. Когда они подъехали к Каль Майор, главной артерии города, зловоние стало невыносимым. Все дамы из французской свиты достали кружевные платочки. Зефирина поняла причину такого смрада. Жители выливали содержимое своих ночных горшков прямо из окон и с балконов, сопровождая это деяние знаменитым криком, предназначенным для того, чтобы предупредить вероятного прохожего. «Осторожно, вода!» – смысл этого возгласа Зефирина поняла только теперь. Земля, раскисшая от дождей, превратилась в тошнотворную жижу, в которой увязали быки, лошади, мулы. После многих усилий, криков и ударов хлыстом по бокам упрямых мулов перед кортежем показались четыре непохожие друг на друга башни Алькасара. Принцесса Маргарита прижала руки к груди. Крепость, бывшая некогда охотничьим павильоном, была возведена два столетия назад на месте старой арабской постройки. Алькасарский дворец имел прямоугольную форму. Его «благородный» каменный фасад был обращен к городу. Мраморные балконы и лепные украшения не только делали здание более красивым, но и придавали ему некоторую величественность. Зефирина выглянула в окно, чтобы поблагодарить идальго за помощь. Но он исчез, как и его кабальерисо, без предупреждения. Главные ворота охранялись часовыми. Принцессе Маргарите пришлось показать пропуск. После переговоров, которые вела Зефирина, наконец, появился офицер с толстым подрагивающим брюхом. Зефирина сразу же узнала его. Это был пузатый капитан Эррера, которого Франциск I привел в бешенство в Пиццигетоне[121], а папа Клемент VII едва не свел с ума в замке Святого Ангела[122]. Зефирина испугалась, как бы испанец не узнал ее и не всполошил весь гарнизон. Она закрылась веером. К счастью, Эррера не обратил на нее внимания. Изучив пропуск со всех сторон, он исподлобья взглянул на принцессу Маргариту и дал разрешение сестре Франциска I проехать в крепость в сопровождении нескольких повозок с фрейлинами и оруженосцами. Остальному эскорту пришлось остаться снаружи. Многочисленная свита госпожи Маргариты внушала толстяку Эррера подозрение. Обеспокоенная судьбой Коризанды и своих людей, Зефирина выглянула из окна. – Ла Дусер! – позвала она. Великан успел крикнуть ей своим громовым голосом, что отведет их маленький отряд в ближайшую гостиницу. Среди всеобщей суматохи, шума и ржания переминающихся с ноги на ногу лошадей, Зефирина не расслышала названия. Карета уже въезжала под своды Алькасара. На этот раз король Франции мог заслуженно носить титул «самого надежно охраняемого в мире пленника». Если фасад Алькасара был из камня, то, как заметили принцесса Маргарита и Зефирина, медленно проезжая через многочисленные дворы крепости, остальные крылья были сложены из кирпича. Место было мрачным, не отличалось ни удобством, ни красотой. – Бедный брат! – прошептала Маргарита, с трудом сдерживая слезы. При появлении принцессы Маргариты стража в каждом портике брала на караул. И делалось это скорее не из вежливости, а для того, чтобы произвести впечатление на посетительницу. Гарнизон насчитывал по меньшей мере четыреста человек. Наконец, карета остановилась в третьем дворе у подножья южной башни. Маргарита дрожала от нетерпения. Зефирина хотела выйти, чтобы помочь спуститься принцессе. Отряд стражников окружил упряжку. – Это означает, что мы тоже пленницы? – высокомерно спросила принцесса. Солдаты и командующий ими офицер хранили молчание, которое не сулило ничего хорошего. Не желая тревожить принцессу, Зефирина с беспокойством наблюдала за этой демонстрацией силы. Они были отрезаны от своих. Лишь одно существо могло добыть им какие-то сведения. Округлив губы, Зефирина свистнула. Откуда ни возьмись появился Гро Леон. Сняв шлемы, испанские стражники в замешательстве смотрели на большую черную птицу, бесцеремонно залетевшую в карету. Они получили приказ, касающийся человеческих существ, но не пернатых. – Saint! Simeon! Sardine![123] – прокаркал Гро Леон. Зефирина вздохнула с облегчением. Проезжая, она заметила недалеко от Алькасара гостиницу «Святой Симеон». – Коризанда и наши спутники хорошо разместились? – Serenite! serenssimt! Saucisse![124] – подтвердил Гро Леон. – Какая чудесная птица, – грустно проговорила Маргарита. – Вот если бы она смогла узнать что-нибудь о моем брате. – Гро Леон, слетай и посмотри… Король… король Франции, Франциск… помнишь… найди его… в башне… и возвращайся… ты понял? – прошептала Зефирина. – Государь! Клятва! Киска! – прокаркал Гро Леон. Молодые женщины с волнением ожидали его возвращения. Через несколько минут галка вновь опустилась на окно кареты. – Sire! Sante! Saigner! Saumon! Succomber! Stguestre! Sermon! Sagourn![125] – Что он говорит? – забеспокоилась принцесса, с трудом понимавшая язык Гро Леона. – Думаю, он хочет предупредить нас, что… король, возможно, болен, – осторожно ответила Зефирина. Маргарита с трудом удержалась, чтобы не вскрикнуть. Внезапно Зефирина смолкла, так и оставшись с открытым ртом. Юный идальго, у которого они спрашивали дорогу в Алькасар, появился на ступенях крыльца. Его окружал одетый в черное почетный караул в кирасах, рядом стояли комендант крепости Аларкон и неаполитанский вице-король, мессир Лануа, тот самый, которому Франциск I отдал в Павии свою шпагу. Зефирина прекрасно знала их, как и они ее. Не желая поддаваться страху, она сосредоточила внимание на своем утреннем собеседнике. Все еще в сопровождении кабальерисо, идальго был уже без плаща и шляпы с пером. В своем старом черном камзоле и штанах буфами он казался выше, но одновременно более юным и хрупким, чем на лошади. Сейчас, без черной шляпы, при солнечном свете яснее стали видны черты его лица и восковая бледность кожи, рыжие волосы, довольно большие и слегка прищуренные глаза, орлиный нос над кривым ртом придавал ему странный и загадочный вид. – Боже милосердный, Зефирина, – простонала Маргарита в карете. – Посмотрите, что мы наделали… Но Зефирина уже не нуждалась в объяснениях. Она, словно зачарованная, смотрела на грудь «идальго». На черном камзоле сверкала цепь, составленная из пластинок в форме буквы «Б», обозначающей Бургундию, и сверкающих камней: на конце ее висел орден Золотого Руна, выше которого не было наград в мире рыцарства!ГЛАВА IX «ЛЮБЕЗНЫЕ БРАТЦЫ»
– До… добро пожаловать… ку… кузина! – заикаясь, проговорил «идальго». – Сир… ваше величество! Даже если бы молния ударила во двор Алькасара, Маргарита и ее эскорт не были бы так потрясены. С помощью Сильвиуса принцесса выпорхнула из кареты, чтобы в глубоком придворном реверансе склониться перед императором. Будь ситуация не столь драматичной, Зефирина прыснула бы со смеху. Самого могущественного владыку в мире она окликнула как простого смертного: «Эй, кабальеро!». «Надо же ему было прогуляться без сопровождения, нарядившись в обноски», – подумала Зефирина, низко приседая, как и все остальные фрейлины. Они являли собой очаровательное зрелище. Принцесса Маргарита и ее придворные дамы, словно белые цветы в венке, склонились перед черным божеством, властелином, грозой Запада: Карлом V. Хотя все фрейлины потупились, Зефирина подняла глаза, чтобы ничего не упустить из этой исторической встречи. Таким образом, прямо перед ней почти на расстоянии вытянутой руки оказался «Антихрист», «приспешник сатаны», «кровопийца» Европы. Смертельный враг, который заточил папу римского, победил в Павии Франциска I, быть может, похитил ее собственного мужа князя Фарнелло, «сообщник» доньи Гермины де Сан Сальвадор, друг предателя Бурбона был здесь, всего в двух шагах от нее. Зефирина с трудом сдерживала дрожь. Если бы не некоторая надменность и не заикание, Карла V можно было бы принять за славного молодого парня из провинции. Лишь блеск его глаз свидетельствовал о необыкновенном уме, безжалостной твердости и, как догадывалась Зефирина, о макиавеллиевском притворстве. Карл Люксембургский и Габсбургский, родившийся в Ганде, выросший в Брюсселе, германский император – на четверть фламандец, на четверть австриец, на две четверти испанец по крови – король Испании, сын Филиппа Красивого, эрцгерцога Австрийского, и несчастной безумной Жанны Кастильской, считал, как было известно Зефирине, герцогство Бургундское, принадлежавшее его предку Карлу Смелому, своим достоянием и наследством, по божественному праву. Высшим доказательством служил Орден Золотого Руна, который он носил на шее. Эта высшая награда рыцарства была учреждена в 1429 году в Брюгге герцогом Бургундским Филиппом Добрым в честь своей возлюбленной Марии Крюмбургской, чьи прекрасные белокурые волосы иногда давали повод для насмешек… Под лучами солнца копна волос Зефирины светилась, своим блеском соперничая с Золотым Руном! – Здра… здравствуйте, ку… кузина, – повторил Карл V. Подняв Маргариту Алансонскую, он снизошел для того, что запечатлел на ее щеке поцелуй. – Сир, я благодарна вашему величеству за любезность и доброту, с которой вы даровали мне пропуск, чтобы я смогла повидать своего августейшего брата. – У… Увы… доро…гая ку… кузина, наш дорогой… дорогой брат… тяжело болен. Если бы Карл V не поддержал ее, Маргарита бы упала от волнения. – Дон… Ра… Рамон, – позвал император. «Кабальерисо» сразу же подошел к своему господину. Привыкший угадывать его желания, мысли, а иногда и заканчивать фразы, дон Рамон с поклоном объяснил. – Его величество император с прискорбием сообщает вашему королевскому высочеству, что его брат король Франции страдает от гнойного нарыва в голове. Когда эта весть дошла до его величества, находившегося тогда в Сеговии, император сразу же послал собственных медиков, дабы те лечили короля, и пожелал лично следить за ходом лечения. Но, сударыня, его величество не может скрыть от вашего королевского высочества, что после трех кровопусканий у августейшего больного началась тяжелейшая лихорадка. – Боже мой, сир, ваше величество хочет сказать, что мессир мой брат должен получить святое причастие? – простонала Маргарита, обращаясь к Карлу V. – У… увы… сударыня… По… пойдемте, я про… проведу вас… к ко… королю. Несмотря на все свои страдания, принцесса Маргарита не забыла дать знак четверым из своих фрейлин, в том числе и Зефирине, следовать за ней. Капитан Аларкон, комендант крепости, и генерал де Лануа, отвечавшие за пленника, хотели преградить им путь. С присущей всем Валуа надменностью, которую умела напускать на себя при необходимости, Маргарита оросила: – Значит ли это, господа, что мы не свободны в своих действиях и поступках? Зефирина чуть было не хлопнула в ладоши. Аларкон и Лануа смешались. – Ваше высочество, дело в том, что… побег… начал Лануа, который прекрасно знал Франциска I. Измученная принцесса оборвала его: – Уж не думаете ли вы, генерал, что мы намереваемся, моя свита и я, вынести моего умирающего брата под нашими юбками? Аларкон и Лануа покраснели до корней волос. Зефирине показалось, что в прикрытых тяжелыми веками глазах Карла V блеснул веселый огонек. Он не дал Лануа ответить. – Сло… слова герцогини Алансонской достаточно. – Сир, могу поклясться на Библии, что у меня нет в мыслях ничего, кроме желания облегчить ужасную болезнь августейшего брата, – произнесла умная Маргарита и, воспользовавшись относительно хорошим расположением духа Карла V, продолжала: – Имею честь представить вашему величеству моих верных спутниц – мадам де Монорийон, мадемуазель де Невиль, мадемуазель де. Буази Д'Ормез и… мадам де Багатель Фа…ло, все это родовитые дамы из знатных семей. Маргарита предпочла назвать Зефирину ее девичьим именем, чтобы затем «проглотить» Фарнелло, которое могло бы неприятно прозвучать для императорского уха. Зефирина и три другие фрейлины снова присели в реверансе, но Карл V, вновь приняв полусонный вид, едва посмотрел на них. Зефирина подумала, что вряд ли император узнал в ней даму, которая спрашивала у него дорогу. Она немного успокоилась, хотя и была слегка раздосадована. Но, выпрямившись, почувствовала, что ее во все глаза разглядывает дон Рамон, капитан Аларкон и неаполитанский вице-король Лануа! Карл V в знак доброго расположения предложил руку Маргарите. Зефирина и фрейлины последовали за ними, и весь кортеж направился к башне[126]. – Лети, Гро Леон, – прошептала Зефирина, – лети к Коризанде и… хорошенько охраняй ее… Возвращайся ко мне завтра утром. Ты понял? – Separei! Serein! Secous![127] – прокаркала птица и исчезла за башнями. Внутри главная башня представляла собой настоящее оборонительное сооружение. Воины с алебардами и арбалетами охраняли все выходы, коридоры, приемные и лестницы. Кортеж начал подниматься по большой винтовой лестнице, ведущей на верх башни. Через бойницы Зефирина увидела на юге, за стенами Ле Мансанарес, затерянную среди рыжеватых песчаных засушливых полей маленькую деревушку. Зефирина машинально считала ступени: двести десять… двести одиннадцать… двести двенадцать… Впереди Карл и Маргарита поднимались все быстрее и быстрее, хотя двигали ими разные побуждения. Зефирина, как и вся свита, начала уже задыхаться, когда почувствовала, что кто-то сжал ей руку. Это был мессир де Лануа. – Княгиня Фарнелло, – прошептал он, – я был на вашей свадьбе… Я вам не враг, – заверил неаполитанский вице-король, главнокомандующий войсками Карла V в Италии. Непонятно почему, но Зефирина больше доверяла этому победителю при Павии, кому Франциск I отдал свою шпагу, чем Аларкону, палачу Рима. Однако она не решалась заговорить. Лануа настаивал: – Я очень любил вашего мужа, хотя политические игры нас разъединили… Приношу вам свои самые искренние соболезнования по поводу его кончины. Зефирина схватила Лануа за рукав колета. – Мессир, быть может, Фульвио жив… Я здесь, чтобы просить императора о снисхождении. Заклинаю вас, именем Господа, устройте мне встречу с его величеством… чтобы я смогла упасть к его ногам… Лануа нахмурился. – Не делайте этого. Сопротивляйтесь ему, он это любит… ничего вам не обещаю, но попробую, княгиня, я попробую… Зефирина чуть было не расцеловала его. Лануа быстро поднялся и, нагнав Маргариту, и императора, занял место позади них. Зефирина вновь принялась отсчитывать ступени. Наконец, они вошли в приемную, которую охраняло двадцать стражников с алебардами. Зефирина определила, что они находятся более чем в ста футах над землей. Даже при условии, что Франциск I был бы здоров, это слишком высоко, чтобы бежать при помощи веревочной лестницы. В приемной их ждал герцог Анн де Монморанси. Маргарита с чувством сжала руки другу детства, также пленнику Павии, но отпущенному на свободу и исполнявшему теперь роль полномочного посла между Карлом V и своим королем. – Как он, Анн? – Плохо, сударыня, очень плохо. Маргарита оперлась на руку Монморанси и миновала самую охраняемую в мире дверь. Кроме бывших уже там врачей, в комнате пленника оказалось двенадцать человек: Анн де Монморанси, принцесса Маргарита и Карл V, Лануа, Аларкон, дон Рамон, четыре фрейлины и Сильвиус, лакей принцессы. Зефирина отдавала отчет, что она, благодаря стратегии Маргариты, попала к Франциску I. Остановившись рядом с ширмой и спрятавшись за толстую Иоланду де Невиль, чтобы казаться совсем незаметной, она с грустью взирала вокруг себя. Где великолепие Блуа и Шамбора? В темнице Франциска I не было ничего королевского. Она представляла собой плохонькую комнатку средних размеров, более широкую в правой части за счет ниши в стене, где стояли два стражника – прямо напротив единственного окна, забранного двойным рядом железных прутьев. Стены, однако, были затянуты коврами с сетчатым узором, в каждой ячейке которого находилась саламандра и герольдическая лилия. У Зефирины, видевшей короля во всем его великолепии, слезы выступили на глазах. Она встала на цыпочки, так как толстуха Невиль закрывала весь обзор. В кровати с альковом лежал без сознания Франциск I. Он сильно исхудал. Зефирина с трудом узнала гордого рыцаря, тридцатилетнего владыку в этом сломленном, постаревшем в заточении человеке с изможденным, местами опухшем и покрасневшим лицом, сотрясающегося в конвульсиях, в насквозь промокшей рубашке, расстегнутой на тощей груди. – Увы… мой дорогой брат! – простонала, бросившись на колени у изголовьякоролевского ложа, Маргарита. Она схватила Франциска за руку и принялась покрывать ее поцелуями. При этом прикосновении король судорожно дернулся и с трудом открыл глаза. В полубессознательном состоянии он прошептал, узнав все же свою сестру: – Map… га… рита. Вы приехали… милая моя… а… я умираю… – Нет, я приехала ухаживать за вами, вылечить вас, рассказать о нашей матери… посмотрите, кто рядом со мной, кто оказал высокую честь, придя к вам узнать о вашем здоровье… Император! Остекленевшим взглядом, казалось, обращенным уже в мир иной, Франциск I окинул всех собравшихся у кровати. Видимо, он никого не узнавал. Внезапно еле уловимая искра, которую Зефирина так часто видела в этих ореховых глазах, вспыхнула и так же быстро погасла. Франциск I узнал своего злейшего врага, того, кого он видел только на портретах, кто держал его в этой «приличной тюрьме», кто, наконец, все время отказывался встретиться с ним с глазу на глаз. Для Зефирины одного этого взгляда было достаточно. Конечно, король еле жив, но не оставалось никаких сомнений, что великий стратег Франциск I решил использовать даже эту ужасную болезнь в своих интересах. С хриплым стоном он откинулся на подушки. – Он умер? – прошептал Карл V, от волнения перестав заикаться. Потерять своего королевского заложника, когда цель уже так близка, было бы слишком несправедливо. Карлу V Франциск был нужен живым, чтобы подписать мирное соглашение, очень выгодное… для него. Французские и испанские медики бросились к королю с зеркалом. – Нет, его величество еще дышит. Они поднесли к носу больного флакон с фиалковым настоем. Франциск пришел в себя. Он попытался сесть, но был для этого слишком слаб. Анн де Монморанси и Лануа помогли ему. Франциск I протянул руки к Карлу V. – Император! Сеньор мой[128]… – прошептал он еле слышно. Все свидетели этой сцены плакали. Внезапно произошло невероятное. Карл V, сраженный волнением, бросился к больному и заключил его в свои объятия. Двое злейших врагов некоторое время безмолвствовали: Маргарита, стоя на коленях, молилась. Все присутствующие последовали ее примеру. Толстая Невиль все еще загораживала кровать, и Зефирине пришлось сдвинуться вправо. Карл V чуть не задушил Франциска I в объятиях. – Мессир… король мой… вы видите перед собой вашего слугу и раба… – хрипло продолжал Франциск I. Зефирина не знала, что явилось тому причиной – лихорадка, волнение или объятия Карла V. – Нет, нет, мой славный брат, – запротестовал Карл V, – я… я вижу перед собой лишь… сво… свободного и… на… настоящего друга. Тяжелый вздох вырвался из груди Франциска. – Я всего лишь ваш раб, сир… я прошу великодушия не для себя, а для своих детей…, мой старший сын, наследник французского престола, слишком молод. Голос короля прервался. Карл V рыдал, как и все остальные, кто находился в комнате. Одна Зефирина оставалась спокойной. «Франциск переигрывает. Карл V вот-вот заметит, что над ним насмехаются!» Между тем Франциск I продолжал: – Высшая милость… о которой я молю ваше величество… защитить моих детей от врагов. – Брат мой… дорогой… брат… Мы… клянемся… вам позаботиться о них, как о своих. «На манер Бургундии», – мысленно закончила Зефирина. – И не требовать от моих детей того, дорогой брат, что они не обязаны делать… Поклянитесь в этом, брат мой… «Это значит: если я не подпишу соглашение, то и с них спросу никакого.» – Дорогой брат мой, я… клянусь, – прошептал Карл V, обеспокоенный последней фразой. – Дорогой брат, какая честь… умереть на ваших руках, – «промурлыкал» Франциск. Второй хитрец запротестовал: – Нет, милый брат… вы… вы бу… будете… жить… Не ду… думайте ни о чем другом. Вы будете жить, брат мой. Мы подпишем прекрасное дружеское соглашение между нами и нашими народами, которое урегулирует, наконец, вопрос о Бургундии, ведь она, как вы помните, брат мой, принадлежит мне по праву! – произнес Карл V с яростной убежденностью. Зефирина заметила, что когда император действительно увлечен тем, что говорит, он «забывает» заикаться. – Увы, милый брат, я ничего более не слышу, мои глаза затуманились. Колокола и трубы… Я уже в руках господних. Вы поклялись защищать моих детей… кое королевство… Про… щайте… брат мой. Франциск I откинулся назад. Жан де Ним, первый медик, подошел к нему. – Состояние его величества ухудшается. Он приподнял ему веко. Луи де Бюржанси, еще один медик, прильнул ухом к груди короля. – Ну что, господа? – почти крикнула Маргарита. – Увы, сударыня… У короля начинается агония. – Если не произойдет чуда, ему осталось жить до завтра! – добавил Жан де Ним. Маргарита от отчаяния кусала губы. Зефирина и прочие дамы поднялись с колен. Попрощавшись с Маргаритой, Карл V вышел из комнаты. Когда он проходил рядом с Зефириной, она услышала его слова, обращенные к дону Рамону: – Господь мне… его дал… Господь у меня… его… его забирает[129]! Двуличие в такой момент, это было уже слишком! Врачи показали себя абсолютными дураками. Внезапно обретя столь характерный для себя боевой задор, Зефирина решила: Во-первых, вылечить короля! Во-вторых, устроить ему побег! В-третьих, пойти в атаку на «дорогого братца»!ГЛАВА X НОЧЬЮ В МАДРИДЕ НЕ ВСЕ КОШКИ СЕРЫ!
На Мадрид опустилась ночь. Король Франции умирал. Вдали колокола звонили отходную. В церквях читали заупокойные мессы по Франциску I. Славный испанский народ испытывал живую симпатию к этому пленному королю-мученику. В Алькасаре светилось два окна: одно наверху башни, и другое – в конце северного крыла. В комнате умирающего Маргарита, дворяне из французской свиты, фрейлины произносили отходные молитвы. Несмотря на три кровопускания, лихорадка у больного все усиливалась. Принцесса не отходила от изголовья брата. Стоя на коленях, она держала его за руку. Зефирина не теряла времени. Ей удалось разжалобить стражу и получить разрешение спуститься на кухню. Врачи, бессильные что-либо сделать, покинули комнату умирающего. Завернувшись в свои большие черные плащи и сдвинув на нос остроконечные шляпы, они храпели в приемной. Зефирина вернулась, неся в руках пластырь и дымящийся отвар в оловянном кувшине. Стражники без колебаний пропустили ее в комнату к умирающему. «Велика важность, все равно бедняга скончается утром!» – подумал солдат. Зефирина подошла к Маргарите и, тронув ее за плечо, прошептала: – Сударыня, время не ждет… Позвольте положить это на лоб королю. Помогите мне напоить его. Маргарита тряхнула сбившимися под туретом волосами. – Бедное дитя, вы слышали, что сказали медики… – Это вьючные ослы, а не лекари. Сударыня, прошу вас, выслушайте меня. Один мой друг, ученый фармацевт, который живет в Салон де Прованс, Мишель де Ностр-Дам… – Вы говорите о знаменитом Нострадамусе, который, как уверяют, излечивает от чумы? – недоверчиво спросила принцесса. – Именно о нем, сударыня. Он по дружбе поведал мне один из своих секретов, и этот самый отвар я сейчас приготовила. Если вы приложите ко лбу пыльцу гвоздики, смешанную с древесиной кипариса, лавандовой настойкой, тмином, фиалкой и зернами подсолнуха, растертыми вместе с хлебной плесенью… болезнь оставит тело… Еще надо дать выпить отвар. – Хлебная плесень! – прошептала с отвращением Маргарита. Франциск I хрипел. Его вздувшееся лицо багровым пятном выделялось на кружевных подушках. – Мы теряем время, сударыня, – с мольбой произнесла Зефирина. Маргарита видела, что ее брата уже ничто не спасет. Безнадежно махнув рукой, она помогла Зефирине положить повязку на мокрый от пота лоб несчастного. Серебряной ложкой она разжала стиснутые зубы брата, а молодая княгиня стала капля по капле вливать в рот густую темно-коричневую жидкость. Франциск поморщился, затем стал отплевываться, но все-таки большая часть микстуры попала ему в желудок. Зефирина опустилась на колени рядом с принцессой и принялась ждать, с тревогой вглядываясь в лицо короля. Она вытирала ему лоб платком. Франциск I долго лежал неподвижно, затем его начала бить дрожь, обильный пот заструился по лицу. Он стонал, руки его пылали от жара, грудь увлажнилась. Испуганная Маргарита позвала архиепископа, который вместе с медиками ждал в приемной. Принцесса потребовала мессу. В момент наивысшего возбуждения король выпрямился и прошептал: – Господь излечит мою душу и тело… прошу вас, дайте мне Его… Архиепископ просунул облатку святого причастия между пересохших губ больного. Тот упал на подушки. Все присутствующие читали отходную молитву. Стоя на коленях рядом с кроватью, Зефирина сжимала руку короля. Она надеялась, что ничего не забыла из рецепта Нострадамуса. Дрожа от волнения, она ждала. Мутный взгляд из-под полуприкрытых век остановился на ней, король узнал ее. Зефирина почувствовала слабое пожатие королевских пальцев. Ей показалось, что рука стала не такой горячей. Внезапно гнойный нарыв прорвался, и через нос и уши короля на рубашку хлынула желтая густая жидкость. Подбежали с салфетками врачи, принялись вытирать Франциску I лицо. – Чудо! Это чудо! Если воды выйдут сверху и снизу, его величество будет спасен! – Это чудо евхаристии, – возгласил архиепископ. Гной продолжал выделяться. Медики попросили Маргариту и фрейлин выйти из комнаты, чтобы поменять белье августейшему больному, поскольку теперь можно было ожидать естественных отправлений. В приемной принцесса сжала в объятиях Зефирину. – Ты спасла его, дорогая моя, – в слезах прошептала Маргарита. – Проси у меня, чего хочешь. Зефирина поцеловала руку герцогини Ангулемской. – Сударыня, если мне придется исчезнуть на какое-то время, могу ли я поручить вашему высочеству свою дочь Коризанду? – Поступай, как считаешь нужным, Зефирина, иди куда зовет тебя долг… Клянусь, что позабочусь о Коризанде, как о собственной дочери. Принцесса Маргарита зарыдала. Вокруг суетились слуги: одни убирали грязные покрывала больного, другие несли чистое белье. Мулат принес дрова, чтобы разжечь огонь в камине. Зефирина вздрогнула, взглянув на этого человека черной расы, возможно вывезенного из Африки каким-либо испанским или португальским моряком. У негра были голова, руки, ноги – все как у людей, за исключением темного цвета кожи и кудрявых волос, он ничем не отличался от остальных. Внезапно забрезжившая мысль обрела в голове Зефирины законченную форму, и молодая женщина невольно улыбнулась. Маргарита взглянула на нее с удивлением. – У тебя просто счастливый вид, дорогая Зефирина… – Дело в том, сударыня, что у ангелов есть крылья, а у стен – трещины, – прошептала княгиня Фарнелло. Она не могла сказать больше, поскольку приемная кишела шпионами. Вернулись врачи. – Сударыня, его величество просит ваше высочество пожаловать к нему! Сжав пальцы Зефирины и бросив ей заговорщицкий взгляд, Маргарита вновь вошла в комнату к королю. Зефирина собралась последовать за ней. Мессир Лануа удержал ее. – Момент подходящий, княгиня Фарнелло, – прошептал он. Зефирина с недоумением воззрилась на него. – Разве вы не просили меня о встрече с одним человеком? – в свою очередь удивился генерал. Взяв Зефирину за руку, он повлек ее к окну. – Пароль на эту ночь – «Сьюдад имперьяль»[130]. Тот, с кем вы желаете встречи, не покидал Алькасара. Он остановился в северном крыле, где молится и отдыхает, однако он не спит, каждое мгновение ожидая новостей о короле. Зайдите к нему под каким-нибудь предлогом, но, заклинаю вас, не проговоритесь, кто помог вам пройти туда. Зефирина почти с нежностью смотрела на победителя в битве при Павии. – Мессир Лануа, я уважала вас как врага… Как друга Фульвио я вас боготворю и накажу своим детям благославлять ваше имя. И Зефирина быстро поднесла руку Лануа к губам. Оставив этого важного вельможу весьма озадаченным такой пылкостью, она подобрала свои белоснежные юбки и бросилась вниз по лестнице, по которой уже спускалась на кухню. На первом этаже она вместо того, чтобы спуститься ниже, повернула налево и оказалась в кордегардии. Солдат с алебардой преградил ей дорогу. – Пароль, или я не пропущу вас, сеньора! – Сьюдад имперьяль, – прошептала Зефирина. Стражник окликнул пажа: – Возьми фонарь, малыш, и проводи сеньору… Куда вы направляетесь, сеньора, – поинтересовался солдат. – В северное крыло, меня ждут у его величества… Вслед за пажом Зефирина шла по большим темным залам, довольно скупо меблированным. В каждой приемной солдаты охраняли выходы. На каждом посту Зефирине приходилось повторять пароль. Сердце ее бешено стучало. Она пустилась очертя голову в эту авантюру и не имела ни малейшего понятия, чем дело закончится. Примет ли ее Карл V? Какой огромный этот Алькасар! Мерцали свечи, и на стенах вокруг Зефирины танцевали таинственные тени. Внезапно молодая женщина почувствовала усталость. С того момента, как она вступила в Алькасар, у нее маковой росинки во рту не было. Она дрожала от холода, ей пришлось накинуть на голову и плечи муслиновую шаль, которую до того держала в руках. Чем ближе Зефирина подходила к северному крылу, тем жестче становился контроль. И вот ей не повезло. Какой-то ревностный стражник позвал толстого капитана Эрреру, который с подозрением подошел к Зефирине. Она догадалась отступить в тень и скромно прикрыть шалью лицо. Эррера уже собирался спросить ее, куда она направляется, когда дверь открылась, пропуская высокого человека в сопровождении двух оруженосцев. Этот дворянин тоже прятал лицо в воротнике своего плаща. Видимо, это была важная персона, поскольку капитан Эррера согнулся в почтительном поклоне. – Вашему превосходительству не нужны провожатые, чтобы добраться до города? – Нет, спасибо… капитан… Мы знать… Ао… как это сказать… Все дороги ведут в Мадрид… Прикрываясь воротником, дворянин захохотал. Только у одного человека в мире мог быть такой смех и такой неподражаемый акцент. Когда он оказался рядом с Зефириной, она сделала шаг к свету. – Мортимер? – прошептала молодая женщина. – Боже, миледи Фа… Зефирина прервала его, приложив палец к губам. Она не хотела, чтобы Эррера, находившийся в трех шагах позади, услышал ее имя. Крайне возбужденная, Зефирина потянула дворянина в темную нишу и прошептала: – Мортимер, дорогой друг, это действительно вы? Герцог Мортимер де Монтроз опустил воротник плаща. Взгляду молодой женщины открылись его белые букли и лицо со сломанным носом – лицо прекрасного английского бульдога. – Зефирина… ао… Мой дорогой Зефирина… что вы здесь делать? – с интересом спросил полномочный посол Генриха VIII Английского. – Мортимер, – повторила Зефирина, словно смакуя это имя, напоминавшее ей счастливое время. – Как вы поживаете? – забеспокоилась она. – Сейчас… все хорошо, очень хорошо, дорогая, хотя раньше я иметь много страданий. Мортимер стукнул себя в грудь, куда Фульвио во время той злосчастной дуэли в Риме всадил целый дюйм железа [131]. Англичанин захохотал. – Ао… но Монтроза так просто не убивать, дорогой мой Зефирина… А вы… Где есть Фульвио? – Вы не знаете?.. Мы все потеряли в Сицилии и… Зефирина с трудом выговорила: – Фульвио исчез… – Исчез? Слезы щипали Зефирине глаза. – Его считают погибшим, но я не… – О! Боже! Погибшим… Какой ужасный вещь! Мой маленький Зефирина, вдова… Послушайте, дорогая, я есть… в гостинице Сан-Изидро… приходить ко мне завтра… Вы понимать, мой должен уходить сейчас… Я быть здесь для… для… – Толстяка Генриха, – закончила Зефирина, улыбаясь сквозь слезы. «Что они еще замышляют за спиной Франциска I? Мортимер очень мил, но он душу продаст, чтобы добыть больше золота для своего скупца короля». – Зефирина, сейчас я очень спешить… вы обещать прийти к мой завтра утром, скажем в одиннадцать часов… Мы будем говорить… Мортимер сжал руку молодой женщины, в волнении буквально пожирая ее глазами. – Мой дорогой Зефирина, вы знать, как я любил вас всегда… О, дорогая, Бог есть мне свидетель, я очень сожалеть о Фульвио… Но если вы есть вдова, мой может иметь надежда… Не так ли? И с пылкостью, которую Зефирина не ожидала обнаружить во флегматичном английском лорде, он поцеловал ей пальцы, пошел было к двери, но передумал и вновь обратился к молодой женщине. – Где вы есть в Мадриде? – прошептал он, испугавшись, что потеряет ее как раз в тот момент, когда обрел. – Здесь, вместе со свитой короля Франции. – Он умирать? – сразу же спросил Мортимер. Зефирина хотела было ответить, что Франциску I лучше, но передумала. Разве очаровательный Мортимер не был грозным врагом? – Увы, боюсь, несчастный принц не протянет и ночи… – О, Боже! На этот раз Мортимер явно заторопился: ему не терпелось известить Генриха Английского о кончине короля. – До завтра, дорогая… Зефирина помешала ему ускользнуть. – Мортимер, вы видели императора? – Ммм… – промычал герцог, внезапно насторожившись. – Вы можете сказать мне, где находится его величество? Мортимер успокоился. Вопрос не таил в себе никакой опасности для Альбиона. – Рядом со своим молельня… В свой кабинет для отдыха. – Он в хорошем настроении? Мортимер покачал головой. – Это неточное слово, когда говорить о Карле… Но этой ночью, он, как это сказать, ни то, ни се. Мортимер поклонился, Зефирина задержала его за руку, шаловливо наморщив носик. – Должна ли я расценивать это как предложение выйти за вас замуж, Мортимер? – Святым Георгием клянусь, да, миледи. Зефирина улыбнулась с присущим ей кокетством: – До завтра, милорд де Монтроз! Мортимер наклонился так, что почти коснулся ее прелестного личика, и прошептал: – До завтра, божественная Зефирина… Искушение было велико, но Мортимер справился с собой. В одну секунду он догнал своих оруженосцев, которые ждали во дворе. При свете факелов Зефирина увидела, как он вскочил на черного коня и сказал что-то капитану Эррере, вышедшему вслед за ним. – Сьюдад имперьяль! – бросила она. Волшебных слов оказалось достаточно. В тот момент, когда капитан Эррера вернулся во дворец, стражник уже открывал перед ней дверь, ведущую в королевскую приемную. Зефирина проникла в святую святых… Она ожидала, что крыло Алькасара, занятое Карлом V, будет погружено в сон, однако здесь царило сильное оживление. Входили и выходили пажи с бумагами. Можно было подумать, что хозяин этих мест страдает бессонницей. Около дюжины человек, принадлежащих к самым различным слоям общества, сидели на табуретках в ожидании аудиенции. Дон Рамон с каждым посетителем обходился по-разному. Одним приносил свиток пергамента, других провожал через потайную дверь, приподнимая скрывающий ее ковер, третьим – счастливым избранникам – позволял пройти в кабинет. Когда вошла Зефирина, дон Рамон нахмурил свои черные брови и направился к молодой женщине. Зефирина не стала ждать вопроса и заговорила первой. – Госпожа Маргарита Алансонская послала меня сообщить новости о его величестве короле его величеству императору. – Его величество скончался? – холодно спросил дон Рамон. Зефирина опустила глаза. – Извините, сеньор, но у меня приказ ее королевского высочества не говорить ни с кем, кроме его величества императора. Дон Рамон с трудом подавил раздражение. – Государственная тайна, сеньор… – проговорила Зефирина. Несмотря на то что ночь выдалась свежая, Зефирина почувствовала, как ручеек пота заструился у нее по спине. Взгляд дона Рамона буквально сверлил ее. «Самозванка!.. Обманщица!» Если дон Рамон обнаружит обман, с Зефириной будет покончено. Она уже видела, как ее бросают в каменный мешок за оскорбление величества, преступное посягательство, измену и предательство… Против всех ожиданий, дон Рамон сделал молодой женщине знак занять место в очереди на табурете, а сам исчез за портьерой. Зефирина поместилась между нищим и знатным сеньором, если судить по их одежде. Однако одного взгляда на белые руки оборванца было достаточно, чтобы причислить его скорее к тайным агентам испанского властелина. Зефирина по своему горькому опыту знала, что Карл V вербует осведомителей повсюду. Разве не была донья Гермина в свое время главной шпионкой императора? В приемной никто не разговаривал, только свечи потрескивали. На ближайшей башне пробили часы. Зефирина вздрогнула. Она задремала. Вернулся дон Рамон. Он сделал знак нищему, и тот подошел к двери в кабинет, за которой оба и скрылись. Места стало больше, и Зефирина расправила платье. Она потянулась и зевнула. Вдруг она почувствовала, что кто-то трется об ее юбки. Сосед коленом толкал ее ногу, Зефирина, напустив на себя оскорбленный и неприступный вид, подчеркнуто отодвинулась. Нимало не смутившись, наглец придвинулся к ней. Не могла же она вскочить и разразиться криками! Ей пришлось пересесть на освободившийся табурет нищего. Но сосед, не отказавшись от своих намерений, занял место, на котором раньше сидела она. Бесстыдник беззвучно прыснул со смеху. – Это похоже на детскую игру! – прошептал он. – Обыкновенные салочки, сеньора, мы изобретаем табуретку… – Замрите, сеньор… – ответила Зефирина. Решив осадить бесцеремонного нахала, она повернулась и смерила его горящим от негодования взглядом. Ей с трудом удалось скрыть удивление. Сосед ее, вне всяких сомнений, был знатным вельможей и даже, если не считать Фульвио, одним из самых красивых представителей мужской породы, которых когда-либо приходилось встречать Зефирине. Из-под бархатной шапочки, обвитой золотой цепочкой с изумрудами, на нее смотрело смуглое мужественное лицо с гордыми правильными чертами; подбородок украшала темная бородка, а золотистые смеющиеся глаза словно озаряли внутренним светом все лицо. Он был широк в плечах, прекрасно сложен и осанист, одет в колет из красного с золотом шелка, штаны с буфами, бархатный плащ, отороченный мехом; на пальцах и в ушах сверкали дорогие кольца, инкрустированные прекрасными камнями, на груди висели золотые медали. Зефирина никогда не видела мужчину с таким количеством драгоценностей. – Я должен сделать вам одно учтивое предложение, сеньора… – Начало не слишком удачное, – парировала Зефирина. Казалось, этот ответ его чрезвычайно огорчил. – Ради Святой Девы, моей покровительницы, ответьте, сеньора, разве не видно по моему лицу, что я человек добродетельный? Зефирина окинула его насмешливым взглядом. – Не хочу вас обидеть, сеньор, но по первому впечатлению этого не скажешь. Зефирине показалось, что он сейчас расплачется. – Ваши подозрения, сеньора, меня очень печалят. Клянусь Господом, что являюсь верным слугой нашей святой матери Церкви. «Как этот дьявол печется о своей репутации!» Зефирина решила больше не затрагивать этот теологический вопрос. – Верю вам на слово, сеньор… Но, прежде всего, могу ли я узнать, с кем имею честь говорить? – Эрнан Кортес[132], рыцарь из Сантьяго, к вашим услугам, сеньора. Кланяясь, он смотрел на Зефирину, чтобы видеть, какой эффект произвело его имя. Зефирина и глазом не моргнула, сеньор Кортес из Сантьяго был ей незнаком. – Со своей стороны, смею ли я… узнать имя самой прекрасной представительницы французского королевства? Кавалер оказался галантным и красноречивым. Он сразу распознал очаровательный французский акцент своей собеседницы. – Зефирина де Багатель. – Зефирина…, – повторил Кортес, – имя легкое, как дыхание летнего вечернего ветерка на Эспаньоле. Теперь уже Зефирина прыснула со смеху. Этот рыцарь Кортес был шутником. Дон Рамон вернулся в приемную. Бросив подозрительный взгляд на Зефирину и ее собеседника, сделал знак монаху следовать за ним. Оба они исчезли за портьерой. – Итак, мессир Кортес, – возобновила разговор Зефирина, – вы хотели мне предложить какую-то сделку? – Черт возьми, сеньора, вы увидите, как я люблю женщин, воительниц и амазонок… Уступите мне свою очередь, чтобы поговорить с императором, и я готов в обмен подарить вам этот брильянт. Зефирина взглянула на кольцо, которое Кортес снял с пальца. – Почему вы не можете дождаться своей очереди, как все остальные? Эрнан Кортес затряс головой. – У меня свидание, которое я не могу отложить. «Решительно, этой ночью все спешат!» Зефирина недолго раздумывала. По мере того как она приближалась к «логову людоеда», ей все больше хотелось улизнуть. Она чувствовала, что ей необходимо успокоиться и собраться с мыслями. – Уступаю вам свою очередь, сеньор, но оставьте у себя это кольцо, я не могу его принять. Эрнан Кортес удивился. Дон Рамон приподнял портьеру. Кортес быстро прошептал: – Я остановился около Ла Торре Лос Луханес во дворце Сан-Лоренсо. Приходите поужинать со мной завтра в одиннадцать часов… Я хотел бы отблагодарить вас… – Сударыня… Дон Рамон поклонился Зефирине. – Этот рыцарь пришел раньше меня, мессир, я ему уступаю. Дон Рамон посмотрел на поднявшегося с места Кортеса. – На вашем месте, я бы так не торопился, – бросил он с иронией. Не обращая больше внимания на Зефирину, дон Рамон и Кортес удалились. У Зефирины было уже два приглашения на завтра на один и тот же час. Внезапно у нее возникло желание уйти. Она безумно устала и не знала, что сказать императору. Она встала и уже сделала шаг к выходу, когда рычание, донесшееся из кабинета, заставило ее остановиться в изумлении. Два офицера и посетитель, оставшиеся в приемной вместе с Зефириной, вскочили на ноги, как и она. – Я хочу, чтобы привели ко мне этого Жана Флери и… этого Жана… Анго… я прикажу вздернуть их на рее! Без сомнения, это был голос императора. В ярости он почти перестал заикаться. Избегая смотреть друг на друга, Зефирина и другие подошли к портьере, чтобы не упустить ни слова. – Ваше императорское величество знает безграничную преданность… – Замолчите, Кортес. Мы снабдили вас всеми полномочиями в Те… Теноцтитлане[133]. – Я их использовал, чтобы приумножить могущество вашего императорского величества. – Что вы сделали в Эльдорадо, кроме того, что попытались провозгласить себя вице-королем? Вы… вы по… позволили похитить со… сокровища Монтесумы это…му Жану Флери… этому наглому французу. Сквозь приоткрытую дверь Зефирина видела, как неясная тень Карла V мечется из угла в угол. Кортес воспользовался паузой, чтобы оправдаться. – Я на коленях молю ваше величество выслушать меня… Моя шпага, сердце, верность принадлежат вашему величеству. Против этих проклятых индейцев, приспешников дьявола, испанцы сражались как львы. По моему приказу был схвачен их король, изменник Монтесума… Обратившись в слух, Зефирина опустилась на крайний табурет. Она не только слышала, но и видела обоих мужчин: сидящего в кресле Карла V со спины, а Кортеса – на коленях перед ним. «Что это за война… что это за таинственная страна?» Она знала, что на другом берегу океана мессир Христофор Колумб в конце прошлого века обнаружил обширные области, населенные дикарями: этой ночью судьба столкнула ее с одним из завоевателей Нового Света… «Как их здесь называют? Конкистадоры!» А в это время рослый Кортес, стоя на коленях, пытался успокоить Карла V. – Из них ничего не вытянешь, из этих индейцев, им нельзя доверять. Но пусть ваше величество только представит себе, мы вошли в Теноцтитлан без единого выстрела, потому что ацтеки никогда не видели всадников. – К-как это, Кортес? Казалось, Карл V немного успокоился. – У этих аборигенов нет лошадей, сир. – Нет лошадей! – повторил изумленный император. – Нет, сир. Они приняли нас за богов! – Вы этим не воспользовались? – Напротив, сир… именем вашего императорского величества, государя Испании мы завладели городом, его памятниками, лагуной и дворцом Монтесумы. – Ка… какой он, этот дикарь? – с любопытством спросил Карл. – Он носил убор из зеленых перьев в знак своего воинского сана и сандалии на золотых подошвах… На плечах у него был плащ, усыпанный драгоценными камнями и жемчугом; застегивающийся на шее огромным изумрудом, который мне удалось спасти и… привезти вашему императорскому величеству. За портьерой воцарилась тишина. Видимо, Карл V рассматривал драгоценный камень. Зефирина ничего не знала об этом несчастном короле Монтесуме. Внезапно ей стало жаль его: она почувствовала, что он попал в безжалостно расставленные сети, и что предательство, уже проникшее на берега Эльдорадо, еще не затронуло ацтеков. А в кабинете Карл V поднялся со своего кресла. Он прошел мимо дона Рамона, неподвижно замершего в дальнем конце комнаты. – Вы заставили этого дикаря креститься и отречься от своей языческой религии? – спросил император, смягчившись благодаря полученному подарку. – Увы, нет, сир. Во время «Ночи печали» перед своим варварским храмом из золота туземцы, клявшиеся нам в дружбе, взбунтовались. Я заставил Монтесуму обратиться с речью к толпе. Он был убит своим собственным народом. Кто-то метнул ему камнем прямо в лоб. Ацтеки преследовали нас, их становилось все больше, они убивали наших, и нам пришлось отступить… Это был сущий ад… мы понесли ужасные потери, я решился дать бой в долине Отумба и Оаксака, против нас было двести тысяч воинов… – Двести тысяч… – повторил взволнованный Карл V. – Богом клянусь, с нами было бы покончено, если бы мне не удалось поразить стрелой их вождя. Я захватил его знамя. Среди дикарей началась паника, я потерял триста своих лучших солдат, но двадцать тысяч индейцев нашли свою смерть… Я приказал построить лодки, чтобы вновь овладеть Теноцтитланом с лагуны. После нескольких недель осады, 13 августа, сир, мы победоносно вступили в город… Чтобы укротить туземцев, мы сожгли их дворцы. У меня с собой донесение для вашего величества. Мы расстреляли около сорока тысяч мужчин. Женщин и детей, тех, кто продолжал сопротивляться, утопили в озере… предварительно их, конечно, окрестили наши славные священники. Так мы добились мира. Вот какую пришлось заплатить цену за то, чтобы теперь преподнести вашему величеству Юкатан, город Веракрус, завоеванный нами, все королевство – Новую Испанию. – Которой, как говорят, вы мечтаете завладеть, чтобы сделать из нее собственную империю. – Это клевета, сир… меня хотят погубить в глазах вашего величества. Зефирина с трудом разобрала последние слова. От всего, что довелось услышать, ее сковал ужас. Она наклонилась и увидела Кортеса, все еще стоящего на коленях. Тень Карла V повернулась к конкистадору. – Что это за сокровища? – спросил он. – Золотая посуда, туземные божки в оправе из изумрудов… Я приказал все погрузить на наши галионы. Но во время путешествия нас предательски атаковал Жан Флери… – Моя флотилия!.. Самая сильная в мире!.. И не смогла оказать сопротивления этому проклятому французскому корсару… К-как вы это объясните, Кортес? – Неудачным стечением обстоятельств, сир. У нас на борту были ягуары… – Что… что это еще такое? – Животные, сир… как бы лучше объяснить вашему величеству? У них по четыре лапы, как у больших кошек… И пятнистая шкура… Это большие млекопитающие, обитающие в этой части Эльдорадо. Мы хотели привезти их вашему величеству… Во время путешествия звери находились в клетках, но они выбрались оттуда, убили и ранили около двадцати моряков. Экипаж был… напуган, ослаблен как раз в тот момент, когда Жан Флери на восьми кораблях судовладельца Жана Анго из Дьеппа… Карл V исчез из поля зрения Зефирины. Повысив голос, он сухо произнес: – Дон Рамон, мы приказываем… всей моей флотилии схватить живыми или мертвыми этих проклятых французов, Жана Флери и Жана Анго. Дон Рамон сделал шаг вперед. – Что касается последнего, это будет трудно, сир, он во Франции и не выезжает из Дьеппа, разве что мы предпримем осаду города… – Схватите сначала Жана Флери… этого вора… В отношении Анго мы примем решение позже… Что касается вас, Кортес, я вижу, что… что мне о вас плохо говорили… Мы жа… жалуем вам титул маркиза… долины… О… О… – Оаксака, – закончил дон Рамон. – Именно… воз… возвращайтесь в… в Новую Испанию, Кортес. Постройте красивый испанский город! Да… дайте ему новое название… Мейор[134]… Мехико… Что скажете, Кортес? Зву…чит неплохо… – Великолепно, сир. Но ваше величество позволит предложить и мне: город Карла Великого. Загадочный владыка, видимо, не любил лесть. Зефирина увидела, как он отвернулся от конкистадора и сел за рабочий стол. Не обращая больше внимания на посетителя, он, махнув рукой, погрузился в какие-то бумаги. – Мы сказали Мехико… Посетите королеву в Толедо, Кортес и… не… не забудьте… Нам нужен этот… про… проклятый француз! Аудиенция закончилась. Кортес поднялся. Дон Рамон повел его к потайной двери. Зефирина воспользовалась этим, чтобы вновь занять свое прежнее место. Отводя глаза, буржуа и два офицера сделали то же самое. Дон Рамон, вернувшись, подошел к молодой женщине. – Ваша очередь, сударыня. Момент для беседы с императором, который только что так гневался на французов, был для Зефирины очень неудачным. Ни жива ни мертва она встала и последовала за доном Рамоном в «логово людоеда»…ГЛАВА XI ЛИЦОМ К ЛИЦУ
При появлении Зефирины человек, сидевший за тяжелым столом черного дерева, не поднял головы. Великий труженик перечитывал пергамент с глубоким вниманием. Она же узнала в этом скромном писаре владыку, который заставил трепетать всю Европу, – Карла V. Потупившись, она присела в глубоком реверансе. Поскольку за этим ничего не последовало, она выпрямилась и стала ждать знака императора. Скромную комнату можно было принять за келью ученого монаха. Кроме потрескивания свечей на бронзовом подсвечнике да тиканья часов, ни один звук не доносился до Зефирины. Одетый в черное молодой человек, повелитель Испании, Фландрии, Австрии, Германии и новых колоний, окунул гусиное перо в чернильницу и старательно вычеркнул несколько слов на пергаменте, а затем, подписав его, запечатал воском. Великий труженик перечитывал пергамент с глубоким вниманием. Зефирина уже решила, что так и простоит всю ночь перед королем. Теперь, лицом к лицу со своим врагом, она не ощущала страха. Пробило два часа. Зефирина вздохнула. Она осмелилась кашлянуть. Император по-прежнему не обращал на нее внимания, и тогда она стала усиленно чихать. Указательный палец Карла V оторвался от пергамента. Видимо, это было знаком, внятным для дона Рамона, ибо последний сделал шаг вперед. – Мадам де Багатель принесла вести от его королевского высочества герцогини Алансонской, сир… Теперь приподнялся и средний палец короля. Дон Рамон, приблизившись, взял пергамент, поклонился и вышел из кабинета, опустив за собой портьеру. Казалось, Зефирина должна была бы затрепетать, оставшись один на один со своим врагом. Однако она испытала лишь облегчение. Карл V, отложив гусиное перо, медленно поднял голову. Слегка сощурившись и прикрыв глаза тяжелыми веками, он рассматривал Зефирину. Она же, со своей стороны, отметила уродливость его губ, доставшихся ему в наследство от Габсбургов. Однако некрасивое лицо молодого государя не было лишено обаяния. Зефирина снова сделала реверанс. – Ка… какие новости, су… сударыня, о нашем любимом брате? – спросил император, словно бы делая усилие над собой. – Моя августейшая госпожа, сир, – начала Зефирина с некоторой напыщенностью, – оказала мне честь, поручив сообщить вашему королевскому и императорскому величеству, что сразу же после вашего ухода король Франции, ободренный вашим посещением и добрым отношением вашего величества, почувствовал себя гораздо лучше… Зефирину совсем не смущал пронзительный взор Карла. Она продолжила официальным тоном, призванным произвести впечатление на противника: – Воды, грозившие возобновлением третичной лихорадки, по большей части вышли из его величества естественными путями. Сразу же жар спал, пульс замедлился, – это настоящее чудо, причиной которого стало присутствие вашего императорского величества. Новость, принесенная Зефириной, по-видимому, должна была обрадовать Карла V. Он вновь обретал своего самого дорогого врага. Глаза императора превратились в две щелочки. При виде их холодного блеска, Зефирине пришлось призвать на помощь всю отвагу, дабы не позволить страху овладеть собой. Величайший «злодей» Европы молчал, не выказывая ни удовлетворения, ни недовольства, не задавая ни единого вопроса. Зефирина вынуждена была продолжить: – Первое, что произнес король, после того как ему сделали кровопускание, были слова благодарности за великодушие вашего величества. Государь выразил надежду, что вы почтите его в скором времени еще одним визитом, столь благотворным для его здоровья, дабы обсудить братское сосуществование в будущем… Это собственные слова его величества… Зефирина уже сама не знала, куда выведет ее кривая. В течение какого-то мгновения, показавшегося ей вечностью, она продолжала свой монолог под загадочным взглядом Карла. Внезапно Зефирина замолчала. Император встал, сделал несколько шагов, открыл окно, несколько раз вдохнул свежий ночной воздух, закрыл окно и направился к Зефирине, полумертвой от ужаса. – Чего… вы хо… хотите… княгиня Фа… Фарнелло? Этот неожиданный переход к нападению показал, что Карла V трудно обмануть, что его разведывательная служба – лучшая в мире. – Я хочу найти мужа, сир! Моего дорогого супруга, князя Фульвио Фарнелло! Карл V раздраженно отвернулся. – Мы… не Господь Бог, сударыня… нам… ска… зали, что… князь Фарнелло… погиб во время из… извержения Этны в… Сицилии. Император снова сел за стол, желая показать, что аудиенция закончена, взял перо и уткнулся носом в бумаги. Но он плохо знал Зефирину. Позабыв об этикете, она подбежала к императорскому столу. – Нет, сир, ваше величество обманули. Наверное, никто в мире еще никогда не говорил «нет» Карлу V. От изумления император выронил перо. – Высокомерие французов поистине безгранично, сударыня! Карл V поднес руку к шнурку, чтобы позвать стражу и выгнать нахалку. – Сир, во имя Господа, заклинаю ваше величество выслушать меня. Под влиянием минуты Зефирина сделала то, что поклялась себе не делать. Обогнув стол, она бросилась в ноги Карлу V. Нужно было иметь каменное сердце, чтобы не смягчиться при виде этой красивой женщины, этих изумрудных глаз, из которых готовы были брызнуть слезы. Рука Карла V застыла: он не дернул за шнурок. – Ваше величество добры и снисходительны. Вы слишком справедливы, чтобы осудить меня, не выслушав, и отклонить мое прошение, – с мольбой произнесла Зефирина. Ее красивые золотисто-рыжие волосы переливались в бликах пламени свечи. Она не замечала, как под корсетом вздымалась ее грудь. – Вы нас обманули, сударыня… Французам нельзя доверять… Вы проникли к нам под ложным предлогом, выдав себя за другую женщину. – Нет, сир, – воскликнула Зефирина, – клянусь вашему величеству всем, что у меня есть самого дорогого, я Зефирина де Багатель и одновременно княгиня Фарнелло! Ваше величество должны снизойти к отчаянию несчастной матери, потерявшей мужа, сына, которого у нее похитили… Молчание императора придало ей смелости. В конце концов и этому железному существу могут быть доступны человеческие чувства. Все внутри у нее дрожало от волнения, но она продолжила речь в свою защиту. – Сир, мой супруг, князь Фарнелло всегда был верным слугой вашей короны… – Если не считать того, что он стал мятежником! – заметил Карл V. В третий раз Зефирина осмелилась возразить королю: – Нет, сир, князь Фарнелло стал мятежником, чтобы сохранить свободу итальянского князя, свое достоинство сицилийца. Он должен был сражаться. Он исчез, но не погиб, я уверена в этом… Он знал свой вулкан лучше, чем кто-либо… Нет, сир, нет, его похитили… как и моего сына. Мой Луиджи был похищен доньей Герминой де Сан-Сальвадор… При имени шпионки, выполнившей столько его распоряжений, Карл V и бровью не повел. Он только выпятил нижнюю губу. – Я взываю к вашей справедливости, государь, к вашему милосердию. Верните мне мужа… и сына… Вашему величеству подвластно все… вы можете, например, убить меня за то, что я осмелилась прийти к вам, не имея никакого послания от мадам Маргариты. Зефирина опустила голову. Удивленная тем, что на ее признание не последовало никакой реакции, она подняла глаза. Карл V как-то странно, не мигая, смотрел на нее. Зрачки его расширились. Видимо, он хотел что-то сказать, но вместо этого несколько раз икнул, и его большой рот искривился в нервной гримасе. – Сир! – с беспокойством прошептала Зефирина. Казалось, император ее не слышит. Его белое, как мрамор, лицо внезапно покрылось фиолетовыми пятнами, черты исказились в жутком оскале. Им словно овладел непреодолимый ужас. Испуганная Зефирина увидела, как Карл V протянул руку к зеленому пузырьку, стоящему на столе, но тут пальцы судорожно задергались, задрожав всем телом, он вскрикнул, побледнел и рухнул у ног Зефирины, сотрясаясь в ужасных конвульсиях. Несчастный брызгал слюной, закусывая язык и извиваясь на ковре. – Священная болезнь[135]! – прошептала изумленная Зефирина. Она опустилась на колени рядом с императором, который бился головой о резную ножку кресла, и быстро отодвинула кресло, поскольку король мог пораниться. Понимая, что больше ничего не может сделать для Карла, Зефирина встала и бросилась к портьере. – Дон Рамон! – позвала она вполголоса. Приемная была пуста – ни посетителей, ни солдат. Зефирина решительно двинулась к двери в глубине комнаты. – Эй! Есть здесь кто-нибудь? В вестибюле дворца было такжепустынно – ни капитана Эрреры, ни стражи. «Хорошо же охраняют императора!» – подумала Зефирина, вновь устремляясь в кабинет. Карл V все еще лежал на полу, хрипя, задыхаясь, кусая до крови язык. Казалось, его дыхание остановилось. Из ноздрей и рта выступила красноватая пена. Взгляд Зефирины упал на длинный разрезной нож с чеканной ручкой. В голове у нее молнией пронеслась мысль, что сейчас любой бы мог убить Карла и безнаказанно скрыться, изменив тем самым ход мировой истории. Рядом с ножом на столе находился зеленый пузырек, на который несчастный успел указать ей. Позабыв о своих кровожадных мыслях, Зефирина схватила флакон и стремительно вынула серебряную пробку. На нее повеяло характерным сладковатым запахом. Это были духи доньи Гермины. Уж не снискала ли мачеха Милость Карла V, снабжая его этим таинственным лекарством? Зефирина без колебаний опустилась на колени, твердой рукой подняла голову Карла V и вытерла ему рот своим платком. Воспользовавшись моментом, когда он разжал зубы, она влила ему в рот несколько капель зеленой жидкости. Ей было неизвестно, какая доза необходима императору, и она боялась отравить его. Держа голову Карла на коленях, Зефирина ждала какое-то мгновение, показавшееся ей вечностью. Не заметив никакого заметного улучшения у больного, чьи мускулы были так же напряжены, Зефирина решила повторить операцию. На этот раз челюсти Карла были сжаты гораздо сильнее. Зефирина, схватив разрезной нож, просунула его между зубами, раздвинула их и с трудом влила ложку жидкости в горло императору. На этот раз он кашлянул и выплюнул сгусток крови. Лицо его покрыла мертвенная бледность, глаза вылезли из орбит. Но постепенно судороги стали стихать, дыхание замедлилось. – Милосердный Христос!.. Что вы делаете, несчастная? Зефирина подняла глаза. Перед ней стоял дон Рамон, который застал ее с ножом в руках, держащей окровавленную голову императора на коленях. – Его величество почувствовал себя плохо. Поскольку никого рядом не оказалось, я сделала что смогла, дабы облегчить его страдания. Теперь, если вы недовольны, поступайте сами, как знаете… – ответила Зефирина, собираясь встать. – Прежде всего не двигайтесь! Дон Рамон опустился на колени рядом с молодой женщиной, принудив ее не шевелиться, выхватил из ее рук зеленый пузырек. – Здесь решают секунды… Вы ему дали это в начале припадка? Зефирина кивнула головой. – Сколько вы ему дали? – спросил дон Рамон. – Несколько капель, затем ложку… Это нормально? – с беспокойством спросила Зефирина. – Да, это предельная доза… Вы уверены, что не дали больше? – Нет, не думаю! На лбу Зефирины выступила испарина. С ловкостью человека, привыкшего ухаживать за хозяином, дон Рамон поднес флакон к носу Карла. Он только дал вдохнуть лекарство, а затем, промокнув свой платок в зеленой жидкости, смочил больному веки, виски, за ушами и запястья. Казалось, что напряженные мышцы Карла мало-помалу расслабляются. И когда судороги отпустили его, он погрузился в глубокий сон. Кризис, судя по всему, миновал. Дон Рамон поднялся, сделав знак Зефирине не двигаться. Она спрашивала себя, уж не придется ли ей провести всю ночь, Держа на коленях голову императора. Умиротворенный Карл сейчас был похож на безобидного юношу, почти подростка. Она смотрела на него с материнской жалостью. Еще немного, И она стала бы баюкать его. Мокрые волосы прилипли ко лбу, и Зефирина сдвинула их, собираясь откинуть назад. И вдруг, не веря своим глазам, побледнела. На шее, как раз за ухом, у императора краснело маленькое родимое пятнышко в форме морской звезды или розы!.. Зефирина закусила губы. Что это за тайна? У Карла V была та же врожденная метка, что и у близнецов Луиджи и Коризанды: КРОВАВАЯ РОЗА. Это наследственный знак? Символ судьбы? Или дома Габсбургов и герцогов Лотарингских имели общих предков с семьей Фарнелло, как та имела их с родом де Багателей?.. А может быть, подобно изумрудным колье это шло от их общего предка Саладина? Вернулся дон Рамон с меховым одеялом и подушкой. Зефирина и словом не обмолвилась о своем открытии. Дон Рамон, поставив у стола походную кровать, сделал Зефирине знак переложить голову Карла на подушку, а сам перетащил тело на одеяло, закутав грудь и ноги короля. Освободившись от своего бремени, Зефирина встала, ее слегка пошатывало. Она смотрела на владыку мира, лежащего неподвижно, словно мумия. Карл V спал как ребенок. Дон Рамон увлек Зефирину в смежный с кабинетом будуар. На маленькой фаянсовой плитке там грелся медный кувшин. Дон Рамон знаком пригласил Зефирину сесть, снял с плитки кувшин и налил коричневую маслянистую жидкость в чашку, которую и протянул молодой женщине. Зефирина с недоверчивостью кошки понюхала это варево. Запах был ей незнаком. Тень улыбки мелькнула на суровом лице дона Рамона. – Можете пить без страха, сударыня. Это называется какао. Бобы сначала обжаривают, чтобы затем растолочь. В прошлом году их привезли его величеству из Новой Испании его капитаны. Этот напиток возвращает силы, что вам, я думаю, сейчас необходимо… На колокольне пробило три часа. Увидев, что дон Рамон пьет коричневую жидкость, Зефирина решилась пригубить. Поначалу вкус какао разочаровал ее – она нашла его слишком крепким, горячим, медово-сладким и пряным, однако мало-помалу выпила всю чашку. И когда заметно повеселевший дон Рамон предложил ей вторую, она с удовольствием согласилась. Дон Рамон придвинул табурет и сел напротив Зефирины. – Сударыня, волею случая вы сегодня узнали государственную тайну. Его величество может погибнуть от болезни, если окажется один… Его с детства мучили ужасные припадки… Как вам, наверное, известно, сам Цезарь страдал ими. Кажется, этой болезни подвержены лишь высшие существа. Зефирина отставила чашку и встала. – Дон Рамон, я никому не скажу, если вы этого опасаетесь, о болезни императора. Я вижу в нем сейчас не государя, но человеческое существо, которое нуждается в помощи другого человеческого существа. Его судьба была в моих руках. Несмотря на постигшие меня несчастья, которыми я обязана Карлу V, я рада, что не поддалась самым низменным инстинктам… не зарезала и не отравила его… Я могла бы просто предоставить его своей грустной участи… но бывают в жизни минуты, когда не думаешь о последствиях своих поступков. Жизнью своей, душой своего супруга клянусь никому не рассказывать об этом. Но если мой супруг погибнет или уже погиб по приказу императора, я буду считать себя свободной от клятвы. Теперь вы можете убить меня или отрезать язык… если это сможет вас успокоить относительно судьбы Карла. Кровопийцы, ведь кровопиец рифмуется со словом австриец… Прощайте, мессир, и спасибо за какао. Зефирина выпалила все это со столь характерной для нее дерзостью и, не поклонившись, направилась к двери. В два прыжка дон Рамон преградил ей путь. Зефирина невольно вздрогнула. Мрачный идальго позвонил в гонг. Появился заспанный солдат. – На контрольных постах никого нет, что произошло? – сурово спросил дон Рамон. – Была смена, сеньор, – жалобно пробормотал стражник. – Позже мы поговорим об этом с Эррерой. Пажа для сеньоры, – приказал дон Рамон. Затем, обернувшись к Зефирине, он как-то странно прошептал: – Доброй ночи, сударыня. Вы заблуждаетесь, вы приобрели этой ночью могущественного союзника, и, возможно, не того, о ком думаете… С этими загадочными словами дон Рамон передал Зефирину под охрану пажа с факелом, а затем тяжелым взглядом долго провожал тонкую фигурку молодой женщины в пышных юбках, которая постепенно исчезла в темных коридорах Алькасара.ГЛАВА XII ВСЕМИРНАЯ МОНАРХИЯ
Когда Зефирина скрылась из вида, дон Рамон вернулся в будуар, прошел в кабинет императора и, наклонившись над столом, по-отечески пощупал теперь уже прохладный лоб Карла V, отер с уголков его губ остатки розоватой пены и проверил пульс. Успокоенный и уверенный в том, что после кризиса император, как обычно, проспит до утра, словно новорожденный, он взял с черного стола шкатулку кованого железа. Ключ торчал в скважине. Не колеблясь, дон Рамон повернул его. Шкатулка была наполнена запечатанными пергаментными свитками, перевязанными красными, синими и желтыми лентами. Каждый цвет имел свое значение. Дона Рамона интересовали только свитки с красной печатью. Не вскрывая их, он проглядывал первые слова каждого пергамента и те, что его не интересовали, складывал обратно в шкатулку. Наконец, в руках у него остался один свиток. При дрожащем пламени свечи он прочел начало: «Летр де каше»[136]. «Узник Фульвио Карло Массимо Корнелио Бенвенуто, бывший князь Фарнелло, бывший сеньор Селинота и де Седжеста, граф Сиракузский, барон Агридженте и Илла, герцог обеих Сицилий, маркиз де Салестра лишается всех своих титулов, земель и владений. Узник будет каз…» Рамон не мог прочесть дальше, не сломав печать. Он положил пергамент на видное место на стол, закрыл шкатулку на ключ, вынул его из скважины и в задумчивости сел в кресло. Пробило шесть, и солнце стояло уже довольно высоко, когда один из офицеров приподнял портьеру императорского кабинета. Видимо, дон Рамон задремал. Он встал и передал капитану шкатулку, содержащую последние распоряжения Карла V. Их предстояло отправить министрам в Толедо, у которых имелся дубликат ключа. Офицер поклонился и вышел, не заметив спящего императора. Дон Рамон потянулся, удостоверившись, что все это время Карл спал, и пошел в будуар приготовить какао. Когда дон Рамон вернулся в кабинет, Карл V сидел в кресле, недавно оставленном его наперсником. Совсем, видимо, оправившись, император читал свою любимую книгу: «Caballero determinado»[137] Оливье де ла Марша. Этот рыцарский роман, главным героем которого был его предок Карл Смелый, всегда благотворно действовал на больного после припадка. Дон Рамон безмолвно приподнял портьеру, пропуская отца приора Диего, духовника Карла. Император опустился на колени. Помолившись в течение нескольких минут, он, как обычно по утрам, исповедовался на ухо священнику, затем причастился. Едва капеллан ушел, дон Рамон хлопнул в ладоши, и, словно в хорошо отрепетированном балете, появился, неся в руках тазик и чистое белье, лакей-цирюльник, фламандец Матиас из Брюгге. Во время путешествия император с удовольствием освободился от утомительных придворных церемоний, происходивших в Толедо. Он вновь углубился в чтение, а в это время Матиас, раздев своего государя, протер его белое, костлявое, но хорошо сложенное тело и превосходные нога уксусом, помассировал лоб и затылок, протянул ему чистую рубашку с гофрированным воротником, побрил его и подстриг, натянул чулки, штаны с буфами, бархатный колет и, в завершение, повесил на шею цепь с орденом Золотого Руна. – Да благословит тебя Господь, мой славный Матиас! – произнес с улыбкой Карл, который в узком кругу своих приближенных почти не заикался. Он протянул фламандцу руку для поцелуя. Приложившись с неподдельной горячностью к императорским пальцам, Матиас из Брюгге удалился. – Какие у нас новости сегодня утром? – спросил Карл V, не отрываясь от книги. Дон Рамон пригубил из чашки дымящееся какао, прежде чем передать ее императору. Этот ритуал позволял избежать отравления, которого постоянно нужно было опасаться. – Кажется, король Франциск вне опасности, сир, – проговорил наперсник. Он впустил лакея, который внес круглый столик на одной ножке, уставленный разнообразными блюдами. – Итак, нам нужно всего опасаться! – процедил Карл. Император пил, можно сказать всасывал своими толстыми губами, какао, а дон Рамон тем временем тщательно пробовал пищу. Удостоверившись, что цесарка, павлин, каплун в молоке, маленькие окорочка, морские язычки с анчоусами и жареными устрицами отменного качества, фаворит позволил лакею поставить столик перед императором. Тот немедленно принялся за птицу и рыбу, демонстрируя хороший аппетит. Не без изящества разделываясь с дичью, он бросал кости и хрящи, предварительно обсосав их, своему любимому мопсу, который пробрался под кресло. Во время еды Карл не разговаривал. Держа тарелку на весу, он жадно заглатывал пищу. Дон Рамон тем временем наводил порядок в кабинете. Наконец, Карл насытился. Он осушил стакан ячменного пива, затем своего любимого рейнского вина, и, откинув голову на деревянную спинку кресла, на какое-то мгновение задумался. Дон Рамон хорошо знал, что на следующий день после припадка на его господина наваливается ужасная усталость, а душу терзает непреодолимая тоска. Никогда дон Рамон не заговаривал на эту тему первым. Мудрый слуга ждал, когда Карл сам испытает потребность освободиться от преследующего его кошмара. – В котором часу это произошло, Рамон? – Около двух часов ночи, сир… – Мы были одни? – Ваше величество принимали посланницу госпожи Маргариты. Карл обхватил голову руками. – Я помню все очень смутно… Тебе удалось выпроводить ее и дать мне вовремя лактуку[138]? Карл взглянул на зеленый пузырек. Дон Рамон не колебался. Он никогда не лгал своему господину – в этом и состояла его сила. – Нет, сир… это не я дал лекарство вашему величеству, это она… – Женщина, которая меня ненавидит! – прошептал Карл. Он нахмурил брови. Эта фраза в который раз подтвердила подозрения дона Рамона, что государь помнит гораздо лучше все, что происходило до припадка и даже во время него, нежели хочет признаться. – Да, сир. Я относил распоряжения вашего величества дону Баралю… Оставшись одна в комнате, княгиня Фарнелло, сохранив присутствие духа, спасла ваше величество, хладнокровно дав выпить необходимое количество лактукариума… – Эта женщина… эта женщина! – повторил Карл. Заметно взволнованный, он взял книгу, которую оставил на столике с едой и громко, не заикаясь, прочел вслух стихи Оливье де ла Марша:Мне пыл сражения милей
Вина и всех земных плодов.
Вот слышен клич: «Вперед! Смелей!» —
И ржание, и стук подков.
Вот, кровью истекая,
Зовут своих: «На помощь! К нам!»
Боец и вождь в" провалы ям
летят, траву хватая,
С шипеньем кровь по головням
Бежит, подобная ручьям…
ГЛАВА XIII МОЛИТВЫ НА «ФРАНЦУЗСКИЙ МАНЕР»
– Salut! Sardine[141]! Зефирина открыла глаза. Верный своему обещанию, Гро Леон вернулся, чтобы разбудить ее. Она потянулась и села. Вокруг нее в. королевской приемной испанская стража, французские рыцари, фрейлины Маргариты, – все еще спали, растянувшись прямо на полу, прикорнув в кресле или на табурете. Зефирина, насколько это было возможно, привела себя в порядок. Завернувшись в плащ, она проспала не более двух часов, но не чувствовала усталости. – Setvileur! Saucisse[142]! – прокаркал Гро Леон. Таким образом он требовал ласки. Проворным пальчиком она потрепала его по серому затылку. Она собиралась спросить, хорошо ли Коризанда спала в гостинице, но тут ее тронула за плечо мадам Буази Д'Ормез. – Вас просит его королевское высочество в комнату его величества… Зефирина сделала знак Гро Леону смирно сидеть там, где он находился, то есть на дородном заду толстухи Невиль, и последовала за мадам Д'Ормез, перешагивая через лежащие вповалку тела. Спящие тем временем начали просыпаться, оглашая комнату звучными зевками. Испанский сержант не пропускал Зефирину до тех пор, пока не обыскал ее. Она не могла сдержать краски стыда, почувствовав, что мужские руки ощупывают корсаж и складки кринолина. – Уверяю вас, сеньор, что со мной нет аркебузы, – не смогла удержаться от насмешки Зефирина. – Это приказ, сеньора, – лаконично ответил унтер-офицер. Убедившись в ее мирных намерениях, он открыл дверь, за которой находилось четверо солдат, вооруженных до зубов. – Зефирина, дитя мое! Лежа в кровати, король протягивал к ней руки. Зефирина удивленно посмотрела на Франциска I. Живой взгляд, насмешливо сморщенный нос, свежий цвет лица – можно было подумать, что он готов вскочить на лошадь. Маргарита, наоборот, казалась изнуренной, возможно потому, что бедная принцесса не сомкнула глаз у постели брата всю ночь. – Сир, – произнесла Зефирина, целуя королю руку, – я счастлива видеть ваше величество в прекрасном здравии. – Благодаря тебе, – пробормотал король себе в бороду так быстро, что только Зефирина и Маргарита расслышали его. – Благодаря Божественному провидению, – сказал он уже громко. – Преклони колени, дочь моя, помолимся вместе, как бывало раньше. Зефирина знала, что при случае король становился набожным, но святошей его никто бы не назвал, и она никогда не молилась вместе с ним. Встав на колени рядом с постелью, она с беспокойством подумала, что, несмотря на внешнее улучшение, лихорадка может вернуться. Брат Маноло, испанский монах, с мрачным взглядом настоящего инквизитора, и отец Жюльен, французский священник, с добродушным лицом, не покидавшие королевскую спальню всю ночь в ожидании кончины больного, приблизились. – Спасибо, святые отцы, – вздохнул Франциск I, – мы хотим дать девятидневный обет деве Марии, матери Божьей в три голоса с моей дорогой сестрой и с этой набожной девочкой, как мы часто делали по вечерам во Франции в Шамборе, правда, отец Жюльен? Франциск говорил назидательным тоном. Можно было подумать, что он проводил в молитвах вечера в долине Луары… Тогда как на самом деле этот юбочник предавался бесчисленным любовным утехам! Зефирина не переставала изумляться. Позабыв об адском пламени, полагающемся за бесстыдную ложь, отец Жюльен заявил: – Ах, ваше величество, молитва в три голоса – это самое лучшее, ибо она произносится во имя Отца, Сына и Святого Духа. – И отец Жюльен трижды осенил себя крестным знамением. Зефирина подумала, что почтенный французский священник несколько переусердствовал. Но намерений его угадать не смогла, видимо, брат Маноло попал в расставленные ему сети. – Клянусь нашей матерью Церковью, я очень заинтересован, ведь здесь в Испании мы не знаем молитвы в три голоса… – Это, почтенный отец, молитвы на французский манер! – сладко проговорил Франциск I, а закончил прямо-таки ангельским голосом: – Отец Жюльен научит вас. А потом, если вам понравится, вы сможете повторить ее моему дорогому «брату» Карлу. Брат Маноло перекрестился, отец Жюльен – тоже, их примеру последовали Франциск, Маргарита и, разумеется, Зефирина. – Благословите меня, отец мой, прежде чем мы возблагодарим Богоматерь за наше чудесное исцеление, – попросил Франциск I, сложив руки. Отец Жюльен подошел к королевской кровати. – Во имя Отца нашего, благославляю ваше величество, ибо сердце ваше чисто, а намерения похвальны. С живостью, которой Зефирина не ожидала от грузного священника, он увлек за собой брата Маноло, сержанта и солдат, все они встали на колени возле окна. По приказанию брата Маноло остальные стражники сделали то же самое. Догадавшись, чего от нее ждут, Зефирина сложила руки и опустилась на колени в простенке, рядом с кроватью. Маргарита уже молилась с другой стороны. Вытянувшись на кровати, выздоравливающий громко начал: – Приветствую вас, милосердная Мария… – Приветствую вас, милосердная Мария, – пронзительно вторила ему Маргарита. – Приветствую вас, милосердная Мария, – послушно отозвалась Зефирина. Словно из колодца прозвучал скандирующий голос отца Жюльена: – Приветствую вас… Перебирая четки, Франциск продолжал: – Господь наш с вами… – Господь наш с вами… Вступила Маргарита: – Благословенна между всеми женами. – У тебя есть план побега, Зефирина? – пробормотал Франциск I между двух фраз молитвы. – Благословенна между всеми женами… Да, сир… На другом конце комнаты отец Жюльен, руководивший молитвой, производил такой шум, что у короля, его сестры и Зефирины появилась короткая передышка, чтобы спокойно обсудить свой заговор. – Иисус, плод чрева вашего… – почти визжала Маргарита. – Иисус… Черный лакей каждый день приносит дрова… плод чрева вашего… – проговорила Зефирина. – Черный лакей! – повторил король. – …Плод чрева вашего… – Благословенна… Вы можете бежать, сир, поменявшись с ним местами. – Благословенна… Святая Мария, Матерь Божья… идея соблазнительная, Зефи… Хм… молитесь за нас, бедных грешников… Вы слышали, сестра? – прошептал Франциск. – Да, брат, – прошелестела Маргарита и тут же завыла: – Молитесь за нас, бедных грешников… Маргарита начала покаяние. Франциск и Зефирина вторили. – И в час смерти нашей… Нужно лишь поменяться одеждой и найти черный грим… Переодетый, вы могли бы выйти ночью, а негра оставили бы в своей кровати. – И в час смерти нашей… Если опередить стражу на четыре часа, это возможно… Нужно что-то придумать, чтобы заставить выйти из комнаты солдат и связать несчастного парня, чтобы никто его не заподозрил, – сказал король, всегда отличавшийся добротой. – И в час нашей смерти, хм… – повторил он, не попав в такт… – Нам поможет Анн де Монморанси. Браво, моя Зефирина, да будет так! – Да будет так! Брат Маноло поднялся с колен, сообщив, что еще никогда он не испытывал такого удовольствия от молитвы. «Он, конечно же, расскажет об этом его величеству Карлу V». – Теперь ступай, позаботься о своих близких, дочь моя, – посоветовал Франциск I, чье лицо просто излучало святость. «Как можно ошибаться в человеческих душах, – думал брат Маноло. – Я всегда считал короля Франции легкомысленным развратником». Испанский монах мысленно наложил на себя епитимью в десять ударов хлыстом за то, что неправедно судил о своем ближнем. Выйдя от короля и его сестры, Зефирина пришла в приемную. Здесь уже царила суматоха. Лакеи и слуги разносили воду и еду для завтрака. Молодой женщине удалось увлечь в угол великолепного дворянина, тридцатилетнего герцога Анн де Монморанси, друга Франциска I. В нескольких словах она посвятила его в план, выработанный вместе с королем. Как раз в это время появился со своими дровами черный лакей. Вельможа с сомнением покачал головой. Безрассудное предприятие ему не нравилось. – Это опасно, сударыня. Вообразите, что его поймают в обличье негра? Что скажет Европа? – пробурчал Анн. – По-настоящему опасно оставаться в руках «людоеда». Что на это скажет Европа? – мгновенно парировала Зефирина. Анн де Монморанси смутился. Он не привык, чтобы с ним так разговаривали. У Зефирины не было времени убеждать его, по лестнице поднимался неаполитанский вице-король. Он шел на встречу с ней. Зефирина оставила Анн де Монморанси, поскольку ей нужно было подумать и о своих делах. – Итак, – проговорил Лануа, – вы видели императора? – Да, мессир. – Встреча прошла удачно? – С одной стороны, да… С другой, я не знаю. – Не беспокойтесь. С его величеством всегда так, – добродушно заверил ее Лануа. – Могу я еще что-нибудь сделать для вас, княгиня Фарнелло? Зефирина не колебалась. – Мне нужен пропуск, чтобы свободно передвигаться. Мне и трем или четырем людям из моей свиты. Лануа нахмурился. – Мессир Лануа, – умоляюще произнесла Зефирина, – моя дочь с кормилицей и. оруженосцами осталась за стенами дворца. Я беспокоюсь, поймите сердце матери. Никто бы не смог устоять перед чарами этого взволнованного лица с изумрудными молящими глазами. Победитель при Павии был таким же мужчиной, как и все остальные. Этот грубый солдат, больше привыкший к полям сражений, нежели к салонам, задумчиво произнес: – От всего сердца надеюсь, княгиня Зефирина, что мой друг Фарнелло жив и вновь найдет счастье… Пако! – позвал Лануа. Тотчас маленький писарь с чернильницей в руках отделился от группы оруженосцев. Лануа, взяв четыре свитка, подписал их. И скрепил своим кольцом с печаткой. – Кроме вашего имени, княгиня, я оставил пустое место для ваших слуг и дочери, но вы должны поклясться именем Христа, что вы и они ничего не предпримите для освобождения короля. По спине у Зефирины заструился пот. Она спиной чувствовала взгляд Монморанси, стоявшего в двух шагах от нее. Он не упустил ни слова из их разговора. Зефирина, хотя и не отличалась набожностью, верила в Бога. Преступить клятву было для нее настоящим преступлением. Отказаться же означало разоблачить заговор. – Fluctuat nes mergitur[143]…– начала Зефирина, которая всегда прибегала к латыни, когда хотела выиграть время. – Даю вам слово, мессир Лануа, ничего не предпринимать «лично», чтобы освободить короля, – произнесла она, используя игру слов. – И клянусь, что мои слуги войдут в Алькасар только для того, чтобы сопровождать мою дочь и передать ее под опеку госпожи Маргариты. – Я доверяю вашему слову, княгиня Фарнелло, – сказал Лануа, передавая ей пропуска. Спрятав смущение за ослепительной улыбкой, Зефирина попрощалась с генералиссимусом с облегчением и признательностью. Анн де Монморанси уже вошел в комнату короля. Сжимая в руках драгоценные свитки, Зефирина предупредила Иоланду де Невиль, что выйдет на несколько часов. Гро Леон расположился на плече своей хозяйки, а та направилась к лестнице. Вход ей загородил своим огромным животом отец Жюльен, обсуждающий с братом Маноло какой-то теологический вопрос. – Вы уходите, дочь моя? – Да, отец мой. – Что ж, благословляю вас, ибо вы добрая католичка. Брат Маноло утвердительно кивнул маленькой головкой и устремил на нее свой пронзительный взгляд. К нему подошел еще один монах, и они удалились, о чем-то переговариваясь. – Отец Жюльен, – прошептала Зефирина, – что произойдет, если наполовину нарушишь клятву?.. – Будешь гореть в аду! – сурово заявил священник. Зефирина уже чувствовала, как языки вечного пламени лижут ее пятки. – Но… – святой отец сжал ее руку, – ради доброго дела, дитя мое, ради нашего короля можно солгать, и даже должно это сделать, поскольку лишь один Господь может судить, праведны ли твои намерения! Если они таковы, то клятвопреступление – обязанность… Иди с миром!.. Получив такую поддержку, Зефирина вышла из Алькасара. И сразу же со всех сторон на нее обрушились крики. Это был час, когда бродячие торговцы и местные продавцы жареного мяса предлагали кур, уток или молочных поросят, жаренных на углях. Гро Леон попытался задержать свою хозяйку возле утки в толченом миндале, которую обожал, но молодая женщина не позволила соблазнить себя. Она спешила увидеть дочь и слуг. Ей не удалось найти портшез, и накинув на голову капюшон своего длинного плаща, она поспешила как можно быстрее преодолеть двести пятьдесят туазов[144], отделяющих ее от гостиницы Сан-Симеон. Проходя по мосту дю Мансанарес, Зефирина подняла голову и взглянула на высокую черную башню, тюрьму Франциска I. Она подумала, что сегодня вечером вновь будет у изголовья короля. Она не знала, что уже в который раз жизнь ее повиснет на волоске в самом безумном и самом опасном из всех приключений, выпавших ей на долю.ГЛАВА XIV ЛУИДЖИ ФАРНЕЛЛО
Дону Рамону вовсе не нравилось поручение, доверенное ему его господином, однако как верный слуга, он уже на рассвете звонил в колокольчик у ворот монастыря святой Клариссы. – Я должен повидаться с сеньорой Тринитой Орландо! – Невозможно, сеньор. У нас женский монастырь, и наши правила запрещают… Дон Рамон прервал речь привратницы: – По приказу его величества короля, откройте, сестра, или я прикажу моим солдатам взломать дверь. Дон Рамон просунул в окошечко пергамент с печатями Карда V. Тяжелая дубовая дверь со скрипом отворилась. – Следуйте за мной, сеньор, – пригласила его привратница, потупив глаза: лицо ее было скрыто краями белого чепца. Через колоннаду внутреннего дворика она проводила дока Рамона в большую комнату с белыми стенами и скромным убранством. – Ждите здесь, – приказала она, уходя. Дон Рамон прислушался к пению, доносившемуся из часовни. В этот час все монахини ушли к заутрене. Несмотря на святость места, где он находился, время для посланца короля тянулось слишком медленно. Он раздраженно то стягивал, то вновь надевал свою черную шапочку с белым плюмажем. Затем встал с табурета и принялся расхаживать взад и вперед вдоль стены, на которой висело деревянное распятие: подошвы его башмаков с квадратными носами гулко стучали по блестящим плиткам пола. Минут через пятнадцать дверь открылась и вошла женщина: лицо ее было скрыто под черной вуалью. – Извините меня, сеньор, что заставила вас ждать, но я молилась вместе с сестрами, – заговорила она нежным, мелодичным голосом. – Донья Гермина? – вопросительно произнес дон Рамон. Вместо ответа женщина откинула вуаль. Дон Рамон с трудом сдержал возглас удивления при виде испещренного морщинами лица той, что некогда была одной из самых красивых женщин при дворе Франциска I и Карла. Однако сомнений не было: несмотря на морщины, глубокими бороздами пролегшие на увядшей коже, свинцовые круги под блестящими черными глазами и морщинистые веки, перед доном Рамоном стояла именно донья Гермина де Сан-Сальвадор, вдова маркиза де Багателя. – Сударыня, его величество поручил мне вручить вам лично этот приказ. Донья Гермина взяла протянутый ей пергамент. Дворянин заметил, как дрожат покрытые коричневыми пятнами руки доньи Гермины. «Что с ней произошло, как она дошла до такого состояния? Отчего она так резко состарилась? Ей вряд ли больше сорока… А на вид можно дать все шестьдесят», – размышлял дон Рамон, пока донья Гермина читала послание. Только фигура ее еще сохранила былую красоту молодости. В это утро она была одета в простое черное бархатное платье со складками, без фижм, но с юбкой колоколом, отчего можно было сразу разглядеть, что донья Гермина сохранила осиную талию. Дон Рамон кусал свои седеющие усы. Он никогда не любил донью Гермину и не одобрял связи своего господина, пусть даже ради интересов государства, с этой шпионкой. – Прекрасно, мессир, – сказала донья Гермина, окончив чтение. Дон Рамон не мог понять, была ли она в ярости или осталась равнодушной. Ни один мускул не дрогнул на ее старческом лице. Только черные глаза, обрамленные длинными ресницами, поблескивали из-под тяжелых век. – Желание короля равносильно приказу: я подчиняюсь с тем большей охотой, ибо поставленная передо мной задача отнюдь не из легких. Следуя совету его величества, я думала, что поступаю правильно, спасая этого ребенка из пламени Этны, но если Карл V желает… Подождите меня, мессир, я сейчас вернусь! Донья Гермина вышла из комнаты, оставив после себя дурманящий запах. Дону Рамону стало не по себе, на лбу его выступил пот. Ему хотелось как можно скорее покинуть и этот монастырь, и эту женщину, которая, по его мнению, приносила только несчастья. Время шло. Где-то рядом раздался бой часов; по нему дон Рамон определил, что прошло не менее получаса, как донья Гермина оставила его. «Что еще она замышляет?» – думал дон Рамон. Сжав эфес шпаги, он уже собрался выскочить из комнаты и, распугивая монахинь, самому отправиться на ее поиски, как дверь распахнулась и вошла донья Термина. На руках у нее был ребенок, завернутый в белую шелковую шаль. Дон Рамон застыл от изумления. Потом, оправившись, склонился, чтобы рассмотреть младенца. Он готов был поклясться, что на личике малыша лежала печать страдания. – Сколько ему? – спросил дон Рамон. – Шесть месяцев, сеньор. Дон Рамон совершенно не разбирался в детях. Он неловко взял младенца у доньи Гермины. – Сеньор, я рассчитываю на ваше благородство и надеюсь, что вы не забудете сказать его величеству, что я по-прежнему его верная и преданная служанка. – Клянусь честью, сударыня. – Могу я попросить вас оставить мне расписку? – О чем вы говорите, сударыня? – Сеньор, я заботилась об этом младенце, на моих плечах лежала огромная ответственность. Теперь я отдаю его вам. Несмотря на то что я полностью доверяю вам, мне бы хотелось иметь письменное подтверждение исполнения мною королевского приказа. Донья Гермина хлопнула в ладоши. В комнату вошла карлица-служанка. Ее тщедушное тело было облачено в коричневое платье из грубой шерсти, большая голова скрыта под рогатым чепцом. Она протянула дону Рамону перо и пергамент. Руки его были заняты младенцем; ему пришлось передать его донье Гермине. Он взял лист и прочел то, что было там написано: «Сегодня, в день праздника святого Иоанна, сеньора Тринита Орландо по приказу Дона Карлоса передала находившегося на ее попечении ребенка мужского пола, в добром здравии, подателю сего письма, в чем тот по своему доброму согласию и подписуется». Донья Гермина была предусмотрительна. Дон Рамон без колебаний взял перо и подписал: «Рамон Гонсалес де Кальсада». Донья Гермина развернула пеленки тихо попискивавшего младенца. Она заставила дона Рамона убедиться, что речь шла именно о мальчике, и вручила ему ребенка, оставив у себя приказ «Дона Карлоса» и расписку. Теперь дон Рамон торопился покинуть монастырь. Укрыв плащом драгоценную ношу, он откланялся и поспешил выйти из комната. Привратница, по-прежнему потупив взор, проводила его до ворот. Дон Рамон не привык садиться на коня, держа в рукахмладенца. Однако после некоторых усилий ему это удалось. Выехав на узкую улочку, забитую телегами, мулами и разносчиками, всадник привычным маневром расчистил себе путь и помчался вперед. Как и все люди, которым довелось много страдать, Зефирина, прибыв в гостиницу Сан-Симеон, приготовилась к худшему. Ее встретили радостные возгласы Коризанды, восторги Ла Дусера и любезное сюсюканье мадемуазель Плюш. Эмилия и Пикколо подтвердили: ночь в гостинице прошла спокойно, сигналов тревоги не поступало. Венецианец из лавки оружейника на Пласа Майор не подавал признаков жизни. Зефирина умирала с голоду. Она заказала обильную трапезу для себя и Гро Леона; Эмилия тут же помчалась покупать еду у бродячих торговцев. Насытившись, Зефирина приказала нагреть ей воды. Удивленная такой просьбой, жена трактирщика робко спросила ее: – А что сеньора француженка хочет с ней делать? – Ее высочество хочет вымыться, голубушка! – надменным тоном ответила мадемуазель Плюш. Подавленная столь шикарными замашками этих иностранцев, прибывших из-за Пиренеев, сеньора Каталина тут же послала трех служанок за водой. Стянув на макушке свои роскошные, цвета темного золота волосы, Зефирина сладострастно погрузилась в лохань с водой, прихватив с собой Коризанду. Под бдительным оком Гро Леона, усевшегося на шкаф переваривать обед, она играла с малышкой, мыла ее и целовала пухленькое тельце. Эмилия поливала спину своей госпожи. В комнату вошла мадемуазель Плюш: она была обеспокоена гораздо больше, чем обычно. – Словно Меркурий, который, как известно, покровительствует путешественникам, некий дворянин явился в гостиницу; он желает поговорить с вами, сударыня, и ждет вас в нижней зале. Зефирина улыбнулась, услышав цветистую речь Плюш. – Наверное, это от Мортимера! Вы знаете, что он сейчас в Мадриде, моя добрая Плюш? – Мор… тимер, – прошепелявила Плюш. – Да, наш друг милорд Монтроз. – Ах!.. Нет, моя маленькая Зефирина, это, скорее, тот приятный мужчина, который был вместе с идальго… наконец… он говорит, что его зовут дон Рамон и он принес вам… какой-то ценный предмет! Зефирина быстро встала, прикрывая свою восхитительную наготу от взора служанок. «Силы небесные! Она хорошеет день ото дня. В таком возрасте – и уже вдова, какое несчастье, что монсеньор исчез!» – думала Плюш, принимая из рук матери Коризанду. Эмилия помогла своей госпоже вытереться и быстро одеться; на рубашку было накинуто простое платье с рукавами-пуфами, дважды перехваченными по длине. Затем она заплела волосы госпожи в толстую косу и обернула ее вокруг головы. Одевшись, Зефирина спустилась в общий зал гостиницы, в этот час пустовавший. – Вы хотели поговорить со мной, мессир? Не скрывая восхищения, испытанного им при виде княгини Фарнелло, высокий дон Рамон согнулся в низком поклоне. – Да, сударыня, – он понизил голос, – я прибыл от имени его величества. Зефирина заметила, что поверенный Карла V прячет под плащом какой-то сверток. «Что это может быть?» – думала она, любезно приглашая его сесть на стул и сама усаживаясь напротив. – Слушаю вас, сеньор. Ей показалось, что предмет под плащом зашевелился. Но, возможно, ей это только показалось. – Сударыня, его величество направил меня к вам с двумя поручениями, и я не знаю, с какого мне следует начать. – С самого неприятного! – усмехнулась Зефирина. Не говоря ни слова, дон Рамон протянул ей пергамент. Зефирина сломала печать и ознакомилась с «милостивым» повелением императора. Удивленная, она дважды перечитала послание и вопросительно посмотрела на королевского посланца. – И это после клятвы в верности! Карл V возвращает мне земли, титулы и права, мне и моим детям… или, вернее, моей дочери и мне, потому, что сын мой был у меня украден, – прошептала она, кусая губы. Ее зеленые глаза пристально смотрели на дона Рамона. – Это еще не все, сударыня, – поспешил сказать дворянин. – По приказу императора все сбиры города отправлены на розыски вашего сына… Побледнев, Зефирина встала. – Луиджи… – едва слышно произнесла она. – Да, сударыня, все говорит за то, что ребенок по-прежнему находится в Мадриде… Император же… вот он! Дон Рамон распахнул свой плащ и протянул младенца Зефирине. Она даже не вскрикнула. Кровь отхлынула от ее и без того бледного лица. Боясь, что она сейчас упадет в обморок, дон Рамон подскочил к ней. В дверном проеме появились Эмилия и мадемуазель Плюш. – Силы небесные, наш маленький князь! – воскликнула Плюш. – Ох, дьявол, наконец-то наш хозяин! – весело воскликнул Ла Дусер. Устроившись на перилах лестницы второго этажа, Гро Леон наблюдал всю сцену, но впервые ничего не говорил. Словно безжизненная кукла, Зефирина взяла на руки завернутого в белую шаль младенца, протянутого ей доном Рамоном. Движением, общим для всех матерей, она склонилась к ребенку. Малыш жалобно всхлипнул. Он открыл глаза и тотчас же снова закрыл. Его головенка на слабой шейке скатилась набок. Зефирина лихорадочно распушила жидкие волосенки в поисках данного мальчику от рождения знака: Кровавой Розы. Но за ухом у младенца и справа и слева, равно как и на затылке и на тощей цыплячьей шейке малыша было чисто. Наконец, из груди Зефирины вырвался вопль, но это был не крик радости, а грозное рычание раненой львицы. – Это не мой ребенок! Это не Луиджи! Ваша комедия вполне достойна вашего негодяя-хозяина! И вы еще хотели заслужить мою признательность! Кто этот ребенок? – Клянусь вам, княгиня, это ваш малыш. Князь Луиджи Фарнелло. Откуда вы знаете, что это не он? Вы не видели его целых полгода. В этом возрасте… – оправдывался дон Рамон. – Увы, это не наш маленький Луиджи. У него нет отметины! – запричитала Плюш. Она взяла ребенка из рук Зефирины, Чтобы распеленать его и как следует рассмотреть. Под шелковой шалью скорчился тощий младенец, одетый в неимоверно грязную распашонку. – Этому ребенку нет и двух месяцев! – заявила Эмилия, прекрасно разбиравшаяся в детях. – Ах, бедная крошка! – вздохнул Ла Дусер. – Заберите этого ребенка, сеньор, и верните его матери. Мне стыдно за вас! – возмущенно сказала Зефирина. И повернулась спиной к дону Рамону. Взволнованная, она стала быстро подниматься по лестнице к себе в комнату, но дворянин остановил ее. – Сударыня, я привез вам вашего ребенка, вы должны оставить его у себя! Зефирина обернулась: глаза ее метали молнии. – Чтобы скормить его свиньям? Или выбросить вместе с помоями? Вы совершили глупость, купили несчастное создание у каких-нибудь нищих бродяг… – Вы не правы, сударыня! – возмущенно запротестовал дон Рамон. – Тогда, значит, вы позволили себя одурачить! – выкрикнула Зефирина. Под ее пронзительным взором дон Рамон потупился. – Но я… – Говорите, сеньор. – Сначала вы, сударыня: что это за знак, о котором вы говорите? Зефирина не раздумывала. – Идемте, мессир. В комнате оруженосец Пикколо развлекал Коризанду, давая ей играть с эфесом его шпаги. – Вот, сеньор, сестра-близнец Луиджи, а вот цветок, которым отмечены мой дети… – Как у… – внезапно запнулся дон Рамон. – Как у его величества Карла V! Да, в ту ночь я видела его, – сказала Зефирина. – Эта Кровавая Роза – бесспорное доказательство того, что наши семейства когда-то состояли в родстве. – Возможно, через Бургундский дом! – робко предположил дон Рамон. Он перестал понимать, что смущает его больше: это открытие или присутствие рядом с ним Зефирины. Перегнувшись через ее плечо, чтобы рассмотреть Коризанду, дон Рамон увидел восхитительную грудь молодой женщины, приподнятую лифом платья. Суровый испанец тут же представил себе ее обнаженное тело, ноги, живот и соблазнительнейший золотистый треугольник, настоящее золотое руно. – Я думаю, что наше родство более древнее и уходит в глубь веков! – ответила Зефирина, возвращая Коризанду Пикколо. Она не была расположена рассказывать о своем предке, императоре Саладине. Дон Рамон встрепенулся, лицо его цвета слоновой кости порозовело. Зефирина была истинной женщиной и сразу же поняла причину его смущения. Она была слишком умна, чтобы не понимать, какую выгоду можно из этого извлечь. «Этот человек – доверенное лицо «Карла-кровопийцы», он знает многое, и мне тоже надо знать все, что известно ему. С волками жить – по-волчьи выть». – Добрый мой Пикколо, малышка голодна, отнеси ее к Плюш. Как только дверь за оруженосцем закрылась, Зефирина поднесла руку ко лбу. – Поддержите меня, мессир, мне дурно. Случившееся слишком разволновало меня. И она оперлась на руку дона Рамона. – К вашим услугам, сударыня… Идальго почтительно взял Зефирину под руку. Он хотел усадить ее в кресло, но это не входило в планы молодой женщины. Она намеревалась играть ва-банк. – Я всего лишь одинокая, слабая женщина, рядом со мной нет мужской руки, дабы поддержать меня в трудную минуту! Император насмехается надо мной, мессир, а вы… Ах! И вы тоже, дон Рамон, и от этого мне особенно горько. Я бы никогда не поверила, что такой дворянин как вы… Зефирина уткнулась лицом в плечо идальго. Если слова ее и не были правдивы, то слезы, хлынувшие из глаз, были совершенно искренними. – Ах, сударыня, вы разрываете мне сердце! – воскликнул дон Рамон. Он обнял Зефирину за талию, схватил ее руки и принялся жарко целовать их. Всегда столь хладнокровный испанец сейчас пылал, словно раскаленный уголь. – Клянусь честью, сеньора, вы последний человек, которому я хотел бы причинить зло! Ах, сеньора!.. С удивлением Зефирина почувствовала, как под плотной тканью штанов вздымается горячая мужская плоть. Она успела познать любовь только в объятиях Фульвио. Уже много месяцев Зефирина пребывала в тоске по мужу и успела забыть, что она женщина, способная вызывать желание у мужчин. Суровый дон Рамон был последним мужчиной, которого ей хотелось бы соблазнить. Однако, ведя свою игру для того, чтобы заставить его говорить, она не могла не признаться, что также ощутила некоторое волнение. Инстинкт опытного охотника не обманул дворянина. – Ах, сударыня, как вы могли такое подумать! – повторял он, раздвигая коленом бедра Зефирины. – С тех пор, как я увидел вас в окошке носилок, я думаю только о вас, вы явились ко мне словно Мадонна. Клянусь душой, я желаю вам только добра… Клянусь, что той ночью я сделал все для вашего му… Дон Рамон резко остановился. Неужели он сошел с ума? Он чуть было не выдал государственную тайну. Он слишком увлекся. Зефирина сделала вид, что ничего не поняла. Чтобы скрыть засверкавшие в глазах радостные искорки, она опустила веки. «Фульвио жив… Дон Рамон собирался сказать: «Для вашего му…жа…» – Я знаю, – вздохнула Зефирина. – Я догадалась, что вы сделали все возможное, чтобы защитить мое дело перед королем. Простите мою вспыльчивость, я так одинока… Увидев столь близко перед собой лицо Зефирины, дон Рамон не устоял. Он наклонился и впился поцелуем в ее губы. Она думала, что ей будет очень неприятно, но, не отдавая себе отчета в том, что происходит, неожиданно стала отвечать на его поцелуи. «Я делаю это для Фульвио», – думала она. Разум покинул ее, она стонала от наслаждения, принимая поцелуи искушенного в любви испанского дворянина. Она чувствовала, как его руки лихорадочно шарят у нее под юбками, в то время как губы целуют вырвавшуюся из корсажа грудь. Он стал торопливо подталкивать ее к кровати. Зефирина поняла, что если сейчас он получит все, то она больше не сумеет заставить, его говорить. – Остановитесь, мессир, как вам не стыдно, вы воспользовались моей слабостью, моим волнением, которое сами же и вызвали, – прерывистым голосом произнесла молодая женщина. Задыхаясь, она оттолкнула его. Дон Рамон хотел было возобновить свои попытки, но ей удалось удержать его на расстоянии. – Постойте, мессир! Вы видите, в каком я состояний, мои люди ждут меня, и… – Обещайте, что вы согласитесь поужинать со мной сегодня вечером! – воскликнул дон Рамон. – Прежде скажите мне, где вы нашли этого ребенка, – ответила Зефирина. Дон Рамон покачал головой. – Если вы согласитесь поужинать со мной, я скажу вам это сегодня вечером. – Это похоже на шантаж, мессир, – с улыбкой заметила Зефирина. – Это похоже… похоже… Словом, вы согласны? – сухо спросил дон Рамон, и его лицо снова приняло прежнее непроницаемое выражение. Зефирина испугалась, что упустит его. Сейчас он больше ничего не скажет. Но он – единственная ниточка, ведущая к Луиджи и Фульвио. Зефирина взяла руку идальго и приложила к своей груди. – Послушайте, как бьется мое сердце, мессир. Это сердце матери, но также сердце женщины. Я приду поужинать с вами. Где я вас найду? – В семь часов, сударыня, я пришлю за вами своих слуг. Дон Рамон церемонно поклонился и отступил, давая дорогу Зефирине. Сопровождаемые насмешливым взглядом Гро Леона, они спустились по лестнице. Внизу хлопотала сеньора Каталина; она собиралась кормить младенца. – Несчастный малютка умирает с голоду, сеньор, – заявила достойная трактирщица. Дон Рамон не собирался возвращать ребенка донье Гермине. Повинуясь мгновенному наплыву чувств, он предложил сеньоре Каталине 500 золотых реалов с условием, чтобы она воспитала мальчика. Трое детей трактирщицы умерли в раннем возрасте. Равно взволнованная как мальчуганом, так и предложенной суммой, сеньора Каталина согласилась и решила назвать малыша Антонио. Зефирина с облегчением вздохнула: она знала, что не смогла бы выкинуть ребенка на улицу, а брать на себя лишнюю обузу ей не хотелось. Она проводила дона Рамона до дверей гостиницы. Дворянин наклонился, чтобы поцеловать ей руку. – До вечера, сударыня, – прошептал он. Зефирина лишь слегка кивнула в знак согласия. Дон Рамон вскочил на коня. Провожаемый взором Зефирины, он поскакал по мадридской улице. Он знал, что впервые в жизни ему придется обмануть императора: он найдет предлог, чтобы остаться в Мадриде. Карл V уедет в Толедо один. Дон Рамон обернулся, когда хрупкая фигурка Зефирины скрылась в гостинице. Он должен заполучить эту женщину, самую прекрасную из женщин, которых когда-либо встречал: он получит ее или умрет.ГЛАВА XV ЛЮБОВНЫЕ СВИДАНИЯ
Великолепные часы сеньоры Каталины пробили семь, когда у порога гостиницы Сан-Симеон остановились носилки: их несли четверо лакеев без ливрей. В любви как на войне; Зефирина знала, что ей предстоит выдержать осаду. Для этого мадемуазель Плюш помогла ей одеться самым тщательным образом. На Зефирине было расшитое серебром голубое платье с огромными рукавами-пуфами и высокой шемизеткой цвета золотистой розы. Этот чудесный наряд – один из подарков мадам Маргариты. Чтобы скрыть глубокий вырез и тонкий облегающий корсаж на китовом усе, подчеркивавший ее осиную талию, Зефирина накинула широкий голубой плащ с большим капюшоном, прикрывавшим роскошные волосы с вплетенными в них нитями жемчуга, которые ей удалось спасти после катастрофы в Сицилии. С помощью лакея Зефирина села в носилки – привычное средство передвижения знатных дам. Мадемуазель Плюш пожелала сопровождать свою госпожу, но Зефирина решила, что сегодня присутствие дуэньи будет неуместным. – Оставайтесь дома, моя добрая Плюш. Завтра, в зависимости от того, что мне удастся узнать, мы начнем действовать, по крайней мере я на это надеюсь… Нос Артемизы Плюш вытянулся. Хотя у нее в голове бродили разные галантные мысли о предстоящем свидании Зефирины, она не могла бы сказать ничего утешительного. К тому же ей не нравился дон Рамон. Рядом хлопал крыльями Гро Леон. Он уселся на крышу носилок. Зефирина откинулась назад. Лакей задернул занавески, и носилки тронулись в путь. Пытаясь разглядеть в просвет между тканью, куда ее везут, Зефирина подавила зевок. Она вытянула ноги, стараясь не задеть обручи, поддерживающие юбку с фижмами, оперлась на локоть и по возможности приняла наиболее удобную позу, позволявшую не измять ни шелковой ткани юбки, ни прически. Убаюканная мерным покачиванием носилок, она вскоре уснула. За день Зефирина очень устала. Тотчас же после отъезда дона Рамона Зефирина разработала свой план сражения. Переодевшись в мужской костюм и спрятав волосы под шапочкой со множеством складок, она вместе с Пикколо отправилась к оружейнику на Пласа Майор, чтобы узнать, не видел ли он венецианца и нет ли у него новостей о некоей даме по имени Тринита Орландо. Оружейник подтвердил, что он уже отдал толедский кинжал, оставленный у него одним из клиентов. – Ты тоже хочешь получить хороший клинок, мой мальчик? – спросил оружейник, приняв Зефирину за юного пажа. – Д-да… при случае. Зефирина старалась, чтобы ее голос звучал грубо. – А ваш клиент не оставил вам адреса? – Мой клиент заплатил мне десять реалов и не заставлял меня терять время, как это делаешь ты, маленький плут. Чтобы привести торговца в хорошее расположение духа, Зефирина купила у него дамасский кинжал из Кордовы. Однако затраты себя не оправдали, оружейник и так сказал все, что знал. Разочарованная, она вернулась в гостиницу, чтобы переодеться и отправиться на первое свидание, назначенное на одиннадцать часов. Милорд Мортимер встретил Зефирину как брат, внезапно воспылавший страстью к своей сестре. Белокурый красавец, всегда любезный и обходительный, этот английский лев принял молодую женщину у себя на квартире. Он встретил ее с обнаженным торсом, ибо только что отразил удар Вильяма, своего учителя фехтования, нападавшего на него с кинжалом и шпагой. – О… моя дорогая Зефирина, я не быть уверен, что вы придти… Какой приятный сюрприз! Английский лорд, фаворит Генриха VIII, медленно натягивал роскошную льняную рубашку. Зефирина успела разглядеть тонкий длинный рубец от удара шпагой, который нанес ему Фульвио в Риме. Мортимер поймал взгляд Зефирины. У него хватило такта не начать снова свои жалобы. Повелительным жестом он отослал мэтра Вильяма и приказал подать завтрак. – Моя дорогая… прекрасная Зефирина, – повторял он, усаживая гостью перед маленьким столиком, уже сервированным на двоих, Это доказывало, что он ожидал ее прихода. Заняв место напротив, он взял ее руки и принялся покрывать их поцелуями. – Вчера, встретить вас, я так смутился… Дорогая… darling… ну, расскажите, что с вами происходить. Постоянно подливая мальвазию в бокал молодой женщины, Мортимер слушал ее рассказ и лишь иногда кивал головой; волосы у него были завиты крупными локонами. Герцог всегда брал с собой в путешествия множество слуг. Два лакея-шотландца, чьи грубо вылепленные лица Зефирина уже успела запомнить, принесли жареных лебедей и куропаток в собственном соку. Отвесив почтительный поклон княгине Фарнелло, лакеи удалились. Под столом длинные ноги Мортимера тотчас же устремились в атаку. Зефирина отстранилась. Не обращая внимания на этот стратегический маневр, Монтроз продолжал свои попытки сближения, одновременно не переставая спрашивать: – Вы, конечно, голодны, darling? После обильной утренней трапезы, оказавшей весьма тяжелое воздействие на ее желудок, она чувствовала себя неспособной проглотить ни кусочка. Пока Мортимер при помощи рук и зубов расправлялся с дичью, Зефирина лишь подносила кусок к губам, делая вид, что пробует его. Мортимер же успевал осыпать ее тысячью любезностей, наполнять свой бокал, пить самому и заставлять пить ее. – Не стоит больше печали, дорогая… вы самая прекрасная женщина на свете и самая умная… Я отвезти вас в Англию… жениться на вас! Вы слишком молоды, чтобы плакать, такова жизнь… Забудьте все и едем со мной, вы быть герцогиней де Монтроз, я стать заниматься вашей маленькой дочерью. Предложение было соблазнительным. Забыть все! Выйти замуж за красавца Мортимера, в которого она даже была чуть-чуть влюблена в «Золотом лагере». Стать одной из знатнейших дам Англии, управлять огромными владениями и навсегда распроститься с мыслью когда-нибудь отыскать Фульвио и Луиджи… На глаза Зефирины навернулись слезы. Она так резко встала, что обручами юбки опрокинула кубок. – Мой дорогой друг, я очень люблю вас. Я благодарю вас, но я не за этим пришла сюда. Из речи Зефирины Мортимер расслышал только три слова: «Я вас люблю». Одним прыжком он вскочил. Прежде чем она успела запротестовать, он сжал ее своими мускулистыми руками. – Мой дорогая, darling, вы не созданы для плакать… вам смеяться, вам любить… Он покрывал ее лицо поцелуями. Ей было приятно ощущать себя в сильных объятиях Мортимер. Это был настоящий мужчина – искусный фехтовальщик, опасный соперник в любви, изысканный вельможа, умело пользующийся духами. Его губы коснулись щеки Зефирины, затем достигли шеи, потом снова поднялись вверх и завладели ее ртом. От его поцелуя у Зефирины перехватило дыхание, и она с трудом осознала, что сама тянется губами к Мортимеру. Издав рычание, английский лорд схватил ее, словно дикий зверь хватает свою добычу. Огромными прыжками он понес ее в спальню, где Зефирина увидела застеленную белоснежным покрывалом кровать. Она еще не успела перевести дыхание, как Мортимер уже лежал на ней. Сквозь плотную ткань платья она ощущала, как страстно он желает ее. Из уст Зефирины вырвался стон, еще больше распаливший Мортимера. С ловкостью опытной горничной он начал раздевать ее. Расшнуровав корсаж, выпустил на свободу груди Зефирины и принялся жарко лобзать ее соски. – Любовь моя, ты такой красивый… Ты тоже меня хотеть, я так мечтать о вас. Руки его проникли под юбки Зефирины и завладели ее самым интимным. Сладострастная дрожь пробежала по ее телу, К чему сопротивляться? Почему не согласиться и не начать новую приятную жизнь рядом с мужчиной, который ей нравится? Она начинала понимать, как ей не хватало ласк Фульвио… Фульвио… Внезапно Зефирина взбунтовалась. Неужели она забудет о муже, о сыне, о мести? – Остановитесь, милорд Монтроз, приказываю вам вспомнить о приличиях. За кого вы меня принимаете? Я вовсе не затем пришла сюда, чтобы со мной обращались как с последней шлюхой. Не забывайте, что я княгиня Фарнелло, супруга вашего друга! – Но я… думать… быть… Зачем же вы прийти? Мортимер опомнился и выглядел несколько смущенным. На лице, которому перебитый в сражении нос придавал еще большее очарование, отчетливо читалось желание. Его приоткрытые губы были влажны. Решив, видимо, что Зефирина кокетничает с ним, он попытался возобновить свои посягательства. Зефирина с силой оттолкнула его. Откатившись на самый край кровати, она быстро соскочила на пол и, прикрыв грудь шемизеткой, отчетливо произнесла: – Я пришла просить вам помочь мне отыскать Луиджи и Фульвио… Не в лучшем настроении Мортимер также встал с кровати. Обойдя комнату, он набросил на себя длинный полукафтан без рукавов, скрыв под ним штаны с выдающимся далеко вперед гульфиком, делавшим его похожим на распаленного быка. Немного успокоившись, он вернулся к Зефирине. – Но, бедная мой, darling… Что я помочь сделать? – Вы всемогущий министр. У вас есть власть, которой нет у меня. Вы можете заставить Карла V сказать вам, в какой тюрьме находится Фульвио, если, конечно, его держат в тюрьме. Вы можете потребовать у него Луиджи, именем вашего короля, которому Фульвио оказал немало услуг, можете потребовать вернуть их обоих… Я уверена, что при дворе все лгут мне, а «Карл-кровопийца» знает все. – Боже… Требовать… вернуть… вы мечтательница, моя бедная Зефирина, я есть… very sorry, я бы хотел оказать услугу вам, но я ничего не могу поделать с императором. Разве вы не знать Карл V, у него каменный сердце! Darling, клянусь, я собрал сведений, Фульвио умереть на Сицилия, так же и ваш ребенок… Я знаю, это очень печально… выходите за меня замуж, дорогая моя, darling… Я владеть самыми прекрасными замками в Сассексе и Корнуолле, у меня есть шесть тысяч баран… «Ого! Число возрастает!» – Вы быть счастлива со мной, Зефирина, darling… Зефирина развернулась на каблуках и бросилась к лестнице. К чувству разочарования примешивались ярость и досада. – Грязный английский трус! – выругалась она, пока Пикколо помогал ей садиться на мула. – Sot! Souci! Sourire![145] – прокаркал Гро Леон. Раздраженная Зефирина понимала, что Гро Леон прав. «Самая умная» среди женщин своего круга, она повела себя как маленькая, глупенькая дурочка, не сумев воспользоваться ситуацией. – Куда мы едем, княгиня? – спросил Пикколо. – Во дворец Сан-Лоренцо! По дороге Зефирина не произнесла ни слова. Она была недовольна собой, понимая, что неправильно вела себя на свидании с Мортимером. Южное солнце стояло высоко в небе, когда Зефирина проехала мимо Торре де Луханес и остановилась возле тяжелой, обитой гвоздями двери дворца, куда она также была приглашена на обед. – Нас ждет сеньор Фернан Кортес, кавалер ордена Сантьяго! – бросила слуге Зефирина. С Гро Леоном на плече она вошла во дворец. Повсюду сновали мажордомы, пажи, солдаты удачи и меднокожие рабы – живое свидетельство того, что сеньор Кортес имел свиту, вполне достойную вице-короля. Слуги стаскивали во двор тяжелые сундуки и устанавливали их на телегах. Видимо, скоро предстояло отправиться в дальнее путешествие. – Сеньора Зефирина де Багатель, – объявил мажордом. Лакей распахнул двустворчатую дверь, и Зефирина очутилась… прямо в спальне конкистадора! Облаченный в роскошный халат из зеленой и золотой парчи, с огромным изумрудом в ухе, Кортес сидел подле низкого столика, собираясь приступить к трапезе. Столик был накрыт на двоих! Он встал и сделал шаг навстречу Зефирине. – Я уже отчаялся увидеть вас, сеньора Зефирина! – Меня задержали дела, которые касаются и вас, сеньор Кортес. – Меня? – удивился конкистадор. Приманка была заброшена. – Salut! Soldat! Sympathie![146] – прокаркал Гро Леон. Ответ последовал незамедлительно. Восхищенный Кортес принялся беседовать с Гро Леоном, а Зефирина села напротив конкистадора, чтобы приступить к своей третьей за сегодняшний день трапезе: каплуны, голуби, перепела, зайцы, гранаты, желтки с сахаром, миндалем и медом следовали друг за другом с поистине адской быстротой. Кортес проглатывал все и говорил мало. – Ешьте… Ешьте, сеньора… Мне нравится, когда у моих гостей хороший аппетит! Зефирина стоически ела, пытаясь незаметно отдавать самые большие куски Гро Леону. Наконец меднокожие слуги принесли золотые кувшины с водой для омовения рук. Зефирина заметила, какой печальный и отстраненный взор у этих людей, привезенных из испанской Индии. – Эти индейские собаки ацтеки… Не обращайте на них внимания! – бросил Кортес. По знаку конкистадора другие слуги унесли остатки трапезы, столик и закрыли за собой дверь. После сытной еды Гро Леон устроился на шкафу; Зефирина осталась наедине с Кортесом. – Сеньор, – бросилась в наступление Зефирина, – вчера вы предложили мне алмаз в обмен на мою очередь… сегодня я хочу предложить вам сделку, выгодную для нас обоих… – Санто Доминго, сеньора, вы мне нравитесь все больше и больше. Я люблю таких женщин, бойких, дерзких и без всякого жеманства… Воинственных амазонок… С вами Легко идешь прямо к цели! И соединяя слова с делом, Фернан Кортес двинулся к Зефирине. Прежде, чем она успела возразить, конкистадор распахнул халат. Иной одежды на нем не было, и Зефирина увидела, как страстно он желает ее. Зефирина так изумилась, что даже не сумела испуганно вскрикнуть, как подобает высокородной даме. Она только успела отметить, что у конкистадора сильное смуглое тело, испещренное многочисленными шрамами. Словно огромный хищный зверь, Кортес набросился на Зефирину, швырнув ее поперек кровати. Опомнившись, она стала отбиваться от навалившегося на нее всем телом мужчины, колотя его кулаками в грудь. – Давай же, красотка… Ты вся горишь, словно кобыла в течке. Он кусал Зефирину, хватал за груди, шлепал по заду. – Мессир, я пришла к вам по делу, – запротестовала она. – Все дела с бабами начинаются в постели! – прорычал Кортес. Он задрал ей юбки и раздвинул ноги, даже не пытаясь снять с нее одежду. Он обращался с ней, как заправский солдафон. Зефирина почувствовала, что его руки сильно сжали ее потаенную плоть, и задрожала от истомы, охватившей ее от этого «насилия». Кортес уже лежал между ее бедер. Его горячий член уже готов был проникнуть в нее. – Я знаю, где вы можете найти сокровища Монтесумы! – завопила Зефирина. О, волшебные слова! Кортес мгновенно привстал. Его золотистые глаза недоверчиво взглянули в зеленые глаза Зефирины. – Почему вы мне об этом говорите? Он перевел дыхание и ослабил объятия. – Потому что эти сокровища существуют, сеньор… Я могу оказать вам огромную услугу. – В обмен на…? – В обмен… на очень важные для меня сведения. – Монтесума… Откуда вы о нем знаете? Кортес отстранился. Стараясь не смотреть на обнаженного мужчину с высоко поднятым членом, Зефирина воспользовалась передышкой, перекатилась на другой конец кровати и соскочила на пол. Она все увереннее исполняла этот маневр! – Сеньор Кортес, я не хотела быть нескромной, но обстоятельства сложились так, что мне пришлось выслушать вашу беседу с королем… Не переставая говорить, Зефирина оправляла платье и приводила в порядок перевитые жемчужными нитями волосы. Кортес зловеще усмехнулся. – Вы подслушивали за дверью? – Вы так орали, что вас было слышно в прихожей! – возмутилась Зефирина. Кортес принялся теребить свои черные кудри. Он запахнул полы халата и проворчал: – Вы испортили такой момент… Так и быть, сеньора, раз уж вы желаете, давайте поговорим о делах! Ноги Зефирины дрожали. Словно на аудиенции, Кортес опустился в массивное кресло, указав молодой женщине место на табуреточке. – Я слушаю вас. Итак, вы утверждаете, что знаете, куда девалось сокровище этой ацтекской собаки, украденное подлым французским корсаром? – Видите ли, сеньор… – начала Зефирина, весьма затруднявшаяся назвать искомое место, – вы не совсем точно передаете мои слова… Кортес разочарованно развел руками, что должно было означать: «Ну, началось». – Я сказала вам, сеньор, что я знаю, где вы могли бы найти сокровища Монтесумы, – уточнила Зефирина, – ибо я знаю, где прячется тот, кто их у вас украл. – Жан Флери! – воскликнул Кортес. – Да, Жан Флери, – улыбнулась Зефирина. – Если я вам выдам корсара, вы сумеете отыскать сокровища. Конечно, если он не успел их растратить. Зефирина лгала вдохновенно, твердо решив получить за свое вранье полноценные сведения. – Вы сами француженка, кто поручится, что вы говорите правду? – Мне нужна ваша помощь, сеньор Кортес. Я не знакома с этим Жаном Флери, и мне, в сущности, наплевать на него… Зачем мне лгать вам? – убедительно заверила его Зефирина. – Гм-м-м… Кортес запустил пальцы в свою черную бороду. Он все еще сомневался. Зефирина решила нанести главный удар. – У вас имеются карты? Кортес повел ее в соседнюю комнату. Это был настоящий рабочий кабинет, где на столах лежали груды пергаментов. Здесь работал личный картограф конкистадора Кристобаль де Картахена. – Я привел тебе юную особу, которая собирается преподать нам урок географии! – насмешливо произнес Кортес, убежденный, что Зефирина не сумеет разобраться в картах, составленных ученым Кристобалем. Зефирина склонилась над столом. – О! Мыс Доброй Надежды, открытый сорок лет назад Бартоломео Диасом, а затем вторично благородным Васко де Гамой в конце прошлого века. Зондские острова[147], Новая Португалия[148] и этот пролив… получит ли он имя величайшего мореплавателя всех времен?.. Я вижу, сеньор Кристобаль, что на основании демаркационной черты Тордесилласа и используя меридиан на астрономической таблице Северной звезды вы пытаетесь начертить путь мессира Магеллана… Конкистадор и его картограф стояли, разинув рты, пораженные столь великой эрудицией. – Ученая женщина! – с комическим видом простонал Кортес. – Так где же, по-вашему, сеньора, скрывается Жан Флери? – Мессир, я скажу, если вы поклянетесь сделать то, о чем я вас попрошу! – Я не могу клясться, не зная, о чем идет речь, – запротестовал Кортес. – А я ничего не скажу вам без такого обещания! – Черт раздери, что за мегера! Хорошо, сеньора, даю слово сделать все, что будет в человеческих силах… – Я хочу, чтобы вы отыскали моего мужа! – Он сбежал? Если вы вели себя с ним так же, как со мной, то меня это не удивляет… Бедняга! – Так вы даете слово? – переспросила Зефирина, не обратив внимание на насмешку. – Если ваши посулы того стоят, – да! Мессир Кристобаль, дайте мне самую подробную карту Сумеречного моря[149]. Картограф повиновался. Палец Зефирины заскользил по карте. – Так он на Канарских островах! – воскликнул Кортес. Зефирина пожала плечами. – Отнюдь… – Тогда, значит, на Подветренных островах[150], вот здесь… Кортес ткнул пальцем в Тринидад. – Вовсе нет, – не терпящим возражения тоном ответила Зефирина. Кортес раздражал ее. Ей хотелось сбить спесь с конкистадора. – Здесь встречаются корабли Жана Флери… Зефирина указала точку, расположенную на юго-западе Иберийского полуострова. – Это мыс Сен-Венсан, ваша милость! – заметил восхищенный познаниями Зефирины Кристобаль. – Так эта собака находится на юге Португалии… Откуда вы это знаете? – спросил Кортес. – Мессир, я не обязана говорить вам, откуда я это знаю! Вы же обещали мне… – Подождите… Пока Кортес вызывал капитана Мартина Переса и отдавал ему приказ отправляться на розыски Жана Флери, Зефирина подсчитала – им понадобится не меньше шестидесяти… даже девяноста дней, чтобы убедиться в отсутствии французского корсара в Сен-Венсане. Если бы, по тем или иным причинам, она бы к тому времени все еще была связана с Кортесом, то сказала бы ему, что Флери бежал… на Канарские острова! – Доставьте его мертвым или живым… лучше живым! – приказал Кортес своему капитану. Затем обернулся к Зефирине: – Ладно, я дал вам слово. Так, значит, вы хотите, чтобы я вернул вашего строптивого мужа? Зефирина вопросительно посмотрела на него. Кортес знаком дал ей понять, что она может говорить в присутствии Кристобаля. – Я хочу, мессир Кортес, чтобы вы нашли то место, где находится мой супруг. У меня есть основания подозревать, что он был увезен в Испанию, где его скорее всего бросили в тюрьму. – Как его имя? – Фульвио Фарнелло. – Итальянец? – Князь Сицилии и Ломбардии… – Вы просили у императора даровать ему прощение? – Я отдаю вам Жана Флери; вы возвращаете мне мужа: у меня есть ваше слово, сеньор Кортес. Кортес заходил по комнате. – Для меня это небезопасно. Но сделка есть сделка. У меня есть кое-какие связи в Королевском совете и среди военных. Предупреждаю вас, что я только получу сведения, где находится ваш супруг… даже если он уже на кладбище. Зефирина вздрогнула. – Но не рассчитывайте, что я стану передавать ему веревочную лестницу и устраивать побег. Вы будете знать, где он и точка. Договорились? – спросил Кортес. В горле у нее пересохло, и она лишь кивнула головой. – По рукам, сеньора. Кортес хлопнул по ладони Зефирины, словно она была купцом, с которым конкистадор заключил выгодную сделку. – Где я смогу найти вас? Зефирина назвала адрес гостиницы Сан-Симеон. – Прощайте, мадам, – поклонился Кортес. – Настал час моего общения с Господом… В сопровождении картографа конкистадор вышел из комнаты и, как был, в халате на голое тело, отправился молиться Всевышнему! Любопытный образчик Человеческой породы – наполовину сеньор, наполовину солдафон. Покидая дворец Сан-Лоренцо, Зефирина, еще полностью не оправившаяся от потрясения, испытывала удовлетворение проведенными переговорами. Она не стала заводить разговор о донье Гермине, надеясь сегодня вечером выспросить все у дона Рамона. Каждому надо было дать свое особое поручение. Когда около четырех часов пополудни она вернулась в гостиницу, Ла Дусер и мадемуазель Плюш уже ждали ее: они были бледны как смерть. Не говоря ни слова, ее верные спутники указали ей на корзину, увитую лентами; сразу же после ее ухода какой-то нищий принес эту корзину и, вручив ее, мгновенно скрылся. Она открыла корзину. На оловянном подносе среди фруктов лежала голова венецианца Тициано… В окровавленных губах несчастного была зажата свернутая вчетверо записка. Дрожащей рукой Зефирина вытащила ее и прочла следующие слова: «Так умирают предатели!» Это был страшный ответ доньи Гермины. Скорее всего содеянное было делом рук преданного ей, как собака, Бизантена. Значит, мачеха не только знала, что Зефирина напала на ее след, но и проведала про ее пребывание в гостинице Сан-Симеон. Кровавая волчица не сложила оружия. День ото дня она становилась все опасней; Зефирина догадывалась, что ее жажда крови растет вместе с увеличением дозы употребляемых ею наркотиков. И эта омерзительная женщина держала в своей власти ее ребенка, ее Луиджи… Единственной надеждой Зефирины был Каролюс, бедняга-карлик, полу-мужчина, полу-женщина; она даже не могла с уверенностью сказать, приходится ли он ей теткой или дядей, однако была твердо уверена в его расположении к ней. По крайней мере, он должен был позаботиться о ее сыне. Чем Тициано заслужил столь страшную смерть? Может быть, венецианец хотел украсть подлинного Луиджи и вернуть его матери? Ворота Алькасара закрывались в шесть часов. Дрожа за жизнь Коризанды, Зефирина решила во что бы то ни стало уберечь ее от мести доньи Гермины. Только в одном месте Коризанда могла быть в безопасности: подле мадам Маргариты, под ее покровительством. Среди слуг Зефирины возникло замешательство. Молодая женщина хотела отправить Плюш и Ла Дусера в Алькасар, но достойная мадемуазель Плюш и оруженосец отказались выполнить это приказание. «Они никогда не покинут княгиню Зефирину, им ее поручили, они поклялись ее отцу, господину маркизу, и монсеньору, ее супругу…» Наконец, было решено, что с маленькой Коризандой останутся Эмилия и Пикколо и будут опекать ее до тех пор, пока Зефирина вновь не займет свое место подле Маргариты. Зефирина быстро заполнила пропуска Лануа; дабы убедиться, что все в порядке, она проводила дочь до самого Алькасара. Расставаясь, она поцеловала ее с такой тоской и страстью, что все были удивлены, Зефирина предпочла не входить в крепость, опасаясь, что может опоздать к назначенному для свидания часу. Предчувствие подсказывало ей, что третье свидание будет самым важным. Ла Дусер прекрасно запомнился мадам Маргарите. Справившись с поручением, он вернулся в Сан-Симеон, чтобы успокоить Зефирину. У принцессы Маргариты в Алькасаре были собственные апартаменты. Она разместила там Коризанду, Эмилию и Пикколо. Добросердечная принцесса передавала своей подруге, что та может ни о чем не беспокоиться и продолжать поиски; она также сообщала, что король чувствует себя все лучше и лучше. Перестав волноваться за судьбу дочери, а также за Франциска I, Зефирина быстро привела себя в порядок, готовясь отправиться на ужин с доном Рамоном де Кальсада…ГЛАВА XVI ТРЕТЬЕ СВИДАНИЕ
– Тысяча поцелуев, сеньора! При звуке этого голоса Зефирина внезапно проснулась. Всю дорогу она проспала. Одетый в штаны и камзол из черного бархата, дон Рамон галантно протягивал ей руку, помогая выйти из носилок. Сон освежил Зефирину, и теперь она с нескрываемым удивлением оглядывалась по сторонам. Она стояла посреди просторного двора с колоннадой, обнесенного кованой железной решеткой, типичной для мавританских дворцов. В центре, на клумбе благоухали цветы, фонтанчиками била вода, наполняя воздух свежестью. – Где мы, мессир? – спросила она. – Конечно же, у меня, сударыня! К несчастью, я почти все время в пути, поэтому мне редко удается насладиться этой красотой. Дон Рамон протянул руку Зефирине, чтобы она могла опереться на нее. Вместе они обошли его владение. Кроме просторных комнат на первом этаже во дворце – наполовину арабском, наполовину испанском – был еще целый лабиринт внутренних двориков, коридоров, прихожих и оружейных залов. Роскошный дворец в самом центре Мадрида свидетельствовал о занимаемом доном Рамоном высоком положении и тех благодеяниях, коими осыпал его император. Обходя дворец вместе с хозяином, Зефирина заметила, что они не встретили ни одного слугу. Вероятно, дон Рамон отпустил их на сегодняшний вечер. Однако подобное предположение еще ни о чем не говорило Зефирине. В этот вечер от надменности дона Рамона не осталось следа: он был почти что весел, рассказывал о музыке и об искусстве, словом, был обаятельным и любезным хозяином дома. В сопровождении Гро Леона, кружившего над их головами, он рассказывал молодой женщине, всегда с жадностью узнававшей что-то новое, о резных окнах с двойными арками, фаянсовых плитках, покрытых эмалью, террасах, о золотом и мавританском стилях архитектуры, соединившихся воедино в его дворце. Он увлек Зефирину в шпалерные сады и заставил ее отведать еще не полностью созревшего винограда. Гурман Гро Леон до отвала наелся сочными ягодами. Со всяческими церемониями дон Рамон провел ее по винтовой лестнице на балкон, выходивший во внутренний дворик квадратной формы. – Я приготовил вам сюрприз, сеньора! – воскликнул дон Рамон и, пригласив Зефирину сесть на стул с высокой резной спинкой, удалился. Окинув взором пустой двор, Гро Леон устроился на перилах балкона. Зефирина спрашивала себя, но собирается ли дон Рамон спеть ей серенаду. Двое конюхов, первые слуги, которых заметила Зефирина, закрыли с двух сторон проходы во двор тяжелыми решетками. Отворились две двери. Из одной во двор выехал дон Рамон на низкорослой белой лошади. Рыцарь галопом подскакал к балкону своей дамы. Приветствуя ее поклоном, он снял с головы черную шапочку ибросил ее Зефирине со словами: – Из любви к вам, сеньора, я стану вашим тореадором! С первых дней своего пребывания в Испании Зефирина слышала рассказы о том, как знатные сеньоры со страстью предавались развлечению под названием «коррида». Однако она толком не знала, в чем состоит суть этого испытания, не знала, что специальный устав, принятый еще в XIII веке и именуемый Pallidas, разработал жесткие правила этой игры. – Того! – крикнул дон Рамон. Слуги приподняли дверь-заслонку, и во двор выскочил огромный черный бык; он тяжело дышал, с губ его клочьями слетала пена. – Rejon! – приказал дон Рамон. Один из слуг, оставшийся за барьером, протянул ему короткое деревянное копье с острым железным наконечником. Вооружившись им, испанский дворянин галопом поскакал к быку, который также направился ему навстречу. Зефирина с трудом сдерживалась, чтобы не закричать от страха. Гро Леон тоже перепугался. Огромный мощный бык, казалось, вот-вот опрокинет и всадника, и коня. Изящным движением, в котором, однако, чувствовались недюжинная сила и ловкость, дон Рамон всадил копье в могучий загривок быка. От боли животное жалобно закричало. – Soldat! Salaud! Soupir![151] – прокаркал Гро Леон, явно сочувствовавший быку. Зефирина прижала руки к сердцу. Этот жестокий спектакль был ей отвратителен, и она приказала птице замолчать. Момент, чтобы позлить хозяина дома, был неподходящим. Между тем, она не могла не признать исключительную ловкость тореадора. Искусно управляя своим низкорослым скакуном, специально выдрессированным, чтобы атаковать быка, дон Рамон вернулся под балкон. Отвесив гостье почтительный поклон, он вновь поскакал к быку. – Ara… toro… toro! – подбадривал он криками животное. Зефирина стала понимать, что по условиям игры тореадору необходимо коснуться быка. В тот момент, когда бык бросался, стремясь поддеть на рога коня, мужчина должен был, сохраняя равновесие, наклониться и нанести удар. По правилам «игры» участник должен был быть не только великолепным наездником, но и обладать недюжинной ловкостью. Действо, разыгрывавшееся во дворе, напоминало, скорее, фантасмагорическое видение: кровавый и безумный спектакль, исполняемый для одной только зрительницы, казался нереальным. Зефирина невольно втянулась в созерцание поединка человека и животного. Гро Леон спрятал голову под крыло. Зефирина, подумав, решила, что это, в сущности, не более жестоко, чем иные привычные рыцарские забавы, как например, поединки на турнирах, когда рыцари сходятся один на один. Восхищаясь ловкостью тореадора, она несколько раз принималась аплодировать. Дон Рамон спешился, вынул из ножен шпагу. – Toro… toro! – позвал он. Весь в мыле, с окровавленными ноздрями бык, пошатываясь, двинулся на своего мучителя. Не сходя с места, дон Рамон вонзил свой клинок в затылок зверя, и тот, смертельно раненый, рухнул на землю. – Sot! Sadigue![152] – проворчала галка. У птицы было несварение желудка. Не более четверти часа потребовалось дону Рамону, чтобы убить быка. Запачканный кровью, с потным лицом, он подошел, чтобы вновь приветствовать Зефирину. Понимая, что победитель ждет от нее привычную для победителей турнира награду, она бросила ему свой пропитанный духами кружевной носовой платок. Испанский дворянин на лету схватил его и поднес к губам. – Рад, сударыня, что представление вам понравилось. Я могу уложить шесть быков подряд… Хотите, я сейчас покажу вам? Напуганная мыслью о том, что ей предстоит увидеть еще пять убийств невинных животных, Зефирина с улыбкой отклонила предложение. – Все было прекрасно, сеньор, но мне кажется, время уже позднее… – Вы правы, сеньора, поэтому я прошу у вас еще всего лишь несколько минут… Зефирина поискала глазами Гро Леона. Тот исчез; вероятно, ему стало плохо от корриды, а может, и от зеленого винограда. Дон Рамон отправился переодеться. Когда он вернулся, костюм его вновь был безупречен, пятен крови не осталось и в помине. В прорези камзола сверкал белизной его трофей – платок Зефирины. – Изволите ли вы теперь поужинать? – С удовольствием. Как ни странно, но сейчас Зефирина была очень голодна. Дон Рамон провел ее в соседнюю комнату. На круглом столике был сервирован ужин. Слуги отсутствовали. Дон Рамон и Зефирина обслуживали себя сами. Испанский дворянин все предусмотрел. Блюда, приправленные перцем и шафраном, были восхитительны. Вино из Хереса ударило Зефирине в голову. В соседней комнате, за ковром, музыканты на виолах исполняли приятные пастушеские мелодии. Внезапно Зефириной овладела приятная истома; возможно, причиной тому были меланхоличные напевы и нежный перезвон струн. Перед ней сидел суровый идальго, умный, надменный и любезный. Она даже вынуждена была признать, что он не лишен некоего очарования, присущего зрелым мужчинам. Во время ужина дон Рамон не позволил себе ни одного неподобающего жеста; он лишь слегка касался пальцев Зефирины, передавая ей очередное блюдо, да нога его иногда задевала ее юбку. Может быть, он удовлетворится их совместным ужином? Напряжение спало, и Зефирина рассмеялась. Она отвечала любезностью на любезность, рассказывала о жизни при дворе Франциска I, забавляла дона Рамона галантными историями. Ужин подходил к концу. Зефирина решила, что все, оказывается, гораздо проще, чем она предполагала, и подняла свой кубок. – Мессир, я пью за нашу новую дружбу и желаю, чтобы она длилась столько же, сколько отпущено нам дней на этой земле… Более изысканный тост придумать было трудно. Дон Рамон ответил с подобающей учтивостью. – Сеньора, я пью за вашу красоту, ослепившую взор того, кто с первого же взгляда был околдован вами… Они вновь вступили на скользкую почву, Зефирина решила, что пора сворачивать с опасной тропы. – Поверьте мне, сеньор Кальсада, я глубоко ценю все, что вы сделали для меня… Я была весьма тронута тем, что вы привезли ко мне этого ребенка, верю, что вы искренне считали его моим сыном… Теперь, когда мы друзья, скажите мне, кто дал вам этого младенца? После многих обходных маневров Зефирина двинулась прямо к цели. Дон Рамон холодно взирал на Зефирину. – Здесь не место и не время говорить о подобных вещах, сеньора. Возмущенная Зефирина встала из-за стола. – Я сдержала слово и пришла к вам. Теперь сдержите свое. Сквозь забранное решеткой окно она выглянула во двор: при свете факелов слуги смывали с плит пятна бычьей крови. Руки дона Рамона опустились ей на плечи. – Вы портите наш вечер, сеньора… Зефирина… Взгляните на луну, любовь моя. Она обернулась, чтобы возразить ему. Именно этого ей и не следовало делать. Как и сегодня утром, невозмутимый идальго вновь походил на одержимого. Холодный дон Рамон, крепко обняв ее за талию, запрокинул ей голову и жадным поцелуем впился в губы. Он завладел Зефириной, словно дикий зверь завладевает своей добычей. Быстро откинув портьеру, за которой, как оказалось, стояла огромная кровать под балдахином, он в три прыжка отнес ее туда. – Оставьте меня, мессир! – протестовала Зефирина. Она думала, что, как и во время утренних свиданий, ей удастся выпутаться из создавшегося положения. Однако она плохо знала испанцев; в их жилах текла горячая кровь. – Mi amor… belleza… mi corazo. Он срывал с Зефирины одежды, выдергивал шнурки из корсета, упивался ее губами, покрывал поцелуями грудь, задирал юбки. Он был всюду одновременно. Никогда еще Зефирине не приходилось иметь дела со столь пылким и ловким мужчиной. «А я была готова держать пари, что он сплошной кусок льда!» – успела подумать она перед тем, как закружилась в вихре чувств. Ей надо было сопротивляться, отталкивать его. Но она только сладко застонала. Дон Рамон принялся ласкать ее бедра. Внезапно он остановился, пораженный своим открытием. В ней также пробудилось желание. Он испустил радостный сладострастный вопль. С утра Зефирина уже успела побывать в объятиях двух сильных и красивых мужчин, пробудивших ее чувственность. Тело ее трепетало. Она жаждала любви, жаждала крепко прижать к себе мужское тело. Она больше не могла сопротивляться, не могла говорить «нет». Третьему за сегодняшний день мужчине оставалось только собрать урожай, посеянный двумя его предшественниками. И как ни странно, именно об этом мужчине она думала меньше всего. Но зрелый муж, изощренный в любовных ухищрениях, казалось, был неисчерпаем в своей изобретательности. – Иди сюда! – простонала Зефирина, тая от страсти в объятиях дона Рамона. «Фульвио говорил мне, что на такое способны только юноши!» – подумала Зефирина. Дон Рамон трижды обладал ею. Она находила в этом неизъяснимое удовольствие. Поначалу робкая, как любая женщина, познавшая в своей жизни только одного мужчину, Зефирина лишь покорно подчинялась ему; затем она, осмелев, сама начала предлагать ему правила игры. Ей казалось, что в ней сейчас живут два человека. Мысли ее были с Фульвио – возлюбленным мужем, которому она давала клятву верности. Когда дон Рамон брал ее, она закрывала глаза и воображала себя в объятиях супруга; тело же ее упивалось любовью испанца. – Прекрасная… божественная Зефирина… ты чувственна и нежна, настоящая женщина. Я люблю твое тело, твою грудь… Я больше не смогу без тебя, моя восхитительная возлюбленная. Восхищенный дон Рамон, не переставая, ласкал ее золотистую кожу. «Вот… у меня есть любовник, у меня есть любовник…», – повторяла она, удивляясь, с какой легкостью сменила свой титул честной жены на титул любовницы. «Я делаю это только ради Луиджи и Фульвио», – говорила она себе, чтобы заглушить угрызения совести. Она знала, что это не совсем так. Насладившись ее сосками и опьяненный нектаром, источаемым золотым руном, доводившим его до безумия, дон Рамон встал и отправился за вином и фруктами. Вытянувшись на широкой кровати, Зефирина разглядывала мускулистое тело мужчины, освещенное трепещущим пламенем свечей. Совершенно не смущаясь своей наготы, дон Рамон вернулся, неся поднос со сладостями. – На соседней колокольне пробило полночь. – Мне пора, – сказала Зефирина. – Я хотел бы защитить тебя от грядущих опасностей… от жизни, быть может, даже от тебя самой, Зефирина. Говоря эта слова, Рамон де Кальсада продолжал ласкать живот Зефирины. – Ты чаровница, – шептал он, готовый вновь вступить в любовную схватку. Она поцеловала его в шею и нежно, но уверенно оттолкнула от себя. – Рамон, скажи мне, прошу тебя… Что произошло сегодня утром? Дон Рамон вздохнул. Он лег на спину, заложив руки за голову. – Это не моя тайна, Зефирина, она принадлежит «сама знаешь кому». Если он узнает, что я проговорился, я ломаного гроша не дам за свою шкуру; но я больше не могу да и не хочу ничего от тебя скрывать… «Он» послал меня за твоим сыном в монастырь святой Клариссы… Зефирина села, поджав под себя ноги. – В монастырь святой Клариссы, – повторила она упавшим голосом. – Да, похоже, что ребенок находился на попечении одной женщины по имени Тринита Орландо… – Донья Гермина, – прошептала Зефирина, став бледнее белоснежных кружев подушки. – Негодяйка нас переиграла. Она вручила мне того бедного крошку, которого я привез сегодня утром. Но клянусь тебе, я ничего не заподозрил. – Я верю тебе, Рамон. Но почему ты потом ничего мне не сказал? – жалобно проговорила Зефирина. – Я бы собрала своих людей, мы бы осадили монастырь. Дон Рамон привстал, опираясь на локоть. – А вот этого делать не надо, в твоих же интересах. Я не мог ничего тебе сказать, потому что был связан словом… Но знаешь, куда я потом поехал?.. – Сеньора Тринита Орландо? Расставшись с Зефириной в гостинице Сан-Симеон, дон Рамон вновь постучал в дверь монастыря святой Клариссы. Как он и ожидал, ему ответили: – Сеньора Орландо уехала! Дон Рамон добился, чтобы его впустили. Он даже сумел поговорить с настоятельницей и вынужден был признать, что его провели. Сразу же после его отъезда сеньора Тринита Орландо скрылась, захватив с собой оружие и кое-какие вещи. Идальго узнал, что за воротами монастыря ее ждал слуга, и она уехала, забрав с собой карлика и малыша, красивого шестимесячного младенца. Мать настоятельница, похоже, была высокого мнения о сеньоре Орландо. «Такая почтенная дама, такая милосердная… Подумать только, сеньор, еще сегодня утром она взяла на воспитание малютку, подброшенную какой-то несчастной к воротам монастыря…» Выйдя из обители, дон Рамон решил расспросить местного кузнеца. Действительно, тот сегодня утром подковал несколько мулов, запряженных в экипаж, в котором сидела дама, по описаниям напоминающая донью Гермину. Еще кузнец сказал, что она спрашивала у него дорогу на Саламанку[153]. – Дорогу на Саламанку… – повторила Зефирина. – Значит, она решила бежать в Португалию? – Я больше ничего не знаю, – ответил дон Рамон. – Поверьте мне… Зефирина была уверена, что он говорит правду. Она больше не удивлялась тому, что сейчас Рамон де Кальсада с легкостью рассказал ей все. Прекрасная саламандра только что испытала свою огромную власть над мужчинами. Теперь она понимала, насколько проще заставить их говорить «после», чем «прежде»… Это открытие заставило ее задуматься. – А ты случайно ничего не знаешь об участи моего несчастного супруга? – спросила она как можно более равнодушным тоном. – Ничего… О нем я ничего не знаю! – убежденно ответил Рамон. Она почувствовала, что он лжет. Однако, проявив мудрость, настаивать не стала. Смутившись от ее вопроса, дон Рамон задул свечи. В темноте он обвил руками Зефирину. – Я люблю тебя, Зефирина… Невероятно, но люблю, – произнес Рамон, нежно сжимая ее в объятиях. Положив голову на мужское плечо, Зефирина лихорадочно придумывала самые безумные планы. Засыпая, она видела себя преследующей донью Гермину во дворце короля Португалии. Она резко пробудилась. Гро Леон, обретший свое обычное прекрасное самочувствие, «пел», сидя на окне. – Soleil! Sardine![154] Зефирина бросила взор на дона Рамона. Он все еще спал. Она встала, подошла к Гро Леону и шепнула ему на ухо: – Лети… Дорога на Саламанку… на запад… ищи Луиджи… донья Гермина… Бежала вместе с Луиджи… Дорога на Саламанку… Ты понял? – Salope! Salamanca! Salope! – повторил Гро Леон, доказав, что понял задание. – Быстрей, Гро Леон, прошу тебя, и возвращайся в Сан-Симеон! – Salamanca, кар… кар… – прокаркала птица, прежде чем подняться высоко в воздух и взять направление на запад. Зефирина долго провожала его взором, пока, наконец, черная точка не скрылась в небе. Теперь ей ничего не оставалось делать, как только ждать возвращения Гро Леона. Она забралась в постель. Рамон открыл глаза и тут же заключил ее в свои объятия. Еще секунда, и кастильский дворянин уже лежал на ее трепещущем теле. Он был ненасытен в своей страсти. К своему великому стыду, Зефирина отдавалась ему с неменьшим удовольствием. Ее тело истосковалось по любви…ГЛАВА XVII МЯТЕЖНИЦА
– Поезжай в Толедо. Принеси присягу на верность, Зефирина. Я обещаю тебе свое покровительство при дворе… Ничего не бойся, донья Гермина перестала быть неприкасаемой. Я знаю императора, он был очень недоволен, когда я рассказал ему о ее поступке. Именно поэтому он разрешил мне остаться в Мадриде еще на одну ночь. Уверяю тебя, он не желает зла твоему сыну… Ты станешь одной из блистательнейших женщин королевства. Подумай, Зефирина, подумай как следует. Я уезжаю, чтобы присоединиться к королю… Обещай, что ты приедешь, Зефирина. Прощаясь с молодой женщиной, дон Рамон был столь взволнован, что она не узнавала его. – Мне надо уладить кое-какие дела, я смогу прибыть ко двору только через три дня, – словно думая вслух, произнесла Зефирина. – Обещай, что приедешь, – настаивал идальго. – Да… да, обещаю, Рамон, – сдалась Зефирина. Когда Зефирина вернулась в гостиницу, первое, что она увидела, была недовольная физиономия Ла Дусера. Будучи по натуре чрезвычайно добродетельным, оруженосец чувствовал, что сегодня ночью поведение Зефирины отнюдь не отличалось целомудрием. Платье, порванное пылким доном Рамоном, подтверждало его подозрения. Любопытство снедало также и вечно романтически настроенную старую деву; она была готова на все, чтобы узнать, что же произошло сегодня ночью. Приняв вид, подобающий ее светлейшему высочеству, Зефирина объявила своим спутникам, что от дона Рамона де Кальсада она узнала, что кровавая волчица бежала по дороге на Саламанку. Привыкнув к сочному языку Ла Дусера, Зефирина не стала придираться к словам. – Дождемся возвращения Гро Леона! – Но так мы потеряем время… Мерзавка наверняка проделала вчера с десяток лье, да сегодня еще пять… Ах, мамзель, я вас не понимаю! – Замолчите Ла Дусер, вы утомляете нас своими криками, – пропищала Плюш. – Если у мадам есть план, не мешайте ей действовать. Умом Зефирина понимала, что Ла Дусер прав. Она должна была бы броситься в погоню за доньей Герминой. Однако какое-то неясное предчувствие удерживало ее от этого. Зефирина была уверена, что Рамон сказал правду, но она хорошо знала свою страшную мачеху. Если она обмолвилась о том, куда держит путь, значит, сделала это, чтобы сбить со следа погоню. «Пятнадцать лье для крыльев Гро Леона – это десять часов лета, и еще десять, чтобы вернуться… Он вылетел в пять утра, в три часа дня птица еще не вернулась». Ожидание для Зефирины было мучительным. Чтобы скоротать время, она решила пойти в Алькасар, повидать Коризанду, мадам Маргариту и короля. Ла Дусер должен был сообщить ей о возвращении Гро Леона или же отправить галку к ней. Выходя из гостиницы, Зефирина нос к носу столкнулась с солдатом в железном шлеме. – Сеньора де Багатель? – Да. – Точно? – недоверчиво переспросил солдат. – Разумеется, это не написано у меня на лбу, но тем не менее я Зефирина де Багатель, – раздраженно ответила молодая женщина. Окинув ее критическим взором, солдат достал из-за кольчуги записку, вложил ей в руку и прошептал: – От сеньора Кортеса… Зефирина мгновенно развернула ее и прочла: «Санта Крус», Барселонские галеры». Подписи не было. Короткая записка не содержала ничего компрометирующего и вместе с тем была достаточно ясной. Пытаясь унять сильно бьющееся сердце, Зефирина несколько раз перечитала ее. Итак, Кортес, если, конечно, он не ошибся, узнал, что Фульвио находился на борту «Санта Крус», одной из барселонских галер. – Поблагодарите вашего командира и скажите ему… – произнесла Зефирина, отрывая глаза от записки. Она застыла в недоумении. Солдат Кортеса словно растворился в воздухе. Зефирина кусала губы. Фернан Кортес сдержал слово. «Барселонские галеры…» Сказать это – то же самое, что сказать «ад». Зефирина не могла поверить, что двуличный Карл V отправил князя Фарнелло на галеры… Фульвио – каторжник на галере… Фульвио, утонченный дворянин, князь – на одной скамье со скованными гребцами, в вонючем трюме… Фульвио, ее жизнь, ее любовь… которую она предала сегодня ночью. Чтобы не упасть, она прислонилась к дверному косяку. Пол ускользал у нее из-под ног. Она слышала смех сеньоры Каталины, играющей с маленьким Антонио. Внезапно к Зефирине вернулось мужество: раз Фульвио на галерах, значит, он жив. С самого отплытия с Сицилии она не верила в его гибель, и сердце не обмануло ее. Она быстро поднялась к себе. С волнением сообщила своим спутникам о полученной записке. Когда отзвучали радостные возгласы, Зефирина и ее друзья принялись думать, каким образом можно спасти Фульвио. В это время за окном послышался жалобный писк. Это был измученный долгим полетом Гро Леон. Перья его растрепались. Он разевал клюв и тихо выкликал: – Soif! Sardine![155] Зефирина засуетилась, принесла ему воды и семян подсолнуха. Когда Гро Леон насытился, молодая женщина, дрожа от нетерпения, спросила его: – Ты нашел донью Гермину на пути в Саламанку? Гро Леон отрицательно покачал своим серым хохолком. – Нет, ты не видел ее… Великий Боже, где же она? Куда она увезла моего Луиджи? – простонала Зефирина. – Salope! Sud! Serville![156] – прокаркал Гро Леон. – Севилья? – удивленно повторила Зефирина. – Ты уверен, Гро Леон? – Sur! Salope! Seville![157] – безапелляционно повторила птица. Зефирина полностью доверяла своей галке. Ее усталость свидетельствовала о том, что она очень долго летела над дорогой на Саламанку. Никого не обнаружив, она вместо того, чтобы, описав круг, вернуться назад, еще долго парила над окрестными дорогами, отыскивая экипаж доньи Гермины. – Ах, черт, согласен, вы оказались правы, мамзель Зефирина, – признал Ла Дусер. – Если бы мы вас не послушались, хороши бы мы были, загнав коней на дороге на Саламанку… О, узнаю дурные манеры этой чертовки… взяла да и поехала в другую сторону, чтобы обмануть нас… Но, как мне кажется, мамзель Зефи, дорога в Севилью лежит через Толедо… Так, может, ваша гадючка мачеха заедет туда, чтобы отдать нашего мальчугана «Карлу-кровопийце»? Такое вполне могло случиться. – Ты слышал, Гро Леон? Ты полетел за доньей Герминой? – ласково спросила Зефирина. – Suivre! Suivi![158] – Прекрасно, значит, ты видел ее? Сколько с ней было людей? Один… два… три? – Srois! Srois! Srois![159] – Они ехали на юг? Может быть, в Толедо? – Sud! Salope! Soulie! Seville! Seville! Seville![160] От этого допроса, ставившего под сомнение правильность ответа, птица пришла в дурное расположение духа, захлопала крыльями и вспорхнула на шкаф. Выманить ее оттуда не было никакой возможности. Зефирина хорошо знала склочный характер Гро Леона. Когда он обижался, из него нельзя было вытянуть ни слова. Чтобы отвечать столь уверенно, Гро Леон должен был не только увидеть донью Гермину, но и услышать из ее уст слово «Севилья». Возможно, он подслушал ее разговор во время стоянки, когда она была вынуждена дать передышку мулам. Кому могло прийти – в голову остерегаться сидящей на ветке дерева птицы? – Она едет туда вместе с нашим маленьким Луиджи… Но почему, Господи? – воскликнула Зефирина. Из Севильи корабли плывут в Испанскую Индию, – вдруг осенило ее. – Испанскую Индию? – в один голос повторили сраженные ее открытием Ла Дусер и мадемуазель Плюш. – Друзья мои, нельзя терять ни минуты! – объявила Зефирина. Сердце ее разрывалось. Как успеть разом в два места? Она стремилась в Барселону, чтобы попытаться освободить Фульвио или хотя бы смягчить его участь. Но ведь в это время эта бешеная сука скроется вместе с Луиджи, и она больше никогда не увидит свое дитя. Если она поедет на север, драгоценное время будет упущено. Зефирина помнила приказ Фульвио: спасти сына. Значит, прежде всего надо помешать донье Гермине отплыть на одном из галионов. – Ла Дусер, отправляйся в Барселону и постарайся вести себя потише… – Ох, дьявол, черт, тысяча рогоносцев, вы же знаете, мамзель, что я тих, как мышь! – запротестовал гигант, который одним своим ростом уже привлекал к себе всеобщее внимание. Даже не улыбнувшись, Зефирина продолжала: – Потолкайся в порту, поговори с теми, кто охраняет каторжников, попытайся поговорить с гребцами с галер. Вот тебе половина из оставшегося у меня золота и эти два кольца… Постарайся подкупить какого-нибудь охранника. Если тебе удастся увидеть Фульвио, скажи ему… скажи… У Зефирины перехватило дыхание. – Не волнуйтесь так страшно, моя крошка, я все понял, я отправлюсь в Барселону, я освобожу монсеньора, скажу ему, что все в порядке, что вы заняты поисками нашего малыша… и уж верно он вернется к вам такой радостный-радостный… – как нечто само собой разумеющееся произнес Ла Дусер. – Вот только есть одна загвоздка – я не могу позволить вам шастать по невесть каким дорогам с одной только беднягой Плюш, монсеньор мне этого никогда не простит… Зефирину не обрадовало упорство великана. Они заспорили. Однако Ла Дусер был тверд, как скала. Задачу разрешил Пикколо. Он принес послание от мадам Маргариты. Достойная принцесса собиралась отбыть в Толедо. Она писала: «Дорогая Зефирина! Мой брат чувствует себя значительно лучше. И мы, будучи уверены, что судьба его зависит от великодушия его императорского величества, покидаем Мадрид, чтобы засвидетельствовать наше почтение ее величеству королеве Изабелле… Затем мы возвратимся в Мадрид, дабы обнять нашего дорогого брата, и тотчас в одиночестве отбудем в милую сердцу Францию. Нам известно, что благородный император Карл, воистину имеющий право именоваться Великим, сделает все, чтобы мы поскорей вновь увидели нашего любимого Франциска…» Это означало: «Для Франциска готовят побег, и он вскоре будет с нами». «…Маршал Анн де Монморанси работает над текстом соглашения между их величествами. Я чувствую себя хорошо. Если можете, дорогая Зефирина, приезжайте к нам в Толедо. Мы берем с собой вашу малютку Коризанду. Не беспокойтесь за нее. Она вместе с Эмилией находится под надежной охраной моего слуги Сильвиуса. Я не оставлю ее своими заботами и поэтому возвращаю вам вашего отважного Пикколо. Король, мой брат, питающий к вам величайшую признательность и неизменно дружеское расположение, сказал вчера, что ваша Коризанда будет королевской воспитанницей. Надеюсь, дорогой друг, очень скоро вновь увидеть вас. Молитесь вместе со мной за добродетельного и снисходительного императора Карла, постоянно выказывающего нам свое благоволение. Безбоязненно предавайтесь вашим благочестивым занятиям. Как сладостно молить Господа, когда сердце твое чисто! Вам нет нужды возвращаться в Алькасар, ибо его величество поручает заботы о себе достойным испанским идальго. Итак, прощайте. До скорого свидания, дорогая моя Зефирина. Nutrisco et extinguo. Ваша Маргарита.» Принцесса окончила свое письмо имеющим двойной смысл девизом Саламандры, знака Франциска I: «Порождаю и уничтожаю (огонь)». Письмо было настоящим шедевром дипломатической переписки, всегда имеющей двойной смысл. Очевидно, мадам Маргарита опасалась, что письмо попадет в руки «чтецов» Карла V. Она была права. Пикколо рассказал, что при выходе из Алькасара сбиры задержали его, чтобы ознакомиться с эпистолярным творчеством принцессы. Ему показалось, что они были вполне удовлетворены. Донос, который они отослали императору, вероятно, был весьма благоприятен для пленника и его сестры. Похоже, принцесса предпочитала удалить Зефирину от короля. Подготовка к побегу шла полным ходом. Месть Карла V могла обрушиться на головы ни в чем не повинных людей, преданных Франциску. Зефирина была растрогана великодушием французского короля и обрадована известиями о дочери. Ничто больше не удерживало ее в Мадриде. – Ты поедешь со мной, Пикколо. Ла Дусер отправится в Барселону, – приказала она. За пятьсот реалов она купила четырех отличных лошадей, надеясь, что на них они догонят значительно менее резвых мулов. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, она переоделась в мужской костюм. Оставалось решить участь Плюш. Зефирина сомневалась, стоит ли брать ее с собой. Плюш придется везти в повозке, а значит, они будут продвигаться медленнее. Однако она плохо знала Артемизу Плюш. – Клянусь королем Артуром, мессиром Ланселотом и добродетельным Галаадом… мадам, я поскачу верхом до самого Святого Грааля! Рыцарские романы вскружили голову мадемуазель Плюш. С помощью Пикколо Артемиза соорудила себе замысловатый наряд. Плюш без причитаний рассталась со своими черными юбками. Кривыми ногами она сдавила бока рыжего конька. – Да вы плутовка, Плюш! Держитесь в седле не хуже любого мужчины! – воскликнула Зефирина. – Сударыня, я же никогда не рассказывала вам всей своей жизни! – с таинственным видом ответила Плюш. На прощанье Зефирина обняла сеньору Каталину. Она оставляла ей свои платья и маленького Антонио. Зефирина взволнованно поцеловала младенца: она думала о своем Луиджи. С Гро Леоном на плече Зефирина вскочила в седло. Молодая женщина и ее спутники покинули Мадрид. Выехав за городские стены, они разделились. Ла Дусер отправился на северо-восток, к Средиземному морю. Зефирина чуть не расплакалась. – Ла Дусер, я надеюсь, что ты все-таки доберешься до Севильи, поэтому оставлю для тебя письмо у ризничего собора, чтобы ты знал, где нас искать… Ты меня понял? – Черт возьми, конечно, да, письмо… не у колдуна… а всего лишь у ризничего. – А ты, если найдешь Фульвио, скажи… скажи ему… Голос Зефирины задрожал. Гигант дружелюбно похлопал ее по плечу. – Не волнуйся, крошка, я умею разговаривать как надо, будь спокойна, я скажу монсеньору все, что надо… Поезжайте, удачи вам, а ты, Пикколо, хорошенько охраняй ее… или я, когда вернусь, надеру тебе задницу. Зефирина и ее спутники долго смотрели всаднику вслед. – Вперед! – воскликнула Зефирина. Отдыхая ровно столько, сколько требовалось для восстановления сил лошадей, спя на земле, завернувшись в плащи, обедая на ходу, всадники за два с половиной дня добрались до Толедо. Раскинувшийся среди величественной природы на высоте тысяча пятьсот футов, омываемый водами Тахо, этот город, бывший последовательно столицей западных готов (визиготов), мусульман и христиан, ставший «императорским» городом Австрийского дома, притягивал Зефирину, словно пылкий любовник. Ей оставалось лишь преодолеть высокие стены Аррабаля, пройти под мавританскими арками Пуэрто дель Соль и войти в совершенно новый Алькасар, сооруженный на месте старой крепости в самой высокой точке города: именно там разместился испанский двор. Зефирина могла войти в Алькасар и, преклонив колена, предстать перед Карлом. Ей страстно хотелось повидать мадам Маргариту, Коризанду и Рамона де Кальсада, которому она дала слово приехать в Толедо. Пока молодая Женщина и ее спутники ехали по мосту Сен-Мартен, из заоблачных высот явился отправленный Зефириной на разведку Гро Леон. Галка долго кружилась вокруг зубчатых башен, прежде чем вновь занять свое место на плече Зефирины. – Salope! Suol! Seville![161] – утвердительно прокаркала она. Итак, донья Гермина решила не останавливаться в Толедо. Вероятно, она опасалась императорского гнева. Жребий был брошен, повернувшись спиной к городу, Зефирина и ее спутники переправились через Тахо. Молодая женщина пустила коня в галоп: горький комок застрял у нее в горле. Найдет ли она в конце дороги, что ведет на юг, своего врага, сумеет ли отомстить ему и сможет ли вернуть себе сына? Презрев протянутую руку Карла V, любовь дона Рамона, императорское «прощение» и защиту, отказавшись принести присягу на верность, княгиня Зефирина Фарнелло стала мятежницей.ЧАСТЬ ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ ЗОЛОТА
ГЛАВА XVIII СЕВИЛЬЯ
Первой мыслью, взволновавшей Зефирину при въезде в Севилью, было: «Как найти донью Гермину в этом караван-сарае?» С тех пор как королевский эдикт от 10 апреля 1495 года разрешил подданным его католического величества отправляться по следам мессира Христофора Колумба в Испанскую Индию, началось массовое нашествие: каждый хотел заполучить часть богатств сказочной страны Эльдорадо. Тихий городок Севилья, отвоеванный у мавров в XIII веке, всего лишь за тридцать лет стал настоящим притоном оборванцев, бандитов, авантюристов, моряков, женщин сомнительной добродетели, знатных господ, слуг, ремесленников, обнищавших идальго, стекавшихся сюда попытать счастья. На узких, кривых и грязных улочках можно было увидеть только физиономии висельников, кучи грязи и нечистот. Запах стоял нестерпимый. Жара под чистым небом была удушающей. Миновав перенаселенные предместья и выйдя в центр города, Зефирина была ослеплена красотой зданий: запрокинув голову, она любовалась Хиральдой, минаретом бывшей мечети, ставшего колокольней собора, который царил над городом. Как во всех испанских городах, в самом центре находилась королевская резиденция Алькасар, выстроенная в испано-мавританском стиле, с арками, украшениями под мрамор, турецкими банями, широкими дворами, садами, водоемами и фонтанами. «Quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla». – «Кто не видел Севильи, тот не видел чуда» – гласила пословица. Зефирина начинала думать, что это правда. Процветание, порожденное торговлей между Испанией и Кастильской Индией, придавало андалузской столице своеобразный вид; грандиозное богатство здесь беспечно соседствовало с нищетой рабов-мавров и негров. Помимо обычной коммерции Севилья наживалась на торговле людьми. В роскошных кварталах обитатели были изысканны. Мужчины с элегантностью носили платье из расшитого галунами шелка. Женщины, одетые в цветную кисею, двигались очень прямо, маленькими шажками, что придавало их поступи благородство, известное во всем королевстве. На головах у них были маленькие шляпки с крахмальными кружевами, закрывавшими лицо так, что были видны только глаза. Зефирину и ее спутников изнурила семнадцатидневная гонка почти без остановок. Им пришлось несколько раз менять лошадей, и кошелек княгини Фарнелло опустел. Благодаря Гро Леону Зефирина знала, что донья Гермина имела всего несколько часов преимущества перед своими преследователями. Трое путешественников сняли комнату на довольно чистом постоялом дворе в квартале рядом с собором. Подкрепившись и сменив пропылившуюся одежду, Зефирина оставила бедняжку Плюш, чтобы дать отдых ее натруженному заду, сама же с Пикколо и Гро Леоном спустилась к крутым берегам Гвадалквивира. Оживление в городе не шло ни в какое сравнение с бешеной деятельностью, царившей в порту. Под палящим солнцем носильщики с криками загружали галионы, сторожевые суда, галеры, каравеллы, урки и прочие мелкие барки. От шестидесяти до восьмидесяти больших кораблей доверху заполнялись сушеным мясом, соленой рыбой, сухарями, маслом, вином, к которым добавлялось гигантское количество артиллерийских боеприпасов: ядра весом до ста двадцати фунтов, бочки с порохом, свинцовые пули, оружие, аркебузы, пищали и духовые трубки. На реке несметное количество маленьких лодочек с парусами всех цветов – тартаны, баркасы и фелуки – сновали между большими судами. – Сударыня, – прошептал Пикколо, вернувшийся из разведки. – Принят новый закон. Никто не может взойти на корабль без разрешения. Нужно иметь пропуск от торговой палаты. Эта новость приободрила Зефирину. Донья Гермина будет вынуждена поступить так же, как и все остальные. – Где можно получить пропуск? – В Торговой палате[162]! Один моряк разъяснил Пикколо, что из-за возрастающей в Севилье неразберихи король издал очень строгий закон, регламентирующий отправление. Опасались шпионов. Иностранцам не позволялось иметь карты или описания Индии. Им запрещено было отправляться туда без пропуска. Лишь сам король Карл V в некоторых случаях мог предоставить специальные льготы, дабы содействовать заселению этих отдаленных земель. Получив эти ценнейшие сведения, Зефирина и Пикколо отправились в крыло Алькасара, где расположилась контора Торговой палаты. Несмотря на блеск королевской администрации, призванной обеспечить монополию торговли с Индией, внутри здания царил беспорядок. Крики, вопли, угрозы, брань! Невзирая на новый закон, шумный сброд заполнял помещения. Каждый хотел раздобыть пропуск, чтобы подняться на борт. Заваленные работой чиновники пытались криками навести порядок, но в результате еще больше распаляли искателей счастья. С большим трудом протиснувшись вперед, Зефирина разглядела маленького скриба, чья испуганная физиономия ей понравилась. У нее осталось несколько реалов, которые она и подсунула под перо писарю. Золото, как всегда, сотворило чудо. – Ты хочешь сесть на корабль, малыш? – спросил писарь. – Нет, мессир, – возразила Зефирина на чистейшем кастильском наречии. – Я приехал повидать мою кузину. Она, мне кажется, хочет отправиться в Западную Индию. Как я могу найти ее? – Ты умеешь читать, мой мальчик? – Немного, ваша честь! – Что ж! Ничего нет проще, пойди, посмотри список ближайших пассажиров, он вывешен в капитанской. Среди имен Зефирина не нашла ни Триниты Орландо, ни Гермины де Сан-Сальвадор, но это ни о чем не говорило. Кровожадная волчица могла принять другое обличье. Вернувшись к писарю, Зефирина описала ему донью Гермину и ее слуг. – Нет… Ты говоришь, с карликом, слугой и младенцем? – Но если вы ее увидите, ни в коем случае не говорите, что я здесь, вы понимаете, мессир, я хочу сделать сюрприз, – поспешила добавить Зефирина. Снисходительный писарек, думая, что речь идет о любовной интрижке, обещал сохранить тайну. – Я вернусь за новостями, – сказала Зефирина. Выйдя из дворца, она заколебалась, что предпринять дальше. Гро Леон стремительно пикировал на нее. Он «навестил» с воздуха все палубы кораблей, фелук на реке и у набережных, но не заметил и тени доньи Гермины. Несколько следующих дней Зефирина и ее спутники прочесывали город: мадемуазель Плюш – церкви, Пикколо – постоялые дворы, Гро Леон – шикарные кварталы. А Зефирина, несмотря на протесты Артемизы, обошла бедные улочки. Зная о странных вкусах доньи Гермины, Зефирина была уверена, что ее дьявольская мачеха нашла пристанище в каком-нибудь темном жилище без окон на улицу. С того времени, как Зефирине пришлось жить среди нищих Рима[163], она научилась разговаривать с отбросами общества и отваживалась забираться даже туда, где не рисковали появляться альгвасила[164] – даже в бандитские притоны. Через несколько дней она подружилась с пикарос[165], которые никому не уступали дорогу. Они принимали ее за юного любителя приключений. Она решила даже проникнуть в Los Naranyos[166], настоящий Двор Чудес, населенный прокаженными и профессиональными нищими. Теперь Зефирина знала Севилью лучше, чем кто-либо. Она отдавала себе отчет, что этот город полон противоречий: блеск и нищета, любовь и преступление… Она продала ростовщику свои последние жемчужины. На это золото она могла покупать сведения, надеясь напасть хоть на какой-нибудь след. Все было напрасно. Донья Гермина, казалось, улетучилась. Ужасное сомнение закралось в душу Зефирины: «Может быть, она, очертя голову, бросилась не в том направлении?» В конце концов единственным источником информации был Гро Леон. Но не заблуждалась ли чистосердечная галка? Не осталась ли донья Гермина в Толедо, сговорившись с «Карлом-кровопийцей»? А может быть, она и на самом деле отправилась в Саламанку? И теперь нашла убежище в Португалии. В отчаянии Зефирина терзала свой мозг. Ночью она не могла спать. Снова и снова возвращаясь к своим мыслям, она засыпала только на рассвете. Как-то утром Зефирина внезапно проснулась, прижавшись носом к спине Плюш. Пикколо уже сидел на своем тощем коврике. Гро Леон зевал на краю сундука. На улицах били барабаны. В один миг одевшись, Зефирина и ее спутники последовали за севильцами, с громкими криками бежавшими к Гвадалквивиру. Наступил день отплытия. С мая по сентябрь флотилии отплывали регулярно. Какая радость для народа, столпившегося на берегах реки! Чтобы лучше защититься от французских и английских «проклятых корсаров», круживших вокруг испанского золота, флотилии Карла V имели приказ отплывать в количестве из десяти или пятнадцати судов, иногда больше, но никогда меньше, причем торговые суда должны были уходить в сопровождении военных кораблей и галер. Это было восхитительное зрелище: паруса постепенно надувались, увлекая корабли с пестро раскрашенными бортами по зеленым волнам Гвадалквивира. Загородившись рукой от уже довольно сильного солнца, Зефирина наблюдала за этой картиной, стоя посреди толпы на берегу. – «Тринидад»! – «Дончелла»! – «Дон Бенито»! – «Санта Клара»! – «Сантьяго»! Севильцы пальцем указывали на корабли, узнавая их имена, выгравированные золотом на корме. – Отплытие – это прекрасно. Но мне больше нравятся возвращения, – пробормотал суконщик, сосед Зефирины. – Почему, сеньор? – вежливо спросила молодая женщина. – Мамочки! Юная невинность, – провозгласил суконщик. – Потому что при возвращении корабли полны и привозят нам богатства. В прошлом апреле восьмого числа, малыш, ты мог бы это увидеть. Потребовалось шесть дней, чтобы выгрузить сто три воза серебра, золота, жемчуга, драгоценных камней и шелка… Никогда еще живому человеку, не доводилось видеть таких сокровищ. Ой-ей-ей! Суконщик, вспомнив об этом, восторженно перекрестился. «А я никогда не видела никого, кто так бы любил золото, как эти люди», – подумала Зефирина. Она оставила суконщика и спустилась поближе к берегу. Отсюда она могла слышать крики боцманов, командующих маневрами. Посреди всей этой суматохи карканье Гро Леона заставило Зефирину вздрогнуть. – Satan! Santiago![167] Зефирина взглядом нашла судно. Это был большой галион водоизмещением в две тысячи тонн с двумя палубами и четырьмя ярусами под кормой. Судя по его вымпелу, это был Nao Capitana[168], командующий конвоем. Более тяжелый, чем современный корабль, но более легкий в управлении благодаря вытянутому корпусу, этот сияющий галион покачивался на волнах по меньшей мере в ста двадцати саженях от берега. На реях сновали grumetes[169], распуская паруса и брамсели, чтобы привести корабль в движение. – Santiago! Sacristi! Cantiago![170] – возбужденно повторял Гро Леон, кружась вокруг Зефирины. Солнце слепило молодую женщину. Понимая, что пытается сказать ей галка, Зефирина внимательно разглядывала пассажиров на корме корабля. «Толстый капитан, второй помощник, старший лоцман, два идальго, капеллан, трубач, который оглушительно трубил в свою трубу…Какая-то женщина в черном, стоит боком, облокотившись на тонкие перила из позолоченного дерева». Зефирина вздрогнула. Она узнала эту осанку, этот надменный силуэт дикой пантеры. Как бы подчиняясь этому взгляду, прикованному к ней, женщина в черном повернулась к берегу. При этом движении полы ее плаща поднялись на ветру и разошлись. Крик раненого зверя, который издала Зефирина, затерялся в приветственных криках толпы. Женщина в черном держала на руках РЕБЕНКА!ГЛАВА XIX КОРОЛЕВСКИЕ ПИРАТЫ
– Донья Гермина… Она увозит Луиджи! – рыдала Зефирина. Ускользнув от слежки, злодейка сумела подняться на борт корабля. Пробиваясь сквозь толпу, Зефирина бежала вдоль реки. – Баркас, скорее… Ее надо догнать! Понимая, какая разыгрывается драма, Пикколо и мадемуазель Плюш старались настичь свою хозяйку. – Твой баркас, парень! – умолял Пикколо. Рыбак не хотел ничего слышать. Ему было жаль своей лодки. Пикколо искал в карманах какой-нибудь завалявшийся реал. – Остановите корабль… Эта женщина увозит моего ребенка! Зефирина цеплялась за альгвасила, указывая на галион. Обязанный следить за порядком в городе, полицейский резко вырвался из ее рук. – Успокойся, парень, или я посажу тебя за решетку за пьяный дебош! – Остановите корабль, ради Бога, – стонала Зефирина. Она бежала, задыхаясь, вдоль набережной. Далеко позади Пикколо уселся в баркас и энергично греб, чтобы догнать Зефирину. – Sang Dieu! Salope! Serment! Saucisse! Sardanapale![171] Гро Леон, словно обезумев, с карканьем кружил над Зефириной. Она выбежала за городскую черту, обогнав всех зевак. Тяжелая флотилия неумолимо приближалась к Гвадалквивиру. Было что-то трогательное в этом юноше, похожем на Давида, сражающегося с Голиафом. Несколько пассажиров следили за комичной фигуркой на берегу, принимая этого паренька за ярого поклонника Конкисты[172]. В этом месте берег входил в реку мысом, выступающим, как волнорез. Далее, куда хватало взгляда, тянулись болота. Здесь нельзя было проехать вдоль реки даже верхом. – Опустите паруса… Бросьте якорь! До галиона доносились крики Зефирины, невнятные из-за ветра. Донья Гермина подняла свою черную вуаль. Ее взор вдруг остановился на Зефирине. Молодая женщина была уверена, что мачеха узнала ее даже в мужском платье. – Гермина… Даже если мне придется обойти всю землю, я отыщу моего сына! – кричала Зефирина. Галион прошел совсем рядом с мысом. Ветер принес ответ Гермины: – Никогда… Он МОЙ! Донья Гермина, словно жрица, подняла младенца к небу. За пронзительными воплями чаек Зефирина расслышала ее дьявольский смех. – Мой навсегда… Конец фразы был заглушен хлопаньем парусов. В сопровождении других судов галион удалялся к устью реки. – Гро Леон… – с трудом вымолвила Зефирина, – неужели мы ничего не можем сделать?.. Собственное бессилие ошеломило ее. – Sang Dieu! Serviteur![173] Удрученный тем, что видит свою госпожу в подобном состоянии, Гро Леон взмыл в небеса. Облетев вокруг галиона, он спикировал прямо на донью Гермину. Быстрый, как молния, он, казалось, клюнул голову ребенка и стремительно вернулся на мыс. В клюве галка принесла маленькую прядь черных кудрявых волос. Волосы Луиджи… Рыдая, Зефирина сжала в пальцах драгоценный подарок, прежде чем поднести его к губам. «Волосы моего сына того же цвета, что и у Фульвио… Ах, Фульвио! Если бы он был здесь, он нашел бы средство вернуть сына…» Пикколо догонял ее, сильно налегая на весла. Зефирина запрыгнула в ореховую скорлупку, надеясь в этой жалкой гонке догнать корабли. Им пришлось признать свое поражение. Расстояние увеличивалось, и очертания флотилии расплывались в мареве вдали – там, где река впадала в океан. Зефирина в сильном раздражении вышла из Торговой палаты. В. течение двух часов она вместе с Плюш и Пикколо отвечала на дурацкие вопросы ретивого чиновника, прежде чем смогла получить пропуск на корабль. Королевский комиссар хотел знать все: – Нет ли пятен на вашей репутации? Не грешили ли вы? Добрые ли вы католики? Случайно, не еретики или лютеране? Или евреи? Мориски[174]? Цыгане? Крещены ли вы? Нет ли у вас дурных болезней… подобных итальянской[175]?.. Клянетесь, что вы не moreno (черные)? Не индейцы? Не мулаты? Не castigo (светлые метисы) и не cogote (темные метисы)? Готовы ли вы, как добрые католики, крестить индейцев, прежде чем отправить их ко Всевышнему? Список был велик. Несколько раз Зефирине, сообщившей, что она и ее спутники родом из Арагона, приходилось удерживать Плюш, которой очень хотелось обругать королевского бюрократа. – Вы совсем неплохо отвечали. Ваши досье будут рассмотрены чиновниками Палаты, но не рассчитывайте отплыть с ближайшей флотилией через десять дней… В лучшем случае, через четыре или мять месяцев. Новость, которую комиссар преподнес с невозмутимым видом, была ужасна. Пять месяцев! Где тогда будет донья Гермина? При задержке в две недели Зефирина могла бы надеяться, если бы ветер ей благоприятствовал, догнать свою мачеху или узнать, куда она увезла Луиджи. – Какие кретины! О, какие же болваны! Словно разъяренный бычок, Зефирина пронеслась вниз по ступеням Палаты… и угодила головой прямо в колет какого-то дворянина. – Это что за манеры, взбесившийся юнец! Зефирина попыталась высвободиться из державшей ее железной руки. – Спокойно, малыш, извинись или я задам тебе трепку, – пригрозил дворянин. Чтобы заставить поклониться, он прижимал голову Зефирины к своему колету. Она отбивалась. Подняв, наконец, глаза, она в изумлении пробормотала: – Сеньор Кортес! Это действительно был конкистадор с бриллиантами в ушах, в шлеме с султаном, в платье из роскошной ткани. Глядя в большие зеленые глаза дерзкого юноши, Фернан Кортес нахмурил брови. – Будь я проклят, это… – Да, Зефирина де Багатель, – прошептала молодая женщина. Изрядно удивленный, Кортес увлек Зефирину в более спокойное крыло. – Сеньора, клянусь небом, если бы я ожидал… Я думал, вы в Барселоне. Разве вы не получили мое послание? – с беспокойством спросил конкистадор. Зефирина тут же поблагодарила его, уверяя, что сделала все необходимое. – Какого дьявола вы бродите здесь в этом костюме? Не признаваясь конкистадору, что она ослушалась приказа Карла V и что ей приходится прятаться под другим обличьем, Зефирина объяснила свое поведение материнской тревогой. – Черт возьми, вашего ребенка увезли на «Сантьяго»! – Мессир Кортес, я хочу отплыть с ближайшей флотилией, а мне ставят тысячу препятствий. Если бы вы могли мне помочь! – взмолилась Зефирина. Взгляд Кортеса сделался настойчивым. Он внимательно осматривал ее с ног до головы. – Это наша флотилия, сударыня, – бросил он с высокомерием, соответствующим его званию вице-короля. – Мы несомненно можем закрыть глаза и пропустить вас на борт… Вы еще более прекрасны в облике юноши, чем в своем собственном… Знаете ли вы, что вы пробуждаете во мне противоестественные желания, прелестный паж? Зефирина вздрогнула одновременно и от представившейся возможности, и от прикосновения рук, бесцеремонно тискавших ее колет. – Мессир Кортес, я вас умоляю, дайте мне три пропуска на корабль. – Три? Ничего себе… Я, пожалуй, был бы не прочь, но знаете ли вы, что мы проведем вместе на корабле девяносто дней?.. Скажу откровенно, прекрасная дама, ваша добродетель будет распалять меня. Кортес забавлялся с Зефириной. Она решила прибегнуть к уловке. – Какое скучное слово – добродетель… Кто говорит о добродетели, сеньор? – Увы, сеньора, я слышал это от вас… Когда мы виделись в прошлый раз, ваша добродетель нас разлучила. Кортес явно затаил злобу. Он отстранился от Зефирины. Та одарила его ослепительной улыбкой. – Прошлый раз не то же самое, что следующий, мессир. – Что вы хотите сказать? – Забудем прошлое и будем думать только о будущем. В этих словах таилось обещание. Кортес приблизился к молодой женщине. – Должен ли я понимать, что будущее начинается прямо сейчас?.. Он попытался обнять Зефирину, но она выскользнула из его рук. – Будущее, мессир Кортес, начнется в океане! Руки Кортеса легли ей на плечи. – Смотрите-ка! – насмешливо произнес он, подделываясь под ее интонации. – Будущее начнется в океане… Я могу сделать с тобой все, что хочу. Он гладил ей бедра. У Зефирины хватило сил не двинуться. – Фи, мессир, разве я предлагаю вам невыгодную сделку? – Выгодная сделка должна удовлетворять обе стороны! – возразил Кортес. – Именно этого я хочу. Дайте мне три пропуска на корабль. Клянусь, что буду принадлежать вам. – Сегодня вечером? – В открытом море мессир… На пятую ночь в океане! – Звучит подозрительно! – Зато разумно! Если я буду вашей сегодня вечером, вы оставите меня на берегу. – А как же мое слово, сеньора! – А как же мой пропуск, мессир! – Вы несговорчивый партнер! – А вы заговариваете мне зубы! – Речь идет о моих чувствах, сударыня! – Речь идет о делах, мессир! – уточнила Зефирина. Она подумала, что Кортес задушит ее. Внезапно тот расхохотался. – Кстати, о делах… Спасибо за сообщение. Ей-богу, я был уверен, что вы лжете. Прокляни меня Бог, но мой капитан арестовал Жака Флери именно там, где вы сказали, на мысе Сен-Венсан. Дурак попался в этой бухточке, словно крыса! Зефирина была подавлена этой новостью. Злой судьбе было угодно, чтобы сказанные наобум слова оказались правдой. – Пес Флери, – продолжал Кортес, не замечая растерянности Зефирины, – будет привезен сюда в крепость. Затем я отправлю его в Толедо, в подарок Карлу V. Я вас должен тысячу раз благодарить, поскольку вы, надо признать, ведете дела честно… Итак, договорились, дорогая, на пятую ночь в море… Я помечу на своих записных табличках. Это было сказано с веселой развязностью. – А что касается ваших пропусков, считайте, что дело улажено. Где вы остановились? После неуловимого колебания Зефирина дала адрес постоялого двора. – Клянусь святым Хуаном, вам не повезло. Я остановился в Алькасаре. Сделайте милость, будьте моей гостьей… честь по чести, само собой разумеется… в соответствии с нашим соглашением, – добавил Кортес с иронией. Сочтя, что будет лучше оставаться возле конкистадора, чтобы следить за ним, она приняла приглашение. Вместе с Плюш, Пикколо и Гро Леоном Зефирина жила теперь в старинных покоях султанов. Мысли ее были постоянно обращены к Луиджи и Фульвио. Она часто раскрывала медальон с сиреневой крышечкой. Горячо ласкала волосы Луиджи, снова закрывала свое сокровище и с широко раскрытыми глазами погружалась в бесконечные грезы. Кортес вел себя пристойно. К тому же его почти не было видно. Конкистадор был слишком занят приготовлениями к путешествию. Держа слово, он передал Зефирине через своего картографа Кристобаля три разрешения на выезд в Индию на имя молодого идальго Жиля де Пилара и двух его слуг Педро и Пако. Зефирина любила беседовать с Кристобалем, человеком большой учености и обширных познаний. Картограф бесконечно обожал Кортеса. Словоохотливый Кристобаль рассказал молодой женщине, что во время его пребывания в Толедо весь двор потрясла одна новость. «После отъезда мадам Маргариты во Францию король Франциск I хотел бежать, переодевшись… негром. Побег был открыт в последний момент. Шокированный Карл V объявил, что его «брат» опустился до того, что покрасил лицо в черный цвет. «Черномазый», – повторял император. Кому в его окружении могла прийти столь же нелепая, сколь непочтительная мысль?» Кристобаль смеялся, но Зефирине было вовсе не смешно. Ее план провалился, и Франциск остался пленником в Мадриде. Освободить его можно было теперь только путем дипломатических переговоров. В ярости Карл V повелел Рамону де Кальсада разыскать всех соучастников неудачного побега. – Дон. Рамон обещал доставить их мертвыми или живыми… Вы знаете дона Рамона, сеньора? – простодушно спросил Кристобаль. – Немного… Зефирина сменила тему. Кристобаль думал, что молодая женщина укрылась под мужской одеждой и другим именем только для того, чтобы следовать за Кортесом. Подозревал ли дон Рамон, что Зефирина участвовала в заговоре? Он, несомненно, затаил против нее смертельную злобу, поскольку она от него сбежала. Итак, прятаться было необходимо. Из этих бесед она узнавала только бедственные новости и поэтому впала в уныние, ее терзали угрызения совести и мучила тревога. Бездействие давило на нее, и она изнывала от нетерпения. Накануне отплытия, по-прежнему в мужской одежде, она вместе с Плюш и Пикколо зашла в собор. Гро Леон мудро остался снаружи. Помолившись с забытым усердием, Зефирина направилась в ризницу. Какой-то служка чистил церковные сосуды. Она выдумала историю о дяде, который должен нагнать «его» в Севилье. Посредством двадцати реалов «на добрые дела» Зефирина получила от ризничего обещание передать Ла Дусеру вполне безобидное на вид послание. Письмо ее гласило: «Дорогой дядя! Мы отправляемся вслед за нашей дражайшей мачехой на «Виктории». Зефир влечет ее к Западной Индии. Ваш преданный племянник. Жиль де Пилар». Зефирина знала Ла Дусера. Он поймет, в чем дело. Когда она выходила из собора, над площадью святого Франциска раздались мстительные крики. Народ улюлюканьем встречал пленника. Скованный по рукам и ногам, тот стоял на повозке. Опутанный цепями человек был бледен, но взгляд его бросал вызов черни. – Кто это? – Зефирина обратилась к торговцу марципанами. – Корсар Жан Флери! «Я приношу несчастье! – подумала Зефирина. – Все, к чему я прикасаюсь, оборачивается плохо… Как помочь ему?» Смешавшись с возбужденной толпой, Зефирина и ее спутники прошли за повозкой до башни Хасана в старой мавританской крепости. Жана Флери бросили в подземелье. Севильцам было разрешено глазеть на него сквозь решетку. Прикованный цепями к стене, Флери безмолвно сносил плевки, помои и всяческие оскорбления, которыми осыпала его толпа. Чтобы Зефирина могла приблизиться к пленнику, нужно было отвлечь зевак. Этим занялся Гро Леон. – Sangriar! Salvage! Sapo! Sabaclo! Severidad! Великолепный зазывала, Гро Леон превзошел самого себя, выкрикивая все известные ему испанские слова. Заинтересованная стража подошла поближе. Вокруг Гро Леона образовалась толпа. Пикколо, подняв руку, изображал вожатого птицы, а мадемуазель Плюш оберегала хозяйку, прикрывая тыл. Зефирина встала на колени перед решеткой темницы. – Мессир Флери… Мессир Флери! – прошептала Зефирина. Услышав французскую речь, корсар вздрогнул. – Кто ты, паренек? – пробормотал он. – Друг всем сердцем! – Ты приехал из Франции? – Да, мессир. Что я могу сделать для вас? При этом вопросе Зефирины улыбка тронула окровавленные губы корсара. – Молиться и отомстить за меня, если сможешь. – Скажите, мессир… – Меня предала женщина… Не знаю как и почему, но это француженка, так мне сказали мои охранники… Возвращайся сегодня в одиннадцать часов… – быстро добавил Жан Флери. В темницу вошли тюремщики. Зефирина успела только отпрянуть от решеток. «МЕНЯ ПРЕДАЛА ЖЕНЩИНА…» Весь вечер эти слова звучали в ушах Зефирины. Человек с другим складом характера не вернулся бы снова к корсару. Зефирина же не могла жить с этой ужасной тяжестью на душе. На соседней колокольне било одиннадцать ударов, когда молодая женщина в сопровождении Пикколо и Гро Леона вышла из Алькасара. Фонарь им был не нужен – лунный свет заливал улочки молочной белизной. Зефирина добралась до башни Хасана без нежелательных встреч. Подступы к крепости были пустынны. Молодая женщина поняла, почему Жан Флери велел ей возвратиться в этот час. Происходила смена караула. Солдаты ужинали в бастионе. Зефирине были слышны их восклицания. – Надо бы не оставлять пленника одного! – Парень хорошо привязан… Не беспокойтесь, капитан… не улетит же он, как птичка! Эта тонкая шутка вызвала у вояк взрыв смеха. Оставив Пикколо и Гро Леона на страже, Зефирина проскользнула к решетке. Распятый на стене, словно Христос, Жан Флери казался спящим. – Мессир Флери, это я! Услышав этот голос, корсар поднял голову. – Ты храбрый мальчуган, я не думал, что ты осмелишься прийти снова. – Я с товарищем, мы освободим вас! – Каким образом, Господь небесный? – У нас есть напильник. Жан Флери показал на свои запястья и щиколотки, закованные в железо. – Здесь потребуется несколько часов. Лучше послушай меня. Когда вернешься во Францию, найди моего друга Жана Анго, судовладельца из Дьеппа. Скажи ему, чтобы отомстил за меня… Женщину, которая предала меня, зовут Зефирина де Багатель. Запомни… проклятое имя. От отвращения Жан Флери сплюнул на грязный пол своего застенка. В ответ он услышал рыдания. – Мессир Флери, эта женщина я, Зефирина де Багатель… Я не знала, где вы находитесь. Откуда мне было знать? Я сказала первое, что пришло в голову… чтобы спасти любимого. Я думала, вы далеко, в безопасности, на островах Су-ле-Ван. Мне показали карту. Случайно Мой палец остановился на мысе Сан-Венсан… Я клянусь вам душой и вечным спасением… это правда… Простите меня. Зефирина горько рыдала. Во мраке она чувствовала сверкающий взгляд Жана Флери. Внезапно корсар пробормотал: – Тогда это рука Господа направила вас, сударыня… Да, я прощаю вас, пусть будет так… Наверное, Господь хотел наказать меня за мои прегрешения. – Нет, это страшная ошибка! Я хочу спасти вас. – Нет, сударыня, это дело решится между Всемогущим и мной. – Но Карл V собирается… – Казнить меня, это несомненно. Оставьте мне последнее удовольствие бросить вызов ему в лицо. Он не устоит перед любопытством увидеть меня… желая узнать, где я спрятал сокровища Монтесумы. Карканье предупредило Зефирину о близкой опасности. Солдаты вышли из бастиона. Прежде чем вернуться на пост, они рассыпались по кустам, чтобы справить нужду. – Быстро слушайте меня, – прошептал Жан Флери. – В доказательство своего прощения доверюсь вам. Меня схватили, и я не смог сообщить спутникам, где спрятаны сокровища Монтесумы… За несколько секунд Жан Флери открыл Зефирине свою тайну. – Теперь вы храните этот секрет. Вы должны передать сокровище Жану Анго и королю Франции. Если вы не сделаете этого, я прокляну вас с того света, а если сделаете – мое благословение и молитвы умирающего. Сдавленным голосом Зефирина прошептала: – Своей жизнью, мессир, клянусь вам сделать все, что вы мне приказали. Тогда Жан Флери сделал странный жест, изобразив движением головы крест перед молодой женщиной. – Я прощаю вас. Идите с миром, Зефирина де Багататель. – Сударыня, быстрее… Это Пикколо вернулся за своей хозяйкой. Бегом он повлек за собой Зефирину. – Эй! Кто там? Стой или стреляю, – с угрозой крикнул солдат, вооруженный аркебузой. – Savgria! Sabado! Гро Леон слетел с дерева. Солдаты разразились смехом. – Говорящая птица, Пабло! Ты испугался птицы! Смеясь над товарищем, они возвратились в темницу. – Ну что, обезьяна… ты не убежал… С головой, упавшей на грудь, корсар Жан Флери, казалось, заснул вечным сном[176]. Зефирине едва хватило времени, чтобы вернуться в Алькасар. Кристобаль постучал в дверь: – Пора собираться. Багаж уложили быстро. Солнце начало подниматься над Севильей, когда Зефирина со своими спутниками поднялась на борт «Виктории», флагманского корабля мессира Кортеса.ГЛАВА XX ПУТЕШЕСТВИЕ
С Гро Леоном на плече Зефирина смотрела, как исчезают вдали белые минареты города. Она еще не осознала, что покидает землю на долгие месяцы. Донья Гермина имела перед преследователями фору в две недели, но Кортес успокоил Зефирину: – Часто бывает, что флотилия прибывает к месту назначения прежде вышедшей ранее. Все зависит от прихоти ветра, или остановка на Канарских островах оказывается более долгой, чем ожидалось, из-за различных поломок. С сердцем, полным надежды, Зефирина взошла на «Nao Almiranta»[177]. Кортес все устроил. Он предоставил молодому «сеньору Жилю де Пилару» каюту на задней палубе, где был даже вентиляционный люк – предел роскоши. Перед поднятием якоря оставалась последняя формальность. Чиновники и комиссар поднялись на борт, чтобы установить, готов ли корабль идти в Испанскую Индию, а также проверить состав экипажа и список пассажиров. Зефирина страшно перепугалась. Взгляд комиссара с подозрением остановился на ее безусом лице, но Кортес, у которого язык был хорошо подвешен, увлек усердного чиновника осматривать пушки. Зефирина знала, что вновь должна поставить конкистадору большую свечку. Но ей не пришлось его благодарить. К ее большому облегчению, Кортес, занятый маневрами и делами флотилии, не показывался. Корабли спускались по Гвадалквивиру к Сан-Люкар-де-Баррамеда, маленькому рыбацкому порту в устье реки. Чтобы выйти в открытое море, предстояла еще одна трудная операция: с приливом преодолеть отмель. По нервной атмосфере, царившей среди команды, Зефирина поняла, как это опасно. В борта корабля с силой били высокие белые пенящиеся волны, казавшиеся непреодолимой преградой. Но лоцман Педро де Кадикс знал свое дело. В своей каюте Зефирине чудилось, что галион прыгает через препятствия, как большой крылатый конь. Другие суда прошли тем же путем. Оставалось только сожалеть о «Дончелле». Неудачливая каравелла опрокинулась набок. Зефирина надеялась, что моряки спаслись, хотя уверенности в этом не было, ибо большинство из них не умело плавать. Опасаясь, что та же участь могла постигнуть «Сантьяго» двумя неделями раньше, она обратилась к боцману, гиганту по имени Тортоса. Тот учтиво ответил: – Нет, сеньора, если бы «Сантьяго» затонул, об этом знали бы в Севилье. В окружении сторожевых кораблей и королевских галер «Виктория» вышла в открытое море. Успокоившись, Зефирина позаботилась, как могла, о мадемуазель Плюш, которая умирала и требовала токайского. Молодая женщина дала ей выпить бокал ее любимого напитка. Гро Леон тоже питал к нему слабость. Оставив в каюте галку, неспособную летать, и дуэнью, неспособную подняться, Зефирина вышла на палубу подышать воздухом океана. Пикколо играл в кости с Родриго, carpintore[178]. Преданность итальянского оруженосца бесконечно тронула ее. Сможет ли она когда-нибудь отблагодарить своих людей за то, что они для нее сделали? «Мадемуазель Плюш, Пикколо, Ла Дусер… Где сейчас добрый великан? Выполнил ли он поручение?» Зефирина слушала, как с мерным плеском поднимаются и опускаются огромные весла каторжников. Она думала о Коризанде, которую пришлось оставить, о ее близнеце Луиджи, о своей любви к Фульвио. – Нам предстоит десять дней пути, курс зюйд-вест до Канарских островов. Фернан Кортес бесшумно, как хищник, подошел к Зефирине. – Мы зайдем на остров Гомера, чтобы набрать еще воды, свежего хлеба, вина. А затем будет главное отплытие. Не обращая внимания на мужской наряд Зефирины, Кортес бесцеремонно взял ее руку и сжал слишком сильно. – Успокойтесь. Все прошло хорошо. Неужели вы сожалеете, что покинули Испанию, сеньор де Пилар? – усмехнулся Кортес. Зефирина посмотрела ему прямо в глаза. – Нет, сеньор, я думаю только о будущем. С загоревшим на солнце лицом, с висящими в ушах изумрудами, крупными, как карбункулы, с черной завитой бородой Кортес походил на пирата. Он не был лишен привлекательности. А когда смеялся, становился похожим на Фульвио… Зефирина повернулась, чтобы посмотреть на дельфинов, следовавших за галионом. – Как будет проходить плавание после Канар? – спросила она. – Вы действительно ученая женщина, любите разъяснения. Идемте… Да не съем я вас живьем! – с иронией сказал Кортес, увидев, что Зефирина отпрянула. Обругав себя, она приняла самый неприступный вид, входя в адмиральскую рубку. Педро де Кадикс и Кристобаль изучали морские карты, вычерченные последним. Оба, казалось, хорошо понимали друг друга. При помощи стрелки компаса, сделанной из намагниченной стальной проволоки, они рассчитывали маршрут. – Сеньора! Зефирину приветствовали как женщину, а не как юного идальго. Все на судне знали, что на борт поднялась прекрасная дама, одетая мужчиной. «Они принимают меня за адмиральскую шлюху», – с некоторым раздражением подумала Зефирина. Успокоенная тем, что они с Кортесом не наедине, Зефирина завела беседу с картографом и лоцманом. Какое-то время говорили только о больших изменениях в технике в конце XV века, позволяющих следовать заданным курсом, следя за установленным углом между намагниченной стрелкой и румбом. – Быть может, сеньора не знает, что такое румб? – вежливо осведомился Педро де Кадикс. – Я думаю, что речь идет об угле между двумя из тридцати двух делений компаса! – ответила Зефирина. – Что я вам говорил? Это не женщина, а математик. Довольный Кортес потирал руки. Измерение высоты солнца, различие во времени, высота полюса, фазы луны, применение навигационных инструментов, астролябии, квадранта… Заинтересованная Зефирина выслушала все. Он отдавала себе отчет, что самое важное в искусстве навигации – это чутье лоцмана, умение понимать море, короче, талант. Именно поэтому Кортес с таким уважением относился к Педро де Кадиксу. – Объясните сеньоре, каким путем мы пойдем, дорогой Педро, – сказал Кортес. – Если все будет хорошо, монсеньор… – уточнил лоцман, – флотилия «Твердой земли»[179], покинув остров Гомера, спустится в область пассатов, чтобы идти под ветром или к Ла Гуайра[180] и Картахене[181] или к Подветренным островам[182]. Мы ошвартуемся на Тринидаде или на Маргерите. – Нам нужно будет отремонтировать корпуса кораблей и пополнить запасы… Мы останемся там примерно на две недели, – сказал Кортес, отвечая на немой вопрос. – Наконец, сеньора, мы прибудем в Золотую Кастилию[183], соединяющую королевство Новая Испания[184] с Новой Гренадой[185], чтобы высадиться на перешейке Номбр де Диос[186]… Зефирина склонилась, чтобы рассмотреть это диковинное место, похожее на пуповину, сжатую двумя еще бесформенными чудищами, в двадцать раз большими, чем надменная Испания. – Мы пересечем перешеек на мулах, чтобы достичь нового города Панамы… И тогда, сеньора, вы увидите чудо… Южное море[187], – пообещал Кортес. – Сколько всего времени это займет? – спросила Зефирина. – Если не будет бури, нападений корсаров, эпидемий, – подчеркнул Кортес, – от Севильи до Номбр де Диос… девяносто дней. – Что ж! Я весьма вам благодарна, сеньоры, за вашу любезность. Зефирине хотелось улизнуть. – Я вас не задерживаю, друзья мои. Предугадывая стратегическое отступление Зефирины, Кортес поторопился отпустить картографа и лоцмана. Понимая все с полуслова, те, поклонившись молодой женщине, стремительно ретировались. – Большая удача, мессир, иметь таких слуг! – сказала Зефирина, чтобы не молчать. – Удачу завоевывают, мадам, как крепость… Похожий на большого кота, Фернан Кортес, прищурившись, налил малаги в серебряные позолоченные кубки. – Выпьем за успех путешествия! – предложил он. Зефирина подняла свой кубок. – Я хочу пожелать, чтобы наше плавание было таким безмятежным, дружеским и спокойным, насколько возможно. – Безмятежность не самая сильная моя сторона, спокойствие – тем более… Что же касается дружбы… Кортес рассмеялся. – Ей-богу, мадам, если таково ваше желание, выпьем за дружбу между нами, в конце концов сегодня только первый день. Постараемся не раздражаться до пятого дня… Понимая, на что намекает конкистадор, Зефирина выпила так поспешно, что поперхнулась. – Ну… ну… Кортес постучал Зефирину по спине. – Я хочу сделать вам честное предложение, – сказал конкистадор, когда дыхание вернулось к ней. «Он говорит о честности с самым нечестным в мире видом!» – подумала Зефирина, почти развеселившись. – Если вы хотите оставить свой наряд и одеться, как подобает особе вашего пола, посмотрите… может быть, вам это понравится. Фернан Кортес открыл два больших сундука, в которых находились роскошные платья. Зефирина была женщиной, она не могла не восхититься шелковыми тканями, кружевами и инкрустированными драгоценностями. – Откуда это чудо? – Ба! Добыли кое-что у французских и английских корсаров… Мы не всегда теряем, сеньора… Кортес взял платье цвета нарцисса с серебряным отливом и подал Зефирине. – Наденьте, чтобы доставить мне удовольствие, этот оттенок божественно идет к вашим волосам… Сильные руки Кортеса прикоснулись к груди Зефирины. Та медленно отвела их. Отбросив платье, она сухо заявила: – У нас с вами никогда не было соглашения, что я должна доставлять вам удовольствие, сеньор Кортес. Вы позволите… Зефирина отстранила его, желая пройти к двери. Фернан Кортес больно схватил ее за руку. Зефирина вскрикнула. Кортес прижал ее к стене, и она ощутила желание конкистадора. – Маленькая дурочка, требовательная, гордая, настоящая француженка, злая и суровая, хуже вас никого нет. Я жалею, что увез вас, вы говорите мне только о своих заботах и огорчениях. Клянусь святой Маргаритой, я должен бы выбросить вас за борт или запереть в трюме с одним сухарем, чтобы вы разделили его с крысами. Кортес не привык, чтобы ему сопротивлялись. В бешенстве он дергал ее за волосы, разодрал колет, обхватил под батистовой рубашкой ее груди… Зефирина не могла сдержать дрожь. Прикосновение этих мужских рук вызвало у нее восхитительное ощущение вдоль позвоночника. Как всегда, она чувствовала раздвоение между плотью и рассудком. Мужчина остановился, взволнованный переменой, которую ощутил в партнерше. Он потянулся к ее губам. Зефирина отвернула голову. Чтобы утаить сладостное содрогание внизу живота, она заговорила с конкистадором вызывающе. – Бросьте меня в океан, чего же вы ждете, мессир Кортес? Или зарежьте, как вы сделали с сорока тысячами индейцев. Я доставлю вам меньше хлопот, ведь я крещеная. Кортес, побледнев, отступил. Зефирина почувствовала, что задела слабое место. Был ли способен этот мужчина испытывать угрызения совести? Пресытился ли он резней после своей «конкисты»? Словно пытаясь стереть пятно, Кортес вытер лоб тыльной стороной ладони. Зефирина воспользовалась этой паузой. – Если вы решите, мессир, бросить меня за борт, то знаете, где найти меня. Непринужденно поклонившись, она вышла из рубки. Кортес ее не удерживал. В коридоре ее охватила нервная дрожь, и, войдя в каюту, она ощутила сильное сердцебиение. Мадемуазель Плюш стонала: – Ах! Все движется… Мои ноги задираются! Гро Леон храпел. Зефирина чувствовала, что больше не может. Ей был нужен Фульвио, чтобы защитить ее от других мужчин и… особенно от нее самой. Но Фульвио не было, она была одна в этой ореховой скорлупке, уносившей ее к неизвестным землям. Зефирина улеглась в кровать рядом с дуэньей. Еще долго она всхлипывала, как маленькая девочка, прежде чем заснула, сжав кулачки. Кортес остался в рубке. Сидя за рабочим столом, он руками обхватил голову. Эта женщина задела его за живое. Часто по ночам он испытывал кошмары и просыпался от ощущения, что плавает в крови. Его часто посещало воспоминание о бойне в Теночтитлане. Кортес восхищался своим «коллегой» Франсиско Писарро: тот, судя по всему, считал индейцев животными. Иногда Кортес сомневался в себе, в своих законных правах кастильского полководца. В дверь тихо постучали. Очнувшись от своих раздумий, конкистадор поднял голову. Это был капеллан. – Монсеньор, я сейчас буду служить мессу для экипажа на нижней палубе… – Я иду, отец Жозе… Ах, я был бы счастлив, если бы отныне вы служили еще одну хорошую мессу по утрам и еще одну под вечер. – С радостью, ваша милость… Ах! Три мессы в день; благочестие монсеньора – пример для команды. Фернан Кортес поправил воротник из сеговийских кружев на своем колете и последовал за святым отцом к обедне. Дни текли монотонно. Зефирина ухаживала за Плюш, убирала каюту, ходила за безвкусной пищей в каюту для офицеров, когда те заканчивали еду. Она не видела Кортеса, разве что издали на мессах, которые посещала не всегда. Конкистадор не пытался приблизиться к ней; более того, казалось, он ее избегал. Зефирину это не огорчало. Она решила не выполнять обещание, вырванное у нее силой и стечением обстоятельств. На четвертый день она столкнулась с Кортесом и его свитой в коридоре. Она заставила себя поздороваться с конкистадором. Тот, не останавливаясь, наклонил голову и исчез по направлению к выходу на наружный трап. «Он взбешен, тем хуже для него… – подумала Зефирина. – Все, чего я прошу, это чтобы он понял и оставил меня в покое». Для пущей предосторожности на пятый день она осталась взаперти в своей каюте и не вышла даже поесть. Забаррикадировавшись с Плюш и Гро Леоном, она спала плохо, чутко прислушиваясь к шумам на палубе и в желудке, изнывавшем от голода, внезапно просыпалась, каждое мгновение ожидая услышать стук в дверь. Никто не пришел нарушить ночной покой. С женской нелогичностью Зефирина заснула под утро, удовлетворенная своей победой и раздосадованная тем, что Кортес сдался так легко. На шестой день она отважилась выйти за едой. Кроме эконома, который выдавал продовольствие, ответственного за воду, в чью чрезвычайно важную задачу входило тщательное распределение драгоценной влаги, она не встретила ни одной важной персоны. Эта стратегия оказалась успешной – Зефирина использовала ее и в последующие дни. Она оставалась взаперти с Плюш, которая могла только стонать. Для Зефирины, столь деятельной, дни тянулись невыносимо медленно, тем более что эгоист Гро Леон улетал с утра играть с юнгами на мачтах. Пикколо избрал себе пристанище в узком кружке игроков в кости, состоявшем из Родриго, Луиса и Фигуераса, водолаза, отвечавшего за корпус галиона. Седьмой, восьмой и девятый дни ничем не отличались от предыдущих. Зефирина начинала приходить в ярость. Наконец, на десятый день к полудню она услыхала заветные слова сигнальщика: – Земля! Земля! Это были Канарские острова. Зефирина не отказала себе в удовольствии подняться на палубу, чтобы полюбоваться на этот легендарный архипелаг, темневший на горизонте. С подзорной трубой в руке Кортес стоял в окружении своих офицеров. Среди них были Кристобаль и Педро де Кадикс. Отдав несколько приказаний, конкистадор подошел к Зефирине. – Счастлив видеть вас здоровой. – Действительно, я болела, но сейчас мне лучше! – нехотя призналась Зефирина. Кортес наклонил свой султан. Для такого дня он вдел в уши рубины, крупные, как пробки графина, отметила про себя Зефирина. – Я в восторге, что вы поправились, сеньора, – сказал Кортес. Казалось, ему хотелось верить в ее болезнь. Пальцем он погладил клюв Гро Леона. Освещенный солнцем галион с эскортом из каравелл и галер прошел между розовым и зелеными островами Ла Пальма и Санта-Крус-де-Тенериф. – Знаете ли вы, сеньора, что древние называли их «Счастливыми островами» и утверждали, что здесь находится земной рай? – спросил Кортес. Видимо, он решил заключить мир. Зефирина ничего не имела против и постаралась ответить ласково. – Действительно, мессир… разве сам Платон не говорил в «Тимее», что это последние остатки королевства Атлантиды, уничтоженной природным катаклизмом? – Saumon! Satisfait! Saucisse![188] – верещал Гро Леон. Какое-то время конкистадор и Зефирина состязались в эрудиции. Видимо, Кортесу хотелось показать свое интеллектуальное превосходство над пассажиркой. Он сообщил ей, что великий Юба Мавританский в двадцать пятом году до Рождества Христова обнаружил архипелаг на своем пути и назвал его «Собачьи острова», так как вывез отсюда сторожевых собак. – Но ведь это француз, нормандец Жак Бетанкур открыл их снова в 1402 году, – возразила Зефирина. Кортес согласился и отметил, что героическое сопротивление гуанчей[189], первых обитателей островов, задержало их завоевание Испанией. – Гуанчи? – спросила Зефирина, впервые уличенная в невежестве. Обрадованный своим успехом, Кортес объяснил ей, что нынешние аборигены являются наследниками довольно загадочной цивилизации, но имевшей смущающее сходство с сарацинами и индейцами Новой Испании. – Вы хотите сказать, мессир Кортес, – пробормотала Зефирина, заинтересованная сверх всякой меры, – что сарацины, боровшиеся с крестоносцами Иерусалимского королевства, и туземцы с той стороны Сумеречного моря были связаны…? Предположение было таким дерзким, что Зефирина закончила его шепотом… Кортес ответил ей тем же тоном. – Человек, который не путешествует, не может себе этого представить. Но я думаю, что если Юба смог явиться сюда, Другие тоже могли приплыть, хотя бы на плоту… Видите ли, сеньора, – Кортес еще более понизил голос, – я не верю, что мессир Христофор Колумб открыл Индию… – Как? – у Зефирины захватило дыхание. – Есть другие земли за Южным морем, Кристобаль и я убеждены в этом. Конечно, мы не можем уверенно утверждать. Все сложно, так как земля не только шар, но… она вращается, сеньора… она вращается, – Кортес перекрестился. «Теория Фульвио!» Зефирина стала находить, что конкистадор значительно интереснее, чем казалось с самого начала. За конкистадором пришел лейтенант – пора было начинать маневры. Кортес поклонился Зефирине и присоединился к лоцману. Галион остановился в виду обрывистого базальтового массива: острова Гомера. Естественная бухточка предлагала замечательное укрытие для флотилии. Корабли отдали якоря перед маленьким портом Сан-Себастьян. Шлюпки были спущены на воду, и пассажиры сошли на берег. Первое, что хотела узнать Зефирина, стоит ли на якоре у острова «Сантьяго». – Нет, – ответил местный житель, – другая флотилия зашла в порт Санта-Крус-де-ла-Пальма. – Корабли еще там? – с бьющимся сердцем спросила Зефирина. – Дудки, малыш, они подняли паруса вчера утром… Слушаясь только своего материнского инстинкта, Зефирина отыскала Кортеса, который расположился в лучшем доме порта, чтобы попросить его, не задерживаясь, отплыть завтра же. Конкистадор посмотрел на нее, как на обезумевшую. – Мадам, я отвечаю за эту эскадру и должен быть уверен в безопасности. Мы отплывем, когда будем готовы… В своем нетерпении догнать донью Гермину Зефирина имела оплошность настаивать. – Мессир, умоляю, поторопитесь, я умираю от разлуки с сыном и я… Кортес сухо отрезал: – Не вижу никакого веского довода, чтобы доставлять вам удовольствие, сеньора. К тому же должен предупредить о решении, которое я принял относительно вас… – Относительно меня? – с беспокойством повторила Зефирина. – Вы останетесь здесь после нашего отплытия ожидать прихода следующей флотилии, которая выйдет из Севильи через месяц. – Мессир, вы не имеете права! – простонала Зефирина. – Что вы сказали? Я имею все права. Что вам жаловаться… Воздух здесь превосходный. Сеньора, имею честь! Фернан. Кортес повернулся на каблуках, оставив Зефирину, подавленную этим решением. Чтобы отомстить, конкистадор бросал ее на Канарском архипелаге.ГЛАВА XXI НОЧЬ НА КАНАРСКИХ ОСТРОВАХ
«Если ты думаешь избавиться от меня, голубчик, то ты очень ошибаешься…» – подумала Зефирина в порту Сан-Себастьян. Она воспрянула духом, зная, что располагает несколькими днями стоянки, чтобы решить, как действовать. С Пикколо, мадемуазель Плюш и Гро Леоном она устроилась в маленьком глинобитном домике старого гуанчо по имени Хиерро. За пять реалов гуанчо уступил свою деревянную, достаточно удобную кровать Зефирине и Артемизе Плющ. С тех пор как последняя ступила на твердую землю, она воскресла. Хиерро говорил по-испански довольно плохо, но Зефирина понимала его. У него была тусклая кожа, ставшая от солнца похожей на пергамент. Гордое лицо: нос с легкой горбинкой, взгляд живой и одновременно мрачный – таков был облик надменного старика. Зефирина уже видела мавров. Этот человек имел бесспорное сходство с ними. Вулканический остров Гомера очаровал Зефирину. Она была уверена, что базальтовые скалы таят в себе секреты. На четвертый день пребывания Зефирина пустилась в путь с гуанчо в качестве провожатого. Пикколо и Гро Леон последовали за хозяйкой. Мадемуазель Плюш, которую длинные прогулки не привлекали, осталась в доме гуанчо, чтобы выстирать и накрахмалить рубашки всей компании. Хиерро босиком быстро шел по крутым и каменистым тропинкам. Зефирина легко следовала за ним. Этот переход напомнил ей долгие прогулки, которые она совершала с Фульвио по склонам Этны. После нескольких часов подъема гуанчо добрался до высшей точки острова. Хиерро босиком быстро шел по крутым и каменистым тропинкам. Зефирина видела весь Канарский архипелаг. В пределах досягаемости она разглядела зеленеющий остров Ла Пальма и Тенериф. Она видела кратеры трех потухших вулканов, которые поднимались на шесть тысяч футов над уровнем моря. Внезапно слова, выгравированные на пластинках ее медальона, приобрели свое значение. Зефирина знала их наизусть:«Удачливый Саладин отлил из золота и серебра
Розу в песке, как запутанное завещание,
С другой стороны волнующегося океана,
Опасаясь жестокосердных язычников,
Около Мудрого Брата огонь и солнце – это послание
От (3451:10)х3 Сарациния опасается грубого железа»
Когда сын Гелы, Гортензии или Гелены
Найдет этот пологий берег,
Возьмет плот с найденым золотом
(Роза с цветами огненного цвета)
С полученным от отца прощением
Около Мудрого Брата огонь и солнце – это послание)
От (3451:10)х3 будет наследником С очень мудрым.
ГЛАВА XXII СУМЕРЕЧНОЕ МОРЕ
«Все эти моряки делают из мухи слона. В конце концов морское путешествие – не так уж страшно», – думала Зефирина. Она совершала обычную вечернюю прогулку на нижней палубе. На ней было простенькое голубое платье с фламандской юбкой и белым корсажем. Зонтик из португальских кружев защищал от лучей солнца, уже клонящегося к закату. Зеркальную гладь океана не морщила и легкая зыбь. Даже мадемуазель Плюш немного приободрилась и взяла себе за правило прохаживаться вдоль по палубе вместе с Зефириной. Моряки здоровались с молодой женщиной и дуэньей. Дул легкий нежный ветерок, и поэтому работы с парусами было немного. Мужчины рыбачили, снимая с крючков переливающихся всеми цветами радуги рыбок с незнакомым вкусом. Путешествие, таким образом, доставляло настоящее удовольствие. Зефирина размышляла о том, что прошло уже две недели, как они отплыли из Гомеры. Жизнь на борту корабля протекала самым приятным образом: три мессы в день (Зефирина свыклась с этим), ужин под аккомпанемент виолы, ночь в объятиях Кортеса. Зефирина позволила себе расслабиться и даже не стыдилась этой сладостной лени. Ее убаюкивало мерное покачивание судна, она забыла о прошлом, не думала о будущем, оказавшись между небом и водой. Ей казалось, что она, как Улисс, будет плавать всю свою жизнь. Будучи неопытным мореплавателем, Зефирина понятия не имела о том, что хорошо знали моряки: как обманчива эта притягательность моря, этот зов сирен. – Мессир Кортес оказался прав, сеньора, вы принесли нам счастье… Не припомню такого спокойного плавания, – заметил Кристобаль, пересекавший океан уже в третий раз. Зефирина, обменявшись несколькими фразами с картографом, беседы с которым очень ценила, отправилась вместе с Плюш в свою каюту. – Saumon! Saucisse! Sardine![196] Через открытый иллюминатор в каюту впорхнул Гро Леон. Перья у него на голове были взъерошены, казалось, птица чем-то очень взволнована. Зефирина заткнула отверстие промасленной бумагой, чтобы галка осталась внутри. Зефирину беспокоили эти постоянные перелеты с одного места на другое. Более того, она заметила, что Гро Леон где-то ворует пищу и носит ее в клюве на галеру. Предоставив мадемуазель Плюш приходить в себя после прогулки за бокалом токайского, по своим размерам больше напоминавшим кувшин, Зефирина постучала в дверь капитанской каюты. – Входи, моя драгоценная голубка! Кортес был один. Он протянул к ней руки. С каждым днем конкистадор, похоже, все больше терял голову, и Зефирина должна была признаться, что и сама не на шутку поддалась обаянию корсара. – Я хотела бы задать вам один вопрос, Кортес… – начала Зефирина. – Иди сюда, моя драгоценная газель. Кортес притянул ее к себе на колени. – Я хочу говорить серьезно… – А разве это не серьезно? Под юбкой Кортес нащупал ее коленку. Выскользнув из его рук, она выпрямилась и, глядя в иллюминатор на другие корабли флотилии, спросила адмирала: – Кортес, как вы узнали, что князь Фарнелло в Барселоне? Чтобы пощадить конкистадора, она не сказала «мой супруг». Но Кортес не дал ввести себя в заблуждение. Приблизившись к Зефирине, он положил ей руки на плечи, вынудив обернуться и поднять голову. – Ломбардский Леопард? Этот кривой великан? Ты все время думаешь о нем, – заявил он, всматриваясь в ее зеленые глаза. – Это мой муж, отец моих детей, – запротестовала Зефирина, не моргнув и глазом. Влюбленному мужчине никогда не доставляет удовольствия говорить о «другом». Кортес не являлся исключением. Он отвернулся и ворчливо проговорил: – Послушай, Зефирина, я не могу назвать точного источника, но такой человек, как князь Фарнелло, слишком значительная фигура, чтобы исчезнуть… – Кортес щелкнул пальцами, – вот так… Он оставляет следы. Да будет тебе известно, мои сведения идут с самого верха… из окружения императора… Словом, от одного из самых близких ему людей! – Дон Рамон? – недоверчиво спросила Зефирина. – Да, – признался Кортес. – От дона Рамона де Кальсада собственной персоной. Тебе известно, какое он имеет влияние. На дороге в Толедо, где я встретил его, возвращаясь из Мадрида, в обмен на одну небольшую услугу он мне поведал, что благодаря его заступничеству перед Карлом V смертная казнь заменена твоему супругу на пожизненные работы на галерах, а именно на «Санта Крус» из Барселоны… Ты, наверное, вскружила ему голову, этому бедному дону Рамону… уж не поужинали ли вы вместе накануне? – коварно осведомился Кортес. «Этот предатель Рамон знал и не сказал мне, опасаясь, что я брошусь разыскивать Фульвио…» – На «Санта Крус», – повторила Зефирина, оставив без внимания неприятный для нее вопрос Кортеса. Она смотрела вдаль, на галеру «Консепсион», чьи огромные весла ритмично рассекали морскую гладь. «Я сошла с ума», – подумала Зефирина, протирая глаза. Изменив курс, галера больше не двигалась в общем ряду флотилии, но направлялась прямо к флагманскому кораблю. Прежде чем Зефирина успела что-либо произнести, в дверь постучали. – Мессир Кортес, у «Консепсион» неприятности… Это Педро де Кадикс пришел предупредить адмирала. – Какого рода? – Они подняли сигнал бедствия. Кортес взял подзорную трубу. – С виду на борту все в порядке. – Капитан Фернандес просит личной аудиенции у вашей милости, чтобы известить о государственной измене. – Измена! Черт! Посигнальте ему, Педро… Кортес посмотрел на клонящееся к закату солнце. – Ночью мы ляжем в дрейф, пусть вышлют шлюпку, Фернандеса мы примем вечером… Пригласите его на ужин. Извините нас, дорогая. И с этими словами Кортес вышел из каюты в сопровождении Педро де Кадикса. Оставшись одна, Зефирина схватила подзорную трубу, которую не сразу удалось отрегулировать. Наведя ее на галион, она принялась внимательно изучать судно. Моряки убирали паруса с фок-мачты. Галера замедлила ход. Взгляд Зефирины скользнул по палубе, по задней рубке, более удлиненной, чем на галионах. Зефирина знала, что это возвышение называлось на галерах «каретой» или «алтарем» и соответствовало парадису на галионах и каравеллах. Над ним колыхался большой красно-золотой тент. Это был командный пункт, место для избранных, где обычно собирались офицеры, спасаясь от зловония, исходившего от каторжников. Благодаря мощной подзорной трубе, Зефирина на расстоянии вытянутой руки от себя видела в окружении подчиненных того, кто, вероятно, и был капитаном Фернандесом. Его жесты говорили о том, что он отдает команды для подготовки судна к трудному маневру на воде. Зефирине следовало бы отложить трубу и подняться на палубу, но она, словно зачарованная, не могла оторвать взгляда от капитана Фернандеса: ей бросились в глаза гордый разворот плеч, на которых, словно влитая, сидела кираса и мощная шея, обрамленная тонким белоснежным воротником. На голове у него красовалась широкая серая шляпа, чье красное перо скрывало лицо… Когда он обернулся, чтобы посмотреть на галион, Зефирина смогла разглядеть только черную бороду. В окружении четырех офицеров капитан Фернандес спустился к шлюпке с шестью гребцами. Зыбь на море усилилась, и править шлюпкой было трудно. Зефирина видела, как фелука опускается и поднимается на волнах рядом с галерой. Капитан Фернандес занял место рядом с гребцами, показав Зефирине свою широкую спину. «Я слишком нервничаю… Фульвио, любовь моя… ты чудишься мне повсюду», – подумала она. Еле держась на ногах, Зефирина отложила подзорную трубу и решила подняться на вторую палубу. Судно качнуло, и она споткнулась в коридоре. Наконец, ей удалось добраться до заднего мостика. Отсюда Кортес и другие офицеры наблюдали за передвижениями шлюпки. Вся флотилия легла в дрейф. Между «Консепсионом» и «Викторией» фелука танцевала на волнах, словно ореховая скорлупка. Педро де Кадикс выглядел озабоченным. Он смотрел на небо, которое затягивалось черными тучами. – Начинается шторм, мессир. Это неосторожно… Кортес прикинул расстояние между фелукой и «Викторией». – Поднимите сигнальные флаги…, – приказал он. – Пусть Фернандес как можно быстрее возвращается. Отложим до завтрашнего утра. Приказ всей флотилии становиться под паруса! Пока моряки выполняли команду, Зефирина наблюдала за шлюпкой, которая с трудом пришвартовалась к «Консепсиону». Последнее, что ей удалось рассмотреть среди волн и брызг: стоящий в фелуке капитан Фернандес смотрит на удаляющийся галион. Стемнело, вечер прошел, как обычно. Корабль подпрыгивал на волнах, но это не мешало ни Кортесу, ни его офицерам ужинать. За столом Зефирина была рассеянна, ее мысли были далеко. Кортес, отнеся это на счет непогоды, стал успокаивать ее. – Всего лишь небольшая зыбь. Завтра небо будет ясным, как ваши зеленые глаза, прекрасная сеньора. Галантный испанец и его офицеры выпили за здоровье Зефирины. Это не произвело на нее никакого впечатления. Она думала о широкой спине капитана Фернандеса. Разбудил Зефирину какой-то грохот.«Мне в пору долгих майских дней
Мил щебет птиц издалека,
Зато и мучает сильней
Моя любовь издалека.
И вот уже отрады нет,
И дикой розы белый цвет,
Как стужа зимняя, не мил».
ГЛАВА XXIII СОВЕТ НОСТРАДАМУСА[200]
«Вот те, кто первыми начало Богознанья
И Астрологии, прозревшей мирозданье,
Тончайшим вымыслом и сказкой облекли
И от невежественных глаз уберегли».
ГЛАВА XXIV ЗОЛОТАЯ КАСТИЛИЯ
– Земля! Земля! Услышав этот крик, еще не вполне оправившаяся после болезни, Зефирина поднялась на палубу. В поле зрения показался зеленый остров Святого Хуана[202]. – Я думаю, что вы – немного колдунья, Зефирина, – перекрестившись, прошептал Кортес. Педро де Кадикс последовал его примеру. Боцман смотрел на молодую женщину с уважением и опаской одновременно. Она не отвечала и с нетерпением ожидала, когда можно будет ступить на сушу. Вместе с Плюш и Пикколо, которые пережили ураган, она расспрашивала местных жителей, не видели ли они другие флотилии, есть ли новости о «Сантьяго»? Никто из разношерстного населения острова, состоящего из португальских торговцев, испанских солдат, рабов – мавров и негров, освобожденных каторжников, проституток и монахов, ничего не мог сказать по этому поводу. Они жили здесь бок о бок, частенько дрались и переругивались, а окружающий мир их мало интересовал. – Вы – первая флотилия, которую мы видим за долгое время в этих местах. Последняя возвратилась в Испанию, – говорили они. – А галера «Консепсион»? – О ней ничего не было известно. Зефирина сгорала от нетерпения. Помятые ураганом суда нуждались в серьезном ремонте. Кроме того, команде необходимо было восстановить силы, поесть свежие фрукты, которыми изобиловал остров. Зефирина принимала ванны в коралловых лагунах. Она мало видела Кортеса, занятого своим галионом. После бури и «предсказания «Святой Девы» их отношения изменились. Кортес не пытался больше завлечь Зефирину в свою постель. Казалось, он был восхищен ее могуществом и вместе с тем напуган. Зефирина не жалела об этом. Все ее физические и моральные силы были направлены на то, чтобы отыскать следы доньи Гермины и Луиджи. Ко всем ее заботам добавилась еще одна: трепещущая Зефирина опасалась беременности. Она никогда не думала об этой возможности и отвергала саму мысль о том, что может понести от кого-то другого, кроме Фульвио. Но все естественные признаки были налицо, вернее их не было, и Зефирина не могла оставаться спокойной. Вновь встали под паруса, и вновь зашли в порт Картахена Индийского. Зефирина совсем отчаялась. «Мы никогда не доберемся до места!» – думала она, считая дни. В маленьком порту Картахена Зефирина узнала хорошую новость: предыдущая флотилия останавливалась недалеко от Санта-Марии. «Сантьяго» входил в состав армады. Помятый океаном корабль десять дней назад направился к перешейку Новой Испании! «Так вот ты какая, знаменитая «Castello de Oro»[203]!», – подумала, ужаснувшись, Зефирина. Для пассажиров, изнуренных этим трехмесячным путешествием, «Nombre de Dios»[204] являлся не самым привлекательным местом в Вест-Индии. На длинной песчаной косе узкого перешейка не имелось ни строений, ни причала, ни настоящего убежища для флотилии, мокнущей в бухте. На сером песке стояло сто пятьдесят – двести маленьких хижин из трухлявых досок, в которых жили только пассажиры армады. Как только Зефирина оказалась в «Nombre de Dios», она поняла, что кроме, унылого пейзажа, это место имеет жаркий и нездоровый климат, не имеет пресной воды и наводнено москитами. Из хижин воняло, даже песок источал зловоние. Но, как сказала мадемуазель Плюш: «Не нужно жаловаться, сударыня, мы на земле, а могли бы быть под водой!» Философия почтенной Артемизы придала храбрости Зефирине и Пикколо. Однако молодая женщина грустила из-за исчезновения своей галки. Гро Леон покинул ее. В течение двух недель команда разгружала трюмы кораблей, выводила мулов и уцелевших лошадей. На берег снесли пушки, порох, аркебузы, доски и колеса повозок. Пять других кораблей из флотилии Кортеса соединились с армадой. Они понесли меньшие потери, и трюмы почти не пострадали от урагана. В конечном итоге, после Севильи пропало три корабля, в том числе и «Консепсион». Пока Кортес занимался подсчетами животных и людей – приблизительно четверть пассажиров погибли либо во время урагана, либо от болезней, – Зефирина воспользовалась этой отсрочкой, чтобы отправиться на поиски «Сантьяго». Сначала корабль находился в «Nombre de Dios», а затем встал на причал в Porto Bello[205]. В сопровождении Пикколо и Кристобаля Зефирина на мулах, взятых у Кортеса, добралась до Porto Bello. Она не могла не восхититься работой, проделанной конкистадорами. На уже проложенной дороге ей встречались солдаты пехоты в шлемах, с блестящими на солнце доспехами, следившие за передвижением тяжелых тележек, которые тащили индейцы. Это из Коста-Рики[206] перевозили золото. Зефирине было жаль изнуренных рабов. Без помех добравшись до Porto Bello, она поднялась на борт «Сантьяго», охраняемого всего лишь несколькими моряками, занятыми ремонтом обшивки судна. Зефирина, представившись кузиной, тщательно расспросила моряков и получила подробные объяснения: «Знатная дама с ребенком, карликом и лакеем с бычьей шеей, называвшая себя донья Мария де Монталбан, очень почтенная и набожная, каких поискать, сошла с корабля в Nombre de Dios и отправилась на муле к Южному морю…» – А как ребенок? – Красивый мальчишка, гордый и сильный… Донье Марии есть чем гордиться. Благодаря нескольким реалам Зефирину пропустили на корабль. В каюте еще витал отвратительный запах доньи Гермины. Это были те самые омерзительные духи, которые раньше вызывали у Зефирины сильнейшие головные боли. Она остановилась, побледнев. Башмачок ребенка остался лежать возле кровати. Она, словно воровка, схватила его. Поблагодарив моряков с «Сантьяго», она вернулась в Nombre de Dios, гоня мулов во весь опор. Ее переполняла радость от того, что Луиджи жив, и бешенство, поскольку донья Гермина присвоила ее сына, наследного принца Фарнелло. – Завтра мы снимаемся с места, Зефирина. Соберите вещи. Не берите слишком много, поход будет достаточно тяжелым. Сообщая об отъезде, Кортес не мог сдержать продолжительной нервной дрожи. Зефирина прикоснулась к его шее рукой, просунув ее под кирасу и рубашку. – Друг мой, у вас стучат зубы, вас лихорадит. – Да, эта лихорадка от проклятых болот[207]1, окружающих нас. На другой стороне перешейка климат более здоровый, нам нужно как можно быстрее перебраться туда. Не успев закончить, Кортес зашатался. Зефирине пришлось поддержать его и помочь лечь. – Вы не можете ехать, посмотрите, в каком вы состоянии. Лицо Кортеса было фиолетовым. – Быстро, Кристобаль, горячей воды. Мадемуазель Плюш, принесите мне маленький сундучок. Засучив рукава, Зефирина сняла с Кортеса кирасу, расстегнула рубашку, протерла виски и грудь винным уксусом, достала из своего несессера, который принесла Плюш, немного пыльцы гвоздики и розмаринового масла, добавила в микстуру сухари из заплесневевшего хлеба и дала выпить Кортесу. Всю ночь конкистадор дрожал на своем зловонном, мокром матрасе. Зефирина спокойно бодрствовала рядом с ним, давала ему пить, вытирала пот, струившийся по телу. Перед восходом конкистадор был еще слаб, но ему стало лучше, перестало знобить. – Ты совсем не отдыхала, Зефирина, ухаживая за мной, – прошептал он, открывая глаза. – Это нормально, друг мой, каждому свой черед, – улыбнулась молодая женщина. Он вновь опустил отяжелевшие веки. – Странно, Зефирина, ты не любишь меня, и… – Вы ошибаетесь, Кортес, я бесконечно люблю вас, более того, уважаю. Услышав это, конкистадор содрогнулся. Он пристально посмотрел на молодую женщину. Взяв ее за руки, вынудил сесть. – Что ты хочешь этим сказать, моя драгоценная козочка? – Буду откровенна, Кортес, сначала я видела в вас лишь… – Кровожадное животное, – с горечью закончил он. – Скажем, удачливого солдата… Но я открыла для себя великого капитана, гордого человека. Я уважаю вашу смелость, Кортес. Нужно быть абсолютно сумасшедшим, чтобы пересечь море и броситься в эту конкисту… да, сумасшедшим или гениальным! Зефирина сказала правду. Если она и не была согласна с методами конкистадоров и Кортеса, она не могла не восхищаться этим делом, которым жили мужчины ее времени. – Видите ли, Кортес, – продолжала Зефирина после паузы, – вы меняете облик мира, и я вас уважаю за это… Но, что я отвергаю, так это развязанную бойню несчастных туземцев и их порабощение. Кортес выпрямился, ему необходимо было оправдаться. – Ты ошибаешься, Зефирина, мир принадлежит сильнейшему. Так было во все времена и будет, пока человек остается человеком. Я не очень одобряю убийств и прибегаю к ним, лишь как к вынужденным мерам… Но индейцы тоже виноваты. – Вы преувеличиваете, эти несчастные виноваты только в том, что погибают… – Ты ошибаешься, – мрачно проговорил Кортес. – Они виноваты в том, что борются не с нами, а между собой! Вместо того чтобы объединиться и разгромить нас, они ссорятся. Мы этим воспользовались. Мы несем им цивилизацию белого человека, спустившегося с небес, как они говорят… Я не убивал Монтесуму, его убили свои же, а я обращался с ним все время по-королевски[208]… Но я выиграл, Зефирина, а у сильнейшего – все права! Изнуренный лихорадкой конкистадор заснул на руках у Зефирины. Она долго смотрела на него. – Фульвио, любовь моя… – прошептала она, целуя темные кудри Кортеса. В шесть часов утра конкистадор, очень бледный, вскочил на лошадь, и длинная колонна – флотилия, ступившая на «твердую землю», – отправилась в путь, намереваясь пересечь перешеек. Барабанщики, флейтисты, капралы, мушкетеры, знаменосцы, артиллеристы, авантажи[209], сержанты, капитаны, фуражиры, маркитанты, парикмахеры, хирурги, хранители воды, хранители пищи, капелланы, писари, трубачи, каторжники, рабы, тащившие бронзовые пушки с головой льва на затворе, мулы, лошади растянулись блестящей на солнце змеей больше чем на лье. За солдатами с алебардами, которые возглавляли отряд, шли индейцы – чимароны, укрощенные завоевателями и согласившиеся служить им. Эти люди с красной и белой татуировкой несли на плечах попугаев, а на головах у них красовались гирлянды из перьев и ракушек, в руках – гигантские камыши. К изумлению Зефирины, эти краснокожие люди держали во рту свернутые коричневые листья, пламенеющие на конце, и выпускали изо рта и носа дым, словно их пожирал внутренний огонь. Верхом на хорошей лошади Зефирина вместе с мадемуазель Плюш, Пикколо и Кристобалем, который проводил время за рисованием, двигалась в личной свите Кортеса. На время экспедиции Зефирина вновь облачилась в одежду юноши, а мадемуазель Плюш – в костюм аптекаря. Солнце обжигало. Всадники надели широкие шляпы, чтобы укрыться от его лучей. Зефирина спрашивала себя, как выдерживают испанцы в своих металлических касках и кольчугах, особенно едва оправившийся после болезни Кортес. Это был суровый поход по перешейку, соединяющему два континента. Среди зловонных испарений болот нужно было двигаться вперед по «дороге» через лес или джунгли. Конечно, путь был уже проторен другими колоннами, но пышная растительность сразу же отвоевывала свои территории. Индейцы чимароны, смирные и, казалось, всецело преданные Кортесу, прорубали дорогу. Нужно было преодолевать несколько раз реку и ее притоки. Удовольствие от прохладной воды здесь сплеталось с чувством опасности. Бурные речные потоки кишели крокодилами. Испугавшись одного из них, лошадь Зефирины встала на дыбы и скинула наездницу на середине реки. Зефирина почувствовала, как ее уносит течением, и забарахталась. Вакеро, вождь чимаронов, нырнул и вынес ее на берег. Это она должна была испытывать признательность за то, что ей спасли жизнь, но с этой минуты Зефирина сделалась богиней чимаронов. Они гордились тем, что спасли это зеленоглазое создание, и приносили фрукты, чтобы она могла утолить жажду. – Божественная Зефирина, ты можешь прийти сюда и властвовать, – с улыбкой сказал ей однажды вечером Кортес. По ночам они строили импровизированные укрытия из веток и листвы. Лежа на ложе из листьев рядом с Кортесом Зефирина не могла уснуть. Она думала об эволюции их отношений, ставших почти братскими. «Как необычна моя жизнь!» – размышляла она, обеспокоенная мыслью о беременности, но не желая говорить об этом Кортесу. Она прислушивалась к звукам джунглей, к крикам неизвестных животных. Даже луна, которую она видела в щели между листьями, казалась ей не такой, как раньше. На четвертый день изнурительного путешествия колонна достигла высшей точки перешейка. По просьбе Кортеса вождь чимаронов помог ему, Кристобалю и Зефирине взобраться на дерево, где был устроен наблюдательный пункт. С этого возвышения онемевшая от восторга Зефирина увидела бесконечные просторы темно-зеленых лесов. Вдали с каждой стороны их обрамляла золотистая полоска. На севере пенилось и волновалось Сумеречное море, или Атлантический океан; на юге же простиралась бескрайняя и очень спокойная гладь голубых вод. – Какой же тихий, этот огромный океан! – прошептала Зефирина. – В память о вас, друг мой, мы назовем его так… Тихий океан, – галантно заявил Кортес. Маленький картограф записывал, не переставая, зачеркивал, описывал кривые, рисовал потоки воды и берега. Спустившись, Зефирина подумала, что перед глазами сейчас было то, чего не видел ни один француз… два океана! Сможет ли она рассказать это своим согражданам? Она в этом сомневалась. Они все дальше углублялись в девственный тропический лес, грозивший опасностью. Она спрашивала себя, выйдет ли отсюда когда-нибудь? Ко всем испытаниям добавилось еще одно, болезнь, которая свирепствовала среди солдат[210]. – Ты кушать, как чимарон, чтобы не болеть, как они, – говорил вождь, давая Зефирине и ее людям корни и фрукты. Больше всего она страдала от невозможности вымыться. Однажды очень ранним утром она отошла подальше от лагеря, спустилась к ручью, собираясь помыться. Место было спокойным. Зефирина сняла одежду и с наслаждением окунулась в реку. Она вышла, вытерла рубашкой тело и подставила его первым лучам солнца. Зефирина расслабилась, сидя на берегу реки на своем плаще. Внезапно она взвизгнула – какая-то отвратительная тварь набросилась на нее, сильно сжала и поволокла к лесу. Это была огромная змея пятнадцати футов в длину. Чудовищная рептилия обхватила ее своими кольцами. Зефирина отбивалась, кричала, задыхалась. Змея брызгала ей в лицо вонючей слизью, сжимала кольца вокруг ее тела. Зефирина, рыдая, хваталась за кусты. Цепкий хвост обхватывал ее руки, грудь, живот. Удав безжалостно душил ее, чтобы потом проглотить в своем мерзком логове.ГЛАВА XXV ПАНАМА
– Он есть очень толстый… очень вкусный! – с удовлетворенным видом заявил Вакеро. Вся в слизи удава, Зефирина отупело смотрела на улыбающееся лицо вождя чимаронов. Индеец спас ее во второй раз, резким ударом отрубив голову змее. Зефирина была вся в синяках и кровоподтеках, прихрамывала и с трудом дышала. Она позволила Вакеро умыть себя. – Белая женщина, спустившаяся с небес, – очень красивый! – тоном знатока заявил чимарон. Он подобрал медальон, который она потеряла, надел ей на шею и завернул Зефирину в рубашку. Появление Зефирины, которую нес на руках краснокожий Вакеро, встретили криками. – Это очень неосторожно, сударыня, гулять одной в этих диких местах! – засюсюкала Плюш, у которой всегда была наготове прописная истина. Зефирина не могла сесть на лошадь. Кортес приказал приготовить носилки. Но нет худа без добра. У Зефирины вновь начались регулы, говорившие о том, что она не была или больше не была беременна. Явился ли тому причиной удав или усталость от путешествия? Успокоенная Зефирина не знала, но все еще переживала ужас от недавнего происшествия. Она обещала себе впредь быть послушной и добродетельной. Лежа на жестком деревянном полу, она надрывно кашляла, ей было больно дышать. – Цибальт!.. Цибальт! – проговорил Вакеро, всунув ей в рот трубочку из коричневых листьев с горящим кончиком. Он сделал ей знак вдохнуть. Зефирина послушалась. Теплый дым заполнил легкие. Она закашлялась, стала отплевываться. Удивленная, заинтересованная, с глазами, полными слез, она повторила опыт. И потихоньку привыкла. Дым успокаивал ее. Она заметила, что многие испанские солдаты проделывают то же самое; они называли эти растения tabaco. Что же касается мадемуазель Плюш, подружившейся с одним беззубым чимароном, почтенная старая дева, сидя на своем муле, курила «цибальт» за «цибальтом». Три дня спустя с трубочкой tabaco в зубах Зефирина и ее дуэнья выехали на холм, с которого открывался вид на Панаму… Несмотря на боль и слабость в теле, Зефирина пожелала сесть на лошадь, чтобы въехать в город рядом с Кортесом. Каким образом удалось конкистадорам всего за десяток лет[211] построить на этих негостеприимных землях свою маленькую цивилизацию, этот белый город, омываемый лазурными водами Южного моря? Этот испанский город на южном море был похож на шахматную доску. В центре располагалась Пласа Майор, где находились символы новой власти как гражданской, так и религиозной: позорный столб и помост для приговоренных инквизицией к сожжению на костре. Своими деревянными домами, церквами, строящимся собором, монастырем, портом Панама восхищала путешественника. Зефирина не являлась исключением. Она смотрела на испанский город глазами провинциального человека, попавшего в цивилизацию. Улицы наводняли моряки, солдаты, алькальды, альгвасилы, поселенцы, чиновники испанского короля, эмигранты, искатели приключений, идальго, торговцы, смуглолицые дети-метисы, мулаты, индейцы, испанцы, негры, zambos (дети негра и индеанки), castizos (светлокожие метисы) или coyotes (темные метисы). Плотники строили новую флотилию, чтобы бороздить Тихий океан. Были там и публичные дома, женщины легкого поведения, игорные дома, кабаре. Среди всей этой суматохи прогуливались индейцы с перьями на голове. Другие, менее удачливые, были закованы, обращены в рабство. Несчастные тащили тяжелые грузы вместе с неграми, привезенными с берегов Африки португальскими, английскими и французскими моряками, которые извлекали выгоду, продавая на островах рабов испанцам. – Посмотрите, сударыня, на все это золото! – проезжая мимо, восхищалась Плюш. Золоченые идолы, серебряные статуи, ларцы с драгоценностями громоздились перед церквами. Зефирина не нуждалась в объяснениях. Она уже не знала, имеет ли право клеймить все это: золото, которое Кортес отобрал у ацтеков, готовили для отправки в Испанию. Дворец губернатора вчерне уже закончили. Великолепное здание, грандиозное, вычурное, новенькое, сверкающее. Губернатор дон Бенито ждал Кортеса на ступенях крыльца. После обычных приветствий конкистадор сухо упрекнул дона Бенито за плохое состояние дорог. – Необходимо срочно строить мосты… Чем вы тут занимаетесь! У вас сиеста[212]! – буркнул Кортес, не обращая внимания на ослепительный в лучах солнца город. Приунывший дон Бенито предложил направить рабов на прокладку дороги через джунгли. Выяснив этот вопрос, Кортес согласился устроиться со своей свитой во дворце. Но тут конкистадора ожидал сюрприз. – Фернан, любовь моя!.. Ацтекская женщина, прекрасная Малинцин[213], бросилась в его объятия. Она вела себя с ним как с законным супругом. И в самом деле, вслед за ней появился очень красивый ребенок – Мартен Кортес[214]. Женщина приехала из Теночтитлана, чтобы встретиться со своим «мужем». Взглянув на смущенного Кортеса, Зефирина с трудом поборола сильнейшее желание расхохотаться. Конкистадор мог подмять под себя целый континент, но сник, оказавшись между двумя женщинами. Умная и страстно влюбленная в Кортеса прекрасная Малинцин, Зефирина сразу поняла это, была активной помощницей завоевателя, даже его политической советницей в вопросах, касающихся ацтеков. Сотрудничая со своим любовником, она оказывала ему огромную помощь в завоевании империи Монтесумы. Одного взгляда на Зефирину было достаточно, чтобы отнести ее в стан соперниц и возненавидеть. Малинцин не скрывала ненависти. Чтобы держаться подальше от враждебных взглядов, Зефирина отказалась от приглашения губернатора. С Пикколо и Плюш она нашла приют в маленьком домишке одного францисканца, брата Андело. Он был шокирован, увидев ее в мужской одежде. Вымыв волосы и смазав царапины, Зефирина вновь облачилась в костюм, присущий ее полу, который, так же как и Плюш, предусмотрительно привезла с собой. В сопровождении Пикколо и дуэньи молодая женщина спустилась в порт. Первым человеком, кого она встретила, оказался Вакеро, вождь чимаронов. Раньше у нее не было времени попрощаться с ним и поблагодарить. На глазах у четырех идальго, потеющих в своих безвкусных пестрых камзолах и шапочках с султанами, Зефирина бросилась на шею Вакеро. – Ради всего святого! Вот стыд! Белая женщина и дикарь! – насмешливо бросил самый высокий из идальго. – Этот «дикарь», сеньор, настолько дик, что спас мне жизнь, и я запрещаю вам говорить такие глупости! – заявила Зефирина. Идальго, ворча, ретировались во дворик таверны. – Вакеро, чем тебя отблагодарить? – оборачиваясь к чимарону, спросила Зефирина. Она хотела подарить ему что-то на память или дать несколько золотых реалов, которые позволили бы ему купить оружие, безделушки, которые люди его племени просто обожали. Вакеро с достоинством отвел руку Зефирины. – Белая женщина, сошедшая с небес, навсегда оставила изумрудный блеск глаз в сердце Вакеро… С этими словами, достойными трубадура Тибо Шампанского, он удалился, оставив Зефирину, погруженную в задумчивость. Она с достоинством прошествовала мимо хохочущих идальго. «Цивилизация часто оказывается совсем не там, где принято считать!» Она бродила среди бочонков с гвоздикой, горчицей, корицей, расспрашивала моряков. Расследование на пристани дало результаты, превосходившие все ее ожидания. «Бригантина[215] под командованием Диего де Альмагро четыре дня назад ушла из Панамы. На ее борту находились женщина под вуалью, ребенок, карлик и оруженосец с бычьей шеей…» – Вам известно, куда отправился корабль? – трепеща, спросила Зефирина. – Судя по постановке парусов, на юг, но это все, что я знаю, сеньора, – ответил матрос, проворно засовывая в карман золотую монету, которую протянула ему Зефирина. Молодая женщина в задумчивости вернулась в домик брата Анджело. Она полагала, что донья Гермина отправится на север в империю ацтеков[216]. А она двинулась на юг. Тем временем пришел Кристобаль, картограф, чтобы от имени его милости Кортеса пригласить Зефирину на ужин. – Друг мой, что, по вашему мнению, находится на юге? – спросила Зефирина. На земле возле домика францисканца Кристобаль нарисовал перешеек Золотой Кастилии и два округлых континента. – Мессир Кортес завоевал империю ацтеков «мексикас» – это здесь. Со своим знаменитым лейтенантом Педро де Альварадо он покорил королевство микстеков и майа[217], основав Веракрус… Но там, на юге, сеньора Зефирина, находится огромная империя со сказочными богатствами: Пиру[218]!.. На сотни тысяч лье там растянулась сказочная империя инков… которой управляет абсолютный государь, наделенный божественными правами, Сапа Инка. – Если бригантина ушла на юг, Кристобаль… куда, по-вашему, она может причалить? – Да, это капитан Диего де Альмагро, – без труда догадался Кристобаль. – Он направился в авангарде с каноником Люком… Альмагро, сеньора, плывет сюда, в Тюмбес[219], – ответил Кристобаль, изобразив на карте завиток. – Но Кристобаль… – Пойдемте, сеньора Зефирина, сегодня вечером вы, без сомнения, узнаете все, что вас интересует… – Что ж, дайте мне несколько минут, чтобы привести себя в порядок. Вполне удовлетворенная затраченными усилиями, с завитыми волосами, одетая в простое бледно-зеленое платье, но с головокружительным декольте, Зефирина с мадемуазель Плюш и Кристобалем появилась во дворце губернатора. Великолепный Кортес с изумрудными и брильянтовыми серьгами в ушах встречал молодую женщину как хозяин дома. Везде, где бы ни появлялся этот дьявол в облике мужчины, он становился бесспорным главой. С нежностью, которая переполняла безумным бешенством прекрасную Малинцин, он обнял Зефирину за талию и представил ей приглашенных. Толстый, крайне неприятный банкир Гаспар де Эспиноза и… четверо идальго, в которых Зефирина сразу же узнала своих утренних знакомых из порта. – Позвольте представить вам, княгиня, гордых капитанов, старых друзей, Франциско Пизарро и его братьев Гонсало, Фернандо и Хуана… Зефирина мгновенно возненавидела этих братьев Пизарро с их хвастливым, кичливым видом и алчными глазами. Уроженцы Эстрамадуры, они были незаконными детьми одного офицера, который не стеснял себя узами брака и наплодил детей от разных женщин, одна из которых – проститутка, как говорили, бросила сына Франциско на ступенях церкви, и он хвастался, что его вскормила свинья. Отслужив солдатом в Италии и конкистадором под предводительством Кортеса (отсюда и брала начало их «дружба»), Франциско Пизарро встретил троих своих братьев, затем Диего де Альмагро и отца Люка, таких же неучей, как он сам. Эти отчаянные головы основали «союз» для завоевания страны инков, в которую они уже совершили набег. Слушая, бахвальство, Зефирина не пыталась скрыть раздражения. Как может" Карл V доверять проходимцу Франциско Пизарро, его подозрительному дружку Люку и этому Диего де Альмагро, который, видимо, стоит их! Казалось, не замечая холодности молодой женщины, братья Пизарро принялись расточать любезности, чтобы заставить ее позабыть об утренних насмешках. Кортес перебил их, чтобы представить Зефирине еще одного приглашенного. – А вот, княгиня, Фернандо де Сото… Он отличился в империи майа, искусная шпага и сердце из бронзы. Казалось, что Кортес оказывает Сото большое уважение. Капитан с изысканностью поклонился Зефирине. Она ответила любезным реверансом. К Пизарро она испытывала лишь презрение, однако оценила благородную осанку де Сото. Она заметила, что Кортес на все лады склонял ее титул «княгини» Фарнелло. Вдали от Карла V конкистадор более не опасался произносить ее имя, призванное ослепить его «друзей». Между этими великими капитанами, за исключением, быть может, Сото, разгорелось грозное соперничество. Маленькие черные глазки Франциско Пизарро сузились от зависти, когда Кортес рассказывал о своих геройствах в стране Монтесумы! Бледная, гордая, закутанная в полосатые покрывала, украшенные рубинами с кровавыми бликами, Малинцин вступала в беседу редко, но говорила на превосходном кастильском. Зефирина не могла не восхищаться ацтекской красавицей. Тяжело было смотреть, как та совершенно потеряла голову от любви к Кортесу. Не считая мадемуазель Плюш, Зефирина была единственной белой женщиной на ужине. Эти господа очень вольно вели себя и, не особенно смущаясь, затеяли под столом атаку. Три ноги, принадлежащие капитанам Пизарро, дотронулись до ножки Зефирины, младший брат Хуан строил куры Плюш, которая не помнила себя от восторга. Что же до Кортеса, то он хотел показать сидящим за столом, что Зефирина принадлежит ему и что она поедет за ним на юг. – Итак, дорогая княгиня Зефирина, что вы скажете о Пизарро, который собирается в третий раз отправиться на юг вслед за лейтенантом Альмагро… Мне говорили, что между вами с Диего возник холодок! Ба! На юге ваш лед растает!.. Мой бедный Франциско, там ты не найдешь ничего, кроме груды камней! – насмехался основатель Веракрус, осушая бокал. Подавив бешенство, Пизарро ответил: – Иногда камни превращаются в золото, дружище Кортес. Это лучше, чем когда золото превращается в камни, как произошло с сокровищами Монтесумы! – Ха! Ха! Ха! Трое Пизарро расхохотались вслед за старшим братом. Зефирина подумала, что Кортес сейчас взорвется. С большим трудом конкистадор овладел собой, и беседа приняла более спокойный характер. Много говорили об эпидемии пурпурной лихорадки[220] и нарывных болезнях[221], которые свирепствовали среди индейского населения Мексикаса и Юкатана. Никто не произносил этого вслух, но Зефирина догадалась, что капитанов не особенно огорчало, что небеса решают проблему перенаселенности, сделав индейцев беззащитными перед болезнями, завезенными конкистадорами. Затем разговор перешел на более веселые темы. Зефирина поняла, что торжествующий Франциско Пизарро получил от Карла V, письмо с королевским указом, назначающим его официальным представителем испанской короны на юге, почти вице-королем. Кортес впал в дурное расположение духа. Пизарро оказался неуязвим для его колкостей, тем более, что банкир Гаспар де Эспиноза финансировал предприятие. Бригантины Пизарро должны были сняться с якоря через несколько дней. Кортес принялся разглагольствовать. Зефирина воспользовалась этим, чтобы прошептать: – Мне бы очень хотелось отправиться с вами, капитан Пизарро. – Это не увеселительная прогулка, сеньора, я беру только мужчин, – также шепотом ответил Пизарро. – Однако, капитан Пизарро, я позволю себе настаивать… – Вопрос исчерпан, княгиня, это слишком опасно. Вы останетесь с моим другом Кортесом… он уж об этом не пожалеет. После чего Франциско Пизарро и Гонсало прижали свои ножищи к коленам Зефирины. Неужели ей, чтобы добиться своего, придется удовлетворить похоть всех четверых Пизарро? Это слишком для одной женщины. Однако Зефирина решила, что должна любой ценой проникнуть на борт. Но каким образом, не «уступив» братьям Пизарро? В столовой, освещенной канделябрами, стояла невыносимая жара. После ужина гости вышли в парк. Зефирина была вся в поту, шелковое платье прилипло к телу. Она стала искать место, чтобы освежиться. В кабинете она нашла горшок с теплой водой и смочила лицо и руки, при пламени свечи пригладила выбившиеся пряди волос. Она смотрела на свое отражение в зеркале, и внезапно руки ее замерли в воздухе. Искаженное злобной гримасой лицо Малинцин появилось за ее плечом. Темные глаза индеанки сверкали бешеной ненавистью. Малинцин держала в руке длинный кривой нож. – Ты завладела сердцем Кортеса… Ты умрешь… – прошипела красавица, схватив Зефирину за горло.ГЛАВА XXVI «ЖЕНА» КОРТЕСА
Зефирина успела отпрянуть. Она протянула руку и схватила Малинцин за запястье. Вцепившись друг в друга, женщины упали на пол. Зефирина сражалась с энергией отчаяния. Малинцин, гибкая как лиана, брызгала слюной и царапалась, пытаясь всадить нож в горло своей противницы, Более молодая, чем индеанка, но менее опытная в такого рода сражениях, Зефирина чувствовала, что силы изменяют ей. Она поняла – ей грозит гибель. Она видела искаженное лицо индеанки, ее горящие словно угли глаза. Почти смирившись, Зефирина подумала: «Я пропала». Кривой кинжал с золотой узорной ручкой дюйм за дюймом подбирался к ее горлу. Вдруг над ними раздался глухой вопль: – А я еще сомневался! Это вошел Кортес. Он прыгнул на Малинцин и без труда оторвал ее от жертвы. Индеанка испустила крик боли и бешенства. Кортес оттащил ее за волосы и стал нещадно избивать, нанося удары сапогами и кулаками. – Когда я заметил, что ты исчезла, подлая тварь, я сразу понял, что ты что-то замыслила, ты же мнишь себя очень ловкой и хитрой… индейская сучка… получай… После каждого слова он награждал ее тумаками. Зефирина поднялась, растрепанная, испуганная жестокостью конкистадора. – Вы с ума сошли? Вы ее сейчас убьете! Зефирина повисла на руке Кортеса. – Пустите меня, я прикончу эту сучку… прикажу убить ее у позорного столба, публично… – Но остановитесь же… Это мать вашего сына! – Она пыталась убить вас, дрянь! – рычал Кортес. – Ну так что же! – запротестовала Зефирина. Привлеченный воплями, в комнату вошел Кристобаль. – Ах, вы как раз кстати! Уведите этого одержимого и успокойте его, – проговорила Зефирина, подталкивая Кортеса и картографа к выходу. Оставшись наедине с Малинцин, Зефирина принялась хлопотать вокруг нее. У забившейся в угол индеанки распухла губа, из носа и рассеченной щеки лилась кровь. Зефирина разорвала свою нижнюю юбку, обмакнула ее в прохладную воду, и бережно стала промывать раны Малинцин. Та смотрела на княгиню с удивлением. – Ты не хочешь мстить, белая женщина? – Нет! Я даже понимаю тебя, Малинцин… Только ты ошибаешься, я ничего не украла у тебя! – С самого своего возвращения Кортес не прикоснулся ко мне! Он думает о тебе, и его сердце пожирает внутренний огонь. Зефирина улыбнулась. – Нет, Малинцин, он уедет с тобой в Мексикас и, надеюсь, будет обращаться с тобой как со своей женой! – К любовнице все относятся с презрением… Он хочет жениться на испанке, не на индеанке, даже если она дочь великого вождя… – с гордостью проговорила Малинцин. – Он хочет жениться на тебе. Таковы его намерения, я знаю! – рыдая, продолжала женщина. – Так что ж, он обманывается, я не свободна. – Ты не хочешь ехать с нами в Мексикас? – удивилась Малинцин. – Мне нужно на юг, Малинцин. У меня тоже есть сын, одна женщина похитила его… и еще я хочу вернуть любимого человека. Малинцин недоверчиво спросила: – Это не Кортес? Она была почти оскорблена. – Нет, это мой супруг… Его зовут Фульвио Фарнелло. Он итальянский князь… Его прозвали «Кривой Леопард», потому что у него нет одного глаза, но, Малинцин, это самый лучший мужчина на земле. – Как ты любишь его… Ты красивая, Зефирина, ему повезло, этому мужчине, я завидую твоей коже и золотым волосам, – проговорила индеанка, робко дотрагиваясь до роскошной шевелюры Зефирины, растрепавшейся во время драки. – Ты тоже красива, Малинцин. Этому идиоту Кортесу очень повезло, – искренне призналась Зефирина. Обе женщины с волнением посмотрели друг на друга. – Друзья? – спросила Зефирина. – Друзья, белая женщина! – ответила Малинцин. – Тогда помоги мне, Малинцин, прошу тебя!.. Зефирина поведала индеанке причины, побудившие ее вновь пуститься в путь, об ужасном путешествии, которое она совершила. Она тактично обошла стороной свои интимные отношения с Кортесом, зато много говорила о Луиджи, Фульвио и воровке донье Гермине! Несмотря на побои, Малинцин встала: – Женщина, говоришь ты, которая называла себя доньей Марией де Монталбан? Да, я ее видела, поскольку приехала на корабле из Оаксаки, для того чтобы ждать Кортеса здесь, в Панаме… Эта донья Мария заинтересовала Малинцин, белая женщина, с ней был ребенок, твой, судя по твоим словам, карлик и оруженосец со взглядом мошенника… Но она уехала не одна. – Знаю, она уехала с капитаном Альмагро! – радостно подтвердила Зефирина. Малинцин тряхнула черными косами. – Я не говорю о белых, с ней был краснокожий… Думаю, что у них было назначено что-то вроде встречи. Он не ацтек и не чимарон, называл себя Наско… Думаю, белая женщина, это былинка. – Инка в Панаме? – прошептала Зефирина. – Быть может, он приехал из Тюмбеса или даже из Куско на встречу с твоей доньей Марией… – Что тебе известно, Малинцин, о королевстве инков? – Немного, Зефирина, белая женщина… Я узнала, что Сапа Инка Гуйана Капак – молодой вождь, богатый и доблестный – умер. После него осталось двое наследников, и они оспаривают власть. Незаконный сын, рожденный вне брака Атагуальпа получил поддержку на севере империи и у начальников армии его отца, его столица – Кито. Другому, законному, сыну Гуаскару достался юг страны. И будто бы сам Сапа Инка короновал его в столице Куско. – Империя большая, Малинцин? – Громадная, Зефирина. Говорят, что она разделена на четыре области: Шиншасуйу на севере, Колласуйу на юге, Антисуйу на востоке и Контисуйу на западе[222]… Там есть горы, возвышающиеся более чем на пятнадцать тысяч футов[223], но этого не видел никто. Одни только люди-кондоры могут об этом говорить. – Люди-кондоры? Малинцин испуганно проговорила: – Да, белая женщина, люди, которые могут летать… Малинцин осенила себя знамением, поскольку была крещеной. – У этих инков есть свои божества, Малинцин? – Конечно, златовласая Зефирина, их всемогущий бог называется Виракоша, он хозяин красоты всего мира… и… Казалось, Малинцин что-то взволновало. – Что такое, Малинцин? – настаивала Зефирина. – Виракоша вышел из вод одного озера. Это был бледнолицый человек с седой бородой, очень тучный. На нем была простая белая туника. Прежде чем уйти, он предсказал свое возвращение, и исполнение этого предсказания ждут все инки, понимаешь, Зефирина. Инки подумают, Пизарро и испанцы – это возвращение их бога… а я, Малинцин, бедная женщина из племени ацтеков, знаю, что это не так! Зефирина как могла пыталась рассеять страхи Малинцин. По мере того как индеанка говорила, Зефирина начинала отдавать себе отчет, что та знает больше, чем хочет признаться. Видимо, между ацтеками и инками до прихода конкистадоров происходил культурный обмен. – Забудь этих смердящих собак, Пизарро, я поговорю с другим, он мой друг, бледнолицая женщина… У него доброе сердце, он отвезет тебя… – Ты говоришь о Фернандо де Сото? – спросила Зефирина. – Да, позволь мне все устроить. По приезде в Тюмбес ты найдешь моего брата по расе, живущего там. Его мать была ацтекской принцессой из моего рода, увезенной в рабство инками. Он умен, богат, немного говорит по-испански, и у него пятьдесят лам. Зовут его Пандо-Пандо. Найди его, назови мое имя, он тебе поможет, Зефирина, сестра моя… Взволнованная тем, что Малинцин назвала ее сестрой, Зефирина поцеловала ее. – Я не хочу уезжать, не взяв с Кортеса клятвы, что он снова не начнет бить тебя, сестра моя Малинцин… – Не беспокойся за Малинцин, я знаю Кортеса, это дитя. Уезжай, сестра, уезжай, не повидав его, и все станет на свои места… Зефирина смотрела на прекрасную Малинцин – полосатые покрывала разорвались, обнажив великолепную грудь. «Однако у побежденной есть оружие, чтобы подчинить победителя!» Несколько дней спустя в порту пели «Аве Мария Стелла». Негодяи братья Пизарро отплывали на трех кораблях с восемьюдесятью тремя мужчинами и двадцатью семью лошадьми на борту[224]. Доминиканский священник отец Винсенте де Вальверде благословил экспедицию и королевское знамя. Зефирина понимала, что захват золота оправдывался борьбой с неверными. На следующий день, послушавшись совета Малинцин, не попрощавшись с Кортесом, Зефирина села вместе с мадемуазель Плюш и Пикколо на одну из двух бригантин Фернандо де Сото. На борту находилось сто человек и восемнадцать лошадей. Несложные вычисления позволили Зефирине понять, что, считая солдат Пизарро, двести восемьдесят три человека и сорок пять лошадей отправлялись завоевывать одну из самых больших империй в мире. «Они сошли с ума, эти испанцы… Они отправляются на верную гибель!» – думала Зефирина. Трепещущая, она позволила на какое-то мгновение отчаянию завладеть собой. Нужно ли было совершать настоящее кругосветное путешествие для того, чтобы настичь донью Гермину? Что ждет ее в этой странной волшебной стране: радушный прием или смерть? Со своей неукротимой отвагой Зефирина все же надеялась, что все закончится хорошо, без кровопролития, мирно… Она найдет своего сына, Луиджи… свою любовь Фульвио… Берега Панамы, золотистые на солнце, постепенно удалялись. Несказанный восторг охватил Зефирину. Она в Тихом океане! Корабли уже превратились в маленькие точки на горизонте, когда в город вошла странная троица: крепкие, закаленные в испытаниях мужчины, одетые как моряки, хотя и в лохмотьях, но, казалось, путь по тропическим джунглям не слишком изнурил их. Судя по их разговору, они пришли из Номбре де Диос. Самый высокий из них, парень с темной бородой, загорелым лицом, прищуренными глазами. На одном из них он носил черную повязку… Одет был в куртку с присборенной талией, на плече у него сидела толстая птица с серым хохолком. Saperlipopette! Sardanapal![225] – каркала птица, к большой радости портовых грузчиков. – Эй! Кривой! – крикнул один из них, – на вид ты здоров. Не нужна ли работенка тебе, твоим приятелям и этой забавной пичуге? Кривой великан наклонился к своим друзьям. Они недолго посовещались, затем парень ответил: – Черт побери, угадали… к тому же его милость скоро собирается в Мексикас… и ему как раз требуются парни, чтобы обрюхатить тамошних макак… Ха! Ха! Кривой великан и его товарищи расхохотались вслед за грузчиками. – Иди во дворец губернатора, кривой! Последовав совету грузчика, трое мужчин двинулись в указанном направлении. Когда они оказались на улочке, ведущей во дворец, один из моряков, самый худой, с суровым лицом и полысевшей головой, прошептал кривому великану: – Это неосторожно, вы направляетесь прямо в пасть волка. – Что, по-твоему, мы должны делать? – Если вы объявитесь, нас, без сомнения, вновь отправят на галеры и вернут его величеству Карлу V. – Нас ждут товарищи в Опаловой бухте. Ничего не бойся, Паоло, не будь капитулянтом, ты принесешь нам несчастье. Лысый моряк нахмурился, и его глубоко посаженные глаза, казалось, совсем исчезли. – Пусть монсеньор извинит меня, но я греб наравне с вашей милостью, я сражался так же, как ваша милость… и… Он оскорбленно поджал губы. Великан с признательностью положил руку на плечо своего спутника. – Это правда, дорогой Паоло. Извини меня, ты заплатил за свою преданность с лихвой. Но еще одно маленькое усилие, всем нам кажется, что она здесь. Кривой великан застыл на месте при виде дворца. Для парня такой закалки он казался слишком взволнованным, нервным. – Позвольте Буа-де-Шену сходить на разведку, монсеньор! – взмолился Паоло. – Пусть идет, – согласился кривой. Третий мошенник, здоровяк с кривыми ногами, в развалку направился к дворцовой страже, а его спутники тем временем укрылись за строящейся стеной. Буа-де-Шен не замедлил вернуться. Он шел, посвистывая. Великан спросил его: – Итак, узнал что-нибудь? – Еще бы, капитан… ваша дамочка только что отчалила под теми парусами… которые вы видите там. Вдали. – Как ты узнал? – Хм, просто я спросил про белую дамочку, смазливую блондиночку, которая должна быть здесь, в Панаме! – Ты спросил у солдат. – Нет, капитан… Нет, у одной дикарки, которая так чертовски любезна, что ждет вас. Буа-де-Шен указал на красивую молодую индеанку, которая держала за руку мальчугана лет семи-восьми. – Иди поиграй, Мартен… – сказала она и отослала ребенка в сад. Затем направилась прямо к тому месту, где притаились моряки. Кривой, выйдя из-за стены, снял свой берет. – Мой товарищ сказал, сеньора, что, вероятно, вы можете мне помочь, я разыскиваю… – Донью Зефирину. Великан удивленно посмотрел на индеанку. – Вы с ней знакомы? – Я ее «сестра» Малинцин… Ты Фульвио… Фульвио Фарнелло, ее супруг… Она говорила о тебе. Иди за мной. – Но, монсеньор… А если вас обнаружит Кортес? – прошептал Паоло, держа князя за рукав его изношенной блузы. Малинцин обернулась: – Не бойтесь, я друг. Положитесь на меня. Кортес ничего не узнает. Пойдем, Фульвио… Красавица Малинцин повлекла Фульвио и его спутников к потайной двери панамского дворца.ГЛАВА XXVII ДЕТИ СОЛНЦА
Тюмбес, главный порт империи инков, где стояло на причале множество парусных судов, производивших внушительное впечатление, лениво нежился среди пальм под жарким солнцем. С борта корабля восхищенная Зефирина любовалась соборами, дворцами, низенькими квадратными домиками, расположенными рядом со сверкающим морем. Тройная крепостная стена ограждала город, делая его неприступным. Франциско Пизарро причалил немного южнее. И со своими пушками направился к городу, чтобы зажать его в тиски. Глядя с бригантины на город, Фернандо де Сото не знал, как поступить. Он опасался сопротивления. Длинноволосые жители носили одинаковую одежду независимо от пола. Они были далеко не дикарями и показали себя очень радушными. В белых хлопковых рубашках без рукавов, коричневых плащах и сандалиях из кожи ламы, они открыли все ворота на море и на суше, чтобы выйти к испанцам. У сановников были короткие волосы. Они носили длинные золотые серьги. Конкистадоры сразу же прозвали их Oregones[226]. Их жены тоже были все в золоте, на которое испанцы смотрели с завистью. У женщин были великолепные волосы, собранные на макушке и волной ниспадающие по плечам. Зефирина заметала, что они очень блестят, и ей стало интересно, как достигается подобный эффект. Кроме того, она отметила выщипанные брови и нарумяненные щеки. Толпа, обступившая испанцев, была такой плотной, что могла легко раздавить их. Зефирина догадывалась, что несмотря на свой гордый вид, Фернандо де Сото опасается этих людей. – Оставайтесь позади меня, сеньора, – прошептал конкистадор. Уцепившись за свою хозяйку, мадемуазель Плюш и Пикколо усиленно крестились, чтобы отвести от себя дурной глаз индейцев. Зефирина улыбалась детям, приветствовала женщин и мужчин. Она понимала – опасаться нечего. Сбывалось предсказание их Виракоши: инки предлагали подарки посланцам «белых богов, спустившимся с небес»! Они стекались со всех сторон. Среди них были священники, одетые в белые шерстяные стихари, окаймленные красной бахромой. Эти святые люди носили на голове тиары, украшенные золотым солнцем, над которыми вздымались перья попугая. – В конце концов их священники носят костюмы, похожие на одеяния наших епископов, не считая перьев! – прошептала Зефирина монаху Вальверде. Служитель божий ответил разъяренным взглядом. Он ненавидел эту сатанинскую женщину и этих злосчастных неверных. Соединение с армией Франциско Пизарро состоялось вечером. Как и опасалась Малинцин, негодяю и его братьям даже не пришлось стрелять из пушек для устрашения туземцев, он официально объявил себя Виракоша, богом инков, который пришел по волнам. Всю вторую половину дня происходили празднества и танцы в честь богов Манко Капас и Маммы Оккло, сына и дочери солнца! Чтобы достойно отпраздновать это событие, жрецы привели грациозное животное с длинной шеей и длинной коричневой шерстью – ламу – и перерезали ей горло, принеся в дар светилу. Зефирина отвернулась. Она не переносила вида крови, даже крови животного. – Варвары! Безбожники! Еретики! – метал громы и молнии доминиканец Вальверде. Этот монах ужасно раздражал Зефирину. Она вместе с Плюш и Пикколо решила попытаться разыскать в толпе солдат Диего де Альмагро. Очень быстро она узнала все, что хотела. По словам испанцев, Альмагро высадился на двадцать пять лье ниже Тюмбеса и уехал в неизвестном направлении. Зефирина раздумывала, как ей поступить, когда заметила братьев Пизарро, Фернандо де Сото и монаха Вальверде, которые поднимались на борт, чтобы подготовиться к своей «конкисте». Оставив Плюш и Пикколо на берегу, Зефирина проскользнула на бригантину в смежную с залом совета каюту, где могла, никого не страшась, слушать, о чем беседуют знаменитые капитаны. Первым заговорил Франциско Пизарро: – Я дал приказ Альмагро не ждать нас здесь, а двигаться прямо в центр страны. – Но, Франциско, разве нам не следует идти на север в Кито, столицу владений инки Атагуальпы? – перебил Сото. Франциско Пизарро насмешливо возразил: – Ты меня за ребенка принимаешь, Фернандо. Вот уже два года, как я завербовал шпионов среди здешнего населения[227]. Это мне обошлось достаточно дорого! Значит, вы не поняли? У инков сейчас в самом разгаре гражданская война. Император Атагуальпа оставил Кито и направился на юг, он выиграл очень важное сражение у своего сводного брата Гуаскара здесь в Кахамарке… Посмотрите на карту, которую я нарисовал, дубовые головы, если хотите понять. Страна большая. Мы находимся здесь, в Тюмбесе… над нами Кито… Спустившись к югу, мы окажемся в Кахамарке, где остановился инка Атагуальпа, затем ниже в Куско, где Гуаскар был окружен сторонниками своего брата. Эта семейная распря превосходно служит нашему делу! – Каковы в точности твои намерения, Франциско? – спросил Сото. – Нас двести человек, население этой страны, по-видимому, миллионное. Все очень хорошо организовано… У них мощеные дороги, гораздо лучшие, чем в Испании, армия, система постов, мостов, оборонительных сооружений, они очень развиты и… – До чего же ты любишь болтать, Сото! – прорычал Пизарро, – ты боишься? Давно ли десять миллионов дикарей стали стоить хотя бы одного солдата Карла V? Не является ли Испания мечом Божьим? Ведь не позволим же мы неверным падать ниц перед идолами и приносить Человеческие жертвы. Ваше мнение, отец мой? Услышав шепот монаха Вальверде, Зефирина поняла, что он читает молитву. – Согласен, сын мой. – Вы хотите знать, что я намерен делать. Что же, взять их, вот так, одной рукой! Пизарро раздавил орех в своей рукавице. – Тебе известно, что мы последуем за тобой в ад, Франциско. И если мы колеблемся, не из страха. Просто этих макак уж очень много, – сказал Гонсало Пизарро. Голос Франциско смягчился: – Я понимаю вас, друзья мои. Доверьтесь мне, как я доверяю вам. Чтобы успокоить вас, я открою один секрет: с этим идиотом Альгамбро я отправил сообщника… очень умную женщину, преданную нашему делу. Донья Мария – это отличный друг нашего императора Карла V! Поверьте, она ловко устранит все препятствия. Отправимся туда, друзья мои, в Кахамарку, чтобы повидать инку! Только не забывайте повторять всюду, что мы – возвратившиеся белые боги! Как бы ни было жарко, не снимайте доспехов, которые их ослепляют. Дайте подобный приказ своим людям! Инки никогда не видели лошадей. Чтобы напугать дикарей, гарцуйте, заставьте скакунов вставать на дыбы! Все понятно? Отец мой, благословите нас на доброе дело. – Благословляю вас во имя Отца, Сына и Святого Духа, дети мои… – Когда выступаем, Франциско? – спросил Сото. – У нас есть время подготовиться. Мы снимаемся с места через три дня. Зефирина слышала уже достаточно. Несмотря на жару, возвращаясь к себе в каюту, она вся дрожала. «Таким образом, донья Гермина – сообщница Пизарро, готовая заманить инков в ловушку. Волчица не удовольствовалась тем, что похитила Луиджи у матери, ей захотелось новых приключений!» Зефирина в спешке собрала кое-какие вещи, сменное белье, – все пожитки завернула в шаль. Затем сошла с бригантины так же тихо, как и поднялась на нее. Солдат охраны узнал ее и поприветствовал княгиню. Зефирина отыскала среди толпы мадемуазель Плюш и Пикколо, которые очень нервничали, оставшись ждать среди инков. В нескольких словах молодая женщина передала им содержание беседы, свидетельницей которой стала. Она решила уехать из Тюмбеса, чтобы опередить конкистадоров. Имя Пандо-Пандо оказалось известным в городе. Какой-то подросток отвел Зефирину и ее спутников к квадратному кирпичному дому с соломенной крышей, свидетельствовавшей о привилегированном положении хозяина. Пандо-Пандо приветливо принял Зефирину. В ушах он носил длинные золотые серьги. – Ты, бледнолицая богиня, быть вместе с богами, спустившимися с неба! – сказал Пандо-Пандо на исковерканном испанском. – Я – Зефирина, – ответила Зефирина, не желая выдавать себя за ту, которой не являлась. – Моя сестра Малинцин послала меня к тебе. Имя Малинцин распахнуло настежь двери дома инки. Ужиная вместе с Пандо-Пандо и его супругой жареным маисом и пюре из красной фасоли, Зефирина объяснила индейцу, что ей необходимо добраться как можно быстрее до Кахамарки и найти своего ребенка, похищенного злой женщиной с черными глазами! – Мы выходить вместе с солнцем! – без колебаний произнес индеец. Он предложил своим гостям на ночь шкуру ламы, разложенную на сене. Зефирина заснула между мадемуазель Плюш и Пикколо. Когда она проснулась, жена Пандо-Пандо мыла волосы какой-то желтой жидкостью. – Смотрите, сударыня, вот что делает их волосы такими красивыми! – восхитилась Плюш. Зефирина спросила Пандо-Пандо об этом таинственном растворе индейских женщин. Гордый ответ инки заставил троих путешественников окаменеть от изумления: как все женщины инки, госпожа Пандо-Пандо мыла голову своей собственной мочой! – Ты не мог идти так, бледнолицая женщина! Ни ты, старая богиня, пришедшая с неба, – добавил Пандо-Пандо, взглянув на мадемуазель Плюш. Та перепугалась. – Помилосердствуйте, сударыня, что он хочет этим сказать? – Чтобы мы сняли наши испанские одежды, Плюш! – Боже милостивый! Ничто меня не спасет! – стонала бедная Артемиза, пока Пандо-Пандо протягивал ей превосходный костюм инки: рубашку, штаны из белого хлопка и коричневый плащ. Часом позже в сопровождении четырех лам, которые везли небольшой багаж, Зефирина, мадемуазель Плюш и Пикколо двинулись в путь вслед за Пандо-Пандо. Маленький отряд в туземной одежде не привлекал внимания. Сначала путь лежал вдоль берега. Пейзаж быстро менялся: на смену тропической растительности пришли чахлые жители пустыни, источники попадались редко. Началась пустыня Сешура. Зефирина и ее спутники страдали от жажды. Пандо-Пандо бережно разделил между ними сок коки[228] и лимона. – Если бы только эти грязные твари повезли нас, как хорошие лошади. Помогите мне, Пикколо! – Заявила Плюш, пытаясь забраться на спину ламы. Смачный плевок в лицо Артемизы Плюш был ответом животного. – Лама возить не очень тяжелый, не тебя, старая бледнолицая богиня, – заметил Пандо-Пандо. Уязвленная словами инки и поведением ламы, Плюш, ворча, продолжила путь пешком. Ночью они спали бок о бок, но все равно дрожали от холода. На следующий день показалось подножье Горы[229]. Ее огибала превосходная мощеная дорога. – На каком мы расстоянии, Пандо-Пандо? – поинтересовалась Зефирина. Инка пустился в сложные объяснения. На веревке, которую он назвал quipou[230], он принялся делать узелки. Зефирина восхищалась изобретательностью инков, понимая, что узелки обозначают цифры. Промежутки между ними – нули. Более замысловатые узлы служили сложными числами. – Судя по его словам, думаю, что Тюмбес находится на расстоянии ста двадцати пяти лье[231] от Кахамарки, – объяснила Зефирина своим спутникам. – Иисус, Мария, Иосиф! Мы никогда не доберемся! – простонала Плюш. – Но Пандо-Пандо утверждает, что через гору пролегает самый короткий путь! – заметила Зефирина. После непродолжительных споров путники приняли решение следовать этим путем. Сначала все шло хорошо – мощеная дорога в шесть футов шириной петляла между лугов и фруктовых садов, изобилующих плодами. Затем тропинка стала все круче, она вилась по пастбищам, лесам, иногда проходила по краю глубоких ущелий. Пандо-Пандо шел впереди, беззаботно относясь к трудностям пути. Зефирине иногда стоило большого труда уговорить мадемуазель Плюш и Пикколо продолжать путь. По дороге она расспрашивала Пандо-Пандо о цивилизации инков. Система письменности как таковая у них отсутствовала, но были идеограммы, нарисованные на ткани, которые их проводник изобразил на земле. Всегда жаждущая новых знаний, княгиня просила преподать ей начальные знания кечуа, официального языка империи. Через несколько дней она уже знала сотню слов, догадавшись, что их звуки – что-то среднее между «б» и «в», «н» и «л», «о» и «у», «и» и «е». Иногда путешественников обгоняли бегущие chasquis[232]. Они носили шляпы с перьями и головную повязку в форме звезды на лбу. Пандо-Пандо объяснил своим спутникам, что инки бегуны разносят послания в четырех направлениях империи. У них есть сменные пункты на дороге и в горах. С помощью раковин они подают сигнал, услышав который, один chasquis бежит к другому, чтобы взять послание. Зефирина поняла, что таким образом новости могут передаваться на огромные расстояния – до шестидесяти лье в день[233]. По мере того как текли дни и отряд продвигался все дальше в глубь страны, Зефирине становилось все спокойнее за инков, поскольку она убеждалась в их уме, замечательной организации, силе. Путешествие проходило спокойно, но Зефирине казалось, что они слишком медленно продвигаются. Ей хотелось взвиться в небеса над горами, чтобы вырвать как можно быстрее Луиджи из когтей доньи Гермины. – Вперед, бледнолицая женщина… Но Зефирина, услышав этот крик Пандо-Пандо, в испуге попятилась назад. Висячий мост качался между двух скал: несколько досок, подвязанных четырьмя тросами из растительных волокон. Среди скал продрогшие путешественники встретились лицом к лицу с вечными льдами. Пандо-Пандо дал им по шкуре ламы, чтобы укрыться. Холодное солнце освещало вершины гор. В небе парили кондоры. Зефирина и ее спутники дрожали, не решаясь ступить на такой ненадежный мост. Словно не видя пропасти, на дне которой бесновался горный поток, Пандо-Пандо прошел по мосту вместе со своими ламами, такими же равнодушными к бездне, как и он. – Иди же, старая бледнолицая богиня! – крикнул Пандо-Пандо мадемуазель Плюш. Зеленая от страха и холода, Артемиза спряталась за Зефириной. – Я, сударыня, лучше умру здесь, мне никогда не перейти на тот берег, – решила она. – Я тоже не пойду, это не мост, это качели на дьявольских лианах, – заявил Пикколо. – Тебе идти, Зефирина, бледнолицая сестра Малинцин… тебе, отважной женщине! Крик Пандо-Пандо подбодрил Зефирину. Она видела лишь один выход преодолеть страх. Встав на колени, она на четвереньках двинулась по мосту. – Плюш и Пикколо, за мной! Это приказ! Или вы останетесь одни! – крикнула Зефирина. Она двигалась вперед с закрытыми глазами. Увидев, что хозяйка покидает их, Артемиза и Пикколо решились последовать за ней таким же манером. На другом берегу веселился Пандо-Пандо, видя «белых богов, спустившихся с небес», ползущих по злосчастным мосткам на четвереньках. – Видишь, бледнолицая женщина, – сказал индеец, помогая действительно очень бледной Зефирине прийти в себя, – если нападение врага, инки разрушать мосты! – Но, Пандо-Пандо, нападение началось, испанцы – за нами, а вы ничего не предпринимаете! – возразила Зефирина. Казалось, инка не понял. – Виракоша вернуться! Виракоша очень добрый! Он стоял на своем. Зефирина схватила поводья своей ламы, и маленькая группа вновь пустилась в путь по скалам. На следующий день после ночевки в гроте путешественники вышли на плато. Зефирина и ее спутники были на последнем издыхании, ноги у них подкашивались. А под ними расстилалась огромная долина. Гора напротив вся состояла из уступов. От подножья и до вершины ее покрывали сады и террасы. Белые с золотыми крышами дворцы города утопали в роскошной зелени парков. Город был окружен огромным количеством палаток. Около сорока – пятидесяти тысяч инков защищали это неприступное место, лагерь их императора. Пандо-Пандо протянул руку: – Вот Кахамарка!ГЛАВА XXVIII ВЕРХОВНЫЙ ИНКА
Зефирина поклонилась до земли. Она видела, что так делали именитые граждане, представ перед Верховным Инкой. Стоявшие сзади мадемуазель Плюш и Пикколо последовали ее примеру. Император Атагуальпа тихим голосом расспрашивал Зефирину. Пандо-Пандо служил переводчиком. – Всемогущий верховный Инка спрашивает, бледнолицая женщина с зелеными глазами, кто ты и откуда? Через три дня после своего появления в Кахамарке, Зефирине удалось, наконец, добиться аудиенции. Среди двадцатитысячного населения города она повсюду искала донью Гермину, но не находила никаких следов. В окружении сорока тысяч воинов, своей семьи и двора Верховный Инка жил в одном лье от города во дворце с фонтанами с теплой и холодной водой. Император готовился к походу на столицу своей империи – Куско. Атагуальпа сидел на очень низком стуле. Его окружали женщины, закутанные в переливающиеся ткани, покрытые разноцветными камнями, и придворные сеньоры с длинными серьгами в ушах, грудь их была усыпана золотыми пластинками. Зефирина чувствовала себя нищей в своем хлопковом одеянии. Она сожалела, что не смогла привезти с собой роскошные платья с кринолинами, подаренные Кортесом. Восхищение инков подействовало бы на нее благотворно. Одетый, словно божество, – белая туника из вигоневой шерсти, колени перевязаны золотыми лентами, на плечи наброшен длинный плащ с геометрическим рисунком, разноцветные галуны с длинной красной бахромой до самых глаз, голова увенчана короной из драгоценных камней, на которой развевались белые и черные перья, – Атагуальпа явно с недоверием относился к той, кого удостоил своими расспросами. – Скажи его величеству всемогущему верховному Инке, сыну Виракоши, хозяину красоты солнца, что я друг, пришла предупредить об опасности – враги в его стране. Пусть его величество встретит их любезно, как гостей, но остерегается и не дает слишком много власти… Пока Пандо-Пандо, согнувшись пополам, переводил ее слова своему государю, Зефирина смогла лучше рассмотреть Атагуальпу. Это был тридцатилетний мужчина с красивым медным лицом, загадочный и грустный. Его, словно выточенный из красного дерева, профиль напоминал хищную птицу. Внезапно Зефирина побледнела: на шее у Верховного Инки красовалось колье из изумрудов необыкновенной величины и блеска. Это была увеличенная копия трех таинственных колье дочерей Саладина[234]. Но в этом колье все символы объединились в один. Украшение заканчивалось тремя центральными камнями, которые сжимал в когтях орел, обвивала кольцами змея и пожирал леопард. В отличие от трех колье, которые Зефирина держала в руках, центральные камни были расположены на массивном золотом нагруднике, оправленном в драгоценные камни, которые складывались в изображения трех треугольников, пересеченных стрелой, трех кругов с факелами, трех прямоугольников, пронзенных копьем. Те же, что и в гроте на Канарских островах… Те же, что и сиреневатые пластинки, которые носила на шее Зефирина. Она машинально нащупала медальон под своей хлопковой белой рубашкой. – Ты не ответила, бледнолицая женщина, – проговорил Пандо-Пандо. – Хм, ты можешь повторить, друг? Зефирина совершенно не слышала вопроса. – Сапа Инка, всемогущий повелитель, в бесконечной доброте своей желает знать, откуда ты, бледнолицая Зефирина? – Из страны, находящейся по другую сторону океана, управляемой великим королем, добрым и милостивым…, – подумав о Франциске I, ответила Зефирина. – Верховный Инка, Властитель Всего хочет знать: твой король могущественнее, чем он? – Конечно, нет. Мой король велик и силен, но он «брат» Верховного Инки на земле. – Верит ли он в Виракошу? Зефирина не колебалась. – Как и Всемогущий верховный Инка, мой король верит в Господа, властителя всего, что существует на земле. – Почему ты осмелилась сказать Великому Инке, чтобы он не доверял возвращению Виракоши, господина небесного океана? – Слушай внимательно, Пандо-Пандо… Объясни его величеству Сапе Инке, что чужеземцы с белыми лицами, как мое, не дети вернувшегося Виракоши, они всего лишь люди… Испанцы с другого берега океана… – Святотатство! Верховный Инка, хозяин всех земных плодов, очень недоволен, бледнолицая Зефирина! – дрожа проговорил Пандо-Пандо. – Инка знает, что ты лжешь! Появившиеся из океана белые боги пришли, чтобы короновать его. Они уже недалеко… Извинись, бледнолицая Зефирина! – добавил испуганный Пандо-Пандо. – Боже мой, сударыня, что вы наделали?! – прошептала Плюш. Верховный Инка поднялся со своего трона. Свита столпилась вокруг него. Его глаза метали молнии ярости. Зефирина поклонилась, приложив руку к сердцу. – Мои намерения чисты, Сапа. Инка, властитель земли и гор. Пусть его величество поверит в мою искренность. Если кто-то, Пандо-Пандо, утверждал, что чужеземцы – боги, он или она лгали… Объясни его величеству Верховному Инке, властителю всемогущего трона, что бледнолицая женщина с черными волосами, называющая себя доньей Марией, распространяет ложные слухи… Белые люди, пришедшие с моря, не Виракоша, а сама эта женщина украла моего ребенка! Атагуальпа испустил гортанный крик. Его палец протянулся к Зефирине. Двенадцать стражников с длинными серьгами в ушах, белых туниках и с серебряными пиками в руках бросились на молодую женщину и ее спутников. Когда ее тащили, Зефирина услышала смех. Она вздрогнула. Этот смешок она узнала бы даже в аду. Она обернулась, уверенная в том, что, спрятавшись под вуалью, среди придворных дам, здесь присутствует донья Гермина. Расстроив замысел своей падчерицы, волчице удалось втереться в доверие наивному инке. Как она должно быть, веселилась, злодейка, глядя на согнувшуюся в поклоне перед Атагуальпой Зефирину. – Я действительно сожалею, Пандо-Пандо! – Только и сказала Зефирина, а стражники без всяких церемоний бросили их всех четверых в каменный мешок. – Несмотря на всю вашу ученость, сударыня, вы не поняли, что не всегда полезно говорить правду. И с некоторыми людьми ничего нельзя поделать, если они отвергают реальность! – с упреком пробормотала Плюш. Снаружи лило как из ведра. Зефирину и ее спутников поместили в отсыревший карцер. Когда наступила ночь, стражник бросил им немного пищи. Узники разделили между собой странные сухие клубни chuno[235], которые мадемуазель Плюш нашла отвратительными. Они выпили немного воды из глиняного кувшина. Зефирине показался странным вкус этой застоявшейся воды. Как и ее спутников, ее клонило ко сну, и она быстро уснула на сырой соломе. Ей снился Каролюс. Он положил ей на лоб руку и шептал: «Не беспокойся, Зефирина, я здесь… я охраняю Луиджи, и тебя тоже я охраняю… Спи, племянница, бедное мое дитя». Пальцы карлика слегка касались ее шеи. Задыхаясь, она хрипло вскрикнула, затем восторженно вздохнула. Ее сжимал в объятиях Фульвио, она чувствовала на губах вкус его губ. Зефирина протянула руки к Фульвио, она чувствовала на губах вкус его губ. Она протянула руки к Фульвио, к своему любимому… Вздрогнув, Зефирина проснулась. Она была закутана в одеяло из шерсти гуанако, ее спутники тоже. Какая-то добрая душа принесла им ночью эти теплые покрывала. Зефирина зябко запахнула на груди рубаху. Пальцы искали цепочку медальона. Ее не было. Ползая на четвереньках по соломе вместе со своими друзьями, Зефирина обшарила темницу, но безуспешно. Пришлось признать очевидное. Пока она спала, у нее украли медальон с тремя таинственными пластинками. Она вспомнила свой сон и руки, гладившие ее по лбу. Приходил ли этой ночью Каролюс? И зачем? Чтобы похитить драгоценности? Может быть, это он принес одеяла? Больше всего Зефирина сожалела о пряди волос Луиджи. Несмотря на шерсть гуанако, она дрожала от холода, поскольку Кахамарка находилась высоко в горах. При мысли о сыне, который, возможно, находился совсем близко, ею завладело отчаяние. Под стук дождя они провели в отсыревших стенах еще один мрачный день. После полудня стражник швырнул им маисовую похлебку. Изголодавшиеся узники проглотили все до последнего зернышка. Иногда Зефирина слышала в крепости шаги. Она вздрагивала, уверенная, что сейчас появится донья Гермина с кинжалом в руке, чтобы зарезать ее. Ничего подобного не происходило. Таким образом прошло три дня. Чтобы не потерять счет времени, Зефирина делала пометки на стене с помощью камешков. Узники покрылись грязью, их одолели паразиты, они страдали от голода, от изоляции, от ужасного холода по ночам (без одеял они бы погибли) и прежде всего – от неизвестности. В качестве развлечения Пандо-Пандо перечислял им весь набор наказаний, к которым caracas[236] могут их приговорить за оскорбление величества Верховного Инки. – Сапа Инка приказать запереть нас вместе с жабами, змеями, крысами, выколоть левый глаз, повесить нас за волосы на дереве… или забросать камнями… Но если Сапа Инка будет очень добрый, мы получать только сто ударов хлыста, публичное внушение и конфискацию имущества! Мадемуазель Плюш сопровождала эти перечисления звуками вроде «Ай, ай, ай», и стонами, которые в других обстоятельствах были бы смешными. Зефирину мучила совесть за то, что она увлекла за собой бедную Артемизу и Пикколо в эту незнакомую страну. На утро четвертого дня Зефирина и ее друзья были выведены из состояния прострации ужасающим шумом: гремели барабаны, трубы, ржали лошади, раздавались выстрелы. Стены дрожали. Палили из пушек. – Испанцы! – прошептала Зефирина. Она забарабанила в дверь. Стража, видимо, бежала. – Нужно колотить в дверь без перерыва! – приказала она. Два часа они, сменяя друг друга, выли, звали на помощь, стучали, обдирая руки о стены, кричали через решетки слухового окна. Они уже отчаялись быть услышанными, когда чудо свершилось. Дверь карцера раскрылась, на пороге стоял Фернандо де Сото. Никогда еще Зефирина не была так счастлива при виде испанца. От волнения она уткнулась носом в его кольчугу. – Святая Дева, княгиня, что с вами сделали эти дикари? Зефирина ушла от ответа, рассказав лишь о путанице, вызвавшей недовольство Верховного Инки. Вместе со своими спутниками она последовала за Фернандо де Сото. Теперь в Кахамарке воцарилась тишина. Испанцы вошли в город с помпой, чего и добивался Пизарро. Кавалькада и выстрелы пушек совершили чудо. Большинство испуганных жителей, решивших, что видят перед собой белых богов, убежало к лагерю своего государя, а оставшиеся поступили на службу к испанцам. Пизарро расположил свою штаб-квартиру в опустевшем дворце. – Вы нас тайно покинули, сеньора… и вот результат! – увидев Зефирину, усмехнулся он. Трое братьев издевались над ней. Зефирине хотелось дать им пощечину. С достоинством она объяснила конкистадорам, что у нее не было времени предупредить их о своем отъезде, так как ее торопило дело личного свойства. Конечно, она не упомянула о донье Гермине. Пизарро притворился, что верит ей. В глубине души он смеялся над этими сказками глупой женщины. Если она станет слишком докучать ему, он найдет способ избавиться от нее. Но пока она подруга Кортеса, да и де Сото, кажется, питает к ней слабость. К тому же у Пизарро своих дел навалом! Он заключил безумное пари: с двумя сотнями солдат, изнуренных лишениями, покорить страну инков. Он отправил Фернандо де Сото с двадцатью всадниками в качестве посла к Верховному Инке. Ослепленный лошадьми и доспехами, государь не задержался с ответом: «Сапа Инка повелевает передать, что он лично приедет в город, чтобы принять посланцев Виракоши!» Под предлогом, что она хочет восстановить силы, Зефирина осталась во дворце в штабе Пизарро. Никто не обращал на нее внимания. Она видела, как конкистадор, потирая руки, приказывал: – Господа, Верховный Инка пожалует сюда… Приготовим западню! Трое братьев издевались над ней. Зефирина рассказала Пандо-Пандо о том, что готовится. Как предупредить верховного Инку? Пандо-Пандо сомневался, нужно ли возвращаться в лагерь властителя. – Сапа Инка не верить тебе… Сапа Инка недовольный, отдаст тебя главному священнику, чтобы зарезать за ложь вместо ламы! – любезно предупредил Пандо-Пандо. – Сударыня, будьте благоразумны… вы же видите, они не хотят верить вам. Подумайте о себе и о нас! – простонала Плюш. Трое братьев издевались над ней. Зефирина прислушалась к их доводам. Она не может в одиночку броситься в пасть к волку. Твердо решив разоблачить донью Гермину, которая, она была уверена, спряталась среди придворных властителя, Зефирина должна была сначала привести себя в порядок. Как всегда находчивый, Пандо-Пандо проводил ее с мадемуазель Плюш и Пикколо в покинутое жилище одного аристократа инки. Четверо друзей наслаждались покоем и комфортом. Четыре дня лишений истощили их силы. Чтобы прогнать усталость, Пандо-Пандо приготовил им сок коки с капелькой лимона. Выпив этой жидкости, трое европейцев почувствовали себя превосходно. Посреди двора находился каменный бассейн, где бил теплый источник. Зефирина и мадемуазель Плюш скинули свое тряпье и с удовольствием помылись. Пока мужчины принимали ванну на другом дворе, женщины прошли в комнату, которая, видимо, служила спальней хозяину дома. Стены украшали ковры с вытканным разноцветным рисунком. Зефирина надела голубую тунику из вигоневой шерсти, с разрезом на боку. Она добавила к этому костюму шаль, застегивающуюся на груди золотой булавкой. Княгиня отыскала такой же, только красный, костюм для Плюш. Чепчик, защищающий от холода, и длинные золотые серьги дополняли ансамбль. Удовлетворенная своим нарядом инки аристократки, Зефирина вместе со спутниками вернулась в штаб-квартиру Франциско Пизарро. На главной площади Кахамарки конкистадоры готовились к исторической встрече. Уже темнело. Зажгли факелы, Зефирине вспомнился «Золотой лагерь» во Франции. Испанцы, встав на колени, исповедовались и причащались, не снимая доспехов. Мало-помалу стали возвращаться жители города. Они уже без страха взирали на новых богов. Людей становилось все больше и больше, собралась многотысячная толпа. Зефирина немного успокоилась – что может сделать горстка солдат против этой массы народа? Спрятавшись среди инков, она наблюдала за Пизарро. Как и его солдаты, он надел свои лучшие доспехи. На боку пристегнута шпага, на руках – железные рукавицы. Вслед за монахом вместе со своей свитой Пизарро пел старинный священный псалом: Excurge Lomine et judicia causam tuar (Явись, Господи, и будь судией дела своего). Освещенные языками пламени, глаза Пизарро под шлемом сверкали, как горящие угли. Зефирина вздрогнула. Этот человек, словно брат, был похож на донью Гермину. Он носил в себе дьявольскую ненависть!ГЛАВА XXIX ЗАПАДНЯ
Колыханье перьев и тканей возвестило о прибытии Верховного Инки. Зефирина поднялась на цыпочки. Сотни слуг, одетые во все красное, подметали дорогу пальмовыми листьями, чтобы очистить ее от пыли. Хриплое пение – что-то вроде речитатива – вылетало из их глоток. За ними двигались yanas[237], которые несли золотые вазы и серебряные молоточки. – Что на них нашло? Зачем они вытащили все свои богатства? – прошептала Зефирина, увидев заблестевшие глаза испанцев. – Дань уважения Виракоши, – ответил Пандо-Пандо с удовлетворенным видом. В своих клетчатых одеждах медленно вышагивали впереди стражники, вслед за ними появились благородные воины в синих туниках с тяжелыми золотыми подвесками в ушах. Это были, как догадалась Зефирина, телохранители императора. Наконец, показался паланкин Верховного Инки, украшенный золотыми пластинками и перьями попугая, которые носили лишь самые важные сановники королевства. Верховный Инка предстал перед своим народом и испанцами, словно идол, возвышающийся на массивном золотом троне. За ним помещались на меньших носилках члены его семьи и любимые наложницы. Среди многочисленных жен Зефирина заметила одно юное создание, чья красота немного напомнила ей красивый разрез глаз и экзотическую прелесть Малинцин. – Это принцесса Наска Капак… любимая сестра Сапа Инки Атагуальпы, – сказал Пандо-Пандо Зефирине. Молодая женщина заметила горящие взгляды солдатни. К жажде золота примешивалась похоть, ведь они так долго не видели женщин. Пока все шло хорошо. «Пизарро понял, что их слишком много. Он не осмелится ничего предпринять», – успокоившись, подумала Зефирина. На холмах, окружающих Кахамарку, она увидела тысячи солдат инков. Все же Атагуальпе нельзя было отказать в предусмотрительности. Кортеж выехал на площадь. Вместе с Плюш и Пикколо Зефирина лихорадочно искала под шляпками и вуалями женщин инков донью Гермину. Ни одна фигура, ни одно лицо не напоминало это исчадие ада. – Негодяйка опять от нас ускользнула, – сокрушалась Плюш. В костюме инки, с надвинутым на уши чепцом, с покрасневшим носом Артемиза выглядела чрезвычайно уморительно. Придворные поставили паланкин Верховного Инки перед ступенями дворца. Внезапно Зефирина заметила, что на площади не осталось ни одного испанского солдата. Они исчезли как по волшебству! У входа стоял только монах доминиканец Винсенте де Вальверде. Зефирина сделала знак Пандо-Пандо и своим спутникам. Расталкивая толпу локтями, они пробрались к Верховному Инке. Зефирина понимала, что властитель тоже удивлен отсутствием посланцев Виракоши. Монах подошел к паланкину. В одной руке он держал Библию, в другой – распятие. – По приказу моего государя я должен изложить вам, монсеньор, доктрину истинной веры… – громко провозгласил доминиканец. Верховному Инке перевели. По мере того как монах говорил о Триединстве, о созданиичеловека, об искуплении Христа, о первородном грехе и об едином Боге католической веры, удрученная Зефирина видела, как на красивом медном лице Атагуальпы появляется изумление. – Пусть король инков отречется от своих ошибок, пусть примет истинную веру, признает власть испанского короля, которого будет почитать как верный вассал. Тогда он будет спасен! – закончил монах, протягивая Атагуальпе для поцелуя Библию и распятие. Сапа Инка взял их с отвращением, повертел в руках, затем издал хриплый крик, который дрожащий переводчик объяснил: – Инка Всемогущий не вассал! Он не знает триединого, и единственного Бога, о котором ты говоришь, иностранец, он знает только Виракоши, сына солнца, высшего Бога! Гневным жестом Атагуальпа швырнул Библию и распятие на землю. – Боже мой! – прошептала Зефирина, сложив руки. – Святотатство! Святотатство! – гремел монах. Видимо, это было паролем, поскольку на ступеньках появился Франциско Пизарро. Он развязал свой белый шарф и принялся размахивать им над головой. Это послужило сигналом. Монах истерично завыл: – Идите сюда, сыновья Господа! Они ваши, я даю вам отпущение грехов! Испанские солдаты высыпали из укрытий на площадь, оглашая ее криками: – Святой Иаков! Нападаем на них! Жерла пушек, спрятанных за охапками соломы, извергали пламя. Из-за повозок аркебузиры начали обстрел. Перескочив через изгородь, всадники принялись рубить саблями стражников Верховного Инки. Зефирина и ее спутники отползли в сторону, укрывшись за стеной. Сцена была ужасной. Оглушенные адским грохотом канонады, подвергшиеся нападению бородатых демонов, задыхающиеся от дыма инки, испуганные этим «небесным огнем», не знали куда бежать. Стражники Верховного Инки бесстрашно защищали своего властителя. Пиками они пытались проткнуть покрытых попонами лошадей и были безжалостно зарублены. Инки пытались укрыться во дворце. Их рубили саблями или убивали аркебузиры, спрятавшиеся за колоннами. Кончилось тем, что во время всей этой суматохи королевский паланкин рухнул. Выброшенный на землю жалкий, униженный Сапа Инка выполз из портшеза. Он оказался недалеко от стены, где укрылась со своими спутниками Зефирина. Молодая женщина сделала знак Пандо-Пандо и Пикколо. С риском для жизни, поскольку костюмы инков подставляли их под сабли завоевателей, Зефирина и ее друзья вышли из укрытия, чтобы добраться до Сапы Инки. Под радостные вопли испанцев и крики умирающих Зефирина проскользнула к тому, кто еще минуту назад был абсолютным властителем своего королевства. Видимо, Атагуальпа получил сильный удар по голове. Он лежал без чувств среди золотых помпонов своего трона. Возбужденные видом крови, всадники перескакивали через тело, рубили все, что шевелилось. Зефирина сняла свой чепчик индеанки. Вид ее золотистых волос остановил саблю Фернандо де Сото. – Сударыня, что вы здесь делаете? Зефирину загораживали Пандо-Пандо и Пикколо, она же оберегала безжизненное тело Верховного Инки, обхватив его голову руками. Он еще дышал. Зефирина взъерошила его черные волосы, склеившиеся от крови и пыли, и удивленно вскрикнула. На шее за ухом у Сапа Инки темнело родимое пятно: роза… кровавая роза… на коричневой коже. Какие узы соединяли Луиджи, Карла V и Инку Атагуальпу? Несчастный владыка открыл глаза и увидел склонившуюся над ним Зефирину. Лицо его исказилось ужасом. – Кровожадная богиня! – прошептал он. Внезапно раздался крик: – Шайка идиотов! Верховный Инка жив! Пизарро появился среди всеобщей бойни. Капитан опасался, как бы его люди не убили Верховного Инку. Перешагивая через трупы, которые кровавым ковром устилали землю, Пизарро бросился к Зефирине. – А вы не так глупы, как остальные, – прорычал он вместо благодарности. Пинком сапога он отбросил в сторону Пандо-Пандо, Пикколо, схватил Атагуальпу за волосы и потащил внутрь дворца. Фернандо де Сото спешился. – С вами ничего не случилось, сударыня? – осведомился он, обеспокоенный видом Зефирины с пятнами крови на лице. Молодая женщина вытерлась тыльной стороной руки. – Нет, капитан, все хорошо… если можно так сказать. Она с отвращением смотрела на побоище. Жители Кахамарки разбежались. Войска Сапы Инки, избежавшие резни, скрылись в горах. Те, что должны были спуститься для атаки, остались на вершинах, окаменевшие от ужаса. Ошеломленная, Зефирина стояла на залитой кровью площади. За несколько минут мир перевернулся. Где-то рядом раздался вопль. Это была мадемуазель Плюш, которую тащил торжествующий испанец. Он считал, что захватил знатного вельможу. – Остановись, кретин, это моя дуэнья! – крикнула Зефирина. Она стащила с несчастной Артемизы, которая была ни жива ни мертва, чепец. Увидев седеющие волосы достойной девы, конкистадор выругался и бросился догонять своих. Начался грабеж. Солдаты вламывались в дома, грабили сокровища инков. – Сударыня, – проговорил Сото, – в знак благодарности капитан Пизарро приглашает вас на ужин! Зефирина решила, что ослышалась. – Что вы сказали, Сото? – Франциско Пизарро будет счастлив видеть вас за ужином! «Да это же звери!..», – думала Зефирина, вслед за Сото входя во дворец. Оставив Пандо-Пандо и мадемуазель Плюш в кабинете под охраной Пикколо, она присоединилась к победителям. Прямо среди трупов, словно ковром устилающих дворцовый зал, Пизарро приказал устроить роскошное пиршество. Среди приглашенных, кроме Зефирины, были также его трое братьев, Сото, принцесса Наска Капак, сестра Верховного Инки, и сам Атагуальпа. Свергнутый властитель пытался сохранить достоинство. Зефирине было очень жаль его, горло сжималось, она не могла проглотить ни кусочка. Это был кошмарный ужин. Очень веселый, Пизарро ворковал с принцессой инкой, которую окрестил «донья Инес». Потрясенная Зефирина догадалась, что сестра Атагуальпы не осталась равнодушной к чарам негодяя-конкистадора. За десертом Пизарро занялся Верховным Инкой. – Ситуация очень проста, монсеньор. В Куско вы оставили пленника, здесь, в Кахамарке, вы наш пленник. Но мы, испанцы, готовы скорее вас признать принцем этой страны, чем Гуаскара… За свою свободу что вы можете дать мне из золота? Зефирина предчувствовала, что сильнее всего потрясет Атагуальпу эта скрытая угроза Пизарро: «Если вы не станете сотрудничать с нами, я признаю вашего брата Гуаскара королем инков…» Атагуальпа встал и поднял руку над головой. – Золото… много, вот так! – Высотой шесть футов… неплохо, – произнес Пизарро. – Сделка заключена. Пизарро показал пальцем на изумрудное колье и золотую пластину Атагуальпы. – Для начала в залог нашей «дружбы» подарите мне эту безделушку. Колье Сапы Инки перешло к завоевателю. Довольный Пизарро сжал руку пленника. Тот не сумел сдержать гримасу отвращения, и Зефирина поняла, что он глубоко переживает свой позор. Ужин подходил к концу. Попрощавшись, Франциско Пизарро приказал провести Верховного Инку по дворцу, превратившемуся в тюрьму для высокопоставленных особ. – Княгиня Зефирина, я плохо думал о вас. Благодаря вашему хладнокровию, Верховный Инка жив и хорошо нам послужит для истребления всей этой швали. Мне бы хотелось отблагодарить вас. Чего вы желаете? – спросил Пизарро. Колье сверкало на его кирасе. Он указывал на добычу, которую притащили его солдаты: кувшины, блюда, золотые сосуды, серебряные птицы, декоративные пластины для кровли… лежали грудой во дворе перед дворцом. Чтобы не раздражать конкистадора Зефирина решила подыграть ему. Она выбрала массивную золотую чашу. – Вот это мне бы очень хотелось, капитан Пизарро. – С удовольствием. Возьмите это и еще что-нибудь, если хотите. Дьявол проявлял великодушие. Зефирина взяла сосуд. – Я восхищена тем, как ваша милость провели все дело… – Не правда ли? – важно произнес Пизарро. – Когда я думаю, что этот собака-инка осмелился бросить меня, урожденную княгиню, в подземелье… Зефирина прекрасно разыграла негодование. – Успокойтесь, макака за все заплатит. Я оставил ему жизнь только потому, что сейчас он нам полезен. Надо утихомирить население… Совсем скоро Сото отправится в Куско, чтобы сделать предложение Гуаскару… Мы выберем того, кто даст наибольшую цену… Но я остерегаюсь нападения со стороны дикарей. Пизарро почесал голову под каской. «Как бы поговорить с Атагуальпой?» У Зефирины возникла идея. – Мессир Пизарро, мой слуга Пандо-Пандо знаком с Атагуальпой. Позвольте мне пойти к нему с каким-нибудь угощением… Я попытаюсь войти в доверие и таким образом смогу помочь вам… узнаю то, что может вас заинтересовать. Обрадованный Пизарро попался в ловушку. Он отдал приказ своим лейтенантам. Через несколько мгновений Зефирину и Пандо-Пандо отвели в камеру Верховного Инки. Это была комната с железными решетками на окнах, пятнадцать футов в ширину и двадцать в длину. Обессилевший Атагуальпа лежал на шкуре ламы, брошенной прямо на пол. Куда девалась прежняя роскошь? Послушные приказу капитана стражники оставили Зефирину и Пандо-Пандо наедине с Верховным Инкой. – Мессир, если вы помните, я приходила как друг…, – прошептала Зефирина, протягивая Аатагуальпе фрукты. Несчастный с испуганным видом приподнялся и хрипло прошептал несколько слов. – Всемогущий Инка говорит, что у тебя дурной зеленый глаз, бледнолицая Зефирина. Он говорит, что добрая богиня предупреждала его. «Без сомнения, это донья Гермина говорила с Инкой!» – Пандо-Пандо, скажи его величеству, что его обманули. Женщина в черном, приходившая к нему, солгала. Я заклинаю открыть мне, где она находится. Всюду она сеет несчастья и смерть. И вот доказательство! Разве не предупреждала я Верховного Инку относительно испанцев? Не советовала остерегаться их? Пусть он скажет мне, где донья Мария. Пока Пандо-Пандо говорил, Зефирина ясно видела, что в душе узника происходит борьба. – Белая богиня в черном ошиблась, – заявил Атагуальпа. – Она уехала в Куско, но, преданная Верховному Инке, она собирается устранить его соперника. «Господи помилуй, донья Гермина пообещала убить Гуаскара!» – ужаснулась Зефирина. – Но ты не понял, Инка, – сказала она вслух. – Вам нужно договориться, брату и тебе! Если вы объединитесь, то сможете противостоять захватчикам, навязать им свою волю! Подавленный несчастьем, Атагуальпа повторял: – В королевстве ни одна птица не пролетит, ни один лист не упадет, если на это не будет моей воли. Вира-коша отомстит за Инку! Зефирина сжала руки Сапы Инке. – Виракоша ничего не сделает для тебя, если ты не будешь бороться, Атагуальпа… Скажи мне, заклинаю, был ли ребенок у той женщины в черном, у доньи Марии? Атагуальпа, поколебавшись произнес: – Ребенок предназначен храму солнца! Виракоше! Зефирина ничего не смогла больше вытянуть из властителя. Встав на колени на шкуру ламы, он повторял молитву своему Богу.Ах, Виракоша, властитель всего сущего,
Господин рождающего света, где ты?
ГЛАВА XXX ПУП ЗЕМЛИ
Было ли это следствием высоты или просто предчувствием? Зефирина взглянула на тысячи золотистых крыш, которые лежали у ее ног, и сердце ее забилось. Она почувствовала – путешествие подходит к концу. Здесь решится ее судьба. – Вот Куско, бледнолицая Зефирина, – объявил Пандо-Пандо. – На кечуа это значит «пуп земли». На высоте в десять тысяч пятьсот футов[239], в высокогорной долине, окруженной тремя горами, раскинулся Куско, императорский город с сотней тысяч жителей. Словно напоказ, он выставил свое богатство перед завоевателями. Переход из Кахамарки был стремительным. Путешествуя, как и мадемуазель Плюш, на крепкой маленькой андалузской лошадке, Зефирина страдала только от холода, когда пришлось пересекать горные цепи Анд. В двадцати лье от Кахамарки они встретились с Диего де Альмагро, который возвращался, исполнив поручение, с пушкой и двадцатью пятью солдатами. Впервые Зефирина увидела того, кто увез донью Гермину. У него было лицо мошенника, а взгляд убийцы. Зефирина сразу же возненавидела этого Альмагро. Внутренний голос велел ей не попадаться ему на глаза, и она спряталась в палатке, стоявшей рядом с палаткой капитана. Альмагро, отдыхая, разговаривал с Сото. – Надеюсь, этот воришка Пизарро оставил мою часть сокровищ. – Он ждет тебя в Кахамарке, Диего. – Самая тяжелая работа досталась мне. Я первый высадился, я всегда страдаю больше всех, – жаловался Альмагро. Это было основной темой разговора. Зефирина чувствовала, что Диего де Альмагро испытывает смертельную ненависть к Пизарро. У Зефирины возникло смутное предчувствие, что капитаны однажды перережут друг другу горло[240]. – Мне нужно вновь отправляться в путь… Я встретил в Куско нашего друга, донью Марию, она очень мне помогла… А до отъезда я видел Инку Гуаскара, которого держат в плену сторонники его брата. Он надеется, что мы освободим его! Займись этим, Фернандо! Альмагро вышел от Сото, не заметив Зефирины. Отряд продолжил свой путь на юг. Иногда небольшие группки индейцев тревожили разведчиков. Жители деревень смотрели с ужасом и восхищением на то, как проходили «белые бородатые боги, выплевывающие огонь». Чтобы укрепить эту легенду, инки, перешедшие на сторону испанцев, рассказывали в деревнях о «покорении» Атагуальпы. По мере того как Зефирина продвигалась на юг по этой превосходной королевской дороге, построенной из щебенки, снабженной ступеньками на горных перевалах и висячими мостами над реками, восхищение этим индейским народом уступило место унынию. Империя – теперь напоминала тело обезглавленного великана. Лишившись своих властителей, инки были неспособны сами решиться атаковать шестьдесят разведчиков-чужеземцев. Дорога проходила через Уамашуко, Викосас, Куско и заканчивалась у озера Титикака. Фернандо де Сото поддерживал мнение о том, что он направляется в Куско, чтобы освободить Инку Гуаскара и посадить его на трон вместо Атагуальпы. Постоянно вспоминая таинственные слова Верховного Инки о «предназначении ребенка» и одержимая мыслью добраться до места как можно быстрее, Зефирина не сердилась на капитана за распространение ложных слухов. Она чувствовала глубокую нежность к конкистадору, ее трогала эта робкая любовь. Верный своему обещанию, Фернандо де Сото чтил ее и охранял. Он был для нее братом, о котором она все время мечтала. Но Зефирина была слишком женственна и сознавала, что такая целомудренная дружба не может продолжаться бесконечно. Казалось, все жители Куско вышли из своих домов при появлении испанцев. Одно слово, жест – и разорвали бы отряд на куски. Чтобы произвести на жителей впечатление, всадники гарцевали, заставляя лошадей вставать на дыбы. Солдаты стреляли из аркебуз в воздух. Мадемуазель Плюш подъехала на своей лошадке почти вплотную к Зефирине. Пикколо подошел к Пандо-Пандо. Однако испанцам нечего было опасаться – уже разнесся слух, что белые боги пришли освободить Гуаскара. Город был разделен на две части: Анан Куско и Урин Куско… «высокий город и низкий город», объяснил Пандо-Пандо, который взял на себя обязанности гида и переводчика в экспедиции. По просьбе Сото он провел завоевателей по мощеным улицам, среди серых стен, мимо храмов, покрытых золотыми пластинами, дворцов, инкрустированных драгоценными камнями, домов из розового кирпича в северную часть города. Саксауаман, крепость, где засели сторонники Атагуальпы, темной громадой возвышалась на холме. Зефирина содрогнулась. Место было зловещим. Три круговых вала сжимали в кольцах три квадратные башни, одна из которых была выше остальных. Чтобы продемонстрировать превосходство, Сото приказал «выплюнуть огонь», то есть выстрелить тремя ядрами в воздух. Этот маневр оказал магическое действие. Ворота цитадели открылись, и показался воин в украшении из перьев, с серьгами в ушах. Это был верховный полководец, родственник императора. За ним следовала стража. Он поклонился «белому богу». – Что повелевает Виракоша своему слуге? – По приказу Инки Атагуальпы проводи меня к Гуаскару! – приказал Сото. – Я бы хотела пойти с вами, – прошептала Зефирина. Фернандо де Сото потрепал ее по щеке. – Да, но не привлекай к себе внимания, божественная Зефирина. С каждым днем он все больше влюблялся в нее и ни в чем не мог ей отказать. Зефирина спешилась. Вместе с Фернандо, двумя испанскими лейтенантами и Пандо-Пандо она последовала за военачальником в крепость. Через маленькие узкие ворота испанцы вошли за стены циклопической кладки. Зефирина заметила, что каждое отверстие могло быть закрыто плитой, положенной рядом на землю, которая в случае необходимости вставлялась в бойницу. Изобретение было гениальным, делало крепость практически неприступной. Военачальник провел гостей к башне, где находился пленник. Стены этого помещения были покрыты орнаментом из драгоценных металлов. Драпировки, охраняемые солдатами, служили дверьми, на пол были брошены шкуры животных, в стенных нишах взглядам посетителей представилось гармоничное смешение охряной и черной красок, яркими пятнами украшавшей глиняную посуду. – С Инкой Гуаскаром очень хорошо обращаются! – заметил военачальник. Отстранив стражу, он приподнял последнюю портьеру, издав несколько гортанных звуков, чтобы предупредить пленника о приходе «белых богов». Зефирина вслед за Сото прошла в комнату. Повернувшись лицом к стене, Гуаскар спал на шкуре. Военачальник почтительно приблизился, наклонился и прошептал несколько слов. Гуаскар не шевелился. Индеец тронул его за плечо и вдруг вскрикнул. Зефирина и Сото поспешили к нему. Гуаскар скрючился, в его груди по самую рукоятку торчал кинжал. Индеец лежал в луже крови. Несмотря на ужасную рану, несчастный был еще жив. Его прекрасное лицо было воскового оттенка. Взгляд остановившихся глаз выражал ужас, смешанный с изумлением. Зефирина заметила, до какой степени он был похож на своего сводного брата Атагуальпу. Пока капитан отдавал приказ, чтобы послали за колдуном-целителем, а испуганные солдаты инки наводняли комнату, Зефирина и Сото опустились на колени рядом с умирающим. – Быть может, вынуть кинжал, чтобы облегчить его страдания? – прошептала Зефирина. – Конечно, нет, мы вызовем у него удушье, – ответил Сото. – Взгляните, Зефирина, на инкрустированной рукоятке кинжала изображена золотая yawirka[241], символ королевской власти. – Кинжал инков! – простонал военачальник. В ожидании колдуна каждый из присутствующих в комнате излагал свое мнение по поводу того, как помочь несчастному. Индейские солдаты принесли толченую яшму, чтобы остановить кровотечение, другие стали собирать человеческие испражнения, чтобы выгнать дурных духов. Испанцы были сторонниками прижигания каленым железом. Зефирина понимала, что все это бесполезно. Стараясь не испачкаться в крови императора, она наклонилась над несчастным, чтобы вытереть красную пену, показавшуюся на его губах. – Вы страдаете? – прошептала Зефирина на кечуа. Зачарованный лицом «белой богини с зелеными глазами», склонившейся к нему, умирающий издал какое-то бульканье. Он явно хотел что-то сказать. Рука Гуаскара судорожно вцепилась в пальцы Зефирины. Сото и капитан инков стояли по обе стороны от молодой женщины. Но остекленевшие глаза Гуаскара смотрели только на Зефирину. Сверхчеловеческим усилием Верховный. Инка выпрямился, лицо его исказилось от боли, на одном дыхании он прошептал: – Мамма Оккло… Мамма Оккло… посланная Атагуальпой, Брат… Бе… Несчастный Гуаскар замертво рухнул на руки Зефирине. Выражение ужаса исчезло с его лица, и оно снова обрело цвет красного дерева. Огромные глаза остались открытыми; казалось, он улыбается. Зефирину потрясла смерть незнакомого ей принца. Сото закрыл ему глаза, а военачальник преклонил голову на меховую подушку. Зефирина же смотрела на шею умершего. Она ожидала этого. Как у его брата Атагуальпы, за ухом у Гуаскара красовалась кровавая роза. Зефирина выпрямилась. Рядом с ней стоял Пандо-Пандо, дрожащий с ног до головы. – Мамма Оккло пришла убить Гуаскара по приказу Атагуальпы! – стонал Пандо-Пандо. Этот крик подхватили присутствующие инки. «Атагуальпа приказал убить своего собственного брата богине Мамма Оккло!» Фернандо де Сото устраивал такой оборот дела. – Чего вы хотите, Зефирина? Если они убивают друг друга, мы ничего не можем поделать! – Атагульпа стал единственным Верховным Инкой в стране! – пробормотала Зефирина. – Этого он и хотел. Он не отступил даже перед преступлением, чтобы добиться своих целей. Вы не согласны, дорогая? Пока инки-священники с пением возлагали цветы, Зефирина обошла главную башню, изучая стены, а затем через бойницы осмотрела другие башни цитадели. – Башни должен связывать подземный ход, который образует лабиринт и ведет в город[242], – решила она. Когда же княгиня спросила об этом у военачальника, тот подтвердил ее догадку. Крепость Саксауман имела сеть подземных ходов, связывавших ее с городом и даже с более отдаленными районами. – Но отважиться на такое путешествие весьма опасно, – предупредил инка, указывая на темное отверстие и ступени, открывающиеся за золотой плитой… – лишь несколько человек знают этот секрет! Зефирина решила, что он не лжет. Он был искренне потрясен тем, что убили узника, находившегося под его охраной. – Какого дьявола вы разыскиваете? – поинтересовался Сото. – Это и в самом деле дьявол, – ответила Зефирина. Для нее Мамма Оккло была реальным существом из плоти и крови со своим лицом, голосом, запахом… Донья Гермина. Повсюду эта проклятая женщина несла смерть, измену, отчаяние. – Не думаю, что Гуаскар хотел сказать: «Брат безбожник»… – продолжала Зефирина. – Мне кажется, он недоговорил: «Брат, берегись!» Фернандо де Сото озабоченно посмотрел на Зефирину. – Что вы хотите сказать, дорогая моя? – Что Атагуальпе грозит большая опасность. Фернандо, не задерживаясь, возвращайтесь в Кахамарку… Помешайте другому преступлению, которое может навсегда опорочить испанского льва! – А вы, Зефирина? Вы едете со мной? – спросил Сото, беря ее под руку. Зефирина покачала головой. – Нет, я остаюсь здесь, мне нужно уладить одно семейное дело!ГЛАВА XXXI ХРАМ СОЛНЦА
Безвольно растянувшись на шкуре белой ламы, Артемиза Плюш тянула уже третий утренний бокал сока коки. Достойная старая дева привыкла к этому напитку, который приводил ее в хорошее расположение духа и снимал боли в суставах. Она пребывала в состоянии эйфории. Зефирина ходила из угла в угол. – Мне кажется, дорогая Плюш, вы слишком пристрастились к этой коке. Осторожнее, как бы вам не привыкнуть… – Сударыня, ну что вы в самом деле? Делайте, как я. После всего, что произошло, нам здесь так хорошо! – еле ворочая языком, возразила Плюш. Она витала в облаках, вдали от реальности. С большой неохотой Фернандо де Сото расстался с Зефириной в Куско. Уехав неделю назад, он оставил трех испанских военных, чтобы в случае опасности они помогли Зефирине. Кроме того, они представляли власть Карла V. Один из них – молодой капитан Себастьян Гарсиласо де ла Вега и Варгас – очень нравился молодой женщине. В отличие от Пизарро он любил инков, ценил их культуру и мечтал о великой объединенной испано-андской империи, где сохранились бы индейские традиции. Зефирина, мадемуазель Плюш, Пикколо, Пандо-Пандо вместе с тремя испанцами остановились в доме у одного именитого инки, который с невероятной любезностью и гостеприимством предложил им флигель в парке своего дворца. Не сознавая опасности, исходившей от чужеземцев, население города жило обычной жизнью, почтительно и приветливо относясь к Зефирине и ее спутникам. После смерти Инки Гуаскара его брат Манко готовился пойти к «посланцам Виракоши», дабы предъявить свои права на трон. «С таким же успехом он мог бы отправиться к Люциферу!», – думала Зефирина. Но ей не хотелось больше заниматься делами инков. Вместе со своими спутниками она предпринимала усиленные поиски в городе. Она побывала во всех четырех округах Куско, во всех двенадцати районах с живописными названиями: на «Говорящей площади»[243], «Серебрянной змее», «Хвосте пумы», «Оловянном чердаке», у «Ворот святилища», на «Цветах канту» (маленькие гвоздики); рыская везде – даже за общественными зданиями, покрытыми золотыми листами, среди мумий императорских дворцов, – Зефирина расспрашивала всех, по крупицам собирая сведения. В очередной раз донья Гермина испарилась. Зефирина как раз собиралась выпить сок коки, чтобы успокоить нервы, когда в дом с торжествующими криком ворвался Пандо-Пандо: – Мамма Оккло нашлась! Зефирина, стуча сандалиями из кожи гуанако, бросилась к индейцу. – Ты знаешь, где донья Мария? – Да, бледнолицая Зефирина! – О, говори же! Не томи! – Мамма Оккло в Кориканше, храме Солнца! Как она раньше не догадалась! Единственное место, куда ей не удалось пробраться! – Поймем туда, – только и сказала Зефирина. Пандо-Пандо остановил ее. – Ты не можешь идти вот так, бледнолицая Зефирина… В полдень, когда солнце высоко в небе, открываются ворота, большая церемония для индейского народа… В честь погибшего Гуаскара девственницы будут принесены в жертву богу Солнца! Зефирина облизнула губы. – Пандо-Пандо, ты хочешь сказать, что вы собираетесь убить этих девушек? – Бледнолицая Зефирина, девственницы воспитывались, чтобы умереть за Виракошу, – терпеливо объяснил Пандо-Пандо. – Жертва – очень хорошо для народа инков. Боги довольны. Ты иди вместе с Пандо-Пандо. Очень красивая церемония – праздник Солнца! Психология инков была недоступна пониманию Зефирины. Степень их развития восхищала, человеческие жертвы ужасали. Себастьян Гарсиласо де ла Вега попытался успокоить ее. – Черт возьми, Зефирина, а наши экзекуции на лобных местах, разве это не такие же кровавые жертвы? Зефирине встряхнула золотисто-медными косами. – Совсем нет, мессир Себастьян. Там речь идет о наказании виновных. – Смерть человека от руки другого человека это всегда смерть, – возразил Гарсиласо де ла Вега. – Но ведь эти несчастные – невинные жертвы. Зефирине было известно, что Себастьян влюблен в принцессу инков Чимпу[244]. Он часто ходил во дворец ее семьи (польщенной этими визитами «белого бога») и готов был оправдать все варварские обычаи туземцев. Прекратив бесполезный спор, Зефирина тщательно приготовилась к церемонии. В костюме индейской аристократки, в чепчике с белыми лентами молодая женщина оставила неспособную подняться мадемуазель Плюш дома и, не предупредив испанцев, ушла с Пикколо и Пандо-Пандо. Под лучами палящего солнца толпы людей запрудили улицы. Под навязчивый ритм заунывных песнопений священники в золотых сандалиях хлестали себя кожаными плетками. Мужчины в одеждах, унизанных жемчугом, несли на плечах массивных золотых идолов, усыпанных драгоценными камнями. Другие прикрепили к спинам черные и белые крылья кондора. Некоторые воткнули в волосы птичьи перья или надели деревянные короны. Группа людей демонстрировала свои обнаженные торсы, изборожденные красными полосами, а вот эти надели на себя шкуры пумы, голова зверя демонстрировала хищный оскал. У Зефирины сложилось впечатление, что она присутствует на параде хищников. Скандируя, процессия медленно приближалась к самому священному месту в империи: Кориканше, или храму Солнца в Куско. Смешавшись с этой пестрой толпой, Зефирина вместе с Пикколо и Пандо-Пандо незамеченная прошла в ворота. На большой площади жрецы, одетые в белое, с золотыми коронами в виде солнца, начали жертвоприношения с черных лам. Они поворачивали головы животных к солнцу и перерезали им горло, прежде чем бросить их внутренности в пылающий костер вместе с маисом и кокой. Испытывая отвращение к запаху жареного мяса, Зефирина поднялась на цыпочки. Жрецы представили колдуну сердца и легкие, вырванные у животных. Колдун осмотрел их и произнес свое суждение: – Lamac… Capac Ayalon chachi… anitas caras! – Что он сказал? – прошептала Зефирина. – Бог-солнце, плохое настроение. Дурное предзнаменование, большая грусть… грозное будущее, сказать колдун. Хотеть много других жертв, – перевел Пандо-Пандо. Действительно, Зефирине показалось, что солнце стало светить слабее. Под напором толпы Зефирина и ее спутники вошли в главные ворота, украшенные тем же орнаментом из золота и серебра, что и храм. Стены, потолок, крыша были отделаны драгоценными металлами. Никогда Зефирина не видела подобной роскоши и богатства. На алтаре полыхало солнце, три ламы и огромное золотое яйцо – символ изобилия. Но церемонии проходили не там. Все еще находясь во власти людского потока, Зефирина и ее спутники проходили по разным залам, посвященным молнии, мумиям, луне. Наконец они достигли места самого чарующего, которое только может увидеть человек на земле: золотого сада. Зефирина вскрикнула от восхищения. Насколько хватало глаз, простирались террасы, парки, фруктовые сады. Эти «поля» спускались к реке Гуатанау. Все там было из золота: трава, цветы, рептилии, птицы, пастухи – высочайшее почтение народа всемогущему богу – свету. Вокруг костра пела группа молодых девушек небывалой красоты. Одетые в белые и золотые одежды, они с радостью восходили на алтарь. Восхищение Зефирины сменилось тоскливым ужасом. Скрестив руки поверх своей белой сутаны, спускающейся до колен, усыпанной золотыми листьями и драгоценными камнями, с брильянтовой тиарой на голове, «вилкаома», или верховный жрец, дал жрецам приказ на заклание жертв. Жрецы три раза обвели их вокруг идола, золотого солнца, прежде чем перерезать им горло. Увидев, что девственницы со счастливыми лицами восходят на алтарь, Зефирина поняла, что их, должно быть, опоили «чичей» или же заставили выпить приличную дозу коки. Оракулы были плохими, бог упорствовал в своем дурном настроении. Народ, впав в отчаяние, разразился стонами. Большое белое облако закрыло солнце. Это был знак ужасной опасности, неминуемой катастрофы. «Вилкаома» на своем помосте испустил крик, подняв голову к небу. Девственниц сменили хорошенькие дети от пяти до десяти лет, которых жрецы резали или душили веревками, но бог не показывался. Зефирина не могла больше выносить этот кошмар. Сдавленная толпой, она хотела бежать от этих кровожадных хищников. Рядом с ней Пикколо, бледный как смерть, казалось, вот-вот лишится чувств. – Пойдем отсюда, Пикколо, – прошептала Зефирина. – С радостью, сударыня! Их остановил крик. Толпа скандировала: – Мамма Оккло! Мамма Оккло! Спаси нас! Спаси нас с тем, кому это предназначено! «Богиня» в черном одеянии с тиарой на голове в виде платиновой луны поднималась по ступеням, чтобы занять место рядом с верховным жрецом. Лицо у нее было спрятано под вуалью. В руках она несла прекрасного обнаженного ребенка десяти – двенадцати месяцев от роду, этого мальчика отдавали в жертву Виракоше. – Донья Гермина, Луиджи… злодейка хочет отдать моего ребенка их богам! – простонала Зефирина. Ее сотрясала нервная дрожь. С нечеловеческой силой Зефирина буквально протаранила толпу. – Безбожники! Святотатцы! Убийцы! Мой сын! Завывая, она прокладывала себе путь среди перепуганных людей. «Вилкаома» так и остался стоять, подняв руку к небу. Жрецы замерли с веревками и кинжалами, занесенными над детьми. Воспользовавшись всеобщим оцепенением, Зефирина вспрыгнула на помост, где находились верховный жрец и Мамма Оккло. – Злодеи! – вопила Зефирина. Она вырвала ребенка из рук богини и хотела бежать со своей драгоценной ношей. Верховный жрец жестом указал на нее страже. Выйдя из оцепенения, та накинулась на Зефирину. Через мгновение ее привязали к золотому столбу, но ребенка она не выпустила. Верховный жрец и богиня подошли к ней. – Machac расас intiillapa yaloula accla cula inti mayni Viracocha! – оросил верховный жрец. Зефирина уже достаточно выучила кечуа, чтобы понять смысл этих слов: – Ты демон… женщина, избранная, чтобы умереть во имя Солнца! Лицо молодой женщины было исцарапано. Она опустила глаза и взглянула на ребенка, исступленно сжимая его в объятиях. Красивый младенец с вьющимися темными волосами и золотисто-карими глазами смотрел на нее и смеялся, не сознавая нависшей над ним опасности. Даже не видя розы на его шее, Зефирина была уверена, что прижимает к сердцу своего сына. Тошнотворный запах духов доньи Гермины заставил ее поднять голову. Мамма Оккло откинула вуаль, и взгляду Зефирины предстало изможденное лицо проклятой мачехи. – Идиотка, ты спутала мои планы… но так даже лучше. Мы собирались короновать твоего сына как Сапу Инку, но сначала умрешь ты, моя милая! Донья Гермина выхватила Луиджи из рук Зефирины, княгиня закричала, как раненое животное. – Господи! Это слишком несправедливо! Боже, верни мне моего ребенка! Я проклинаю вас, Гермина! Она выла, рыдала, пыталась разорвать свои путы. Донья Гермина, усмехаясь, подошла к верховному жрецу и что-то шепнула ему на ухо. Тот покачал головой. Все еще держа Луиджи на руках, донья Гермина спустилась в помоста и направилась к золотым строениям главного храма. Жрецы с пением подошли к Зефирине. Жертва должна была веселиться. Они запрокинули ей голову и вынудили выпить сильную дозу коки. Их помощники танцевали вокруг столба. Очень быстро напиток оказал свое действие. Одурманенная Зефирина больше не плакала. Она была счастлива, что держала сына в объятиях. Она знала, что сейчас умрет, и радовалась этому. В садах народ разразился криками ужаса. «Изголодавшееся» солнце скрылось за черной тучей. Сонно покачивая головой, Зефирина улыбалась. Она слышала странные звуки. Это звучали небесные барабаны и трубы в ее ушах. Совсем рядом грянул гром. Жрец медленно приближался к Зефирине. Ничто уже не могло ее спасти. Человек в красном занес над ее обнаженной шеей длинный кинжал.ГЛАВА XXXII ВСТРЕЧА
«Как это легко – умереть!» – думала, обливаясь кровью, Зефирина. При виде парившего над ней ангела она улыбнулась. Заиграла божественная музыка. У чудесного ангела было лицо любимого человека… Из-под серебряного шлема на нее смотрели его встревоженные глаза. – Вы ранены, Зефирина? – спросил ангел. Он сощурил один глаз, другой же скрывала черная повязка. – Ты ждал меня на небесах, ты тоже умер, любовь моя? – пролепетала Зефирина. Она была так счастлива, обретя Фульвио в мире ином! В раю царило оживление. Повсюду стреляли. – Фульвио, – простонала Зефирина. Ангел покинул ее, чтобы с мечом наперевес ринуться на жрецов. Преследуемые другими ангелами, которые, впрочем, иногда напоминали дьяволов, священники разбежались, падали на землю, пронзенные длинными Пиками. Со всех сторон раздавались крики. Народ на площади бросился врассыпную. Люди падали, подкошенные небесным огнем. Зефирине не было страшно. Она парила над всей этой сумятицей. Ангел вернулся к ней. Его блестящие доспехи были выпачканы кровью. Он склонился над молодой женщиной. Его мощный силуэт закрыл ночное небо. – Salut! Sardine![245] – услышала Зефирина. Толстая птица, напоминавшая Гро Леона, примостилась на плече архангела, ибо только ангел высшего ранга мог принять обличье Фульвио. – Вы ранены? Из под испанского шлема он с беспокойством смотрел на нее, перерезая путы, удерживавшие жертву у золотого столба. Зефирина упала в его объятия. От прикосновения его рук разум, затуманенный наркотиками, начал проясняться. Она поняла, что жива. Но она еще не доверяла этим ощущениям. Ноги не держали, но ангел обнимал ее крепко. Другие ангелы палили из пушек… – Верховный жрец бежал со своей свитой! – вскрикнул ангел, похожий на Фернандо де Сото. – Донья Гермина… Луиджи… храм! – удалось выговорить Зефирине. – Не шевелитесь! – сказал первый ангел, уводя ее под прикрытие алтаря. Он бросился на подмогу своим товарищам. Удар огромной силы сотряс сады. Главные ворота храма вдребезги рассыпались от удара пушечного ядра. – Sang! Sangdieu! Scelerats![246] – прокаркала птица, ущипнув Зефирину за щеку. Ошеломленная Зефирина сползла на мощеный пол. Она наконец поняла, что кровь на ней – это кровь мертвого жреца, лежащего рядом. Галка – похожа на Гро Леона! Ангел – испанский солдат, как две капли воды напоминавший Фульвио. Тот вернулся с лицом, потемневшим от пороха. – Не смотрите на этот труп, мне пришлось зарубить его прямо на вас. Но, ради всего святого, поговорите со мной, очнитесь, Зефирина! В храме больше никого нет, они все исчезли. Почему вы думаете, что там донья Гермина вместе с Луиджи? Расспрашивая, солдат тряс ее и ощупывал с невероятным бесстыдством. – Потому, что я ее видела! – Буа-де-Шен! – позвал солдат. Подошел кривоногий детина. – Монсеньор? – Не уходи из храма, наблюдай за окрестностями. Вероятно, мерзавка все еще внутри с моим сыном, спряталась где-нибудь. Не упусти ее, но думаю, что она уже улизнула… Я помогу жене, ночью мы вернемся и все обшарим. Солдат-ангел говорил «мой сын», «моя жена». Отдав приказы упомянутому Буа-де-Шену, он взял Зефирину на руки. – Почему… вы… похожи на Фульвио! – с трудом выговорила Зефирина. – Потому что я – Фульвио, твой муж! Ради Бога, приди в себя, Зефирина! – ответил лже-ангел, лже-солдат, лже-Фульвио! Появился еще один ангел. Этот принял обличье сурового Паоло. – Путь свободен и площадь более или менее очищена, монсеньор, где Буа-де-Шен? – Он остается здесь, мы вернемся позже. Княгиня считает, что донья Гермина прячется в храме. Я предполагаю, она уже далеко… Пойдем. Фульвио без церемоний взвалил Зефирину на плечи и вступил на поле битвы. Покачиваясь на его плече, Зефирина как во сне видела Фернандо де Сото и Гарсиласо де ла Вега, которые преследовали беглецов. – Saperlipopette! Sardanapale![247] – каркал Гро Леон, кружа над полем битвы. Прозвучали последние выстрелы аркебузы. Прокладывая себе дорогу среди окровавленных тел, князь Фарнелло добрался до испанцев. – Все хорошо, друзья, благодаря вам я успел вовремя. Думаю, моя кузина не ранена, а только находится под влиянием наркотика. – Идите вперед, мы вас догоним, – сказал Сото. «Моя кузина»! Зефирина уже ничего не понимала. – Пикколо укажи нам путь! Зефирина с удовлетворением заметила Пандо-Пандо рядом с оруженосцем. Последний охранял инку-проводника. Князь Фарнелло шелбыстрым шагом со своей ношей по улицам, запруженным испанскими солдатами. Еще звучали выстрелы пушек. Некоторые жители пытались защищаться, бросая камни. Всадник врезался в толпу, и несчастные разбежались. Раздались крики. Началось мародерство. Испанские солдаты выносили из домов золотые вазы, статуи, одежду, расшитую жемчугом. Этот страшный шум пробудил Зефирину, свежий воздух вывел ее из наркотического дурмана. – Отпустите меня, Фульвио… донья Гермина бежала с нашим сыном! – проговорила Зефирина, пытаясь встать на землю. – Не беспокойтесь, Буа-де-Шен этим занимается. Что касается вас, дорогая, трудненько мне было отыскать вас, теперь вы моя, я буду присматривать за вами… И Фульвио, словно в подтверждение, хорошенько шлепнул Зефирину по мягкому месту, расхохотался и направился за Пикколо к флигелю, где нашла убежище его жена. «Итак, он здесь… живой… все тот же… Фульвио!» Зефирина без устали разглядывала своего мужа, ошарашенная тем, что видит его целым и невредимым. Не считая нескольких серебряных нитей в его волосах, черных как смоль, и бороде, которую он отпустил, Фульвио не изменился. Гордая осанка, широкие плечи, плотно обтянутые кольчугой, мощная шея, обрамленная воротничком, загрязнившимся во время битвы, бедра, обтянутые пестрыми штанами, – князю Фарнелло и сейчас подходило его прозвище «Кривой красавец из Ломбардии». Гибкий, крепкий, безжалостный воин и опасный противник, Фульвио снял кирасу, кольчугу и рубашку, чтобы освежиться. Красные вздувшиеся рубцы испещряли его спину. – Боже мой, что это, Фульвио? – подходя к мужу, спросила Зефирина. Она была еще слаба, но рассудок к ней вернулся. – Несколько слабеньких ударов хлыстом… не так ли, Паоло? – Точно так, монсеньор! – Объясните мне, Фульвио, – прошептала, оробев, Зефирина. После столь долгой разлуки она не решалась дотронуться до мужа. Его мужественное лицо осветилось улыбкой, а взгляд темных глаз стал властным. Он явно развлекался, наблюдая за ней. Она хорошо его знала. Быть может, смотря на нее, он бросал вызов. А в настоящий момент он принялся дразнить Плюш. – Моя прекрасная Артемиза, вы не ожидали увидеть меня. – Честно говоря, нет, монсеньор. Какой сюрприз! – закудахтала Плюш. – Surprise! Serenite![248] – каркнул Гро Леон. – Надеюсь, хороший сюрприз для всех. – Сказав это, Фульвио посмотрел на Зефирину. Она, в смятении, смущенная, отвернулась. Ее переполняло счастье – она видит его, но не знает, как показать это. – Пикколо, Паоло, принесите нам поесть! – приказал Фульвио. Не было никаких сомнений. Это действительно он. Там, где появлялся Фульвио, все тотчас приходило в движение. Он отдавал приказы, настаивал, командовал. «Господин – я – так – хочу». Да, Фульвио вернулся. Хозяин инка и его семья бежали из дворца во время вторжения испанцев. Оруженосцы отправились готовить обильный ужин. Чтобы избавиться от воздействия коки окончательно, Зефирина выпила много воды. С помощью мадемуазель Плюш она смыла с тела засохшую кровь, переоделась в чистое, взяв одежду из гардероба женщин-инков. – Итак, ты жив, Гро Леон. Знаешь, я очень волновалась за тебя? – с упреком говорила Зефирина, почесывая серый хохолок галки. – Souci! Saucisse! Segneur![249] – согласилась птица. Зефирина была готова. Она нашла своего мужа в главном зале флигеля. – Фульвио, – произнесла она сразу же… – нашего сына Луиджи похитила донья Гермина! Она бежала с ним, мы должны не терять времени и идти по ее следам. Фульвио взял Зефирину за Подбородок и заставил поднять голову. – Я уже вернулся, я здесь, поверьте мне. Вы слишком долго были одни. Вы считаете, меня не интересует судьба нашего ребенка? – Но, Фульвио… – пролепетала Зефирина. Ее глаза наполнились слезами. – Здесь… Здесь… Фульвио заключил Зефирину в объятия. Он поглаживал ее по голове, делая это нежно, словно всадник поглаживает свою кобылу. – Если донья Гермина прячется где-то в храме со своими сообщниками, она в конце концов выйдет. Нужно, чтобы все стихло, чтобы солдаты покинули те места. Буа-де-Шен останется на месте. Мы присоединимся к нему, как стемнеет… Милая моя, если он обнаружит что-либо, он скажет нам. Пойдем, вечер обещает быть холодным. Сейчас, дорогая, вам нужно набраться сил, а я умираю с голоду… Фульвио повлек Зефирину в столовую. Ей пришлось признать резонность его доводов, но она заметила, что он еще не поцеловал ее.ГЛАВА XXXIII КНЯЗЬ ФУЛЬВИО ФАРНЕЛЛО
– Ну так что же? Боже! Ради всех святых! Монсеньор! О! Какое счастье! Так что же произошло? Этими криками и вопросами мадемуазель Плюш выводила Зефирину из себя. Молодой княгине хотелось бы остаться с глазу на глаз со своим мужем, взять его за руку, попросить говорить только для нее одной. Вместо этого Фульвио выступал перед аудиторией, состоявшей из Пикколо, Паоло, Пандо-Пандо и, разумеется, Гро Леона. – Когда мы расстались в Сицилии, Паоло и я, после тщетных поисков Луиджи, не смогли добраться до вас. Магма нас разделила. В надежде, что Зефирина с Коризандой и свитой смогли бежать, мы покинули дворец и спрятались в гроте. Ночью, задыхающиеся от дыма и от раскаленной пыли, мы направились на западный берег Сицилии. Мы надеялись найти корабль и догнать вас, моя дорогая, если вам удалось достичь Сардинии или Мальты… У бухты нас арестовали солдаты Карла V. Вместе с Паоло нас бросили в трюм одной каравеллы. Я был ранен в грудь. Если бы не Паоло, который ухаживал за мной с самоотверженностью матери, я бы умер, Зефирина… И сегодня вы по-настоящему были бы вдовой, – подчеркнул он, глядя на молодую женщину. Она не опустила глаз. – Видно и вправду, – продолжал Фульвио, – дурная трава всегда идет в рост, поскольку, когда мы достигли берегов Испании, я был здоров. Нас бросили в подземелье в Барселоне. Я предстал перед судилищем инквизиции, которая признала меня виновным в иконоборческих мыслях, колдовстве, мятеже против нашей святой матери Церкви и его величества Карла V, предательстве, вероломстве, клятвопреступлении, измене, должностном преступлении, обмане и много еще чего в том же духе… Меня взяли с оружием в руках, защищающего свою страну от испанцев, короче говоря, меня приговорили к сожжению после того, как я принесу публичное покаяние. Следующей ночью таинственный посланец Карла V нашел меня в карцере. Он предложил мне помилование императора, если я подпишу клятву в верноподданнических чувствах и признаю себя его вассалом… – Какой из себя был посланец Карла V? – перебила его Зефирина. – В маске, высокий, суровый, важный, из под надвинутой на глаза шляпы выбивались волосы с проседью! «Дон Рамон де Кальсада», – подумала Зефирина. – Почему вы спрашиваете? – Просто так, – поспешно ответила Зефирина, – продолжайте, друг мой. – Я отверг предложение, поскольку мои земли свободны, и просил лишь милости для Паоло. Мои мысли обратились к вам и к нашим детям, Зефирина, я ждал смерти. По приказу императора нас привезли на борт галеры, и мы встретились – Паоло и я – за веслами… Не так ли, Паоло? – Да, монсеньор, уж мы гребли, так гребли, ваша милость! – Вы были на «Санта Крус» в Барселоне? – взволнованно спросила Зефирина. – Как вы узнали? – Случайно…, – сделав усилие ответила Зефирина. – Я послала Ла Дусера, чтобы он связался с вами и попытался освободить. – К несчастью, мы его не встретили, поскольку с «Санта Крус» нас перевезли на «Консепсион», взявший курс на Севилью. После этого мы не знали, куда направляемся. Нашим братом по несчастью был храбрый француз, прозванный Буа-де-Шен, нормандец, взятый в плен при Павии и приговоренный к тридцати годам на галерах. В аду каторги я быстро понял, что большинство приговоренных сосланы несправедливо. Там были арабы, негры, английские моряки, французские корсары и даже португальцы… Охраняли нас плохо. Этим людям недоставало главаря… На острове Гомера мы сделали стоянку. Среди каторжников пополз слух, что мы направляемся в Испанскую Индию. Однажды вечером я взглянул в иллюминатор, и моим глазам представилось видение: вы, Зефирина, в шлюпке… Паоло окликнул вас! Я видел, как вы обернулись, пытаясь понять, откуда кричат. Но я запретил Паоло подавать вам новый сигнал. Мысль, что вы увидите меня привязанным к скамье, была для меня достаточно неприятной. Либо имеешь достоинство, либо его не имеешь! Вы же меня знаете, дорогая! Вскоре после этого я снова увидел вас в превосходном светло-желтом платье рядом с этим негодяем Кортесом… На этот раз под язвительным взглядом Фульвио Зефирина отвела глаза. – Лишения и жестокое обращение истощило нас, когда на галере появился посланец рая… Это была ваша галка, Гро Леон. Описать вам нашу радость при виде этой птицы, Зефирина, просто невозможно. Это была частица вас, семьи, которая вернулась. Мы вновь пустились в плавание. В клюве Гро Леон приносил нам немного пищи, но для остальных несчастных и меня с нашими кровоточащими деснами самый маленький фрукт являлся лучшим лекарством. Несколько восстановив силы, я решил организовать бунт. Гро Леон принес маленький нож, с помощью которого мы перерезали путы. Однажды ночью бесшумно мы завладели задним шато. Когда солнце встало, вместо капитана Фернандеса «Консепсионом» командовал я. Мы не убили ни одного офицера, лишь связали и бросили их в трюм. Единственной моей мыслью было вырвать вас из лап вашей жестокой судьбы… поскольку вы находились в плену у Кортеса, не правда ли? – холодно спросил Фульвио. – Кортес вел себя достойно, я поехала по доброй воле, чтобы освободить нашего сына Луиджи, не забывайте об этом, Фульвио! – так же холодно ответила Зефирина. Леопард снисходительно улыбнулся, словно говоря «допустим», и продолжил рассказ: – Я отправил послание, чтобы попасть на флагманский корабль, где вы находились… – Но вы же не намеревались захватить «Викторию» с несколькими моряками с вашей шлюпки? – воскликнула Зефирина. – Почему же… Я вез Кортесу бочонок с мальвазией, куда было подмешано сонное зелье. В мгновение ока на борту все, включая вас, погрузились бы в сон. А проснулись бы вы в моих объятиях, сударыня… К несчастью, внезапно разыгравшаяся буря помешала мне осуществить забавный план. Гро Леон присоединился к нам. В течение нескольких дней мы боролись, чтобы не пойти ко дну. Нас отнесло к Эспаньоле[250]. На пустынном берегу я оставил настоящего капитана Фернандеса и офицеров. Оттуда вместе с каторжниками, согласившимися пуститься в путь со мной, я на веслах добрался до Золотой Кастилии. Мы встали на якорь в Опаловой бухте. Я оставил своих людей и корабль, взяв с них обещание ждать меня. Если только они не нашли другого капитана, поскольку никто из них не способен управлять на море кораблем… Вот, дорогая Зефирина, вам известно почти все. Вместе с Буа-де-Шеном и Паоло мы бросились в джунгли следом за вами. Мы прибыли в Панаму в тот момент, когда вы уехали оттуда. Ваша подруга Малинцин поведала нам о вашем положении. Только от нее я узнал, что вы преследуете донью Гермину с нашим ребенком… Я встретил Кортеса, между нами будет сказано, очень огорченного вашим отъездом! Он говорил только о вас, причем восторг его переплетался с отчаянием. Черт, вы взволновали его, но не бойтесь, он до сих пор не подозревает, кто я такой… Благодаря Малинцин мне удалось выдать себя за андалузского наемника, рыщущего в поисках богатства. Ваш друг Кортес снабдил меня пропуском и тремя местами на корабле, отправлявшемся в Тюмбес… Вы догадываетесь, что случилось потом. Мы приехали в Кахамарку, чтобы присутствовать на суде и казни Инки Атагуальпы! – Что вы говорите! – бледнея, воскликнула Зефирина. В это время вошли покрытые пылью и кровью Фернандо де Сото и Гарсиласо де ла Вега. – Увы, это так, княгиня. Ваш кузен Фернандо прав. Фульвио сделал знак Зефирине, предупреждавший о том, что он назвался таким образом перед испанцами. – Получив сокровища Верховного Инки, Франциско Пизарро и Альмагро вместе с отцом Вальверде организовали видимость процесса. Они приговорили Инку к сожжению живым, затем сказали, что могут сначала задушить его, если он согласится креститься… Несчастный принц согласился. Его назвали Хуан де Атагуальпа. Палач исполнил свою обязанность и задушил его, как раз незадолго до моего возвращения. Поверьте мне, княгиня Зефирина, я был подавлен, – сказал Сото. – Вы были правы, они воспользовались смертью Гуаскара и под предлогом того, что Верховный Инка послужил причиной гибели своего брата, они его… убили! Я хотел, чтобы Верховный Инка предстал перед судом Карла V. Мне страшно. Должен признаться, что перед смертью Атагуальпа проклял белых людей, предсказав, что позже они будут уничтожены собственным безумием – влечением к белому порошку, полученному из листьев коки[251]! Бесстрашный Сото дрожал. Фульвио предложил ему выпить. – Послушайте, друзья, не верьте в эти бабкины сказки, только наука – достоверна. Что касается меня, я не верю в проклятия. – Ваш кузен, княгиня Зефирина, прекрасно воспитан, я оценил его присутствие, хотя и ревновал немного, ибо он так привязан к вам! – заметил Сото. – Вот почти и вся история, Зефирина, – продолжал Фульвио, не обращая внимания на замечание Сото. – Мы познакомились с доблестным Фернандо, он сказал мне, что вы остались в Куско, и я отправился туда с армией Пизарро. По пути у нас было несколько стычек, и вы вошли в город во время праздника Солнца… Я искал вас везде. Мы встретили Гарсиласо де ла Вега, обеспокоенного вашей судьбой. Он думал, что толпа увлекла вас за собой в храм Солнца. Ходили слухи, что там приносят в жертвы людей. Гро Леон взвился в небо над нашими головами и вернулся с криком: «Sardin! Sang! Soleil! Secours!»[252] Вместе с Сото, Паоло, несколькими аркебузирами и пушкой мы пробрались в храм Солнца. Там я встретил Пикколо, который бежал за помощью. Выстрелами аркебуз мы разогнали этих безбожников, я еле успел вспрыгнуть на помост и схватить палача за руку… Что случилось потом, вам известно, любовь моя! Фульвио похлопал Зефирину по руке. – Вы спасли мне жизнь, Фульвио, – прошептала Зефирина. Они обменялись Долгими взглядами. – Пизарро ни в коем случае не должен был убивать Атагуальпу, это политическая ошибка! – бросил Гарсиласо де ла Вега. – Инка Манко, брат Гуаскара, требует корону. – Ты ошибаешься, Сото… Кажется, Манко впоследствии исчез. – Можно ли опасаться восстания инков? – спросил Фульвио. – Нас двести, а их десять миллионов… Ужин подходил к концу. Глубокая грусть завладела Зефириной. Бывший свинопас Пизарро предал смерти наследника бога Солнца. Опустилась ночь. Оставив мужа и конкистадоров продолжать их споры, Зефирина вышла из флигеля на террасу. Вдали за серыми стенами парка слышались крики солдат-мародеров. Зефирина запрокинула голову. Взошла луна, и золотистые башни Куско замерцали в ее сиянии. Кроваво-красные блики отражались в серебряном диске. Крупные слезы брызнули из глаз Зефирины. Они струились по щекам, и молодая женщина не могла остановить их поток. – Скоро нужно будет идти туда! Рука Фульвио опустилась ей на плечо. – Вот, в самом центре земли мы, наконец, вместе, Зефирина! Мы бы и хотели в это верить, но не можем. Я часто мечтал об этом мгновении, когда сидел на веслах рядом с Паоло. Но никогда ничего не происходит так, как себе представляешь. Я думаю, может, к лучшему, что я исчез. Все-таки она вышла за меня замуж против воли. Вдова – молодая и красивая, она без труда найдет себе супруга. «Почему он так жесток?» – Вы не имеете права так говорить, Фульвио! Горькие рыдания замерли в груди у Зефирины. Фульвио поднял голову. – Ты красива, еще красивее, чем раньше! – проговорил он с какой-то грустью. Пальцами он вытер ее слезы. – Ты не должна плакать, Зефирина. – Я слишком страдала, Фульвио, вдали от вас, вдали от наших детей… Мне пришлось оставить нашу маленькую Коризанду во Франции у госпожи Маргариты… я… Я боюсь… Посмотрите на луну, этот кровавый свет – дурное предзнаменование. – Да нет, это всего лишь отблеск пожара в небе. – О, Фульвио, вы совсем не изменились, у вас всегда на все есть ответ! – простонала Зефирина, уткнувшись головой в грудь мужа. Фульвио очень крепко сжал ее. – Я знаю, вновь обрести друг друга – тяжело. Нам нужно время. В глубине души ты привыкла к свободе, я женился на маленькой Саламандре, юной и золотоволосой, а встретил женщину, свободную, вольную, оставляющую на своем пути разбитые сердца. – Как вы можете говорить такое, Фульвио, все это время я не переставала думать о вас, – прошептала Зефирина. Не отвечая, Фульвио взъерошил золотую шевелюру жены. – Пойдем, пора. Нам нужно приготовиться. Иди, Зефирина. Вздохнув, князь Фарнелло повел свою жену во флигель. Испанцы откланялись. Они собирались отправиться за приказаниями в генеральный штаб Пизарро, расположившийся в бывшем дворце Верховного Инки. Их не удерживали. – Доброй ночи, Зефирина. Сото очень нежно поцеловал руку молодой женщине. Она поспешно отдернула ее. Однако от сверкающего взгляда Фульвио ничто не ускользнуло из этой сцены. Было где-то около десяти вечера, когда князь и княгиня Фарнелло в сопровождении Паоло, Пикколо, Пандо-Пандо и мадемуазель Плюш, которая наотрез отказалась снова остаться одной в этом «дьявольском городе», вышли на опустевшие улицы. Кроме Гро Леона, летевшего над их головами, да нескольких мародеров, пробегавших то там, то здесь, казалось, в Куско не осталось больше ни одной живой души.ГЛАВА XXXIV ОЗЕРО ТИТИКАКА
От стены отделилась тень. Это был Буа-де-Шен. – Что там? – прошептал Фульвио. – Ни одной живой души, и никто не входит и не выходит из этого их чертова собора, капитан… Кроме солдат, которые там все разграбили, клянусь честью нормандца, там больше никого нет! – Вы слышали, Зефирина? – прошептал Фульвио. – Держи, приятель! Паоло принес немного еды для Буа-де-Шена, и пока нормандец с аппетитом уплетал ее, Фульвио представил его Зефирине. – Это Буа-де-Шер, Зефирина, мой добрый товарищ по галерам! – А, так эта великодушная дама заботилась о вас, капитан, – с набитым ртом воскликнул Буа-де-Шен. – Это вы о ней так горько вздыхали? Да, она того стоит, никогда еще я не встречал такой хорошенькой юбки. Сомневаясь, чтобы и Фульвио отзывался о ней в таких же выражениях, Зефирина поблагодарила Буа-де-Шена за помощь и еще крепче прижалась к Фульвио. При свете факела князь вместе с Паоло и Пикколо тщательно осмотрели внутреннее убранство огромного зала Кориканша. Среди опрокинутых статуй на выложенном плитками полу валялись тела священников. Под сводами раздался гулкий звук: это, набив мешок золотыми сосудами, удирал очередной мародер. Князь и княгиня Фарнелло не хотели больше сталкиваться с испанцами. Гарнизон Пизарро, празднуя «победу», был мертвецки пьян. Фульвио и его люди внимательно осматривали стены и лестницы. – Нашли какой-нибудь знак? – Ничего… Вы находились под действием наркотика, Зефирина, вы уверены, что видели, как сюда входила донья Гермина? – Совершенно! – уверенно ответила Зефирина. – И обратно она не вышла? – Нет, она была вместе с высоким жрецом! Фульвио покачал головой. Он свистнул, подавая знак Паоло и Пикколо, и они вместе направились в сад. Мадемуазель Плюш сидела на некоем подобии саркофага. Почтенная старая дева теперь раскаивалась, что согласилась последовать за своими господами в это опасное путешествие. – Отец небесный, ну и мрачные же эти сады! – вздыхала она. Почтенная матрона содрогнулась. – Все в порядке, любезная Плюш? – спросил ее, проходя мимо, Фульвио. – Сударь, все так ужасно, что я вся дрожу! – Конечно, вам не следовало приходить сюда! – заметила Зефирина. Она села рядом со своей милой Артемизой, чтобы немного передохнуть. Внезапно Зефирина вздрогнула. – Фульвио, там кто-то шевелится! Князь приложил ухо к саркофагу. Шум доносился из-под земли. По знаку Фульвио Паоло и Пикколо подошли к нему, чтобы помочь сдвинуть плиту. Но плита была неимоверно тяжелой. И десять человек вряд ли бы справились с ней. В разоренном саду показался Пандо-Пандо; над ним вился Гро Леон. – Помоги нам, Пандо-Пандо. – Т-с-с, бледноликая Зефирина, в подземелье много людей. – Что ты хочешь сказать, Пандо-Пандо? – Бледноликая Зефирина, у тебя чистое сердце, но белые люди Веракоши идут не за желтым металлом! Зефирина раздраженно топнула ногой. – Наконец-то ты это понял! Не забывай, что я первая предупредила тебя, а ты не хотел меня слушать, ни ты, ни Атагуальпа. Надеюсь, теперь ты помнишь, что нам нужно найти Мамму Оккло и моего ребенка, а вовсе не золото! – Да, бледноликая Зефирина, но новый белый человек… Пандо-Пандо не доверял Фульвио. – Новый белый человек – мой муж, друг инков. Помоги нам, Пандо-Пандо. Молодая женщина замолчала. Фульвио высоко поднял факел. Обняв Зефирину за плечи, он сделал знак остальным, чтобы все спрятались за деревьями или разграбленными алтарями. «Он обнял меня, он сжимает меня в своих объятиях», – пронеслось в голове у Зефирины. И она, счастливая, крепче прижалась к Фульвио. Она вновь почувствовала знакомый запах амбры и мускуса. «Фульвио, любовь моя». Показался безмолвный кортеж паломников. Это были люди-пумы, те самые, что участвовали в утренней процессии. На головы у них были наброшены звериные шкуры; они вошли в храм и явно не собирались покидать его. Пандо-Пандо задрожал всем телом. Зефирина знала, что люди-пумы принадлежали к кровавой секте горных индейцев и всегда наводили страх на равнинных инков. – Если они нас видеть, они нас убивать! – прошептал Пандо-Пандо, делая жест, словно отрезая себе голову. Фульвио бесшумно поднялся. Пригнувшись и спрятавшись за плитой саркофага, он подал знак Паоло, Буа-де-Шену и Пикколо, чтобы те подобрались к нему. Притаившись за огромным идолом, четверо друзей молча набросились на замыкавших кортеж индейцев. Процессия исчезла в храме, и никто не заметил исчезновения замыкающих. Фульвио быстро роздал звериные шкуры. Их хватило на всех. Потом они затащили за саркофаг тела задушенных индейцев. Мадемуазель Плюш и Пандо-Пандо наотрез отказались влезать в вонючие шкуры. Чтобы убедить их, понадобился весь авторитет Фульвио. – Если вы не оденете это, я оставлю вас здесь, мадемуазель Плюш. А ты, Пандо-Пандо, своим отказом рискуешь навлечь на себя гнев Виракоши! Его доводы сломили последнее сопротивление, и маленький отряд, облаченный в одеяния людей-пум двинулся в храм. К несчастью, они опоздали, двери уже были заперты. Вокруг не было ни единой метки, по которой можно было бы определить, где находится потайной ход. При свете вновь зажженного факела они обшарили каждый выступ стены, нажимали на каждый вделанный в нее драгоценный камень, пытались сдвинуть золотые статуи, но Кориканша хранил свою тайну. Над их головами вился Гро Леон. – Secret! Spectactateur! Sauve gui peut![253] Он уселся на руку гигантского идола с глазами из изумрудов. От его прикосновения рука пришла в движение, заставив испуганную птицу вновь подняться в воздух. Статуя медленно повернулась, открыв скрытую за ней мраморную лестницу. Увлекая за собой спутников, Фульвио и Зефирина устремились в образовавшийся проход. Лишний шум мог им повредить, поэтому Зефирина поймала за крыло Гро Леона и спрятала его под своим одеянием из шкуры пумы. В конце лестницы виднелся золотой рычаг, украшенный рубинами. Фульвио опустил его. Над их головами идол бесшумно занял свое место. Подземное помещение было как две капли воды похоже на то, которое они только что покинули. Преследователям больше не были нужны факелы. Сверкавшие фосфорическим блеском камни освещали комнату зеленоватым светом. Фульвио снял черную повязку, которая делала его чересчур приметным. Взяв Зефирину за руку, он двинулся в высеченную в скале галерею. Впереди доносился звук, напоминавший шарканье тысячи ног. В том месте, где проход разветвлялся на три подземные галереи, Пандо-Пандо приложил ухо к стене. Этот туннель напомнил Зефирине римские катакомбы[254]. – Народ инка прячет Яавирка на острове Солнца. Не ходить сюда… это плохой ход, с ловушками для непрошеных гостей! – заявил Пандо-Пандо. Заглянув в последнюю галерею, он сделал несколько Шагов вперед, внимательно вглядываясь в испещренные знаками стены. Затем вошел в следующий проход и тут же остановил всех, кто собрался следовать за ним: – Пожалуйста, сюда не ходить, там большая дыра, нехорошая! Зефирина увидела, что он стоит на краю пропасти. Не будь Пандо-Пандо, они скорее всего не заметили бы ее и рухнули вниз. Пандо-Пандо осторожно провел их по краю рва, дно которого было утыкано острыми кольями. Подземные галереи были хорошо защищены, и конкистадоры не отваживались сюда соваться. – Большой галерея Сапа Инка идти Тиагуанако, пересекать озеро, пройти через Пуна и Кача… Виракоша остановился, прежде чем вернуться в Куско, – пояснил Пандо-Пандо. Фульвио и Зефирина с трудом разбирались, где кончается легенда и начинается правда. Молодые князь и княгиня чувствовали, что были единственными белыми людьми, кому выпал шанс увидеть эти каменные туннели. Испуганный Гро Леон спрятал голову в складки рубашки Зефирины и не шевелился. Через каждые несколько шагов приходилось останавливаться, чтобы Плюш могла перевести дух. Однако кортеж впереди продвигался еще медленнее. На извилистом повороте Фульвио, шедший следом за Пандо-Пандо заметил впереди какие-то темные силуэты. Он сжал руку Зефирины и знаками приказал своему маленькому отряду надвинуть на головы шкуры пум. Вскоре они догнали процессию, но никто не обернулся и не обратил на них внимания. Так они шли уже несколько часов. Даже Зефирина выказывала признаки усталости. Не будь поддерживающего ее Фульвио, она бы уже несколько раз упала. «Он не отпускает меня, значит, он по-прежнему меня любит; но почему тогда он так холоден? Ему нажаловалась Малинцин? И что рассказал ему Кортес?» – повторяла она про себя. Совесть ее была неспокойна. «Все, что я делала, я делала только ради него, чтобы найти и освободить его, я не предавала! Я никогда не переставала любить его, мечтать о нем… даже, когда была с доном Рамоном и Кортесом!» Понимая определенную уязвимость своих доводов, Зефирина двигалась как во сне. Она заметила, что из каменных стен сочится вода и обратила на это внимание Фульвио. Туннель снова стал подниматься вверх. Вскоре в лицо Зефирины ласково подул свежий ветер. Она судорожно перевела дух и поняла, что, несмотря на прекрасную вентиляцию подземных ходов, ей всю дорогу не хватало воздуха. Следуя за людьми-пумами, распевавшими монотонную протяжную песнь, маленький отряд по мраморной лестнице вышел из туннеля. Над землей всходило громадное оранжевое солнце. Они шли всю ночь. Зефирина и Фульвио с трудом сдержали возглас изумления, пораженные открывшейся перед ними величественной картиной. Пандо-Пандо не обманул их. Вместе со своими спутниками они находились на острове. Вокруг раскинулись серебристые воды озера Титикака, сверкавшие в лучах восходящего солнца. Потайные туннели действительно вели на остров Солнца. Две или три тысячи верных людей последовали за братом Гуаскара Манко. Уяснив, наконец, коварство «белых богов», новый Верховный Инка решил бежать из Куско вместе со своим сокровищем. Индейцы, погруженные в гипнотический транс, воздавали хвалы Явирке – страшному змею, свитому из огромной золотой цепи, толщиной с бедро взрослого мужчины и длиной семьсот футов[255], инкрустированной алмазами, рубинами, изумрудами. Двести человек с трудом поднимали ее. Первые конкистадоры успели увидеть ее; затем она исчезла навсегда. Фульвио и Зефирина поняли, почему им удалось нагнать инков. Спрятать эту невероятно тяжелую змею и протащить ее по подземным галереям, ускользнув от алчных взоров захватчиков, было делом нелегким. Чтобы остаться незамеченными, Фульвио и его спутники принялись раскачиваться, подражая движениям ритуального танца, который исполняли все присутствующие. Плюш с огромным трудом удавалось подстраиваться к ритму. – Смотрите, Фульвио, – прошептала Зефирина. Она вцепилась в руку мужа. На возвышении, выстроенном на берегу озера Титикака, Манко и великий жрец протягивали навстречу солнечным лучам три головы фантастического змея. Покрытые красноватым металлом, испещренным узорами, словно кожа рептилии, они являли собой головы орла, леопарда и змеи. Это было гигантское воспроизведение знаменитого изумрудного ожерелья. Фульвио сжал руку Зефирины, чтобы успокоить ее. По ступенькам навстречу Манко поднималась фигура в черном. – Мамма Оккло! Спасать Явирка! – пронесся шепот по рядам инков. – Донья Гермина, – яростно прошептала Зефирина. Словно обезумев, она рванулась к возвышению. Волчица несла на руках ребенка. Однако Фульвио не дал ей двинуться с места. – Луиджи! – простонала Зефирина. – Стой смирно, Зефирина, подождем! – прошептал ей на ухо Фульвио. – Но там же наш ребенок! – возмутилась Зефирина. – Вы лишь подвергнете опасности свою жизнь, мы окружены и безоружны. Если Луиджи будет грозить опасность, я прорвусь вперед, и мы умрем все вместе, – пообещал Фульвио. Сознавая правильность доводов мужа, Зефирина, трепеща от страха за сына, как завороженная смотрела на разворачивающееся перед ней зрелище. Стоя между великим жрецом и Манко, Мамма Оккло повелительным жестом указала пальцем на озеро. Инки быстро спустили на воду тростниковые гондолы. Не переставая петь, они выстроились в цепочку, борт к борту, образовав огромный понтонный мост, затем, подняв золотого змея, медленно, друг за другом двинулись вперед. Пройдя восемьсот футов среди спокойных вод Титикака, они повернулись, ожидая приказа великого жреца. – Чтобы спасти династию и Явирку, Мамма Оккло приказывает вам погрузиться в воду! – прокричал великий жрец. Двести инков вместе с золотым змеем прыгнули в воду. – Силы небесные! – заохала Плюш. – Какой ужас! – прошептала Зефирина. Фульвио крепко сжал в объятиях свою молодую жену. Он, побывавший во множестве сражений, был возмущен этой добровольной жертвой. Сине-зеленые волны забурлили. Несколько индейцев, барахтаясь, всплыли на поверхность, прежде чем окончательно погрузиться вместе с сокровищем в озеро Титикака. – Да свершится воля Виракоши. С нами Мамма Оккло, она спасет нас вместе с Избранником. Великий жрец указал на ребенка, которого Мамма Оккло показала толпе. Фульвио отпустил Зефирину и приготовился к прыжку. Тут заговорил Инка Манко. – Братья инки, вместе с Маммой Оккло мы укроемся в Затерянном Городе, вдали от лживых белых богов. Все, кто хотят, могут последовать за нами. Возблагодарим же Виракошу, пославшего нам свою дочь, Мамму Оккло, чтобы спасти нас! Фульвио, Зефирина и их спутники, как все, вынуждены были преклонить колено перед Маммой Оккло. Держа на руках Луиджи, преступница спустилась с возвышения. Там ее ожидал Каролюс. Из-за маленького роста Зефирина до сих пор не замечала его. Карлик взял ребенка на руки и ковыляющей походкой зашагал в сторону золотого храма. Донья Гермина, великий жрец и Манко вошли в дом следом за ним. В ожидании своего императора инки расселись на земле. Некоторые принялись жевать маисовые лепешки. Зефирина утерла пот, градом катившийся у нее по лбу. Фульвио прижал ее к себе. – Успокойся, самое худшее уже позади, по крайней мере сейчас. – Фульвио, я не понимаю, как этой злодейке удалось выдать себя за их богиню! – Посмотри на этих несчастных, они опередили нас в знаниях и в цивилизованности, однако они готовы поверить всему. Как они могли принять Пизарро за белого бога? – усмехнулся Фульвио. От волнения слова его прозвучали излишне громко. Люди-пумы подозрительно посмотрели на них. Фульвио знаком приказал своим спутникам опустить головы и замолчать. Всегда предусмотрительный Пандо-Пандо извлек из своих карманов лепешки. Зефирина и мадемуазель Плюш, слишком потрясенные коллективным самоубийством, от еды отказались. Фульвио пришлось заставить их. – Вам необходимо подкрепить силы, – едва слышно прошептал он, чтобы не услышали соседи. Действительно, Зефирина с удивлением обнаружила, что умирает с голоду. Все семеро принялись молча поедать лепешки. Гро Леон под рубашкой Зефирины стал выказывать признаки беспокойства. Она бросила ему несколько крошек. Галка, склевав их, снова заснула. Ожидание под лучами палящего солнца казалось бесконечным. К тому же дышать становилось все труднее. Фульвио нашел этому объяснение. – Я думаю, мы поднялись очень высоко, возможно, на двенадцать тысяч футов[256]… Это озеро – единственное в своем роде. Судя по положению солнца, наступил полдень, когда великий жрец, Инка Манко и Мамма Оккло вышли из золотого храма. Сопровождаемые охраной, придворными и преданными им людьми, они прошествовали в двадцати пяти шагах от Зефирины и Фульвио. Молодая женщина вздрогнула, узнав среди тех, кто следовал за доньей Герминой, бычий торс ее верного слуги, преданного душой и телом – Бизантена. Теперь этот отвратительный убийца нес на руках Луиджи. Опустив голову, как и все инки на пути Сапы Инки, Фульвио успокаивал Зефирину. Время действовать еще не пришло. Манко и его свита спустились в подземелье. Смешавшись с толпой, Фульвио, Зефирина и их друзья последовали за ними. И опять они шли несколько долгих часов. Зефирине казалось, что теперь они идут по другим коридорам. Пандо-Пандо подтвердил ее предположение. Процессия свернула на северо-восток. Была глубокая ночь, когда семеро спутников вышли из подземелья. Они с удивлением обнаружили, что находятся в густом лесу.ГЛАВА XXXV НОЧЬ В ЛЕСУ
Дрожа от холода, Фульвио и Зефирина со своими спутниками оторвались от колонны, чтобы немного отдохнуть. Гро Леон взлетел на ветку. Женщины были измучены до предела. Ноги Зефирины и мадемуазель Плюш покрылись волдырями, желудок требовал пищи. Пандо-Пандо направился к прогалине и вернулся с несколькими листиками коки, которые все тут же принялись жевать. Скоро муки голода прекратились, и они быстро уснули. «Я рядом с ним, он обнимает меня», – мелькнуло в голове у засыпавшей Зефирины. Внезапно она почувствовала, как губы Фульвио коснулись ее шеи, и у нее закружилась голова. Руки мужа проникли к ней под рубашку и принялись ласкать ее грудь. Затем Фульвио впился в ее рот яростным поцелуем. С силой раздвинув губы, он принялся неистово кусать их. Она столь же страстно отвечала ему. – Однако же у нас слишком неподходящее ложе для любви, сударыня! – усмехнулся Фульвио. И отстранился от нее. Зефирина, застонав, вновь придвинулась к нему. Телом она чувствовала, как его горячая плоть желает обладать ею. – Фульвио, любовь моя… – прошептала она. Нежно, но вместе с тем решительно он вновь отстранился от нее. – Спите, моя дорогая. Луна осветила лес своим бледным светом. Фульвио встал. Растерянная Зефирина задрожала. – Куда вы идете? – Спите, не бойтесь, я вернусь. Зефирина съежилась на своей зеленой подстилке. Слезы навернулись у нее на глаза. Фульвио отверг ее. Однако усталость взяла свое, она уснула, продолжая вздрагивать во сне. Фульвио похлопал по плечу Буа-де-Шена и Паоло. – Ты останешься дежурить, – сказал он итальянцу. Сам же он в сопровождении нормандца двинулся мимо расположившихся на земле индейцев к началу колонны. Там посреди леса были поставлены три палатки, которые охраняли вооруженные инки. Из одной донесся крик ребенка, которому что-то привиделось во сне. – Это ведь ваш малыш, да, капитан? – прошептал Буа-де-Шен. Фульвио мгновенно оценил расстановку сил. Чуткие стражи были начеку. Нападающим пришлось бы столкнуться не меньше чем с пятью сотнями индейцев. – Нет, подождем! Фульвио и Буа-де-Шен столь же тихо вернулись к месту ночлега своих спутников. – Я скоро сменю тебя! – сказал Фульвио Паоло. Затем он вновь – вернулся к Зефирине. Шкура пумы соскользнула с ее головы, и можно было любоваться ее золотистыми волосами. В неярком свете луны Фульвио склонился над молодой женщиной. Он внимательно изучал тонкие черты лица Зефирины. На этом лице, ставшем еще прекрасней, чем прежде, он различал следы горестей, тревог и печалей. «Неужели моя Саламандра предала меня?» – с горечью подумал Фульвио. До знакомства с Зефириной прекрасный князь Фарнелло всегда вел себя с женщинами как надменный завоеватель, и когда они надоедали ему, безжалостно бросал их. Неужели она смогла заставить его страдать, она, его маленькая жена, которую он некогда встретил в Павии? Неужели это она выкрикивала ему свои проклятия, свое презрение? Чем дольше она отвергала его, тем больше Фульвио желал ее, стремился подчинить ее себе. Когда же наконец Саламандра сдалась, то оказалось, что Фульвио просто не представлял себе, что можно так любить женщину. Страсть, которой пылала к нему Зефирина, разжигала пламя его собственных чувств. Рождение близнецов буквально ослепило его. Жестокое расставание стало самым страшным испытанием. Жизнь в неведении об участи детей и Зефирины была ужасна. Увидев Зефирину рядом с Кортесом, Фульвио испытал столь сильное потрясение, что до сих пор не мог оправиться от него. Перед его взором постоянно вставали Канарские острова и фелука, где была Зефирина. Она улыбалась, обратив лицо к конкистадору. Фульвио очень хорошо знал жизнь. Он безошибочно угадал в ее взоре любовное вожделение. Извиваясь словно зверь, разъяренный от бессилия изменить ход событий, горделивый Леопард «видел» Зефирину в объятиях Кортеса. Вряд ли Малинцин приукрашивала события, признаваясь Фульвио, что она несчастна, потому что Кортес любит «бледноликую Зефирину» и постоянно думает о ней. Сгорая от ревности, в Панаме Фульвио отомстил за себя, утешив Малинцин. В течение многих дней Фульвио скрывался во дворце, наслаждаясь золотистой кожей прекрасной индеанки из племени ацтеков. Если бы князь был до конца искренен, то, вероятно, признал бы, что, будучи долгое время лишен общения с женщинами, он просто поддался своему инстинкту мужчины-завоевателя. Но как бы там ни было, Малинцин быстро ответила ему взаимностью, и быть может, даже побудила его сделать первый шаг. В объятиях друг друга любовники нашли утешение в своих сердечных горестях. Зефирина зашевелилась во сне. – Фульвио… Луиджи… Коризанда! – слетело у нее с губ. Из груди Фульвио вырвалось рыдание. Забыв о ревности, Фульвио лег рядом с Зефириной. Затем он лежал и слушал ее ровное дыхание. Фульвио зарылся лицом в ее волосы. Он вновь медленно обретал сладость этого тела, к которому некогда был так привязан. Его руки обвили гибкую талию. Зефирина повернулась. Движением, унаследованным от далеких предков, она во сне положила голову на плечо мужа. Фульвио вздохнул. С Зефириной никогда нельзя было ничего предугадать. Стоило только Фульвио решить, что его вновь обретенная супруга заслуживает лишь презрения за ее предполагаемую измену или измены (ибо в случае с Сото у него не было уверенности), как он тут же бросился спасать ее от жертвенного кинжала жреца. Он хотел бы подвергнуть ее подробному допросу, но события разворачивались так, что у него просто не было такой возможности. Из-за деревьев донеслось мычание альпаги. Горький ком подступил к горлу Фульвио. Он коснулся пустой глазницы потерянного в сражении глаза. Он, великий кривой Ломбардец, князь, перед кем все сгибались в почтительном поклоне, могущественный монсеньор, владеющий многочисленными поместьями, дворцами, землями, слугами, лежал на мху, содрогаясь от рыданий из-за женщины, чье место дома за прялкой. «Если когда-нибудь мы выберемся отсюда, клянусь честью, я выдрессирую ее на свой лад!», – думал Фульвио, снедаемый ревностью. И с этой мыслью князь Фарнелло заснул, прижимая к себе Зефирину.ГЛАВА XXXVI ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
Обходя долины, откуда поднимались ядовитые испарения, инки шли вперед, огибая с восточной стороны город Куско. Они поднимались на север по высокогорной местности, неизвестной захватчикам. По мере того как «сыны Солнца» продвигались по горному склону, их ряды становились все многочисленнее. Отовсюду прибывали беглецы, желающие присоединиться к Сапе Инке Манко. Они рассказывали о жестокостях, творимых внизу «белыми богами». Фульвио распорядился, чтобы маленький отряд следовал за инками на расстоянии двух часов пути. Он боялся, как бы его спутники, невзирая на шкуры пумы, не выдали себя. Они обзавелись кое-каким имуществом. Пандо-Пандо достал лам, и они навьючили на них тюки с одеждой, раздобытой ими у горцев, воду и пищу, столь необходимые для выживания в этих краях. Мадемуазель Плюш по-прежнему не терпела лам. Эти обидчивые животные никогда не упускали возможности выпустить ей в нос обильную струю слюны. Помощь Гро Леона была просто неоценима. Он летал над инками, а затем возвращался к хозяевам и указывал им нужное направление. Вот уже пять дней как они шли по лесу, именуемому горная сельва. Зефирине казалось, что чаща становится все более непроходимой. Чтобы прокормить людей, Пан-до Пандо и Буа-де-Шен охотились на гуанако. Их жестковатое мясо пришлось всем по вкусу. К сожалению, его приходилось есть сырым, потому что разводить костер было слишком опасно. Каждую ночь Фульвио, нормандец и Пандо-Пандо, которому, как понял князь, вполне можно было доверять, прокрадывались к палаткам. Но Мамму Оккло слишком хорошо охраняли, нападение исключалось. – Ты ждать Затерянный Город, мужчина бледноликой Зефирины! – говорил Пандо-Пандо. Он упрямо именовал Фульвио в такой досадной для мужчины его склада манере. С той ночи, когда он позволил себе обнять Зефирину и лечь спать подле нее, Фульвио старался избегать ее. Он быллюбезен, всегда приходил на помощь, когда надо было перейти по камням горный поток или перебраться через скалу, но затем, под предлогом неотложных дел, которых у него как у начальника отряда всегда хватало, тут же удалялся. По ночам он спал, завернувшись в шкуру ламы, рядом с Буа-де-Шеном и Паоло или же нес караул. Место Зефирины было рядом с мадемуазель Плюш. Подобная холодность приводила молодую женщину в отчаяние. Фульвио беседовал с ней только о детях. Зефирина описывала ему красоту Коризанды, рассказала Фульвио о своем путешествии, о Мадриде, Франциске I, Карле V. Разумеется, она лишь мельком упомянула о доне Рамоне Кальсада и свела на нет рассказ о Кортесе, ибо оба эти имени вызывали в ней глухие угрызения совести. Но Фульвио, словно ясновидящий, снова и снова уводил рассказ к этим людям, а также к Сото. Он был безжалостен. Сменив тему, Зефирина поведала ему, что в тюрьме инков она потеряла талисман Саладина. Она попыталась заинтересовать его, рассказывая о «кровавых розах», обнаруженных ею у Карла V, Атагуальпы и Гуаскара. – Черт побери, моя дорогая, должно быть, вы были весьма близки к ним, раз сумели заметить то, что обычно никто никогда не видит! – с усмешкой ответил Фульвио. Зефирина кусала губы. Все оборачивалось против нее. Теперь к списку ее побед добавились еще король Испании и Сапа Инка! Фульвио упорствовал в своей ревности. Чувства его не поддавались никакой логике: он содрогался от страха, видя ее под кинжалом жреца; теперь же, когда она была спасена, решил, что она должна дорого заплатить за измены. Бредя вперед, Зефирина мучительно пыталась понять, действительно ли ее мужу что-нибудь известно или его обуревают всего лишь подозрения. Глядя на его высокую фигуру, широкие плечи и мускулистые ноги, легко преодолевающие любое препятствие, Зефирина размышляла: «Он хочет испытать меня. Фульвио, ну почему вы так жестоки? Я люблю вас, неужели в вас нет ни капли жалости? Я так страдаю!» В зависимости от времени суток мысли ее иногда принимали воинственное направление. «Если он считает, что я приползу к его ногам, стану вымаливать у него прощение, то ошибается. В том, что произошло, виноват прежде всего он сам, это он не хотел меня слушать на Сицилии! Разве я не говорила ему, что нельзя доверять Карлу V? Но монсеньор всем распоряжается, всеми командует, все знает… Но я не позволю помыкать мной!» К вечеру пятого дня пути Зефирина пребывала в весьма воинственном состоянии духа. В этот вечер маленький отряд перевалил через крутой перевал. Открывшаяся перед их глазами величественная картина, привела всех в восхищение. – Мачу Пикчу, – сказал Пандо-Пандо. Он указал на высившуюся впереди остроконечную вершину горы – затерянный город, плохие белые боги никогда не находить его[257], – добавил он. Измученные подъемом, Зефирина и ее спутники расположились на отдых на одном из утесов; с тревогой изучали они раскинувшуюся перед ними местность. По дну долины несла свои зеленые воды река Урубамба, над ней, словно орлиное гнездо, нависал таинственный город, спрятавшись в отрогах Мачу Пикчу. Он напоминал зверя, карабкающегося по горному склону. Зефирина понимала, что если они спустятся в долину, то город скроется от их взоров. Два каменистых круглых холма закроют его. – Huavana Picchu[258]… Pata Varca![259] – указал Пандо-Пандо. Восхищенная тремя устремленными к небу скалистыми пиками, Зефирина неожиданно вспомнила предсказание Нострадамуса: «Вы пересечете три океана, Зефирина! На трех вершинах трех неведомых гор, когда с неба посыпятся огненные шары, будут погребены три гидры, мерзкие… злобные… страшные… Вы все будете познавать трижды… Жизнь! Кровь! Смерть! Богатство! Бедность! Изгнание! Любовь! Славу! Ненависть! Болезнь! Золото! Страсть! Трое мужчин разделят с вами вашу жизнь… Первый даст вам свое имя и свою любовь, второй…» – Вы идете, Зефирина?.. О, вы размечтались, дорогая? Услышав сухой голос Фульвио, Зефирина поднялась. Князь держал совет с Пандо-Пандо, Буа-де-Шеном, Паоло и Пикколо. Мадемуазель Плюш дремала подле одной из лам. Гро Леон улетел на разведку. Указывая на пять десятков выдолбленных в скале лестниц, высокие серые стены, храмы, дворец Инки в центре города и окружавшие его дома знатных индейцев, оживленные улочки города, по которым вечно сновали люди, князь спросил каждого, что, по его мнению, следует предпринять, чтобы проникнуть в город. Единственные огромные ворота бдительно охранялись, и стражи внимательнейшим образом осматривали входивших через них инков и их лам. – Нужно попытаться захватить их врасплох, капитан, – предложил Буа-де-Шен. – Подождем наступления ночи, – сказал Паоло. – Но тогда закроют ворота, – возразил Фульвио. – Посмотрите! – воскликнула Зефирина. Она указала на возделанные поля на горных террасах, где трудились индейцы, коренные жители Анд. К террасам с помощью сложной гидравлической системы, приводимой в движение несколькими мужчинами, подводилась для полива вода из источника. – Если бы мы могли спуститься в долину, а потом снова подняться на Тору, мы бы несомненно натолкнулись вон на то место, которое, как мне кажется, является кладбищем. На том камне лежит связанный покойник или приговоренный к смерти. А налево, посмотрите, в стене есть низенькая дверь. Похоже, она никем не охраняется. Смотрите, они уносят покойника обратно. Зефирина указала на процессию. Нам надо делать так же, как они, и тоже взять с собой «покойника». Скрепя сердце, князь Фарнелло вынужден был признать, что план, предложенный его женой, наиболее удачен. Хлопая крыльями, подлетел Гро Леон. – Scelerate! Soleil! Serpent![260] Так он сообщал о присутствии в городе доньи Гермины. Извилистой тропой они спустились в долину, перешли вброд реку и сделали привал в скалистом гроте. С горы сбегал горный ручей. Путешественники утолили жажду. Затем, смыв дорожную пыль, они устроились в гроте и принялись закусывать мясом альпаги, предусмотрительно захваченным Буа-де-Шеном. Нормандец в совершенстве освоил охотничье искусство и мог потягаться с лучшими охотниками инков. Зефирина вернулась к ручью. Ее волосы пропахли запахом пумы. Укрывшись за скалой, она разделась и подставила свое тело под струю воды. Откинув ниспадавшие до самой талии волосы, она закрыла глаза. Ее лицо и тело наслаждались живительной влагой. Когда она открыла глаза, перед ней стоял Фульвио. Он смотрел на нее так, как не смотрел никогда ранее. С какой-то болью, смешанной с вожделением, разглядывал он прекрасное тело. Подавляя в себе желание, он внимательно изучал ее высокие груди и густой кудрявый треугольник золотистых волос. Он сгорал от желания впиться поцелуем в эту грудь, до боли целовать это перламутровое тело. Он научил ее всему. Именно он заставил ее издать первый стон любви, научил наслаждаться любовными играми. Так, значит, она отдала все эти сокровища другим? В жилах Фульвио текла кровь ломбардцев и сицилийцев; он чувствовал, как она закипает в его венах, приливает к голове, слепит глаза; в бессильной ярости он был готов наброситься на нее. Чтобы овладеть собой, Фульвио впился ногтями в ладони. – Фульвио… – прошептала Зефирина. Она прикрыла руками грудь, но в глазах ее читался призыв. – Будьте осторожны, вы можете простудиться, – бросил Фульвио и, развернувшись на каблуках, ушел. – Будьте осторошны! – просюсюкала мадемуазель Плюш. При других обстоятельствах ее совет вызвал бы только улыбку. Но сейчас всем было не до смеха. Каждый отдавал себе отчет в серьезности их положения. Видя, как молодая хозяйка и князь карабкаются по каменным ступенькам лестницы в направлении Затерянного Города, достойная Артемиза прильнула к плечу Пикколо и разрыдалась. Было решено, что Плюш вместе с оруженосцем останутся в гроте и будут ждать возвращения Фульвио, Зефирины и их спутников. – Если мы не вернемся через три дня, уходите отсюда, Пикколо. Постарайтесь выжить, постарайтесь добраться до Тюмбеса, а оттуда до Золотой Кастилии, – распорядился Фульвио. Подъем был труден. Ступени, высеченные в скале, были высоки. – Девятьсот девяносто восемь… девятьсот девяносто девять… тысяча. Фульвио вполголоса считал ступени. Досчитав до двух тысяч, он предложил своим спутникам немного отдохнуть, укрывшись под нависшим плоским камнем. – Sardariapale! Sentinelle![261] – предупредил Гро Леон, круживший над головами своих хозяев. До сих пор маленький отряд нельзя было увидеть со стороны города. Теперь же, когда они покинут свое укрытие, их можно будет заметить с городских стен. Все было отрепетировано еще в гроте. Из ветвей смастерили носилки. Роль покойника, как самой легкой, была отведена Зефирине. Чтобы никто ничего не распознал, ее плотно укутали в шкуры. Фульвио, Пандо-Пандо, Буа-де-Шен и Паоло, подняв носилки, продолжили восхождение. – Две тысячи пятьсот! Мы уже недалеко от террасных полей… две тысячи шестьсот, все в порядке, вот и источник! Индейцы-землепащцы увидели нас. И, похоже, не обратили никакого внимания. Они кончают работу… Две тысячи восемьсот! Мы добрались до кладбища. Пряча лицо под шкурой пумы, Фульвио шел рядом с носилками и вполголоса рассказывал Зефирине о том, что они видели вокруг. Солнце садилось за горизонт. – Yumac… ibtipata… nusta yalalla? Стражник обратился с вопросом к людям-пумам. Фульвио скромно кивнул в сторону Пандо-Пандо. – Winay… pata marca ururamba… puracassitama… putu-rutu… sampona… Pincullus. Ответ индейца, гласивший, что один из их племени был убит на охоте возле реки и что теперь они хотели бы положить его на ночь на камень Луны, был весьма правдоподобен. Страж поверил ему и пропустил людей-пум. За высеченным в скале идолом Фульвио разрешил Зефирине встать с носилок. На Мачу Пикчу опускалась ночь. Буа-де-Шен и Паоло привязали к камню Луны скатанную шкуру гуанако, которую в темноте вполне можно было принять за тело человека. По знаку Фульвио маленький отряд направился к низкой двери. Они подошли как раз вовремя, ибо в эту минуту второй страж уже закрывал вход в город. Пандо-Пандо повторил свою историю. Издалека страж видел «тело», лежащее на камне Луны. Он махнул рукой, приглашая новоприбывших войти, и следом за ними закрыл вход, привалив к нему огромную квадратную плиту, подтолкнув ее с помощью толстого бруса. Затем накрепко закрепил плиту кожаными ремнями. Фульвио и Зефирина переглянулись. Они находились в Затерянном Городе. В городе инки завершали свои дневные труды. Женщины несли горячую воду из источников. Улочки были освещены факелами. В сопровождении друзей Фульвио и Зефирина продолжили подъем. Они прошли мимо низеньких хижин, где жили простые индейцы. По дороге им нередко встречались люди-пумы, поэтому пятеро путников не привлекли к себе никакого внимания. По мере того как маленький отряд поднимался к центру города, его архитектура заметно менялась. Красивые двухэтажные дома, разделенные узкими проходами, были сложены из светлого гранита, при каждом доме был внутренний дворик. Дома украшали террасы, окна и ниши смотрели на восток. Все дома знатных инков охранялись. Когда маленький отряд вступил в часть города, где проживали благородные инки, люди-пумы стали встречаться все реже и реже. Теперь крайне необходимо было раздобыть другие костюмы. Буа-де-Шен и Паоло поманили в темный проход двух стражей в богато украшенных перьями нарядах. Пара умелых ударов, и инки уснули вечным сном. Фульвио нацепил на себя один из костюмов. К счастью, в него входил длинный красно-белый плащ, закрывавший ноги, слишком светлые для индейца. Головной убор, украшенный бусами и перьями, скрывал лицо. Пандо-Пандо упорно не желал переодеваться. Зефирине пришлось нежно, но настойчиво просить его. – Черт побери, дорогая, этот парень беззаветно предан вам! – шепнул Фульвио. – Вы правы, я могу приворожить любого мужчину, кроме собственного мужа! – мстительно бросила Зефирина. Паоло закашлялся, призывая господ к порядку. Сейчас было не до семейных сцен. – Salope! Salon! Seigntur! SinCa![262] Гро Леон вернулся, чтобы сообщить эти важные сведения. Маленький отряд снова двинулся по улицам, на этот раз совершенно пустынным. Однако чтобы достичь главной площади, надо было подняться еще выше. – Мы достигли наивысшей точки, – произнес Фульвио. – Поднялись ровно на три тысячи четыреста пятьдесят одну ступеньку! Зефирина подошла к мужу. – Что вы сказали, Фульвио? – Мы достигли наивысшей точки. – Да, а потом? – настаивала Зефирина. – Мы поднялись на три тысячи четыреста пятьдесят одну ступеньку и… Зефирина сжала руку Фульвио. – Вспомните: возле мудрого брата, огонь и солнце – это послание трех тысяч пятидесяти одного, два раза по десять… крест три и три креста! Сраженные внезапным воспоминанием о послании Саладина, Фульвио и Зефирина принялись внимательно оглядываться по сторонам. Они стояли возле храма Луны, немного поодаль возвышалась башня Солнца. В конце площади высился дворец Инки, чьи остроконечные башни образовывали три пирамиды. Поднялся ветер. В воздухе запахло грозой. Сгрудившись вокруг Мачу Пикчу, Гуайана Пикчу и Пата Марка спрятали свои сумрачные вершины в черных тучах. Дворец Инки был закрыт. Гро Леон указывал дорогу. Следуя за галкой, князь направился вдоль стены с нишами, где стояли маленькие статуи. Он легко взобрался на стену, затем протянул руку Зефирине; остальные без труда последовали его примеру. Надо было идти, сохраняя равновесие, ибо шпалерные сады резко уходили вниз. Фульвио нащупал плечо какого-то идола. Он обхватил его и соскользнул вниз. Зефирина колебалась последовать за ним. Она всегда боялась темноты и пустоты: – Давай же… Фульвио схватил ее за Щиколотку. Закрыв глаза, Зефирина заскользила вниз, поддерживаемая Фульвио. На мгновение она очутилась у него в объятиях, дыхание их слилось. – Отлично, ты очень храбрая! – прошептал Фульвио и поцеловал ее в висок. Может быть, так он просил извинения за свою грубость? Пандо-Пандо, Паоло и Буа-де-Шен последовали тем же путем. В сопровождении порхавшего у них над головами Гро Леона они осторожно двинулись по аллеям сада, удачно проскользнув мимо нескольких охранников. Передвигаясь короткими перебежками, прячась за статуями и бордюрами, они подобрались к стенам дворца. Обогнув его, вышли к западному фасаду; теперь охрана не могла их увидеть. Глыба серо-зеленого гранита представляла собой превосходную ступеньку. Кажется, это были солнечные часы. Фульвио вскарабкался на них. Наклонившись, он заглянул в одно из окон и тотчас же спрыгнул вниз. Хотя была темная ночь, Зефирина заметила, как страшно он побледнел. – Что с вами? – Она… – Донья Гермина… У Зефирины подкосились ноги, и она была вынуждена прислониться к стене. – Эта Медея уже здесь… вместе с нашим сыном и Инкой. – Надо напасть на них! – прошептала Зефирина. – С ними не меньше трех десятков людей. – И среди них Каролюс? – Я не смог разглядеть их. – Посмотри, Гро Леон! – приказала Зефирина. Галка поднялась к окну и уселась на ветку, укрывшись за густой листвой. – Капитан, путь свободен! Это вернулся из разведки Буа-де-Шен. Он оглушил индейца-охранника, связал его и заткнул ему кляпом рот. Путь к винтовой лестнице был свободен. Она вела вниз, к низкому отверстию, сквозь которое мог протиснуться только один человек. Солдат, обезоруженный нормандцем, охранял этот проход. Через него маленький отряд проник во дворец. Фульвио и Паоло тщательно закрыли за собой вход, привалив к нему большой камень и закрепив его ремнями. Фульвио определил направление. Взяв за руку Зефирину, он начал осторожно подниматься по высеченной в скале лестнице. Вся охрана собралась в одном помещении. Уверенные в неприступном расположении города, его глухих и прочных стенах, они не опасались нападения. Воины поглощали кашу из маиса с той невозмутимостью, которую Зефирина успела заметить в индейцах, живущих в Андах. Все их вооружение из камня, дерева и меди[263] было сложено в прихожей. Фульвио быстро раздал своим спутникам массивные палицы и кинжалы, и они спрятали их под плащами. Вместе с товарищами Фульвио и Зефирина пересекли вымощенные камнем внутренние дворики, добравшись до следующей лестницы. Тихо, по-кошачьи, они поднялись наверх и очутились в навесной галерее. Встревоженные доносившимся до них шумом голосов, они отступили в нависавшую над залом нишу. Скрытые золочеными перилами, они, оставаясь незамеченными, могли прекрасно видеть и слышать все, что происходило внизу, в тронном зале Инки. Рядом с доньей Герминой стояли Каролюс и ее верный Бизантен. Держа на руках Луиджи, скрытого под черной вуалью, Мамма Оккло вещала своим скрипучим голосом: – Сегодня вечером, Манко Капак, я исполню свое обещание, теперь дело за тобой!ГЛАВА XXXVII СОКРОВИЩЕ САЛАДИНА
Манко восседал на золотом троне. Подле него стоял великий жрец. На старческом лице, обрамленном перьями, застыло некое подобие улыбки. Позади императора расположились его наложницы, несколько касиков[264], солдаты и люди-пумы. Манко бесспорно был похож на своих братьев Гуаскара и Атагуальпу – с той разницей, что выглядел более хрупким и изнеженным. Его взгляд не осмеливался встречаться со взором зловещей Маммы Оккло. Казалось, что он был одновременно зачарован и напуган доньей Герминой. Зефирина снова задалась вопросом, каким образом ее мачеха получила такую власть над инками. И ответ не замедлил явиться. – Да, я дочь Виракоши, Сапа Инка Манко, – уверенно провозгласила донья Гермина. – В наших странах на восточных берегах океана его называют… Саладином! Ногти Зефирины впились в ладонь Фульвио. Неужели, обретая Луиджи, они также раскроют тайну их далекого предка, повелителя пустыни? – Преданный, как и ты, Манко, своей семьей, побежденный белыми язычниками, сарацинский император отправил своих верных слуг на кораблях в далекие края. Они доставили бесценное сокровище твоему предку, первому Манко Капаку, ставшему основателем твоей династии. Саладин и Инка были связаны кровными узами через своих бабушек! Знай же, Сын Солнца, что не одно тысячелетие наши страны были связаны между собой, люди пересекали океан на больших плотах с парусами, скользивших по волнам Сумеречного моря… Саладин не желал, чтобы его сокровища достались жестоким крестоносцам. Он разобрал на части трех золотых змей и отправил их инкам; потом золотых дел мастера из Куско вновь собрали их. Первая змея теперь покоится на дне озера Титикака. Я поклялась, что достану для тебя вторую, Манко Капак. Она укрепит твою власть. Третья будет принадлежать моему сыну Рикардо, который станет править после тебя… – Рикардо! – простонала Зефирина. Фульвио своей рукой зажал ей рот, призывая ее к молчанию. У Зефирины внезапно закружилась голова. Ей показалось, что она раскачивается между небом и землей. Ощущение это было недолгим. Все быстро стало на свои места. Внизу также произошло некоторое замешательство. Манко Капак по-прежнему сидел на троне, но его жены с визгом разбегались в разные стороны. – Что случилось? – спросила Зефирина. Фульвио отер пот со лба. Буа-де-Шен и Паоло были бледны, лицо Пандо-Пандо приобрело землистый оттенок. – Земля содрогнулась! – прошептал князь Фарнелло. В тронном зале великий жрец что-то сказал на ухо Манко. – «Вилкаома» заговорил, Мамма Оккло! Он говорит, что это земля подает свой знак. Ты воистину дочь Виракоши! Избранное дитя станет моим наследником. Он будет править империей инков. Теперь яви нам свое могущество, Мамма Оккло! Исполненный достоинства, хрупкий наследник династии инков встал. Он выглядел совсем юным. При свете факелов, которые несли слуги, Инка и Мамма Оккло, в сопровождении Каролюса и вооруженного аркебузой Бизантена, торжественно покинули зал. Фульвио, Зефирина и их товарищи со всяческими предосторожностями вышли из своего укрытия. Гро Леон с взъерошенными от страха перьями забился под плащ Зефирины. Держась на достаточном расстоянии, пятеро преследователей двинулись за сверкавшими впереди отблесками пламени. Инку сопровождали человек двадцать преданных ему индейцев. Пройдя через внутренние дворики, процессия ступила на лестницу, ведущую в подвалы дворца. Подземные помещения были богато украшены статуями. Зефирина гадала, будет ли этот путь таким же длинным, как путь из Куско до Титикака. Миновав множество подземелий и пройдя по вырубленным в скале ступеням, процессия вступила в зал, вдоль стен которого выстроились гигантские статуи. Фульвио, Зефирина и их друзья притаились за постаментом одной из них. Инка, Мамма Оккло и великий жрец остановились перед огромной пирамидой. В центре ее помещались три плиты с выгравированными на них пронзительного (фиолетового, малинового…) цвета изображениями: три треугольника, пронзенных стрелой, три круга с факелами, три прямоугольника, пронзенных копьем, и рядом цифры: (3451:10) 3. – Это здесь, Мамма Оккло, – произнес Манко Капак. – никто не может сдвинуть камень Луны. Никто, кроме того, кому известен секрет потайного механизма. Если ты говоришь правду, открой эту дверь! Донья Гермина откинула черную вуаль. Зефирина могла разглядеть ее изборожденное морщинами лицо, несшее отпечаток ненависти, преступлений и пристрастия к наркотикам. Молодая женщина вздрогнула. Донья Гермина вручила Луиджи Бизантену. Принимая на руки ребенка, тот вынужден был прислонить к камню свою аркебузу. – Надо напасть на них, – шептала Зефирина. – Терпение! Еще не время! – отвечал Фульвио. Мамма Оккло сняла с шеи медальон Зефирины. Сдвинув в нужном порядке накладки фиолетового цвета, она показала медальон Манко Капаку. Инка внимательно сравнил изображения на пирамиде и на медальоне. – Отошли своих слуг, Манко Капак… – властно распорядилась донья Гермина. Инка беспрекословно подчинился Мамме Оккло и сделал знак воинам удалиться. Он сам взял факел; великий жрец, Каролюс и Бизантен последовали его примеру. Под гулкими сводами раздался звонкий лепет. Это маленький Луиджи проявлял свой веселый характер. – Вот я и дошла до конца своего пути, Люцифер! Подойди и посвети мне, Каролюс, – продолжала своим пронзительным голосом донья Гермина. – Я долго искала, и я благодарю тебя, Вельзевул, что ты увенчал мои поиски успехом. Говоря эти слова, донья Гермина повернулась лицом к стене и резко отбросила вуаль, затрепетавшую, словно крылья демона зла. – Чтобы войти в храм Луны, Манко Капак, надо подняться на три тысячи четыреста пятьдесят одну ступень. Согласно посланию, эту цифру надо поделить. Фульвио невольно сдавил руку Зефирины. Разве он еще раньше не догадался, что речь шла о способе счета, изобретенном арабами и названном алгеброй? – Это даст нам 354,1. Затем, как указано на талисмане, мы должны умножить это число на три, и получим 1035,3. Донья Гермина развернулась и направилась к одной из статуй. – Смотри, Манко Капак! На постаменте статуи было выбито число 1035. – Это тысяча тридцать пятая статуя, считая от реки. Идол, напоминающий сфинкса, чьи лапы находились на высоте человеческого роста, сжимал в когтях змею, орла и леопарда. На шее последнего была видна цифра 3. Донья Гермина взяла три блестящие пластинки. Некоторое время она ощупывала поверхность скульптуры, а затем погрузила пластинки в углубление, точно соответствующее их форме. Все оставалось на своих местах. С хриплым криком донья Гермина надавила еще сильнее. Словно горюя об этом грубом насилии, огромная каменная глыба, весящая не меньше двадцати тысяч фунтов[265], с протяжным звуком сдвинулась с места, приведенная в движение скрытым механизмом. Инка и великий жрец в страхе отступили. Когда первое изумление прошло, Инка, великий жрец, донья Гермина и ее двое слуг подошли к краю отверзшейся пропасти. – Час настал, оставайтесь на месте, Зефирина! – прошептал Фульвио. Он убедился, что его товарищи также готовы действовать. – Осторожнее с ребенком! – предупредил Фульвио. Он сжал руку Зефирины и, выскочив из своего укрытия, тенью метнулся к лестнице. Разумеется, Зефирина и не думала подчиняться и бросилась бежать следом за Буа-де-Шеном и Паоло. За ними устремился Пандо-Пандо. Князь и его друзья бесшумно приблизились к Инке, донье Гермине, великому жрецу и безоружному Бизантену. Последнего Фульвио решил взять на себя, чтобы не дать возможности тому причинить вред его сыну. Друзья одновременно подняли палицы и кинжалы. Тут раздался вопль: – Хватайте этих бледнолицых! Приказ исходил от разъяренной фурии. Фульвио и его товарищи обернулись. Это была ловушка! Пять десятков воинов-инков окружили их, наставив на них свои копья. – Не дайте ей уйти! – взвизгнула донья Гермина, указывая на Зефирину. Фульвио, Буа-де-Шен и Паоло попытались оказать сопротивление, но сломленные численностью противника, были быстро обезоружены и связаны; у них отобрали также плащи из шкуры пумы. Фульвио, Зефирину и их товарищей подвели к Инке и донье Гермине. – Ты была права, Мамма Оккло, эти плохие бледнолицые добрались до Мачу Пикчу. – Сапа Инка, мы не собирались покушаться на вашу жизнь, мы только хотели забрать нашего ребенка, которого украла эта женщина! – воскликнул Фульвио. Донья Гермина прервала его. – В прошлый раз вы не были таким кротким, князь Фарнелло. Тогда я была вашей пленницей. Сейчас роли переменились, теперь ты и Зефирина в моей власти… Я знала, что ты станешь преследовать меня… Разве не так, Каролюс? Карлик опустил голову. Он не осмеливался взглянуть на Зефирину. – Я десять раз могла убить тебя, но месть – это такое блюдо, которое надо вкушать холодным! Вы знаете тайну, но не знаете, где находится сокровище… Скоро вы сможете увидеть его, полюбоваться им… и умереть возле него на медленном огне. Донья Гермина провела ногтями по щеке Зефирины. Молодая женщина мужественно приняла вызов мачехи. – Нам не нужно ваше золото, верните нам нашего сына Луиджи, иначе берегитесь, вам не уйти от мщения небес! Отдайте ребенка, Гермина. Это все, чего мы хотим, и клянусь, что я забуду все зло, которое вы мне причинили. Говоря эти слова, Зефирина бросила взгляд на малыша Луиджи, сидевшего на руках Бизантена. Ей показалось, что ребенок издалека улыбнулся ей. Теперь одной рукой Бизантен держал аркебузу; дуло ее было направлено на пленников. Презрев мольбы падчерицы, донья Гермина обернулась к Инке: – Идем, Манко Капак. Подчиняясь этому ужасному созданию, индеец послушно стал спускаться по ступенькам в грот. Окруженные многочисленной стражей, Фульвио, Зефирина и их спутники двинулись за ними. Вскоре в свете факелов перед ними предстал огромный зал высотой от тридцати до сорока футов. Две гигантские змеи, точное подобие Явирки, покоящейся на дне озера, возносили к потолку свои кольца. У каждой змеи было по три головы: орла, змеи и леопарда, и все три были повернуты друг к другу. Золотые рептилии взирали друг на друга алмазными глазами. Манко Капак и великий жрец опустились на колени. С радостным криком донья Гермина устремилась к змеям. Подле них стояли широкие чаши, наполненные драгоценными камнями, самыми красивыми и самыми огромными, какие только можно было себе представить. Донья Гермина сладострастно запустила в них руки. По ее лицу и шее, словно капли дождя, покатились алмазы, изумруды, рубины. В облике этой стареющей женщины, упивающейся богатством, было нечто отталкивающее. Зефирина с отвращением отвернулась. Фульвио попытался привлечь ее внимание. Вместе с князем Фарнелло были схвачены только Буа-де-Шен и Паоло. Пандо-Пандо исчез. Зефирина почувствовала, как у нее на груди зашевелился Гро Леон. Умная галка затаилась, даже не пытаясь высунуть голову. – Иди сюда, Каролюс! Донья Гермина нашла широкую золотую пластину. На драгоценном металле было выгравировано послание, написанное на латыни. При свете факелов донья Гермина принялась громко читать: «…Ныне… научившись распознавать судьбу с помощью звезд, предвижу, что через триста тридцать лет один из моих наследников сумеет найти это сокровище, переданное на сохранение моему брату, заокеанскому властителю Манко Капаку. Я проклял своих дочерей Гелу, Гортензию и Гелену, покинувших меня ради язычников… Я благословляю того из их сыновей, кто будет столь умен, что сумеет обнаружить это место, неведомое неверным. Из трех змей одну я отдаю моему брату Манко. Две другие будут принадлежать тому, кто станет плотью от плоти моей. Итак, я, предводитель верных, признаю своим кровным наследником того, кто будет нести на себе розу пустыни, знак моего рода, или того, чье имя будет начинаться на магическую букву «Г», с которой начинаются имена моих любимых дочерей. За все то зло, что дочери мои причинили мне на земле, я дарую им свое прощение тогда, когда они удалятся в сады Аллаха. В год луны 1187. Я, Саладин, повелитель сарацинов». У Зефирины не было времени разбираться в охвативших ее противоречивых чувствах. Донья Гермина испустила пронзительный вопль: – Вот доказательство, которое я искала всю свою жизнь! Я, дочь Сармора, не являюсь незаконнорожденной, я единственная наследница Саладина… Мое имя Генриетта… Оно начинается с магической буквы «Г»! Разъяренная фурия потрясала пластиной перед глазами Зефирины. – Как вы должны были страдать, Гермина, чтобы дойти до такого состояния! – печально проговорила Зефирина. Безумный огонек зажегся во взоре доньи Гермины. – Твоя мать не имела права ни на что, но она забрала у меня все. Дрожи, Зефирина. Саладин сказал свое слово! – Это действительно очень волнующее послание, Термина! – согласилась Зефирина… – Но… – Замолчи, молчите вы все! Донья Гермина задрожала, зубы ее стучали. Она была во власти одного из своих обычных нервных припадков. На губах ее выступила пена. Каролюс бросился к ней с флаконом сока коки, заменившего густую зеленую жид-кость из Аравии[266], которая всегда быстро успокаивала ее. Инка и великий жрец молча смотрели на «богиню», пребывавшую во власти безумия. Бизантен положил Луиджи в одну из чаш с драгоценными камнями. Завернутый в пеленки младенец был в прекрасном настроении. Он высвободил ручки и пытался схватить алмазы. Фульвио напрягал мускулы, силясь разорвать веревки. Этот человек, никогда никого не боявшийся, бледнел при виде отвратительной Медеи. Он, привыкший почтительно относиться к любой женщине, с удовольствием задушил бы ее. Внезапно Фульвио. почувствовал, как земля уходит у него из под ног. Он зашатался и упал на Буа-де-Шена, Зефирина наткнулась на Паоло. Как и в первый раз, все быстро прекратилось, но этих мгновений хватило, чтобы посеять панику среди воинов-инков. Они бросились к выходу из грота. Подземный толчок швырнул донью Гермину на землю. С пеной у рта она вновь поднялась. – Иди, Бизантен. Делай, что я тебе приказала. Верный телохранитель выстрелил из аркебузы, что окончательно повергло в панику стражей Инки. Манко встал, Бизантен бросился на него. Ударом по голове он оглушил индейца и живо привязал его к одной из статуй. Великий жрец поднялся с колен и приблизился к Мамме Оккло. – Ты… Дочь Солнца… Мамма Оккло… Королева! По взгляду, которым донья Гермина одарила верховного жреца, Зефирина поняла, что ее мачеха с помощью какого-то сексуального волшебства сумела приворожить к себе служителя культа Солнца. Наставив свою аркебузу на пленников, Бизантен заставил их отступить к Манко. Он привязал их к той же самой статуе. Извиваясь, словно ядовитая кобра, донья Гермина подошла к Фульвио и Зефирине. – Вот вы и соединились, милая моя семейка! Вы снова вместе! Вы хотите получить вашего ребенка? Я оставляю вам его. Мне больше не нужна его кровавая роза… Я стану единственной королевой инков. Я вернусь через месяц, когда никого из вас уже не будет в живых! И донья Гермина разразилась демоническим смехом. В сопровождении Каролюса, Бизантена и покорного ей великого жреца она начала подниматься по лестнице, ведущей к выходу из грота. Луиджи в чаше с алмазами продолжал играть. – Гермина! – протяжно закричала Зефирина. – Вы не имеете права обрекать мое дитя на столь мучительную смерть! Фульвио словно безумный бился в своих путах. Узлы, завязанные Бизантеном, были прочны. Свет факелов становился все более тусклым. «Мы пропали, Нострадамус… – простонала Зефирина. – Молю тебя, спаси нас!» Грот погружался в темноту.ГЛАВА XXXVIII БОЖЬЯ КАРА
Раздался адский грохот. Он походил на топот огромного конского табуна, пустившегося в галоп. В сокровищнице все содрогалось. С пронзительным скрежетом падали змеи. Оседали каменные глыбы. Идол, к которому были привязаны пленники, опрокинулся набок. Слышались крики. И так же внезапно, как разразилась катастрофа, все стихло. Зефирина открыла глаза, удивляясь тому, что еще жива. Не считая слабого мерцания в верхней части лестницы, кругом царил мрак. Связывавшие ее путы ослабли. Что-то липкое текло по лицу. Это была кровь из легкой раны на голове. Зашевелился Гро Леон. – Sangolitn! Sardanapale! Sapristi![267] – прокаркала ошалелая птица. – Зефирина, ты здесь? Придя в себя от шока, Фульвио полз к ней, живой, но с поврежденным плечом. – Луиджи! – воскликнули оба одновременно. Ползком, на ощупь они искали ребенка меж перевернутых глыб. К ним приближался кто-то с зажженным факелом. – Бледнолицая Зефирина! Молодая женщина радостно вскрикнула, узнав Пандо-Пандо. Оказалось, верный инка прятался за скалой. Он окончательно освободил Фульвио и Зефирину от уз, затем быстро проделал то же с Буа-де-Шеном, Паоло и Инкой. Последний оказался в скверном положении, прижатый цоколем статуи. Манко раздробило ногу. У Паоло были сломаны несколько ребер. Буа-де-Шен отделался царапинами. Они принялись двигать цоколь, чтобы освободить Манко; потом воззвали к Фульвио и Зефирине: – Скорей, помогите нам. Буа-де-Шен и Пандо-Пандо раздвигали змеиные кольца. Фульвио и Зефирина на четвереньках обшаривали раковины с драгоценными камнями в безуспешных поисках Луиджи. – Sulver! Suivre![268] – прокаркал Гро Леон. В ответ послышался лепет. Он шел из глубины пещеры. Ползком, между обломками статуй Фульвио вместе с Зефириной, которая держала факел, добрались до того места, откуда слышался детский голос. Они застыли, окаменев от ужаса. Раковина, в которой лежал Луиджи, соскользнула как раз под змеиные кольца в конце зала. Во время землетрясения там открылась расщелина. Непрочно расположившись на растрескавшейся руке одной из статуй, «колыбель» Луиджи висела над черной бездной. В глубине пропасти ревел бурный поток. С трепетом глядя на сына, который качался над бездной, Фульвио пядь за пядью продвигался вперед. – Гро Леон, не надо! – взмолился он. Исполненная лучших намерений птица спускалась на мальчика. Фульвио дотянулся до ребенка, и тот зашевелился. Раковина опрокинулась в пустоту. Фульвио удержал Луиджи за одежду. – Sauve! Sauve![269] – истошно прокричал Гро Леон. У Зефирины от волнения выступили слезы. Фульвио медленно подтянул ребенка, а затем вручил его Зефирине. – Вот ваш сын, дорогая! При слабом свете факела она увидела кровавую розу за ушком Луиджи и горячо припала к ней губами. «Сын мой… дорогое мое дитя!» Над их головами раздался треск. Было неблагоразумно оставаться под этим нагромождением золота и статуй. Фульвио снова взял Луиджи на руки. Молодые супруги ползком стали выбираться назад, прочь из этого проклятого места. Паоло и Буа-де-Шен ждали их. – Капитан, надо бы подняться туда! Здесь завал, вход закрыт. Неплохо бы проверить, что там наверху. Фульвио передал Луиджи в руки Зефирине и последовал за своими товарищами вверх по развалинам, в которые превратилась лестница. Наверху упавший обломок скалы преграждал вход в пещеру. – Зефирина, не подходите сюда, – приказал князь. Огромная статуя и несколько балок, сорвавшись, опрокинулись на донью Гермину, Каролюса, Бизантена и жреца. Двое последних лежали бездыханные, с разбитыми головами. Донья Гермина, которой завалило ноги до самых бедер, выла от боли. – Ко мне! Спасите! О! Я умираю! Каролюсу каменным брусом раздавило грудь. – Мы вас освободим! – произнес Фульвио. – Нет, слишком поздно… Рыжуха… это ты? – простонал карлик. Прижав голову Луиджи к своему плечу, чтобы он не видел этого отвратительного зрелища, Зефирина приблизилась к своим родичам. Несчастный уродец, несомненно, сильно страдал. – Вот божья кара! Рыжуха, ты знаешь, я вас не… оставил бы… умирать. Я хотел вернуться этой ночью… когда она уснет! Я хлопотал о Луиджи. Прости меня, Зефирина, я не мог ей изменить, это моя сестра! Прости ее… она не ведает, что творит! – произнес Каролюс свистящим шепотом. – Да, Шарль-Анри, я прощаю тебя, потому что знаю, ты хотел мне помочь, – с грустью ответила Зефирина. – Это я… покрывала в Кахамарке, я взял медальон, чтобы спасти тебя… иначе она бы тебя убила! – сбивчиво выговорил Каролюс. У него вырвался предсмертный крик. Фульвио и Буа-де-Шен начали разбирать каменные обломки, чтобы добраться до бруса. Когда он был сброшен с груди карлика, у Каролюса хлынула горлом кровь. Между тем донья Гермина извергала вопли. – Ко мне! Спасите меня! Зефирина, ты не оставишь меня умирать! У тебя нет больше родных! – стонала злодейка. Каролюс схватил руку Зефирины. – Заклинаю тебя, не… обрекай ее… на медленную смерть, Зефирина… Живи и будь… счастлива… Прощай… Рыжуха! Голова Каролюса откинулась на безобразное кривое плечо. Карлик был мертв. Но глаза навыкате остались открытыми. Зефирина отпрянула. Она знала, что Каролюс не раз спасал ей жизнь, но его болезненная верность донье Гермине отталкивала. Фульвио провел пальцами по его векам. – Да покоится с миром! – тихо, с состраданием проговорил князь. Затем помог Зефирине подняться. – Ко мне!.. Пожалей меня, Зефирина! – кричала жалобным голосом донья Гермина. Фульвио отвел жену в сторону. – Нас слишком мало, чтобы сдвинуть этот камень. Землетрясение может повториться с минуты на минуту. Выход закрыт, а секретный механизм не действует. Гро Леон и Буа-де-Шен нашли, как можно выбраться отсюда по подземной реке. Нужно уходить как можно скорее… Должны ли мы бросить ее умирать? Зефирина прижала маленького Луиджи к груди. Она трепетала всем своим существом. – Фульвио, ты спрашиваешь меня…, – пробормотала она. – Я думаю, что будет милосердно убить ее! Предчувствуя, что замышляется, донья Гермина взмолилась: – Не слушай его, Зефирина, спаси меня! Вспомни, я могла бы тебя убить… Будь милосердна! Я уйду в монастырь! Умоляю! Я не убила твоего ребенка, я могла… а-а-а… мне плохо… Я не убила Луиджи… О! Рикардо, помоги своей матери! Пригвожденная к полу, с обагренным кровью ртом и волосами, торчащими, как у Горгоны, донья Гермина воплощала смертные муки в их самом отталкивающем виде. Преодолевая отвращение, Зефирина приблизилась к ней. – Я прощаю вам, сударыня, все зло, что вы причинили моей семье. Прощаю убийство моей матери, отца и все ваши козни против моего мужа, ребенка и меня! Головой моего Луиджи клянусь молиться за вас и ваши грехи… Прощайте, донья Гермина! Зефирина обернулась. Фульвио поднял аркебузу Бизантена. – Нет, только не это! – взвыла донья Гермина. – А вот я не прощаю вам, сударыня, зло, которое вы причинили моей жене и моему ребенку. Но из соображений гуманности освобождаю вас от страданий. Покайтесь, вам предстоит явиться перед Богом! – Мой Бог – дьявол… Я вас ненавижу, князь Фарнелло, я ненавижу тебя, Зефирина… Будьте прокляты, будь… Фульвио выстрелил. Голова доньи Гермины дернулась. Злодейка была мертва. Щелчок аркебузы отозвался под сводами. Упало несколько обломков скалы. Зефирина застыла, как вкопанная. Фульвио обнял ее за плечи. – Не будем терять время! Пандо-Пандо уже сделал перевязку Манко. Буа-де-Шен и Фульвио смастерили с помощью двух брусов носилки. На них был уложен Сапа Инка… Фульвио приказал своим соратникам набить карманы драгоценными камнями. Он сам показал пример и заставил Зефирину сделать то же. – Боюсь, эти богатства принесут нам несчастье, – прошептала молодая женщина. – Ребячество, дорогая…, наоборот, они помогут нам! – возразил Фульвио. Зефирина с волнением отметила, что он называет ее, как прежде, ласковыми итальянскими словами. Фульвио, погладив прижавшиеся друг к другу головки жены и сына, произнес вполголоса: – Вперед, мои любимые… Князь, взяв Луиджи из рук Зефирины, повел жену и всех своих соратников к узкому ходу, который спускался к подземной реке. Прежде чем покинуть зал, хранивший сокровища Саладина, Зефирина не смогла удержаться и оглянулась, чтобы в последний раз посмотреть на сломанных золотых змей, разбитые статуи, перевернутые раковины короля сарацинов. Последнее убежище доньи Гермины и Каролюса… На какие только преступления не толкало сокровище Саладина! – Скорей, Зефирина. Фульвио, вернувшись за женой, повлек ее к проходу. Впереди Буа-де-Шен и Пандо-Пандо тащили носилки, на которых стонал Инка. Паоло бежал, прихрамывая. Наконец, они добрались до реки. Раздался глухой рокот, и волна пыли вырвалась из подземного хода, который только что покинули беглецы. – Все рухнуло… нам повезло! – воскликнул Фульвио. Зефирина подумала, что отныне никто в мире не сможет открыть тайну Мачу Пикчу. Хотя положение было не блестящим, она почувствовала облегчение. Вода шумела у их ног. Беглецы были замурованы на глубине пятисот футов под землей, в горном массиве Анд. Тем не менее Зефирина следовала вдольподземной реки за мужем и вновь обретенным сыном с сердцем, исполненным надежды.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ТЕМ КРЕПЧЕ БУДЕТ ЛЮБОВЬ
ГЛАВА XXXIX В ЛОВУШКЕ
Вода угрожающе вздымалась. Беглецы оказались перед узким проломом, где речной поток пенился водопадом. – Ваша светлость, – сказал Паоло, – мы похожи на крыс! Фульвио отдал Луиджи в руки матери. Курчавый князь-малыш начал подавать признаки нетерпения. Он проголодался. Зефирина дала ему пососать свои пальцы, смоченные водой. Чтобы успокоить, она – качала его на руках. Особый детский инстинкт подсказывал ему, что родители в опасности. Гро Леон то парил над ними, то взлетал, то спускался, то бил крыльями вровень с кипящими волнами. – Sur! Sortie![270] – прокаркала птица. Буа-де-Шен и Пандо-Пандо опустили носилки с Инкой на каменистый берег. – Canchas culu manon… pussamanchic, – прошептал Манко. – Что он говорит? – спросил Фульвио. – Могущественный Сапа Инка, владыка неба и земли, играл здесь ребенком! – перевел Пандо-Пандо. – И что? – Nucanquis pincullus уо way aya taqui… taqui! – продолжил Манко. – Могущественный Сапа Инка, владыка… – Да, хорошо, дальше? – нетерпеливо произнес Фульвио, обеспокоенный тем, как поднимается вода в реке. – Сапа Инка говорит, что под скалами есть проход; если ты нырнешь, бледнолицый муж Зефирины, то найдешь его! – ответил Пандо-Пандо. Один из факелов погас. Скоро они останутся во мраке. Фульвио разделся. Оставшись только в штанах из хлопка, обнаженный по пояс, он приблизился к Зефирине. – Если я не вернусь после ста ударов сердца, сделайте вы в свой черед попытку вместе с Луиджи, обещаете, мне, Зефирина? У молодой женщины перехватило горло, но она утвердительно кивнула. – Фульвио… Она потянулась к нему губами. Князь поцеловал ее. – Тебя и нашего мальчика я люблю больше всего на свете. Фульвио коснулся волос Луиджи и погрузился в волны. С берега беглецы не отрывали глаз от поверхности воды, которая низвергалась в воронку. «Фульвио, во имя Отца! Я вас приветствую, Сына и Святого Духа, добрая Дева Мария!» Зефирина молилась, путая слова. – Ура, вон капитан! – проорал Буа-де-Шен. Голова Фульвио снова появилась среди водоворотов. Он плыл, широко взмахивая руками. Пандо-Пандо и Буа-де-Шен вытянули его на берег. – Фульвио, как вы себя чувствуете? – воскликнула Зефирина, бросаясь к нему. Весь мокрый, он восстанавливал дыхание. – Да, Манко прав, нужно нырнуть примерно на глубину восьми футов. Под скалой есть узкая дыра, достаточная, чтобы проскользнуть. По ту сторону пещера с небольшим озером. В конце пещеры выход на волю. – А снаружи? – Там все еще темно… гроза продолжается, я не пошел дальше, чтобы скорей вернуться. К Фульвио возвращались силы. – Буа-де-Шен, теперь пойдешь ты. Нормандец попятился. – Только не это, капитан! Я совсем не умею плавать. – Научишься… Я дотащу тебя до прохода, потом тебе придется только подняться наверх и зацепиться за плоские камни, чтоб дождаться других и помочь им. – Бог мой, почему я первый, капитан? Не слушая протестов нормандца, Фульвио заставил его раздеться. – Всем приготовиться! – скомандовал князь. Он столкнул Буа-де-Шена в воду. Оба исчезли в бурлящей воде. Фульвио не замедлил появиться вновь. – Он прошел. Теперь ты, Паоло. Оруженосец дрожал на скалах. – Ваша светлость, я лучше умру здесь. – Ты мне нужен, чтобы спасти жену и Луиджи. Преодолевая боль в груди, Паоло нырнул в воду. Князь повторил ту операцию, что уже проделал. Когда он вернулся, Зефирина с сыном были готовы. Она сняла с себя почти все и раздела Луиджи. Зефирина не боялась воды. В Сицилии Фульвио научил ее плавать. – Гро Леон, иди сюда! – скомандовала Зефирина. Птица, которая терпеть не могла воду, отказалась подчиняться. – Salere! Saumatre![271] Зефирина не могла заставлять Фульвио ждать. Она присоединилась к мужу, который крикнул: – Пандо-Пандо, приготовься, Инка тоже, я вернусь за вами. Фульвио протянул Зефирине руку. В другую он взял Луиджи. – Все нормально? Ты не боишься? У Зефирины перехватило горло, но она отрицательно покачала головой. – Хорошо, давай я поведу тебя. С той стороны ты поднимешься одна, и я передам тебе Луиджи. Договорились? Зефирина, сделав глубокий вдох, погрузилась под воду, влекомая мужем. Он втолкнул ее в расщелину скалы. Зефирине не хватало воздуха. Задыхаясь, она почувствовала пинок в ягодицы и стала всплывать. Ее голова показалась из воды. – Мадам Зефирина, это вы? Со скал Буа-де-Шен протягивал ей руку. – Луиджи! – воскликнула Зефирина. Фульвио вынырнул около жены. Он протянул ей возмущенного младенца, который орал и барахтался, разбрызгивая воду. – Настоящий маленький леопард! – произнес, тяжело дыша, гордый Фульвио. Вид у него был усталый. – Отдохните, Фульвио! – взмолилась Зефирина, прижимая к груди пухлое тельце Луиджи. Не слушая Зефирину, Фульвио уже снова нырнул. Поверхность озера озарялась молниями, вспышки которых освещали вход в пещеру. На скалах Паоло, Буа-де-Шен и Зефирина вглядывались в воду. Пандо-Пандо не заставил себя ждать, а потом появился и Манко, который не мог плыть со сломанной ногой. Буа-де-Шен и Пандо-Пандо вытянули Инку на плоские камни. – Где Фульвио? – в тревоге спросила Зефирина. – Смелый бледнолицый мужчина потерял орлиное дыхание, – прошептал Сапа Инка, сам пребывавший в плачевном состоянии. Зефирина, не мешкая, передала Луиджи в волосатые руки Буа-де-Шена. Под испуганными взглядами своих спутников она нырнула в озеро. – Сударыня, не надо этого делать! – возопил Паоло. Меж тем Зефирина уже достигла дна. На ощупь она нашла щель в скале и устремилась в нее, изо всех сил работая руками. Фульвио из-за слишком частых погружений потерял сознание и застрял в скале. Зефирина потянула его со всей энергией отчаяния. Оказалось, что он зацепился штанами за скалу. Зефирина порвала ткань. Толкая бесчувственное тело мужа, она поднялась на поверхность. Буа-де-Шен и Пандо-Пандо вытащили их из воды. Зефирина опасалась самого худшего. Голова Фульвио безжизненно опустилась на скалы. Мертвенно бледный, с заострившимися чертами лица, он казался бездыханным. Зефирина припала к нему. Она обвила руками его грудь, целовала в губы, дышала в рот. – Фульвио, любовь моя, вернись к нам… – повторяла она. Губы Фульвио были холодны. Под поцелуями Зефирины он еле заметно шевельнулся и сердце забилось вновь. У него началась рвота, он выплевывал воду. Сознание вернулось к нему, когда он увидел над собой в полумраке искаженное ужасом лицо жены. – Кто бы сказал, что вы нас так напугаете, капитан! Без мадам Зефирины как бы вы переправились с той стороны! – заключил Буа-де-Шен. – Что до несчастного Гро Леона, увы, я не нашел его, Зефирина, – прошептал Фульвио. Он сделал неожиданный жест. Заключив лицо жены в свои ладони, вздохнул: – Надо же, за тобой всегда остается последнее слово, дорогая… Когда оставшиеся в живых полунагие путники выбрались из пещеры, они не удержались от возгласа изумления. Буря, которую они ожидали увидеть на горных склонах, оказалась настоящим ураганом, ливню сопутствовал шквальный ветер. Вспышки молний освещали верхушки трех гор: Мачу Пикчу, Уайну Пикчу и Пата Марка. Странные огненные шары[272] лопались в ночном мраке, натыкаясь на горные пики. Зефирина услышала голос Нострадамуса, шептавший: «Когда огненные шары упадут с небес, когда задрожат три земли, тогда будут погребены три гидры… мерзкие… злобные… страшные… три змеиных лика». – Всегда падать огонь с неба, когда земля дрожала! – изрек Пандо-Пандо с самым любезным видом. Следовало переждать в укрытии, пока стихии успокоятся. Несмотря на шум, Луиджи заснул. Зефирина горячо поцеловала мальчика в лоб и вложила свою руку в большую ладонь мужа. Он улыбнулся ей, и Зефирина подумала, что должна еще осуществить главное: истинное завоевание Леопарда! В последующие дни они зализывали раны во дворце Инки, изуродованном подземными толчками. Там и сям образовались трещины и провалы, но в недрах земли толчки были гораздо мощнее. Мадемуазель Плюш и Пикколо, оправившись в своем приюте от пережитых страхов, сделались санитарами и нянями. Фульвио и Зефирину сотрясала лихорадка. Паоло харкал кровью. Не получили пощады ни здоровяк Буа-де-Шен, ни Пандо-Пандо. Огорчение от пропажи Гро Леона сменилось радостью. Сметливая птица в конце концов нашла в скале лазейку, ведущую на волю. Не найдя никакого пропитания, кроме нескольких червей, каковых ценил не слишком высоко, Гро Леон в довольно плачевном состоянии присоединился к своим хозяевам с криками: – Sucre! Saperlipopette! Soins![273] Что касается Инки Манко, за ним ухаживали его сородичи и собственные врачи. Последние по его приказанию применили свою науку и к бледнолицым. Благодаря травяным отварам, Фульвио, Зефирина и их друзья встали на нога. Благодарный Инка отвел им великолепные апартаменты с видом на долину. Зефирина проводила там целые дни, заново знакомясь со своим сыном. Она не переставала удивляться тому, как легко сын привык к ней, и без конца сжимала его в своих объятиях. Как все родители в мире, Фульвио и Зефирина восхищались своим младенцем. Каждый вечер молодая княжеская семья ужинала с Инкой, который тоже постепенно выздоравливал. Манко умел говорить по-испански, хотя раньше скрывал это. – Что Манко быть в силах сделать для мои братья бледнолицый Фульвио и бледнолицая Зефирина? – Ничего, Сапа Инка! – ответил Фульвио. – Мы скоро спустимся в долину. – Вы остаться здесь с Манко, потом идти с ним и его народом. – Наша страна, наша семья ждут нас, Сапа Инка. – Манко Капак спуститься с воинами, чтобы прогнать злых бледнолицых… Вы идти с ним! Фульвио и Зефирина с беспокойством переглянулись. – Будь осторожен, Сапа Инка, опасайся вероломства лживых Виракоша! – шепотом произнесла Зефирина. – Ты и бледнолицый Фульвио мочь оставить Манко в реке, я доверять, слушать вас! – В таком случае, достойный Сын Солнца, не покидай эту гору, скройся здесь навсегда, чтобы остаться жить! – посоветовал Фульвио. Очень взволнованные разговором с Инкой, Фульвио и Зефирина вернулись в свое жилище. Луиджи спал с мадемуазель Плюш на шкуре гуанако. Фульвио увлек Зефирину на террасу, благоухавшую жасмином. – Мы на краю света или у себя в Милане? – вздохнул Фульвио. – Ты веришь, любовь моя, что мы снова увидим свет Италии? – Может быть, дорогая… Но я знаю одно: никогда бы не поверил, что могу так любить женщину, как люблю тебя! Услышанное от этого гордеца признание в собственной «слабости» чрезвычайно взволновало Зефирину. Столь долгожданный момент настал. Она подняла к Фульвио глаза. – Любовь моя, – шепнула она. Под звездным небом Фульвио жадно обнял Зефирину. Его ладони скользнули к ее талии. В то время, как губы их соединились, он осторожно поднял ее, чтобы отнести на королевское ложе из шкур ламы. Князь Фарнелло, великий кривой Ломбардец, наконец, соединился с ней по ту сторону времени, морей и обид. Фульвио любил Зефирину, Зефирина любила Фульвио. Трепеща от наслаждения, обретя вновь своего мужа, своего возлюбленного, свою единственную любовь, Зефирина отдалась страсти. Сначала почти робко, потом с жаром она отвечала на его поцелуи. С ним все было просто, волшебно, прекрасно. В конце концов они слились в одно целое…ГЛАВА XL ВОЗВРАЩЕНИЕ
– Пусть пена волн будет благоприятна для тебя, путник Виракоши! – сказал Манко. – Пусть солнечные лучи греют твой народ, Сапа Инка! – отвечал Фульвио. – Прощай, бледнолицая Зефирина с золотыми волосами. Прощай, Фульвио, борода до звезд. Сапа Инка прощался со своими гостями присущим ему витиеватым слогом. Князь и княгиня Фарнелло испытывали неподдельную грусть, прощаясь с молодым, храбрым и верным государем. Манко казался им слишком хрупким, чтобы успешно выполнить ту тяжелую миссию, которая его ожидала: спасти свой народ. За Фульвио, Зефириной и их товарищами следовала вереница лам, нагруженных мешками с подарками Инки (золотые блюда, пища, шкуры животных). Манко опрометчиво хотел дать в сопровождение своим друзьям «почетный караул». Фульвио и Зефирина отказались, понимая, какой опасности будут подвергаться эти индейцы. Их сопровождал единственный представитель инков – Пандо-Пандо. Он уже начинал скучать без своей дорогой жены, оставленной в Тюмбесе. Маленький князь был удобно устроен в корзине из плетеного камыша на спине черной ламы вместе с Гро Леоном, которого определили к нему «няней». Достигнув дна ущелья, Зефирина окинула взором три вершины, тянувшиеся к небу. Затерянный Город исчез. – Фульвио, ты думаешь, испанцы найдут их? – с тревогой прошептала она. Фульвио отрицательно покачал головой. – Нет, мой друг… Я всем сердцем надеюсь, что Мачу Пикчу сохранит свою тайну. – Да хранит тебя Бог, Манко Капак! – вздохнула Зефирина. – Вперед, Зефирина, красное Солнце Инков не погаснет! Фульвио положил руку на плечи молодой жены и повел за остальными их попутчиками. В трех днях ходьбы от города маленький отряд встретился с первыми испанскими солдатами, гордо скакавшими на гнедых лошадях. – Подготовьтесь! – скомандовал Фульвио своим спутникам. Речь шла о новых подкреплениях, спешивших поучаствовать в «конкисте». На чистейшем кастильском Фульвио рассказал им, что он сам и его отряд – товарищи великого Пизарро, что они участвовали в «сдаче» Куско и ведут оттуда раба: Пандо-Пандо. За спиной князя прятали свои лица Зефирина и Плюш, стараясь остаться незамеченными. Это было бесполезно, потому что встретить белую женщину в этих местах было большой редкостью. Так как сержанта удивил индейский наряд Фульвио и его спутников, князь объяснил, что во время пожаров в городе они потеряли одежду. Испанцы замешкались в нерешительности. Мешки, навьюченные на лам, вызывали у них вожделение. Это были восемь молодцеватых здоровяков без чести и совести, с горящими алчностью глазами. Они начали перешептываться, оценивая силы путешественников. Сжимая аркебузу в руке, князь решил начать с хитрости. – Видели бы вы эти богатства! В Куско, друзья, золото повсюду! – А мы не приедем слишком поздно? Нам останется? – забеспокоился сержант. – Там горы всего, вы найдете свою долю, я вас уверяю! – Туда еще далеко?.. – спросил солдат-андалузец. – Около четырех часов пешего ходу, не правда ли, друзья? – заверил князь, поворачиваясь к своей группе, которая произнесла дружное «да!». Испанцы начали совещаться. Четыре часа ходу, обещанные Фульвио, на деле означали (Зефирина это знала) по меньшей мере пять изнурительных дней. – То, что мы везем, принадлежит капитану Пизарро, – продолжал Фульвио, – и я не могу этим распоряжаться. Зато у меня есть драгоценные камни, если вы согласитесь, мы можем по справедливости обменять их на ваших коней… Что скажете, друзья? Фульвио знал человеческую душу. При виде изумрудов, алмазов и рубинов, которые он им протягивал, конкистадоры спешились. Они были готовы завладеть всем. Они разглядывали камни алчным взором: таких крупных они никогда не видели. – О! Извините! Фульвио сделал неловкий жест. Камни упали на землю. Солдаты бросились на колени, чтобы схватить добычу. Фульвио подмигнул, и его товарищи выхватили палицы, спрятанные под накидками. Четверо сразу были ловко повержены. Остальные, более упрямые, сопротивлялись. Фульвио пригрозил им аркебузой. – Руки вверх, мерзавцы… Фульвио со своими товарищами связали испанцев, перетащили их, заткнув кляпом рты, в кустарник и раздели. Все, даже Пандо-Пандо, в один миг оделись в одежду испанцев. – Мое предложение остается в силе, друг, – сказал Фульвио, забирая шлем и камзол сержанта. – Мы производим законный обмен… – Хо… законный… – прохрипел сквозь кляп испанец. Фульвио немного ослабил веревку, которой тот был связан. – Я оставляю в пятидесяти футах отсюда, на этом склоне, нож, чтобы вы могли освободиться от веревок, и эти камни, «плату» за ваших лошадей и провиант. – Карамба!.. Ты, мерзавец, не испанский солдат! – Почему ты говоришь со мной так, друг? – спросил Фульвио с огорченным видом. – Через час вам удастся освободиться, и я советую никому не рассказывать о вашем приключении, особенно когда вы доберетесь до Куско; капитану Пизарро не понравится, что «верные» солдаты пытались обокрасть его… – Как твое имя, негодяй? – Фернандо де Сото! – бросил Фульвио в ответ, хохоча. Пандо-Пандо еще нужно было убедить сесть на лошадь. Инка в страхе отказывался. Фульвио силой втащил его в седло и хлопнул рукой по крупу животного. – Именно так учил меня отец! Именно так я поступлю с Луиджи, – заявил князь. Зефирина не проронила в ответ ни слова. Она была недовольна тем, что он впутал имя ее друга Сото в эту историю. Маленький отряд скакал галопом до самого захода солнца. Отказавшись от узды, Пандо-Пандо держался за конскую гриву. Ему очень скоро понравился этот способ передвижения. Корзину с Луиджи привязали к одному из седел. Он весело смеялся, наслаждаясь быстрой ездой. Что касается лам, то Буа-де-Шен и Пикколо подхлестывали их по ногам, чтобы заставить двигаться быстрее. Вечером на привале Зефирина за ужином не произнесла ни слова. – Ваша светлость не думает, что испанцы выдадут нас? – спросил Паоло, поглощая похлебку из маиса. – Готов поклясться, что они не смогли поделить добычу и уже перебили друг друга. Они погасили догоравший костер и отправились спать. – Моя Саламандра больна? – спросил Фульвио. Он притянул Зефирину к себе. – Зачем вы назвали Сото? – с упреком произнесла Зефирина. – Почему это вам так неприятно? – ответил Фульвио вопросом на вопрос. – Он показал себя хорошим другом, поэтому я не хотела бы, чтобы у него были неприятности из-за нас. – Только поэтому? При свете луны Фульвио склонился, пристально глядя на Зефирину. Она вздохнула. Несмотря на возобновившиеся любовные отношения, тень старых упреков еще не исчезла. Особенно несправедливы были эти навязчивые намеки на Сото, единственного, с кем ничего не произошло. – В следующий раз я назову капитана Кортеса! – сказал Фульвио. Выведенная из себя, Зефирина повернулась к нему спиной и уснула, отказавшись от ласк. По мере того, как маленькая группа продвигалась на север, ей навстречу все чаще попадались солдаты. Фульвио в шлеме и камзоле сержанта внушал им почтение. Он перестал выдавать себя за Сото, назвался (Бог знает, почему) Хулианом Спиносо из Кордовы, который возвращается в Панаму под командование Пизарро. – Вы довольны Хулианом Спиносо, сокровище мое? – спросил Фульвио на стоянке. Зефирина не смогла сдержать смеха. Они примирились на шкурах гуанако. В пути Зефирина поделилась своей тревогой с мадемуазель Плюш: Фульвио продолжает ревновать. – Вы сказали ему правду, сударыня? – встревожилась Плюш. – Великий Боже, нет! – ответила Зефирина. – Ну вот и не говорите! – Как это, моя добрая Артемиза? – Такой ученой, как вы, крошка Зефи, нужно знать, кроме латыни, греческого и наук, еще кучу вещей. – Каких, моя Плюш? – Его мужская гордость нуждается в том, чтобы ее успокоили! – прошептала Плюш, глядя на князя, который скакал впереди всех. – Расскажите ему, что Кортес вас домогался, но вы остались неприступной, дали ему отпор, что-нибудь в этом роде. Не пренебрегайте воображением, сударыня. Поверните ситуацию и обвините его… Я, кажется, от Буа-де-Шена слышала, что его светлость не сдерживал себя с вашей «подругой» Малинцин! Зефирина поблагодарила мудрую Плюш за хорошие советы и решила дождаться благоприятного момента, чтобы «атаковать мужчину своей жизни». Во главе с Фульвио путешествие казалось легче. Они ехали на лошадях, еды было довольно, и после многодневного путешествия они достигли Тюмбеса. Там их ждала драма. Во время налета грабителей супруга Пандо-Пандо была убита, пьяная солдатня сожгла его дом и зарезала лам. Большая часть жителей порта бежала от захватчиков, которых встречали так радушно. Фульвио и Зефирина с сочувствием восприняли горе своего друга инки. Он хотел вернуться на Мачу Пикчу, поступить на службу к Манко и отомстить испанцам. Фульвио и Зефирина его отговорили. Если Пандо-Пандо отправится один по дорогам, забитым солдатами, ему не миновать смерти. – Едем с нами, Пандо-Пандо. Инка позволил Зефирине уговорить себя. Из Тюмбеса отправлялась бригантина. За горсть алмазов капитан согласился взять на борт семерых пассажиров, не считая младенца, Гро Леона, лошадей и четырех лам. Океан был действительно тихим. Двенадцать дней спустя весьма мягкий ветер привел судно к Панаме. Город разросся, стал оживленнее. Каждый день увеличивалось число колонистов и конкистадоров. Зефирина заметила, что «изменник» Фульвио ходит тайком во Дворец губернатора и расспрашивает охрану. Прекрасная Малинцин и Кортес давно отбыли в Мексику. Они поселились на постоялом дворе, приобрели себе подходящее платье. Зефирина, играя с Луиджи, думала о своем прибытии сюда, о тогдашнем одиночестве, о своем горе. Она победила, вернув сына и мужа. Луиджи рос, он начинал говорить первые слова. – Мама… папа. Как и отец, мальчик оказался своевольным, обаятельным и смешливым. Зефирина грезила о его сестре, Коризанде, своем милом лягушонке; ее материнское сердце сжималось. Бедная крошка, пришлось оставить ее и последовать вдогонку за ее отцом и братом. Подчиняясь Кортесу, губернатор заставил индейских рабов проложить дорогу в джунглях. Там по-прежнему кишели москиты, распространяли заразу болота. Зефирина рассказала Фульвио, как едва не погибла, схваченная удавом. – Спас вам жизнь, без сомнения, Кортес своим огромным мечом? – усмехнулся Фульвио. Зефирина ответила очень мягким тоном: – Нет, это был вождь чимаронов. Знаете, Фульвио, мы были не в самых прекрасных отношениях с Кортесом. – Ага! Полноте, вот это новость… – Должна вам признаться, Фульвио, что он делал мне авансы на корабле. Чтобы пресечь их окончательно, я разбила о его голову кружку. Уязвленный в своей гордости, он по-прежнему питал ко мне слабость, но не возобновил притязаний. После этих слов Зефирина пришпорила свою лошадь, оставив Фульвио в полном замешательстве. Покинув Панаму, после трехдневного путешествия в седле, князь Фарнелло, его эскорт и ламы (которые выдержали морскую поездку) достигли Номбре де Диос на берегу Сумеречного моря. Это была настоящая ярмарка на взморье. Многочисленные суда выгружали людей и имущество. Дома росли, как грибы. Фульвио спешил в бухту Опале, в десяти лье на север, где оставил своих людей и галеру. Будь он один, доскакал бы до места без остановок, но его спутники были разбиты усталостью. Луиджи страдал от голода. В обмен на золотое блюдо Фульвио приобрел грязную хижину для ночлега. Пока. Зефирина в компании с Плюш мыла Луиджи, Фульвио с Гро Леоном на голове спустился к воде. Он кидал в волны гладкие камешки так, чтобы те подпрыгивали над поверхностью воды. Что хотела сказать Зефирина, заявив, будто оказала сопротивление Кортесу? Осторожный Леопард не хотел залезать в ловушку Саламандры. Он знал ее, эту хитрую женщину, он любил ее, но желал остаться господином. В раздражении Фульвио повернул назад к баракам, как вдруг заметил драку между солдатами. Один великан сражался с целым десятком захмелевших парней. – Sacripant! Sympathie![274] – прокричал Гро Леон, ринувшись к дерущимся. Фульвио последовал за птицей. – Коровьи лепешки! Рогоносцы! Козлы двурогие! Клянусь святым Медардом, шайка ублюдков, я вам начищу задницы! Князь Фульвио знал только одного человека в мире, который изъяснялся таким манером… – Посмотрите, кого я к вам веду, Зефирина! – молвил Фульвио. – Ла Дусер… О! Мой Ла Дусер. Зефирина бросилась на шею гиганту. Забыв о сне, они проговорили добрую половину ночи. Ла Дусер без утайки поведал им свою одиссею. Прибыв в Барселону, он искал князя во всех местах, где находились каторжники. Потом, сообразив, что вступил на ложный путь, добрался до Севильи, где нашел в соборе послание Зефирины. Из Севильи отплытий не предвиделось; ему удалось сесть на корабль в Кадисе. После тяжелого морского пути и долгой стоянки на Эспаньоле, Ла Дусер сошел на берег в Золотой Кастилии. С присущей ему прелестной наивностью гигант не удивился тому, сколь легко встретил своих господ. Он пустился в дорогу, чтобы присоединиться к мамзель Зефи, цель достигнута, все идет прекрасно! Его спросили о новостях из Европы. – Черт возьми, там большие события. После своего неудачного бегства под видом негра Франциск I согласился жениться на мадам Элеоноре, сестре Карла V. Чтобы вернуть трон и Францию, король оказался вынужден обменять своих сыновей, дофина Франсуа и молодого принца Анри, на собственную свободу. Ему пришлось подписать договор в Мадриде, он отдавал Бургундию и выкуп в два миллиона золотых экю «Карлу-кровопийце». Едва перейдя Пиренеи, «Франсуа-весельчак» с благословения епископов порвал эту бумагу, заключив, что договор, вырванный у него насильно, не действителен. Разговор о Франции взволновал Зефирину. Живя столь долго вдали от родины, Зефирина почти забыла ее. Все эти события казались ей сном. В то же время она с грустью думала о маленьких принцах Франции, невинных жертвах, заточенных в Сепульведе. – Поражаюсь, какой идиот из окружения Франциска I мог подать ему нелепую идею бежать в обличье негра? – заметил Фульвио перед тем, как расположиться ко сну. – Это была я, мессир! – холодно ответствовала Зефирина. Фульвио расхохотался. – Ты… божественная Зефирина… Я должен был догадаться! Моя изобретательная Саламандра! Не обижайся, завтра, если все будет в порядке, тебя ждет сюрприз! Он заключил ее в объятия, и они заснули, не возвращаясь больше к разговорам. Фульвио волновался, не разбежались ли его люди, предоставленные самим себе? Добравшись вместе с Зефириной и спутниками до бухты Опале, князь Фарнелло с облегчением вздохнул. Галера мягко качалась на волнах. Имя «Консепсион» было стерто и заменено другим – «Зефира», написанным золотыми буквами на носовой части. – Видите, сударыня, я думал о вас! – прошептал Фульвио. – А я не сомневалась! – нежно ответила Зефирина. У нее выступили слезы при виде судна, которое давно возбуждало ее воображение. В глубине души более всего она упрекала себя в том, что в свое время не почувствовала столь близкого присутствия мужа. Пресловутая женская интуиция изменила ей. Не потому ли, что она целиком была занята этим дьяволом Кортесом? Фульвио смотрел на нее с любопытством. Волнение Зефирины не ускользнуло от него. Неужели ее так взволновало, что на бортах судна написано ее имя? Буа-де-Шен поднялся на борт «Зефиры». Обратно он бежал с криком: – Капитан, тут нет никого! Фульвио с трудом удержался от брани. Без матросов судно не годилось ни на что. Вместе с Ла Дусером, Пикколо и Паоло он пустился на поиски пропавших. Люди с галеры обнаружились в индейском селении – в десяти лье от гавани. Бывшие каторжники завладели домами и женами мятежных невольников, одни из которых были убиты, другие бежали. Они встретили своего капитана криками радости. Фульвио выдал каждому толику драгоценных камней, однако заметил, что почти все его люди пребывают в состоянии крайнего истощения. Они едва были способны передвигаться и то и дело падали с видом полного изнеможения. – Неужели они подхватили какую-то заразную болезнь? – встревожился Фульвио. – Я, кажется, догадываюсь, какую! – с усмешкой произнесла Зефирина. Каждый матрос обладал тремя или четырьмя индейскими женщинами, которых считал делом чести почтить вниманием по нескольку раз на дню. Фульвио прибыл вовремя. Его матросы погибали от любви[275]. Они не обнаружили воодушевления, когда князь заговорил с ними о возвращении в Европу. Зефирине пришлось использовать все свое красноречие в поддержку мужа. – С помощью этих драгоценностей, друзья мои, вы сможете завести дело или купить землю! Жениться на невесте, которую оставили дома. Эти доводы подействовали кое на кого. Другие твердо отказались уезжать. Они были и так счастливы со своими женами. Так как на них падет двойной труд, подумал Фульвио, этим беднягам недолго осталось жить. С лошадьми, ламами и, конечно, Гро Леоном они погрузились на борт «Зефиры». Предусмотрительный Фульвио сделал запасы воды, вяленого мяса, живой домашней птицы и фруктов. Ясным утром они приготовились к отплытию. С полуюта Фульвио приказал произвести маневр. Он уже опять водрузил на глаз черную повязку. В шляпе с плюмажем князь имел вид бывалого пирата. Для большей предосторожности он велел поднять испанский флаг. Бывшая галера для каторжных работ стала кораблем свободных людей, матросы гребли, распевая: «Мы возвращаемся домой». Зефирина держала Луиджи на руках. Она с грустью смотрела, как удаляется Золотая Кастилия. Ее сердце сжалось при мысли обо всех пережитых драмах. Смерть Гуаскара и Атагуальпы… Обреченный на вымирание народ инков, который она научилась понимать, уважать и любить. Она взяла Пандо-Пандо за руку. Лицо индейца, словно высеченное из красного дерева, оставалось непроницаемым, но Зефирина понимала, какую душевную боль тот испытывает. – Бледнолицая Зефирина счастлива найти землю предков? – спросил Пандо-Пандо. – Да, Пандо-Пандо, бледнолицая Зефирина счастлива! – ответила молодая женщина, смахивая с щеки слезу. В сундуке капитанской каюты Зефирина обнаружила старомодные платья начала века. Юбки были недостаточно пышными, рукава с прорезями давно уже не носили, но Зефирина была счастлива снова облачиться в женское платье. Корсаж был затянут насмерть, высоко вздымая грудь. Она в самом деле чувствовала себя отлично, снова превратившись в даму. Мадемуазель Плюш заплела в косы ее распущенные волосы дикарки, прежде чем превратить на макушке в эффектный шиньон с каскадом локонов. Перед встречей с мужем за трапезой Зефирина посмотрелась в зеркало и поразилась самой себе. «Как это может быть? Я должна быть в морщинах, с обожженным солнечными лучами лицом!» Со сверкающими волосами и золотистым загаром, не вполне подобающим даме ее положения, Зефирина была ослепительна. Она приобрела свежесть и зрелость, превратилась в женщину прекрасную, притягательную и, как ни странно, более нежную, чем юная Саламандра с острыми коготками, каковой была прежде. Взгляд Фульвио подтвердил, что она прекрасна. За ужином, во время которого им прислуживал Буа-де-Шен, Фульвио и Зефирина говорили о будущем. Князь Фарнелло любил навигацию. – Где вы научились командовать судном, господин муж мой? – спросила Зефирина, снимая кожу с ножки дикой индейки. – В Венеции, моя дорогая, куда отец отправил меня юношей. Беседуя с мужем, Зефирина поняла, что Фульвио тешится мыслью остаться на корабле и жить, как «корсар». – Воистину, прекрасное будущее для наших детей! – запротестовала Зефирина. – Вы – князь Фарнелло и должны им стать вновь… Морской гуляка… разве это занятие, достойное вас? Щеки Зефирины зарделись от негодования. – Ты очаровательна! – воскликнул Фульвио. Он хотел обнять ее. Нет уж, мессир, сегодня мы откроем карты. Вы думаете, я не замечаю ваших подозрений на мой счет, подозрений, которые мне тягостны настолько же, насколько они несправедливы и необоснованны! – Ты хочешь сказать, что… – Сото не был моим любовником! Как и никто другой… – добавила она. – Я огорчена вашей подозрительностью, она бросает тень между нами. Я всегда была вам верна, помнила вас каждое мгновение, боролась в самых тяжелых условиях за ваше освобождение… Она ловко смешивала правду и ложь. Даже в объятиях дона Рамона разве она не думала о Фульвио? Ошеломленный таким напором, Фульвио попытался возразить. – Зефирина, ты… Она прервала его. – Я тем более огорчена, что именно у меня есть все основания сетовать! Фульвио вздрогнул. – Как это? – Я обвиняю вас в том, что вы обманули меня с той, кого я считала своей подругой, с Малинцин… – произнесла она, воспользовавшись принципом Макиавелли, который помнила всегда: «Чем больше вы неправы, тем смелее должны атаковать!» Даже если бы десять бомбард были пущены в его судно, Фульвио не подскочил бы так высоко. – Малинцин? От кого вы услышали этот наглый навет? От Буа-де-Шена, от Паоло? Умнейший человек своего века выдал себя, как последний простак. – В Панаме… Зефирина выдумала историю про индейца, который поведал ей о страсти прекрасной ацтекской женщины к ее мужу. Фульвио все проглотил. У опасного соперника был выбит клинок. Роли поменялись. Из обвинителя Фульвио превратился в обвиняемого. Перед судом Зефирины он должен был оправдываться, что проделал с большой неловкостью: никогда в жизни он не отвечал на притязания Малинцин. Верно, что обманутая Кортесом, она искала утешения, но он остался холоден, как камень. Обиженная Зефирина не хотела ему верить. Ему пришлось пасть на колени, обнять ее, лаская, сжать в объятиях, чтобы победить сопротивление и увести на их ложе под балдахином. Прижимаясь к Фульвио, Зефирина констатировала: победа осталась за ней. Больше за время путешествия ревнивый сицилиец ни разу не возвращался к этой теме и не сделал ни одного намека касательно Кортеса или Сото. Зефирина похоронила последних призраков, разделявших ее с мужем. Ночи на воде… безмятежные ночи Сумеречного моря, бурные ночи под звездным небом Атлантики, ночи любви, ночи, в которые Зефирина заново узнала тело Фульвио, а Фульвио – тело Зефирины. Она делала его своим рабом, он ее – одалиской. Он уже не мог обходиться без нее. Как можно было забыть медовый вкус ее кожи, пьянящий запах ее волос, нежное золотое руно внизу? Они смотрят друг на друга с побледневшими от наслаждения губами. Их глаза блестят. Зефирина, раскинувшись, стонет, ожидая высшего мгновения страсти. Она вытягивает руки, привлекая Фульвио. С рычанием он опускается на нее, сначала мягко проникает в это укрытие, предназначенное для него… Жар этого гнезда опьяняет его. Оно обжигает… переполняет его… Губы Фульвио ищут рот Зефирины. Они задыхаются, отдают себя, стремятся друг к другу. Они до такой степени созданы друг для друга, что с трудом в это верят. Они вместе вскрикивают… вместе умирают в вечной пене на вершине наслаждения. Снаружи о борта галеры плещет морская вода. Через девяносто дней благополучного плавания путешественники, уже испытывавшие недостаток пресной воды, увидели, наконец, на горизонте землю. За это время они потеряли двух лам, трех лошадей и, увы, десятерых человек, умерших от болезней. Возбужденные, все собрались на палубе, обсуждая, что это за земли: коса ли Бретани или «рог» Португалии[276]. Зефирина держала Луиджи на ремешке, поскольку малыш теперь ходил и бегал повсюду. Фульвио удалось избежать встречи с испанскими галионами. Все надеялись, что достигли берегов Франции и, стало быть, не попадут в застенки Карла V. Белые чайки летали над мачтами. Гро Леон хлопал черными крыльями в знак радости. Маленькие суденышки рыбаков шли навстречу тяжелой незнакомой галере. Из предосторожности, по распоряжению Фульвио, флаги на судне были спущены. – Эй, там, на лодке! Где мы находимся? – крикнул он по-французски. – God damn, man, what wind blows thee here?[277]ГЛАВА XLI ЭТИ «ПРОКЛЯТЫЕ» АНГЛИЧАНЕ
– И каковы же эти дикари, княгиня Фарнелло? – Как вы и я, ваше величество, – ответила Зефирина. Она сопроводила свои слова изящным реверансом. Услышав этот смелый ответ, Генрих VIII нахмурил рыжие брови. Его лицо здоровяка и любителя охоты, побагровело. Весь двор трепетал, предчувствуя, как омрачится этот прекрасный солнечный день одним из знаменитых приступов гнева короля Англии. Все уже отступили от этой дерзкой Зефирины Фарнелло. Генрих VIII, однако, продолжал стоять перед ней, широко расставив крепкие ноги. На его бычьей шее вздулась вена. – Что это значит, миледи? Зефирина, улыбаясь, выпрямилась, в своем пышном голубом платье а ля Тюдор, с глубоким прямоугольным вырезом. – Это значит, сир, что у них есть глаза, нос, рот, тело и, клянусь, все остальное! В плоской шляпе с пером, усыпанный золотом и серебром, толстый Генрих разразился грубым хохотом. – Все… абсолютно все? Вы уверены, миледи? – Согласно моим наблюдениям, естественно, я имею ввиду взглядом…, а не на ощупь… да, ваше величество. Генрих расхохотался. Успокоенные придворные последовали примеру короля. Они опять приблизились к Зефирине, имевшей счастье угодить ему. – Но у вашего короля инков есть… вы понимаете, о чем я спрашиваю, миледи? – произнес король, сделав красноречивый жест. – Я предполагаю, сир, не более того, как и в случае в вашим величеством; однако я не могу утверждать это в отношении короля инков, поскольку находилась не столь близко к его королевской персоне! И, конечно, к его королевскому предмету. Скромно опустив глаза, Зефирина снова присела в реверансе. Она попала в точку. Шутки именно в таком фривольном духе обожал Генрих. Он стоял в своем пестром, отороченном мехом наряде, и его круглое брюхо содрогалось от смеха. – Ха! Ха! Ха! Королевский предмет… Намотайте себе на ус, сударыни, только француженка обладает таким остроумием. – Француженка, в замужестве ставшая итальянкой, ваше величество! – поправила Зефирина. – Верно. Где этот счастливый смертный, который обладает женщиной со столь хорошо подвешенным языком… Приведите его и Монтроза тоже. Один из придворных бегом спустился к Темзе в поисках князя Фарнелло, который беседовал у реки со своим другом Мортимером. Генрих VIII повернулся к двум вельможам, которые приветствовали его. – Милорд Фарнелло, мы вас поздравляем с вашим выбором. Миледи Зефирина развеяла нашу скуку… О-хо-хо… – (Толстый Генрих зевал.) – Монтроз, ты хорошо сделал, что привез их в Виндзор. Появляйтесь при дворе, когда хотите, князь Фарнелло и… О-о-х, однако, не пора ли ужинать? – забеспокоился Генрих, поглаживая пальцами в перстнях свой толстый живот. – Вы идете, любовь моя? Он обернулся к прекрасной Анне Болейн, в которую, по-видимому, все еще был влюблен. Хрупкая и болезненная молодая женщина последовала за своим коронованным любовником. Зефирина почувствовала к ней жалость. Ей показалось, что у Анны был слишком печальный вид для фаворитки короля. – Король Генрих разводиться с королевой Екатериной, чтобы жениться на миледи Анне, – прошептал Мортимер. – Это вызовет много перемен здесь, мой дорогой, – заметила Зефирина. – Да, мы в Англии менять религию… не быть католики! – И только? – усмехнулся Фульвио. – Не смеяться, лицо мира быть изменено! – Вы хотите сказать, Мортимер, что собираетесь стать протестантами? – Да, нас ждет большой раскол! Стать протестантами, чтобы… протестовать против папа! – И все потому, что король женится на Анне Болейн! Невероятно! – поразилась Зефирина. – Чтобы жениться на вас, моя любовь, я стал бы язычником, – бросил Фульвио. – Но вы и так язычник! – ответила Зефирина, смеясь. Нежно обнявшись, Фульвио и Зефирина поднялись по аллеям к Виндзорскому дворцу, в сопровождении своего друга Монтроза, который представлял их придворным. Высадившись в Плимуте, чета Фарнелло спешно послала Паоло в замок Монтроза на побережье Корнуэлла. По счастью, милорд Мортимер находился на своих землях и собирался произвести перепись своих овец числом в шесть тысяч! Краткая записка, принесенная слугой-ирландцем Фицпатриком, была ответом герцога друзьям: «Приезжайте скорей». Фульвио продал несколько камней. Золото он распределил между своими людьми, которые горячо благодарили своего капитана. Они с волнением расстались в порту Плимута, и каждый отправился навстречу своей судьбе. Галеру изрядно потрепало в долгом путешествии. Починка обошлась бы слишком дорого. Поэтому князь и княгиня Фарнелло покинули свое судно вместе с малышом, верными товарищами, Пандо-Пандо, Гро Леоном, лошадьми и оставшимися в живых ламами. Экипаж, запряженный четверкой лошадей, с кучером, лакеем и стражами на подножках, доставил молодую чету к Монтрозу. Английский герцог умел жить! Трое молодых людей встретились с искренней радостью. – Ао! Я очень счастливый, вы живой… Фарнелло! – воскликнул белокурый Мортимер, прижимая к груди своего друга Фульвио. – Я еще более счастлив. Надеюсь, вы больше не страдаете от раны после нашей злосчастной дуэли? – поинтересовался с тревогой князь. Выказывая должную признательность и приветливость хозяину, Зефирина держалась от него на дистанции. Она помнила его натиск в Мадриде, но Мортимер, казалось, все забыл. Зефирина наслаждалась прогулкой по зеленеющему английскому полю. Луиджи посадили на пони. Пили овечье молоко. Мадемуазель Плюш кокетничала с Фицпатриком. Пандо-Пандо с помощью Паоло, Пикколо, Буа-де-Шена и Ла Дусера привыкал к новому миру. Индеец, как и ламы, вызывал любопытство местных жителей. Гро Леон любезничал с одной из голубок. Фульвио и Мортимер часто ходили на лисью охоту. Зефирина иногда сопровождала их. Подобно амазонке, она лихо преодолевала верхом изгороди и рвы. Зефирина вновь превращалась в княгиню Фарнелло. Именно в эти отрадные дни она поняла, что, возможно, беременна. То, что ребенок был зачат на корабле, наполняло ее радостью. Она видела в этом чудесный знак, еще более сближавший ее с Фульвио и стиравший прошлое. Несмотря на настойчивые возражения Плюш, она ждала окончательного подтверждения своей догадки, ни слова не говоря князю. Ведя приятную жизнь уМонтроза, она постоянно думала о Коризанде. Ей не терпелось вернуться во Францию, чтобы вновь обрести свою дочь. Проведя несколько недель в этих владениях, они покинули замок и направились в Лондон. Мортимер предложил князьям Фарнелло приют в своей резиденции в южной части города, где сады спускались к самой Темзе. Фульвио продал одному лондонскому ювелиру за хорошую цену рубин. На вырученные деньги они оделись по моде Тюдоров, и герцог Мортимер повез своих друзей ко двору в Виндзор. Встреча с Генрихом VIII прошла очень удачно. В экипаже, который вез их в Лондон, Мортимер пребывал в хорошем расположении духа. – Что вы сказали его величеству, он так развеселился? – спросил Фульвио с любопытством. Зная его ревнивый характер, молодая женщина ответила уклончиво. На лондонском мосту они обнаружили скопление повозок и зевак. Люди сгрудились, наблюдая водные состязания на Темзе. Поодаль на своего рода деревянной арене разворачивался медвежий бой. Мортимер приказал остановить экипаж, предложив своим друзьям прогуляться в толпе. Они завернулись в плащи, чтобы избежать охотников за кошельками. Зефирина забавлялась, наблюдая это пестрое сборище, состоявшее из нищих, ремесленников, буржуа и знатных господ. Втроем они вошли в кабачок выпить кувшинчик очень уважаемого в Англии напитка, который варили из проросшего ячменя и ароматизировали цветами хмеля. Жители острова называли эту золотистую жидкость bier[278]. Зефирина проявила умеренность. Иначе обстояло дело с Мортимером и Фульвио, которые осушали кружку за кружкой. Потеряв твердость в ногах, они не были в состоянии забраться в экипаж. Зефирина призвала на помощь Пикколо и Фицпатрика. Помощники так «напробовались» этого проклятого напитка, что были ничуть не лучше своих господ. Что же до кучера, он был весел и не мог подняться со своего сиденья, словно его к нему пригвоздили. Разгневанная Зефирина затолкала Фульвио и Мортимера в карету. Они рухнули на пол с безудержным смехом. Высунувшись из окна экипажа, Зефирина приказала кучеру ехать домой, умоляя небо, чтобы оно уберегло их от падения в яму. В большой гостиной оба упали в кресла, отказавшись от отвара ревеня, превосходного средства против опьянения, которое Зефирина им предлагала. Мортимер поднялся, чтобы потребовать у слуг два кубка с их любимым напитком. Во время новых возлияний с Фульвио Мортимер, захваченный внезапной идеей, прокричал: – Ах! Мой добрый друг Фульвио! Вы не знать, как я… Добрый друг! – Еще бы я не знал! Ты, Мортимер, ты – мой брат, – заверил Фульвио, с трудом шевеля языком. – Да мой брат! Мортимер сжал Фульвио в объятиях. Под раздраженным взглядом Зефирины они обнимались, крепко похлопывая друг друга по спине. – Я так любить вас, Фульвио… что жениться на ваша вдова! Мортимер плакал. Фульвио тоже. – Мой друг, Мортимер, ты жениться на моей вдова? – Да, дорогой, я сказать бедная маленькая Зефирина, вы стать миледи… Монтроз… Я заменить Фульвио во всем! Зефирина заметила, как взгляд Фульвио изменился, невзирая на пары алкоголя. Она решила вмешаться. – Вы оба не понимаете, что говорите. Идите спать. Она взяла Фульвио за рукав, но муж оттолкнул ее. – На…зад су…да…рыня. Фульвио схватил Мортимера за грудки и, стоя с ним нос к носу, прорычал: – Ты говоришь, что просил мою жену… вступить в брак? – Да… для… дружбы. – И что она тебе ответила? – О! Да, очень довольная бедная маленькая Зефирина, покинутая! Он сказал да! – Но это неправда! Не слушайте его, я отказала! – воскликнула Зефирина. Слишком поздно, шпага Фульвио уже вылетела из ножен. – Защищайтесь, Мортимер! Вы оскорбили мою честь! – Я… не понимать… вы хотеть драться? Мортимер запутался, пытаясь извлечь свою шпагу. – Остановитесь, вы сошли с ума! Рискуя попасть под удар, Зефирина пыталась встать между ними: – Но вы же друзья, поймите… – О… отойдите, из…менница! – вскричал Фульвио. – На помощь! Зефирина бросилась искать подкрепления в передних. Она вернулась с Паоло, Ла Дусером и Буа-де-Шеном. Слишком поздно, клинки уже пошли в ход. Поединок протрезвил Фульвио. Он дразнил Мортимера. Последний отступал, уворачиваясь. – Это нас освежило! – кричал Фульвио. – На этот раз… я вас убиваю… друг! – И женитесь на моей вдове! – с сарказмом бросил Фульвио. Сделав выпад, он нанес удар, который оцарапал колет Мортимера. Несмотря на опьянение, оба оставались отменными фехтовальщиками. На глазах Зефирины, у которой от ужаса подкашивались ноги, они входили в раж, ловко отпрыгивали влево и вправо, парировали удары, наносили ответные, обегали вокруг статуй, переворачивали столы и стулья, повторяли обманные движения и обходы. Фульвио искал окно. Алкоголь не позволял ему быть вполне уверенным в своих движениях. Мортимеру тоже. Оба дуэлянта сделали выпад одновременно. И одновременно получили раны: один в руку, другой в бедро. Зефирина с криком бросилась к Фульвио, который упал у ног Мортимера. У герцога рука была в крови. – В следующий раз, клянусь… я вас убью! – Несчастный, – сморщился Фульвио, держась за бедро. – Это я вас убью… и с превеликим удовольствием. Пришлось их разнимать, они перешли на кулаки. Оставаться после всего было по меньшей мере затруднительно. Хирург осмотрел рану Фульвио и объявил, что ранение не смертельно. Зефирина встретилась с Мортимером, у которого рука висела на перевязи. Английский лорд протрезвел. Сконфуженный случившимся конфликтом, он, понурив свою белокурую голову, признал, что наговорил лишнего. Зефирина сухо поблагодарила его за гостеприимство, и семейство переехало на постоялый двор в старом городе. После восьмидневной лихорадки Фульвио оправился. Его отношение к произошедшей стычке не отличалось от того, какое продемонстрировал Мортимер. Смущенный, подобно большому ребенку, он позволял жене ухаживать за собой. По обоюдному согласию супруги не возвращались к теме поединка. Только дурак Гро Леон кричал: – Sangdieu! Spectaculaire! Sang! Saigner! Saignoir![279] Потеряв терпение, Зефирина заперла его в шкаф. Ей надоела эта Англия и эти проклятые островитяне с их пивом и вечными поединками… Фульвио еще прихрамывал. Ничего не говоря Зефирине, он отправился в матросскую таверну на берегу Темзы. Там свел знакомство с английским капитаном, который готовился через восемь дней отплыть на своем плашкоуте[280] из Портсмута в Дьепп. За один бриллиант (мешок был уже почти пуст) Фульвио получил место на борту вместе со своей маленькой семьей, лошадьми и ламами, которые, судя по виду, хорошо переносили британский климат с его туманами. Когда князь сообщил новость жене, от радости она бросилась ему на шею и призналась, что ждет ребенка. Еще один ребенок! Фульвио был вне себя от счастья. Ночью их примирение было страстным. В Портсмуте Луиджи сидел на руках мадемуазель Плюш. Зефирина и Фульвио с мостика наблюдали за маневрами судов, когда с пристани раздался оклик: – Старый друг! Это был красавец Мортимер Монтроз, элегантный и такой безмятежный, как будто ничего не произошло. Лорд поднялся на борт. Он прибыл не как «друг», а как полномочный представитель Генриха VIII. «Его величество сожалеет, что не удалось встретиться с Фарнелло в Виндзоре еще раз. Король предлагает его светлейшему высочеству князю Фарнелло мирный договор и хартию дружбы между Англией и его княжествами Сицилией и Ломбардией. Толстый Генрих ищет союзников, независимых от короля Франции и Карла V, в Италии, какими бы маленькими они ни казались в сравнении с его большим животом». Толстый Генрих не изменился. Все такой же хитрец. Единственный из трех владык, который всегда заставлял Европу таскать для себя каштаны из огня. Первой мыслью Фульвио было отказаться. Зефирина отвела его в сторону. Она по-прежнему любила политику. – Подумайте, мой друг, речь не идет о союзном договоре, который мог бы вовлечь нас в случайную войну. Это договор о мире и дружбе. Латинское amicitas означает: чувство привязанности или симпатии, а pax – взаимоотношения между лицами, которые не находятся в ссоре… Мы ничего не теряем, а только выигрываем, поставив свою подпись рядом с подписью толстого Генриха… – Ваше рассуждение понравилось бы моему другу Макиавелли, – заметил Фульвио. – Как приятно иметь ученую жену! Это насмешка? К великому изумлению Зефирины, ее супруг, суверенный глава государств, о которых не мог бы сказать, существуют ли они еще, подписал хартию-соглашение с Генрихом VIII. Корабль снялся с якоря. Мортимеру пришла пора сойти на берег. Выполнив свою миссию, Монтроз пожал Фульвио руку. – До следующего раза, Мортимер! – сказал князь со значением. – Будьте осторожны, Фульвио, в третий раз я вас убью! – пригрозил Мортимер полусерьезно, полушутя. – Следующего раза не будет, – твердо пообещала Зефирина, разводя их.ГЛАВА XLII МИЛАЯ ФРАНЦИЯ
– Знаешь, Фульвио, наверное, сама судьба привела меня сюда. Мне нужно исполнить одно священное для меня обещание, – сказала Зефирина, когда через два дня они прибыли в порт Дьепп. Супруги оставили Луиджи под присмотром мадемуазель Плюш в местной гостинице, где сладко пахло воском и яблоками. Зефирина с трепетом ступала по земле столь давно покинутой ею Франции, восхищалась красотой города и любезностью его жителей. В нескольких словах она объяснила мужу, в чем состояло ее поручение. Сопровождаемые Паоло и Пикколо, Зефирина и Фульвио отправились на поиски дома мессира Жана Анго, арматора. Они остановились перед роскошным дворцом, украшенным деревянной позолоченой резьбой и обрамленным итальянскими террасами. – Мессира Анго сегодня нет дома. Его превосходительство отбыли в свой владения в Варанжевиль, – ответил вышколенный лакей. – Это недалеко отсюда, – добавил он, указав им дорогу. Супруги Фарнелло скакали вдоль берега моря, мимо пляжей и скал, пока вдалеке, под тусклым серым небом Нормандии перед ними не вырос настоящий флорентийский дворец. Виолы и лютни гармонично вплетали свои напевы в рокот прибоя. Мэтр Анго давал бал в своем парке. Фульвио и Зефирина назвали свои имена. Мажордом провел их в пустую гостиную. Из окон дворца Зефирина увидела великолепный парк, простиравшийся до самого моря, пенящегося белыми барашками волн. – Вы хотели говорить со мной? В комнату вошел сам великий арматор. Это был полный мужчина лет пятидесяти, с лукавым лицом и голубыми, как у всех нормандцев, глазами; взор его был живым и проницательным. Обменявшись общепринятыми приветствиями, Зефирина начала свой рассказ: – Мессир Анго, мне довелось оказаться в камере, где сидел Жан Флери… – Увы, увы… Карл V отнял у меня моего друга, приказав казнить его, хотя я предлагал за его освобождение 50 000 экю! – поспешно вздохнул Анго. – Он знал, что должен умереть, и взял с меня клятву рассказать вам, где он спрятал большую часть сокровищ Монтесумы, – произнесла Зефирина. Мэтр Анго смотрел на супружескую пару, принадлежавшую, судя по манерам, к высшей аристократии, и не мог понять, откуда этой молодой прекрасной женщине стала известна столь важная тайна. – Мессир, на мысе Аг, к северо-западу от Котантена, вы найдете большой камень высотой примерно шесть футов, очертаниями напоминающий лошадь. Под ним Жан Флери спрятал две шкатулки с драгоценными камнями и дорогими украшениями… У него не было времени вернуться в Дьепп и предупредить вас: он отплывал на перехват испанских судов… Это было его последнее плавание, тогда-то его и схватили! – взволнованно завершила Зефирина. Всякий раз, вспоминая об аресте Жана Флери, она испытывала тягчайшие угрызения совести. Мэтр Анго не хотел отпускать от себя Зефирину и Фульвио. – Вы мои гости! – истинно королевским тоном объявил арматор. Отослав двоих слуг на мыс Аг, он отправил карету за Луиджи и спутниками своих новых гостей. Если Жан Анго и был изумлен, увидев сопровождавшую князей Фарнелло свиту, то, во всяком случае, сумел это скрыть. Впрочем, и ламы, и инка Пандо-Пандо были для него равно экзотическими животными. Со всей округи стекались нормандцы – поглазеть на диковинных животных и индейца в наряде из перьев. Зефирина была в отчаянии, видя, как томится Пандо-Пандо. Ему было плохо без своего солнца и без своих богов. Две недели князь и княгиня Фарнелло наслаждались гостеприимством Жана Анго. – Seigneur! Saumon! Sardine! Saucisse![281] – каркал Гро Леон. Он вполне оценил превосходную кухню Варанжевиля. С самого приезда в Нормандию Буа-де-Шен не находил себе места. Однажды утром, взволнованно теребя в руке шляпу, он пришел к супругам и заявил, что расстается с ними. Свою долю сокровищ он хотел употребить, чтобы купить: – Хорошенький кусочек лужка с дюжиной упитанных коровок, мощного бычка, трех свинок, всякой мелкой живности и чудесную несушку! И все это неподалеку от Вайе. Зефирина и Фульвио с сожалением расстались со своим верным другом. – Берегите себя, мадам Зефирина! И вы тоже, капитан. Может, еще и свидимся; когда будете в Нормандии, заверните как-нибудь ко мне на ферму! – крикнул нормандец, вскакивая на лошадь. Со слезами на глазах, Зефирина вернулась в замок Варанжевиль. Трепетно, как делают все беременные женщины, она положила руку себе на живот. Ребенок зашевелился. Князь и княгиня Фарнелло покидали Варанжевиль в роскошной карете, в сопровождении нескольких повозок, запряженных великолепными лошадьми, – это были подарки Жана Анго. – Я не знаю, что нас ожидает, мессир Анго, а поэтому не могу пригласить вас к себе, чтобы отблагодарить за ваше гостеприимство и доброту! – сказал Фульвио, прощаясь с арматором. – Удачи вам, сеньор Фарнелло… Да хранит Бог вас и княгиню Зефирину! Ваш приезд скрасил мою стариковскую жизнь. Они уже въезжали в Париж, когда их нагнал посланец арматора. Он привез шкатулку из черного дерева. Зефирина открыла ее. На шелковой подушке лежал огромный изумруд, а рядом записка: «На память о Жане Флери. Ваш Жан Анго». Столь деликатным поступком арматор не только хотел выразить супругам свою признательность, но и сообщал им, что нашел шкатулки с сокровищами Монтесумы. Только в Париже Зефирина решилась рассказать Фульвио, как она «продала» Жана Флери. Фульвио успокоил ее. – Любовь моя, прекратите мучить себя: Случилось только то, что должно было случиться. – Но, Фульвио, я… Он замкнул ей губы поцелуем. – Вы не сделали ничего плохого. Сами того не сознавая, вы исполнили предначертание судьбы. – Вы, Фульвио, поклонник науки, верите в существование высших сил? – Высшие силы находятся в самом человеке, любовь моя. Он даже не подозревает, сколько всего ему предстоит сделать и открыть. Как уже предсказал мессир Леонардо да Винчи, человек поднимется в воздух на летательных машинах, которые будет приводить в движение при помощи ног. Возможно, он погрузится и на морское дно… Зефирина испуганно перекрестилась. – Вы забываетесь, Фульвио, не следует так говорить, вас могут услышать! – Не бойтесь, милая, я уже был осужден инквизицией, нельзя же дважды арестовать дьявола! – рассмеялся Фульвио. Он поцеловал жену, и, обнявшись, они вернулись в гостиницу, где Луиджи уже успел поставить все вверх дном. – Мадам, если мы и дальше будем жить как цыгане, я умываю руки! – угрожающе начала Плюш, испытывавшая невыразимые мучения, пытаясь призвать к порядку разбушевавшегося Луиджи. – Черт! Нечисть! Ну, вылитая мамзель Зефи! – заявил Ла Дусер, чем очень насмешил Фульвио. В Париже король расположился в Турнельском дворце[282], неподалеку от Бастилии, но, как всегда неугомонный, уехал на охоту в окрестности замка Сен-Жермен-ан-Лэ. Князь и княгиня Фарнелло выехали следом… Франциск I уже снялся с места и вместе со всем двором направился в долину Луары. Чем дальше ехала Зефирина по дорогам Франции, тем больше ей казалось, что она впервые совершает это путешествие. Рядом с Фульвио она заново открывала свою страну, восхищалась разбросанными среди лесов деревнями, взметнувшимися в небо стрелами колоколен и капризной Луарой, несущей свои серебристые воды меж покрытых виноградниками берегов. В Менге князя и княгиню, а также их спутников постигло несчастье. Умер Пандо-Пандо. Несколько дней он ни с кем не разговаривал, отказывался от еды – он позволил смерти тихо забрать себя. Ни один священник не пожелал освятить могилу язычника. Фульвио и Зефирина с трудом нашли место, чтобы пристойно похоронить его. После долгих поисков один молодой аббат, менее непреклонный, чем его собратья, согласился похоронить его ночью на кладбище своей церкви. Он даже прочитал над покойным короткую молитву и перекрестил его. Над его могилой Фульвио и Зефирина сделали надпись, имевшую двойной смысл: «Пусть Господь и Солнце примут нашего друга на небесах». Они оставили кошелек, набитый экю, попросив хорошенько ухаживать за могилой, и продолжили свой путь. Зефирина тяжело переживала смерть Пандо-Пандо; она винила в ней себя. В довершение дорожная тряска вконец измучила ее. Принимая во внимание состояние Зефирины, было решено передвигаться по воде. Карету, повозки и людей погрузили на две баржи, и перевозчики потянули их по реке по направлению к Блуа. Франциска там уже не было, он отправился в Шамбор… нет, в Амбуаз! Фульвио худел. Они следовали за королевским кортежем, свита же короля не оставляла после себя ни единой курицы, ни одного цыпленка. Вечно странствующий король вез за собой в обозе шесть тысяч дворян и двенадцать тысяч слуг (обойщиков, конюших, лакеев, погонщиков мулов и прочую обслугу). Во Франциске I пробудился дух первых Капетингов, проводивших в походах большую часть жизни. Наконец, двор остановился на несколько дней в Амбуазе. Разместив свою маленькую семью в гостинице, Фульвио и Зефирина, облачившись в парадные одежды, поднялись в замок. В платье из золотистой ткани, отделанном бархатом и серебряными кружевами, княгиня Зефирина Фарнелло попросила аудиенции у его величества. Из осторожности было решено, что Фульвио, бывший противник Франциска I, смешается с толпой придворных и будет ждать известий от жены. Подобная тактика не нравилась Фульвио, однако Зефирина была непреклонна. – Моя дорогая дочь, какое счастье… А мы уже думали, что ты исчезла! На виду у всего двора Франциск I раскрыл объятия Зефирине, словно блудной дочери. Молодая женщина смотрела на своего короля. Заключение состарило его. Смех утратил беспечную веселость. Карие глаза с грустью смотрели на мир. Франциск I страдал, но был по-прежнему великолепен; камзол его был сплошь расшит золотом и усеян драгоценными камнями, из-под камзола виднелась богато вышитая черная шелковая рубашка, на боку висела шпага в белых бархатных ножнах. Под завистливыми взглядами придворных Франциск I увлек Зефирину в сад, раскинувшийся над Луарой. После того как он рассказал о себе, о неудавшемся побеге – со смехом, об освобождении, о вечном поединке со своим «братом» Карлом V, король пожелал узнать, что произошло за это время с Зефириной. Она поведала ему о своем путешествии, очаровала его описанием королевства инков, рассмешила рассказом о толстом Генрихе VIII и плавно перешла к своей встрече с мужем, князем Фарнелло Ломбардским. К ее удивлению, Франциск I подтвердил, что «был бы весьма рад, если бы Зефирина представила ему своего дорогого мужа». Со времен Мариньяна и Павии много воды утекло. К королю приблизился Анн де Монморанси. Он и Зефирина холодно приветствовали друг друга. Он все еще считал ее выскочкой, Зефирина же по-прежнему не терпела зануд. Присутствие Монморанси напомнило кое о чем королю. Он наморщил свой длинный нос. – Анн… Где Миньон? Зефирина знала, что король так называл свою сестру Маргариту. Забывшись от радости, она воскликнула: – А разве ее королевское высочество здесь? – Ее величество королева Наварры! – уточнил, улыбаясь, Франциск. – Да, Миньон проездом из своих владений решила навестить нас… и мадам моя сестра не одна! – добавил он лукаво. – Зефирина, милая Зефирина… какой приятный сюрприз! Королева Маргарита Наваррская подбежала к подруге и нежно обняла ее. Месяц назад в Сен-Жермене она родила дочь, маленькую Жанну[283]. Как и все матери в мире, она гордо показала ее Зефирине. Ко всеобщей неожиданности, Маргарита, поэтесса и педант, с упоением возилась с малышкой. Заглянув в колыбельку и полюбовавшись юной принцессой, Зефирина выпрямилась; сердце ее неистово билось. Она ожидала, что королева Наварры сообщит ей о другой маленькой девочке. Зефирина, ни жива и ни мертва от страха, кусала губы, ни решаясь прервать болтовню Маргариты. Не сознавая своей жестокости, королева Наваррская рассказывала о своих придворных дамах, о своем дворе в По, о поэтах и протестантах, которых она принимала у себя, о своем супруге, прекрасном Анри, умелом, храбром военачальнике и отважном воине, в которого, казалось, она была сильно влюблена. Зефирина так ослабела, что была вынуждена прислониться к спинке кресла. Раз Маргарита ничего не сказала о Коризанде, значит, случилось какое-то страшное несчастье. Слуга Сильвиус принес государыне часослов с прекрасными миниатюрами. Прервав приветственные излияния Сильвиуса в адрес княгиня Фарнелло, Маргарита прошептала ему на ухо несколько слов. Сильвиус быстро вышел. – Мадам… – прошептала Зефирина. – Я готова услышать любую правду, пусть даже самую страшную! И не выдержав душевного напряжения, она упала к ногам Маргариты. Рыдая, она целовала край платья королевы. – Полно… Успокойся, – заговорила Маргарита, гладя золотые волосы Зефирины. – Не волнуйся, разве так готовятся к встрече с дочерью? При этих словах Зефирина невидящим взором взглянула на Маргариту, и по ее щекам заструились слезы. Улыбаясь, мадам Маргарита указала на маленькую дверь, скрытую гобеленом. Сильвиус только что откинул ковер, чтобы пропустить маленькую девочку с большими зелеными глазами и длинными золотистыми волосами. Настоящая куколка, малышка, путаясь в длинном платье с фижмами, заковыляла к матери. – Коризанда! – воскликнула Зефирина, протягивая руки ей навстречу. – Она похожа на вас как две капли воды, дорогая, – заявил Фульвио, глядя на дочь. Эмилия хорошо позаботилась о девочке. Она без устали рассказывала Зефирине о жизни Коризанды при Наваррском дворе. Маргарита обожала девочку, она сдержала слово и заботилась о ней, как о собственном ребенке. Сильвиус был само снисхождение по отношению к «бедной сиротке». Никто не сомневался, что Зефирины больше нет в живых. Счастье, как и несчастье, никогда не приходит одно: великодушный король Франциск особым указом вернул Зефирине земли и поместья, замки Багатель и Сен-Савен, разоренные и пришедшие в упадок со времен битвы при Павии, а затем еще более захиревшие после смерти маркиза Багателя, отца Зефирины. – Тогда я была очень несчастна, – произнесла Зефирина, глядя на мощные башни Сен-Савена. Она только что вступила во владение своими поместьями и сейчас стояла, опираясь на руку мужа. – Ты меня радуешь! – насмешливо заметил Фульвио. – Именно поэтому я и была несчастна! – с улыбкой ответила Зефирина. – Мой выкуп! – проговорил Фульвио. – Здесь умерла от яда моя мать, отравленная доньей Герминой… – Не думай больше об этом, радость моя. Фульвио был прав; они обосновались в значительно менее мрачном замке Багатель. Близнецы Луиджи и Коризанда встретились так, будто они никогда не расставались. Под снисходительным взором мадемуазель Плюш и карканье Гро Леона они играли и бегали по аллеям парка. Всем женщинам война успела изрядно надоесть. Благодаря «дамскому миру», мадам Луиза, мать Франциска I, и Маргарита Австрийская, тетка Карла V, заключили союз с целью примирить своих непослушных детей. В Камбре, наконец-то, был подписан мирный договор. Королева Элеонора, сестра Карла V, соединилась со своим мужем Франциском I. Среди всех этих событий король Франциск предоставил частную аудиенцию князю и княгине Фарнелло. Начало ее было неудачным. Похоже, Франциск I был не в духе. Зефирина хорошо знала его. В этот день его длинный нос был излишне заострен. – Итак, князь Фарнелло, галеры моего «брата» Карла пошли вам на пользу? – А разве ваше величество извлек пользу из тюремного заключения? – не замедлил ответить Фульвио. – В каком же сейчас состоянии находятся ваши итальянские поместья? – Вероятнее всего, в том, в каком их оставили войска вашего величества… Франциск I закашлялся. – Вы были при Павии, князь Фарнелло? – Да, ваше величество. – Сражаясь за Карла Испанского? – За себя самого, ваше величество. – И что же вы выиграли? – Жену, сир! Ответ королю понравился. Он рассмеялся и сделал знак Зефирине и Фульвио сесть на табурет напротив него. Привычным жестом, сам того не замечая, он пощипывал свою каштановую бородку. – Карл V считает себя победителем, – вполголоса начал король. – Он император в Германии, король в Испании. Его брат Фердинанд правит в Венгрии, его сестра – в Нидерландах, его тетка управляет Миланом. У него есть Штирия[284], Каринтия[285] и Тироль… Но у него нет Бургундии. Он хочет ехать к себе во Фландрию и шлет нам чрезвычайного посла, чтобы получить разрешение проехать по земле Франции, которое, быть может, мы ему и дадим – как любому простому смертному. «Вот почему Франциск в таком плохом настроении!» – Все эти государства слишком велики!.. – воскликнула Зефирина, забыв о том, что она перебивает короля. – «Карл-мошенник» не может управлять всем! Франциск весело рассмеялся, услышав кличку, которой Зефирина наградила Карла. Затем продолжил: – Ты права, дочь моя… «Карл-мошенник» вынужден будет умерить свои аппетиты. Но Италия разделила нас навсегда. Возвращайтесь в ваши княжества, князь Фарнелло. Мы не возражаем видеть вас подле княгини, чья родина – Франция… Мы предлагаем вам заключить союз и дать обещание быть справедливыми друг к другу… Прижав руку к сердцу, Фульвио поклонился. – Мирный договор, сир, и документ о дружбе! – предложил он. – Прекрасно сказано! – воскликнул Франциск I. Зефирина и Фульвио обменялись понимающими взорами. Можно было подумать, что все короли Европы, наконец, решили договориться. Со времен резни в Павии и ужасов осады Рима[286] мир переменился. Генрих VIII разбавил свое пиво, Франциск I подлил в вино воды, а горделивый Леопард… был готов к переговорам. В таком состоянии духа Зефирина, счастливая тем, что ей удалось примирить Франциска I и мужа, вышла в королевскую приемную. Лавируя среди придворных, она не скрывала своей радости. Опираясь на руку мужа, она шептала ему: – Здесь нас больше ничто не удерживает, любовь моя… Пора возвращаться домой, наш ребенок должен родиться в Италии… Слова застыли у нее на губах. Привратник объявил: – Его превосходительство чрезвычайный посол его величества короля Испании. Одетый в черное, надменный, с презрительным выражением лица, навстречу Зефирине шел дон Рамон де Кальсада.ГЛАВА XLIII ТРИУМФ САЛАМАНДРЫ
Дон Рамон! Вот уж поистине дьявольская шутка! Именно этого человека Зефирина никак не ожидала увидеть при французском дворе, именно этого человека она хотела бы вообще больше никогда не встречать. Зефирина не сумела скрыть своего замешательства. Проницательный взор Фульвио перешел с дона Рамона на жену. Зефирине нужно было во что бы то ни стало увести мужа. – Мадам, я счастлив вновь встретить вас живой и в полном расцвете… Дон Рамон отвесил ей ледяной поклон. Однако Зефирина чувствовала, как под черными ресницами глаза его заблестели. Вспоминая, каким образом они расстались, он наверняка ощущал себя смертельно оскорбленным. Словно в страшном сне, она представила обоих мужчин друг другу. – Князь Фульвио Фарнелло, мой супруг… дон Рамон де Кальсада… Было совершенно ясно, что оба дворянина отнюдь не испытывали симпатии друг к другу. Если дон Рамон знал Фульвио, то узнал ли князь в нем того таинственного посланца Карла V, который приходил к нему в тюрьму? – Знаете ли вы, мадам, что Карл V был очень недоволен вашим внезапным отъездом? – бросил дон Рамон. – Да-а! – Его величество ожидал вас в Толедо, – настаивал дон Рамон. – О-о-о! Господи, как здесь жарко… Мне не по себе, Фульвио. Не могли бы вы позвать карету? – умоляющим голосом произнесла Зефирина. Она принялась нервно обмахивать себя веером. Исполняя просьбу жены, Фульвио сухо поклонился дону Рамону и торопливым шагом двинулся через толпу придворных. – По… почему вы приехали сюда, дон Рамон? – спросила Зефирина, дрожа как в лихорадке. Оглядевшись, дон Рамон увлек Зефирину в оконную нишу. – Король Испании прислал меня обсудить условия его проезда через Бургундию – он едет к себе во Фландрию. Вот уж действительно препятствие! – усмехнулся дон Рамон. – А вы все так же прекрасны, нет, еще прекрасней. Вы ждете ребенка, – с горечью произнес он. – Да, дон Рамон… О! Вы все еще сердитесь на меня! Но меня можно понять, я должна была… Клянусь вам, я собиралась приехать к вам в Толедо, но… – Замолчите, ни слова больше. Вы посмеялись надо мной… Вы обманули меня и неплохо позабавились! – Нет, не говорите так! Послушайте, мы не можем разговаривать здесь… Приходите… на краю парка Багатель. Там, где идет дорога на Шамбор… будьте там сегодня днем… Между тремя и пятью часами мой муж обычно играет в мяч… я буду ждать вас возле маленькой часовни, когда часы пробьют три. – Я приду, – ответил дон Рамон. В карете, которой правил Ла Дусер, Зефирина закрыла глаза. – Тебе действительно стало плохо? – встревоженно спросил Фульвио. – Немного… – Мне показалось, что речь шла о дипломатическом недомогании, вызванном желанием удалить меня! – заявил он, вытягивая свои длинные ноги в жемчужно-серых чулках. – Вечно ты что-нибудь выдумаешь, любовь моя, – вздохнула Зефирина. – Ты же знаешь, что нет ничего, чего бы я не могла тебе рассказать. Эта ложь испугала ее. Она уже готова была во всем ему признаться, пусть даже он не сумеет понять ее, и за этим признанием последует ужасный разрыв. – Кто этот человек? – спросил Фульвио. – Мне, показалось, что я уже его где-то видел. Подавив душевный порыв быть правдивой до конца, Зефирина постаралась ответить как можно небрежнее: – Дон Рамон? Фаворит Карла V! Это он некоторым образом косвенно помог мне получить сведения о тебе, а главное, о Луиджи… Этот безукоризненный дворянин оказал мне в Мадриде кое-какие услуги, и я весьма признательна ему за них. Удовлетворившись таким весьма правдоподобным объяснением, Фульвио не стал настаивать. В половине третьего он в сопровождении Паоло и Ла Дусера отправился играть в мяч. Оставив близнецов под присмотром мадемуазель Плюш и Эмилии, Зефирина выскользнула из сада. – Scelerate! Sardine![287] – прокаркал Гро Леон. Она нервно шлепнула птицу по крылу. Привязав коня к изгороди, дон Рамон уже ждал ее возле часовни. Сняв шляпу, он поклонился ей. – Давайте немного погуляем? – предложила молодая женщина. Дон Рамон согнул руку в локте. Зефирина слегка коснулась ее пальцами. Она первой начала наступление. – Вы… вы хорошо доехали? – Великолепно! – Вы едете из Испании? – Нет, из Италии. – Вместе с его величеством Карлом V? – удивилась Зефирина. – Да, после сражений его величество решил заняться дипломатией, и он посетил… Павию, среди прочих городов… – А-а-а! А… вы… у вас все в порядке, дон Рамон? – Если вас интересует мое здоровье… – Sante![288] – проорал Гро Леон, взлетев на ветку. Дон Рамон остановился. Схватив Зефирину за руки, он устремил свой взор в ее огромные зеленые глаза; она выдержала его взгляд. – Я знал, что когда-нибудь непременно встречу вас, на этом свете или на другом. Почему… почему вы так бежали от меня? Почему не написали мне хотя бы слово? Я думал, вы умерли… или даже не знаю… Вы испарились. Неужели вам ни разу не пришло в голову, что я буду волноваться за вас, буду страдать? Я отправил на поиски сбиров, но безуспешно. Неужели я так напугал вас, или вы чувствуете ко мне такое отвращение, что решили, не предупредив, бежать от меня? Мне показалось, что вы все же испытывали ко мне некие чувства… я доказал вам свою привязанность… если ваш супруг остался жив, то только благодаря мне… И я сожалею об этом, да, сегодня я об этом сожалею! – мрачно завершил он. – Не говорите так, Рамон. И простите меня. Прошу вас, умоляю… Она искала слова, чувствуя, что обязана загладить свои ошибки. Она не могла оставить у себя за спиной такого врага, как дон Рамон. – Я упрекаю вас, Зефирина, в том, что вы убедили меня в своей любви, тогда как на самом деле вы только преследовали собственные интересы. – Но я вас любила, Рамон, искренне любила, вы произвели на меня неизгладимое впечатление, и сегодня меня мучит совесть… Казалось, дон Рамон облегченно вздохнул. – Так вы действительно любили меня? – Да, клянусь вам… Вы были моим первым… и единственным любовником… – утвердительно произнесла она, умоляя при этом провидение, чтобы оно никогда не свело его с Кортесом. Это второе признание, казалось, отчасти развеяло мрачные мысли дона Рамона. Он попытался обнять Зефирину. – Зефирина, божественная Зефирина… мне так не хватало тебя… вернемся к прошлому, нет ничего невозможного. Оставь его, поедем со мной… В Испании я сделаю тебя настоящей королевой. Он терял голову. Нежно, но вместе с тем решительно, Зефирина высвободилась из его объятий. – Друг мой, будь я свободна, я бы с радостью приняла ваше предложение, но вы сами понимаете – я уже не та, и мой долг… – Вы встретили мужчину вашей мечты! – горько воскликнул дон Рамон. – Я вновь обрела мужа, отца моих детей… – уточнила Зефирина, считая, что нет никакой необходимости рассказывать о своей любви к Фульвио. Она почувствовала, что встала на правильный путь. Дон Рамон несколько успокоился и вздохнул. – Ваше бегство, Зефирина, оскорбило меня. Ни об одной женщине я столько не думал, сколько о вас, Зефирина. Император, обычно столь невозмутимый, был искренне огорчен… Он несколько раз спрашивал меня о вас, а это не в его привычках… – Как чувствует себя император? – Император? Великолепно? – А его нервы? – Лучше… Образно говоря, «ваш» припадок был последним. Смотрите, а это даже любопытно, можно сказать, это вы избавили его от болезни. Вы же знаете, Карл V действительно хотел простить вас. – Но… это не поздно сделать и сейчас! – неожиданно произнесла Зефирина. – Это зависит от меня! – бравируя, заявил дон Рамон. – Я это знаю, Рамон. Но я также знаю, что вы слишком благородный человек, чтобы желать увидеть у своих ног некогда любимую вами женщину. – Вы правы, – надменным тоном произнес испанский вельможа. Зефирина не сдавалась. – Рамон, останемся друзьями. Мне бы хотелось, чтобы вы хоть немного любили меня… как сестру. – Сестру! – без всякого восторга повторил дон Рамон. – Ну да… (В отчаянии она заламывала руки.) Вы слишком великодушны, слишком могущественны, слишком умны, чтобы мстить. У вас такое нежное сердце… Хитроумная Саламандра знала, что лишняя толика лести в разговоре с мужчиной никогда не будет лишней. – Не забирайте у меня свой дар – вашу дружбу, а главное, подарите мне ваше уважение – ведь пока я могу только мечтать об этом! Ах, если бы вы знали, как я в них нуждаюсь! И она разрыдалась – совершенно без всяких усилий. Холодный и надменный дон Рамон был потрясен. – Перестаньте, Зефирина, я не выношу женских слез, и уж тем более не могу видеть, как плачете вы! – А я, как могу я жить… зная, что вы ненавидите и презираете меня! – Нет, Зефирина, нет, я согласен, я буду вашим другом, если никак иначе нельзя остановить ваши слезы. – Вы забудете прошлое! – Нет, этого я не забуду никогда… Но клянусь вам, сеньора, клянусь душой, что спрячу свои воспоминания далеко-далеко, запру их на ключ… – Тогда… приезжайте к нам в замок. Как друг, – прошептала Зефирина. – Как друг… – повторил дон Рамон, целуя ей руку. Когда Фульвио, еще разгоряченный игрой, вернулся из зала для игры в мяч, он нашел Зефирину в гостиной возле камина; она беседовала с тем самым испанцем, которого они сегодня встретили при дворе. – Дон Рамон де Кальсада прибыл предложить вам от имени его величества Карла V забыть старые распри… – быстро заговорила Зефирина, направляясь навстречу мужу. – Времена изменились, теперь впереди шествует дипломатия, монсеньор! – смиренно произнес дон Рамон. – Я весьма благодарен вам, ваша светлость. Но чем может быть полезен императору князь Фарнелло? Леопард по-прежнему был недоверчив. – Его величество желает установить мир в Италии. Он глубоко сожалеет о своей ошибке, из-за которой вы попали на галеры. Его величество был бы очень рад, если бы вы, ваше высочество вернулись в свои владения… Особенно, если я привезу ему составленный вами союзнический договор. – Союзнический договор… – повторил Фульвио… – в случае войны такой договор будет обязывать меня оказать поддержку войску его величества. – Господа, может быть, вам заключить договор о мире и согласии? – с поистине ангельской улыбкой произнесла Зефирина. – Подобная мысль должна понравиться его величеству! – одобрил дон Рамон. Пока составлялись бумаги, Фульвио с восхищением разглядывал жену. Теперь он был полностью уверен в ее верности и любви. Она оказалась хитрее своего противника. Саламандра победила «Карла-мошенника»! Вместе с Фульвио и мадемуазель Плюш Зефирина укладывала в сундуки одежду, когда доложили о посетительнице. Пришла Луиза де Ронсар, ее подруга детства. Молодые женщины нежно обнялись. Разговор зашел о прежних знакомых. – Маленький Пьер вырос… Знаешь, он уже пишет поэмы… – А Гаэтан? – равнодушно спросила Зефирина. – Он счастлив, женат, у него четверо детей. Он будет не прочь повидаться с тобой. Приезжай вместе с князем Фарнелло в Пуассоньер. Зефирина решила, что ее мужу незачем еще раз встречаться с ее бывшим женихом, о котором у него сохранились весьма живые воспоминания. Она уклонилась от ответа. Все это казалось ей таким далеким. Неужели она и в самом деле любила Гаэтана де Ронсара? Сейчас ей не верилось в это. Она рассеянно слушала Луизу, щебечущую о своей монотонной жизни в долине Луары. – А как ты, Зефирина? – наконец спросила она. – Я? – Ну да, дорогая, как ты живешь? Зефирина не знала, что отвечать. Рассказывать все, что с ней случилось, было просто невозможно. Она лишь сказала: – Я жду третьего ребенка! Она простилась с Луизой, показавшейся ей очаровательным призраком из далекого и невозвратного прошлого. Грустно, но им больше нечего было сказать друг другу. Через три дня, попрощавшись с Франциском и мадам Маргаритой, супруги Фарнелло отбыли в Италию. Зефирина хотела рожать непременно в Милане. В Маконе повозки погрузили на баржи, и они поплыли сначала по Соне, а потом по Роне. Возле Монтелимара река из-за частых дождей разлилась, и передвигаться по ней стало опасным. Они снова двинулись по ухабистым дорогам. Зефирина сжимала зубы, но никогда не жаловалась. Она была счастлива; с ней в карете были муж и дети, которых она постоянно ласкала. Иногда Фульвио оставлял ее и ехал впереди вместе с Ла Дусером и Пикколо. В окрестностях Салон-ан-Прованс Зефирина, побледнев от боли, застонала: – Я… к сожалению, я думала… что смогу двигаться дальше. Но нам надо… остановиться… здесь! – Salon! Serment![289] – нервно прокаркал Гро Леон. Так распорядилась судьба: кольцо замкнулось. Единственным врачом в Салон-ан-Прованс был Мишель Нострадамус. Срочно вызванный к Зефирине, он ничуть не удивился, лишь приказал перенести ее к нему в дом. – Нос… традамус! – извиваясь, прошептала она, раздираемая предродовыми болями. – Я знал, что вы вернетесь, Зефирина! – ответил доктор Нострадамус, успокаивая ее. – Так вот, значит, какой он, знаменитый доктор Нострадамус! – воскликнул Фульвио то ли с радостной, то ли с кислой миной. – Он самый, монсеньор. Я ждал вас и был готов оказать вам помощь, – проговорил Мишель, потихоньку выталкивая мужа из комнаты. – Sardine! Sante![290] – каркал Гро Леон. Но у доктора Нострадамуса не было времени приласкать птицу, которую он когда-то подарил Зефирине; вместе с мадемуазель Плюш они готовились помогать роженице. Может быть, причиной тому были умелые руки врача или таинственные травы, настоем из которых он поил ее, но сейчас Зефирина страдала меньше, чем при первых родах. С радостным вздохом Нострадамус быстро освободил ее от ребенка. Это был прехорошенький мальчик, весом девять фунтов. В память о своем общем предке Фульвио и Зефирина решили назвать его Саладином. Как и у его брата Луиджи и сестры Коризанды, у маленького Саладина также была кровавая роза, только под лопаткой. Зефирина была изумлена таким чудом. Супруги Фарнелло провели у Мишеля Нострадамуса двадцать дней. Теперь Фульвио и врач-астролог нашли общий язык. Оба были умны, занимались науками и разрабатывали немало научных теорий. Вечерами, при свете свечей молодые люди живо обсуждали воздействие двенадцати созвездий, или, как их называл Нострадамус, двенадцати звездных домов. Мишель согласился прочесть Фульвио и Зефирине некоторые из своих центурий:Уже не бушуют морские сраженья,
Великий Нептун отдыхает в глуби,
И красный бледнеет, боясь пораженья,
Но сам угрожает врагапогубить.
Философ! Ищи золотой самородок,
В мистических соках души и небес!
Дух – воздух материи всякого рода,
И Бог в частых звездах для знаний воскрес.
Расколоты молнией старые храмы,
Страдалец-народ устремился туда,
Ослы, кони, люди и древняя память
Защиты от голода ищут всегда.
Садится звезда на копье боевое,
Грай воронов слился со звоном мечей,
К стене бунтари понеслися волною,
И плачем погашен свет новых лучей[291].
ЭПИЛОГ НАВЕКИ!
Живя в Ломбардии, супруги Фарнелло пользовались всеобщей любовью. Слава Леопарда и Саламандры перешагнула далеко за границы их владений. В их заново отстроенном дворце собирались художники, поэты, музыканты, ученые. Разумеется, в замке Фарнелло занимались политикой и даже строили заговоры… Но целью их всегда были только pax et amicitas[294]. Мортимер де Монтроз нанес визит высокородной даме Зефирине. Английский герцог и итальянский князь встретились в третьем поединке, однако дело ограничилось несколькими царапинами. Утихомирившись, они стали обмениваться новостями. Сменив в своей стране веру, Генрих VIII решился отрубить голову своей дорогой и неверной Анне Болейн. Зефирина пожалела несчастную. Дети – Луиджи, Коризанда и Саладин – подрастали, красивые и отважные. Словно во сне, Зефирина каждое утро наблюдала, как они храбро садились на маленьких пони. Ла Дусер возложил на себя обязанность по воспитанию детей и, как заботливая мамаша, все время покрикивал: – Черт возьми! Ах, ты дьявол рогоносец! Чертенок! Мадемуазель Плюш влюбилась. Вскоре она вышла замуж за помощника нотариуса, который был на пятнадцать лет ее моложе и с восхищением взирал на свою пылкую Артемизу. Пикколо женился на Эмилии. Фульвио и Зефирина щедро одарили их. Только Паоло остался холостяком, преданным псом своего обожаемого Леопарда. Гро Леон свил гнездо с толстой подругой, такой же черной как он сам. Подругу назвали Сидони. Она не замедлила отложить кучу яиц, откуда вскоре вылупилась дюжина симпатичных птенчиков, столь же болтливых, как их отец. Однажды княгиня Фарнелло с удивлением увидела, как какой-то дворянин в сопровождении малочисленной свиты остановился перед их дворцом. Это был император Карл V, облаченный, как обычно, в костюм печального черного цвета. – Вы… вы бежали… Ma… мадам, словно на… настоящая… прохиндейка! – говорил император, пока Зефирина склонялась перед ним в глубоком реверансе. – Ваше величество очень огорчает меня! – воскликнула Зефирина. – И… и что… же… ма… мадам, по… почему? – Ах, сир! Потому что «прохиндейку» можно срифмовать с «австрийкой», а там и рукой подать до «Австрии», – не моргнув глазом, ответила Зефирина. Позади короля дон Рамон де Кальсада и князь Фульвио задыхались от смеха. – А «Карл V»? – помолчав, мрачно продолжил допрос король. – С «распятый», сир! Но если ваше величество решит принять имя Карла Великого, то его при желании можно будет срифмовать с «немецким»… и «испанским»! Карл V нахмурил брови, но не выдержал и расхохотался. Его свита притихла, присутствующих охватила дрожь. Никто никогда не видел, чтобы император смеялся. – А… с… «шампанское»… «деревенское»… «дальне-земельное»… «горное», – радостно продолжал Карл. – И… еще «великобританское», сир! Король Испании взял под руку Саламандру, и они отправились осматривать усадьбу. В конце дня, когда супруги Фарнелло провожали своего королевского гостя, Фульвио прошептал ей на ухо: – Ах, ты моя предательница, ты вполне могла бы сказать, что слово «испанский» можно срифмовать даже со словом «каторжный»! Зефирина опустила свою золотистую голову на обтянутую голубым камзолом грудь Фульвио. – Любовь моя, – вздохнула она, – какой, должно быть, короткой кажется жизнь в твоих объятиях… – Успокойся, дорогая, потом настанет вечность, где я также не намереваюсь тебя покидать! Медленным шагом, обнявшись, Фульвио и Зефирина вернулись в замок. Вдалеке за горизонт садилось красное, словно божество инков, солнце.Чарлз Кингсли Искатель приключений Эмиас Лэй
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010 © ООО «РИЦ Литература», 2010Глава I Как Эмиас Лэй захотел быть храбрым искателем приключений
Каждому, кто путешествовал по восхитительным местам северного Девона, знаком маленький белый городок Байдфорд[295], расположенный у верховья широкой полноводной реки Торридж с желтым песчаным дном. К городу примыкает ряд холмов, покрытых густыми дубовыми лесами. Холмы понемногу переходят в чуть заметную возвышенность, а дальше расстилается обширное пространство солончаков и сыпучих песков; там Торридж сливается со своей сестрой Тэо, и вместе плавно они струятся навстречу безбрежному простору и вечному шуму волн Атлантического океана. Радостно стоит старый город под ласковым, словно итальянским небом. День и ночь овевает его свежий морской ветер, смягчающий и лютый зимний холод, и жестокую летнюю жару. Стоит он, быть может, восемь сотен лет, с тех пор как первый Гренвайль, двоюродный брат Вильгельма Завоевателя, вернувшись после победы над Южным Уэльсом, собрал вокруг себя верных саксонцев, златокудрых северных витязей и темноволосых бриттов с берегов Лебединого озера. В то время, о котором я пишу, Байдфорд не был просто милым провинциальным городом, чья набережная вынуждена довольствоваться небольшими парусными судами малого каботажа. Байдфорд был одним из важнейших портов Англии. Он выставил семь кораблей для борьбы с Непобедимой армадой, и еще столетие спустя, как говорят летописцы, он посылал больше судов для торговли с Севером, чем какой-либо другой порт Англии, за исключением (странное сопоставление) Лондона и Топшэма. В 1575 году в ясный летний полдень высокий красивый мальчик в одежде школьника, с сумкой и грифельной доской в руках, медленно брел по набережной Байдфорда, с любопытством осматривая недавно прибывшие корабли и встречных матросов. Миновав Главную улицу, он оказался против одной из многочисленных таверн, стоящих над рекой. У открытых окон сидели купцы и дворяне, утоляя глинтвейном послеобеденную жажду. Перед выходом в таверну собралась группа матросов, внимательно слушающая кого-то, кто находился в центре. Живо интересующийся всякой новостью с моря, мальчик подошел и занял место среди ребят, которые переглядывались и перешептывались, путаясь под ногами у взрослых. Он услышал следующую речь, произнесенную громким, бодрым голосом с сильным девонширским акцентом, щедро пересыпанную проклятиями: – Если вы не верите мне, ступайте и убедитесь сами или оставайтесь здесь и обрастайте плесенью. Я говорю вам, – а это так же верно, как то, что я джентльмен, – я видел это собственными глазами; я и Сальвейшин Иео – тоже через окно подвала. Мы измерили груду – в ней было семьдесят футов длины, десять футов ширины и двенадцать футов вышины – все серебряные слитки, и каждый слиток весом от тридцати до сорока фунтов. Капитан Дрейк[296] сказал: «Мои девонширские молодцы, я привел вас к утробе мировой сокровищницы, и будет ваша вина, если вы не оставите ее тощей, как сушеная треска!» – Так почему же вы ничего не привезли оттуда, мистер Оксенхэм? – Почему вас не было там, чтобы помочь нам? Мы бы вынесли слитки наверх вполне благополучно; молодой Дрейк и я уже взломали наружную дверь, но капитан Дрейк вышел оттуда полумертвый, и, когда мы приблизились, мы увидели, что у него на ноге рана, в которую можно засунуть три пальца, и его сапоги полны крови. Прошел уже час, как он был ранен, но крепость духа в нем такая, что он не чувствует раны, пока не свалится. Тогда мы с его братом понесли его в лодку, причем он брыкался и отбивался и приказывал нам спустить его, хотя каждый его шаг оставлял на песке лужу крови. И мы ушли. Скажите мне вы, высохшие сельди, что скорее стоило спасать – его или подлое серебро? Серебро храбрецы всегда могут добыть снова. Как в море больше рыбы, чем можно выловить, так в Номбре-де-Диос[297] больше серебра, чем нужно, чтобы вымостить все улицы Запада; а такого капитана, как Фрэнк Дрейк, жизнь никогда не создает больше одного сразу. Так говорю я, а кто не согласен, пусть выбирает оружие – я к его услугам! Говорил это высокий, крепкий человек, с цветущим лицом, окаймленным черной бородой, и смелыми живыми темными глазами. В небрежной позе, подбоченясь, стоял он, прислонившись к стене дома. В глазах школьника он был великолепен. Одет он был, вопреки всем законам того времени, направленным против роскоши, в костюм малинового бархата, слегка потрепанный; на боку у него висели длинная испанская рапира и пара кинжалов с блестящими рукоятками; на пальцах искрились кольца, шею обвивали две или три золотых цепи, а в ушах висели большие серьги, причем за одно ухо в глянцевитые черные кудри была воткнута большая красная роза. Голову украшала широкополая бархатная испанская шляпа, на которой вместо пера торчала целая райская птица, прикрепленная большой золотой пряжкой. Великолепное зеленое с золотом оперение сверкало, как драгоценный камень. Окончив речь, Оксенхэм снял шляпу и заговорил, глядя на птицу: – Смотрите сюда, ребята, вряд ли вы видели когда-нибудь таких птиц раньше. Это птица, которую носят старые индейские короли Мексики и не позволяют носить никому другому. Тем не менее я ношу ее, я, Джон Оксенхэм из Южного Таутона. Пусть знают это храбрецы Девона. И он вновь надел свою шляпу. Послышались рукоплескания, но кто-то намекнул, что он сомневается в успехе, так как испанцев слишком много. – Слишком много?! Сколько человек, черт возьми, мы взяли с собой в Номбре-де-Диос? Нас было семьдесят три, когда мы отплыли из Плимута, а прежде чем мы увидели Испанское море[298], половина была «гастадос», как говорят испанцы – истощена цингой. В порту Фазанов с нами встретился капитан Раус из Кью, и это дало нам еще тридцать человек. С этой горсточкой ребят – нас было всего пятьдесят три человека – мы расчистили путь в Новый Свет! А кого мы потеряли?! Только одного трубача, который стоял и ревел, как осел, посреди площади, вместо того чтобы позаботиться о своей шкуре. – Подходите, подходите же, слушайте, слушайте, кто хочет разбогатеть!Кто хочет плыть с нами,
Веселыми моряками!
Кто хочет быть с нами!
Наполнить карманы золотыми деньгами,
Плавая по морю, о!
Вперед, на запад,
И «ура» за Испанское море!
Глава II Как Эмиас вернулся домой в первый раз
Прошло пять лет. Спокойный ясный ноябрьский день. Девять часов утра, но колокола байдфордских церквей все еще звонят к заутрене – на два часа позже обычного времени. Улицы Байдфорда, словно сад, наполненный цветами всех оттенков, кишат празднично разодетой толпой моряков и горожан с женами и дочерьми. Через улицы протянуты гирлянды, а из всех окон свисают пестрые ткани. Корабли в порту разукрашены флагами и шумно выражают свои чувства пушечными залпами. Все конюшни переполнены лошадьми, а дом сэра Ричарда Гренвайля напоминает гостиницу. Там пьют и едят, стоят расседланные кони и мечутся взад и вперед грумы и слуги. Вдоль маленького церковного двора, облепленного женщинами, прогуливается вся знать Северного Девона. Но что же наполнило старый Байдфорд таким безудержным весельем? Почему все глаза с таким жадным любопытством устремлены на этих четырех моряков, потрепанных непогодой, но убранных бантами и лентами, и особенно на эту гигантскую фигуру, идущую впереди, – на безбородого юношу с золотыми кудрями, ниспадающими на плечи, с телосложением и ростом Геркулеса? Почему, когда появились эти пятеро, все взоры обратились на миссис Лэй из Бэруффа, чей капор вздрагивал от радостных рыданий? Потому что в старину в веселой Англии умели чувствовать, а эти пятеро были уроженцами Девона, жителями Байдфорда; их имена – Эмиас Лэй из Бэруффа, Джон Стэйвелл, Микаэль Хард, Ионас Маршалл из Байдфорда и Томас Броун из Кловелли. Они первые из всех английских моряков совершили плавание вокруг света с Фрэнком Дрейком и благополучно возвратились домой. Чтобы объяснить, как все это произошло, нам придется вернуться назад. Приблизительно в течение целого года после отъезда мистера Оксенхэма юный Эмиас жил довольно спокойно, как обещал, не считая случайных взрывов ярости, свойственных всем молодым животным мужского пола и особенно мальчикам с сильным характером. Его школьные занятия подвигались вперед, разумеется, не лучше, чем раньше, но его домашнее воспитание шло достаточно успешно, и скоро он, несмотря на молодость, стал действительно хорошим стрелком из лука, наездником и фехтовальщиком. В это время его отец заразился от заключенных (что было довольно обычно в то время) тюремной лихорадкой, заболел в самом суде и скончался в одну неделю. Миссис Лэй пришлось одной укрощать и подготовлять к жизни этого молодого львенка на привязи. Она осталась вдовой немногим старше сорока лет, еще прекрасная лицом и фигурой и более всего прекрасная спокойствием, которое сквозило в каждом ее взгляде, в каждом слове и жесте. Не удивительно, что сэр Ричард и леди Гренвайль любили ее; не удивительно, что ее дети почитали; не удивительно, что юный Эмиас, лишь только миновал первый взрыв горя и он вновь ощутил почву под ногами, почувствовал, что для него началась новая жизнь, и впредь не только мать будет думать и заботиться о нем, но и он должен начать думать и заботиться о своей матери. И в тот же самый день, после похорон отца, когда окончились занятия в школе, он, вместо того чтобы пойти прямо домой, смело направился к дому сэра Ричарда Гренвайля и попросил свидания со своим крестным отцом. – Вы должны быть моим отцом теперь, – сказал он твердо. Сэр Ричард посмотрел на открытое смелое лицо мальчика и поклялся «дубом, тисом и терновником», что он будет отцом ему, братом его матери. А леди Гренвайль взяла мальчика за руку и повела его домой в Беруфф, где обе дамы дали торжественное обещание всегда быть друг другу сестрами и это обещание сдержали. После того в Бэруффе все пошло по-старому. Эмиас скакал верхом, стрелял из лука, дрался на кулачках и бродил по набережной вместе с сэром Ричардом. Миссис Лэй была слишком умной женщиной, чтобы хоть немного изменить систему обучения, которую ее муж признавал наилучшей для младшего сына. Довольно было и того, что ее старший сын по собственному влечению избрал другой образ жизни. Фрэнк – ее старший сын – сам достиг почета и уважения на родине и на чужбине сперва в школе в Байдфорде, затем в Экстер-колледже, где стал другом сэра Филиппа Сидни[303] и других многообещающих молодых людей. Летом 1572 года по дороге в Гейдельбергский университет Фрэнк попал в Париж с рекомендательными письмами к Уольсингхэму в английское посольство. Благодаря этим письмам он не только встретился вторично с Филиппом Сидни, но и спас свою жизнь (как и Сидни) в Варфоломеевскую ночь. В Гельдельберге Фрэнк пробыл два года. Не желая обременять родителей, Фрэнк поступил воспитателем к двум молодым немецким принцам. Прожив с ними в доме их отца около года, Фрэнк наконец, к своему большому удовольствию, повез своих питомцев в Падую[304], где нашел множество друзей благодаря дипломам и рекомендательным письмам бесчисленного количества вельмож и ученых. И прежде чем Фрэнк вернулся в Германию, он насытил свою душу всеми чудесами Италии. Он беседовал о поэзии с Тассо[305] и об истории с Сарпи[306]. Он прислушивался полублагоговейно-полунедоверчиво к дерзновенным теориям Галилея. Он видел дворцы палладиума и купцов на Риальто; видел большие торговые суда Рагузы и все чудеса этого места встречи Востока с Западом. В результате особого ходатайства он был допущен в ту обитель, где с длинной серебряной бородой и блестящими глазами, среди пантеона собственных творений, еще томился на земле дряхлый Тициан, патриарх искусства, и рассказывал старинные истории о Беллини, Рафаэле и Микеланджело, о пожаре в Венеции, об осаде Рима и о поэтах, давно ушедших к праотцам. Фрэнк был в Риме и видел папу и фрески Ватикана; он слышал Палестрину[307], дирижирующего исполнением собственных произведений под куполом храма Петра. Фрэнк почти влюбился в эти сладостные звуки и пробудился от грез, лишь вспомнив, что к этому самому куполу возносились хвала Богу и небесам за те залитые кровью улицы, рыдающих женщин и груду поруганных тел, что он видел в Париже в ночь святого Варфоломея. Наконец, за несколько месяцев до того, как умер его отец, Фрэнк привез своих воспитанников домой, в Германию, и был отпущен, как он писал, с подарками. Сердце миссис Лэй сильно забилось при мысли, что странствующий вернется. Но, увы! Приблизительно через месяц после смерти мистера Лэя пришло длинное письмо, в котором Фрэнк сообщал со многими извинениями, что по специальной просьбе знаменитого ученого – светила эпохи, Стефана Парминиуса, обычно называемого по месту его рождения Будеусом[308], – он собирается плыть вместе с ним по Дунаю до Будапешта, для того чтобы прежде, чем окончится его пребывание за границей, ознакомиться на месте с достижениями науки, которыми венгерцы знамениты во всех концах Европы. После этого Фрэнк не получал ни одного письма из дому в продолжение почти двух лет. Тогда, опасаясь несчастия, он вернулся и нашел свою мать вдовой, а брата Эмиаса – ушедшим в Южные моря с капитаном Дрейком из Плимута. Но даже теперь, после долгих лет отсутствия, Фрэнку не суждено было остаться дома. Не прошло и шести месяцев, как сэр Ричард потребовал, чтоб он снова принялся за работу, и послал его ко двору лорда Хэндсона. Но почему Эмиас отправился в Южные моря? По двум причинам, каждая из которых до наших дней продолжает посылать юношей в гораздо худшие места: во-первых, из-за старого учителя, во-вторых, из-за юной красавицы. Виндекс Браймблекомб – некогда студент Экстер-колледжа в Оксфорде, по моде того времени называемый сэр Виндекс, – был преподавателем классической гимназии в Байдфорде. По природе это был набожный, довольно добродушный педант, но, как большинство школьных учителей в те дни господства розг, он весьма основательно ожесточил свое сердце благодаря длительной пагубной возможности причинять по своему произволу страдания тем, кто слабее его. После смерти мистера Лэя старый Виндекс почувствовал, что должен уделить особую заботу лишившемуся отца мальчику… Но единственным результатом этого усилившегося чувства ответственности было внезапное увеличение количества розог, получаемых Эмиасом. В течение почти двух недель оно росло со дня на день не без последствий для самого педагога. За описанное время Эмиас ни на секунду не забывал своего заветного стремления к морю. Вчасы занятий, когда он не мог странствовать по набережной, рассматривая корабли, и не мог спуститься к каменным рифам Норшэма и там сидеть, пожирая голодным взглядом безбрежное пространство океана, Эмиас обыкновенно утешался тем, что рисовал на аспидной доске корабли и морские карты. Итак, «это» случилось около полудня, когда Эмиас был очень занят одной географической картой – видом с птичьего полета на остров, на котором стоит большой замок; у ворот замка сидит страшный дракон; на переднем плане появляется то, что должно означать храбрый корабль с большим флагом сверху, но что из-за леса копий, наполняющих этот корабль, гораздо больше похоже на дикобраза; у основания копий красуется множество маленьких круглых «о». Они изображают головы Эмиаса и его сотоварищей, которые собираются убить дракона и освободить красавицу, обитающую в заколдованной башне. Чтобы рассмотреть это чудо искусства, все мальчики склонили головы над пюпитром. Они чувствовали себя в полной безопасности, так как Виндекс по привычке откинулся на спинку кресла и спал сном праведным. Но когда Эмиас по специальному наущению злого духа, преследующего всех выдающихся художников, умудрился, пренебрегая перспективой, примостить на рисунок утес, на котором стоял живой портрет Виндекса – нос, очки, халат, – держащий в руке занесенный хлыст, с вылетающей изо рта пчелой, кричащей вслед беглецам: «Вернитесь обратно», в то время как такая же пчела отвечает ей с лодки: «Прощай, учитель», – толкотня и хихиканье настолько усилились, что цербер проснулся и сурово спросил: – Что за шум вокруг? Ответа, разумеется, не последовало. – Вы, конечно, Лэй! Встаньте, сэр, и покажите мне ваше упражнение. Но Эмиас не написал ни слова из своего упражнения. Он как раз собирался нанести последний штрих на портрет мистера Браймблекомба. А посему, к удивлению всех присутствующих, Эмиас ответил: – Все в свое время, сэр! – и продолжал рисовать. – В свое время, дерзкий мальчишка? Но Эмиас продолжал рисовать. – Подойди сюда, бездельник, или я спущу с тебя шкуру! – Подождите немного, – ответил Эмиас. Старик вскочил с линейкой в руках, устремился через класс и узрел самого себя на роковой доске. – Что у тебя тут, негодный? – И, ринувшись на жертву, он поднял палку. Тогда с веселым и невозмутимым видом поднялась с парты огромная фигура Эмиаса Лэя, который был на голову выше своего учителя, и та же доска опустилась на плешивую макушку сэра Виндекса Браймблекомба с таким сокрушительным ударом, что и доска и башка треснули одновременно. Бедный педагог свалился наземь и лежал замертво. Эмиас вышел из школы и спокойно пошел домой. Поразмыслив немного, он пришел к матери и заявил: – Мама, я разбил голову учителю. – Разбил голову, злой мальчик! – воскликнула бедная вдова. – Зачем ты это сделал?! – Не знаю, – сокрушенно ответил Эмиас. – Я не мог удержаться. Она была такая гладкая, плешивая и круглая, – вы понимаете… – Я понимаю. О, злой мальчик! Ты, может быть, убил его, негодный? Умер он? – Не думаю, чтобы он умер; его макушка издала слишком сухой звук. Но не лучше ли мне пойти и рассказать все сэру Ричарду? Бедная мать, невзирая на весь страх, с трудом могла удержаться от смеха при виде совершенного хладнокровия Эмиаса (что было не из последних способов проявления его нахальства) и, чувствуя, что не в силах с ним справиться, по обыкновению, послала его к крестному. Эмиас повторил свой рассказ. Затем сэр Ричард спросил: – Что же он собирался сделать с тобой, молодчик? – Ударить меня, потому что я не написал своего упражнения, а вместо того нарисовал его портрет. – Так твое искусство испугалось побоев? – Ничуть – я слишком привык к ним, но я был занят, а он так отчаянно торопил меня. И если бы вы только видели его плешивую голову, вы бы и сами ее разбили! Сэр Ричард двадцать лет тому назад на том же месте – почти при тех же обстоятельствах – разбил голову отцу Виндекса Браймблекомба, своему школьному учителю. Следовательно, он мог руководствоваться собственным опытом. – Послушай, Эмиас, кто не умеет слушаться, никогда не сумеет управлять. Если ты сам не можешь подчиниться дисциплине сейчас, ты не сможешь заставить подчиняться ей полк или экипаж, когда вырастешь. Согласен ли ты со мной, молодчик? – Да, – сказал Эмиас. – Тогда возвращайся сейчас же в школу, и пусть тебя высекут. – Прекрасно, – согласился Эмиас, считая, что дешево отделался. Между тем лишь только мальчик вышел из комнаты, сэр Ричард откинулся на спинку кресла и стал смеяться до слез. Эмиас вернулся в школу и сообщил, что согласен быть высеченным. Старый учитель, чья макушка уже была залеплена пластырем, заплакал слезами радости над возвращением блудного сына, а затем так отхлестал его, что Эмиас целые сутки не мог об этом забыть. Но в тот же вечер Ричард послал за старым Виндексом, который вошел к нему дрожа, со шляпой в руках. Протянув старику кружку глинтвейна, Ричард сказал: – Итак, господин учитель, мой крестник отличился сегодня больше, чем следует. Вот пара золотых, чтобы оплатить врача. – О, сэр, «благодарю тебя и Господа», но мальчик ударил слишком сильно. Тем не менее я отплатил ему добром и в наказание засадил его выучить одну из басен Федра[309]. Сэр Ричард, вы считаете, что это слишком много? – Какую? Не ту ли о человеке, который, играя, ударил львенка и в конце концов был съеден им? – О, сэр, вы все шутите. Но, в самом деле, мальчик – хороший мальчик, живой мальчик, но более забывчив, чем Лета[310], и было бы лучше, если бы он ушел из школы, потому что я никогда не смогу его видеть без головной боли. Кроме того, в прошлую пятницу он сунул моего сына, как вы бы сунули мяч, в печку, хотя тот годом старше его, потому что, сказал он, мой Джек похож на жареного поросенка. И больше того, ваша милость, он – хвастун и забияка. Он скоро доведет до смерти кого-нибудь, если его вовремя не обуздать. Только месяц тому назад я слышал, как он оплакивал себя подобно Александру, когда ему некого было больше завоевывать. Он говорил, что жаль, что он так силен, потому что он уже переколотил всех байдфордских мальчиков и ему больше не с кем меряться силами. Поэтому, как рассказал мне мой Джек, в четверг на прошлой неделе он напал на молодого человека из Барнстэпля, торговца чулками, человека совершенно взрослого и такого крупного, как любой из нас (Виндекс был ростом пять футов четыре дюйма в башмаках на высоких каблуках), и сбросил его с набережной прямо в грязь за то, что тот сказал, что в Барнстэпле есть девушки красивее (простите, что я говорю о таких пустяках: меня побуждает к этому моя преданность), чем в Байдфорде. Он предложил сделать то же со всяким, кто осмелится сказать, что Рози Солтерн, дочь мэра, не самая прекрасная девица во всем Девоне. – Эге! Повторите-ка это еще раз, мой дорогой сэр, – произнес сэр Ричард, который таким путем подошел ко второму пункту обвинительного акта. – Я спрашиваю, дорогой сэр, откуда вы слышали все эти милые истории? – От моего сына Джека, сэр Ричард. – Послушайте-ка, господин учитель, ведь не удивительно, что ваш сын попал в огонь, раз вы пользуетесь им как собирателем сплетен. Но это – система всех педагогов и их сыновей, с помощью которой они воспитывают из детей шпионов и подлиз и подготовляют их – сударь, вы слышите? – к гораздо более жгучему пламени, чем спалившее нижнюю часть вашего сына Джека. Поняли вы меня, сэр? Бедный педагог, так ловко пойманный в свою собственную ловушку, дрожа, стоял перед своим патроном, который, как наследственный глава «Мостового объединения»[311], снабжавшего средствами школы и прочие благотворительные учреждения Байдфорда, мог одним движением пальца вышвырнуть его вон и разорить дотла. Он тяжело дышал от страха, пока сэр Ричард продолжал: – Поэтому помните, господин учитель, если вы не обещаете мне никогда не проронить ни слова о том, что произошло между нами, если вы не обещаете, что ни вы, ни ваши родные не станут впредь распространять сплетен о моем крестнике и произносить его имя на расстоянии дня пути от миссис Солтерн, то берегитесь, сэр! После того как Виндекс удалился, Ричард снова стал хохотать громовым смехом, что заставило его супругу войти. Она, вероятно, все слышала, так как ее первые слова были: – Я думаю, жизнь моя, нам следовало бы отправиться в Бэруфф. Они поехали в Бэруфф, и после долгих разговоров и многих слез дело кончилось тем, что Эмиас весело скакал по направлению к Плимуту рядом с Ричардом и, переданный из рук в руки капитану Дрейку, исчез на три года из славного города Байдфорда. И вот теперь он возвратился с триумфом, и все взоры обращены на него. Эмиас смотрит вокруг и видит лица всех тех, кого он ждал, за исключением одного – того единственного, которого он, пожалуй, больше хотел бы видеть, чем лицо своей матери. По окончании молитвы ректор взошел на кафедру и начал проповедь на текст: «Небеса и небеса небес принадлежат Богу, а всю землю Он отдал сынам человеческим». Ректор ловко выводил отсюда, к чрезвычайному удовольствию своих слушателей, несправедливость испанцев, лишивших индейцев их владений и захвативших власть над тропическими морями, тщеславие римского папы, присвоившего себе право жаловать испанцам новые земли в Америке, и справедливость, доблесть и славу мистера Дрейка и его экспедиции, подтвержденные чудесным покровительством, оказанным Богом ему и его команде в Магеллановом проливе, в битве с испанским галеоном и в случае у острова Целебеса[312], когда «Пеликан» пролежал несколько часов, прочно пригвожденный к скале, и точно чудом был невредимо унесен внезапным порывом ветра. Лишь только проповедь кончилась, толпа вновь устремилась по направлению к «Мостовому объединению», куда Ричард Гренвайль, Джон Чистер и мэр Солтерн повели пятерых героев дня в ожидании торжества, устраиваемого в их честь. Когда они пришли туда, мало нашлось в толпе таких, кто не спешил бы пожать им руку и не только им, но и их родным и родственникам, идущим сзади. Миссис Лэй, совершенно разбитая своей радостью, могла только отвечать между всхлипываниями: – Проходите, добрые люди, проходите, и да пошлет вам Бог таких сыновей. – Пусть Бог вернет мне моего! – закричала из толпы старая дама в красном плаще. Затем, охваченная внезапным порывом, она устремилась вперед и схватила молодого Эмиаса за рукав: – Добрый сэр, дорогой сэр! Ради всего, ответьте бедной вдове. – В чем дело, сударыня? – учтиво спросил молодой Эмиас. – Видели ли вы моего сына в Индии, моего сына Саль-вейшин. – Сальвейшин, – повторил он с видом человека, вспоминающего имя. – Да, конечно, Сальвейшин Иео из Кловелли. Он высокий, черный и отчаянно ругается, когда говорит. Эмиас вспомнил теперь. Это было имя матроса, который подарил ему чудесный рог пять лет тому назад. – Индия велика, – сказал он, – и ваш сын, может быть, вполне здоров и невредим, хоть я и не видел его. Я знал одного Сальвейшин Иео. Но он должен был вернуться с… Кстати, интересно: вернулся ли Оксенхэм? На мгновение вокруг воцарилось гробовое молчание, а затем Ричард тихо и торжественно сказал, отвернувшись от старой дамы: – Эмиас, Оксенхэм не вернулся, и со дня его отплытия ни слова не было слышно ни о нем, ни о его команде. – И никаких вестей о них? – Никаких, только через год после его отплытия корабль, принадлежащий Эндрью Баркеру из Бристоля, отнял у испанской каравеллы где-то у Гондураса[313] две ее медные пушки. Но откуда эти пушки, испанцы не знали. – Да! – воскликнула старая женщина. – Они привезли домой пушки, но не подумали о моем сыне. – Они не видели вашего сына, матушка, – сказал Ричард. – Но я его видела! Я видела его во сне четыре года тому назад на Троицу так же ясно, как я вижу сейчас вас, господа. Он лежал на скале и умолял дать ему каплю воды, чтобы смочить язык. О, горе мне! – И старушка горько заплакала. – О, молодой человек, молодой человек! Дайте мне обещание привезти мне моего мальчика, если вы найдете его, плавая по морям! Привезите его, и старая вдова будет благодарна вам навек! Эмиас обещал. Разве мог он поступить иначе? И компания заторопилась дальше. Но юноша был грустен среди общего веселья. Он был полон мыслей о Джоне Оксенхэме. Как бы там ни было, теперь он из вежливости обязан был обратить внимание на зрелище, приготовленное в его честь. А зрелище в самом деле стоило посмотреть и послушать. Первой вдоль моста по направлению к ратуше, предшествуемая музыкантами, двигалась «аллегория», хитро задуманная добрым ректором. Последний взволнованно объяснял близстоящим ее значение. Далее, вызывая общее одобрение, ковыляли две больших рыбы из фольги – лосось и форель, символизирующие благосостояние Торриджа. Они двигались на двух человеческих ногах и с помощью палки, просунутой через рыбий живот. Рыбы везли (или делали вид, что везут, так как половина городских подмастерьев подталкивала их сзади, насмехаясь над одышкой властителей моря) колесницу, где сидели среди камыша и речных водорослей три или четыре хорошенькие девушки в серо-голубых мантиях, усеянных золотыми блестками; их головы были увенчаны: у одной – короной из нежной болотной мирты, у другой – хмелем и белым вьюнком, у третьей – бледным вереском и золотым папоротником. Колесница остановилась против Эмиаса. Девушка, увенчанная миртой, поднялась и, кланяясь ему и всей компании, мило краснея, пропела длинную песню. Окончив ее, она сняла с головы душистый венок и, нагнувшись, надела его на голову Эмиаса. Юноша сказал в ответ: – Не существует места более родного, чем дом, и даже на всех, полных пряностей островах, мимо которых я плавал, нет аромата, который был бы мне более по вкусу, чем этот старый домашний аромат. – Ее песнь была недурна, – сказал Ричард, обращаясь к леди Бэзс. – И, за исключением некоторой деревенской простоты и односложной безжизненности, отзывается скорее Кастальскими лесами[314], чем Торриджскими, – ответила леди Бэзс, которой сэр Ричард мудро не возражал, так как она была ученым членом коллегии критиков и всегда оспаривала у сестры Сиднея власть вождя юфуистов[315]. Итак, сэр Ричард не ответил, но ответ был дан за него. – С тех пор как весь хор муз, сударыня, перебрался ко двору Уайтхолля, неудивительно, если некоторые из парнасских богов оплодотворят со временем даже наши Дивонские болота. Это сказал высокий, гибкий, молодой человек лет двадцати пяти. Лоб его был очень высок и гладок, брови тонки и сильно изогнуты. Лицо было несколько длинным и узким, нос орлиный, а рот открывал (быть может, слишком) верхние зубы цвета слоновой кости. Но самым поражающим в его наружности был ослепительный цвет лица, затмевавший своей белизной всех прекрасных дам. Только яркие красные пятна на каждой щеке да длинная тонкая шея и восковые руки напоминали о грустной возможности, быть может, уже недалекой, которую с сожалением предвидели все, за исключением той, чьи нежные взгляды и сходство с красивым юношей сразу обличали его мать – самой миссис Лэй. Фрэнк – это был он – был одет изысканно не столько из тщеславия, сколько из того чувства, которое побуждает некоторых людей долгие годы сохранять опрятность и аккуратность даже на необитаемом острове. Фрэнк отошел, чтобы в качестве распорядителя празднества руководить шествием подмастерьев, хотя из-за него нимфы Торриджа были на время забыты всеми молодыми дамами и большинством молодых джентльменов. Скоро раздался его серебристый голос: – Посторонитесь, добрые люди, пропустите храбрых юных подмастерьев. Показалась процессия подмастерьев, возглавляемая гигантскими доспехами из клееного холста и картона. Посреди этих доспехов торчало, как часы на колокольне, человеческое лицо, приветствуемое со всех сторон, как то было в моде, градом двусмысленностей и язвительных насмешек. Затем появилась новая группа, а именно: не кто иной, как Виндекс Браймблекомб, бывший учитель, в сопровождении сорока пяти мальчиков. Остановившись перед Эмиасом, старый Виндекс вытащил очки, надел их на нос и низко поклонился, давая понять, что простил нанесенные ему некогда побои. Лишь только исчез педагог со своими учениками, зашумел по улице папаша Нептун в короне из морских трав, с трезубцем в одной руке и живым тюленем в другой. Его окружало несколько высоких моряков-телохранителей, а за ними несли большое знамя, на котором был нарисован глобус с кораблем Дрейка, плывущим кверху дном. – Эй, ребята! Эй! Дуй сюда, тритон, и выноси сюда свободу морей. Тритон, ревущий в рог, вытащил большую раковину, полную соленой воды, и торжественно вручил ее Эмиасу, который опустил в нее золотой и вернул ее лишь после того, как Гренвайль сделал то же. – Эй, адмирал Дик! – закричал Нептун, который был уже порядком под хмельком. – Видно, в тебе настоящее английское сердце, не то, что вон в тех, которые стоят рядом и ухмыляются, словно испанская обезьяна, проглотившая шпагу. – Спасибо. Стань-ка подальше, малый: от тебя отвратительно пахнет рыбой. – Все хорошо пахнет на своем месте. Я отправляюсь домой. – Я думал, ты был там все время, ведь тебе уж море по колено, – заметил Карри. – Я – настоящий морской волк, не то, что ты, сухопутная крыса! Ты зачем строишь глазки миссис Солтерн, в то время как моя голубка из Бэруффа играет в орлянку испанскими дублонами? – Ступай к черту, бездельник! – закричал в бешенстве Карри, так как Нептун затронул его больное место. И не только щеки Эмиаса Лэя покраснели при этом намеке. «Владыка морей» покатился дальше, и шествие кончилось. Лишь только представился удобный случай, Эмиас, нахмурясь, спросил своего брата Фрэнка, где находится Рози Солтерн. – Кто? Дочь мэра? Я полагаю, у своего дяди в Килькхэмптоне. Лукавый мистер Фрэнк сказал Эмиасу правду, но в то же время, опасаясь непредвиденных случайностей, умудрился сказать как можно меньше правды. Фрэнк не рассказал своему брату, как он два дня тому назад умолял Рози Солтерн появиться в роли нимфы Торриджа. Она бы охотно приняла эту честь, не имея ничего против того, чтобы показать свое личико, ни против прочтения стихов, ни против репутации магнита Северного Девона. Но ее отец помешал веселой затее решительным запрещением и, невзирая на слезы, отправил дочку к дяде на Атлантическое побережье. Затем старик приехал в Бэруфф и вместе с миссис Лэй смеялся над всей историей. – Я слишком горд, чтобы позволить кому-нибудь сказать, что горожанин Симон Солтерн посадил свою дочь на шею сыну знатной леди. – И по правде сказать, мистер Солтерн, наши юноши достаточно ссорятся ежедневно из-за ее милого личика и без того, чтобы делать ее королевой турнира. Последнее было совершенно правильно, так как за три года отсутствия Эмиаса Рози Солтерн превратилась в восемнадцатилетнюю девушку такой красоты, что половина Северного Девона была без ума от «розы Торриджа», как ее прозвали. Бедный мистер Билл Карри, который всегда говорил правду не подумавши, однажды, когда старый Солтерн раздраженно спросил его на байдфордском рынке, «какого черта он строит глазки его дочери», ляпнул перед всеми окружающими: – А какого черта вы, старина, суете такое яблоко раздора в нашу веселую компанию? Раз вы выбрали себе такую дочь, вы должны терпеть связанные с этим последствия. На это мистер Солтерн довольно резко ответил: – Ни я не выбирал ее, ни вы, мистер Карри. Однако война за «розу Торриджа» продолжалась. Не проходило недели, чтоб в комнату Рози не был доставлен таинственной рукой какой-нибудь знак внимания. Все это она прятала с простодушием провинциальной девушки, получающей от подношений большое удовольствие, и спокойно принимала все комплименты, вероятно, потому, что под влиянием своего зеркала видела в них не более, как заслуженную дань. И вот теперь, в довершение общего смятения, вернулся домой молодой Эмиас Лэй, влюбленный более, чем когда-либо. Это чувство в нем было особенно сильно, потому что, кроме матери, ему не о ком было думать, и он был чист душой, как новорожденный младенец.Глава III О двух джентльменах из долины, о том, как они охотились с собакой и как упустили красного зверя
Эмиас спал в эту ночь глубоким, но беспокойным сном. Его мать и Фрэнк, склонившись над его изголовьем, видели, что его мозг полон множеством видений. И неудивительно – в довершение ко всему возбуждению сегодняшнего дня Эмиасом странно овладело воспоминание о Джоне Оксенхэме. Весь вечер, сидя в комнате с низкими окнами, где видел его в последний раз, Эмиас, сам себе удивляясь, вспоминал каждый взгляд и каждое движение исчезнувшего искателя приключений. Затем он пошел спать, но работа воображения возобновилась во сне. В конце концов Эмиас увидел, что неизвестно почему плывет на запад, на заходящее солнце. Он гонится за крошечным парусом – и это парус судна Оксенхэма. Эмиас испытывал давящее чувство, что, если он не подойдет вовремя, произойдет нечто ужасное, но его корабль не двигался с места, а он все старался плыть и старался представить себе, что плывет. Солнце село, и все кругом погрузилось во мрак, а затем поднялась луна, и неожиданно корабль Джона Оксенхэма оказался рядом с кораблем Эмиаса. Паруса на судне Оксенхэма были разорваны, а борта сгнили, и из них сочилась смола. Но что значит эта темная полоса вдоль грот-реи?[316] Ряд повешенных! О ужас! С нока близко над ним висит труп Джона Оксенхэма. Он смотрит вниз мертвыми глазами и манит и указывает, как будто показывая Эмиасу дорогу, стараясь что-то сказать, не может и вновь указывает назад, туда, откуда плывет Эмиас. И когда Эмиас оглянулся назад, всюду над ним была снежная цепь Андов, залитая лунным светом, и он знал, что снова находится в Южных морях и что вся Америка лежит между ним и его домом. А труп снова указывал ему назад и смотрел на него страдальческими глазами, и его губы старались поведать какую-то ужасную тайну. Эмиас с криком вскочил, проснулся и увидел, что лежит в маленькой сводчатой комнате в дорогом старом Бэруффе и уже брезжит серое осеннее утро. Лихорадочно возбужденный, Эмиас напрасно старался вновь заснуть. После часа метания он встал, оделся и отправился купаться к своему излюбленному старому каменному рифу. Вбирая в себя крепкий соленый воздух, Эмиас разделся и бросился в волны. Он нырял и кувыркался и сильными руками разбрасывал пену, пока не услышал, как кто-то зовет его с берега. Взглянув вверх, он увидел стоявшую на краю плотины высокую фигуру своего кузена Евстафия. Эмиас был наполовину разочарован этим появлением. Влюбленный по уши, он всю дорогу сюда мечтал о Розе Солтерн и не нуждался в спутнике, который помешает ему мечтать о ней по дороге обратно. Однако Эмиас не видел Евстафия три года, и из простой вежливости следовало вылезть и одеться, пока его кузен гуляет взад и вперед. Евстафий Лэй был сыном младшего брата мистера Лэя из Бэруффа. Этот брат был более или менее оторван от своей семьи и своих соотечественников, так как он был папистом. Он жил в стороне от большой дороги в громадном шатающемся темном доме, называемом Чепл, в приходе Мурвинстоу, недалеко от дома Ричарда Гренвайля в Стоу. Когда ревностный пастор из Мурвинстоу, открыв, что в Чепле происходят папистские обедни и идолопоклонничество, принес жалобу сэру Ричарду Гренвайлю как ближайшему мировому судье и предложил ему прибегнуть к акту Елизаветы четырнадцатого года[317], Ричард только основательно выбранил его за фанатическую нетерпимость и приказал ему заниматься собственными делами, если он не хочет, чтобы стало слишком жарко на его месте. Этому предписанию (в те времена светские власти крепко держали в руках власти духовные) достойный пастор сразу подчинился – ведь, в общем, мистер Томас Лэй исправно платил свою десятину. И пастор спокойно продолжал поедать обеды миссис Лэй и делал вид, что ему известно призвание старого отца Франциска, которой сидел против него в одежде мирянина и называл себя преподавателем молодого Лэя. Но эта зловещая птица имела власть над совестью бедного Лэя – отца Евстафия. Власть дала патеру земли, прежде принадлежавшие аббатству Хартланда[318]. Многие вместе с Томасом Лэем чувствовали, что рента аббатов отягощает их кошелек. И, как Джон Булль[319] обычно поступает в затруднительных случаях, шли на компромисс и делали вторую глупость – баловали чужеземных священников и потворствовали или притворялись, что потворствуют их заговорам и интригам или отдавали своих сыновей в виде искупительной жертвы на воспитание в духовные семинарии в Дуэ, Реймс или Рим[320]. Евстафий Лэй, которого отец послал в Реймс, чтобы из него сделали лжеца, и был этой искупительной жертвой. Евстафий стал великолепным лжецом. От природы он был неплохой малый, но им рано овладел этот порок: попы подметили в нем смутный истерический страх перед невидимым и одновременно склонность к лицемерию, которое всегда свойственно суеверным людям, и ловко использовали эти свойства для воспитания в нем лживости. Евстафий был высокий, красивый, хорошо сложенный юноша, с громадным прямым лбом, очень маленьким ртом и сухим и решительным выражением лица. Это лицо старалось быть искренним или, вернее, казаться искренним посредством улыбок и ямочек на щеках. Доброму католику полагается питать в своем сердце христианскую любовь к ближнему. Обладающий ею должен быть весел, а когда человек весел, он улыбается. Поэтому Евстафий хотел и заставлял себя улыбаться. Евстафий вернулся в Англию приблизительно с месяц тому назад, подчиняясь указу о том, чтобы «все, кто имеет детей в заморских странах, сообщили их имена епископу и в течение четырех месяцев призвали их на родину». Теперь Евстафий жил с отцом в Чепле, занимаясь делами «достойного» общества, в котором был воспитан. Одно из таких дел и привело его накануне ночью в Байдфорд. Евстафий сел на камни рядом с Эмиасом, украдкой поглядывая на него, как бы боясь потревожить. Эмиас с улыбкой посмотрел прямо в глаза кузену и протянул свою львиную лапу, которую Евстафий радостно схватил. Последовало крепкое рукопожатие. Рука Эмиаса была округлена и слегка дрожала, как бы говоря: – Я рад тебя видеть. Евстафий жал руку жестко вытянутыми пальцами, как будто желая сказать: – Разве ты не замечаешь, как я рад тебя видеть? Два совершенно разных приветствия! – Осторожно, старина, ты сломаешь мне руку, – сказал Эмиас. – Откуда ты? – Гулял по миру взад и вперед, вверх и вниз, – ответил тот с легкой улыбкой и оттенком загадочности. – Словно дьявол. Что ж, всяк молодец на свой образец. Как поживает дядя? Если существовал на свете человек, которого боялся Евстафий Лэй, – это был его кузен Эмиас. Прежде всего Евстафий знал, что Эмиас может убить его одним ударом, а есть натуры, которые, вместо того чтобы с радостью смотреть на более сильных и доблестных, смотрят на них с раздражением, страхом и завистью. Затем ему казалось, что Эмиас пренебрегает им. Они не встречались уже три года, но до отъезда Эмиаса Евстафий никогда не мог спорить с ним просто потому, что Эмиас не снисходил до спора с ним. Несомненно, Эмиас часто бывал с ним невежлив и несправедлив. Для Эмиаса все вопросы, касающиеся невидимого мира, которыми попы начинили ум его кузена, были просто, как он выражался, вздором и летошним снегом. Он обращался со своим кузеном, как с безвредным помешанным и, как говорили в Девоне, «полуиспеченным». Евстафий знал это и считал, что его кузен несправедлив к нему. «Он привык недооценивать меня, – говорил он себе. – Посмотрим, найдет ли он меня равным себе теперь». – О, мой дорогой кузен, – заговорил Евстафий, – в каком я был отчаянии сегодня утром, когда узнал, что ровно на день опоздал к вашему торжеству. Лишь только смог, я поспешил в ваш дом и, узнав от вашей матери, что могу найти вас здесь, бросился сюда. – Ладно, старина, так естественно желание друг друга видеть. Я часто думал о вас, гуляя ночью по палубе. Дядя и девочки здоровы, а старый пони умер и так далее. А как Дик – кузнец? А Нанси? Должно быть, стала прелестной девушкой? Кажется, полжизни прошло с тех пор, как я уехал. – Вы действительно вспоминали о своем бедном кузене? Будьте уверены, что он тоже думал о вас и по ночам воссылал свои недостойные молитвы за ваше благополучие. – Хм, – пробурчал Эмиас, который не знал, что ответить. На его счастье, в эту минуту к ним приблизился Фрэнк. После обычных приветствий последний обратился к Евстафию: – Идем с нами в Аппельдор, а затем домой завтракать. Но Евстафий отклонил приглашение. По его словам, у него срочное дело в Норшэме, а затем в Байдфорде. Он оставил братьев и зашагал по гладкой, устланной дерном дорожке к маленькой рыбачьей деревушке, стоявшей у слияния Торриджа с Тэо. Евстафий Лэй сказал своим кузенам, что идет в Норшэм, но не сказал им, что конечной целью его пути был тот же Аппельдор. Он успокоил свою совесть, дойдя до первых домов деревушки Норшэма, и быстро свернул налево через поля, всю дорогу бормоча что-то о Святой Деве. Его кузены, весело шагая, как подобает юным людям, по прямой дороге через торф подошли к Аппельдору со стороны гостиницы «Привал моряков» как раз вовремя, чтобы увидеть, почему Евстафий так старался скрыться от них. У дверей гостиницы стояли четыре лошади мистера Томаса Лэя, нагруженные мешками и чемоданами. Грум мистера Лэя держал лошадей, в то время как Евстафий Лэй и двое иностранных джентльменов садились на них. – Соврал-таки, – проворчал Эмиас, – он сказал нам, что идет в Норшэм. – Мы не знаем, не был ли он там, – возразил Фрэнк. – Что? Да ты такой же гадкий иезуит, как и он, если хочешь оправдать его с помощью подобной увертки. – Он мог изменить свое намерение. – Да благословит Бог чистоту твоего воображения, мой ласковый мальчик! – сказал Эмиас, кладя свою большую руку на голову Фрэнка, как делала это их мать. – Дорогой Фрэнк, войдем в эту лавочку купить бечевку. – Зачем тебе бечевка, дружище? – Чтобы пустить волчок, разумеется. – Волчок? С каких пор у тебя завелся волчок? – Я куплю его в этой лавчонке и… пойми, я должен видеть, чем кончится эта игра. Почему бы и мне не иметь заранее заготовленный предлог, как сделал бы Евстафий? С этими словами Эмиас втолкнул Фрэнка в маленькую лавчонку, которая не была видна стоявшим у дверей гостиницы. – Что за диковинных зверей привез он! Посмотри на это трехногое существо, которое пытается взобраться на лошадь не с той стороны. Как он смешно карабкается, словно кошка на дерево. Трехногий человек оказался высокой, смиренного вида личностью, наряженной в пышные одежды, с большим пером и с таким длинным и широким мечом, что он мало отличался по размеру от очень тонких и сухих голеней, между которыми болтался. – Юный Давид с мечом Саула, – сказал Фрэнк. – Лучше бы он и не нацеплял меча. Он, наверное, никогда его в руках не держал. – Почему кто-нибудь из милосердия не тащит за ним эту штуку? Меч, три или четыре раза отброшенный пинком со своего неудобного места между ногами, немедленно возвращался туда обратно, и, когда рукоятка оказалась немного слишком назади, оружие из-за чрезмерной длины перевязи под смех конюхов и шутки матросов стало дыбом, острием в воздухе – совершеннейший хвост. Наконец бедняга с помощью стула влез на лошадь. Тем временем его товарищ – иностранец, дюжий топорный мужчина, столь же нарядный и вряд ли более ловкий – сделал такой стремительный прыжок в седло, что свалился бы с другой стороны, если бы его не подхватил конюх, державший стремя. Зато от этого толчка упала его шляпа с пером. – Черт возьми, тот – с лицом бульдога – побывал в сражении. Видишь, Фрэнк, у него пробита голова. – Этот шрам, мой сын, всего только след самых что ни на есть католических и апостолических ножниц. Мой милый глупыш, это тонзура патера[321]. – Чертова собака! Если бы только мои матросы видели это, они бы сунули его головой в воду. Я почти готов пойти и сделать это сам. – Дорогой Эмиас, – произнес Фрэнк, кладя два пальца ему на руку, – эти люди, кто бы они ни были, гости нашего дяди и, следовательно, гости всей нашей семьи. Через день-два мы явимся к ним с визитом в «Чепл» и посмотрим, нельзя ли обойтись с этими лисицами, как поступает барсук с лисой, когда застает ее в своей норе и не может выгнать ее скверным запахом. – Как так? – Сует в отверстие букет душистых трав – лисицу от него тошнит. – Ладно. Идем завтракать. Этих каналий больше не видно. Тем не менее Эмиас не мог устоять против искушения подойти к дверям гостиницы и спросить, кто были джентльмены, уехавшие с молодым Лэем. – Джентльмены – из Уэльса, – ответил конюх. – Они прибыли прошлой ночью на лодке из Милфордской гавани. Их зовут мистер Морган Эванс и мистер Эванс Морган. «Мистер Иуда Искариот и мистер Искариот Иуда», – подумал Эмиас, а вслух заметил: – Эти джентльмены из Уэльса – неважные наездники. – Я так и сказал груму мистера Лэя, но он объяснил мне, что бедные джентльмены живут в такой гористой стране, где даже охотиться приходится пешком. Им было не так легко выучиться ездить, как здешним молодым джентльменам вроде вас, ваша милость. – У тебя, парень, слишком бойкий язык, – сказал Эмиас, который был очень не в духе. – Уверен, что ты тоже папист. – Что ж из этого? Королевских законов я этим не нарушаю. Я не хожу в норшэмскую церковь, но я каждый месяц плачу шиллинг в пользу бедных, как предписывает закон. Большего ни вы, ни кто другой не может от меня требовать. – Может! Закон предписывает! А откуда такой бедный конюх, как ты, берет свои шиллинги, чтобы платить десятину? Отвечай! По-видимому, ответить было трудно, потому что вопрошаемого внезапно поразила глухота. – Слышишь? – рычал Эмиас, хватая его своей громадной лапой. – Да, миссис, нет, миссис, – лепетал конюх, обращаясь к воображаемой хозяйке, и, выскользнув, как угорь, из-под руки Эмиаса, удрал в дом. Фрэнк схватил горячего юношу. – Какого черта ты мне мешаешь? Этот парень – папистский шпион. – Наверное, – согласился Фрэнк. – Но что же делать, если все графство полно ими. – Не изображать из себя дурака перед ними, а предоставить им оставаться в дураках. Все это очень тонко. Ну, ладно. Я вспомню эту рожу, если увижу ее еще раз. – Он никому не причиняет вреда, – сказал Фрэнк. – Рад, что ты так думаешь. – Ну, теперь домой. А то мои внутренности вопят, требуя питья. Тем временем господа Морган и Эванс скакали прочь со всей скоростью, какую допускала вязкая почва. Они ехали вдоль пустынного и прохладного берега залива, по одну сторону которого лежал город Норшэм, а по другую – Портлэдж. Хорошо, что ни Эмиас Лэй, никто другой не были при том, как они въехали в скором времени в уединенный лес, который тянется вдоль южной стороны залива. Евстафий Лэй тотчас остановился. Он и его грум соскочили с лошадей, смиренно опустились на колени на мокрую траву и попросили благословения джентльменов из Уэльса. Последние благосклонно выполнили просьбу, и с той минуты Морган Эванс и Эванс Морган из Уэльса превратились в иезуитов: отца Парсона и отца Кампиана. Через несколько минут путники двинулись дальше. Спокойной и осторожной иноходью они трусили по высокому плоскогорью, направляясь на запад, к Мурвинстоу. Но им не суждено было мирно достичь цели своего путешествия. Не успели они доехать до громадного древнего римского лагеря, который стоял почти посреди их пути, напротив Коловелли Дайк, как услышали из долины, внизу, громкий окрик, которому ответил более слабый далеко впереди. Отец Кампиан и отец Парсон переглянулись, и оба с ужасом посмотрели на открытое дикое безлюдное пространство с одной стороны и на громадную темную, поросшую вереском насыпь над их головами – с другой. Встревоженный Кампиан тихо заметил Парсону, что это очень мрачное место, как раз подходящее для разбойников. – Еще более подходящее для нас, – двусмысленно произнес Евстафий. – Старые римляне знали, что делали, когда поместили свои легионы здесь, наверху. Отсюда можно наблюдать и берег и море на расстоянии многих миль. Когда-нибудь мы будем благодарны им за эти развалины. Вал совершенно не поврежден, а внутри сколько угодно хорошей воды, и, – добавил он по-латыни, – в случае, если наши испанские друзья – вы понимаете… – Тише, сын мой, – ответил Кампиан. Не успел он кончить, как изо рва, скрытого позади него, словно из-под земли, выскочил, ломая вереск, вооруженный всадник. – Простите, джентльмены! – крикнул он, когда иезуит со своей лошадью отпрянул назад. – Стойте, если жизнь вам дорога. – Мать Небесная! – простонал Кампиан, в то время как Парсон, который, как известно всему миру, был большим забиякой (по крайней мере на словах), спросил: – Какое, черт побери, право вы имеете останавливать честных людей на большой дороге? Но всадник, не обращая внимания на внушение Парсона, проскочил под самым носом лошади Евстафия Лэя с возгласом: – Эй, старина, куда едешь так рано? – внимательно посмотрел одно мгновение вниз на выбоину узкой колеи и вонзил шпоры в бока своей лошади с криком: – Свежий след! Прямо на Хартланд. Вперед! Следуйте за мной, следуйте, следуйте! – Кто этот щенок? – надменно спросил Парсон. – Билл Карри, отчаянный еретик. Вот и другие за ним. При этих словах из огромного рва выехали еще четверо или пятеро конных рыцарей. Позади наших путников загремели копыта. Тут их лошади, прекрасно поняв, какое предстоит им развлечение, пустились галопом. Через минуту злосчастные иезуиты мчались по мхам и болотам в погоне за «жирным оленем». Парсон, хоть и пошлый хвастун, не был трусом и довольно хорошо играл роль мистера Эванса Моргана, но он очень боялся, что его драгоценные мешки сорвутся и упадут на землю, бросив под копыта еретических коней и обнаружив взгляду еретических глаз собрание папских грамот, разрешений, тайной переписки и мятежных сочинений. При одной мысли об этой возможности бедняга чувствовал, как его голова слетает с плеч. Но будущий мученик, мистер Морган Эванс, сразу предался гнусному отчаянию и тщетно пытался найти утешение в восклицаниях на латинском языке: – Ох, какое колючее седло! Варвары островитяне! Между тем недалеко от него ехал храбрый рыцарь, которого мы уже хорошо знаем, Ричард Грейнваль. Накануне он пригласил Карри и других провести у него ночь, а затем выехал с ними в пять часов утра, чтобы после здоровой ранней прогулки поднять оленя в долинах Букиша с помощью гончих мистера Коффина из Портлэджа. Будучи таким же хорошим латинистом, как сам Кампиан, он разобрал и отрывки псалмов и «варваров островитян», после чего пустил свою лошадь рядом с лошадью мистера Евстафия Лэя и при первой же остановке сказал, отвесив низкий поклон в сторону иностранцев. – Я надеюсь, мистер Лэй окажет мне честь представить меня своим гостям. Я был бы очень огорчен и мистер Карри также, если бы чужестранцы пробыли хоть день нашими соседями и не дали нам возможности самолично отблагодарить их за их присутствие и узнать, кто они, почтившие своим посещением наш западный Туле[322]. Единственно, что мог после этого сделать бедный Евстафий, – это представить в должной форме мистера Эванса Моргана и мистера Моргана Эванса. Бедняги, услышав страшное имя и, еще хуже того, увидев страшное лицо со спокойными проницательными глазами, почувствовали себя как пара куропаток во ржи при виде ястреба, парящего над их головами. – Джентльмены, – ласково обратился к ним сэр Ричард со шляпой в руках, – я опасаюсь, что ваша поклажа обременяет вас при этом неожиданном галопе. Если вы разрешите моему груму – он находится сзади – избавить вас от заботы о ней и доставить ваши вещи в Чепл, вы оба окажете мне честь, а сами получите удовольствие наблюдать охоту вблизи. Искорки смеха, несмотря на все усилия сдержать их, зажглись в глазах сэра Ричарда при этом испытующем намеке. Оба джентльмена из Уэльса рассыпались в неуклюжих благодарностях, но, жалуясь на большую спешку и усталость от долгого путешествия, остались в тылу «и исчезли со своим проводником, лишь только след зверя был найден. – Билл! – воскликнул сэр Ричард, подъезжая к молодому Карри. – Иезуиты, Билл. – Подлый лгун может удрать с ними через ближайшие скалы. – Они этого не сделают, пока идут ирландские волнения. Эти молодцы явились устраивать делишки Саундерса и Десмонда[323]. – Быть может, они везут с собой освященное знамя! Нельзя ли мне и молодому Коффину нагнать их? Обидно, когда честные люди не смеют раз в жизни ограбить воров. – Не нужно. Дай дьяволу веревку, и он сам повесится. Держи язык за зубами и гляди в оба, Билл. – Как так? – Пусть стерегут день и ночь побережье Кловелли, как мышиную нору. Никто не сможет обогнуть мыс Харти при этих юго-восточных ветрах. Останавливайте всякого, у кого есть хоть намек на ирландское произношение – и приезжающих и уезжающих, – и направляйте их ко мне. – Кто-нибудь должен охранять гавань Буд, сэр! – Предоставь это мне. Вперед, джентльмены. Не то олень переплывет озеро Аввей! Прокладывая себе дорогу через дубовую поросль и кусты папоротника, всадники с треском и грохотом помчались к Хартландской долине. Лай охотничьих собак и звуки рога удалялись, слабели и замирали вдали. В это время успокоившиеся заговорщики, пришпоривая лошадей, проезжали мимо Бурдсона. Но у Евстафия Лэя были другие мысли и другие заботы, помимо безопасности двух таинственных гостей его отца, как ни были они значительны в его глазах. Он был одним из многих, кто испил сладкого яду (хотя вряд ли в данном случае его можно было назвать сладким) магических чар Розы Торриджа. Он увидел ее в Лондоне и в первый раз в жизни влюбился. В любви Евстафия было очень мало, вернее, даже совсем не было рыцарства или чистоты. Эти добродетели в Реймсе не преподавались. Он стремился жениться на Рози Солтерн с эгоистической страстью, лишь для того, чтобы иметь возможность назвать ее своей собственностью и отстранить от нее всех других. Нопока что сватовство Евстафия было в самом зародыше. Он не мог сказать, знает ли Рози о его любви, и проводил отчаянные часы, думая о вещах, сводящих его с ума; всю ночь он ворочался на своей жесткой постели, наутро вставал сумрачный и бледный и начинал изыскивать все новые предлоги, чтобы пройти мимо дома ее дяди.Глава IV Две манеры быть влюбленным
А что происходило в это время с прекрасной Розой Торриджа? Она сидела в маленьком загородном домике за мельницей, потонувшем в зеленой глубине долины Камбо, на полдороге между Стоу и Чеплом, и злилась на свое изгнание из Байдфорда. Она была так одинока, что хотя и относилась к Евстафию Лэю почти с отвращением, не могла удержаться от того, чтобы не поболтать с ним всякий раз, когда он проходил мимо, направляясь на ферму или на мельницу. А он это делал под любым предлогом чуть ли не каждый день. Ее дядя и тетка вначале смотрели довольно неодобрительно на его визиты, и тетка всегда старалась присутствовать при их беседах. Но все-таки мистер Лэй был сыном джентльмена; и не следовало быть неучтивым с соседним сквайром – постоянным хорошим покупателем. А Рози была дочерью богатого человека, они же были бедными родственниками; поэтому и с ней не следовало ссориться. К тому же хорошенькая девушка то упрямством, то милыми уловками обычно добивалась всего, чего хотела. И она сама была достаточно умна, чтобы просить тетку никогда не оставлять их наедине, так как она не может выносить взгляда мистера Евстафия. Тем временем Евстафий, который хорошо знал, что разница исповеданий была, пожалуй, самым сильным препятствием на пути его любви, тщательно скрывал свои замыслы. Вместо того чтобы заниматься обращением населения мельницы, он ежедневно покупал молоко или цветы и дарил их старой женщине в Мурвинстоу (она находила, что он хотя и папист, а славный молодой человек). Наконец, посоветовавшись с Кампианом и Парсоном, он решил первым делом отправиться вместе с ними в церковь. Господа Эванс Морган и Морган Эванс, напичкав себя заранее правилами протестантского богослужения, держались в церкви совсем как полагается и ничем не выделялись. То же делал и бедный Евстафий, к большому удивлению всего честного народа. Оба иезуита, хотя считали нужным внешне подчиняться существующей власти, были усиленно заняты созданием тайных заговоров с целью ее свержения. С апреля прошлого года они играли в прятки то там, то здесь по всей Англии. Теперь они спокойно ждали, когда вести из Ирландии подадут им знак, что Великое восстание Запада готово сбросить с трона «упрямую, надоевшую, нечестивую, незаконную, распутную, отлученную от церкви узурпаторшу, именующую себя королевой Англии». Вскоре после приезда Кампиан сказал Парсону: – В воздухе пахнет женщиной. Клянусь жизнью! Я видел вчера, как малый покраснел до слез, когда мать спросила его, вернулась ли уже некая Рози Солтерн или кто-то там еще. В результате этой беседы через день или два отец Кампиан попросил отца Франциска, домашнего капеллана, в виде особой любезности разрешить ему выслушать обычную исповедь Евстафия в следующую пятницу. Бедный отец Франциск не осмелился отказать такому важному лицу и согласился с внутренним вздохом. Ему было ясно намерение Кампиана выпытать какую-то семейную тайну, и он понимал, что благодаря этому его влияние уменьшится, а влияние иезуита возрастет. Во всяком случае, Кампиан выслушал исповедь Евстафия и, поставив ему ряд вопросов, открыл, что тот влюблен. Кампиан улыбнулся и еще усиленнее принялся за работу, чтобы узнать, кто «она». Каждый вопрос – замужем ли она или девушка, католичка или еретичка, англичанка или иностранка – приближал его к цели. Наконец Кампиан увидел, что дело не так уж плохо, и прямо спросил Евстафия, какими мирскими благами она располагает. – Даже если бы она была еретичкой, она остается наследницей одного из богатейших девонских купцов. – Ага! – задумчиво произнес Кампиан. – И вы говорите, ей всего восемнадцать лет? – Всего восемнадцать. – Ага! Хорошо, сын мой, у нас есть еще время. Она сможет присоединиться к святой церкви, или вы сможете переменить веру. – Я скорее умру. – Ах, бедный мальчик! Хорошо, она сможет присоединиться, а ее состояние может быть использовано для дела церкви. – И оно будет использовано. Только дайте мне отпущение и дайте мне покой. Позвольте мне лишь иметь ее! – воскликнул Евстафий жалобно. – Я не хочу ее состояния! Дайте мне только ее! Все остальное, не только деньги – слава, талант, сама моя жизнь, если понадобится, будут к услугам святой церкви. Я буду счастлив доказать мою преданность какой-нибудь особой жертвой, каким-нибудь отчаянным поступком. Испытайте меня и посмотрите, существует ли что-либо, чего бы я не совершил. – Все это прекрасно, сын мой, – сказал Кампиан. – Есть одна вещь, которая должна быть сделана, но, быть может, с риском для жизни. – Испытайте меня! – нетерпеливо крикнул Евстафий. – Вот письмо, которое было мне доставлено прошлой ночью – неважно откуда. Вы можете понять его лучше, чем я, и я мечтал показать его вам, но я опасался, что вы не согласитесь. – В таком случае вы напрасно опасались, мой дорогой отец Кампиан. Кампиан прочитал ему шифрованное письмо.«Эвансу Моргану, живущему в доме мистера Лэя в Мурвинстоу, Девоншир. Новости могут быть получены тем, кто пойдет на берег в любой вечер после 25 ноября во время отлива, там подождет лодки, управляемой человеком с рыжей бородой и португальским произношением. Если его спросят “сколько”, он ответит “восемьсот один”. Возьмите у него письма и прочтите их. Если берег охраняется, пусть тот, кто придет, трижды зажжет свет в безопасном месте под скалой над городом: внизу опасно высаживаться. Прощайте и ждите больших событий».
– Я пойду, – сказал Евстафий. – Завтра двадцать пятое ноября, и я знаю верное и безопасное место. По-видимому, ваши друзья хорошо знают эти берега. – О, разве существует что-либо, чего мы не знаем? – ответил Кампиан с таинственной улыбкой. – А теперь?.. – А теперь, чтобы доказать, насколько я вам доверяю, вы пойдете со мной и увидите ту, кем полны мои мысли, хотя я не должен был бы думать о ней, так как она – протестантка и дочь горожанина. – О, сын мой, разве я не дал вам отпущения? Тем не менее я пойду и для того, чтобы доказать, что я доверяю вам, и для того, чтобы, возможно, помочь обращению еретички и спасению погибшей души – кто знает? Итак, они отправились вместе и как раз достигли вершины холма между Чеплом и мельницей Стоу, когда из переулка вышла сама Роза Солтерн. Она быстро шла крошечными шажками, высокая, гибкая, грациозная, настоящая западная девушка. Когда она присела с милым румянцем и прошла, даже Кампиан посмотрел вслед прелестному невинному созданию, чьи длинные темные локоны, по местной моде, вились из-под капора, ниспадая до самой талии. – Вы позволите мне вернуться на один момент? Я догоню вас, отпустите меня! Кампиан видел, что говорить «нет» бесполезно, и утвердительно кивнул. Евстафий бросился в сторону и, перебежав через поле, встретил Рози у следующего поворота дороги. Она остановилась и испустила легкий крик. – Мистер Лэй, я думала, вы ушли вперед. – Я вернулся поговорить с вами, Рози… мисс Солтерн, хотел я сказать. – Со мной? – Я должен говорить с вами! Не гневайтесь, не уходите, умоляю вас! Рози, выслушайте меня только! – И, страстно схватив ее руку, он излил всю историю своей любви, осыпая девушку самыми фантастическими эпитетами. Вероятно, во всех его словах было мало такого, чего бы Рози уже много раз не слышала прежде, но в его голосе был трепет, а в глазах огонь, которых она инстинктивно ужаснулась. – Уйдите прочь! – ответила она, вырываясь и разразившись слезами. – Вы слишком дерзки. Оставьте меня, уходите, или я позову на помощь! Евстафий где-то слыхал или читал, что подобные выражения в устах женщины чаще всего только притворство, и решил, что она собирается звать на помощь. Но ее сопротивление было серьезным, и громкий крик показал ему, что, если он желает спасти свое доброе имя, он должен уйти. Она вырвалась от него, пробежала мимо и бросилась вниз, в переулок. – Запомните это! – крикнул он ей вслед. – Вы пожалеете о дне, когда пренебрегли Евстафием Лэем! И он вернулся, чтобы присоединиться к Кампиану, который стоял в раздумье. – Не обидели ли вы девушку, сын мой? Мне показалось, я слышал крик. – Обидел ее! Нет. Однако лучше бы она умерла и я вместе с ней! Не говорите со мной больше, отец. Мы пойдем домой. Даже Кампиан имел достаточно жизненного опыта, чтобы понять, что произошло. И оба молча поспешили домой. Так Евстафий Лэй сыграл свою игру и проиграл. Рози, добежав почти до Чепла, остановилась, горя от стыда, потом тихо пошла к домикам на окраине и вышла на дорожку, ведущую в деревню Мурвинстоу. Но она была такая красная и возбужденная, что побоялась войти в деревню из опасения (как она себе сказала) дать повод к людским толкам. Поэтому она свернула на боковую тропинку и пошла по направлению к прибрежным скалам, чтобы освежить пылающее лицо дуновением морского ветра. Там, найдя спокойный, поросший травой уголок под утесом, она уселась на дерн и погрузилась в глубокие размышления. Рози не только прекрасно знала, что за ней ухаживали, но находила это ухаживание чрезвычайно приятным. Не то чтобы ей особенно хотелось разбивать сердца: она бы не разбила своего сердца ни для кого из всех поклонников – так почему должны они разбивать свои сердца для нее? Они все были очень милы – каждый по-своему, но ни одного из них она не считала лучше других. Бедная маленькая Рози! Если б у нее была мать! Но ей пришлось брать уроки жизни в другой школе. Она была слишком стыдлива (слишком горда, быть может), чтобы рассказать тетке о своем великом смятении. Но совет ей был необходим. Она просидела, сжав голову руками, более получаса; затем стремительно встала и пошла вдоль скал по направлению к Марслэнду. Она решила повидать Люси Пассимор – «белую колдунью»[324]. Люси все знает и скажет ей, что делать, возможно, даже – за кого выйти замуж. Люси была тучной веселой женщиной пятидесяти лет, с маленькими лисьими, сверкающими, как огонь, глазами. Ее достоинствами в профессии «белой колдуньи» были бесконечная хитрость и столь же бесконечное добродушие, замечательное знание людских слабостей, некоторая гипнотическая сила, некоторое уменье лечить, твердая вера в силу своих собственных чар и уменье держать язык за зубами. Благодаря всему этому она зарабатывала большие деньги и достигла власти над простым людом на много миль вокруг. Рози приблизилась к жилищу колдуньи. Та сидела у очага и гнала водку из порея. Но лишь только гостья появилась в дверях, перегонный куб был брошен на произвол судьбы, и, накинув чистый передник, Люси приветствовала Рози с бесконечной любезностью. – Господи благослови, кто бы мог подумать, что Роза Торриджа посетит мое бедное жилище! Рози села. А дальше? Она не знала, как начать. Она просидела молча целых пять минут, сосредоточенно уставившись на носок своей туфли, пока многоопытная Люси не нашла лучшим сразу приступить к делу и избавить Рози от сложной задачи самой начать распутывать клубок. Со своей обычной манерой, полураболепной, полуфамильярной, она заговорила: – Ну, моя дорогая юная леди, что я могу сделать для вас? Я догадываюсь, вам нужна небольшая помощь старой Люси, а? Хотя я очень смущена, что вижу вас у себя: я думала, что это хорошенькое личико может само управиться с такого рода делами, а? Столь внезапно атакованная, Рози исповедалась и, краснея и смущаясь, скоро дала понять Люси, что хотела бы выслушать предсказание своей судьбы. – А? О, я вижу. Хорошенькое личико уж натворило бед, а? Слишком много «их»? Бедные создания! Это не так-то легко. Один хорош для одного, другой для другого, а? У одного происхождение, у другого деньги. И ловкая женщина, обращаясь наполовину к себе самой, перебрала все имена, чьи владельцы, по ее предположению, засматривались на Рози. При этом она искоса поглядывала своими блестящими лисьими глазками, между тем как Рози упорно помешивала торфяную золу носком своей маленькой туфли, разгневанная, пристыженная, испуганная тем, что эта женщина так хорошо отгадывала имена ее воздыхателей и ее мысли о них. Рози старалась сохранить беспечный вид, кого бы Люси ни называла. – Хорошо, хорошо, – говорила Люси, которая ничего не узнала из ее движений, – думайте, думайте, жизнь моя, и когда вы остановите на ком-нибудь свое внимание, ну, тогда, может быть, я смогу помочь вам увидеть его. – Увидеть его? – Его дух, жизнь моя, я говорю только о духе. Я не стала бы устраивать в своем доме свидания ни за какие деньги, но я могу вызвать его дух, чтобы увидеть, верен ли он. Ведь вы хотели бы это знать, разве не хотели бы, дорогая? Рози вздохнула и сердито отодвинула золу. – Я должна сначала знать, кто он. Если б вы могли мне показать его сейчас! – О, я могу показать вам это тоже, могу. Есть способ, верный способ. Но так смертельно холодно в это время года. – Ну так что же? – спросила Рози, в глубине души мечтавшая о чем-нибудь именно в этом роде и почти готовая просить Люси прибегнуть к колдовству. – Ну а вы не побоитесь войти на минутку в море ночью, нет? Завтрашняя ночь может пригодиться. Как раз завтра будет отлив. – Если вы пойдете со мной, может быть… – Пойду, пойду, постерегу вас, будьте спокойны. Только помните, душенька, никому ни словечка, ни за что на свете, не то ничего не увидите! Ну, попробуем немного колдовства. Хотите? Рози не могла устоять против искушения. Они столковались, и на следующую ночь было назначено колдовство за небольшую плату (Люси жила своей торговлей.) Опустив заслуженный золотой в руку почтенной дамы, Рози ушла. Тем временем, в тот самый час, когда Евстафий преследовал свою избранницу в Мурвинстоу, совсем другая сцена разыгралась в комнате миссис Лэй в Бэруффе. Накануне ночью, отправляясь спать, Эмиас услышал, как его брат Фрэнк в соседней комнате настраивает лютню и начинает петь. Оба окна были открыты; комнаты разделялись лишь тонкой перегородкой, и восхищенный слух Эмиаса улавливал каждое слово любовной песенки, напеваемой нежным мелодичным тенором, которым Фрэнк славился среди прекрасных дам. Когда певец кончил, Эмиас крикнул через стену: – Спокойной ночи, старый дрозд, я полагаю, мне незачем платить музыкантам. – Как, ты не спишь? – ответил Фрэнк. – Иди сюда и усыпи меня морской песней. Эмиас вошел и увидел, что Фрэнк лежит одетый на постели. – Я плохо сплю, – сказал он, – боюсь, что я провожу больше времени, сжигая масло[325], чем полагается благоразумному человеку. Будь моим миннезингером[326], расскажи мне об Андах, о каннибалах, о ледяных и об огненных странах, о райских местах Запада. Эмиас сел и начал рассказывать, но почему-то всякий рассказ неизменно возвращался к имени Рози Солтерн: как он думал о ней тут и как думал о ней там; как хотел знать, что бы она сказала, если бы видела его при таком-то приключении; как мечтал взять ее с собой, чтобы показать ей восхитительный вид, пока Фрэнк наконец не предоставил ему свободы. – Теперь иди спать, – сказал он ему смеясь, – а завтра утром отдай свой меч матери спрятать, иначе у тебя появится искушение проткнуть кого-нибудь из поклонников Рози. – Не бойся, Фрэнк, я не забияка, но если кто-нибудь станет на моем пути, я поступлю с ним как с собакой и переброшу его через набережную в воду охладить его пыл, не будь мое имя Эмиас. И гигант, переваливаясь, со смехом вышел из комнаты. Он проспал всю ночь, как тюлень, и видел сны о Рози Солтерн. На следующее утро Эмиас, по обыкновению, вошел в комнату матери. Эта комната выглядела такой уютной после трехлетних скитаний по безлюдным странам! Тихонько подойдя к двери, чтобы не помешать, он незаметно вошел и застыл при виде зрелища, представившегося его глазам. Миссис Лэй сидела в кресле, низко склонившись над головой его брата, Фрэнка, который стоял перед ней на коленях, спрятав лицо в складках ее платья. Эмиас мог видеть, что все тело Фрэнка вздрагивало от сдерживаемого волнения. – Но не жену, – говорил Фрэнк глухим от рыданий голосом. – Я – ваш сын, и вы должны знать это, даже если Эмиас никогда не узнает. Оба они увидели Эмиаса, взрогнули и покраснели. Мать взглядом выслала его, и он вышел, словно оглушенный. Почему было упомянуто его имя? Так вот что означала вчерашняя песенка! Поэтому ее слова так глубоко запали в его сердце. Его брат оказался его соперником. А он рассказал ему вчера всю историю своей любви. Каким бессмысленным глупцом был он! Фрэнк слушал с такой добротой, даже пожелал ему успеха в его намерениях. Какой он джентльмен, старина Фрэнк! Неудивительно, что королева и все придворные дамы так любят его. Если до этого дошло, то что удивительного, если и Рози Солтерн любит его. «Так-так! Хорошенькую рыбку нашел бы я в своих сетях!» – размышлял Эмиас, шагая по саду. И в отчаянии хватаясь за золотые кудри, словно желая удержать на плечах свою бедную, сбитую с толку голову, он большими шагами ходил взад и вперед по усыпанному ракушками саду, пока голос Фрэнка, веселый, как всегда, окликнул его: – Иди завтракать, парень, и перестань давить эти злосчастные ракушки. От их скрипа я чувствую оскомину на зубах. Благодаря стараниям держать голову прямо Эмиас к тому времени уже привел свои мысли в порядок. Он вошел в дом и с яростью набросился на жареную рыбу и крепкий эль, как бы решившись в тот день во всех отношениях выполнить свой долг до конца. Его мать и Фрэнк с тревогой и ужасом смотрели на него, не зная какой оборот могут принять его мысли при этом новом обстоятельстве. Тогда Эмиас приступил к своему трудному делу: – Слушай, брат Фрэнк, я все это обдумал в саду. Конечно, ты любишь ее! Я был глупцом, что не сообразил этого. А если ты ее любишь – наши вкусы сходятся, и это очень хорошо. Я достаточно хорош для нее, надеюсь. Но если я хорош, то ты еще лучше. И хорошая собака бежит, но зайца хватает лучшая. А потому мне здесь больше нечего делать. Это очень мучительно, – продолжал Эмиас с забавно страдальческим лицом, – но мучительны сотни вещей – такова жизнь, как сказал охотник, когда лев тащил его. Когда нет хлеба, приходится грызть корку. Итак, я поступлю в ирландскую армию и выброшу все это из головы. Пушечные ядра отпугивают любовь так же хорошо, как отпугивает ее бедность. Вот все, что я хотел сказать. С этими словами Эмиас вернулся к своему пиву, в то время как миссис Лэй плакала слезами радости. – Эмиас, Эмиас, – воскликнул Фрэнк, – ты не должен ради меня отказываться от надежды стольких лет! Эмиас сжал зубы и старался сохранить весьма решительный вид. Затем внезапным прыжком он ринулся к Фрэнку, обнял его и всхлипнул: – Довольно, довольно теперь! Забудем все, будем думать о нашей матери, о старом доме и о его чести. Каким ослом я был все эти годы! Вместо того чтобы изучать мое дело, я мечтал о ней, а сейчас не знаю, думает ли она обо мне больше, чем об учениках своего отца. – Мой дорогой Эмиас, я прогнал все мысли о ней сегодня утром. – Только сегодня утром? Еще есть время вернуть их, пока они не слишком далеко ушли. Фрэнк спокойно улыбнулся: – С тех пор протекли столетия. – Столетия?! Я что-то не замечаю большого количества седых волос. – Я бы не удивился, если б они у меня были, – произнес Фрэнк таким грустным и значительным голосом, что Эмиас мог только ответить: – Ладно, ты все-таки ангел! – В таком случае ты нечто большее – ты человек! Оба сказали правду, и, таким образом, борьба окончилась; Фрэнк пошел к своим книгам, а Эмиас, который, когда не спал, всегда действовал, отправился в адмиралтейство потолковать о новом корабле сэра Ричарда. Он забыл свои горести, ораторствуя среди матросов.
Глава V Поместье Кловелли в старое время
На следующее утро Эмиас Лэй исчез. Не с целью погрузиться в отчаяние и даже не с целью плакать над собой, «бродя по берегам Торриджа». Он просто поскакал к Ричарду Гренвайлю в Стоу. Его мать сразу догадалась, что он отправился просить назначения в ирландскую армию, и послала вслед за ним Фрэнка вернуть его и заставить вновь обдумать свое решение. Фрэнк оседлал коня и проехал миль десять или больше, а затем, так как в те дни по дороге не было гостиниц и ему предстояло еще добрых десять миль холмистого пути, он свернул в сторону и отправился к поместью Кловелли, где по гостеприимному обычаю того времени его и его лошадь ждал радушный прием мистера Карри. Как только Фрэнк вошел в длинный, темный, украшенный панелями зал поместья, первое, что он увидел, была громоздкая фигура Эмиаса. Сидя за длинным столом, Эмиас не то всунул свое лицо в пирог, не то пирог в лицо. По-видимому, горе только усилило его аппетит. На противоположной скамье стоял на коленях, опершись локтями на стол, Билл Карри и убеждал его в чем-то. – Эй, брат! – крикнул Эмиас. – Иди сюда и освободи меня из рук этого людоеда. Он, право, убьет меня, если я не разрешу ему убить кого-либо другого. – А, мистер Фрэнк! – воскликнул Билл Карри, который, как и другие местные молодые люди, очень почитал Фрэнка и считал его настоящим оракулом в вопросах моды и рыцарских манерах, – добро пожаловать, я как раз мечтал о вас. Мне нужен ваш совет в сотне дел. Садитесь и ешьте. Вот эль. – Не так рано, благодарю вас. – О нет! – сказал Эмиас, погружая голову в кубок и подражая Фрэнку. – Избегайте крепкого эля по утрам. Он горячит кровь, разжигает пыл, омрачает мозг яростью и бешенством и затмевает свет чистого разума. Эй, юный Платон, молодой Даниил, иди сюда, будь судьей! А все-таки, хоть уж видно дно кубка, я еще вижу достаточно ясно, чтобы видеть, что Билл не будет драться. – Не буду? Кто это говорит? Мистер Фрэнк, я обращаюсь теперь к вам. Только выслушайте. – Мы на судейском кресле, – заявил Фрэнк, принимаясь за пирог. – Обвинитель, начинайте. – Хорошо, я рассказал Эмиасу о Томе Коффине из Портлэджа; я не могу выносить его больше. – Зато он просто великолепно сам себя выносит, – вставил Эмиас. – Придержи язык, черт тебя побери. Какое он имеет право так смотреть на меня, когда я прохожу мимо? – Зависит от того, как он смотрит. И кошка может смотреть на короля, лишь бы она не приняла его за мышь. – О, я знаю, как он смотрит и что он думает; он перестанет так смотреть, или я заставлю его перестать. Прошлый раз, когда я сказал «Рози Солтерн»… – Я знаю, что он написал сонет и послал его в Стоу через рыночную торговку. Какое право он имеет писать сонеты, раз я не умею? Это нечестная игра, мистер Фрэнк, провались я на месте. Разве это не повод для ссоры? И Билл стукнул по столу так, что все блюда запрыгали. – Мой дорогой рыцарь пылающего жезла, у меня есть блестящий план, возможность все распутать согласно самым лучшим правилам рыцарства. Назначим день и созовем барабанным боем всех молодых джентльменов не старше тридцати, живущих на расстоянии пятнадцати миль от замка нашей несравненной Орианы. – И всех подмастерьев! – крикнул Эмиас из глубины пирога. – И всех подмастерьев. Храбрые молодцы вначале станут драться дубинами на байдфордском рынке, пока все головы не будут разбиты. Чья голова уцелеет, тот заплатит спиной. После сего великого побоища все молодые люди изберут подходящее поле и, сбросив верхнюю одежду, с остро отточенными шпагами одинаковой длины бросятся друг на друга – хватай любого. Победитель будет снова драться – так принято среди боевых петухов – пока все не погибнут и не избавятся от своих страданий. Затем единственный, оставшийся в живых, оплакав перед небом и землей жестокость нашей прекрасной Орианы и избиение, вызванное ее глазами василиска, грациозно бросится на свой меч. Так окончатся горести нашего поколения влюбленных[327]. – Право, это ужасно, – ответил Карри. – Таково, простите меня, ваше желание пронзить мистера Коффина чем-либо острее шпильки. – Шпильки слишком коротки для столь свирепого Боабдилла[328], – заметил Эмиас. – Шпильки заставят их столкнуться так близко, что они тотчас же перейдут на кулаки. – Так пусть поливают друг друга водой из насосов на рыночной площади, так как, клянусь небом и королевскими законами, другим оружием они не будут драться. – Клянусь Небом! – крикнул Эмиас. – Фрэнк говорит, как книга. Что касается меня, я полагаю – джентльмен оставит любовные ссоры быкам и баранам. – А наследник Кловелли, – улыбаясь, закончил Фрэнк, – может найти лучшие образцы для подражания, чем олени из его собственного парка. – Пусть так, – сокрушенно промолвил Билл. – Вы большой ученый, Фрэнк, но джентльмен должен иногда драться, иначе что станет с его честью? – Я говорю, – ответил несколько надменно Фрэнк, – не просто как ученый, а как джентльмен, как человек, который сражался на своем веку и которому, мистер Карри, случалось убивать своих противников. Но я с гордостью вспоминаю, что никогда не сражался из-за личной ссоры и, надеюсь, никогда этого не сделаю. – Что же мне делать? – спросил Билл. – Я хочу пойти завтра на базар; если там будет полно Коффинов и каждый из них начнет дразнить меня? – Предоставь все мне, – сказал Эмиас. – У меня есть свой план – он не хуже плана ученого Фрэнка. Если завтра на базаре произойдет ссора, как я предполагаю, увидишь, если я не… – Ладно, вы оба добрые малые, – перебил Билл. – Давай выпьем еще кубок. – А теперь выпьем за здоровье мистера Коффина и всех доблестных юношей севера и перейдем к делу. Я должен доставить этого беглеца домой, к его матери. Если он не пойдет добровольно, я получил приказ перебросить его через седло. – Надеюсь, у твоей лошади крепкий круп, – рассмеялся Эмиас. – Я должен повидать сэра Ричарда, Фрэнк. Очень приятно так пошутить, как мы шутили, но я принял твердое решение. – Стой, – прервал Карри, – сегодня вечером вы должны остаться здесь; прежде всего ради хорошего обеда, а затем потому, что мне нужен совет нашего Феникса, нашего оракула, нашего образцового рыцаря. Вот, Фрэнк, можете вы перевести мне это? Только говорите оба тихо – идет мой отец. Лучше отдайте мне письмо. Здорово, отец. Откуда ты? – Эге, да здесь целая компания! Молодые люди, вы и вам подобные – всегда желанные гости. Как поживает ваша матушка, Фрэнк? Где я был, Билл? На ферме, смотрел быков. Но я голоден. Половина первого – и еще нет обеда? Что я вижу, мистер Эмиас утоляет жажду крепким элем. Лучше попробуем глинтвейна. Старик уселся на большую скамью у камина, и его сын стал трудиться над стаскиванием отцовских сапог, получая ежеминутные предостережения насчет мозолей. – Куда ты едешь, Эмиас? – спросил Билл. – Куда я еду? – переспросил Эмиас. – В ту сторону, которую Рэли[329] назвал страной нимф. Я надеюсь, что следующий месяц застанет меня на чужбине в Ирландии. – На чужбине?.. – Скажи лучше на родине, – заявил старый Карри. – Она с одного конца до другого полна уроженцев Девона, ты все время будешь среди друзей. Однако вот идут слуги, я слышу, как повар стучит к обеду. После обеда Билл Карри, придвинув свой стул вплотную к стулу Фрэнка, осторожно сунул ему в руки грязное письмо. – Это письмо было мне доставлено сегодня утром деревенским парнем. Взгляните на него и скажите, что мне делать? «Мистер Карри, стерегите сегодня ночью на стороне Заповедника. Когда ирландская лисица выскочит из-за утесов – хватайте ее и крепко держите». – Я показал бы это отцу, – сказал Билл, – но… – Я думаю, что это какая-то уловка. Смотрите, это почерк человека, который старался писать неграмотно и все-таки не мог. Взгляните на это и на это – такие образцы не преподаются в ирландской школе. И больше того – это писал не девонец. – Разумеется. – И мы бы сказали «человека» вместо «ее»? – Верно! О, Даниил! Но значит ли это, что мне ничего не нужно делать? – В этом вопросе я не судья. Спроси Эмиаса. Вероятно, из своего путешествия вокруг света он вывез некоторый опыт. Эмиас был вызван на совет. Он подумал минуту, запустив обе руки в длинные кудри, а затем: – Билл, милый мой, тебе приходилось сторожить в стороне Заповедника в последнее время? – Никогда. – Тогда где же? – На городской набережной. – Еще где? – В центре города. – Еще где? – Ого, малый стал адвокатом! Около Фрешуотера. – Где находится Фрешуотер? – Ну, где водопад – на расстоянии полумили от города. Там наверху есть тропинка в лес. – Знаю. Я буду сторожить там сегодня ночью. Все часто посещаемые места, конечно, охраняются. И пошлите парочку здоровых слуг на мельницу на всякий случай – автор письма мог сообщить и правду. Но мое сердце чует, что оно написано нарочно, чтобы отвлечь тебя. – Но почему вы склонны сторожить именно Фрешуотер, мистер Эмиас? – Потому, что те, кто явятся, если только они явятся, никогда не высадятся в Мусмилле. Если это иностранцы, они не осмелятся; если это местные люди, они слишком опытны, чтобы подъехать, пока не подует западный ветер. Высадиться у города было бы слишком большим риском, а Фрешуотер уединен, как Бермудские острова, и там можно подвести лодку к скале при всяком уровне воды и во всякую погоду, исключая северного и северо-западных ветров. Я не раз делал это, когда был мальчиком. – И делишься с нами плодами своего опыта в зрелые годы, а? – Ладно, у тебя седая голова на зеленых плечах, мой мальчик; и я думаю, что ты в самом деле прав. Кого ты возьмешь с собой сторожить? – Я пойду с братом, – сказал Фрэнк, – и этого будет достаточно. – Достаточно? Он достаточно велик, а вы достаточно храбры для десятерых; но все-таки чем больше, тем веселее. – Но чем меньше, тем легче. Я осмелюсь просить у вас первой и последней милости, – очень серьезно заговорил Фрэнк, – обещайте мне две вещи: первая – вы не пошлете к Фрешуотеру никого, кроме меня и моего брата, и второе – что бы мы ни узнали – оно останется тайной. Я полагаю, мы достаточно известны вам и другим – вы не можете ни на минуту сомневаться, что наши действия удовлетворят и вашу честь, и нашу собственную. До самого отъезда братьев молчание почти не прерывалось. – Эмиас, – сказал Фрэнк, – и тем не менее это писал девонец. Это писал Евстафий. – Невозможно! – Нет, друг, я был секретарем принца и научился разбирать шифры и подмечать каждый росчерк пера. Как я ни молод, я полагаю, меня нелегко провести. Идем, друг, но не бей никого сгоряча, ты можешь погубить свою же кровь. Они прошли вдоль парка по направлению к востоку; миновали спрятавшуюся в лесу рыбачью деревушку – ряд домиков, прилепившихся к отвесной скале; прошли еще с полмили и по крутому склону холма, поросшему дубовым лесом, по узкой лесной дорожке стали спускаться к воде до того места, где с двух сторон сливаются ручьи и с высоты нескольких сотен футов обрушиваются каскадом в океан. Подле водопада подымалась с берега узкая тропка. Здесь братья предполагали встретить посланного. Фрэнк желал занять сторожевой пост ниже Эмиаса. Он говорил, что уверен, что Евстафий явится самолично, а он скорее сумеет воздействовать на него словами, чем Эмиас, что если Эмиас будет караулить ярдов на двадцать кверху, посланный все равно не сможет удрать. И, кроме того, он – старший брат и потому имеет право на почетный пост. Эмиас подчинился, заставив брата обещать, что если на тропинке появится больше одного человека, Фрэнк пропустит их мимо себя, прежде чем окликнуть брата, так, чтобы оба – Эмиас и Фрэнк – могли загнать их в тупик одновременно. Итак, Эмиас занял свое место под высокой мергелевой насыпью и, лежа меж пышно разросшимися папоротниками, не сводил глаз с Фрэнка, присевшего на небольшом выступе утеса. Прошло полчаса. Изредка Эмиас отрывал взгляд от скалы, чтобы взглянуть на окружающую местность. Наконец он услышал шорох падающих листьев и плотнее прижался к темной насыпи. Затем послышались быстрые, легкие шаги – не спускающиеся, а подымающиеся снизу. Его сердце билось громко и часто. Еще через полминуты в трех шагах от убежища Фрэнка показался человек. Фрэнк тотчас вскочил. Эмиас видел, как светлый клинок блеснул при ярком свете октябрьской луны. – Именем королевы, стой! Человек выхватил из-под плаща пистолет и выстрелил Фрэнку прямо в лицо. Но спустить тяжеловесный курок было нелегким делом. Прежде чем исчезла искра, Фрэнк успел ударить пистолет рапирой снизу, и пуля, не причинив вреда, пролетела над его головой. В ту же секунду человек бросил оружие ему прямо в лицо, но, к счастью, не попал. Удар пришелся в плечо, и все же Фрэнк, который был хрупок, как лилия, пошатнулся и растерялся. Эмиас увидел, как, прежде чем Фрэнк мог овладеть собой, в руке врага блеснул кинжал, нанесший один, два, три удара. Вне себя от бешенства Эмиас в одно мгновение очутился подле сражающихся. Они так тесно сплелись в темноте, что он побоялся пустить в ход острие своего меча, но рукоятью, хватил негодяя прямо по щеке. Этого оказалось достаточно. С болезненным криком молодец покатился ему под ноги, и Эмиас наступил на него, готовясь проткнуть его насквозь. – Стой! стой! – завопил Фрэнк. – Это – Евстафий! Наш кузен Евстафий! – И он прислонился к дереву. Эмиас подскочил к нему, но Фрэнк только отмахнулся. – Это пустяки, царапина. У него с собой бумаги. Я уверен в этом. Возьми их и отпусти его. – Негодяй, отдай мне бумаги! – закричал Эмиас, еще раз наступив на поверженного Евстафия, у которого была сломана челюсть. – Ты подло ударил меня сзади, – простонал тот. Его тщеславие и зависть сказались даже тут. – Собака, не думаешь ли ты, что я не осмелюсь ударить тебя спереди? Дай мне бумаги, письма, всю папистскую чертовщину, что ты нес, или, клянусь жизнью, я отрублю тебе голову и возьму их сам, хотя бы это стоило мне позора обнажить твое тело. Давай их сюда! Предатель, убийца! Давай их, говорю тебе! – И, снова поставив на него ногу, Эмиас поднял меч. Евстафий не был трусом. Но тут он испугался. Принужденный выбирать между смертью и позором, он не имел больше мужества сопротивляться. Лунный свет озарял высокий чистый лоб, длинные золотые кудри и ужасный белый меч его громадного кузена; и суеверному взгляду Евстафия он стал казаться похожим на прекрасного юного святого, попирающего Сатану, – таких он видел за границей на старых германских картинах. Евстафий содрогнулся, вытащил из-за пазухи пакет и швырнул его прочь от себя, пробормотав: – Я не предал их. – Поклянись, что здесь все бумаги, какие у тебя были – шифрованные и нешифрованные. Клянись своей душой или ты умрешь. Евстафий поклялся. – Скажи мне, кто твои сообщники? – Никогда! – воскликнул Евстафий. – Жестокий, мало ты унизил меня? Злополучный юноша разрыдался и закрыл свое окровавленное лицо руками. Какой-то проблеск нового чувства сделал Эмиаса кротким, как ягненок. Он поднял Евстафия и приказал ему бежать ради спасения жизни. – Значит, я обязан жизнью тебе? – Нисколько. Только тому, что ты носишь имя Лэй. Ступай, или тебе будет хуже! И Евстафий ушел, а Эмиас, схватив драгоценный пакет, бросился к Фрэнку. Фрэнк уже лишился сознания, и брат донес его до самого парка, прежде чем встретил остальных караульных. Для них все происшедшее осталось полной тайной. Они ничего не видели и не слышали. Все возвратились в поместье, неся Фрэнка, который постепенно пришел в себя. Он получил скорее ушибы, чем раны, так как противник в бешенстве наносил удары дрожащей рукой. Полчаса спустя Эмиас, старик Карри и его сын Билл держали тайный совет по поводу следующего послания – единственной бумаги в пакете, которая не была зашифрована:«Дорогой брат во Христе! Извещаю вас и всех друзей нашего дела, что Джозефус высадился в Смервикке с восемьюстами доблестными крестоносцами, горящими священным рвением искупить свои преступления (которых, боюсь, было много) распространением святой католической веры. Молитвами и святой водой я очистил крепость от грязных следов еретиков и вновь посвятил ее Богу. Если вы можете что-либо сделать, сделайте скорее, так как широкий и верный путь открыт, а врагов много. Но действуйте быстро. Бедные Божьи овцы так напуганы, что сотни побегут перед одним англичанином. Земному суждению ни они, ни их страна не представляются достойными заботы о них. Они предаются воровству, лжи, пьянству, пустословию, нечестивым танцам и пению. В то же время их страна, по причине тирании вождей и беспрестанных грабежей и войн между племенами, которые, дробясь и слабея, делаются легкой добычей нечестивой, похитившей престол англичанки, совершенно опустошена огнем и обезображена телами умерших и убитых. Но что значит все это, когда добродетель католической покорности уже расцветает в их сердцах? Церковь беспокоится не о сохранении тел и имуществ, а лишь о бессмертных душах. Если какая-нибудь благочестивая леди пожелает, вы можете получить от ее щедрости для этой недостойной обители рубашку и пару штанов, так как я противен себе и другим, а здесь нет излишка такой роскоши. Все живут в святой бедности, за исключением блох; они единственные получают в нашем мире то утешение, которого этот несчастный народ и те, кто работает среди него, должны ждать до будущего мира. Любящий вас брат».
– Сэр Ричард должен узнать об этом до рассвета! – воскликнул старый Карри. – Восемьсот человек высадились! Мы должны созвать комитет граждан и все отправиться против них. Я сам пойду, как я ни стар. Ни одна собака не должна вернуться домой. – Ни одна собака из них, – ответил Билл. – Но где мистер Винтер и его отряд? – В безопасности, в Милфордской гавани. К нему также нужно послать гонца. – Я поеду, – сказал Эмиас. – Но Карри прав. Сэр Ричард должен знать все первым. – И мы должны захватить этих иезуитов. – Что? Мистера Эванса и мистера Моргана? Они находятся в доме моего дяди. Подумайте о чести нашей семьи. – Посудите сами, дорогой мальчик, – ласково сказал старый Карри, – разве не будет сущей изменой позволить этим лисицам бежать, когда в наших руках такое неопровержимое доказательство против них? – Тогда я сам поеду. – Почему нет? Вы сможете все уладить, а Билл поедет с вами. Кликни грума, Билл. Пусть оседлают твою лошадь и моего серого йоркширца. Он веселее повезет этого великана, чем маленький пони, верхом на котором изволил приехать (как я слышал) мистер Лэй сегодня утром. Что касается Фрэнка – за ним присмотрят дамы: они сделают это достаточно хорошо и будут очень рады залучить в свою клетку на одну-две недели такую чудесную птицу. – А моя мать? – Мы пошлем к ней завтра на рассвете. – Ну, прощальный кубок перед отъездом! Теперь сапоги, мечи, плащи и прощайте! Подвижной старик стал торопить молодых людей выйти и вскочить на лошадей, пока светит ясная зимняя луна. – Вы должны ехать рысью, не то луна зайдет прежде, чем вы выберетесь из болот. Итак, они отправились. Много миль они ехали молча. Эмиас потому, что его мозг был занят одной упорной мыслью: как спасти честь своего дома, а Билл потому, что колебался между Ирландией, и войной, и Розой Солтерн, и любовью. Наконец он внезапно сказал: – Я поеду, Эмиас. – Куда? – С тобой в Ирландию, старина. Я наконец бросил якорь. – Какой якорь, мой загадочный друг? – Смотри, вот я – большое и храброе судно. – Скромно, даже если неверно. – Склонность, как якорь, крепко держит меня. – В тине? – Нет, на ложе из роз, не лишенном шипов. – Ого! Я видел устриц на плодовых деревьях, но никогда не видел якоря в розовом саду. – Молчи, а то моя аллегория разобьется. – О скалу моего бессердечия. – Пф! Ладно. Появляется долг, как живительный ветер, изо всех сил дующий с северо-востока, такой же резкий и упорный, и тянет меня к Ирландии. Я держусь за свое розовое ложе – плохая защита в шторм. Наконец все препятствия исчезают, и я отправлюсь вперед на запад! Меняю свое разбойничье гнездо на болотистую нору с Эмиасом Лэем. – Серьезно, Билл? – Клянусь моими грехами. – По рукам, молодой сокол с Белой скалы. – Хотя я больше привык называть ее «Убежищем влюбленных». – Да, на берегу мы так зовем ее, но мы всегда говорим «Белая скала», когда смотрим на нее с моря – как мы с тобой станем смотреть, надеюсь, не позже, чем завтра вечером. – Почему так скоро? – Разве смеем мы терять день? – Я полагаю – нет. Итак, вперед! И они снова поехали молча. Эмиас был доволен (невзирая на свое недавнее отречение), что по крайней мере один из его соперников снимет на несколько месяцев осаду с сердца Рози. Когда они проезжали над Кэредоном, Эмиас внезапно остановился. – Ты не слышишь лошадиного топота с левой стороны? – С левой – со стороны Вельсфордских болот? Немыслимо в этот час. Это, должно быть, олень или дикий кабан, возможно, просто старая корова. – Это был звон железа, друг. Остановимся и подождем. И молодые люди стали внимательно всматриваться в лежащее слева пространство болот и вереска, блестящее при лунном свете, как сплошная полоса холодного серебра, покрытого унылой осенней росой. – Если кто-либо из сообщников Евстафия пробирается домой из Фрешуотера, он, желая сберечь парочку миль, мог проехать через Вельсфорд, вместо того, чтобы ехать, как мы по большой дороге, – сказал Эмиас, который был хитер, как лисица во всех вопросах тактики и страсти. – Если кто-нибудь из них сошел с ума, он мог попытаться это сделать и завязнуть. Там есть болота в двадцать футов глубины. Черт бы побрал этого молодца! Кто бы он ни был, он перехитрил нас! Смотри. Он был прав. Неизвестный всадник, по-видимому, слез с лошади внизу и повел ее вверх по другой стороне длинного рва, заросшего вереском; затем, дойдя до места, где ров сворачивает в сторону с намеченного им пути, он появился на фоне неба, собираясь вывести свою лошадку из дыры. – Летим, как ветер! И оба – Билл и Эмиас – помчались галопом через терн и вереск. Неизвестный успел вскочить на лошадь, когда оставалось еще около ста ярдов расстояния, и далеко обогнал их. – Вот чертов сын! – воскликнул Карри. – Только чертов слуга. Мы никогда не поймаем его. – Явсе-таки попытаюсь, а ты можешь тащиться сзади, старый тяжеловоз! И Карри сильнее погнал коня. Эмиас минут на десять потерял Билла из виду, а затем увидел, что тот стоит около лошади и безутешно ощупывает ее колени. – Поищи мою голову – она валяется где-нибудь среди вереска. Ох, я бесполезен, как старая баба. – Колени сломаны? – Я не решился посмотреть. Думаю, что нет. Поезжай вперед и сделай все, что возможно в этом скверном деле. Парень уехал на милю вперед вправо. – Тогда он направляется в Мурвинстоу; но где же мой кузен? – Позади нас, смею сказать. Мы сцапаем по крайней мере его. – Карри, обещай мне, что если мы это сделаем, ты скроешься из виду и предоставишь мне расправиться с ним. – Мой мальчик, мне нужны только Эванс Морган и Морган Эванс. Твой кузен – только руки, а мы гонимся за головой. Итак, они проехали еще шесть мрачных миль по все опускающейся местности. – Теперь как? Прямо в Чепл – заткнуть лисью нору или через королевский парк в Стоу спустить собак сэра Ричарда и явиться с шумом и приказом об аресте в должной форме. – Повидаемся сначала с сэром Ричардом, и, что бы он ни решил относительно моего дяди, я подчиняюсь. Они поехали через королевский парк. Близ Стоу проехали мимо мельницы и группы закрытых цветами коттеджей. В окне одного из них еще горел огонь. Оба молодых человека хорошо знали, чье это окно, у обоих сердца быстро забились. В этой комнате спала или, вернее, еще не спала Рози Солтерн. – Поздно не спят сегодня в Комве, – произнес Эмиас так беззаботно, как только мог. Карри внимательно посмотрел в окно, а затем довольно едко на Эмиаса, но Эмиас с деловым видом приводил в порядок свои стремена. И Карри поехал дальше, не зная, что каждая жилка в теле его товарища трепещет, как в его собственном. – Сыро и мрачно здесь внизу, – сказал Эмиас, в самом деле почти изнемогший от внутренней борьбы. – Через пять минут мы будем у ворот Стоу, – ответил Карри, оглядываясь назад, пока его лошадь взбиралась на противоположный холм, но коттедж скрылся за поворотом извилистой дороги. Следующая их мысль была о том, как попасть в Стоу в три часа утра и не быть съеденными сторожевыми псами, уже начавшими рычать и лаять, заслышав шум лошадиных копыт. Как бы там ни было, после долгого стука и зова они благополучно попали в дом через задние ворота в высокой западной стене. Сэр Ричард в длинном ночном одеянии скоро спустился в зал. Письмо было прочитано, история рассказана. Но прежде чем она была наполовину окончена, он сказал: – Антоний, позови грума. Пусть он приготовит мне лошадь. Джентльмены, если вы извините меня, то через пять минут я буду к вашим услугам. Через полчаса они вновь спустились, пересекли равнину и очутились под малочисленными низкими сплющенными морским ветром ясенями, стоящими вокруг одиноких ворот Чепла. – Карри, там позади есть тропинка, ведущая через дюны к Марсленду. Ступайте охранять ее. Карри уехал, а сэр Ричард громко постучал в ворота. – Лэй, вы видите, я принял во внимание вашу честь и честь вашего бедного дяди – мы входим сюда одни. Чего еще вы хотите от меня, как внимательнее могу я отнестись к вашей чести? – О, сэр! – воскликнул Эмиас со слезами на глазах. – Вы выказали себя еще раз тем, чем всегда были – моим дорогим и любимым руководителем, не уступающим даже моему адмиралу, сэру Фрэнсису Дрейку. – Что же мы будем делать? – Мой несчастный кузен, сэр, еще не мог вернуться – и я хотел бы ждать его на большой дороге, если только я не нужен вам. – Ричард Гренвайль может войти один, юноша. Но что вы хотите сделать со своим кузеном? – Заставить его навсегда покинуть страну или, если он откажется, тотчас проткнуть его насквозь. – Идите, юноша! В то время как он говорил, заспанный голос из-за ворот спросил: – Кто здесь? – Ричард Гренвайль. Именем королевы, откройте! – Сэр Ричард? Он в своей постели, черт вас подери. Честные люди не приходят в такое время. – Эмиас! – крикнул Ричард. Эмиас вернулся. – Откройте мне эти ворота, я подержу вашу лошадь. Эмиас слез с коня, поднял с дороги камень такой, какие герои Гомера имели обыкновение швырять друг другу в головы, и в одно мгновение дверь оказалась на земле, а стоявший сзади слуга – под ней. Сэр Ричард спокойно переступил через нее и велел малому встать и взять его лошадь, а затем направился прямо к главному входу. Он был открыт. Слуги были на ногах и выстроились вдоль всего пути. По-видимому, шум разбудил их. Сэр Ричард тем не менее постучал в открытую дверь. К его удивлению, на стук ответил сам старый Лэй, вполне одетый, со свечой в руках. – Сэр Ричард Гренвайль! Разве это по-соседски, не говоря о вежливости, врываться в мой дом глубокой ночью? – Я разбил вашу наружную дверь, сэр, потому, что меня отказались впустить, когда я попросил именем королевы. Я постучал в вашу внутреннюю дверь, как должен был бы постучать в дверь беднейшего коттеджа в приходе, так как нашел ее открытой. Здесь у вас находятся два иезуита! А вот королевский приказ о задержании их. Я подписал его собственной рукой и, больше того, теперь предъявляю его собственной рукой, дабы спасти вас от скандала, а может быть, и отчего-либо худшего. Я должен получить этих людей, мистер Лэй. – Мой дорогой сэр Ричард! – Я должен получить их, или я буду вынужден обыскать дом; вы не захотите подвергнуть ни себя, ни меня столь позорной необходимости? – Мой дорогой сэр Ричард! – Должен ли я в таком случае просить вас отойти от собственных дверей, мой дорогой сэр? – спросил Гренвайль, а затем, меняя свой голос на тот ужасающий львиный рык, которым он был знаменит, загрохотал: – Слуги, прочь, назад! Это было сказано полудюжине хорошо вооруженных грумов и лакеев, столпившихся в проходе. – Что? Сабли наголо, заячьи уши? В одно мгновенье сэр Ричард также выхватил свой длинный меч и, тихонько, как ребенка, отодвинув в сторону старого Лэя, двинулся к вооруженным людям, которые тотчас расступились в обе стороны. Они были отважными молодцами в открытом бою, но не испытывали желания быть повешенными в ряд в Лаунчестонском замке, после того как их насквозь проткнет этот страшный адмирал – самый «немирный» из всех «мировых» судей. – А теперь, мой дорогой мистер Лэй, – заговорил сэр Ричард кротко, как всегда, – где нужные мне люди? Ночь холодна, и вам, как и мне, пора в постель. – Сэр Ричард, иезуиты не здесь, конечно. – Не здесь, сэр? – Даю слово джентльмена – они оставили мой дом час тому назад. Поверьте мне, сэр, я поклянусь вам, если нужно. – Я верю слову мистера Лэя из Чепла без всяких клятв. Куда они направились? – Но, сэр, откуда мне знать? Они, могу сказать, удрали, сэр, исчезли. – При вашей помощи. По крайней мере при помощи вашего сына. Куда они поехали? – Жизнью клянусь, я не знаю. – Мистер Лэй, возможно ли это? Решитесь ли вы присоединить ложь к той измене, от наказания за которую я стараюсь вас избавить? Несчастный мистер Лэй разрыдался. – О боже мой, боже мой! О! Неужто дошло до этого? Вдобавок ко всему страху и беспокойству от пребывания этих черных негодяев в моем доме, когда я должен был каждую минуту затыкать их подлые рты, дрожа, что они доведут до виселицы и себя и меня, меня называют изменником и лжецом – в мои годы! Лучше бы мне не родиться на свет! Бедный старик упал в кресло и закрыл лицо руками. Затем он опять встал. – Простите меня, сэр Ричард, я сел, оставив вас стоять. Горе сделало меня чурбаном. Садитесь, мой дорогой сэр, уважаемый сэр! Или лучше пойдемте со мной ко мне в комнату и выслушайте мою злополучную историю. Клянусь вам, что иезуиты бежали, а мой бедный мальчик Евстафий все еще не вернулся. Грум рассказал мне, что этот дьявол – его кузен – сломал ему челюсть. Его мать почти обезумела за этот час. Горе нам! Горе! – Ваш сын чуть не убил своего кузена, сэр, – сурово сказал Ричард. – Как? Об этом грум не говорил мне. – Ваш сын, прежде чем Эмиас опрокинул его, три раза ударил кинжалом своего кузена Фрэнка. И ради чего взял Евстафий на себя роль злодея и убийцы? Только, чтобы доставить в ваш дом это письмо, которое я прочту вам, как только отдам распоряжение насчет ваших патеров. Выйдя из дому, сэр Ричард обошел вокруг и подозвал к себе Карри. – Птички улетели, Билл, – прошептал он. – У нас один только шанс поймать их – у устья Марсленда. Если они стараются достать там лодку, вы еще можете поспеть вовремя. Если они ушли внутрь страны, мы ничего не можем сделать до завтра, пока не подымем шума. И Билл галопом помчался через дюны к Марсленду, а Ричард Гренвайль вернулся в дом и по всем правилам этикета объявил, что готов и счастлив иметь честь быть принятым в собственной комнате мистера Лэя.
Глава VI Четверка с далекого Запада
Лишь одно устье на берегу было доступно для лодок благодаря длинной каменной плотине, защищающей его от океанских волн, – устье Марсленда, где жила «белая колдунья» Люси Пассимор. Сюда, как правильно решил сэр Ричард, и направились иезуиты. Но еще до прибытия иезуитов два человека стояли на этом одиноком берегу, освещенные светлой октябрьской луной – Рози Солтерн и сама «белая колдунья». Лихорадочно волнуемая любопытством и суеверием, прельщенная сумасбродством затеи, Рози точно явилась в назначенное время и за несколько минут до полуночи стояла со своей советницей на покрытом серыми валунами берегу. – Вы будете в полной безопасности, мисс. Мой старик храпит вовсю в своей постели, и ни одна живая душа не бывает здесь по ночам, за исключением сирен. Батюшки, да где же наша лодка? Она должна была быть здесь на камнях! Рози указала на песчаную полосу, шагов на сорок ближе к морю, где лежала лодка. – Отколочу же я его за это, когда вернусь. Надеюсь, он хоть закрепил ее как следует. Этот старик приносит мне больше бед, чем когда-нибудь принесут мои деньги! Ох, горюшко мое! Хозяйка озабоченно стала спускаться к лодке, Рози за ней. – Так, это достаточно крепко… И весла на месте. Вот тебе на! Ох, ленивый мошенник – оставить здесь лодку, чтоб ее украли! Я сяду в лодку, дорогая, и буду караулить, пока вы спуститесь к морю. Ну, торопитесь, уже почти полночь. И она забралась в лодку, а Рози нерешительно прошла по песчаной полосе еще шагов двадцать; затем, сбросив платье, трепещущая и дрожащая постояла минутку, прежде чем войти в воду. Она находилась между двумя стенами скал: левая, футов в двадцать вышиной, была окутана глубоким мраком; правая, гораздо более низкая, поглощала весь свет полуночной луны. Ветер совсем прекратился. Ни одна волна не нарушала совершенного покоя маленького залива. Над всем царила настоящая осенняя тишина, которую можно слышать. Рози стояла в страхе и прислушивалась, стараясь уловить хоть один звук. С утеса послышался как будто плач обиженного ребенка, ему ответил другой с противоположной скалы. Это кулики и выдра скликали свое потомство. Рози могла слышать биение собственного сердца, когда наконец с зеркалом в руках вступила в холодную воду, прошла вперед, сколько осмелилась, и испуганно остановилась. Кольцо пламени окружало ее талию. Все тело купалось в дрожащем свете. Она ясно видела каждого моллюска, ползающего у ее ног по белому песку. Девушка повернулась и хотела бежать, но она зашла слишком далеко, чтобы отступить. Три раза поспешно погрузив голову в воду, она выбежала на берег и, глядя сквозь свои мокрые кудри в волшебное зеркало, произнесла заклинание. Едва заклинание было закончено и глаза Рози напряженно впились в зеркало, где, как и следовало ожидать, ничего не появилось, кроме сверкающих капель с ее собственных кос, как она услышала внизу у камней шум торопливых шагов, людских и лошадиных. Она бросилась в пещеру в высокой скале и поспешно оделась. Шаги остановились справа от лодки. Выглянув, полумертвая от страха, она увидела четырех людей. Двое из них только что сошли с лошадей и, отпустив их на произвол судьбы, стали помогать двум другим спускать лодку. Внезапно оттуда выросла тучная фигура Люси Пассимор и пронзительно завизжала: – Эй, подлецы, негодяи, зачем вам понадобилось воровать по ночам лодки у бедных людей? Все четверо в ужасе отпрянули, а один бросился бежать по берегу, крича во весь голос: – Там сирена, сирена уснула в лодке Вилли Пассимора. – Я бы желал, чтобы привалило такое счастье, – услышала Рози голос Вилли. – Это моя жена, вот беда! И бедняга присел на корточки в ожидании жестокого тумака. Он его получил тотчас же, как только Люси Пассимор вылезла из своего убежища и, запретив кому бы то ни было дотрагиваться до лодки, громовым голосом приказала мужу идти спать. Хитрая женщина ухватилась за эту возможность отсрочки главным образом, чтобы выиграть время для Рози. Но у нее были и более веские причины обострить борьбу до последней возможности. Она, как и Рози, уже узнала в неуклюжей фигуре одного из четырех того самого подозрительного уэльского джентльмена, призвание которого она давно разгадала. Люси пришла в ужас от связи своего мужа с этими «папистскими трусами» (как она назвала всех четырех прямо в лицо). Разве только за хорошее вознаграждение?! Напрасно Парсон шумел, Кампиан уговаривал, грум мистера Лэя чертыхался, а ее муж танцевал вокруг, трясясь от страха, смешанного с корыстью. – Нет, – кричала она, – я честная женщина! Так вот почему ты оставил лодку внизу! Ты – старый изменник. Нет разве? Ты хочешь помочь этим зловредным иностранцам вырваться из королевских рук. Эй! Назад, трусы! Не собираетесь ли вы ударить женщину? – Последняя фраза (как обычно) была лучшим признаком ее собственного намерения ударить мужчину. Вытащив одно весло, она стала яростно размахивать им и наконец так треснула Парсона по ноге, что тот отступил со стоном. – Люси, Люси, – кричал ее муж пронзительным девонским фальцетом, – спятила ты? Спятила баба. Они мне обещали два золотых за то, что я одолжил им лодку. – Два? – вскричала его супруга с жесточайшим презрением. – И ты смеешь называть себя мужчиной? – Два золотых, два золотых! – повторял он, ковыляя вокруг на таком расстоянии, чтобы весло не могло его достать. – Два? И ты продал свою душу меньше чем за десять? – Ох, если в этом дело, – закричал бедный Кампиан, – дайте ей десять, дайте ей десять, брат Парс… Морган, хотел я сказать, и берегите ноги. Вот цербер![330] Вот мужеподобная женщина! – Вот тебе за твоего цербера – не позорь бедную женщину! И в одно мгновенье у бедного Кампиана подкосились ноги, а бой-баба кричала: – Десять золотых, или я вас продержу здесь до утра! Десять золотых были ей вручены. Теперь, когда дракон, стороживший лодку, был умиротворен, лодку потащили к морю. Рози, спрятавшись в самом дальнем и темном углу своей пещеры, среди мокрой травы и шершавых раковин, затаила дыхание при приближении неизвестных. Они прошли мимо, и киль лодки уж был в воде. Люси следовала за ними по своим собственным соображениям. Заметив у самой воды темную пещеру, она догадалась, что Рози там, и, втиснув свою объемистую персону в самое отверстие, стояла и ворчала на мужа, на двух иностранцев и больше всего на грума мистера Лэя. Но ночные приключения еще не кончились. В то самое мгновение, когда лодка была спущена в воду, над берегом послышался слабый крик. Спустя минуту какой-то всадник проскакал вниз через камни и песок и, подняв лошадь на дыбы около перепуганных беглецов, скорее свалился, чем соскочил с седла. Слуга весь подобрался и бросился на вновь прибывшего, затем отпрянул. – Ах, это мистер Евстафий! О, дорогой сэр, я принял вас за одного из людей сэра Ричарда! О, вы ранены! – Царапина, царапина, – почти простонал Евстафий. – Помоги мне влезть в лодку, Джек. Джентльмены, я должен бежать с вами. – Не с нами, конечно, мой дорогой сын – вечными странниками по лицу земли? – возразил добросердечный Кампиан. – С вами и навсегда. Здесь все кончено. Куда поведут бой и случай… И Евстафий, шатаясь, пошел к лодке. Когда он проходил мимо Рози, она увидела его окровавленное лицо, искаженное злобой, стыдом и отчаянием. – Кто вас ранил? – спросил Кампиан. – Мой кузен Эмиас… и взял письмо! – Так пусть его черт возьмет! – закричал Парсон, в бешенстве топая ногами. – На борт или мы все пропали. Вильям Карри догоняет меня! При этой вести лодку столкнули в воду и как раз вовремя. Только она обогнула утес и скрылась из виду, как наверху послышался шум лошадиных копыт. – Эта Лэева подлюга получит теперь… Папистская дрянь! – громко сказала Люси. – Посидите здесь тихонько, жизнь моя, и успокойтесь. Вы здесь в безопасности, как кролик в норе. Я должна взглянуть, что там делается, хоть умереть!.. – С этими словами Люси протиснулась через расщелину на более высокий выступ, откуда можно было видеть, что происходит в долине. – Вот он! На лугу, старается поймать лошадей! Вот едет мистер Карри! Батюшки, как скачет-то! Он уже на валу! Торопись, Джек! Торопись! Батюшки, мистер Карри схватил его! Упал! Упал! – Он умер? – с дрожью спросила Рози. – Притворяется мертвым, как гнида! Мистер Карри слез и стоит над ним! Вот он встал. Что это делает мистер Карри? Говорит ему что-то. Ох-хо-хо! – Он убил его? – воскликнула бедная Рози. – Нет, нет! Бросил, бросил его словно мяч. Батюшки! Он его, должно быть, бросил прямо в реку. А теперь взял его лошадь и уезжает. – С этими словами Люси спустилась вниз. – Теперь, жизнь моя, пойдемте домой немножко согреться. Вам, должно быть, до смерти холодно. Я и сама прямо измучилась. Я здорово испугалась за вас; но умно я их задержала, правда ведь? Бедный мистер Лэй, грустная ночь для его бедной матери! – Люси, я не могу забыть его лица. Я уверена, он сглазил меня. – Ну, кто слышал что-нибудь подобное? Когда молодой человек хочет сглазить молодую даму, это совсем иначе делается – уж я-то знаю. Не думайте об этом. – Довольно, – сказала Рози. – Пойдем мы все-таки домой? Где этот слуга? – Неважно, если он и увидит нас под холмом. Хотела б я лучше знать, где мой старик? Такое у меня предчувствие внутри! Вот как всегда перед несчастьем – словно, мисс, не увижу я его никогда больше. Ладно, послушный был все-таки старик. Следующее утро, как и следовало ожидать, застало Рози в лихорадке от пережитого возбуждения, страха и холода. Ей понадобился весь ее женский такт и самообладание, чтобы не выдать своими восклицаниями случившегося в эту фантастическую ночь. Как бы там ни было, проболев две недели, Рози выздоровела и вернулась в Байдфорд. Но еще до ее прибытия Эмиас был далеко в море по дороге в Милфордскую гавань.Глава VII Подлинная и трагическая история мистера Джона Оксенхэма из Плимута
Около одиннадцати часов утра сэр Ричард и Эмиас прогуливались взад и вперед по расположенному террасами саду. Эмиас проспал до завтрака, т. е. проснулся лишь час тому назад; но сэр Ричард, несмотря на волнения предшествующей ночи, встал и вышел в поле в шесть часов утра, чтобы развлечься самому и развлечь охотой двух прекрасных терьеров. Дом был с трех сторон окружен обрывистыми холмами, и из сада, где гуляли сэр Ричард и Эмиас, открывался настоящий английский вид. Одним взглядом можно было охватить голубую полосу океана на западе, с пятнами проходящих парусов, расстилающиеся далеко внизу ряды пышно разросшихся парков, пожелтевшие осенние леса и пурпурные, заросшие вереском болота. На террасе перед домом среди шумно играющих болонок и златоволосых детей сидела сама леди Гренвайль и смотрела на детей и на мужа. А Ричард и Эмиас все ходили взад и вперед, тихо и серьезно беседуя. Оба знали, что наступил поворотный пункт в жизни юноши. – Да, – сказал сэр Ричард, после того как Эмиас просто и прямо, как всегда, рассказал ему всю историю о Рози Солтерн и о своем брате, – да, милый мальчик, ты избрал лучшую долю, ты и твой брат также, и это не отнимется у вас. Будь только крепок, мальчик, и ты станешь человеком. – Надеюсь, – ответил Эмиас. А затем внезапно переменил тему: – И я могу завтра отправиться в Ирландию? – Вы пойдете на «Мэри» в Милфордскую гавань с письмом к Винтеру. Если ветер будет благоприятствовать, вы можете приказать капитану спуститься вниз по реке сегодня же ночью и быть наготове. Мы не должны терять времени. И оба направились к дому. Первый, кого они встретили, был старый слуга, искавший сэра Ричарда. – Там у дверей какой-то упрямый грубиян, откуда-то издалека, заявляет, что ему необходимо поговорить с вами. – Упрямый грубиян? Лучше ему не говорить со мной, если он не хочет попасть в тюрьму или на виселицу. – Я думаю, – ответил слуга, – он именно этого и хочет, так как клянется, что не уйдет, не повидав вас. – Увидит меня? Клянусь, он увидит меня и здесь, и в Лаунчестоне, если ему так хочется. Впусти его. – Но, хозяин, я боюсь измены; этот парень размалеван с головы до ног языческими рисунками и весь коричневый, как лесной орех. Высокий парень, сильный парень, сэр, и к тому же иностранец; и у него в руках большая палка. Я думаю, он не то иезуит, не то дикий ирландец. И конечно, конюхи не решились дотронуться до него и собаки тоже. Те, кто видел, как он подымался по холму, клянутся, что у него шел огонь изо рта. – Огонь изо рта? – повторил сэр Ричард. – Они пьяны. – Размалеван с головы до ног? Это, должно быть, матрос, – сказал Эмиас, – позвольте мне пойти и посмотреть на этого молодца. – Иди, мальчик, а я закончу свои письма. Эмиас вышел. У задней двери, опершись на палку, стоял высокий, тощий, оборванный малый, «размалеванный с головы до ног», как сказал слуга. – Здорово, молодец! – приветствовал его Эмиас. – Прежде чем мы начнем разговаривать, будь добр сбросить твой плимутский плащ, – и он указал на дубину – такое прозвище она носила среди моряков запада. – Ручаюсь, – сказал старый слуга, – что там же, где он ее нашел, он нашел неподалеку и суму. – Но не нашел ни штанов, ни фуфайки. Так что чудодейственная сила его посоха ему немного помогла. Но положи палку, молодец, и говори, что тебе нужно. – Я ничего не хочу, никакой помощи, я только прошу дать мне поговорить с сэром Ричардом, и я пойду своей дорогой. Было что-то в голосе и манерах человека, что привлекло Эмиаса. И уже гораздо более ласково Эмиас спросил, куда он идет и откуда пришел. – Из порта Падстоу иду в город Кловелли повидать мою старую мать, если она еще жива. – Ты из Кловелли? Почему ты раньше не сказал, что ты из Кловелли? – спросили все конюхи сразу. Для них человек с запада был братом. Старый слуга спросил: – Так как же зовут твою мать? – Сюзанна Иео. – Что жила под мостом? – спросил конюх. – Жила? – переспросил человек. – Да, конечно. Этой зимой будет два года, как она умерла. Человек простоял совершенно спокойно и неподвижно одну или две минуты, а затем тихо сказал самому себе по-испански: – Все, что случается, к лучшему. – Вы говорите по-испански? – спросил Эмиас, все более и более заинтересованный. – Мне это было необходимо. Я пробыл пять лет на Испанском море и только два дня тому назад ступил на этот берег. Если вы дадите мне возможность поговорить с сэром Ричардом, я расскажу ему такое, от чего у него в ушах зазвенит. Если нет, я могу уйти к мистеру Карри из Кловелли, если он еще жив, и там облегчить свою душу. Но я предпочел бы говорить с моряком, как я сам. – И ты будешь с ним говорить, – заявил Эмиас. – Дворецкий, мы впустим этого человека. – И он ввел незнакомца в дом. – Надеюсь, что он не из этих папистских убийц, – стараясь держаться на безопасном расстоянии, сказал старый слуга после того, как все вошли в зал. – Папистских, старик? Этого ты не очень-то бойся. Смотри! – И, отбросив свои лохмотья, бродяга показал ужасный шрам, который шел вокруг кисти его руки и дальше вверх до самого плеча. – Я получил это на пытке, – спокойно сказал он, – в Лиме у отцов инквизиторов[331]. – Почему же ты, – с раскаянием воскликнул слуга, – не сказал нам этого раньше? – Потому что я не собираюсь сделаться нищим и выставлять свой шрам напоказ. – Ты славный малый, – сказал Эмиас, – иди вперед, прямо в комнату сэра Ричарда. И они вошли в библиотеку, где сидел сэр Ричард. – Эге, Эмиас, разве вы уже укротили дикаря? Но, прежде чем Эмиас успел ответить, человек внимательно посмотрел на него. – Эмиас, – повторил он, – это ваше имя, сэр? – Эмиас Лэй – мое имя, к твоим услугам, добрый малый. – Из Бэрруфа, под Байдфордом? – Вот так штука! Что ты знаешь обо мне? – О, сэр, сэр! Молодые и счастливые головы быстро забывают, но старые и несчастные помнят долго. Помните ли вы, сэр, человека, который был вместе с мистером Оксенхэмом? Он подарил вам рог-игрушку с нарисованной на ней картой. – Черт возьми! – закричал Эмиас, хватая его за руку. – Так это вы? Рог? Да он до сих пор у меня, я сохраню его до моей смерти. Но где же мистер Оксенхэм? – Да, молодец, где мистер Оксенхэм? – спросил сэр Ричард, вставая. – Вы несколько поторопились, Эмиас, приветствовать своего старого знакомого, прежде чем услышали, может ли он дать честный отчет о себе и о своем капитане. Есть много разных способов, благодаря которым матросы возвращаются без своих капитанов. – Сэр Ричард Гренвайль, если бы я был виновен в чем-либо перед своим капитаном, я не пришел бы сегодня к вам. Если вам будет угодно выслушать меня, вы все узнаете. – Ты хорошо говоришь. Увидим. Но прежде всего, кто ты и откуда? – Меня зовут Сальвейшин Иео, родился я в двадцать шестом году на Кловелли-стрит, где мой отец занимался ремеслом цирюльника и был проповедником среди людей, называемых с тех пор анабаптистами[332]. – Ну, ладно, начинай свой рассказ. И Иео приступил к рассказу: – Итак, как известно мистеру Лэю, я уехал с мистером Оксенхэмом в семьдесят втором году в Номбре-де-Диос. Что мы там делали и что мы там видели, я полагаю, ваша милость знает не хуже меня. И там состоялось, как вы, может быть, слышали, соглашение между мистером Оксенхэмом и мистером Дрейком вместе плыть в Южные моря. Это происходило при мне. Вдали расстилался океан. Мистер Дрейк спустился к воде, а когда мы с Оксенхэмом присоединились к нему, Дрейк сказал: «Джон, я поклялся перед Богом, что совершу плавание по этим водам, если буду жив». И мистер Оксенхэм ответил: «Я с вами, Дрейк, на жизнь и на смерть. Я полагаю, я там кое-кого уж знаю, так что мы будем не совсем среди чужих» – и расхохотался. Это путешествие, как вы знаете, не состоялось, потому что капитан Дрейк отправился воевать в Ирландию. Тогда мистер Оксенхэм решил ехать один, и я, который любил его, как брата, помог ему набрать экипаж и поехал с ним в качестве канонира. Это было в семьдесят пятом году, как вы знаете. У него был корабль в сто сорок тонн и семьдесят человек из Плимута, из Бови и из Дармута – многие из них бывшие спутники Дрейка. И еще тринадцать человек я убедил присоединиться к нам в Байдфорде, не считая моего старого товарища Вильяма Пенберти из Мэрризана. А что, если мне зададут вопрос: «Сальвейшин Иео, где те четырнадцать, которых ты толкнул на смерть, воздействуя на их корыстолюбие и алчность к золоту?» По правде сказать, в этом грехе не я един повинен. С самого отплытия Оксенхэм все время громко шутил, что он всех осчастливит и привезет в такие райские места, откуда они не пожелают возвращаться. А я – не знаю почему – из каждой его хвастливой выдумки готов был сделать две, лишь бы поддержать мужество в наших людях. И я в самом деле убедил себя, что мы все найдем сокровища, и Оксенхэм, наверно, укажет нам, как покорить какой-нибудь золотой город или открыть какой-нибудь остров весь из драгоценных камней. Наконец мы прибыли к берегам Новой Испании[333], близ старого места – Номбре-де-Диос. Мистер Оксенхэм вышел на берег и вместе с командой своей лодки углубился в лес, чтобы разыскать негров, которые помогли нам три года тому назад. То были симаруны, господа, негритянские рабы, удравшие от своих испанских хозяев, воплощенных дьяволов. Через три дня капитан вернулся с очень хмурым лицом и сказал: «Наша проделка второй раз не удастся. Вряд ли нам удастся перехватить караван с золотом. Симаруны заявляют, что со времени нашего последнего визита караваны не трогаются с места без достаточного количества солдат, по меньшей мере, двухсот ружей. Поэтому, – добавил он, – мои храбрецы, нам предстоит либо вернуться с пустыми руками отсюда, с этого рынка сокровищ всей Индии, либо совершить такое дело, какого никогда еще никто не совершал, – оно мне больше всего нравится именно по этой причине». И когда мы спросили, о чем он говорит, он ответил: «Ну что же, если Дрейк не поплывет в Южные моря, мы это сделаем». И когда все согласились, он показал мне и другим письмо и сказал: «Как оно прибыло – не ваше дело, но я хранил его за пазухой с тех пор, как покинул Плимут, и теперь я говорю вам то, чего не хотел говорить до сих пор: Южные моря были все время моей целью. Это письмо содержит вести о кораблях с драгоценными изделиями и золотом, которые должны в этом же месяце прибыть из Квито[334] и из Лимы. И все это вместе с жемчугами из Панамского залива и другими несказанными благами станет нашим». После этого, джентльмены, мы словно с ума сошли от страсти к золоту и весело принялись за чудовищную работу. Прежде всего мы поставили наш корабль на мель в большом лесу, растущем прямо в океане; сняли с него мачты и спрятали его среди деревьев вместе с четырьмя артиллерийскими орудиями. Затем, не оставив никого на корабле, мы направились к Южным морям через Панамский перешеек с двумя малыми артиллерийскими орудиями, с нашими кулевринами и с хорошим запасом провианта, и с нами шесть негров-проводников. Так мы прошли двенадцать лиг[335] до реки, что течет в Южные моря. Там, нарубив лесу, мы сделали лодку и в ней пустились вниз по течению к Жемчужному острову в Панамском заливе. На Жемчужном острове мы нашли много хижин, индейцев, ловящих жемчуг, и красивый дом с портиками. В доме не оказалось испанцев, за исключением одного человека. При виде его Оксенхэм пришел в исступление и бросился на него: «Собака, где твоя госпожа? Где барка из Лимы?» На это тот довольно храбро спросил: «Какое дело англичанину до его госпожи?» Но мистер Оксенхэм пригрозил, что будет давить ему голову веревкой до тех пор, пока у него глаза не вылезут, и напуганный испанец рассказал, что корабля из Лимы ожидают через две недели. Десять дней мы спокойно ждали, не разрешая никому покинуть остров. Мы набрали хороший запас жемчуга и прекрасно питались дикими животными и свиньями, пока на десятый день не прибыла маленькая барка. Мы ее захватили и узнали, что она из Квито и везет на борту шестьдесят тысяч золотых песет и другие богатства. Если бы мы удовольствовались этим, все пошло бы хорошо. Некоторые хотели вернуться сразу, им хватало достаточно и жемчуга и денег. Но Оксенхэм пришел в бешенство и поклялся заколоть всякого, кто повторит это предложение. Он уверял нас, что корабль из Лимы, о котором у нас есть известия, гораздо больше и богаче и сделает нас всех принцами. Вторая барка появилась на шестнадцатый день и была захвачена без выстрела и кровопролития. Взятие этой барки было гибелью для каждого из нас, так как уж нужно все сказать: с этой барки из Лимы Оксенхэм взял молодую даму, лет двадцати двух, двадцати трех, с ней был высокий мальчик лет шестнадцати и маленькая девочка, очаровательное дитя лет шести или семи. Но вот что было странно: эта дама ничуть не казалась испуганной или огорченной и приказала своей малютке также не бояться нас. Только мальчик имел очень угрюмый вид, и особенно, когда замечал даму и мистера Оксенхэма беседующими в стороне. После этой удачи мы предполагали прямо вернуться к реке, откуда пришли, и как можно скорей отправиться домой, в Англию. Но мистер Оксенхэм убедил нас вернуться на остров и наловить еще немного жемчуга. Я думаю, на это безумие, превратившееся в несчастье, его толкнула дама. Когда мы собирались сойти на берег, я, спустившись в каюту пленницы, услышал, как Оксенхэм и она говорили друг другу «жизнь моя», «повелитель мой», «свет моих очей» и другие нежности. Мы сошли на берег, и мистер Оксенхэм удалился с дамой в дом, откуда три дня не выходил. Он оставался бы там и дольше, если бы люди, которые нашли мало жемчуга и устали стеречь и охранять такое количество испанцев и негров, не явились к нему с шумом и не поклялись уйти. Все были недовольны капитаном, а он – всеми. Мы вернулись к устью реки, и там начались наши злоключения. Как только мы вышли на берег, негры потребовали, чтоб Оксенхэм выполнил договор, который он с ними заключил. Оказалось, он условился с симарунами отдать им всех пленников, захваченных нами. И, хотя с отвращением, Оксенхэм готов был отдать испанцев, предполагая, что негры собираются обратить их в рабство. Но в то время, как мы все стояли и разговаривали, один из испанцев, поняв, что им предстоит, бросился на колени перед Оксенхэмом и, крича, как безумный, стал умолять не отдавать его, так как негры, сказал он, никогда не берут испанцев в плен, а жарят их живьем и затем поедают сердце. Мы спросили негров, возможно ли это? Некоторые ответили: «Какое вам дело?» Но другие смело сказали, что это совершенно верно и что месть – лучшая приправа, нет ничего вкуснее испанской крови. А один из них, указав на даму, сказал такую глупую и дьявольскую вещь, что мне стыдно было бы повторить ее, а вам услышать. Мы все были поражены ужасом, а Оксенхэм сказал: «Если бы вы сделали молодцов рабами, это было бы совершенно справедливо, так как вы некогда были их рабами, и я не сомневаюсь, что с вами достаточно жестоко обращались. Но раз дело идет о таком ужасе, я не позволю ни одному из них попасть в ваши гнусные лапы». Началась ссора, но Оксенхэм решительно приказал вернуть пленников на корабль и дал им уехать, взявши с собой только сокровища и даму с маленькой девочкой. Мальчик же уехал на Панаму. После этого симаруны ушли от нас, поклявшись отомстить, а мы поднялись вверх по реке до того места, где встречаются три ручья; затем дальше вверх по самому меньшему из трех. После приблизительно четырех дней пути, когда ручей совсем измельчал, мы вытащили нашу лодку на песок, и Оксенхэм спросил людей, согласны ли они тащить золото и серебро по горам до Северного моря[336]. Некоторые из них вначале отказались, а я и другие посоветовали оставить изделия и взять только золото. Но Оксенхэм обещал каждому по сто серебряных песет сверх его доли. Это их удовлетворило. На следующее утро Оксенхэм спросил людей, желают ли они пойти к холмам, разыскать негров и убедить их, несмотря на ссору, помочь нести сокровища. Матросы вскоре согласились, решив, что таким образом избавят себя от лишнего труда. Почти все ушли с Оксенхэмом, оставив нас шестерых сторожить даму и сокровища. Так он ушел, провожаемый слезами дамы, и отсутствовал семь дней. Все это время мы верно и честно служили даме. На седьмой день мы шестеро чистили лодку. С нами была малютка, собиравшая цветы, а Виллиам Пенберти удил рыбу на расстоянии приблизительно ста шагов от нас. Вдруг он с криком вскочил и бросился к нам, приказывая схватить девочку и бежать к дому, так как на нас напали испанцы. Это оказалось правдой. Прежде чем мы достигли дома, нам вслед было пущено до сотни пуль. Однако они в нас не попали. Тогда некоторые из врагов, остановившись, прицелились как следует из своих мушкетов и убили одного из плимутских людей. Остальные добежали до дома и, захватив даму, выбежали вон, сами не зная куда. Испанцы, найдя дом и сокровища, не преследовали нас дальше. Весь этот день и весь следующий мы странствовали, полные горечи. Дама беспрерывно плакала и самым жалобным образом звала Оксенхэма. Малютка тоже. Наконец мы разыскали след наших товарищей и двинулись по следу – это было лучшее, что мы могли сделать. С наступлением ночи мы встретили всю команду, которая возвращалась обратно, и с ними около двухсот негров с луками и стрелами. Начались радостные крики и объятия. И странно было, господа, смотреть на даму. Перед тем она была в полном отчаянии, а теперь стала настоящей львицей. Она горячо просила Оксенхэма не думать о золоте и идти прямо к Северному морю. При мне она уверяла его, что бедность беспокоит ее не больше, чем беспокоило ее доброе имя, а затем, отойдя немного в сторону от остальных, показала на зеленый лес и сказала по-испански, вероятно, не зная, что я понимаю: «Смотри, вокруг нас рай, разве не можем мы с тобой остаться здесь навсегда, позволив им взять золото или бросить его, как они захотят?» Но он не поддался этому искушению и, повернувшись к нам, предложил нам половину сокровищ, если мы пойдем с ним обратно и отобьем сокровища у испанцев. Дама опять стала плакать, но я взялся успокоить ее. Я сказал ей, что дело идет о чести мистера Оксенхэма, что в Англии ничто так не презирается, как трусость или нарушение слова, и что ему в семь раз лучше умереть среди испанцев, чем, вернувшись домой, видеть презрение всех тех, кто плавает по морям. Так, после больших затруднений Оксенхэм и его отряд пошли обратно, а я, Виллиам Пенберти и трое людей из Плимута остались охранять даму, как прежде. Построив шалаши из ветвей, мы прождали пять дней, ничего не зная. На шестой день мы увидели вдали Оксенхэма и с ним пятнадцать или двадцать человек, которые казались ранеными и очень истощенными. Когда мы стали искать остальных, оказалось, что больше никого нет. И здесь Оксенхэм, который, после того как прошел его первый припадок ярости, все время вел себя как искусный командир, приказал нам нарубить деревьев и сделать каноэ, чтобы спуститься к морю. Мы приступили к работе с большим трудом и малым успехом. Нам пришлось подсекать деревья нашими мечами и обжигать их огнем, который мы добывали с большими усилиями. Но лишь только мы обожгли первое дерево и срезали второе, около нас появилась большая партия негров и с самыми дружественными знаками приказала нам бежать ради спасения нашей жизни, так как на нас идут испанцы с большими силами. Мы опять снялись и ушли, с трудом волоча ноги от голода, слабости и палящей жары. Некоторые были схвачены, некоторые убежали с неграми. Что с ними стало, мне неизвестно, но восемь или десять человек остались с капитаном, среди них был я. Целый день мы спускались к морю, но затем, поняв по шуму в лесу, что испанцы напали на наш след, снова повернули внутрь страны и, дойдя до скалы, взобрались на нее, подняв даму и малютку на веревках, сплетенных из лиан. Прервав таким образом след, мы надеялись избавиться от неприятеля. Спустившись по откосу с другой стороны, мы снова вступили в лес, где странствовали много дней. Наша обувь истлела. Наша одежда висела на нас клочьями. Нас поражало, как стойко переносит все это дама. Уже много дней она шла босиком, а вместо платья ей пришлось завернуться в плащ мистера Оксенхэма; малютка же шла почти обнаженная. Дама все время спокойно смотрела на Оксенхэма и, казалось, ни о чем не беспокоилась, пока он с ней, утешая и развлекая нас всех шутливыми словами. А однажды, сидя под большим фиговым деревом, она убаюкала нас всех нежной песней, хотя, проснувшись около полуночи, я увидел, что она все еще сидит и горько плачет. Она была настоящей женщиной – прекрасной и крепкой. Наконец не осталось никого, кроме Оксенхэма, дамы и малютки, да Виллиама Пенберти из Мэрризана, моего приятеля. Оксенхэм всегда вел даму, а мы с Пенберти несли малютку. Так мы странствовали, взбираясь на высокие горы, все время в страхе, как бы испанцы не пустили по нашему следу собак. В один прекрасный день мы попали в большой лес, где было много приятной тени, прохлады и зелени. Здесь мы опустились на сиденье из мха, как отчаявшиеся и погибающие люди, и каждый из нас долго смотрел на лица остальных. Наконец Оксенхэм сказал: «Что удерживает нас от того, чтобы умереть по-человечески, бросившись на свой меч?» На это я ответил, что я не смею, так как одна мудрая женщина предсказала мне, господа, что я умру на море, а здесь нет ни воды, ни битвы, значит, еще не пришло мое время. А Виллиам Пенберти сказал, что он дорого продаст свою жизнь, но никогда не выбросит ее. Дама же воскликнула, что она рада была бы умереть, но la pauvre garse, что значит по-французски – бедная девочка, подразумевая малютку, – ее жаль. Тут Оксенхэм стал горько рыдать – слабость, которой я никогда не видел в нем ни прежде, ни потом, и со слезами умолял меня никогда не покидать малютку, что бы ни случилось. Я обещал ему это. Но тут внезапно в лесу послышался страшный крик, и среди деревьев со всех сторон появились испанские аркебузиры, по меньшей мере сто человек, и с ними негры. Они приказали нам не двигаться с места, иначе будут стрелять. Виллиам Пенберти вскочил и с криком «измена» бросился на ближайшего негра, проткнул его насквозь, за ним второго, а затем, напав на испанцев, сражался врукопашную до тех пор, пока не упал, пронзенный пиками. Я же, видя, что ничего не поделаешь, сидел спокойно. Так нас всех захватили. Меня и Оксенхэма связали веревками. Но для дамы с ребенком солдаты сделали носилки по приказанию своего командира сеньора Диего де Триза – очень учтивого офицера. Нас повели вниз, к тому месту, где у реки стоял шалаш из ветвей. Там ввели в лодку, где нас ждали несколько испанцев и среди них один старый болезненного вида человек, седобородый и весь согнутый, в одежде из черного бархата. Звали его дон Франциско Харарте. Как только дама подошла к берегу, этот старик подбежал к ней с мечом в руках и заколол бы ее, если бы кто-то не оттащил его. Тогда он стал оскорблять ее всякими глупыми и злобными словами, пока кто-то, устыдившись, не приказал ему замолчать. А Оксенхэм сказал: «Это достойно вас, дон Франциско, так разглашать по свету свой позор. Разве не назвал я вас собакой много лет тому назад и разве вы не доказываете правдивость моих слов?» Старик отвернулся весь бледный, а затем опять начал оскорблять даму, крича, что сжег бы ее живой, на что она наконец ответила: «Лучше бы вы сожгли меня живой в день моего замужества и избавили меня от восьми лет горя!» А он: «Горя?.. Послушайте эту ведьму, сеньоры! Разве я ее не баловал, не осыпал драгоценностями и бог весть чем еще? Что ей еще было нужно от меня?» На это она ответила только одним словом: «дурак», но таким страшным, хотя тихим голосом,что все, кто собирался смеяться над старым паяцем, готовы были заплакать над нею. «Дурак, – повторила она спустя немного, – я не хочу тратить слов на тебя, я должна была давно вонзить тебе кинжал в сердце. Но я погнушалась слишком рано освободить тебя от твоей подагры и твоего ревматизма. Самодовольный глупец, знай, что, когда ты купил у моих родителей мое тело, ты не купил моей души! Прощай, любовь моя, жизнь моя! Прощайте все! Будьте милостивее к своим дочерям, чем мои родители были ко мне!» И с этими словами она выхватила кинжал из-за пояса одного из солдат и упала мертвая. При этом Оксенхэм улыбнулся и сказал: «Это достойно нас обоих. Если бы вы развязали мне руки, я был бы счастлив последовать столь прекрасному примеру». Но дон Диего покачал головой и ответил: «Для вас не было бы ничего легче, если бы в моей власти было так поступить! Но, опрашивая ваших матросов, которых я захватил прежде, я не мог не слышать, что у вас есть с собой разрешительные грамоты от королевы Англии или от какого-то другого монарха. Поэтому я принужден спросить вас, так ли это? Это вопрос жизни и смерти». На это Оксенхэм весело ответил, что ему никогда не было известно, что нужно иметь специальное разрешение для оправдания встречи с возлюбленной, а что касается захваченного золота, то если б они не допустили насильственного брака между прекрасным юным маем и этим старым январем, он не притронулся бы к их золоту. Так что это скорее их вина, нежели его. И он не отрывал глаз от тела дамы, пока его не увели вместе со мной. При этом все присутствующие открыто оплакивали трагический конец двух любовников. А теперь, что дальше случилось со мной, не имеет большого значения, так как я больше не видел капитана Оксенхэма и никогда не увижу его в этой жизни. – Значит, его повесили? – Так я слышал на следующий год. И с ним канонира и некоторых других, а некоторые были отданы в рабство испанцам и, может быть, живы до сих пор, если только они не попали, как я, в жестокие лапы инквизиции. Инквизиция теперь требует тела и души всех еретиков во всем свете (я слышал это собственными ушами от одного из инквизиторов, когда начал оправдываться тем, что я не испанский подданный). – Но как ты попал в лапы инквизиции? – После того как мы были взяты в плен, нас снова отправили вниз по реке. Старый дон взял малютку с собой в свою лодку (как горько она плакала, отрываясь от нас и от мертвого тела!). Оксенхэм с доном Диего были во второй лодке, а я в третьей. От испанцев я узнал, что мы должны попасть в Лиму, но что старик живет совсем близко на Панаме и немедленно возвращается на Панаму с малюткой. И они сказали: «Для нее было б лучше остаться здесь, так как старик клянется, что она не его дочь; он может по дороге бросить ее в лесу, если только дон Диего не пристыдит его и не убедит не делать этого». Услышав это и увидев, что впереди меня ждет только смерть, я стал думать о бегстве. И в первую же ночь я убежал и направился на юг, снова в лес, избегая следов симарунов, пока не пришел в индийский город. И здесь увидел гораздо больше милосердия от язычников, чем когда-либо от христиан. Когда они узнали, что я не испанец, они накормили меня, дали мне дом и жену (и она была мне хорошей женой) и разрисовали меня всего рисунками, как вы видите. Благодаря тому что у меня есть некоторые познания в хирургии и кровопускании и оказался ланцет в кармане, я достиг больших почестей среди них, хотя они научили меня гораздо большему в лечении травами, чем я их в хирургии. Так я счастливо жил среди них. И со временем моя жена принесла мне ребенка. Смотря на его нежное личико, я забыл Оксенхэма и его малютку, и свою клятву, и даже родину. Но однажды ночью, когда все спали в городе, раздался шум. Проснувшись, я увидел вооруженных людей и блестящие при лунном свете мушкеты и услышал, как кто-то громко читает по-испански какую-то дурацкую проповедь о том, как Господь Бог даровал господство над всей землей святому Петру, а святой Петр даровал Индию испанскому королю[337]. Поэтому, если индейцы хотят все креститься и служить испанцам, они могут получить некоторое количество побоев вместо милостыни или еще что-нибудь, причем больше колотушек, чем грошей; а если нет – на них обрушатся огнем и мечом. Лишь только эти слова были произнесены, эти негодяи, не ожидая ответа (хотя это не имело никакого значения – ведь индейцы ни слова не поняли), налетели прямо на город со своими мушкетами и стали рыскать с мечами в руках, избивая без разбора всех встречных. Одна из пуль, пройдя сквозь дверь, попала в сердце моей бедной жены, и она умолкла навеки. Я, выхватив у нее из рук ребенка, пытался бежать, но когда увидел, что город полон испанцев и что с ними свора собак, я понял, что все пропало, и снова сел около тела с ребенком на коленях, ожидая конца. Они вытащили меня и всех молодых людей и женщин и сковали нас всех вместе за шею. А один, выхватив из моих рук красивого младенца, потребовал воды и священника (они таскают своих бритых с собой) и, как только ребенок был окрещен, взял его за ножки и раздробил ему череп – джентльмены, джентльмены! – хватив его о землю, как котенка. Так поступили они в эту ночь со многими невинными младенцами, предварительно окрестив их, уверяя, что для них же лучше попасть на небо. Мы пошли, оставив стариков и раненых умирать на свободе. Но на утро, когда они увидели по моей коже, что я не индеец, а по моей речи, что я не испанец, они начали мучить меня, пока я не признался, что я англичанин и один из команды Оксенхэма. Тогда предводитель сказал: «Тебя следует послать в Лиму и повесить рядом с твоим пиратом капитаном». Таким образом, я узнал, что мой бедный капитан погиб. Но горе мне! Священники выступили вперед и потребовали меня в качестве своей добычи, называя меня лютеранином, еретиком и Божьим врагом. Итак, я достался инквизиции в Картахене[338]. Что я там выстрадал, вам было б также невыносимо слушать, как мне вспоминать. Но так случилось, что после двух пыток, перенеся пытку водой так хорошо, как только возможно, я попал на дыбу, после чего, как видите, остался хромым на одну ногу. Этого я не мог больше вынести и отрекся от своего Бога, в надежде спасти себе жизнь. Я сделал это, но это мне мало помогло. Хотя я обратился в их веру, я должен был получить еще две сотни плетей на площади, а затем пойти на семь лет на каторгу. А там, джентльмены, я часто думал, что лучше бы меня сожгли раз и навсегда. Вы знаете так же хорошо, как и я, какой плавучий ад, исполненный жары и холода, голода и жажды, плетей и труда, представляют собой суда, на которые испанцы ссылают каторжников. По дороге к Панаме я перебирал в уме всевозможные способы бегства и не нашел подходящего. Я уже начал терять мужество, как неожиданно открылся путь к спасению. Неизвестно, почему мы шли в Номбре через Панаму – прежде этого никогда не случалось. Там нас поместили всех вместе в большой барак, прилегающий к самой набережной, запертый длинным железным брусом, тянущимся во всю длину дома. И в первую же ночь нашего пребывания там я, выглянув из окна, заметил довольно большую, хорошо вооруженную, совершенно готовую к отплытию каравеллу, стоящую вплотную около набережной. И мне пришло в голову, что, если бы попасть на эту каравеллу, мы через пять минут были бы в море. Взглянув на набережную, я увидел, что все охраняющие нас солдаты пьют и играют в карты, а некоторые отправились в кабачок освежиться после путешествия. Это было как раз на закате. Спустя полчаса вошел тюремщик в последний раз взглянуть на нас перед сном. Ключи висели у него на поясе. Когда он проходил мимо меня, я напал на него и, хотя был в цепях, схватил его за голову и несколько раз ударил о стену так, что он умолк навеки. Затем я с помощью его ключей освободил себя и всех, кто находился в моей комнате, и приказал им следовать за мной, угрожая убить всякого, кто меня ослушается. Они последовали за мной, как люди, перешедшие из ночи в день или от смерти к жизни. Таким образом, мы заняли каравеллу и вышли из гавани без всякого шума, не считая нескольких неудачных выстрелов со стороны солдат на набережной. Но мой рассказ слишком затянулся? – Продолжай хоть до полуночи, приятель! – Итак, они избрали меня капитаном, а одного генуэзца – лейтенантом, и мы пустились в путь. Я охотно пристал бы к берегу и вернулся на Панаму, чтобы получить вести о моей малютке, но это было бы безумием. Некоторые хотели сделаться пиратами. Но я и генуэзец, который был умным, хоть и скверным человеком, убедили их плыть в Англию и принять участие в войне с Нидерландами. Мы уверили их, что для нас не будет безопасного места на Испанском море, лишь только распространится слух о нашем бегстве. И так как большинство с нами согласилось, мы направились в Англию. По пути мы остановились для пополнения запаса пресной воды на пустынном Барбадосе, а затем поплыли дальше на восток, по направлению к Канарским островам. Что мы претерпели во время этого путешествия от цинги, морской горячки, голода и жажды – никакой язык не сможет описать. Много раз нам приходилось расстилать на ночь паруса, чтобы собрать росу и утром высасывать их, а если кому удавалось набрать горшочек дождевой воды из желоба, за ним так ухаживали, как если бы он был верховный губернатор всей Индии. От всех этих страданий из всех ста сорока бедняг сто десять умерли. И в конце концов, когда мы считали себя уже в безопасности, мы потерпели крушение на юго-западе от берегов Британии, близ мыса Рейс. И только девять душ из нас остались в живых и вышли на берег. Затем я попал в Брест, откуда один фламандец доставил меня в Фальмут. Этим кончается мой рассказ. Голос его, когда он кончил, прервался от слабости. Ричард молча сидел против него, опершись локтями на стол, и, подпирая подбородок кулаками, всматривался в него. В течение нескольких минут никто не произнес ни слова, а затем: – Эмиас, вы слышали его историю? Верите вы ей? – Каждому слову. – Я также. Антоний! Вошел слуга. – Проведи этого человека в кладовую. Одень его как следует и накорми как можно лучше. И прикажи обращаться с ним, как с родным отцом. Но Иео медлил. – Смею ли попросить вашу честь об одной милости. – Обо всем, что возможно, приятель. – Не можете ли вы помочь мне снова попасть в Индию? – Снова! Тебе еще мало испанцев? – Всегда будет мало, – ответил он с горькой улыбкой, – пока моя малютка не будет со мной. Я поклялся Оксенхэму смотреть за ней и не видел ее больше с того дня! Я должен найти ее, сэр, или я с ума сойду. Каждую ночь она приходит ко мне и зовет меня, бедная крошка! И каждое утро, когда я просыпаюсь, я чувствую, словно на мне лежит большая черная туча. – Сейчас не предвидится никакого похода в Индию; но если ты хочешь бить испанцев, то вот он покажет тебе дорогу. Эмиас, возьмите его с собой в Ирландию. Если он выучил половину полученных им уроков, его служба вам пригодится. Иео с выражением горячей мольбы посмотрел на молодого великана: – Хотите вы взять меня, сэр? Есть мало дел, к которым я не мог бы приложить руку. А может быть, когда-нибудь вы опять поедете в Индию и возьмете меня с собой. Я сумею оказать вам хорошую помощь, как канонир или как лоцман. Мне знакомы каждый камень и каждое дерево между Номбре и Панамой и все порты всех морей. Я ручаюсь, что вы не успокоитесь, пока не совершите второго путешествия к золотым берегам. Согласны? Эмиас рассмеялся и утвердительно кивнул головой. Договор был заключен. Иео ушел есть, а Эмиас, получив свои письма, собрался ехать домой. – Поезжайте кратчайшим путем через болота, юноша, и пришлите обратно Карри, когда сможете. Вы не должны терять ни часа. Будьте готовы к отплытию, как только подымется попутный ветер. Они отправились. Проехали миль десять. Спускался вечер, и ветер с каждой минутой крепчал и становился холоднее. Эмиас, зная, что по дороге нет гостиниц, сделал глоток из бутылки, которую леди Гренвайль сунула в его пистолетную кобуру, а затем предложил Иео также глотнуть. Тот отклонил предложение: у него и пища и питье с собой. – Пища и питье? Принимайся за них и не стесняйся. Тогда Иео, заметив у ручья увядшую иву, подъехал к ней, срезал с нее прут и зажег его с помощью своего ножа и камня. Эмиас ждал его несколько смущенный и встревоженный, он вспомнил об «огненной репутации» Иео. Не был ли он в самом деле саламандрой[339] и не собирается ли согревать свои внутренности, съев горящий прут? Но вот Иео со свойственными ему размеренными и торжественными движениями вытащил из-за пазухи коричневый лист и начал ловко сворачивать его в трубочку размером с мизинец. Затем, сунув один конец себе в рот, поднес к другому трут и стал сосать трубку, пока не появился огонь. Вобрав в себя дым, он выпустил его через ноздри с выражением глубочайшего удовлетворения и мелкой рысью подъехал к Эмиасу, похожий на движущуюся печную трубу. При этом Эмиас расхохотался и воскликнул: – Ну, неудивительно, что они сказали, будто вы дышите огнем! Не это ли индейский табак?[340] – Да, конечно! Но разве вы до сих пор не видели его? – Никогда! Мы слышали о нем, но принимали это за ложь. Уф, ладно. Век живи, век учись! – Не ложь, а святая истина, как могу сказать я, который с помощью сорной травы провел без еды три дня и три ночи. Потому-то, сэр, индейцы всегда носят ее с собой во время похода. И неудивительно. Табак – это товарищ одинокому, друг холостому, пища голодному, утешение печальному, снотворное страдающему бессонницей, огонь замерзающему, сэр, в то же время он останавливает кровь из раны, излечивает насморк и укрепляет желудок. Под сводом неба нет другой подобной травы. Много лет спустя Эмиас убедился в справедливости этих слов.Глава VIII Как было основано братство Рози
Эмиас не смог уехать ни на следующий день, ни через день. Юго-западный ветер свежел и дул с трех сторон прямо в бухту. Спустив «Мэри Гренвайль» вниз по реке до Аппельдорского пруда и готовый пуститься в путь при первой перемене ветра, Эмиас спокойно отправился домой. Когда его мать, усевшись позади старого слуги на седло без стремян, собралась ехать в Кловелли, где лежал раненый Фрэнк, он решил сопровождать ее до Байдфорда. В Байдфорде, спускаясь по Высокой улице, он встретил процессию всадников, возглавляемую Биллом Карри. В сверкающих доспехах, с мечом на бедре и шлемом на луке седла, Билл выглядел самым нарядным молодым джентльменом, какого только могли себе представить подсматривающие из окон и дверей байдфордские дамы. Позади него на деревенских лошадях ехали четыре или пять здоровых слуг и везли его копье и его и свои собственные большие луки, мечи и щиты. А позади всех на носилках между двух лошадей, к великой радости миссис Лэй, качался сам Фрэнк. Он заявил, что его раны совсем поверхностны, так как кинжал отскочил от ребер, что он должен присутствовать при отъезде брата и что с ее разрешения он не поедет домой в Бэруфф, а поселится вместе с Карри в «Корабельной таверне» подле самого Бриджефута. Последнее он выполнил тотчас же и, вновь устроившись на ложе, торжественно прибыл в гостиницу, сопровождаемый толпой зевак. Затем Фрэнк вместе с Эмиасом выработал план, который должен был быть приведен в исполнение на следующий (базарный) день прежде всего хозяином гостиницы. Он, подчиняясь распоряжениям Эмиаса, заготовил количество вареного, жареного и печеного, не имеющее равного в истории «Корабельной таверны». Затем сам Эмиас, отправившись на базар, пригласил на веселый ужин с выпивкой несколько своих бывших школьных товарищей, указанных ему Фрэнком. Благодаря этому хитрому плану на празднество явились все поклонники Рози Солтерн и к своему ужасу очутились за одним столом с шестью соперниками. Ни один из них не разговаривал с другим в течение последнего полугода. Однако все они были слишком хорошо воспитаны, чтобы позволить братьям Лэям заметить их неудовольствие. А оба брата, распределив места (Фрэнк возлежал во главе стола, а Эмиас занимал конец), решили наполнить все рты вкусными вещами и тем избавить своих гостей от труда разговаривать друг с другом, пока вино не развяжет языков и не отогреет сердец. В то же время и Эмиас и Фрэнк, не обращая внимания на молчаливость своих гостей, в самом хорошем настроении болтали, шутили, рассказывали разные истории и так веселились, что Билл Карри, всегда считавший веселье заразительным, не выдержал и вставил слово сначала в одну шутку, потом в другую. Затем, найдя хорошее настроение гораздо более приятным, чем плохое, он попытался рассмешить мистера Коффина, но только заставил того сжаться; тогда он попытался рассмешить мистера Фортескью, но только заставил того нахмуриться. Когда убрали со стола и пришла очередь глинтвейна с сахаром, Фрэнк сделал новый ход: – Я хочу произнести тост «за героев ирландской войны». Быть может, не было бы Ирландии, если бы не было Леджера, поддерживающего Фортескью, Фортескью – защищающего Леджера, и Мистера – помогающего им обоим. Такой тост, разумеется, заставил всех пить за здоровье трех представителей названных семейств, а они ответили благодарностями и комплиментами прочим. Таким образом, лед дал еще одну трещину. Затем молодой Фортескью предложил выпить за здоровье Эмиаса Лэя и всех храбрых моряков. На это Эмиас ответил несколькими простыми и добрыми словами о том, что он не желает ничего лучшего, как вторично совершить плавание вокруг света в обществе присутствующих в качестве товарищей – искателей приключений, и дать испанцам вторично ознакомиться с людьми из Девона. Вскоре выпитое вино заставило заговорить все уста. Лед был окончательно сломан, и каждый начал, как подобает разумному человеку, беседовать со своим соседом. – А теперь, друзья мои, – заговорил Фрэнк, увидев, что настал подходящий момент, – позвольте мне предложить вам тост, от которого никто из вас не откажется. Выпьем за здоровье Розы Торриджа. Если бы сама Роза Торриджа вошла в комнату, вряд ли ее появление вызвало бы больше удивления, чем смелые слова Фрэнка. Каждый гость покраснел, побледнел, затем снова покраснел и посмотрел на своего соседа, как бы желая сказать: «Какое право имеет кто-либо, кроме меня, пить за нее? Отставьте ваш стакан, или я выбью его у вас из ваших рук». Но Фрэнк с кроткой дерзостью выпил «за здоровье Розы Торриджа и дважды за здоровье того, кого она почтит своей любовью». – Хорошо сказано, хитрый Фрэнк Лэй! – воскликнул откровенный Билл Карри. – Никто из нас теперь не посмеет поссориться с вами, сколько бы мы ни дулись друг на друга. Ручаюсь, среди нас нет ни одного, кто бы не воображал, что она предпочитает его всем остальным – поэтому мы принуждены думать, что вы пили за здоровье нас всех. Так и есть. Я знаю не больше о мыслях этой леди, нежели вы, и не буду знать. Ради своего собственного покоя я принес клятву: не видеть ее и по возможности ничего о ней не слышать в течение ровно трех лет! Мистер Коффин встал. – Джентльмены, я могу позволить мистеру Лэю превзойти меня в красноречии, но не в великодушии; если он собирается покинуть наши края на три года, я делаю то же. – Давайте руку, старина! – воскликнул Карри. – Я тоже отправляюсь, как может подтвердить Эмиас, в Ирландию. А ведь я собирался драться с вами на этих днях. – Я предлагаю всем: возьмемся за руки и поклянемся в вечной дружбе, как братья священного ордена… Какого? Фрэнк Лэй, отверзни свои уста! – Розы, – спокойно ответил Фрэнк. По той или иной причине, благодаря ли рыцарской речи Фрэнка, шуткам ли Карри, доброму ли виду Эмиаса или благородству, лежащему на дне всякого юношеского сердца, но все присутствующие один за другим примкнули к договору. Все обменялись рукопожатием и поклялись на рукоятке меча Эмиаса не сходить больше с ума, по крайней мере из-за ревности, защищать друг друга и свою возлюбленную и без зависти и ропота позволить ей танцевать с кем хочет и выйти замуж за кого хочет. А для того чтобы прославить на весь мир свою несравненную даму и братство, названное ее именем, каждый попросит у своего отца разрешения (его не трудно было добиться в те славные времена) отправиться за море – туда, где идет «хорошая война». – Кто там царапается? – спросил Билл Карри, глядя на стену. – Кошка? – Скорее лев, судя по рычанию, – ответил Эмиас, ударив по обоям позади себя. – Вот как, здесь дверь! – И, бросившись в скрытую за обоями дверь, втащил за голову Джека Браймблекомба. Кто такой Джек Браймблекомб? Если вы позабыли его, вы оказались почти в том же положении, что и все присутствующие. Но не вспоминаете ли вы некоего толстого «мальчика, сына учителя, которого сэр Ричард три года тому назад наказал за наушничество, послав его в Оксфорд? Теперь ему уже двадцать один год, и он окончил Оксфорд, где более или менее успешно изучил то, что преподавалось в те дни. Теперь он вновь мечтал о Байдфорде, собираясь вернуться, чтобы стать священником в своих родных местах. Внешностью Джек совершенно походил на свинью. Такое же жирное тело с редкой, беспорядочно растущей щетиной, такая же лоснящаяся кожа, которая всегда, казалось, готова лопнуть, такие же короткие спотыкающиеся ноги, тот же льстивый изгиб крестца, тот же надтреснутый писк, тот же низкий неправильный лоб и крошечные глазки, такие же круглые самодовольные щеки, тот же маленький вздернутый носик, всегда ищущий вкусный запах. Случайно зайдя в «Корабельную таверну», Джек, привлеченный ароматным запахом, попал в комнату, прилегающую к той, где шло пиршество. Увидев дверь, он не мог удержаться и не подслушать, что происходит внутри, пока не услыхали имени Рози Солтерн. Увы, Эмиас Лэй встретил его гневными пинками. Затем на него обрушилась буря брани (из уважения к достойному обществу лучше ее не повторять), но, странно сказать, вся эта брань, казалось, не произвела впечатления на бесстыдного Джека, который, лишь только вновь обрел дыхание, стал горячо возражать, пыхтя и отдуваясь: – Что я здесь делаю? То же, что и вы все. Если бы вы пригласили меня, я бы пришел. Так как вы этого не сделали, я вошел без приглашения. – Ах ты, бесстыдный плут! – сказал Карри. – Ты пришел бы, если б тебя пригласили, потому что здесь есть хорошее вино? Готов поручиться в этом! – Конечно, – добавил Эмиас, – когда у какого-нибудь мальчика в школе бывал пирог, он готов был целый день преследовать его по всем улицам, лишь бы получить кусочек. Прожорливая собака! – Терпение! – заявил Фрэнк. – О том, что у Джека жадная душа и живот, знают все байфордские торговки яблоками. Но я подозреваю, что не только бог живота привел его сюда. – Тогда бог подслушивания. Завтра же вся история разнесется по городу, – заметил другой, начиная при этой мысли слегка стыдиться своего недавнего энтузиазма. – Какой там бог живота. Это был бог любви – вот кто! Взрыв хохота последовал за этим заявлением. Но Джек с отчаянием продолжал: – Я находился в соседней комнате и пил пиво. Затем я услышал ее имя и не мог удержаться, чтобы не слушать дальше. Вы делаете сегодня большое дело, отказываясь от нее. Ну, что ж, это то, что я делал в течение трех самых несчастных лет, какие только могут выпасть на долю бедного грешника. С первого же дня я сказал себе: «Джек, если ты не можешь получить эту жемчужину, тебе не нужно никакой. А этой ты не получишь, потому что это блюдо для людей получше тебя: итак, превозмоги себя или умри». Но я не мог превозмочь себя. Я не мог не любить ее. И я умру. Но вы не должны смеяться надо мной! «Старая история, – сказал себе Фрэнк, – кто отрекается от любви, тот превращается в героя!» Так оно и было. Пискливый голос Джека звучал твердо и мужественно, его свиные глазки горели огнем, его движения стали так свободны, что неуклюжесть его фигуры была забыта… И когда он закончил бурным потоком слез, Фрэнк, забыв свои раны, вскочил и схватил его руку. – Джек Браймблекомб, прости меня! И вы все должны попросить у него прощения. Не выказал ли он уже больше доблести, больше самоотречения и тем самым больше истинной любви, чем кто-либо из нас? Друзья мои, пусть это послужит оправданием его подслушиванию. Он вполне достоин принять участие в нашей беседе. – Ах, – воскликнул Джек, – примите меня в ваше братство, и вы увидите, что я сумею претерпеть те же страдания, как любой из вас! Вы смеетесь! Не воображаете ли вы, что никто не может взяться за меч, если в его гербе нет дюжины хлебопеков, или что оксфордские школьники умеют обращаться только с пером? – Давайте испытаем его мужество, – предложил Леджер. – Вот мой меч, Джек. Обнажи свой, Коффин, и сразись с ним. – Что за чепуха, – пробормотал Коффин. Но Джек схватился за предложенное ему оружие: – Дайте мне щит, и я выйду против любого из вас! – Вот спинка стула! – закричал Карри, и Джек, схватив ее левой рукой, так яростно замахал мечом и так грозно стал вызывать Коффина на бой, что все присутствующие, не желая пролития крови, сочли необходимым превратить дело в шутку. Но Джек и слышать об этом не хотел. – Нет, если вы допускаете меня в свое братство – то хорошо, но если нет – с одним из вас я буду драться. И это решено. – Вы видите, джентльмены, мы должны принять его или погибнуть. Придется уступить. Поди сюда, Джек, и клянись. Вы принимаете его? – Да будет так! – провозгласил Карри. – Но, если он будет принят, это должно быть сделано в торжественной форме и со всеми церемониями, предусмотренными на этот случай. Возьми его в ту комнату, Эмиас, и подготовь его к посвящению. – Как так? – в недоумении спросил Эмиас. Но, поняв по подмигиванию Билла, что «посвящение» было формулой для задуманной шутки, он вывел жертву вновь за дверь и прождал пять минут, пока голос Фрэнка не предложил ему ввести «посвящаемого». – Джек Браймблекомб, – заговорил Фрэнк замогильным голосом, – как ученый и бакалавр Оксфорда, вы не можете не знать о той страшной жертве, которой Катилина[341] потребовал от своих товарищей-заговорщиков для того, чтобы, с одной стороны, в готовности совершить деяние получить доказательство их искренности, а с другой, при помощи страха, сковать их души оковами твердыми, как алмаз. Поэтому, о, Джек, мы также решили, следуя этому древнему и классическому примеру, наполнить, как сделал он, кубок нашей собственной живой кровью и провозгласить тост друг за друга, принеся клятву, от которой дрогнут звезды и покраснеет серебряный лик луны. Лишь вашей крови не хватает, чтобы наполнить кубок до краев. Сядьте, Джек Браймблекомб, и протяните руку. – Но, мистер Фрэнк!.. – начал Джек, который был суеверен, как старая баба, и под влиянием жуткой речи уже обливался холодным потом. – Никаких «но»! Или скройся, малодушный, но не через дверь, как человек, а через трубу, как летучая мышь. – Но, мистер Фрэнк!.. – Твоя жизненная мечта или труба! Выбирай! – прорычал Карри ему в самое ухо. – Хорошо, – сказал Джек, – но это ужасно жестоко! Почему из-за того, что вы не можете сохранить верность без этой варварской клятвы, я тоже должен принести ее – я, который три года хранил верность без всякой клятвы? При этом патетическом возгласе Фрэнк почти смешался, но Эмиас и Карри сунули жертву в кресло, и все было приготовлено к священнодействию. – Завяжите ему глаза, как полагается по классическим образцам, – предложил Билл. – О нет, дорогой Карри, я обещаю закрыть их достаточно крепко. Но не кинжалом, дорогой Карри, – не кинжалом. Я не вынесу потери крови, хоть выгляжу крепким! Наверное, хватит булавки, в моем рукаве где-то воткнута одна. Ох! – Взгляните на источник благородного сока! Лейся, прекрасный ручей! Как он истекает кровью! Пинта, кварта![342] Ах, это доказывает его страстность! – Кровь истинных влюбленных всегда находится в кончиках пальцев. – Эй, Джек! Что значит потерять лишний галлон ради нее? – Берите мою жизнь, если хотите, но, ах, джентльмены, позовите хирурга из любви ко мне! Я умираю, я лишаюсь чувств! – Тогда пей скорее, пей и клянись! Поддержите его сзади, Карри. Смелее, брат! Все будет кончено в одну минуту. Ну, Фрэнк! Фрэнк быстро прочел латинское четверостишие. Джек, убежденный, что находится при последнем издыхании, с жадностью опрокинул себе в глотку ровно три четверти кубка, который Карри поднес к его губам. – Ух! Ах! Пуф! Благодарю вас. По вкусу это очень похоже на вино! – Доказательство, мой добродетельный брат, – заговорил Фрэнк, – твоего воздержания. Ступай с миром – ты победил! И Джек ушел домой, унося в себе пинту доброго аликантского вина (больше, чем он, бедняга, когда-либо прежде выпивал в один раз). А остальные, весьма довольные, вновь зажгли свечи. Они превесело провели вечер и разошлись, как добрые друзья и достойные девонские джентльмены. И все за исключением Фрэнка считали историю с Джеком Браймблекомбом и его клятвой самой веселой шуткой, какую им пришлось слышать за последнее время. Затем все разъехались: Эмиас и Карри отправились в эскадру Винтера; Фрэнк, лишь только он смог путешествовать, – снова в Лондон и с ним молодой Бассет; Фортескью и Чистер – к своим братьям в Дублин; Леджер – к своему дяде маршалу Мюнстеру, а Коффин присоединился к Шампернуну и Норрису в Нидерландах. Так все братство Рози разбрелось по миру, а она осталась одна со своим зеркалом.Глава IX Как Эмиас взял в Ирландии пленника
Тихая, темная сырая ночь ранней зимы. В течение последних двенадцати часов западный ветер не перестает завывать над ирландским побережьем. Эмиас сидит с обнаженной головой на корме лодки в Смервикской бухте, его кудри обрызганы пеной, он весело кричит: – Тащите живей, молодцы, и не вздумайте зачерпнуть воды. Пушечные ядра – такой груз, который нельзя портить соленой водой. С моря, начинаясь на расстоянии приблизительно четырех миль, пологим сводом расстилается густая серая туча. Под ужасным покровом ночной мглы завывает шторм и несет с собой в глубь страны большие хлопья пены и серые соленые брызги; вся страна становится темной, мрачной и скучной. Среди песчаных холмов в вечернем сумраке вспыхивают красные искры далеко не небесного происхождения. Ведь этот форт, ныне переименованный завоевателями в форт Обруга, где развевается золотой флаг Испании, находится во власти Сан Джозефо с восемьюстами кондотьерами[343]. Всего три ночи тому назад Эмиас, Иео и несколько человек из самых сильных винтеровских солдат спустили с верхней палубы четыре кулеврины, подвезли их к берегу и подтащили к батарее, спрятанной среди песчаных холмов. Теперь видно будет, смогут ли испанские и итальянские кондотьеры удержать свой форпост на британской земле против людей из Девона. Эмиас и его люди привезли, рискуя жизнью, новый запас ядер, так как на винтеровской батарее не было больше снарядов, и в течение четырех часов оттуда стреляли камнями за неимением лучшего. Они подвели лодку к берегу в том месте, где маленький залив давал возможность высадиться, и, почти не беспокоясь, разобьется лодка или нет, вскарабкались на песчаный холм, каждый с парой ядер, переброшенных через плечо. Забравшись в траншею, Эмиас весело крикнул Иео: – Вот пища для бульдогов, канонир! – Не разговаривайте с человеком, когда он занят делом, мистер Эмиас. Пять раз я промахнулся, но, клянусь, эта проклятая папистская тряпка слетит с шеста! – Так сбрось ее, никто не заставляет тебя стрелять криво. Только возьми для этого доброе железо, а не камни, пригодные для мостовой. – Я думаю, сэр, что нечистая сила относит в сторону мои ядра. Кажется, я даже видел одного бесенка. Но у нас есть новые снаряды. Эх, кабы можно было разок пальнуть серебряным ядром![344] Ну, держитесь, молодцы! Еще раз просвистел восемнадцатифунтовый снаряд. И большой желтый испанский флаг, развевавшийся по ветру, поднялся в воздух вместе с флагштоком, а затем стремительно упал на землю, далеко, с подветренной стороны. Громкое «ура» матросов разорвало, казалось, самую тучу, но, прежде чем замерло эхо, высокий офицер вскочил на парапет крепости с упавшим флагом в руках. Прикрепив флаг как можно крепче к острию своего копья, он твердо держал его против ветра, пока не подняли упавший флагшток. В то же мгновение дюжина луков нацелилась в смелого врага, но Эмиас сзади закричал: – Стыдитесь, молодцы! Стойте. Пусть храбрый джентльмен получит заслуженное приветствие! Луки опустились, и Эмиас, вскочив на вал батареи, снял шляпу и поклонился державшему флаг; тот, лишь только освободился от своей ноши, вежливо вернул поклон и сошел с парапета. К тому времени совсем стемнело, и стрельба стала ослабевать. Сальвейшин со своими собратьями-канонирами, накрыв орудия брезентом, ушел спать, оставив Эмиаса, по его собственному желанию, дежурить до полуночи. Эмиас долго шагал взад и вперед в темноте, обмениваясь случайными словами с часовыми, и думал сначала о своей матери, потом о Фрэнке. Думает ли он о далеком брате, сидящем на темном берегу океана? Затем он постарался не думать о Рози Солтерн и, разумеется, думал о ней все больше и больше. Так медленно тянулись часы. Было уже больше одиннадцати. Все огни исчезли с батареи и судов. Ни звука не было слышно, кроме монотонных шагов часовых и похрапывания вооруженных людей, спавших в тылу на расстоянии около двадцати ярдов. Эмиас шагал взад и вперед, время от времени бросая внимательный взгляд на полосу песчаных холмов, лежащих меж ним и крепостью. Но все было пусто и черно, и вдобавок начался сильный дождь. Внезапно ему послышался шорох. Правда, ветер довольно громко шелестел, но этот звук был не похож на шелест ветра. Затем слабый подкрадывающийся шум. Кто-то соскочил с насыпи, и за ним посыпался песок. Эмиас остановился, нагнулся около одного из орудий и приложил ухо к насыпи. Он ясно услышал шум приближающихся шагов – кроличьих или человеческих – он не знал, но чуял – скорее последних. Эмиас был способен рассуждать хладнокровно по крайней мере, когда им не владела страсть; подумав, что, если он произведет какой-нибудь шум, неприятель (четвероногий или двуногий) скроется и вся игра будет проиграна, он не окликнул двух часовых, которые находились на другом конце батареи. Еще меньше стоит, решил он, будить всех людей – слух мог обмануть его, и весь лагерь будет поднят на ноги, чтобы отразить атаку кроликов. Он все ниже припадал к насыпи рядом с кулевриной и через минуту или две услышал, как что-то осторожно положили против отверстия амбразуры. Судя по звуку, это был кусок дерева. «Чем дальше, тем лучше, – сказал себе Эмиас, – когда приставляют штурмовую лестницу, надо полагать, что за ней следуют солдаты. Я могу лишь униженно поблагодарить их за предпочтение, отданное моей амбразуре. Вот он! Я слышу, как цепляются его ноги». Он ясно слышал, как кто-то старается влезть в отверстие амбразуры. К несчастью, было так темно, что Эмиас не мог видеть собственной руки, не только врага, на расстоянии двух шагов. Как бы ни было, у него мелькнула чудесная догадка о месте, где тот может находиться, и, тихонько встав, он нанес удар, который мог бы расколоть просмоленный рождественский чурбан. Сноп искр посыпался из доспехов несчастного испанца и послышался хрип, указывающий, что если он и остался жив, то его дыханию удар принес мало пользы. Эмиас схватил врага за голову, втащил его на пушку, на коленях спрыгнул в амбразуру и стал ощупью искать верхушку лестницы. Нашел ее, приподнял и сбросил всю целиком вместе с уцепившимися за нее четырьмя или пятью солдатами, а затем вслед за ней свалился сам носом в песок. По матросскому обычаю на Эмиасе не было никакого вооружения, кроме легкого шишака и кирасы, поэтому ничто не помешало ему вскочить на ноги и приняться за работу, нанося удары направо и налево. Так он сражался во рву с невидимым врагом. Тем временем солдаты наверху, решив, что для контрвылазки слишком темно, открыли убийственный огонь из мушкетов и стрел. Эмиас, не чувствуя никакого желания, чтобы его изрешетили дружеские пули, вылез к подножию насыпи и стал ждать. Внезапно выглянула луна, и после нового, еще более жестокого залпа английские матросы, увидев замешательство врага, бросились вниз из амбразур. Теперь Эмиас был в своей стихии! Среди песчаных холмов прошло десять ужасных безмолвных минут. Затем трубачи ударили сбор, и матросы полезли обратно по два и по три, оставляя за собой множество мертвых и умирающих врагов. Тем временем пушки форта вдруг открыли огонь и полчаса гремели без ответа. Затем все стихло. Спустя двадцать минут находившиеся на берегу англичане сушились вокруг костра из торфа и беседовали о стычке. Билл Карри спросил: – Где Лэй? Кто видел его? Я боюсь, что он зашел слишком далеко и его убили. – Убили? Ничего подобного! – послышался голос Эмиаса. Он выступил из темноты в светлый круг костра и сбросил с плеч, как бросают мешок зерна, грузное темное тело, которое оказалось человеком в богатых доспехах. Как его бросили, так он и остался лежать, не чувствуя, что его ноги (к счастью, одетые в кольчугу) в огне. – Я нахожу, – промолвил Эмиас, – что лучше бы один из вас взял его, он может пригодиться. Сними с него шлем, Билл Карри. Вытащи его ноги из горячей золы. Хотя он и был бы рад потащить нас на костер, но это еще не основание сжечь его. Между адмиралом Винтером и Эмиасом не было большой любви. Поэтому Винтер, которого Эмиас не заметил или предпочел сделать вид, что не заметил, довольно колко спросил его: – Какого черта вы тащили в лагерь мертвеца? – Если он мертв – это не моя вина. Он был живехонек, когда я двинулся с ним в путь, и я держал его как следует и как можно выше всю дорогу. Чего вы еще хотите? – Лэй! – заявил Винтер. – Следовало бы вам говорить несколько вежливее, если не почтительнее с командирами, которые старше вас и являются вашим начальством. – Прошу прощения, сэр, – ответил великан. Он стоял перед огнем, и капли дождя испарялись с его кирасы. – Я обучался в школе, где умение сделать дело уважалось больше, чем тонкие речи. – Какую бы вы школу ни прошли, сэр, – сказал Винтер, раздраженный намеком на Дрейка, – по-видимому, в ней вас не научили подчиняться распоряжениям. Почему вы не явились, когда протрубили сбор? – Потому что очень холодно, – ответил Эмиас. – Во-первых, я его не слышал, а затем в моей школе меня учили, если я за что-нибудь взялся – не возвращаться обратно с пустыми руками. Это было сказано метко, и Винтер вскочил с проклятием. – Вы хотите оскорбить меня, сэр? – Очень сожалею, сэр, что вы приняли похвалу сэру Фрэнсису Дрейку за оскорбление вам. Я притащил сюда этого джентльмена, так как полагал, что он сможет сообщить нам полезные сведения. Если он умрет – потеря будет ваша. – Помоги же мне, – вмешался Карри, желая создать настроение в пользу Эмиаса, – и мы вынесем его отсюда. В то же время Рэли встал, взял Винтера за руку и, отойдя с ним в сторону, начал серьезно говорить о чем-то. – Какого черта, Лэй, вы ссоритесь с Винтером? – спросили двое или трое. – Послушайте, почтенные папаши и дорогие дети, обсуждайте как вам угодно дела испанцев и дайте нам с адмиралом устраиваться по-своему. Все нашли необходимым замять историю. Капитан Рэли, вернувшись, заявил: – Хотя адмирал Винтер, без сомнения, отнесся слишком подозрительно к некоторым словам мистера Лэя, все же я не сомневаюсь, что мистер Лэй не хотел сказать ничего несовместимого с положением солдата и джентльмена и недостойного их обоих, его и адмирала. Против этого предположения Эмиас не счел возможным спорить, после чего Рэли пошел обратно и сообщил Винтеру, что «Лэй охотно готов взять свои слова назад и очень огорчен, если он, Винтер, усмотрел в них что-либо оскорбительное» и так далее. Тогда Винтер вернулся, и Эмиас довольно искренно сказал ему: – Адмирал Винтер, я надеюсь, вы понимаете – то, что сейчас произошло, никоим образом не помешает вам найти во мне полную готовность выполнять все ваши приказания, чего бы они ни касались, поддерживать ваш авторитет среди солдат и защищать вашу честь от врагов, даже ценой собственной жизни. Мне было бы стыдно, если бы личная ссора могла как-нибудь повредить государственным интересам. Эта речь стоила Эмиасу большого напряжения, и поэтому он, чтобы избежать нового недоразумения, старался говорить, насколько мог, в стиле Ричарда Гренвайля. Разумеется, Винтер ничего не мог ему ответить, несмотря на ясный намек на личную ссору, кроме того, что постарается выказать себя достойным командиром такого доблестного и надежного солдата. После этого все обратили свое внимание на пленника, который благодаря Биллу Карри уже сидел, сильно нуждаясь в перевязке, и смущенно и страдальчески оглядывался вокруг. – Отнесите этого джентльмена ко мне в палатку, – сказал Винтер, – пусть хирург осмотрит его. Мистер Лэй, кто он? – Испанец он или итальянец, я не знаю, но, кажется, он важное среди них лицо. Я думаю – он капитан роты. Мы с ним вначале обменялись двумя или тремя ударами, а потом потеряли друг друга из вида. Затем я нашел его среди песков, когда он старался собрать своих людей и сыпал проклятиями, как из рога изобилия. Но его люди разбежались, и я притащил его сюда. – Но как? – спросил Рэли. – Как? Я приказал ему сдаться – он не захотел. Тогда я приказал ему бежать, и он тоже не захотел. Было слишком темно, чтобы стрелять; я взял его за уши, вышиб из него дух, ну и притащил его сюда. – Вышиб из него дух! – воскликнул Карри среди общего хохота. – Знаешь ли ты, что ты почти сломал ему шею? Его забрало было все в крови. – Тогда он должен был бежать или сдаться, – заявил Эмиас и поднялся, чтобы улизнуть: сначала он поискал, нет ли где-нибудь эля, а потом забрался спать в сухую нору, которую вырыл для себя в песчаной насыпи. На следующее утро, когда Эмиас поглощал свой скудный завтрак из сухарей (провизия быстро исчезала в лагере), к нему подошел Рэли. – Что, за едой? Это больше, чем я успел сегодня. – В таком случае садитесь и ешьте. – Нет, юноша, я не за милостыней пришел. Видели ли вы вашего пленника? – Нет, и не увижу, пока он в палатке Винтера. – Почему? Что вы имеете против адмирала? Не можете ли вы предоставить Фрэнсису Дрейку самому защищать свои интересы и не соваться в его дела? – Вот это хорошо! А если ссора затронула не только меня, но и каждого человека на корабле? Когда Винтер бросил Дрейка[345], он бросил нас всех. Разве не так? – А если и так? Пусть каждый сам заботится о своих делах – таково правило умных людей, Эмиас. Здесь, по крайней мере, этот человек у власти и в милости; и благоразумному юноше лучше держать язык за зубами. – Но это-то и приводит меня в бешенство: видеть, как этот молодец, дезертировавший от нас там, в неведомых морях, завоевал себе доверие и положение здесь, на родине, в качестве первого человека, возвратившегося через проливы! А он совсем не должен был возвращаться. Надменный, легкомысленный, трусливый дурак! – Эмиас, вы – хороший боец, но плохой политик. – Я не политик, капитан Рэли, и не желаю им быть! – Если Винтер сам пригласит вас к себе в палатку, вы не откажетесь прийти? – Почему нет, принимая во внимание его годы и положение, но он слишком хорошо все понимает, чтобы сделать это. – Он слишком хорошо все понимает, чтобы не сделать этого, – со смехом возразил Рэли. И действительно, через полчаса последовало приглашение, и Эмиас не мог не принять его. – Мы все должны принести вам благодарность за вчерашнюю услугу, – начал Винтер, у которого были все основания изменить тон. – Ваш пленник оказался главой вчерашнего нападения. Он уже рассказал нам больше, чем мы ждали. Этим мы также обязаны вам. И, разумеется, милорд Грэй уж спрашивал о вас. Эмиас низко поклонился. – Да, я спрашивал, молодой сэр, – произнес спокойный голос… Эмиас увидел появившуюся из палатки фигуру грозного вице-короля – лорда Грэя. – Вы, конечно, желаете видеть вашего пленика. Вам не придется стыдиться его, как и ему не придется стыдиться вас. Но вот он! Я не сомневаюсь – он сам за себя ответит. Познакомьтесь друг с другом, джентльмены, – вчерашняя ночь мало подходила для взаимных представлений. Дон Гузман Мария Магдалина Сотомайор, представляю вам идальго Эмиаса Лэя. В то время как он говорил, испанец вышел вперед. Он все еще оставался в доспехах, только голова его была обвязана платком. Это был стройный человек, золотоволосый, с нежной кожей и руками маленькими и белыми, как у женщины. Его губы были тонки и плотно сжаты у углов рта, а в бледно-голубых глазах скрывалась ледяная скука. Несмотря на его красоту и обходительность, Эмиас инстинктивно отшатнулся от него, но все же подал ему руку, когда испанец протянул свою и медленно сказал на самом звонком испанском языке: – Целую руки и ноги вашей милости! Сеньор говорит, сказали мне, на моем родном языке? – Имею эту честь. – Тогда примите на нем (так как мне легче выразить свою мысль на родном языке, чем на английском, хотя я не совсем несведущ в этом остроумном и ученом языке) выражение моего удовольствия по поводу того, что я попал в руки рыцаря, столь прославленного на войне и в путешествии, а также рыцаря, – добавил он, бросая взгляд на гигантский рост Эмиаса, – чья сила настолько превосходит силу обыкновенных смертных, что мне не более стыдно быть побежденным и унесенным им, чем если бы моим победителем оказался один из паладинов Карла Великого. Честный Эмиас поклонился и замялся, несколько выведенный из равновесия неожиданным заявлением и холодной лестью своего пленника, затем сказал: – Если вы удовлетворены, доблестный сеньор, я принужден испытывать то же самое. Я только надеюсь, что, несмотря на мою торопливость и на темноту, я не нанес вам излишнего вреда. Дон рассмеялся мелким фальшивым смешком. – Нет, добросердечный сеньор, голова моя, я уверен, через несколько дней прирастет к плечам, а пока ваше общество поможет мне забыть о легком неудобстве. – Если я не ошибаюсь, сеньор, вы тот, кто вчера поднял знамя, после того как оно было сброшено выстрелом? – Я не отрицаю этого, и я должен поблагодарить вас и ваших соотечественников за учтивость, позволившую мне сделать это безнаказанно. – А! Я слышал об этом славном подвиге, – сказал вице-король. – Вы должны считать за честь, мистер Лэй, что имели возможность выказать учтивость такому воину. Неизвестно, как долго продолжался бы этот обмен пышными комплиментами, от которых Эмиас уже начинал чувствовать утомление, но в этот момент поспешно вошел Рэли. – Милорд, они вывесили белый флаг и хотят начать переговоры. Испанец побледнел и сделал движение, чтобы схватиться за меч, но меча не было. Затем с горьким смехом пробормотал про себя: – Я этого ожидал. – Мне очень грустно слышать это. Лучше бы они бились до последней крайности, – сказал лорд Грэй наполовину самому себе, а затем прибавил: – Идите, капитан Рэли, и скажите им, что законы войны воспрещают переговоры с теми, кто объединился с бунтовщиками. – А если они желают обсудить вопрос о выкупе этого джентльмена? – Скорее о своем собственном, – сказал испанец, – но скажите им от моего имени, сеньор, что дон Гузман отказывается быть выкупленным и не вернется в тот лагерь, где командующий офицер, не имея возможности заразить своих капитанов своей собственной трусостью, бесчестит их против их воли. – Вы говорите зло, сеньор, – сказал Винтер, после того как Рэли вышел. – У меня есть основания, сеньор адмирал, как вы увидите, боюсь, довольно скоро. – Мы будем иметь честь оставить вас здесь пока в качестве гостя адмирала Винтера, – сказал вице-король. – Но не мой меч, по-видимому! – Простите, сэр, никто не лишал вас вашего меча, – заявил Винтер. – Я не хотел бы огорчить вас, сэр, – сказал Эмиас, – но, боюсь, мы были оба настолько беззаботны, что бросили его вчера. По лицу испанца пробежала молния, которая вскрыла глубину ярости и ненависти, таящихся под этой спокойной маской. Но, словно солнечный луч, она промелькнула почти незаметно, и он спокойно ответил: – Я могу простить вас за такую небрежность легче, чем самого себя. Прощайте, сэр. Тот, кто потерял свой меч, недостоин вашего общества. И лишь только Эмиас и остальные ушли, он, ломая руки от ярости и стыда, бросился в глубь палатки. Когда Эмиас проходил мимо батареи, подошел Рэли. – Они просят выпустить их со всеми пожитками. – Не унесут они и былинки, – сказал лорд Грэй. – Кончайте скорей, сэр! – Я не знаю, что из этого выйдет, милорд! Когда я подходил, какой-то капитан крикнул мне со стены, что он не сдается, хотел опустить белый флаг, но солдаты оттолкнули его. – Крепость, где одна часть идет против другой, недолго продержится. Скажите им, что я не принимаю никаких условий. Пусть они сложат оружие и уповают на папу, который послал их сюда! Канониры, как только вы увидите, что белый флаг спускается, тотчас открывайте огонь. Капитан Рэли, нам нужен ваш совет здесь. Мистер Карри, будьте моим глашатаем на это время. Карри ушел, и начались рассуждения о том, что делать с пленниками в случае сдачи. Как поступить с врагом? Численность его уже превышала численность англичан. Англичане не могли увезти испанцев с собой, так как не имели ни кораблей, ни провианта, ни даже достаточного количества ручных кандалов; не могли и оставить их на свободе из боязни, что испанцы используют шаткое положение в Ирландии. Так думали все без исключения начальники. – Что же делать? – нетерпеливо спросил Грэй. – Не хотят ли они, чтоб их хладнокровно перебили? И несколько мгновений, хотя каждый знал, что это неизбежно, никто не осмеливался подтвердить его слова. В эту минуту вернулся Карри. – Милорд, – начал он несколько смущенно, – я предложил ваши условия, но капитаны все еще просят смягчить их; и по правде сказать, один из них настоял на том, чтобы сопровождать меня сюда и самому выступить в защиту своей просьбы. – Я не хочу видеть его, сэр. Кто он? – Его имя Себастьян Модена, милорд. – Себастьян Модена? Как вы думаете, джентльмены? Можем мы сделать исключение ради такого знаменитого воина? Все хотели говорить с этим знаменитым человеком. Вошел невысокий итальянец в полном вооружении с бычьей шеей и, очевидно, огромной силой. – Угодно вам сесть, сэр? – холодно произнес сэр Грэй. – Целую ваши руки, знаменитейший, но я не сажусь в лагере врага. Ха, приятель Зух! Как поживает ваша милость с тех пор, как мы сражались с вами бок о бок при Лепанто?[346] Итак, вы также присутствуете на совете о том, как меня повесить? – В чем состоит ваше поручение, сэр? Времени мало, – сказал Грэй. – Черт возьми! Его было достаточно утром, когда мои негодяи удерживали меня и моего друга, полковника Геркулеса (который вам известен, без сомнения), пленниками в наших палатках, приставив нам копья к груди. Я скажу всего несколько слов. Я буду вам очень благодарен, если вы заберете всех солдат нашей крепости – итальянских, испанских и ирландских – и вздернете как можно выше это сборище взбунтовавшихся трусов с архиубийцей Сан Джозефо во главе. – Очень обязан вам за ваше предложение, сэр, и тотчас подвергну его обсуждению, хотя не уверен, приму ли я его. – Но в отношении нас, капитанов, право, ваша светлость должна принять во внимание, что мы – джентльмены, и дать нам buena guerra[347], как говорят испанцы, либо достойную возможность жить. Перейдем к моему делу. Мы готовы встретиться с любым джентльменом из вашего лагеря лицом к лицу, вооруженные только мечом, на полдороге между вашей линией и нашей, и я не сомневаюсь, что ваша милость увидит прекрасную стычку. Желаете кто-нибудь из джентльменов принять столь вежливое предложение? Вот в том углу сидит высокий юноша, который очень подошел бы ко мне. Желает кто-нибудь наградить моих храбрых товарищей получасовым пунто и стоккадо?[348] Все молчали. – Никакого ответа? Тогда я принужден приступить к увещеванию. Так этого недостаточно? И степенно пройдя на другой конец палатки, он бесстрашно и спокойно ударил Эмиаса Лэя прямо в лицо. Эмиас вскочил и, не обращая внимания на высокое собрание, одним ударом кулака свалил итальянца на землю. – Великолепно, – сказал тот, вставая без всякого смущения. – Я всегда верю своему инстинкту. Я знал, как только увидел его, что этот кавалер достоин пролития крови. Ваш меч, сэр, и доспехи, и я к вашим услугам за этими стенами. Но тут вмешался Грэй: – Никаких поединков здесь, джентльмены. Это может подождать и подождет. Опустите мечи! Полковник Себастьян, угодно ли вам вернуться, как вы пришли, в полной безопасности, ничего не потеряв, но и ничего не выиграв вашей дикой выходкой? Мы обсудим вашу судьбу. – Я надеюсь, милорд, – сказал Эмиас, – что вы сохраните жизнь этому хвастуну на один-два дня. Я должен иметь с ним дело, иначе моя щека восстанет против меня. – Хорошо сказано, молодец, – сказал полковник, выходя раскачивающейся походкой. – Так я удостоен отсрочки благодаря этому мечу, чтобы перед виселицей еще раз услышать звон рапир! Я не получу никакого другого ответа? – и, переваливаясь, он вышел. – А теперь, капитан Рэли, – сказал лорд Грэй, – раз вы так убежденно проповедовали эту бойню, я имею честь просить именно вас привести ее в исполнение. Рэли поджал губы и ответил с язвительной вежливостью: – По крайней мере, милорд, я – человек, считающий постыдным позволить другому сделать то, чего я не осмеливаюсь сделать сам. – А я, милорд, – сказал Маквора, – будучи в этом отношении человеком одного закала с капитаном Рэли, хочу пойти с ним и посмотреть, чтоб он не пострадал оттого, что у него хватает смелости выполнить безобразное дело. Эмиас последовал за Рэли. Последний был бледен, но решителен и очень раздражен против Грэя. – Не принимает ли он меня за палача, – сказал он, – что говорит со мной таким образом? Но таков обычай высоких особ. Если вы пренебрегаете своим долгом, они тащат вас на костер, если вы выполняете его – вы должны его выполнить на свою ответственность. Прощайте, Эмиас. Вы не отшатнетесь от меня, как от мясника, когда я вернусь? – Нет! Но как вы сделаете это? – Выведу одну роту и погоню ее вперед, а затем заставлю следующих перерезать их – паф! Это было сделано. Правильно или нет, но это было сделано. Крики и проклятия замерли, и форт Обруга стал рынком кровавого мяса, которое солдаты хотели скрыть от взоров неба и земли, сбрасывая тела в ров и засыпая их развалинами насыпи. Ирландцы, видевшие из леса это ужасное предостережение, в страхе удрали в глубочайшие дебри лесов. Однако, расправившись с «пушечным мясом», англичане пощадили испанских и итальянских офицеров. И Эмиас получил дона Гузмана Марию Магдалину Сотомайора де Сото, должным образом ему присужденного, в качестве приза по праву войны. Эмиас, разумеется, был вполне готов сразиться с Себастьяном Моденой, но лорд Грэй запретил дуэль. Следующий вопрос был, как устроить дона Гузмана, пока прибудет его выкуп, и, так как Эмиас не мог поместить храброго испанца в мирном заточении у миссис Лэй в Бэруффе и тем менее у Фрэнка при дворе, то он был вынужден спросить совета у Ричарда Гренвайля. В ожидании Эмиас держал дона при себе, взяв с него честное слово, которое тот искренно дал, заявив, что бежать ему некуда. Эмиас нашел в нем очень приятного собеседника. Однажды утром вошел Рэли. – Я оказал вам хорошую услугу, если вы сочтете ее таковой. Я сказал Леджеру, чтобы он сделал вас моим лейтенантом и поручил вам охрану замка Шакатори или какого-нибудь другого не менее приятного и пустынного места, где время течет легко и безмятежно, заполненное охотой на диких ирландцев, ловлей бекасов и водкой, настоянной на диких кореньях. – Я согласен, – ответил Эмиас. – Все для дела. Остаток зимы он провел в одном из ирландских замков, сражаясь или охотясь весь день, болтая и читая весь вечер с доном Гузманом, который, как всякий добрый искатель приключений, скоро сделался совершенно своим человеком и любимцем солдат. Сначала, разумеется, испанская гордость одного и английская сдержанность другого держали их в некотором отдалении, но вскоре они начали если не доверять, то по крайней мере нравиться друг другу. Мало-помалу дон Гузман рассказал Эмиасу, кто он и из какого рода. Он подсмеивался над мыслью, что его выкуп будет собран, и уверял, что, во всяком случае, он придет не раньше, чем через два года, так как единственный де Сото, имеющий лишние деньги, – это жирный старый декан в Сантьяго-де-Леон в Каракасе, в том месте, где родился дон Гузман. Все это, разумеется, привело к многочисленным разговорам о Вест-Индии. Дон Гузман был настолько же заинтересован, узнав, что Эмиас принадлежал к экипажу Дрейка, насколько и Эмиас, узнав, что его пленник – внук знаменитого охотника за людьми, дона Фердинанда де Сото, покорителя Флориды. Эмиас много читал о нем у Лас-Казаса[349], «как о командире тиранов, самом закоренелом и самом опытном среди них, который причинил больше вреда, несчастий и разрушений во многих государствах». И кровь Эмиаса закипела, ему стоило большого труда вспомнить, что говоривший – его гость, когда дон Гузман болтал об охоте своего деда на невинных женщин и детей, об убийстве индейских князьков и сожжении живыми проводников. Но тем не менее дон Гузман рассказывал много интересных историй об Индии и хорошо их рассказывал. А в добавление ко всем его рассказам среди его багажа были две книги – одна Антония Гальвано «Открытие мира», источник развлечения для Эмиаса в зимние вечера, другая – рукописная книга. Быть может, было бы лучше для Эмиаса, если бы он никогда ее не видел. Это был род дневника, который вел дон Гузман подростком, когда спускался вместе с Аделантадо Гонзалес де Касада из Перу по реке Амазонке в поисках золотой страны Эльдорадо[350] и города Маньоа, что стоит среди Белого озера и равен или превышает своим великолепием даже дворец инки Хюэйнакапак, в чьем доме и кухне вся посуда из золота и серебра, в чьих шкафах – гигантские статуи, изображающие в натуральную величину всех зверей, птиц, деревья и травы на земле и рыб в воде. Веревки, сумки, ящики и корыта – все там из золота. Да, и есть при дворце сад для развлечений – на острове близ Пуны, куда отправляются отдыхать, когда хотят дышать морским воздухом. В саду – цветы, травы и деревья всех пород из золота и серебра, красоты и великолепия дотоле невиданных. Большая часть этих сокровищ, – так говорилось в этом дневнике, – была спрятана индейцами, когда Писарро[351] покорил Перу и умертвил Атахуальпу – сына Хюэйнакапака. После его смерти, говорят, один из младших братьев инки убежал из Перу. Собрав большую армию, он покорил всю область, расположенную между большой рекой Амазонкой и Бараканом[352], иначе называемым Мараном и Ориноко. Дон Гузман как будто инстинктивно чувствовал, что книга может оказаться роковой для его победителя. Однажды, еще прежде чем заглянуть в нее, Эмиас начал расспрашивать дона Гузмана об Эльдорадо. Дон Гузман ответил с одной из тех своих улыбок, которые (как говорил впоследствии Эмиас) так походили на насмешку, что у Эмиаса часто чесались руки. – А, вы отведали плодов древа познания, сэр? Хорошо, если у вас есть охота последовать за многими другими славными капитанами в могилу, я не знаю более короткого и легкого пути, чем тот, о котором говорится в этой маленькой книжке. – Я не открывал вашей книги, – сказал Эмиас, – ваши частные записки меня не касаются, но мой человек, который нашел ваш багаж, прочел часть ее за неимением лучшего. И вы вольны мне ничего не говорить. Человек, нужно сказать, был не кто иной, как Сальвейшин Иео, который всюду неотлучно следовал за Эмиасом в качестве его телохранителя. Иео остался с Эмиасом, в то время как Карри попал в другое место с сэром Вархамом Леджером, и в течение многих месяцев друзья встречались лишь изредка; таким образом, единственное общество Эмиаса составлял дон Гузман. Становясь все более фамильярным и относясь все более беззаботно к тому, что он говорит и делает в присутствии своего победителя, испанец часто смущал и возмущал последнего своим поведением. – Несчастный! – сказал однажды ночью в припадке откровенности дон Гузман. – А разве я не имею права быть несчастным? У меня нет ни одного друга на земле, ни одного дуката, ни даже меча! Ад и фурии! Меч был всем моим достоянием – единственным, что завещал мне отец. Я жил и зарабатывал им. Два года тому назад у меня была кругленькая сумма денег, а теперь?! – Так что же с ней случилось? Я не слыхал, чтоб наши люди отняли у вас что-нибудь! – Ваши люди? Нет, сеньор! То, чего не смели сделать пятьдесят мужчин, сделала одна женщина. Разрисованная, раскрашенная, надутая, с мушками, в парике, людоедка! Мегера! Зачем только я попал в этот проклятый Неаполь! Его женщины, я думаю, были бы завтра же поглощены Везувием, если бы черт не боялся, что они сделают самое пекло слишком горячим даже для него. После двадцати лет сражений от Леванта до Ореланы, потому что я начал прежде, чем первый волос появился на моем подбородке, – и такой конец! Нет, это не конец! Я еще попаду в Эльдорадо! Я могу совершить это, сеньор. Я знаю путь, план. Дорога лежит через льяносы. Я буду еще императором Маньоа, я буду обладать всеми драгоценностями инков и золотом, золотом! Наконец пришло письмо от сэра Ричарда Гренвайля, поздравляющее Эмиаса с его успехами и повышением и содержащее длинное и любезное послание к дону Гузману, которого Гренвайль знал еще со времен битвы при Лепанто. В письме сэр Ричард предлагал Гузману быть его гостем в Байдфорде, пока не прибудет выкуп. Предложение это испанец (разумеется, уже достаточно уставший от ирландских болот) с радостью принял. Один из винтеровских кораблей, возвращаясь в Англию весной 1581 года, доставил до самой набережной Байдфорда дона Гузмана. Рэли наконец осуществил свое желание и уехал в Англию ко дворцу. А Эмиас остался в Ирландии один с бекасами еще на два длинных скучных года.Глава X Как мэр Байдфорда попался на собственную приманку
Дон Гузман прекрасно устроился в Байдфорде и, как настоящий искатель приключений, без ропота примирился с ходом вещей. Однажды, после того как он провел месяц с Гренвайлем, к ужину явился мэр Байдфорда, старый Солтерн. Пожав плечами, дон Гузман подчинился необходимости есть и пить за одним столом с торговцем, который сидит за конторкой, ведет счетные книги и принимает учеников. Однако, услышав, как мэр говорит с Гренвайлем – умно и с достоинством, – Гузман сам повел с ним беседу. К концу ужина Солтерн попросил Гренвайля оказать честь его скромному крову, отужинав с ним на следующий вечер, а затем, обернувшись к испанцу, сказал очень радушно, что если тот удостоит его своим посещением, то найдет достойное угощение. Дон Гузман, будучи рад всякому случаю повеселиться, принял это приглашение и был вознагражден превосходным ужином. Мистер Солтерн, как умный купец, был, разумеется, готов рискнуть послать свои товары в чужие земли. И поэтому он интересовался всяким гостем, которого подозревал в знании чужих стран. Он не считал постыдным попытаться развязать язык гостю большим количеством хорошего глинтвейна, а затем задать ему осторожно и хорошо поставленные вопросы, касающиеся испанского Перу, Молукки, Китая и прочих стран. Первое из этих намерений не удалось, так как испанец ничего не пил, кроме воды; второе удалось не слишком хорошо, так как испанец был хитер, как лиса, и ничего не отвечал, кроме пустяков. Во время этого словесного турнира вошла Рози. Услышав, о чем идет речь, она безыскусно добавляла свои вопросы к вопросам отца. Ей дон Гузман не мог не отвечать и, не разоблачая никаких важных коммерческих тайн, он доставил своему хозяину и его дочери очень занимательный вечер. За последнее время мысли дона Гузмана приобрели определенную окраску. Пребывая в праздности (к чему вынуждены все пленные) и очень хорошо питаясь (так как Ричард Гренвайль держал прекрасный стол), он уже давно думал, в кого бы влюбиться ради развлечения. Рози Солтерн могла занять пустое место. Дни текли так медленно, а леди Гренвайль, когда бывала дома, не говорила и не думала ни о ком, кроме своего супруга. Когда же она уехала в Стоу и оставила дона Гузмана одного в большом доме в Байдфорде, ему ничего другого не оставалось делать, как шататься в сад для стрельбы в цель, показывать свой черный плащ и перья, смотреть, как стреляют, играть в волан с юнцами или в шары со стариками и идти, наконец, ужинать к мистеру Солтерну. То было время первого расцвета английской торговли. Воображение всех купцов Байдфорда и всей Англии было воспламенено проектами открытий, компаний, привилегий, патентов и колоний. Английская торговля распространялась и пускала корни всюду. Дон Гузман, беседуя со своими новыми друзьями, скоро увидел, что они принадлежат к породе, которая должна быть истреблена, если Испания намеревается (а она действительно намеревалась) стать госпожой мира. Недостаточно Испании захватить именем папы весь Новый Свет и объявить своим исключительным правом плавание по американским морям; недостаточно покорить голландцев, недостаточно превратить венецианцев в своих банкиров, а генуэзцев – в своих наемников; недостаточно овладеть вместе с королевством Португалией всей торговлей Португалии с Ост-Индией. Ведь в это время эти островитяне хитрой политикой, текстами из писаний, а там, где их не хватает, меткими выстрелами и холодной сталью утверждают «свободу» морей и «свободу» торговли. Как и его соотечественники, дон Гузман видел это: поэтому-то и появилась испанская Армада. Дон Гузман знал также благодаря жестокому опыту, что эти самые островитяне, которые сидят в гостиной Солтерна и говорят в нос с настоящим девонским акцентом, умеют не только считать деньги и быть торгашами. Эти люди, предпочитающие делать деньги, могут при случае упорно и жестоко сражаться. Они вооружают свои торговые суда и наполняют их молодцами, с детства обученными обращению с оружием и получающими распоряжение пускать его в ход без пощады, если какой-нибудь испанец, португалец или другое человеческое существо осмелится помешать им делать деньги. Однажды вечером испанец дошел почти до бешенства. Он довольно вежливо намекнул, что, если англичане явятся туда, куда они не имеют права являться, их могут отослать обратно, и получил в ответ залпом: – Мы это увидим, сэр. – Зависит от того, кто говорит: «не имеют права». – Вы основываетесь на силе права, – сказал другой, – когда вы присваиваете себе Индийские моря; мы можем основываться на праве силы, когда пытаемся сделать то же. – Пытайтесь всеми способами, какие будут вам угодны, и вы найдете священный флаг Испании столь же непобедимым, как некогда был римский орел. – Мы это сделали. Слыхали вы когда-нибудь о Фрэнсисе Дрейке? – Или о Джордже Феннере[353] и португальцах на Азорских островах, как один шел на семерых? – Или о Джоне Хаукинсе в Сан-Хуан-д’Ульоа?[354] – Вы – дерзкие мещане, – сказал дон Гузман и ушел, называя себя глупцом и ослом за то, что унизился до таких разговоров. Солтерн пришел к нему на следующий день просить прощения, обещая, что больше не станет приглашать никого из тех, кто был так груб, если только дон Гузман снова удостоит его дом чести своего посещения. Испанец на самом деле успокоился и пришел на следующий же вечер, все время издеваясь над самим собой за то, что идет. «Эта девушка, кажется, околдовала меня. Я должен идти и проглотить ради нее свою долю унижения». Он очень ловко намекнул старому Солтерну, что питает к нему такую склонность и чувствует себя настолько обязанным ему за его вежливость и гостеприимство, что не может не сказать ему некоторых вещей, которых не сказал бы никому другому: испанцы столь ревниво относятся не к отдельным торговцам, а ко всякому общему намерению лишить их с трудом завоеванного благосостояния; но для одного человека сейчас есть масса возможностей разбогатеть. Старый Солтерн, как он ни был проницателен, имел свое слабое место, и испанец затронул его. В восторге от удобного случая проникнуть в тайны испанской монополии, старик часто заставлял Рози привлекать испанца, без малейшего опасения, что она может быть сама увлечена. Солтерн был уверен, что девушка и молодой человек будут держаться в отдалении друг от друга, как существа двух различных пород. Таким образом, случилось, что в течение многих недель и месяцев дом купца был излюбленным пристанищем испанца, и он ежедневно видел Розу Торриджа, а Роза Торриджа слушала его. Что касается ее, то, бедное дитя, она никогда не видела подобного человека. У него был неисчерпаемый запас чудесных рассказов, как у Эмиаса или даже больше; и он рассказывал их с изяществом и красноречием, которых не было у скромного Эмиаса. Притом же Гузман был здесь, а братьев Лэй не было и не было никого из прежних поклонников. Что же ей еще оставалось делать, как не развлекаться с единственным человеком, который был возле нее? Его рассказы, конечно, были достойны того, чтобы их слушать. Он, казалось, бывал всюду и видел все. Рожденный в Перу и десяти лет отосланный домой в Испанию, воспитанный в Италии, солдат на Леванте[355], искатель приключений в Индии, снова в Америке, сначала на островах, затем в Мексике, затем опять посланный назад в Испанию, оттуда в Рим и оттуда в Ирландию, потерпевший кораблекрушение, пленник у дикарей, глядевший в кратеры вулканов, побывавший при всех дворах Европы, сражавшийся с турками, индейцами, львами, слонами, аллигаторами – с кем только он ни сражался! – в тридцать пять лет он видел достаточно для трех жизней и умел использовать то, что видел. – А теперь, – сказал он Рози однажды вечером, – что осталось у меня кроме сердца, истоптанного, как мостовая? Кого ему любить? Кто его любит? Ему не для чего жить кроме славы, и даже в этом отказано ему, пленнику, в чужой стране. – Разве у вас нет родных? – спросила жалостливая Рози. – Обе мои сестры в монастыре – у них нет ни денег, ни красоты, поэтому они умерли для меня. Брат мой – иезуит. Мой отец попал в руки индейцев в Мексике. Моя мать, не имеющая ни гроша вдова, состоит компаньонкой, дуэньей, как бы они ни предпочитали это называть, носящей веер и болонку за какой-нибудь принцессой или другой дамой Севильи. А я, я потерял даже мой меч – такова судьба дома де Сото. Дон Гузман, разумеется, рассчитывал, что его пожалеют, и его пожалели. А затем он изменил тему и начал рассказывать итальянские истории, приноравливаясь к аудитории: патетические в присутствии Рози и легкомысленные – в ее отсутствие. Нужны ли еще слова? Прежде чем прошел год, Рози Солтерн была больше влюблена в дона Гузмана, чем он в нее; и оба подозревали чувства друг друга, хотя ни один не выдавал себя, пока дон Гузман не открыл ей своего сердца. – Я люблю вас, сударыня! – сказал он, бросаясь к ее ногам. – Я обожаю вас. Имейте сожаление ко мне, к моему одиночеству, моей бездомности, к отсутствию у меня друзей. Ах, Рози, простите безумие моей страсти, вы не знаете сердца, которое разбиваете. Холодные северяне, вы плохо представляете себе, как может любить южанин. Не обманывают ли меня мои слезы, или я вижу слезы и в этих лучезарных очах? – Ступайте, сэр! Вы – дворянин, а я – дочь горожанина. Вам следует помнить об этом, – воскликнула бедная Рози, наконец овладев собой, – и не показывайтесь мне больше на глаза! – И она бросилась прочь из комнаты. – Ваш раб подчиняется вам, сударыня, и целует ваши руки и ноги навеки, – ответил лукавый испанец и, приведя себя в порядок, спокойно вышел из дома. Она же, бедная дурочка, следила за ним из верхнего окна, и ее сердце невольно сжалось, когда она заметила его веселый и беззаботный вид.Глава XI Обед во дворце Эннери
В большом зале замка Эннери шло пиршество. В то время как все ели и пили, Рози Солтерн и дон Гузман, делая вид, что не замечают друг друга, усиленно следили один за другим. При этом Рози пришлось быть очень осторожной, так как за столом был не только ее отец: как раз против нее сидели Вильям Карри и Артур Леджер, лейтенанты ирландской армии, приехавшие в отпуск несколько дней тому назад. Дон Гузман и Рози Солтерн не обменялись ни словом за последние шесть месяцев, хотя встречались много раз. Испанец не избегал ее общества, но он признал негодной свою первоначальную тактику и теперь стал применять другую, гораздо более опасную. Спокойно и ненавязчиво он показывал ей, что может обойтись без нее, а она, бедная дурочка, тотчас начала спрашивать себя: почему? Шаг за шагом она была доведена до того, что стала домогаться того самого человека, которым пренебрегла когда-то. В тот день за столом в Эннери она почувствовала себя ужасно уставшей от маски, которую носила. Дон Гузман прочел это в ее беспокойном печальном взоре и, решив, что она уже достаточно наказана, стал украдкой поглядывать на нее, нисколько не смущаясь, когда замечал, что, встречая его взгляд, она опускает глаза. Он видел, как ее молчаливость и рассеянность возрастают и как румянец вспыхивает на ее щеках. Тогда он притворился таким же печальным и рассеянным и продолжал на нее поглядывать, пока не заметил, что она смотрит на него. Теперь он знал, что добыча поймана. Дон Гузман ликующе рассыпался, как соловей на ветке, историями, шутками, меткими словечками и тотчас же сделался душой общества, самым очаровательным собеседником. Прекрасное зрелище являла в тот день терраса Эннери: дамы в пышных нарядах прогуливались по две и по три взад и вперед перед великолепным домом или любовались парком с его старыми дубами, оленями и спокойной, замкнутой в своих берегах рекой, расстилающейся внизу, как озеро. Все шутили, смеялись; рассматривали платья друг друга и сплетничали о своих мужьях и слугах. Только Рози Солтерн держалась в стороне; ей хотелось спрятаться в угол и плакать или смеяться – она сама не знала. – Развеселитесь, дитя, – сказала леди Гренвайль, подходя к ней. – Мы просим вас спеть нам. Рози что-то ответила, сама не зная что, и механически повиновалась. Она взяла лютню и села на скамью перед домом, а все остальные сгруппировались вокруг нее. Рози пропела старую балладу, почти не слыша ни слов, ни музыки. Как только она кончила, раздался ровный голос с иностранным выговором: – На Востоке говорят: соловей поет для розы, а Девон более счастливый – обладает и соловьем и розой в одном лице. – У нас в Девоне нет соловьев, дон Гузман, – сказала леди Гренвайль, – но наши маленькие дрозды поют, как вы слышите, достаточно сладко, чтобы удовлетворить всякий слух. Но что же заставило вас столь рано покинуть мужское общество? – Эти письма, – ответил он, – мне их только что вручили и, так как они зовут меня домой, в Испанию, я пожалел потерять хотя бы мгновение вдали от этого восхитительного общества, которого я так скоро буду лишен. – В Испанию? – спросило полдюжины голосов. – Да, и оттуда в Индию. Мой выкуп прибыл и вместе с ним – предложение службы. Я буду правителем Ла-Гвайры[356] в Каракасе. Поздравьте меня с повышением. Туман застлал взгляд Рози. Как пылают ее щеки! Каждому должно быть заметно. Чем бы отвлечь от себя внимание? И с той нервной поспешностью, которая заставляет людей говорить и говорить глупости, она спросила: – А где находится Ла-Гвайра? – На полдороге вокруг света на берегу Антильского моря. Восхитительное место на земле и восхитительнейший дом правителя. В пальмовом лесу у подножия горы восьми тысяч футов вышиною; мне будет не хватать там только жены. – Я не сомневаюсь, что вы сумеете убедить какую-нибудь прекрасную севильскую леди сопровождать вас туда, – сказала леди Гренвайль. – Благодарю, милостивая сударыня, но с тех пор, как я имею счастье знать английских леди, я начал думать, что они – единственные на земле, на которых стоит жениться. Какая-то дама вмешалась в разговор и сделала банальное замечание о ревности испанских мужей. – Миледи, – вспыхнув, сказал дон Гузман, – поверьте мне, что все это лишь измышления невежд. Если мы более ревнивы, чем другие народы, то это потому, что мы любим более страстно. Я могу рассказать вам ряд историй о постоянстве и преданности испанских мужей даже в Индии, настолько необыкновенных, как будто их выдумал сам рассказчик. – Тогда мы умоляем вас подарить нам одну из этих историй на прощанье. Рассказывание в те старинные времена, когда книги были редки, было общепринятым развлечением, и так как искусство испанца в этой области было хорошо известно, все дамы столпились вокруг него, слуги принесли стулья и скамьи, а дон Гузман начал рассказывать длинную и трогательную историю о прекрасной испанке, похищенной влюбленным в нее индейским вождем, и о ее муже, который предпочел умереть, оставаясь вблизи нее, чем бежать и спасти свою жизнь. Дон Гузман рассказывал для Рози Солтерн. Время от времени он прозрачными намеками давал ей понять, что говорит для нее. Лицо бедной девушки стало малиновым от удовольствия, и она совершенно предалась очарованию. Он все еще любит ее: быть может, он знает, что она его тоже любит. Он должен узнать это когда-нибудь. Теперь она чувствовала, что нет спасения, и была почти рада этому. О, почему так скоро кончился рассказ? Она охотно слушала бы его до самой полуночи. Но она была достаточно умна, чтобы хранить свою тайну про себя, и сидела позади других с жадно горящими глазами и скромно поджатыми губами, преисполненная странного и нового ощущения счастья или несчастья – она сама не знала. Между тем благодаря устройству дома Карри через окно зала видел и слышал большую часть происходившего. – Как строит глазки Рози этот испанский крокодил, – шепнул Билл молодому Леджеру. – Что ж тут удивительного? – Эй, но черт побери, и она стреляет в его сторону своими томными очами, эта маленькая негодница. – Что ж тут удивительного? Он не первый, я повторяю, и не последний. Пей, брат. – Довольно с меня. У меня в голове все смешалось, как на корабле в сильную качку. С этими словами Карри встал и вышел. Он был трезв, но возбужден вином как раз достаточно для того, чтоб быть готовым ко всякой ссоре. К счастью для себя, он не прошел и двадцати шагов по большой террасе, как встретил леди Гренвайль. – Не видели ли вы дона Гузмана? – Да, в самом деле, где же он? Нет десяти минут, как он был со мной. Вы знаете, он возвращается в Испанию. – Возвращается? Разве прибыл его выкуп? – Да, и вместе с ним назначение правителем одной из областей Индии. – Правителем? Много добра может он принести управляемым. – Но почему же нет? Он безусловно очень и очень храбрый человек. – Храбрый… да, – небрежно ответил Карри. – Я должен найти его и поздравить с полученной честью. – Я помогу вам найти его, – сказала леди Гренвайль, женским чутьем уже что-то заподозрив. – Сопровождайте меня, сэр. Но они не нашли дона Гузмана ни в саду, ни в зале для игр. – Вероятно, – сказала одна из дам, кивнув головой назад, – вы встретите его у Ханкфордского дуба. – У Ханкфордского дуба? Что его привлекло туда? – Приятное общество, я полагаю? – Новый кивок. – Я слышала, как он и мисс Солтерн только что говорили об этом дубе. Карри побледнел и затаил дыхание. – Очень возможно, – спокойно сказала леди Гренвайль. – Хотите ли вы пойти со мной так далеко, мистер Карри? Леди Гренвайль желала бы пойти куда-нибудь в другое место, но боялась отпустить Карри одного, предвидя неизбежное столкновение. Они спустились вниз, прошли мимо оленьего стада и вошли в уединенную долину, где стоял роковой дуб. Лишь только они приблизились, Карри так крепко сжал руку леди Гренвайль, что она вскрикнула от боли. – Вот они, – прошептал он, не обращая на нее внимания, и указал на дуб, где, наполовину скрытые высоким папоротником, стояли Рози и испанец. Ее голова лежала у него на груди. Казалось, она дрожала и плакала; он говорил серьезно и страстно. Легкий крик леди Гренвайль заставил их оглянуться. Повернуться и убежать значило во всем сознаться; и оба, тотчас овладев собой, пошли ей навстречу, причем Рози рада была провалиться сквозь землю. – Помните, – прошептала леди Гренвайль, – вы ничего не видели. Карри сжал губы и вежливо поклонился испанцу. – Как я слышал, сеньор, вас можно поздравить с приближающимся отъездом? – Целую ваши руки в ответ, сеньор, но я хотел бы знать, может ли это дать повод к поздравлениям, принимая во внимание все, что я покидаю? – Я также, – ответил Карри довольно резко, и все четверо направились обратно к дому. Леди Гренвайль делала вид, что все обстоит как нельзя лучше, и болтала со своими тремя молчаливыми спутниками, пока они снова не взошли на террасу. Карри ускользнул от нее, лишь только она очутилась за дверью, и бросился к мужчинам. Он весь горел: вся его прошлая страсть к Рози вновь вспыхнула. Билл готов был перерезать испанцу горло. Но он помнил, что Солтерн здесь, и боялся подвергнуть неприятностям Рози. Он не хотел также начать публичную ссору в чужом доме. Ничего не значит! Было б желание, а способ найдется. Он может отвести Гузмана в угол и вызвать на ссору, придравшись к прическе или к цвету его лент. Билл приблизился и, к счастью или несчастью, увидел стоящих вместе в стороне от других сэра Ричарда, испанца и молодого Леджера. – Итак, дон Гузман, вы ускользнули от нас, пьянчуг, после обеда. Я надеюсь, вы хорошо использовали это время? – Восхитительно для меня, сеньор, – ответил испанец. Разъяренный, что ему помешали, он готов был драться, как и Карри, но, разумеется, так же не хотел взрыва, как и тот. – Говорят, – промолвил Леджер, – что он всех дам заставил плакать своим рассказом, одновременно лишив нас удовольствия, которое мы надеялись получить от его испанских песен. – Черт побери испанские песни, – пробормотал Карри тихим голосом, но достаточно громко. Дон Гузман тотчас опустил руку на рукоять своего меча. – Лейтенант Карри, – грозно сказал сэр Ричард, – по-видимому, вино заставило вас забыться. – Я так же трезв, как вы сами, но если вам угодно послушать испанскую песню, я спою вам ее. Дрянная песня, как и ее герой.Дон Десперадо[357]
Гулял вдоль Прадо,
Встретил врага,
Всадил в него нож,
Лишил его жизни и
Ради спасенья
Удрал без замедленья.
Глава XII Как Эмиас второй раз вернулся домой
После долгих лет отсутствия Эмиас возвращался на родину. Грустные мысли овладели им, когда он увидел перед собой широкую сверкающую реку, длинный мост и белые домики, лепящиеся по склону холма. Его мать не жила больше в Бэруффе. Уступая настояниям своего старшего сына, она переселилась к нему в Лондон. И – увы! – Норшэм и Байдфорд также опустели для Эмиаса, так как, подъехав к дому Ричарда Гренвайля, он узнал, что тот в Ирландии, а леди Гренвайль – в Стоу. Тогда он поехал обратно вдоль главной улицы к той самой корабельной таверне с низкими окнами, где принесло свою клятву братство Рози, и уселся в той же комнате, где они ужинали. – А! Капитан Лэй, – засуетился хозяин. – Байдфорд совсем опустел, и в нем нет ничего интересного, сэр. Закажите пинту хересу, сэр, для аппетита. Помните вы мой старый херес? Джен! Хересу и сахару, живо, пока я стащу сапоги с капитана. Эмиас сидел усталый и грустный, а хозяин гостиницы продолжал болтать. – Ах, сэр. Странные дела творятся со времени вашего отъезда. Вы должны знать испанского капитана, пленника? – Того, что я прислал сюда из Смервика? – Вы прислали? Тогда вы, быть может, уж слышали? – Как мог я слышать? Что? – Он удрал. – Не уплатив выкупа? – Этого я не могу сказать, но с ним ушла и девушка, дочь Солтерна. – Рози Солтерн, дочь мэра – Роза Торриджа? – Да, она, но что с вами? Эмиас откинулся на спинку кресла с таким расстроенным лицом, что хозяин, взглянув на него, сказал себе: «А, бедный молодой человек, он – один из тяжело пострадавших». – Как старик? – спросил Эмиас, помолчав немного. – Переносит это довольно хорошо, сэр, но он очень изменился. Ни с кем не разговаривает. Некоторые говорят, что у него голова не совсем в порядке; он стал скупым, ничего не ест, кроме хлеба, и не пьет, кроме воды, и целые ночи напролет проводит в ее комнате, перебирая ее платья. Говорят, что он был слишком строг с ней, и это довело ее до такого поступка. Я знаю одно, что он ни разу не зашел сюда выпить хоть каплю вина (а он приходил каждый вечер аккуратно, словно городские часы), с тех пор как она ушла. Он пришел только один раз, дней десять тому назад; он тогда встретил у дверей молодого Карри, и я слышал, как он спросил мистера Карри, когда вы вернетесь. – Надень мне опять сапоги. Я пойду повидать его. – Но не уйдете же вы так поздно с пустым желудком? – Наполни желудки моих людей и не беспокойся о моем. Сегодня базарный день, не правда ли? Пошли узнать, в городе ли еще Карри. И Эмиас быстро вышел и пошел вдоль набережной к Мостовой улице. Он постучал в дверь Солтерна. Солтерн сам открыл ему со своей обычной суровой вежливостью. – Я видел, как вы шли по улице, сэр. Входите же, входите. Я разучился быть вежливым. – Он ввел Эмиаса в гостиную и сейчас же послал учеников в одну сторону, а повара – в другую. – Вы не должны беспокоить себя, чтобы раздобыть мне ужин. – Я должен, сэр, и ужин и лучшее вино; у старого Солтерна была не одна бочка аликантского в старое время, в старое время, сэр. И старик вышел отдать распоряжения. Эмиас сел, ожидая, что будет дальше, смущенный внезапной веселостью старика и его гостеприимством, так не похожим на то, что он ждал на основании слов хозяина гостиницы. Спустя минуту один из учеников вошел, чтоб накрыть стол, и Эмиас спросил его, как живет его хозяин. – Спасибо, что вы пришли, сэр, – сказал мальчуган. – Но почему? – Потому что будет повод для нас, бедных, получить немного жареного мяса. Мы наполовину умерли с голоду за эти три месяца – хлеб и сало, хлеб и сало – ох, горе! А теперь он послал в гостиницу за цыплятами, за дичью и салатом и за всем, что только можно купить за деньги, а вниз в погреб вытащить лучшее вино. – И мальчик громко чмокнул губами в предвкушении вкусного ужина. – Он лишился рассудка? – Я не могу сказать. Но он говорит: ему нужно собрать много денег, потому что он собирается начать большое дело, а какое, он никому не говорит. Его теперь по всему городу все называют «хлеб и сало», – по секрету сообщил Эмиасу ученик. – Они называют, называют, бездельник! Вот увидишь, завтра начнут называть меня «хлеб без сала». – И старый Солтерн, подойдя сзади, хотел было дать бедному малому по уху, но, к счастью, вспомнил, что держит по паре бутылок в каждой руке. – Дорогой сэр, – сказал Эмиас, – не думаете же вы, что мы вдвоем выпьем это вино? – Почему нет, сэр? – ответил Солтерн отвратительным полуиздевательским тоном, поглаживая свой подбородок и четырехугольную седеющую бороду. – Почему нет? Почему мне не веселиться, когда я имею честь принимать у себя в доме благородного капитана, капитана, который плавал по морям и резал горло испанцам и может еще перерезать, сэр? «Какая цель у этого старика? – подумал Эмиас. – Льстит он мне или издевается надо мной?» – Гм! А! Не имеет смысла торопиться. Я не торопился. Нет, я ждал вас; и вот вы явились, и вам рады, сэр! А вот и ужин – неважный, как видите. Каплун и пара куропаток. Я не имел времени приготовить вам угощение, какого вы заслуживаете. И так продолжалось в течение всего ужина. Старик не позволил Эмиасу вставить ни слова, осыпая его грубой лестью и заставляя пить, а когда убрали со стола и собеседники остались вдвоем, он стал настолько невыносим, что Эмиас принужден был добродушно пожурить его. – Я буду откровенен с вами. Вы слышали, вы слышали, что со мной случилось, с тех пор как вы видели меня последний раз? Эмиас кивнул головой. – Я так и думал. Весть о позоре быстро распространяется. Теперь слушайте меня, капитан Лэй. Что бы вы сделали на моем месте? – Гм, – ответил Эмиас, – это сильно зависело бы от того, было ли бы «мое место» вызвано моей собственной виной или нет. Неожиданно Солтерн поднялся и сказал: – Пойдемте со мной наверх, сэр, раз вы не хотите больше пить. У меня слабость к вам. Я наблюдал за вами с той поры, как вы были мальчиком; я доверяю вам и покажу вам то, чего не показывал ни единому смертному, исключая одного человека. И, взяв свечу, старик пошел вперед, указывая дорогу наверх, а Эмиас, полный удивления, следовал за ним. Старик остановился у одной двери и открыл замок. – Здесь, входите. Эти ставни не открывались с тех пор, как она… – И старик замолчал. Эмиас оглядел комнату. Это была низкая, обитая панелями комната безукоризненной чистоты. Белоснежные простыни на постели были подвернуты, как бы приготовленные для своей владелицы. На полке были расставлены книги, а на столе стояли свежие цветы. На туалетном столике красовался целый женский мир булавок, колец и брошек. Даже платье лежало на спинке стула. Ясно было, что все сохранилось в том самом виде, как было оставлено. – Это была ее комната, сэр! – прошептал старик. Эмиас молча кивнул и подался немного назад. – Вы не должны стесняться войти сюда теперь, – зашептал старик с насмешкой. – Здесь давно уже не было ни одной живой души. Эмиас вздохнул. – Я подметаю ее сам каждое утро и держу все в чистоте. Взгляните сюда! И он открыл шкаф, где лежали в ряд куклы Рози и ее старые детские игрушки. – Это самое приятное для меня место во всей комнате, так как они напоминают мне то время… А теперь, – шепнул старик, – еще одна вещь. Посмотрите сюда! И, вытащив ключ, он открыл сундук. – Смотрите сюда. За две тысячи фунтов нельзя купить этот сундук. Двадцать лет собирал я эти вещи. Здесь цвет того, что было куплено во время многочисленных поездок на Левант и в Вест- и Ост-Индию. – Старик пожирал глазами свои сокровища. – А для кого, думаете вы, я все это хранил? Это предназначалось ко дню ее свадьбы – ее свадьбы. Вашей свадьбы, если вам угодно! Да, вашей, сэр! А теперь, – сказал он, указывая на открытый сундук, – вот то, чего я хотел, а вот, – указывая на пустую кровать, – то, что есть. Ничего не поделаешь. Пойдемте вниз кончать вино. Я вижу, все это мало вас трогает. И почему это должно вас трогать? Идем и будем веселы, пока вы молоды! И все же все это могло быть вашим. И – но я не думаю, что вы из тех, кого можно купить деньгами, – все это еще может быть вашим и двадцать тысяч фунтов в придачу. – Мне не нужно денег, сэр, мне нужно только то, что я могу заработать своим мечом. – Заработайте мои деньги в таком случае! – Чего вы хотите от меня? – Чтоб вы сдержали вашу клятву, – ответил старый Солтерн, хватая его за руку и смотря ему в лицо испытующим взглядом. – Мою клятву! Откуда вы знаете о ней? – А! Я полагаю, вы были смущены ею на следующий день! И в пьяной шалости – везде дочь какого-то купца! Но нет ничего тайного, что не стало бы явным, и всякое скрытое деяние находит своего глашатая. – Смущен ею я никогда не был, но я имею право спросить вас, откуда вы о ней узнали? – Что, если бедный, толстый, плаксивый малый, которого вы обманули, сделав из него мишень для насмешек, пришел ко мне в моем одиночестве и поклялся, что, если вы не сдержите своего слова, он, шут, сдержит? – Джек Браймблекомб? – И что если я привел его туда, куда привел вас, и показал ему все, что показал вам, и, вместо того чтобы стоять неподвижно, как сделали вы, он упал на колени у изголовья кровати и плакал, пока открылось мое суровое сердце в первый и последний раз, и я упал на колени и стал плакать вместе с ним? – Я не создан для слез, мистер Солтерн, – заявил Эмиас, – мое дело действовать. Покажите мне, что я могу сделать; потом у вас будет достаточно времени упрекать меня в том, что я не выполню. – Вы можете перерезать горло этому молодцу? – Потребуется очень длинное оружие, чтобы достать его. – Я полагаю, что добраться до Испанского моря не труднее, чем объехать вокруг света. – Мой дорогой сэр, – сказал Эмиас, – в настоящее время я не имею других мирских благ, кроме моей одежды и моего меча, поэтому мне не совсем ясно, как могу я добраться до Испанского моря? – А вы полагаете, что я намекнул бы вам на подобную поездку, если б считал, что вам придется тратиться на нее? Нет, если вам понадобятся две тысячи фунтов или пять тысяч, чтоб снарядить корабль, вы их получите! Вы их получите! Я копил деньги для своего ребенка, теперь я буду их тратить, чтобы отомстить за него. Эмиас молчал несколько мгновений. Старик все еще держал его за руку.Глава XIII Как Эмиас отправился искать новые рынки для английских изделий
Недель через шесть после дуэли мельник из Стоу явился в господский дом в большом смятении и попросил взаймы собак-ищеек: Рози Солтерн исчезла ночью, никто не знал куда. Сэр Ричард был в Байдфорде, но старый слуга на свою ответственность послал за собаками, и ловчие отправились на мельницу в сопровождении всех досужих мальчишек прихода, решивших, что охота за девушкой – превеселая игра, и, разумеется, смотревших на случившееся с самой благоприятной для Рози точки зрения. Они откровенно ругали мельника и его жену за их жестокосердие и не сомневались, что они заставили бедную девушку броситься со скалы или утопиться в море. В то же время все женщины в Стоу единогласно утверждали, что плутовка с кем-нибудь сбежала. Достоверно было одно: все драгоценные безделушки Рози остались целы, все было на месте, за исключением небольшого количества белья. Единственным следом был маленький отпечаток ноги под окном ее спальни. К нему подвели ищеек. Они завыли, потом громко залаяли и пустились через ворота сада, вдоль переулка, таща за собой задыхающихся ловчих, пока очутились над дюнами. Они подбежали прямо к «Марачандскому устью» и, задыхаясь, ткнулись в дверь Люси Пассимор. Люси была теперь вдовой и находила, что вдовство не очень противоречит ее интересам. Ее предсказание насчет ее старого мужа исполнилось. Он больше не вернулся с той ночи, как ушел’в море с Евстафием и иезуитами. Что общего имела Люси с исчезновением Рози и где была сама Люси? Ее дверь была на запоре, и вокруг стояло стадо коз, тщетно призывающих хозяйку выйти и подоить их. А с верхушки дюны ее ослы, бредущие на свободе, отвечали на лай ищеек гармоничным ревом. – Они смеются над нами, ловчие, наверное, мы даром теряем здесь время. Но ищейки, повозившись немного около двери, повернули вниз по долине и, нигде не останавливаясь, добежали до самой воды. – Они уехали морем. Идем обратно и разнесем дом старой колдуньи. На обратном пути ловчие напали на коттедж и с общего согласия разграбили маленький домик, частью из негодования, а частью (по правде сказать) в надежде на добычу. Но никакой добычи не оказалось. Люси удрала со всем своим движимым имуществом, за исключением огромного черного кота. Коз и ослов пригнали в Стоу. И вся ватага, когда прошел ее быстрый гнев, вернулась туда же. Ричард Гренвайль продал ослов и коз, обещая возместить Люси все потери, если она явится и отдаст себя в руки правосудия. Но Люси не вернулась. Несколько дней спустя Ричард по дороге из Байдфорда в Стоу заглянул в Кловелли и упомянул между прочим о новостях, которые заставили Билла Карри подпрыгнуть до потолка. – И нет никаких указаний? – спросил старый Карри, так как сын его безмолвствовал. – Только одно: я слышал, что какой-то парень, бродивший в ту ночь по скалам, видел лодку, плывшую по направлению к Лэнди. Билл встал и поспешно вышел из комнаты. Через полчаса он и несколько вооруженных слуг сидели в рыбачьей лодке, плывшей в Лэнди. Он не возвращался в течение трех дней. По приезде рассказал, что какой-то старый человек, по-видимому, иностранец, поселился несколько месяцев тому назад в одной половине разрушенного замка Мореско, арендуемого неким Джоном Брауном. Через несколько недель к нему приехал на корабле молодой человек, тоже иностранец – корабль был из Флешингера, или Истерлинга, или откуда-то в этом роде. Корабль приходил и уходил не один раз, и молодой человек приезжал и уезжал на нем. Через несколько дней вместе с ним приехала в замок дама с толстой служанкой, и они долго разговаривали о чем-то со стариком так, чтобы никто не слышал. Они пробыли там всю ночь, а затем утром все трое уехали на корабле. Рыбак на берегу слыхал, как молодой человек называл старого отцом. Последний был очень тихий человек. Больше никто ничего не знал. Билл Карри в течение некоторого времени был похож на помешанного. Он осыпал себя всевозможными напрасными упреками. Леджер, который был очень рассудительным человеком, тщетно старался убедить Билла, что здесь вовсе не было его вины, что те двое привязались друг к другу задолго до ссоры, что это должно было так кончиться рано или поздно, что строгость старого Солтерна ускорила катастрофу больше, чем ярость Карри, и, наконец, что Рози и ее судьба теперь, когда она убежала с испанцем, больше не стоят того, чтобы ломать из-за них голову. Бедный Билл никак не мог успокоиться. После того дело на несколько дней заглохло, пока не выступил на сцену некто, кто совсем не собирался дать ему заглохнуть – Джек Браймблекомб, ныне викарий города Хартланда. – Я надеюсь, вы не обидитесь на меня, мистер Вильям, но когда собираетесь вы и другие отправиться за… за ней? – Имя застряло у него в горле. Карри смутился. – Тебе какое дело, Катилина, пьющий кровь? – спросил он, пытаясь смеяться. Но Джек пристально смотрел ему в лицо и после некоторого молчания спросил: – Как далеко до Каракаса, сэр? – Что тебе до того, дружище? – Я слышал, он назначен туда правителем, значит – это место, где ее можно найти. – Не собираешься же ты отправиться туда отыскивать ее? – воскликнул Карри с насильственным смехом. – Это зависит от того, смогу ли я отправиться; но если я смогу наскрести денег или получить место на каком-нибудь корабле, это будет исполнено. Билл посмотрел на Браймблекомба, чтобы убедиться, не пьян ли тот, не сошел ли с ума. Но маленькие свиные глазки были трезвы. Билл не знал, что ответить. Смеяться над бедным малым было очень легко, отрицать, что он прав, было труднее. – Вы увидите, – сказал Джек со свойственным ему глупым упорством. – Это трудно лишь с первого взгляда, и, кроме того, никому не причинит вреда, если я никогда не вернусь. Карри изумленно молчал. – Одолжите мне пять фунтов и возьмите в залог мои книги, чтобы помочь мне уехать. – Ты сошел с ума или грезишь. Ты никогда не найдешь ее. – Это не основание не искать ее. – Но, мой добрый друг, если ты даже доберешься до Индии, то попадешь в руки инквизиции и тебя сожгут живьем, – это так же верно, как то, что твое имя Джек. – Я думал об этом, – ответил Джек страдальческим тоном. – И я перенес тяжкую борьбу со своей плотью, так как я – большой трус, подлый трус и всегда им был, вы знаете. Но пусть лучше меня сожгут и все будет кончено, чем жить дальше таким образом! – И Джек горько заплакал. – Я хотел бы знать, что сказал бы на все это Эмиас Лэй, будь он дома? – Сказал бы? Он сделал бы. Он не из тех, кто разговаривает. Он пойдет за нее в огонь и воду, поверьте мне, Билл Карри, и назовите меня ослом, если он этого не сделает. – Будь рассудителен, Джек. Если ты подождешь, как разумный и терпеливый человек, вместо того чтобы очертя голову бросаться навстречу гибели, что-нибудь может выйти. – Вы так думаете? – Я не могу обещать, но… ты не должен ехать, пока не вернется Эмиас. Жизнью клянусь, я все расскажу твоему отцу, если ты не обещаешь мне сделать так, как я говорю, а отца ты не посмеешь ослушаться. – Я не уверен даже в этом, по совести говоря, – с выражением сомнения промолвил Джек. – Во всяком случае, ты останешься пообедать со мной, старина, и мы обсудим, нарушил ты пятую заповедь[358] или нет. Джек любил (как мы знаем) хорошо покушать, и любовь его слишком часто оставалась неудовлетворенной, поэтому он подчинился, и Карри думал, когда Джек уходил, что почти уговорил его. По крайней мере Джек отправился домой, и в течение недели его не было видно. Но к концу этого срока он вернулся и радостно сообщил: – Я все устроил, мистер Билл, я отправляюсь в Лондон переговорить с Фрэнком. – В Лондон? Как ты туда попадешь? – На своих на двоих, – ответил Джек, указывая на свои кривые ноги. – Но я надеюсь получить место на каком-нибудь каботажном судне до Бристоля, а оттуда, я слышал, остается уже совсем незначительное расстояние. Напрасно старался Карри разубедить его. Получив насильно врученную ему маленькую ссуду, Джек ушел. Через некоторое время он опять появился в поместье Кловелли, как раз перед ужином, похудевший и усталый, и уселся среди слуг, пока не появился Билл. Билл позвал его наверх и после ужина отвел в сторону и спросил, что он успел. – Я узнал, что есть на земле человек, который любит ее еще больше, чем я. Он говорит то, что я говорю: «поезжай!», и он говорит то, что вы говорите: «жди!» – Что ж ты решил? – Я послушаюсь того, кто лучше меня, и подожду. И в тот же вечер Джек отправился домой в свой приход, несмотря на усталость и на все уговоры провести ночь в Кловелли. Но его пребывание оставило ряд мыслей в голове Карри, которые не давали бедняге покоя ни днем ни ночью, пока незначительный случай не облек их внезапно в определенную форму. В один пасмурный день Билл шатался (как он рассказывал потом Эмиасу) по набережной Байдфорда, когда подошел Солтерн. Карри избегал его раньше отчасти из деликатности, отчасти из неприязненного отношения к его предполагаемому жестокосердию. Но на этот раз они встретились лицом к лицу, и Карри не мог пройти мимо, не заговорив с ним. – Ну, мистер Солтерн, как подвигается морская торговля? – Подвигалась бы достаточно хорошо, сэр, если бы кто-нибудь из вас, молодых, последовал примеру мистера Лэя и отправился искать за нас, остающихся дома, новых рынков для наших изделий. – Что? Вы хотите избавиться от нас, а? – Не знаю, зачем мне этого хотеть, сэр. Нам не придется теперь столкнуться, как некогда могло случиться. Но если бы я был на вашем месте, я уже сейчас был бы в Индии, если б не сражался где-нибудь ближе к дому. – В Индии? Вряд ли бы мне удалось ремесло Дрейка. На этом беседа прервалась, но Карри не забыл намека. – Одним словом, брат, – сказал он Эмиасу, – если ты собираешься принять предложение старика, я тоже последую с тобой за бедой иль победой. Если она с ним, мы найдем их в Ла-Гвайре. – А если их там нет, Билл, найдутся корабли с драгоценными грузами, и стыдно нам будет, если мы вернемся домой с пустыми руками. – Только помни, если мы поедем, мы должны взять с собой Джека Браймблекомба, не то он пронзит себя оленьим рогом. – Джек непременно поедет. Никто не заслуживает этого больше, чем он. Затем последовало длинное совещание по практическим вопросам, и было решено, что Эмиас поедет в Лондон навестить Фрэнка и свою мать, прежде чем предпринять какой-либо дальнейший шаг. И на следующее утро Эмиас отбыл в Лондон.Глава XIV Как появился славный корабль «Рози»
Возьмем лодку у лестницы Уайтхолла, как сделал Эмиас, и проскользнем впереди него под старый лондонский мост и дальше к набережной Дартфорда, где стоит как бы набальзамированный знаменитый корабль «Пеликан», на котором Дрейк совершил плавание вокруг света. Корабль стоит на суше, на поросшем травой берегу Темзы, выставленный напоказ, а сверх того служит обеденным залом для веселых компаний из Сити. Одна из таких компаний находится сегодня на борту. Мэр дает обед группе людей, интересующихся открытием новых стран. Здесь были богатые купцы – искатели приключений, отважные мореплаватели и среди них наши старые знакомые – адмирал Винтер, капитан Рэли и Фрэнк Лэй. В это время слуга докладывает, что там снаружи высокий джентльмен желает говорить с сэром Вальтером Рэли. – Веди его сюда, малый! Эмиас вошел и в раздумье остановился у двери. – Капитан Лэй! – вскричало полдюжины голосов. – Почему вы не вошли, сэр? – спросил один из присутствующих. – Вы достаточно хорошо должны знать дорогу среди этих палуб. – Достаточно хорошо. Но, джентльмены, вы простите меня. – И он бросил на Рэли взгляд, значение которого тот сразу понял. Побледнев как смерть, он встал и последовал за Эми-асом в соседнюю каюту. Они пробыли там вместе пять минут, а затем Эмиас вышел один. В немногих словах он рассказал всему обществу грустную историю о смерти брата Рэли, Гомфри Джильберта. Рэли вернулся через несколько минут, но был молчалив и скоро вышел позвать ялик, сделав Эмиасу знак следовать за ним. Фрэнк поехал за ними на другой лодке. Эмиас и Фрэнк вместе с матерью стояли во дворце у окна, выходящего на реку, говорили о различных вещах и внимательно смотрели на лица друг друга при свете умирающего дня, так как три года прошло с тех пор, как они виделись в последний раз. Длинные локоны Эмиаса были срезаны, но в вознаграждение за их потерю подбородок был покрыт густой золотистой бородой; его лицо потемнело от солнца и бурь; длинный шрам, трофей боя, перерезал его правый висок; его громадная фигура приобрела ширину, пропорциональную ее вышине, а его рука, лежавшая на подоконнике, была жестка и массивна, как рука кузнеца. Фрэнк положил на нее свою. Эмиас посмотрел и испугался контраста – так слабы, бескровны, прозрачны были тонкие пальцы придворного. Эмиас беспокойно заглянул в лицо брата. Конечно, оно изменилось с тех пор, как они виделись в последний раз. Сверкающий румянец еще сиял на щеках, но белизна поблекла и затуманилась; губы были бледны, черты лица заострены; глаза горели неестественным огнем; а когда Фрэнк заметил, что Эмиас постарел, Эмиас не мог удержаться от мысли, что это замечание было гораздо более верно в отношении самого говорившего. Стараясь закрыть глаза перед неизбежностью, Эмиас продолжал свою болтовню, спрашивая название одного здания за другим. – Итак, это древняя матушка Темза? – Да, ее берега очень хороши, но, видишь, она не может остановиться, чтобы взглянуть на них. Она стремится к морю, а море – в океан, а океан – вперед на запад. Все движется на запад. Быть может, мы когда-нибудь двинемся сами по той же дороге, Эмиас. – Что ты хочешь сказать? – Только то, что океан следует изначальному движению и всегда течет с востока на запад. Что может быть странного в моих мыслях об этом, когда я только что вернулся с праздника, где мы пили за успех движения на запад? Разве не запад – страна покоя и грез? Эта страстная тяга на запад заложена в глубине человеческой души. Я не жалею никого из бежавших туда, за отдаленнейшие моря. – Не жалеешь никого из бежавших туда? – спросил Эмиас. Фрэнк пытливо посмотрел на него, а затем ответил: – Нет. Если бы я и жалел кого-нибудь, то только тебя, так как ты, кажется, устал от путешествий на запад. – Значит, ты хотел бы, чтобы я туда поехал? – Не знаю, – промолвил Фрэнк после минутной паузы, – но я должен рассказать тебе теперь, я полагаю, то, что случилось в Байдфорде, где… – Пощади нас обоих, Фрэнк, я все знаю. Я был в Байдфорде и приехал сюда не просто повидать тебя и мою мать, но спросить твоего совета и ее разрешения. – И взять меня с собой? – Дорогой мой, один месяц путешествия убьет тебя. Фрэнк улыбнулся и свойственным ему движением склонил голову набок. – Я принадлежу к школе Фалеса[359], который утверждает, что жизнь зародилась в океане. Меня не пугает мысль вернуться в его лоно. – Хорошо было бы, – сказала мать, – если бы я тоже могла отправиться с вами и разделить вашу участь. Послушай, – продолжала она, кладя голову на грудь Эмиаса и с улыбкой заглядывая в лицо ему, – я слышала и раньше о героических матерях, которые шли в битву со своими сыновьями и ободряли их к победе. Почему не могу я отправиться с вами с более мирной целью? Я могла бы ухаживать за больными, если кто-нибудь заболеет. Наконец я смогу чинить и стирать для вас. Я полагаю, на море не труднее играть роль хорошей хозяйки, чем на берегу? Возьми меня! Эмиас переводил взгляд с одной на другого. – Матушка! Вы не знаете, о чем просите. Я не хочу, Фрэнк, брать тебя с собой. Это более суровое дело, чем кто-либо из вас может себе представить. Дело, которое должно быть сделано огнем и мечом. – Почему? – воскликнули оба в ужасе. – Я должен платить своим матросам и своим товарищам, искателям приключений, и должен платить им испанским золотом. И, больше того, как могу я отправиться в Испанское море из-за своей личной ссоры, если я не буду в то же время бороться с врагами моей родины? – Неужели и Фрэнк тоже так думает? – произнесла миссис Лэй наполовину про себя. Но ее сыновья поняли, что она хочет сказать. Воинственную жизнь Эмиаса она приняла как грустную необходимость. Но чтобы и Фрэнк также сделался человеком крови – с этим ее сердце не могло примириться. Слишком ужасным казалось соединение его ума с ужасами и резнею войны. И, хватаясь за последнюю надежду, она ответила: – Наконец Фрэнк должен спросить разрешения королевы, и, если она разрешит, как могу я противоречить? На этом беседа грустно оборвалась. Разрешение Фрэнк получил. Мать с сыновьями вернулись в Байдфорд и принялись за работу. Фрэнк закладывал ферму. Билл Карри делал то же (ему осталось от матери небольшое имущество). Старый Солтерн снарядил прекрасный корабль в двести тонн и, сверх того, дал пятьсот фунтов на его оборудование. Миссис Лэй день и ночь готовилась. Эмиасу нечего было дать, кроме своего времени и своих мозгов, но, как сказал старый Солтерн, без этого все остальное было бы им ни к чему. День за днем Эмиас и старый купец являлись на корабль, наблюдая собственными глазами за установкой каждой снасти и каждого паруса. Карри занимался набором рекрутов и оказался благодаря своим шуткам и щедрости лучшим из вербовщиков. В то же время Джек Браймблекомб вне себя от радости ковылял за ним из таверны в таверну, с одной набережной на другую и так горячо проповедовал, что Эмиас мог заполучить полтораста забубенных голов в первые же две недели. Но Эмиас лучше знал, что ему нужно. Он твердо решил не брать никого, кроме испытанных людей; и, потрудившись как следует, он их раздобыл. Лишь одного повесу принял Эмиас в свою команду. Звали его Парракомб. Он был школьным товарищем Эмиаса и сыном байдфордского купца. Это был один из тех людей, которые «не бывают врагами никому, кроме самих себя». Красивый, ленивый, неглупый малый, он употреблял приобретенные им в школе поверхностные познания преимущественно на сочинительство песенок. Пропив все, что было ценного в доме, он в припадке раскаяния проклял пьянство и замучил Эмиаса просьбами взять его в море. Впоследствии он сделался таким же хорошим матросом, как все остальные, но жестоко скандализировал Джека Браймблекомба всевозможными еретическими рассуждениями. Однажды, вскоре после того, как Эмиас согласился дать этому старому товарищу место на корабле, Эмиаса, направлявшегося по делам в Аппельдор, остановили у дверей маленькой гостиницы «Привал моряков». Его просили извлечь оттуда бедного Билла Парракомба, который (несмотря на свою клятву) напился и буянил, угрожая смертью хозяйке и всей ее родне. Эмиас вытащил его за шиворот и повел домой в Байдфорд. По дороге Билл рассказал ему длинную и запутанную историю. Какой-то бродячий цыган встретил его сегодня утром на песках близ Боазиса, предложил погадать ему и предсказал ему много денег и почестей; потом заманил его в «Привал моряков» и стал играть с ним на выпивку, при этом Билл все время выигрывал и, разумеется, сейчас же пропивал свой выигрыш. Затем бродяга начал задавать ему всякие вопросы относительно предполагаемого путешествия «Рози», и на многие из них, признался Билл, он ответил, прежде чем распознал намерение молодца, после чего тот предложил ему большую сумму денег, чтобы он сделал какую-то отчаянную гадость, но какую именно – убить ли Эмиаса, или проткнуть дно славного корабля «Рози», или поджечь Торридж посредством черной магии – он не помнит. Эмиас счел три четверти этой истории пьяным вымыслом и удовлетворился, добившись приказа о смещении хозяйки за укрывательство бродяг цыган, что было тогда тяжким преступлением, ибо одежда цыган была излюбленной маской иезуитов и их лазутчиков. Она, разумеется, утверждала, что никакого цыгана не было. При этом Эмиас воспользовался случаем спросить, что стало с подозрительным папистским конюхом, которого он видел в «Привале моряков» три года тому назад. К своему удивлению, он узнал, что этот конюх исчез в день отъезда дона Гузмана из Байдфорда. Очевидно, тут скрывалась какая-то тайна, но ничего определенного нельзя было доказать. Хозяйка была уволена с выговором, а Эмиас, сильно выбранив Парракомба, скоро забыл всю эту историю. Во всяком случае, Парракомб не мог рассказать цыгану (если таковой существовал) ничего важного, так как основная цель путешествия (как было принято в те времена из страха перед иезуитами) тщательно сохранялась втайне самими искателями приключений, и, исключая Иео, никто из команды не подозревал, что корабль идет в Ла-Гвайру. А Сальвейшин Иео? Сальвейшин на несколько дней почти взбесился от внезапной надежды отправиться на поиски своей малютки. Но у старика была практическая сметка, и он настоял, чтобы его послали в Плимут найти матросов. – Там есть много людей со старого «Пеликана» и с «Миньоны» капитана Хаукинса, которые знают Индию так же хорошо, как и я, и мечтают туда вернуться. Там есть Дрю – он лучший штурман Западного края. Вы обещали ему взять его с собой в первое же ваше плавание. Иео уехал в Плимут и вернулся с Дрю и двадцатью старыми морскими волками. Один взгляд на их лица, когда Иео гордо ввел их в «Корабельную таверну», показал Эмиасу, что они – из того материала, какой ему нужен. В лице этих людей вместе с четырьмя молодцами из Северного Девона, ходившими с ним вокруг света на «Пеликане», Эмиас получил запасную силу, на которую мог положиться в беде. А что беда может случиться, он хорошо понимал. 15 ноября 1583 года от набережной Байдфорда отошел по направлению к Аппельдорскому пруду высокий корабль «Рози» с сотней людей на борту, с обильным количеством говядины, свинины, сухарей и доброго эля (в то время в море всегда брали эль), с четырьмя кулевринами на верхней палубе и с таким количеством мушкетов, пищалей, луков, копий и мечей, что, по общему мнению, никогда еще не выходил из гавани корабль, который был бы так хорошо снаряжен.Глава XV Как они пристали к Барбадосу и никого там не нашли
Земля! Земля! Земля! Да, там, далеко на юго-западе, подле заходящего солнца, была земля – длинная синяя полоса, отделяющая пурпурное море от золотого неба. Наконец земля со свежей водой, охлаждающими плодами и свободным пространством для скрюченных, искалеченных цингою людей. И здесь же может быть золото, золото и драгоценные камни и все богатства Индии. Кто знает? Почему бы и нет? Старый мир действительности и прозы остался на тысячу миль позади, а впереди и вокруг было царство чудес и сказок, бесконечных надежд и возможностей. Прошло несколько минут, радуга заката поблекла. Изумруды и топазы, аметисты и рубины сменились серебристо-серым полусветом. Еще немного, и, властвуя над морем, сквозь темную сапфировую глубину поднялась луна. – Это должен быть Барбадос, ваша милость, – сказал Дрю, штурман, – если только мои вычисления меня не обманывают. – Барбадос? Я не слыхал о нем. – Очень возможно, сэр. Но Иео и я были здесь с капитаном Дрейком, а я был еще после того с капитаном Барлоу. Здесь на юго-западе, мне помнится, есть хорошая гавань. – И никаких испанцев, каннибалов и диких зверей, – сказал Иео. – Настоящий сад лежит посреди моря. Я слышал, как капитан Дрейк говорил, что следовало бы заселить его. – Теперь я припоминаю, – ответил Эмиас, – что он говорил о каком-то острове в этих местах. Ну что вы скажете, друзья? Самое лучшее, что мы можем сделать, это провести здесь несколько дней и дать нашим больным поправиться, прежде чем мы достигнем Испанского моря и примемся за работу. Решение было объявлено и радостно принято командой. Почти до самого рассвета они плыли вдоль южного побережья острова и нащупывали дорогу в бухту, где ныне стоит Бриджетстаун. Все глаза были пристально устремлены на низкие лесистые холмы, залитые лунным светом, усыпанные миллионами танцующих звезд – огненных мух. Все ноздри жадно впивали душистый запах, который несся с земли, сотканный из ароматов тысячи цветов. Все уши радостно слушали после однообразного журчания волн жужжание насекомых, шорох листвы и жалобные крики береговых птиц, наполняющие тропическую ночь шумной жизнью. Наконец корабль остановился, канат прогремел через клюз[360]. А затем все позабыли о том, что на острове могут быть испанцы или туземцы, – из каждой груди инстинктивно вырвалось «ура». Бедному Эмиасу стоило большого труда отговорить матросовнемедленно ехать на берег: они хотели высадиться, несмотря на темноту и несмотря на то, что до утра оставалось всего лишь два часа. Наконец встало солнце, и его горизонтальные лучи заблестели на гладких стволах пальм, переломились радугой сквозь пену на коралловых рифах и далеко позолотили пустынное плоскогорье. Длинная вереница пеликанов с криком полетела к морю. Жужжание насекомых усилилось. Тысяча птиц разразилась ликующими песнями. Легкий голубой туман пополз вверх и исчез, сменившись ослепительным светом. Береговой ветер, который всю ночь освежающе дул на море, замер в неподвижном покое, и тропический день начался. Больных подняли наверх и, погрузив на лодки, перевезли на землю, чтобы дать им возможность вытянуться в тени широколиственных пальм. Через полчаса вся команда рассыпалась по берегу, за исключением дюжины достойных малых, которые добровольно вызвались держать вахту и охранять корабль до полудня. Первый инстинктивный вопль был: – Плодов! Плодов! Плодов! Больные переползали с места на место, жадно обрывая фиолетовые гроздья с вьющихся по берегу виноградных лоз. Они измазали себе рты и искололи губы колючими грушами. Здоровые начали рубить кокосовые деревья, чтобы достать орехи, но только иступили свои топоры. Наконец Иео и Дрю собрали полдюжины разумных людей, отправились в глубину острова и вернулись через час, нагруженные самыми вкусными плодами этого первобытного фруктового сада – терпкими гранатами, приторно сладкой гуавой и роскошными ананасами, этими лучшими из плодов, сотни которых валялись и жарились на солнце на низких туфовых скалах. Затем все уселись на песке, пренебрегая опасностью, и, разделив добычу на равные доли, устроили пир. Фрэнк бродил взад и вперед; Эмиас шел за ним, со ртом, набитым ананасами, и с покровительственным видом изображал человека, которому уже знакомы все эти чудеса и который уже не удостаивает их вниманием. – Ново, ново, все ново! – говорил Фрэнк. – О, ужасное чувство! Все меняется вокруг нас, самые крошечные мушки и цветы, лишь мы все те же, навеки те же! Эмиас, для которого подобный язык был загадочен и непонятен, ответил: – Смотри, Фрэнк, вот колибри. Ты слыхал о колибри? Фрэнк взглянул на живую драгоценность, которая с громким жужжанием висела на каком-то фантастическом цветке, переливая всеми цветами радуги при каждой перемене освещения. – В море больше рыб, чем когда-либо можно увидеть, и я уверен, что в мире больше чудес, чем можно себе представить. Я никогда не был в этих местах. А в Южных морях, должен признаться, я никогда не встречал ни сирен, ни тритонов, хотя Иео и говорил, что слышал прекрасную музыку, несущуюся ночью из залива, очень далеко от земли. Посмотри на бабочек. Не хочется ли тебе снова стать мальчиком и попробовать наловить их в шляпу? И братья пустились в странствие по пышному тропическому лесу, а затем вернулись на берег, где нашли больных уже поправившимися. Многие из тех, кто утром не мог подняться с койки, теперь гуляли и с каждым шагом становились крепче. – Правильно, молодцы, – крикнул Эмиас, – держитесь веселее! После обеда мы устроим музыку на берегу, так как нет сирен, чтобы петь нам. Кто захочет, сможет танцевать. Так прошли четыре дня. И взрослые люди, как школьники в праздник, предавались незатейливым развлечениям, не забывая, однако, выстирать одежду, взять свежую воду и набрать хороший запас тех фруктов, которые казались годными для хранения. Матросы, устав от бесплодных поисков золота, которое они надеялись найти в каждой расщелине, несмотря на предупреждения Иео, что никакого золота на этом острове нет, – стали слоняться без дела. Эти большие дети набивали карманы раковинами и морскими диковинками, чтобы привезти домой своим возлюбленным; с шумом и смехом выкуривали агути из дуплистых деревьев и мучили всякое подвернувшееся под руки живое существо. Наконец они благополучно выбрались из гавани и вновь пустились в путь на запад.Глава XVI Как они раздобыли жемчуг на Маргарите
[361] Ночью корабль обогнул южный берег Гренады[362] и наконец очутился в том прекрасном кольце островов, где природа сосредоточила все свои красоты. Если в глазах этих новых пришельцев даже Барбадос был облечен необыкновенной славой, насколько более славными должны были им казаться моря, куда они теперь входили. Моря улыбчивые, почти всегда спокойные, не тронутые ураганом, который бушевал далеко к северу. Небо, море и острова были одной сплошной радугой. Даже грубые матросы, чьи мысли были заняты испанским золотом и жемчугом; даже Эмиас, привыкший к зрелищу тропиков и беспрестанно думавший об истреблении испанцев и присоединении Вест-Индии к владениям Англии, – не могли не испытывать восхищения при виде этих земель, вокруг которых сосредоточились все чудеса, вся зависть и вся алчность века. Страшила и возбуждала мысль, что они попали в область, совершенно неведомую англичанам, где наказание за проступок может быть хуже смерти – мучения инквизиции. Быть может, не более пяти раз заходили английские суда в эти таинственные воды; но на корабле были люди, которым они были хорошо известны. У старых моряков с «Пеликана» и «Миньоны» целый день спрашивали названия каждого острова и мыса, каждой птицы и рыбы. На следующий день они плыли вдоль северного берега острова, незаметно проскользнув мимо укрепления, которое испанцы воздвигли на восточном побережье для охраны жемчужных промыслов. Наконец они увидели глубокую и спокойную бухту, заросшую лесом до самой воды. На рейде стояла каравелла и подле нее три лодки. При этом зрелище все сразу высыпали на палубу, и каждый спешил высказать свое мнение о том, что следует предпринять. Большинство настаивало на том, чтобы плыть прямо в бухту, так как ветер дул по направлению к берегу. Тем не менее, заметив, как разбиваются волны в некоторых местах у входа в бухту, и опасаясь подводных камней, Эмиас решил подойти сначала ближе, а затем послать внутрь бухты лодку. Дойдя до намеченного места, лодки спустили. Карри с двадцатью матросами поместились в большой лодке, а Эмиас с еще пятнадцатью – в другой, поменьше. Среди последних был Джек Браймблекомб со старым мечом своего дяди. Он очень гордился этим мечом. У входа в бухту они увидели, как и ожидали, множество коралловых рифов, так что им пришлось долго плыть вдоль стены кораллов, прежде чем они нашли проход для лодки. В то время как они шли, внизу внезапно появился, как выражался Иео, «выводок акул». Многие из них были почти одной длины с лодкой и жадно смотрели вверх своими злобными хмурыми глазами. – Джек, – сказал Эмиас, сидевший рядом с ним, – смотри, как эта большая штука уставилась на тебя: она, наверное, мечтает о твоей жирной шкуре и думает, что твое мясо нежно, как мясо новорожденного поросенка. Джек сильно побледнел, но ничего не ответил. Пройдя через рифы, они с попутным ветром вошли в бухту. Каравелла была от них теперь не дальше мушкетного выстрела. Карри пристал к ней прежде, чем испанцы успели добежать до своих пушек, и, стоя на носу лодки, громко предложил им сдаться. – Чьим именем он приказывает? – смело спросил его капитан. – Именем здравого смысла! – крикнул Карри. – Разве вы не видите, что вас всего пятьдесят против наших двадцати? Затем Билл вскарабкался на борт, и капитан выстрелил в него из пистолета. Карри свалил его на палубу, не желая проливать кровь, после чего экипаж сдался, некоторые упали на колени, другие попрыгали в воду. Добыча была поймана. Тем временем Эмиас обогнул каравеллу и причалил ко второй от нее лодке, так как первая была пуста и, следовательно, была верным призом. Испанцы с той лодки, к которой подошел Эмиас, сдались без единого удара, негры бросились в воду и поплыли к берегу. В это время третья лодка, которая находилась примерно на расстоянии весла, повернула, чтобы удрать. При этом случилось замечательное происшествие. Джек Браймблекомб мечтавший, как бы отличиться в этот день, зацепил эту лодку абордажным крюком и пытался влезть на ее корму с криком: – Стойте вы, паписты, стойте! Как и следовало ожидать, – их было десятеро против одного, – его тотчас столкнули за борт, и, выпустив крюк, он шлепнулся в море. Охваченный паническим ужасом (его живое воображение населило все море ужасными акулами, которых он видел), Джек зарычал от страха. Ему не пришло в голову влезть обратно в свою лодку, и он храбро поплыл за испанцами – в надежде ли схватиться за конец крюка, который волочился за лодкой, или в припадке безумной храбрости, – никто не мог решить, – но он продолжал плыть, озираясь, как большая черная обезьяна. – Стойте, испанские собаки! Помогите, добрые люди! Разве вы не видите, что я погибший человек! Они уже отъели мне пальцы на ногах! Они схватили мою ногу! У меня уже нет правого бедра! Я не Иона![363] Если они меня проглотят, я никогда уже не вернусь обратно! Лучше попасть в руки людей, чем в лапы дьявола с тремя рядами зубов! И так кричал он до тех пор, пока англичане, каждую минуту ожидавшие, что славного Джека сцапают акулы или хватит по голове вражеское весло, выпустили залп в беглецов, после которого они все бросились за борт. Джек вскарабкался в лодку и, рассекая воздух мечом, кричал: – Сдавайтесь! Сдавайтесь, испанские собаки! Немного спустя, придя в себя и увидев, что ему не в кого вонзить свой девственный клинок, он, задыхаясь, уселся на офицерское место и начал стаскивать штаны. При виде этого Эмиас, в полной уверенности, что добрый малый сошел с ума от солнечного удара или от того, что упал в воду, приказал своим гребцам идти борт о борт с лодкой Джека и спросил: – Что ты делаешь со своими нижними принадлежностями? Джек среди общего смеха стал уверять и клясться, что акулы до кости прогрызли его правое бедро, да – и он чувствует это, – его штаны полны крови. Он лишился бы чувств от воображаемой потери крови, если бы друзья не убедили его, что он цел и невредим. Затем они принялись разбирать свою новую добычу. Лодки были полны шкур и соленой свинины. Но это было не все. В каюте капитана и в офицерской скамье той лодки, которую так храбро взял на абордаж Браймблекомб, оказалось несколько корзин, искусно сплетенных из листьев. Корзины были полны прекрасного жемчуга. Они уехали довольные этим трофеем. На следующий день, заметив рядом отлогий берег со струей чистой воды, бегущей в море, Эмиас решил, что им следует здесь высадиться, выстирать одежду и запастись водой, так как почти с самого Барбадоса они не встречали свежей воды. В этом походе пожелал принять участие Джек Браймблекомб, взявший с собой свой меч и большой аркебуз. Ему снилось прошлую ночь (объяснил он), что на него напали испанцы; он уверял, что его сон оправдается и что он очень беспокоится, вернется ли живым или нет. Итак, они высадились на берег, причем Эмиас отдал строгое распоряжение не пускать в ход огнестрельного оружия, чтобы не переполошить испанцев. На берегу матросы выстирали одежду и с удовольствием размяли ноги, восхищаясь красотой места. Затем они принялись за работу и, вытащив лодку к истоку речушки, стали наполнять бочки. Джек Браймблекомб, лишь только они высадились, с пристыженным и страдальческим видом отошел в сторону. Усевшись под большим деревом, он вытащил из-за пазухи книгу и стал внимательно читать. Он был опоясан мечом, а аркебуз лежал возле него. И то и другое было хорошо для него и для остальных. Не успели они набрать воды, как раздался крик: «Испанцы, испанцы!» Из лесу, на расстоянии не более двадцати шагов от Браймблекомба, вышли человек пятьдесят с мушкетами. Позади них бежало множество негров, а впереди ехал верхом офицер с большим пером на шляпе и обнаженным мечом в руках. – Вставайте, если хотите остаться в живых! – закричал Эмиас, и как раз вовремя, так как добрых десять минут было потеряно в беганье взад и вперед, прежде чем ему удалось привести своих людей хоть в какой-нибудь боевой порядок. Но когда Джек заметил испанцев, он, словно ожидая нападения, сорвал лист, вложил его в свою книгу, чтоб отметить страницу, хладнокровно положил книгу на землю, поднял свой аркебуз, подбежал, как бешеная собака, прямо к капитану и прострелил его насквозь, затем, швырнув аркебуз в голову ближайшего солдата, продолжал драться одним мечом, пробиваясь среди аркебузов и нанося направо и налево такие ужасные удары, что враги в беспорядке отступили. Пять или шесть раз они выстрелили в Джека, но из страха перед ним или из опасения ранить друг друга стрелявшие так плохо целились, что только один раз ему слегка оцарапало бедро. Однако с той же скоростью, как испанцы отступали, Джек наступал. Тем временем подбежали остальные, всего около сорока хорошо вооруженных человек. Увидев их, испанцы повернули и быстро удалились. – Джек, вернись, ты с ума сошел! – кричал Эмиас. Но Джек, который за все это время не произнес ни слова, все с той же яростью преследовал врага, пока не зацепился ногой за какой-то пень. Он упал, ударился головой о землю, окончательно задохнулся (при его толщине да еще во время боя дышать было не так-то легко) и остался лежать. Эмиас, увидев, что испанцы ушли, не нашел нужным их преследовать. Он поднял Джека, который, вытаращив глаза, кричал: – Слава богу! Слава богу! Сколько я убил? Сколько я убил? – Девятнадцать по меньшей мере, – промолвил Карри, – семерых одним ударом, – и показал Браймблекомбу мертвых капитана и двух аркебузиров и, кроме того, еще двух или трех раненых. Некоторые из них были ранены выстрелами своих же товарищей. – Ну, – сказал Джек, помолчав и отдышавшись, – будете вы теперь смеяться надо мной, мистер Карри, или говорить, что я не умею сражаться потому, что я сын пастора? Карри взял его за руку и попросил прощения за свои насмешки. Джек, который долго не помнил зла, в свою очередь рассмеялся: – О, Карри, мы все привыкли к вашим шуткам с тех самых пор, как вы имели обыкновение пускать пчел ко мне в пюпитр в байдфордской школе. Затем все вернулись к лодкам, и вся команда приветствовала Джека, который вскоре сильно ослабел (потеряв много крови и не заметив этого); но он столь же мало придавал значения своей действительной ране, как накануне воображаемой. Они привезли с собой меч убитого офицера (прекрасный клинок) и большую золотую цепь, которую тот носил вокруг шеи. И то и другое было присуждено Браймблекомбу как боевая награда.Глава XVII Что случилось в Ла-Гвайре
Матросы с радостью поохотились бы еще вокруг «Маргариты» за новой партией жемчуга, но Эмиас, «накормив своих собак», как он выражался, не имел ни малейшей охоты кружиться среди островов, после того как была поднята тревога. Англичане направились на юго-запад через устье большой бухты, что лежит между полуостровом Парна и мысом Кодера, оставив по правую руку Тортугу, а по левую – покрытые лугами острова Пиритоа. Иео и Дрю знали каждую пядь этого пути, так как они с Хаукинсом были первыми английскими моряками, посетившими эти берега. Прямо над головой, словно выходя из моря, поднималась величественная гряда Каракасских гор. По сравнению с ними все возвышенности, которые когда-либо до сих пор приходилось видеть большинству экипажа, казались игрушечными холмиками. Вскоре море стало изменчивым и бурным, хотя ветер продолжал быть легким и ласковым. И, прежде чем подойти к самому мысу, путешественники познакомились с сильным течением на восток, которое в зимние месяцы так часто сбивает с пути моряков, держащих курс на запад. Утром они увидели большой корабль, который ночью прошел мимо них в противоположном направлении и теперь был на расстоянии добрых десяти миль к востоку. Иео уговаривал вернуться и атаковать его, но Фрэнк и Эмиас не согласились, так как это еще на день задержало бы их вдали от Ла-Гвайры. И они продолжали свой путь на запад. Около полудня к ним подошло качающееся каноэ под огромным треугольным парусом. Когда лодка подошла ближе, англичане обнаружили в ней двух индейцев. – Металл не тонет в этих водах, видишь, – заявил Карри, – вот новое чудо для тебя, Фрэнк. – Объясни, – промолвил Фрэнк, который готов был проглотить любое новое чудо. – Как иначе посмели бы эти две бронзовые статуи пуститься в море в такой скорлупке? Понял, господин придворный? – Я уже давно понял, Билл, что это за смелые создания, так бесстрашно плывущие борт о борт с нами. – Я подозреваю – они приняли нас за испанцев и хотят продать нам орехи какао. Видишь, их каноэ полно плодов. – Окликни их, Иео, – сказал Эмиас, – ты прекрасно говоришь по-испански, а я хочу потолковать с одним из них. Иео исполнил просьбу. Каноэ бесшумно плыло борт о борт с кораблем, спустив свой парус; тем временем великолепный индеец, как кошка, вскарабкался на борт. В нем было полных шесть футов роста, и держался он смело и грациозно. Он посмотрел вокруг с улыбкой, показывая свои белые зубы; но тотчас же его поведение изменилось, и, прыгнув в сторону, он крикнул своему товарищу по-испански: – Измена! Не испанцы! – и хотел броситься за борт, но дюжина сильных молодцов схватила его прежде, чем он успел это сделать. Нелегко было держать индейца, так он был силен и так скользки были его обнаженные члены. Между тем Эмиас одновременно уговаривал матросов не обижать индейца, а индейца – успокоиться, так как ему не причинят никакого вреда. После пятиминутной борьбы чужестранец подчинился. – Не надо вязать его. Оставьте его на свободе и окружите его кольцом. Теперь, мой друг, вот тебе доллар[364]. Глаза индейца блеснули, и он взял монету. – Я хочу от тебя, во-первых, чтобы ты сказал мне, какие корабли стоят в Ла-Гвайре, во-вторых, чтобы ты сопровождал меня туда и указал мне дом губернатора и таможню. Индеец положил монету на палубу и посмотрел Эмиасу в глаза. – Нет, сеньор, я – свободный человек, и я ничего не скажу врагам. Ропот поднялся среди той части матросов, которая поняла его; и многие стали намекать, что веревка вокруг головы или щепка между пальцев быстро вытянули бы из него нужные сведения. – Нет, – сказал Эмиас. – Он храбрый и верный человек, и я буду с ним обращаться так, как он заслуживает. Скажи мне, храбрый малый, как ты узнал в нас врагов? Индеец с лукавой улыбкой указал на полдюжины различных предметов, каждый раз приговаривая: – Не испанский. – Хорошо, так что ж из этого? – Никто, кроме испанцев, не имеет права плавать в этих морях. Эмиас рассмеялся: – Так ты, выходит, храбрый парень. Подыми мой доллар и ступай с миром. Пропустите его, молодцы. Мы узнаем то, что нам нужно, и без твоей помощи. Индеец медлил, недоверчивый и изумленный. – Прыгай за борт, – молвил Эмиас. – Разве ты не знаешь, где мы? – Доблестный сеньор, – начал индеец протяжно и торжественно по обычаю своего народа (когда они дают себе труд говорить), – я был обманут. Я слыхал, что вы, еретики, жарите и едите всех верных католиков, таких, как мы, и что у всех ваших патеров есть хвосты. – Подавись ты, бездельник, – пропищал Джек Браймблекомб. – Разве у меня есть хвост? Смотри! – Кто знает? – протянул в нос индеец. – Откуда ты знаешь, что мы еретики? – спросил Эмиас. – Гм!.. Но в благодарность за вашу доброту я хочу предупредить вас: не ходите в Ла-Гвайру. Там стоят военные корабли, которые ждут вас. Более того, правитель дон Гузман только вчера отплыл на восток искать вас. Я очень удивляюсь, что вы его не встретили. – Искать нас! Ждут нас! – воскликнул Карри. – Быть не может, ложь! Эмиас, он надувает нас, чтобы отпугнуть. – Дон Гузман выехал только вчера искать нас? Ты уверен, что говоришь правду? – Клянусь жизнью, сеньор, и с ним еще корабль, за который я и принял ваш. Эмиас взволновался. Значит, это и был корабль, который они пропустили! – Дурак! Быть так близко к врагу и проспать такой удобный случай! Но раскаиваться было слишком поздно, и, сверх того, сообщение индейца могло быть ложным. – Ступай, – сказал Эмиас, и индеец прыгнул за борт в каноэ, заставив весь экипаж удивляться его смелости. Так они плыли вперед на запад под сенью огромной северной стены – высочайшей скалы на земле, камня в семь тысяч футов, отделенного от моря лишь узкой полосой яркой зелени. Там и сям клочок сахарного тростника или пучок какаовых деревьев, растущих у самой воды, напоминали им, что они в тропиках. Но наверху все было дико, сурово и голо, как в каком-нибудь альпийском ущелье. – Среди этих гор, три тысячи футов над нашими головами, – сказал штурман Дрю, – лежит Сантьяго-де-Леон, большой город, который основан испанцами пятнадцать лет тому назад. – Это богатое место? – спросил Карри. – Говорят, очень. – Это доступное место? – спросил Эмиас. – Там нет никаких укреплений. Испанцы говорят, что сама природа создала вокруг него такие хорошие стены, что людям незачем больше стараться. – Не знаю, – промолвил Эмиас. – Как вы думаете, молодцы, осилите вы эти горы? – Они немного выше, чем пик Харти[365], сэр, но это главным образом зависит от того, что за ними. Последний поворот, и вот перед ними то место, ради которого они плыли тысячи миль. Открылась гавань, защищенная батареями, а за нею небольшой город – Ла-Гвайра. Но где же охрана? Здесь ее нет… Открытый рейд, на якорях качаются пять кораблей. Две маленькие каравеллы, а позади них – два длинных, низких безобразных судна, при виде которых Иео громко вскричал: – Если это не галеры, то я святой. А что это за большая штука рядом с ними, Роберт Дрю? Я думаю, она содержит не одни только люки. – Мы увидим, обогнув галеры, – сказал Эмиас. – Взгляни-ка, Карри, твои глаза лучше моих. – Шесть пушек на верхней палубе, – заявил Билл. – И я могу разглядеть желтую медь, которая блестит на корме, – добавил Эмиас. – Билл, мы попали в скверное положение. – В неважное, капитан.Прощайте, прощайте, родные, друзья,
Боюсь, не увидеть мне вас никогда…
Глава XVIII Неравный морской бой и посадка
Когда на следующее утро взошло солнце и тропическая ночь внезапно сменилась тропическим днем, Эмиас в разорванной одежде, с растрепанными волосами и красными от слез и ярости глазами метался по палубе. Голова Эмиаса была полна невыполнимых проектов. Он вернется и сожжет виллу. Он возьмет Ла-Гвайру и отомстит за своего брата. – Мы справимся с ними, молодцы! – воскликнул он. – Если Дрейк взял Номбре-де-Диос, мы сможем взять Ла-Гвайру! – Мы возьмем ее, Эмиас, и еще вытащим Фрэнка! – крикнул Карри, но Эмиас покачал головой; он чувствовал, что все порты Новой Испании не вернут ему любимого брата. – Да, мы отомстим! Смотрите! Вот первая мишень нашей мести. – И он указал в направлении берега. Между ними и ясно видимой теперь вершиной горы появились три судна – не дальше пяти миль с наветренной стороны. – Вот испанские ищейки, которых пустили по нашим следам, – те самые корабли, которые мы вчера выпроводили из Ла-Гвайры. Назад, молодцы, мы приветствуем их, хоть бы их была целая дюжина. Одобрительный рокот раздался вокруг: – Готовьтесь, молодцы, мы поработаем сегодня на славу. И судно поставили в бейдевинд[368]. Эмиас ожил при первых признаках битвы. Он больше не чувствовал ни ран, ни горя. Он суетился на палубе, и не прошло и четверти часа – его голос по-старому стал звучать твердо и весело. – Теперь, – кричал Эмиас, – идите завтракать! Француз сражается лучше всего натощак, немец – когда пьян, а англичанин – с полным желудком. – Идемте вниз, капитан, – добавил Карри. – Вы тоже должны поесть. Эмиас покачал головой, взял румпель[369] из рук рулевого и послал его вниз подкрепиться. Билл Карри через пять минут вернулся с блюдом мяса и хлеба и с большой кружкой эля, впихнул все это Эмиасу в глотку, как нянька ребенку, а затем быстро побежал опять вниз. Эмиас все еще стоял и правил. Его лицо за последнюю ночь постарело. – Здесь три штуки, видите, друзья мои, – сказал Эмиас, когда команда вновь поднялась наверх. – Впереди большой корабль, а за ним две галеры. Большой корабль может долго сопротивляться. Это быстроходное судно, и если только нам удастся его обогнать, мы посмотрим, даст ли наша вышина преимущество перед его длиной. Мы должны пропустить его и захватить сначала галеры. После этого все принялись за работу. И хотя дела было сравнительно мало, так как на корабле всю ночь поддерживали боевой порядок, началась такая чистка палуб, подвязывание абордажных сетей[370], возведение укреплений, оснащение мачт и прочее, что самый педантичный моряк был бы удовлетворен. Эмиас взял на себя заботу о корме, Карри – о передней части корабля, Иео как канонир – о верхней палубе. Дрю как штурман поместился на шкафуте[371]. Все было готово, прежде чем большой корабль очутился на расстоянии двух мушкетных выстрелов от «Рози». На корме его развевался золотой флаг Испании. Его двенадцать медных труб играли вызов. Им бодро ответили две трубы «Рози», на корме которой вздымался английский флаг, несущий на передней части гербы фамилий Лэй и Карри. Как и рассчитывал Эмиас, испанский корабль охотнее всего прошел бы под носом «Рози» и остановился бы по другую сторону; но, боясь быстроты действий противника, он не смел этого сделать из опасения быть обстрелянным бортовым огнем. Поэтому единственное, что ему оставалось (так как сами испанцы не собирались стрелять), – это, имея врага с подветренной стороны, стать в бейдевинд и ждать «Рози» с того же галса[372]. Эмиас про себя рассмеялся. – Подождите еще немного! Можно найти лучший способ убить кошку, чем дать ей захлебнуться сливками. Дрю, все готово? – Эге! И англичане двинулись вперед, быстро приближаясь к испанцам, пока расстояние не сократилось до пистолетного выстрела. – К повороту! И, вывернувшись, как угорь, «Рози» легла на другой галс под самой кормой испанца. Удивленный быстротой маневра, противник минуту размышлял, а затем попытался также сделать поворот, но было слишком поздно, и, пока его малоподвижная громада боролась с ветром, бушприт Эмиаса чуть не срезал его кормовую часть, и «Рози» медленно прошла мимо его кормы на расстоянии не больше десяти шагов. – Теперь, – кричал Эмиас, – стреляйте без разбора! Стреляйте из луков, из мушкетов, все стреляйте! И в одну секунду град простых, цепных ядер и картечи прогнал противника с носа на корму; сквозь клубы белого дыма со свистом помчались пули и смертоносные стрелы; а когда дым рассеялся, золотой флаг, который красовался над головами испанцев, печально волочился по воде. Корабль, потерявший румпель и рулевого, одно мгновение безнадежно сопротивлялся, а затем отдался на волю ветра. На «Рози» поднялся радостный рев. – Хорошо сделано, молодцы из Девона! – воскликнул Эмиас. – Он сдался! – крикнули некоторые, после того как замерло оглушительное «ура». – Ничуть, – возразил Эмиас. – Вперед, рулевые! Пусть себе чинит свои снасти, а мы займемся галерами. «Рози» двинулась вперед и, задолго до того как корабль успел привести себя в порядок, прошла добрых две мили навстречу быстро несущимся прямо на них галерам. Угрожающий вид имели эти два судна, летящие по бурному морю на сорока веслах каждое, выставив из воды длинные, как у меч-рыбы, носы, словно вынюхивающие добычу. Позади этого длинного носа находилось четырехугольное возвышение, наполненное солдатами. Пушки скалили свои жерла из пушечных портов не только по бокам этого возвышения, но и впереди него, в сторону движения галеры, так, чтобы она могла поддерживать беспрерывный огонь против корабля, идущего прямо перед ней. Длинный низкий шкафут был битком набит рабами, по пять, по шесть на каждом весле; в центре между двух скамей медленно прохаживались взад и вперед надсмотрщики с бичом в руках. На шканцах, на корме, всюду были солдаты; солнце весело играло на их доспехах и на стволах их ружей. Приблизившись, можно было ясно слышать щелканье бича и вой, похожий на вой диких зверей, раздающийся в ответ; стук и скрип весел; громкое «ха» рабов, сопровождающее каждый взмах весла, и проклятия и брань надсмотрщиков. Ветер доносил из этой ужасной ямы противный мускусный запах, похожий на запах собачьей конуры, в которой заперта целая свора собак. – Должны ли мы стрелять в рабов? – спрашивали на «Рози». – Щадите их, насколько возможно, но если они будут стараться нас потопить, нам придется стрелять в них. Две галеры подошли одновременно и остановились приблизительно в сорока шагах по бокам «Рози». Эмиас понимал, что уйти от их весел так, как он ушел от парусов большого корабля, невозможно. Бежать от них значило очутиться между ними и кораблем. Эмиас напряг весь ум, как при трудной игре. – Рулевые, поставьте корабль носом к ветру. Мы будем ждать их. Теперь расстояние между «Рози» и галерами не превышало мушкетного выстрела. С «Рози» открыли огонь из пушек, но благодаря сильному волнению нельзя было взять верный прицел. Матросы стояли по местам, не зная, что будет дальше. Эмиас решительно отдавал распоряжения. Испанцы, заметив, что он ждет их, испустили крик радости – не сошел ли с ума англичанин? И обе галеры полным ходом устремились в одну точку, решив врезаться в «Рози» с двух сторон. Они были в сорока шагах, – еще минута, и удар неминуем. Поворот руля, скрип мачт – и «Рози» быстро пошла навстречу галере, подходившей слева. – Дюжина золотых тому, кто уберет рулевого! – крикнул Карри, у которого был свой план. И туча стрел полетела на шканцы галеры. Неизвестно, был ли задет рулевой, но он потерял присутствие духа и удрал. Руль галеры повернул влево, и ее нос без всякого вреда скользнул вдоль борта противника. Долгий тяжелый нажим, потом громкий треск, словно «Рози» медленно перерезала скамьи с гребцами от носа до кормы, швырнув несчастных рабов друг на друга. И прежде чем товарка злополучной галеры успела повернуть, чтобы атаковать врага в его новом положении, с английского корабля был дан одновременно пушечный и ружейный залпы, в ответ на которые раздался душераздирающий вой. – Щадите рабов! Стреляйте в солдат! – крикнул Эмиас, но в горячей схватке было не до различий. Левая галера, поврежденная, но не устрашенная, обошла вокруг, став по другую сторону кормы «Рози», и угрожающе набросила абордажный крюк. Это движение было скорее храбрым, чем мудрым, потому что оно помешало второй галере возобновить атаку, не подвергая себя вторично английскому залпу. Отчаянная попытка испанцев взять врага на абордаж сразу с кормы и со шканцев была встречена порцией огня и железа; и через три минуты нападающие снова очутились на корме галеры, сопровождаемые Эмиасом Лэем и двадцатью матросами, вооруженными мечами. Пять минут жестокой схватки один на один, и корма была очищена. Солдаты с переднего укрепления не могли оказать никакой помощи своим товарищам, не имея прикрытия от стрел и пуль, несущихся с высокой кормы «Рози». Эмиас бросился вдоль центрального шкафута и, крича по-испански: «Свобода рабам! Смерть господам!», вскарабкался на переднее укрепление. Еще через три минуты на борту не осталось ни одного испанца, кроме мертвых и умирающих. – Освободите рабов! – кричал Эмиас. – Бросьте нам сюда молоток, ребята! Слушайте! Это английский голос! Да, в самом деле, из отвратительной груды обломков, разбитых весел и оторванных конечностей чей-то голос взвыл к штурману, который смотрел сверху: – О, Роберт Дрю! Роберт Дрю! Спустись и вытащи меня из этого ада! – Кто ты? – Разве ты не помнишь Виллиама Пруста, которого капитан Хаукинс оставил в Гондурасе много лет тому назад? Нас здесь девять человек, если только ваши выстрелы не освободили их от всех горестей. Спустись, если у тебя есть сердце, спустись! Забыв всякую дисциплину, Дрю прыгнул вниз с молотком в руках, и два старых товарища бросились в объятия друг друга. Стоит ли долго рассказывать о том, что было сделано в пять минут? Девять человек (к счастью, никто из них не был ранен) были тотчас же освобождены; им помогли взойти на корабль, где их ждали объятия и поцелуи старых товарищей. Остальных рабов снабдили молотками и предложили им самим освободить себя. Несчастные ответили ликующим криком. Эмиас, очутившийся снова в безопасности на своем корабле, ринулся в погоню за второй галерой, которая унеслась за пределы досягаемости его пушек. Но оказалось, что из-за нее не стоило беспокоиться: она беспомощно боролась с ветром, лежа на боку, и, казалось, готова была потонуть. Тогда англичане принялись чинить собственные повреждения. Между тем освобожденные рабы, переменив часть весел, изо всех сил стали грести, чтобы догнать вторую галеру, – и так успешно, что через десять минут они поддели ее на крючья, пренебрегая стрельбой испанцев, всей массой с диким воем взяли ее на абордаж. Рабы жестоко отомстили своим мучителям, несмотря на мужество тех. Тем временем на «Рози» половина экипажа кормила, одевала, расспрашивала и ласкала девять спасенных от медленной смерти. Их история не внушила экипажу особенно добрых чувств к испанскому судну, которое находилось на расстоянии двух миль от них с подветренной стороны. Предстояло вступить в бой и с этим кораблем или удрать от него в течение ближайшей четверти часа. Едва палубы были заново вычищены, а повреждения по возможности исправлены, как неприятель подошел и стал с подветренной стороны параллельно с «Рози» так близко, как только возможно. Это был длинный корабль с ровной палубой, вместимостью пятьсот тонн, размером превышающий «Рози» больше, чем вдвое, хотя меньших пропорций. Много сердец сильно забилось, когда он весело начал готовиться к стрельбе, решившись утопить в английской крови позор своего недавнего поражения. – Ничего, друзья мои, – сказал Эмиас, – на его стороне количество, зато на нашей – качество. – Это верно! – заметил кто-то. – Одна кулеврина стоит трех их маленьких пушек. – Мы справимся с ним, капитан, – сказал другой. – Дайте им подойти к нам вплотную и берегите порох. Ветер с нашей стороны, и мы сможем сделать с ними все, что нам заблагорассудится. Повар, обнеси всю команду элем, и не спешите, ребята. Подождав еще пять минут, англичане принялись за дело. Эмиас, пользуясь тем, что ветер был с его стороны, поставил свой корабль так, чтобы противник оказался прямо под обстрелом двух его восемнадцатифунтовых кулеврин[373], около которых возились Иео и его товарищи. – Все наши выстрелы попадают в них, – сказал Эмиас. – Теперь на некоторое время оставьте в покое малые орудия: мы потопим его и без них. – Уинг, уинг! – словно множество волчков, жужжали испанские пули и ядра над их головами, так как плохо построенные пушечные порты тех времен не давали возможности выстрелам попасть во вражеский корабль, стоящий с наветренной стороны, даже если он стоял почти вплотную. – Дуй, ветер, дуй! – вскричал один из матросов. – Вреди испанцам везде, где можешь. Что за черт! Что там случилось наверху? Увы! Треск, хруст, скрип и общее смятение! Несчастный выстрел перерезал надвое фок-мачту (уже прежде поврежденную), и верхняя ее часть беспомощно повисла. – Срубить и убрать! – твердо сказал Эмиас. – Готовьте луки и мушкеты. Через пять минут они будут у нас на борту. Он был прав. «Рози», не поддающаяся управлению после потери своего главного паруса, очутилась во власти испанцев. Лучники и мушкетеры едва успели выстроиться с подветренной стороны, как завизжали цепи, абордажные крючья вцепились в борта «Рози» с носа до кормы. – Не пропускать их! – прогремел Эмиас. – Пусть подходят, мы покажем им потеху! Теперь вперед! И начался кровопролитный бой. Противник, по обыкновению, шел на абордаж, а те с дикими возгласами отбрасывали его, осыпая градом пуль и стрел, пронзая пиками, швыряя с марсов гранаты и глиняные горшки с удушливым составом; в то же время фальконеты с обеих сторон слали картечь и цепные ядра. Неистовый бой продолжался уже час. Все руки устали, и все языки присохли к гортани. Больные, изнуренные цингой, притащились на палубу и сражались с той силой, которую придает бешенство; маленькие мальчики, таскавшие патроны из трюма, смеялись, когда пули свистели мимо их ушей; старый Сальвейшин Иео продолжал свое дело, спокойный и страшный, но подвижный, как играющий мальчик. Время от времени в дыму показывался испанский капитан, в черных стальных доспехах, пренебрегающий железным дождем, но слишком важный, чтобы испачкать свои перчатки чем-либо, кроме рукоятки рыцарского меча. Между тем Эмиас и Билл разделись почти так же, как матросы, и ободряли, толкали, рубили, тащили и тут и там – всюду, вызывая в матросах уважение, чувство товарищества и ответственности, чего никогда не могла бы сделать испанская дисциплина, технически более совершенная, но холодная, деспотическая и унижающая человеческое достоинство. Сеньору с черными перьями подчинялись, а за золотоволосым Эмиасом шли и пошли бы в самое пекло. Не прошло и пяти минут, как испанцы всей массой ринулись в середину «Рози». И здесь ждала их гибель: между кормой и передним укреплением (как было тогда принято) бимсы[374] самой верхней палубы были оставлены открытыми, не имея никакого ограждения, кроме узкого шкафута с одной стороны; с этого-то рокового края первые ряды берущих на абордаж под напором идущих сзади провалились между бимсами вниз, на верхнюю палубу, и оказались в западне, под двойным обстрелом спереди и сзади. Те немногие, которым удалось удержаться на ногах на шкафуте, после тщетных попыток прорваться на корму и в переднее укрепление попрыгали обратно за борт под градом пуль и стрел. Англичане стреляли метко и часто; и хотя три четверти команды ни разу не нюхали пороха, они вполне доказали правдивость слов старой хроники: «Лучше всего дерутся в первой битве». Испанцы трижды шли на абордаж и трижды отступали перед этим смертоносным градом. Палубы обеих сторон стали похожи на бойню. Джеку Браймблекомбу, который тоже сражался, пришлось, когда он наконец решил обратиться к занятию, более приличествующему его сану, ограничиться перетаскиванием раненых к хирургу. Наконец наступило затишье. Ни одного выстрела не было больше слышно со стороны испанцев. Эмиас взобрался на бизань-мачту и всмотрелся в дым: сквозь туманную завесу он увидел множество тел, сваленных в одну кучу, лежащих плашмя, – мертвых и умирающих, но ни одного стоящего на ногах. Последний залп начисто вымел всю палубу. Оставшиеся в живых спустились вниз, чтобы спрятаться от этого страшного града; и у руля один, скрежеща зубами от ярости, с подымающимися до самых глаз усами, стоял испанский капитан. Настало время для ответного удара. Эмиас вызвал абордажников; спустя две минуты он был на борту и схватил рукой испанскую бизань-мачту. Но что это? Расстояние между ним и бортом испанского корабля увеличивается. Разве он удаляется? Да, и одновременно поднимается его бок, с каждым мгновением становясь выше. Эмиас с удивлением посмотрел вверх и понял, в чем дело. Испанский корабль быстро кренился в подветренную сторону. Мачты наклонялись вперед все быстрее и быстрее – конец был близок. – Назад, назад! Он тонет! В смятении все бросились обратно. Внезапно прекрасный корабль выпрямился и, как бы устыдившись, снова поднялся для последней борьбы за жизнь. Выпрямился, но ненадолго, еще мгновение, и волны поглотили свою жертву. От корабля ничего не осталось, кроме нескольких плавающих обломков и барахтающихся бедняг. Ужас охватил команду «Рози»; наступило торжественное молчание. Первый заговорил Сальвейшин Иео: – Значит, теперь мы вернемся в Ла-Гвайру? – Неужто ты никогда не пресытишься кровью, старый волк? – спросил Билл Карри. – Никогда, – ответил Иео. – Напьешься крови в Сантьяго, – сказал Эмиас, – если мы сможем туда добраться, но… – И он грустно посмотрел вокруг. Ему незачем было кончать свою фразу или объяснять свое «но». Фок-мачта исчезла, грот-рея треснула, снасти висят, кузов прострелен насквозь в двадцати местах. На палубе лежат девять трупов и шестнадцать раненых – внизу, а безжалостное солнце стоит прямо над головой и льет потоки огня на стеклянное море. Но хорошо было бы, если бы все беды ограничивались слабостью и усталостью; хуже было то, что теперь, когда прошло возбуждение, началась реакция. Матросы сидели на палубе злые и угрюмые, группами по два-по три человека, вздрагивая и вскакивая, когда какой-нибудь бедняга внизу начинал кричать под ножом хирурга, и нашептывали друг другу, что все пропало. Дрю тщетно старался установить временные мачты. Матросы отвечали только ворчанием и наконец разразились открытыми упреками. Даже легкомыслие Карри, не покидавшее его за все время боя, улетучилось, когда Иео и плотник подошли сзади и тихо сказали Эмиасу: – Мы получили большую пробоину, сэр, где-то ниже ватерлинии. Через нее сильно бьет вода, но мы не можем найти ее, несмотря на все старания. Я хотел бы, чтобы вы сами поговорили с матросами, иначе ничего не будет сделано. Эмиас тотчас вышел вперед. – В чем дело, славные молодцы? Почему вы все сидите, как обезьяны на собственных хвостах? – Уф, – огрызнулся один, – не кажется ли вам, капитан, что мы сегодня уже достаточно поработали? Не захотите же вы, чтобы мы снова пошли в Ла-Гвайру, сэр? Достаточно и так народу погибло. – Лучше сидеть здесь и спокойно пойти ко дну. Домой мы все равно не доберемся – это ясно. – Зачем мы пришли сюда на свою погибель? – Ну, ну, славные ребята! – весело ответил им Эмиас. – Стыдно, стыдно! Полчаса тому назад вы были львами, не сделались же вы сразу баранами? Только вчера вечером вы ворчали, почему я не хочу вернуться и сразиться с этими тремя кораблями под самыми батареями Ла-Гвайры, а теперь вы считаете, что сделали слишком много, хорошенько разбив их на море? То, что произошло, – лишь обычная превратность войны и могло случиться всюду. Кто ничем не рискует – ничего не выигрывает; и птица не свивает гнезда без случайных ошибок. Тому, кто хочет быть всегда в безопасности, лучше сидеть дома за печкой, хотя даже там на него может обвалиться потолок. – Все это очень хорошо для вас, капитан, – заявил какой-то сердитый юнга, смутно представляя себе, что Эмиасу должно быть лучше, чем им, потому что он богат. Кровь Эмиаса вскипела. – Не воображаешь ли ты, молодчик, что мне нечего терять? Мне, который рискует в этом путешествии всем своим достоянием, который в случае ошибки обречен на нищету и презрение! И если я опрометчиво рискнул вашими жизнями ради своей личной ссоры, разве я не наказан? Разве я не потерял… Его голос дрогнул и прервался, но он быстро овладел собой. – Но я не могу стоять тут и болтать. Плотник, топор! И помоги мне обрубить эти болтающиеся обломки. Уходите с дороги вы, раскудахтавшиеся куры! Ко мне, все старые друзья, на помощь! Команда «Пеликана» постоит за своего капитана! Даром мы, что ли, плавали вокруг света? Последний призыв попал в цель: полдюжины бывших пеликанцев поднялись и принялись вместе с ним устанавливать временные мачты. – Идемте! – крикнул Карри недовольным. – Хоть мы и неопытные сухопутные крысы, мы ни в чем не уступим этим старым морским волкам. Он горячо взялся за работу, и вскоре за ним последовал один, потом другой, – порядок был восстановлен, и работа наладилась. – А куда мы пойдем, когда поставим мачты? – спросил чей-то дерзкий голос. – Куда ты не посмеешь пойти один, поэтому лучше иди с нами, – огрызнулся Иео. – Я скажу вам, ребята, куда мы пойдем, – сказал Эмиас, отрываясь от своей работы. – Нравится ли вам или нет, но у меня нет тайн от команды. Мы выйдем на берег, найдем себе там пристанище, положим наш корабль на бок и займемся его починкой. Началось движение и ропот. – На берег? Прямо в пасть испанцам? – А через неделю в лапы инквизиции? – Уже лучше оставаться здесь и позволить себя утопить. – В последнем вы правы! – крикнул Карри. – Самая подходящая смерть для слепых щенят! Слушайте, вы! Я меньше всего знаю, где мы, и я вряд ли могу отличить нос корабля от кормы, а капитан может быть прав и может ошибаться. Все это меня не касается, я знаю одно: я – солдат. Куда пойдет капитан, туда и я пойду, и если кто-нибудь вздумает мне помешать, ему придется прежде отнять у меня меч. Эмиас пожал руку Карри, а затем сказал: – Вот что я вам заявляю: я никуда не пойду и ничего не сделаю без совета Сальвейшина Иео и Роберта Дрю; если кто-нибудь из команды знает больше, чем эти двое, пусть встанет, и мы охотно выслушаем его. Так, пеликанцы? Среди пеликанцев раздалось одобрительное ворчание; тогда Эмиас возобновил атаку: – У нас пять пробоин в ватерлинии и одна где-то внизу. Сможем мы выдержать шторм в таком состоянии или не сможем? Молчание. – Можем мы добраться до дому с продырявленным дном? Молчание. – Тогда что же нам остается делать кроме того, как пристать к берегу и попытать счастья? Говорите! Это повадка трусов – не делать ничего, потому что неприятно сделать то, что нужно. Хотите вы быть детьми, которые предпочитают лучше умереть, чем принять гадкое лекарство, что ли? По-прежнему молчание. – Тогда идем! Ветер переменился и дует к северо-западу. Вперед по ветру! Сумрачно матросы принялись за работу. Судно было повернуто носом к земле. Но лишь только оно двинулось, течь стала увеличиваться так быстро, что все остальное время пришлось непрерывно работать у помп. Тем временем течение отнесло их к самой бухте Хугерот. Взглянув на землю, путешественники увидели на юго-западе ряд возвышенностей, заканчивающихся Каракасскими горами. А прямо перед ними, к югу, берег внезапно обрывался низкой линией манговой заросли, переходящей дальше в первобытный лес. Пока корабль приближался к берегу, все глаза напряженно старались найти какой-нибудь проход в сплошной стене манговых деревьев; но довольно долго никакого прохода не было видно. Беспрестанно бросали лот, и каждое новое измерение показывало, что вода убывает. – Нам будет очень тесно работать среди этих деревьев, Иео, – сказал Эмиас. – Я сомневаюсь, удастся ли нам что-нибудь сделать, если мы не найдем устья какой-нибудь реки. Они продолжали двигаться дальше, держа курс на юго-восток. Наконец появилось долгожданное отверстие среди манговых деревьев; старшие матросы радостно приветствовали его, хотя большинство пожимало плечами, как люди, с открытыми глазами идущие навстречу гибели. Дрю и Карри были посланы с лодкой исследовать устье. После часа беспокойного ожидания они вернулись с добрыми вестями о двенадцати ярдах глубины у берега, о непроходимых лесах на две мили кверху, о реке в шестьдесят шагов ширины и о полном отсутствии людей вокруг. Берега реки покрыты мягкой тинистой грязью и пригодны для кренгования[375]. – Безопасное место, – тихо сказал Эмиасу Иео, – безопасное от испанцев. Хорошо будет, если оно также безопасно в отношении лихорадки и морской горячки. – Нищие не могут выбирать! – ответил Эмиас. И они двинулись в глубь страны. Они волокли корабль приблизительно полмили вверх до того места, откуда его нельзя было увидеть с моря, а затем закрепили его у стволов манговых деревьев. Эмиас приказал спустить лодку и сам отправился вверх по реке на разведку. Он греб около трех миль, пока река внезапно не сузилась и почти не исчезла под переплетающимися ветвями множества деревьев. Казалось, человек издревле не вступал в этот заколдованный край. Эмиас вновь спустился по течению, задумчивый и грустный. Сколько лет прошло с тех пор, как он проезжал мимо устья этой реки? Три дня. А как много произошло в это время! Дон Гузман был найден и потерян, Рози была найдена и потеряна, большая победа одержана и все же потеряна, а главное – потерян его брат. Потеря! Когда сможет он найти своего брата? Какая-то странная птица из леса зловеще ответила: – Никогда, никогда, никогда! – Когда увидит он свою мать? – Никогда, никогда, никогда! – снова прокричала птица. Эмиас горько улыбнулся. В ту же ночь вся команда лодки (кроме Эмиаса) свалилась в жестокой лихорадке; около десяти часов утра заболели еще пять человек, а вскоре и все остальные.Глава XIX Корабль сожжен!
Эмиас, разумеется, также схватил бы желтую лихорадку, если бы не одна причина, которую он сам объяснил Карри. У него не было времени болеть, когда вся его команда была больна, – причина вполне основательная и вполне действительная до тех пор, пока возбуждение от работы налицо, но легко изменяющая герою, лишь только работа закончена. На следующее утро Эмиас созвал военный совет, или скорее санитарную комиссию, так как чувствовал, что силы его на исходе. Люди были охвачены паникой и готовы были взбунтоваться. Эмиас сказал им, что не видит, какую пользу они получат от того, что убьют его, или (так как здесь, как и из всякого положения, были два выхода) если он их убьет, и отправился на совет. Доктор твердил пустые слова о характере, темпераменте и жизненных силах. Джек Браймблекомб проповедовал что-то о Божьем промысле. Карри впал в отчаяние, хотя с улыбкой шутил надо всем. Иео, проявляя свой стоический фатализм, цитировал Священное Писание. Дрю – штурман – заявил, что ему нечего сказать: «его дело управлять кораблем, а не лечить лихорадку». В ответ на все это Эмиас схватился по своей привычке за волосы и разразился негодующей речью: – Доктор! Фигу я дам за ваши характеры и темпераменты! Можете вы вылечить характер человека или изменить его темперамент? Может эфиоп переменить свою кожу или леопард – свои пятна? Не сваливайте своего незнания на Бога, сэр. Я спрашиваю вас, что вызвало эту болезнь, а вы не знаете. Джек Браймблекомб, не говори мне глупостей о Божьем промысле: по-моему, все это гораздо больше похоже на промысел дьявола. Карри смеется и валит с больной головы на здоровую, но этим человека не вылечишь. Иео, пусть явится ангел и скажет мне, что такова Божья воля, чтобы мы все умерли собачьей смертью, я и тогда не покорюсь. Дрю, вы говорите: ваше дело – управлять кораблем; тогда выведите его сегодня же из этой проклятой отравленной дыры, если вы можете сделать невозможное. Все зло – в воздухе и больше нигде. Вчера, возвращаясь, я чувствовал, как он пронизывает меня, я чувствовал его запах, как чувствует гончая. Если б оно не было в воздухе, почему команда моей лодки заболела прежде всех – ответьте мне на это? Ответа не последовало. – Тогда я вам скажу, почему эти люди заболели первые: потому что туман, сквозь который мы плыли, поднимается всего на пять или шесть футов над рекой, и мы были в самом тумане, в то время как вы, оставшиеся на корабле, находились поверх него. А те из бывших на корабле, кто заболел сегодня утром, все спали на палубе. Отсюда я делаю вывод – нужно держаться как можно выше. – Но на рассвете туман был выше наших мачт, – заметил Карри. – Я это знаю, но те из нас, кто находился на верхней палубе, были в тумане не так долго, как те, кто был внизу, и, может быть, в этом есть разница. Кроме того, мне кажется, что вечерняя жара вызывает больше яда, а к утру, когда делается холоднее, этот яд куда-то уходит. – Теперь я вспоминаю, – заговорил Иео, – что слышал от испанцев, будто эти лихорадки всегда свирепствуют в низких местах, но никогда не поднимаются больше, чем на несколько сот футов над уровнем моря. – Значит, нам нужно пройти эти несколько сот футов. Каждый посмотрел сначала на Эмиаса, а затем на своего соседа. – Смотри дьяволу прямо в лицо, если хочешь ударить его в надлежащее место. Мы не можем спустить наш корабль на море в его теперешнем состоянии, а если бы даже и могли, мы не можем вернуться домой с пустыми руками; разумеется, мы не можем остаться здесь, чтобы умереть от лихорадки. Мы должны бросить корабль и отправиться внутрь страны. – Внутрь страны? – спросили все, кроме Иео. – Пройти вверх ту сотню футов, о которых говорил Иео, подняться на гору, построить укрепление и перенести туда наших больных и нашу провизию. – А дальше что? – А когда мы поправимся, подняться еще выше и напасть врасплох на Сантьяго-де-Леон. Карри крепко выругался. – Эмиас, вы смелый человек! – Нисколько. Это путь простого благоразумия. – Совершенно правильно, сэр, – подтвердил старый Иео, – и я последую за вами. – И я тоже, – пропищал Джек Браймблекомб. – Ну нет, Джек, тебе не удастся опередить меня. Поэтому и я присоединяюсь, – заявил Карри. – А Дрю? – К вашим услугам, сэр, на жизнь и на смерть. Я ничего не знаю о том, как строятся укрепления, но я уверен, что сэр Фрэнсис Дрейк дал бы тот же совет, будь он на вашем месте. – Тогда передайте команде, что через час мы отправляемся. Постарайтесь склонить на свою сторону пеликанцев, Иео и Дрю, – остальные пойдут за ними. Пеликанцы и освобожденные от галер рабы сразу одобрили проект, но остальные задали Эмиасу много хлопот. Прежде всего следовало решить вопрос, где находятся горы. Сквозь эту манговую чащу на расстоянии пятидесяти шагов уже ничего не было видно. – Горы находятся от нас не дальше, чем в трех милях на юго-запад, – сказал Эмиас, – я отмечал каждую вершину, когда плыли сюда. – Я полагаю, вы хотите повести нас туда? Вопрос пролил свет на хитрость Эмиаса, и злые подозрения стали громоздиться одно на другое, но Эмиас успокоил их ответным выпадом. – Дурачье! Если бы у меня не хватало разума заглядывать вперед несколько дальше, чем делаете вы, где бы мы теперь были? Идите за мной, говорю вам, или, клянусь своей жизнью, я взорву корабль и всех, кто на нем, и избавлю вас от труда медленно гнить здесь. Матросы знали, что Эмиас никогда не говорит того, чего не собирается делать. Поэтому они согласились идти и успокоились, когда увидели, что бывшие пеликанцы охотно взялись за работу. И в тот же день к закату первая партия, после утомительного подъема, нашла небольшое ровное пространство, расположенное на тысячу футов над уровнем океана, огражденное недоступным утесом – отрогом громадной горы с крутыми лесистыми склонами. Эмиас устроил больных под раскидистым шатром громадного вирджинского тополя и пустился в обратный путь за гамаками и одеялами. В эти тяжелые минуты опыт и мужество Иео были неоценимы. Карри, в свою очередь, выказал столько смелости и преданности, что Эмиас был счастлив, увидев, что два человека, на которых он больше всего рассчитывал, оказались достойны его доверия. И в ту же ночь Эмиас решился шепнуть обоим своим верным спутникам: – Кортес, высадившись, сжег свой корабль. Почему бы нам не сделать того же? Иео подскочил как ужаленный, затем вновь сел и прошептал: – Вы ли это говорите, капитан? Значит, эта мудрость ниспослана свыше, потому что она меня тоже преследует весь день. – Нам незачем спешить, – промолвил Эмиас, – прежде мы должны все забрать оттуда. Карри сидел молчаливый и задумчивый. Очевидно, в голове Эмиаса бродило гораздо больше планов, чем он высказывал. В тот вечер люди были слишком утомлены, чтобы работать, но на следующее утро, лишь только солнце встало, Эмиас заставил всех усиленно взяться за укрепление лагеря. Когда все было сделано, Эмиас взобрался на огромное дерево и стал смотреть на необозримые леса и голубое небо и думать со свойственной ему решительной прямотой о том, что нужно делать дальше. Долго оставаться здесь невозможно; мстить Ла-Гвайре невозможно; просто идти, пока он не узнает, жив ли Фрэнк или умер, с первого взгляда тоже кажется невозможным. Но это значит, что Браймблекомб, Карри и те восемь человек будут вторично принесены в жертву его личным интересам? Эмиас плакал от злости, не зная, на что решиться. Но наконец он решился. Сто шансов против одного были за то, что Фрэнк умер, но если даже он жив – помочь ему они не могут, потому что, как хорошо знал Эмиас, он во власти инквизиции. Кто может вырвать его из ее когтей? Во всяком случае, не Эмиас. И с громким мучительным возгласом «Боже, помоги ему, потому что я не могу» Эмиас решился двинуться. Но куда? Он долго-долго думал, сидя один в своем воздушном гнезде. Наконец он спустился и отозвал в сторону Карри и Иео. – Они не могут, – сказал он, – починить корабль, так как вымрут от лихорадки прежде, чем работа будет окончена. Это утверждение ни один из его слушателей не имел мужества оспаривать. Даже если они починят корабль, им, наверное, придется опять сражаться с испанцами. Нельзя было сомневаться в правдивости слов индейца о том, что испанцы предупреждены о прибытии «Рози», как нельзя было сомневаться в предательстве Евстафия. – Тогда попробуем напасть на Сантьяго, овладеть им, подойти к Ла-Гвайре с тыла, захватить там подходящий корабль и отправиться домой. – Нет, Билл, если они укрепились против нас в Ла-Гвайре, где им нечего терять, они, разумеется, сделали то же в Сант-Яго, где могут потерять многое. Я слышал, что это большой город, хотя и новый, и, кроме того, как можем мы перебраться через эти горы без проводника? – И даже с проводником, – со вздохом сказал Карри, окидывая взглядом громадные стены из леса и камня, громоздящиеся одна на другую на расстоянии многих миль. – Но как-то странно слышать, когда ты льешь холодную воду на смелую затею. – А что, если я предложу еще более смелую? Слыхали ль вы о золотом городе Маньоа? Иео рассмеялся радостным смехом. – Я слышал, сэр, и не сомневаюсь, что все бывшие матросы с «Пеликана» слышали. – Тем лучше. И Эмиас начал рассказывать Карри все, что он узнал от дона Гузмана, а Иео к каждому слову добавлял какой-нибудь слух или сведение из собственного запаса. Карри сидел подавленный величественной фантасмагорией, развертывающейся перед его ослепленным взором. – Так вот почему ты хотел сжечь корабль! Итак, вы хотите подражать Кортесу? – Нам никогда не придется подражать Кортесу, потому что мы никогда не станем управлять с помощью такой зверской, дьявольской тирании, как делал он. На этом беседа прервалась. Но никто из участвующих не забыл ее. В этом гористом уголке странники провели дней десять. Из больных некоторые умерли – одни от лихорадки, прибавившейся к их ранам, другие, может быть, от слишком рьяных кровопусканий доктора; остальные медленно выздоравливали благодаря различным травам, которые давал им Иео. Провизия все время имелась в изобилии; ее ежедневно приносили с корабля, не считая енотов, обезьян и других маленьких животных, которых умели ловить Иео и пеликанцы, фруктов и овощей (в особенности чудесной горной капусты, бразильской пальмы и свежего молока коровьего дерева). И весь день на огромном дереве сидел караульный. Что это было за дерево! Самый величественный английский дуб показался бы рядом с ним чахлым деревцом, Эмиас, укрывшись в ветвях этого дерева, чувствовал по временам, что он был бы рад остаться здесь навсегда, насыщая зрение и слух окружающим великолепием; затем со вздохом просыпался от грез, вспоминая, что через несколько дней придет противник и принудит их принять решение, от которого без всякого стыда в испуге отшатнется самый храбрый человек. И вот однажды Эмиас увидел, как с запада появился большой корабль с распущенными парусами. И в этом корабле Эмиас узнал то самое судно, которое он недавно пропустил. Если это он, значит, он ночью прошел мимо них в Ла-Гвайру и теперь возвращается, может быть, для того, чтобы искать их на этом берегу. Корабль медленно приближался, и Эмиас понадеялся, что, может быть, он минует устье реки. Нонет, корабль остановился очень близко от берега, и спустя немного времени Эмиас увидел, как две лодки отделились от борта и исчезли в манговой заросли. Соскользнув по лиане, Эмиас рассказал, что видел. Команда, уставшая от безделья, оживленно встретила новость и стала приготовлять все необходимое для приема гостей. Четыре медных орудия, которые они втащили наверх, были поставлены на лафет, устроенный из бревен, и направлены на тропинку; за ними толпились мушкетеры и лучники с оружием наготове, а полдюжины стрелков предпочли забраться со своими аркебузами на вирджинский тополь, найдя, что с этого места очень удобно целиться. Но прошло два томительных часа, об испанцах не было ни слуху ни духу. Наконец столб белого дыма взвился над болотом, и послышался пушечный выстрел. Затем испанский флаг поднялся над деревьями и укрепился на самой высокой мачте «Рози». Испанцы сигнализировали своему кораблю прислать еще солдат, и скоро третья лодка отошла и исчезла в лесу. Прошел еще час, в течение которого англичане окончательно потеряли терпение, но не мужество. Матросы начали так громко разговаривать и так сердито топать ногами, что Эмиас должен был убеждать их не выдавать себя, так как в конце концов противник мог и не найти их. Наконец Эмиас потребовал, чтоб они соблюдали полную тишину, пока он не подаст знака открыть огонь. Едва это приказание слетело с его уст, как внизу, на тропинке, блеснул шлем испанского солдата, затем второй, третий. – Дурачье, – шепнул Эмиас Карри, – они идут гуськом прямо на смерть. Лежите смирно, ребята! Тропинка была так узка, что два человека вряд ли могли бы идти рядом, и так крута, что противник с большим трудом карабкался наверх, поминутно спотыкаясь. Солдаты, казалось, шли очень неохотно и неоднократно поворачивали назад; но Эмиас мог слышать снизу повелительный голос, и скоро впереди с мечом в руках появилась фигура, при виде которой и Эмиас и Карри вскочили. – Это он! – Конечно, я узнаю эти ноги среди тысяч, хотя они в доспехах. – Сегодня моя очередь иметь с ним дело, помни, Карри! Тише, тише, ребята! Испанцы, казалось, чувствовали, что идут прямо в пасть врагу. Дону Гузману (так как нельзя было сомневаться в том, что это был он) стоило больших усилий заставить их двигаться. – Молодцы слышали, как ласково мы обошлись с защитниками Ла-Гвайры, – прошептал Карри, – и не имеют ни малейшего желания разыгрывать роль мучеников. Наконец испанцы одолели крутой склон и остановились приблизительно в сорока шагах от укрепления, смущенные полнейшей тишиной и подозревая ловушку. Эмиас вышел вперед с белым флагом в руках, но его сердце так страшно билось, что он с трудом подбирал слова: – Дон Гузман, мы с вами враги. Мы, но не наши солдаты. Я послал бы вам вызов в Ла-Гвайру, но вас там не было. Я вызываю вас на поединок теперь. – Лютеранская собака, я приготовил для тебя веревку, а не меч! Как вы поступили с нами в Смервике, так мы теперь поступим с вами. Пират и похититель женщин! Ты и твои сообщники повторите путь Оксенхэма, подобно тому как вы повторили его преступления, и узнаете, как являться непрошеными гостями во владения испанского короля. – Ступай к черту вместе с испанским королем! – громко смеясь, крикнул Эмиас. – Эта земля принадлежит ему не больше, чем мне. Стреляйте – победа на стороне правого! Обе стороны открыли стрельбу. Эмиас едва успел укрыться от пули, просвистевшей над его головой. Испанцы в ужасе попятились, когда узкий фас лагеря вспыхнул сплошным пламенем мушкетов и пушек. Весь строй испанцев оказался под обстрелом. Передние ряды попадали в кучу один на другой. Арьергард повернулся и побежал, настигаемый английскими ядрами и стрелами, которые заставили солдат стремглав лететь вниз по крутой тропинке. – Вперед, в погоню. Смотрите! Дон бежит, как и все! – И, перебравшись через груду срубленных деревьев, Эмиас с тридцатью соратниками бросился догонять убегающих. Эмиас надеялся узнать от пленных, какая судьба постигла его брата. Последние слова Эмиаса были несправедливы. Дон Гузман был легко ранен и, увидев, что его солдаты бегут, бросился назад, пытался ободрить их, но был увлечен лавиной беглецов. Как бы там ни было, они скрылись из виду среди густых деревьев, прежде чем Эмиас и его люди успели их настичь. Эмиас, испугавшись, как бы они, придя в себя, не окружили его маленького отряда, с грустью, против воли, повернул обратно и увидел на тропинке четырнадцать испанцев. Не все были мертвы. Один из раненых, проявив больше храбрости, чем благоразумия, лежа выстрелил. И солдаты Эмиаса, доведенные до бешенства своим отчаянным положением, перебили всех раненых, прежде чем капитан успел им помешать. – С ума ты сошел? – крикнул Эмиас, отбивая кверху меч одного молодца. – Ты хочешь убить индейца? И он вытащил из кустарника индейского мальчика лет шестнадцати, который был слегка ранен и пытался уползти, как гремучая змея. – Эта черная гадина пронзила стрелой мою ногу, а стрела, наверное, отравлена. – Будем надеяться, что нет. Но мы должны теперь ценить индейца на вес золота, – сказал Эмиас, сунув свою добычу под мышку, как какой-нибудь узел. Паренек, увидя, что нет спасения, покорился своей участи с настоящим индейским стоицизмом. Его принесли наверх и обходились с ним очень ласково, но он решительно отказывался есть. После долгих расспросов он объяснил, что предпочитает, чтобы его сразу убили, а не откармливали. Постепенно он дал понять окружающим, что англичане всегда (по крайней мере так говорят испанцы) откармливают и съедают своих пленников. Пока мальчик не увидел, что англичане похоронили тела убитых испанцев, ничто не могло его разуверить в том, что эти тела будут зажарены и съедены. Однако ласковые слова, взгляды и подарок неоценимого сокровища – ножа – образумили индейца, и он рассказал Эмиасу, что принадлежал одному испанцу, который владеет поселением индейцев на расстоянии пятнадцати миль к юго-западу; что он убежал от своего хозяина и несколько месяцев жил охотой; что, увидев корабль, он взобрался на него в надежде чем-нибудь поживиться и был схвачен испанцами, которые принудили его пойти с ними в качестве проводника на розыски англичан. Затем последовала новая часть рассказа, наполнившая сердце Эмиаса радостью. Мальчик был индейцем из льяносов или больших саванн[376], лежащих к югу, позади гор; он жил на Ориноко[377]. В детстве он был похищен испанцами, которые явились под благочестивым предлогом обращения язычников в христианство с помощью очень простого способа: поймать, окрестить и сделать слугами тех, кого они могли увести с собой, и перебить всех, кто сопротивлялся их «мягким» методам спасения. Найдет ли он дорогу обратно? Разве можно задавать индейцу такие вопросы? Черные глаза мальчика загорелись, когда Эмиас предложил ему свободу и столько железа, что хватит на дюжину индейцев, если он покажет им проход в горах и проводит их дальше на юг, к громадной реке, на которой лежит город их золотых грез. Теперь настало время говорить. И Эмиас, собрав вокруг себя всех своих спутников, просто и мужественно открыл им свое сердце. Это была единственная надежда на спасение. – Некоторые ворчат, что они погибнут подобно команде Оксенхэма. Наоборот, это единственный способ избежать гибели. Дон Гузман, наверное, вернется за нами и не один, а вместе с сухопутными войсками из Сантьяго. Даже если испанцы не овладеют лагерем, осажденные умрут от голода; почему не двинуться сразу, прежде чем придут испанцы и начнут блокаду? Захватить Сантьяго невозможно. Все сокровища спрятаны, и город приготовился их встретить. Если они хотят золота и славы, их нужно искать в другом месте. Не больше смысла имеет идти вдоль берега и пытаться напасть на какой-нибудь порт – корабли опередят их, вся область уже предупреждена об их присутствии. Перед ними – один путь. Тут Эмиас стал красноречив. Он говорил о смелости предприятия и уверенности, что в случае удачи они получат богатство и почести и покроют себя вечной славой, превосходящей славу Кортеса и Писарро. Его слушатели, вначале мрачные, с каждым мгновением все более распалялись, и наконец один из бывших пеликанцев разразился ответной речью: – Да, сэр, мы недаром плавали с вами вокруг света. Мы изучили ваш нрав и образ действий. Мы пойдем за вами, сэр, все как один; пусть те, кто знает вас меньше, чем знаем мы, идут за нами. Большинство, один за другим, присоединилось к его словам. Меньшинство, те, которым не хотелось идти, но еще меньше хотелось быть брошенными, дали вынужденное согласие. Коротко говоря, Эмиас победил, и его план был принят. – Вот поистине, – сказал Эмиас, – лучший день в моей жизни. Я потерял одного брата, а приобрел восемьдесят. Южный Крест стоит посреди темного неба. Полночь. Карри и Иео тихо проскользнули в лагерь и шепчут Эмиасу, что все сделано. Спящие просыпаются, и отряд пускается в путь, – все время наверх, на юг. Вряд ли они думают о том, куда идут, словно еще не проснулись и вышли из одной страны снов лишь для того, чтобы попасть в другую, еще более чудесную. Вокруг все фантастично и нереально. Но что это значит, этот свет на севере? Желтая луна окаймлена веселой радугой. Этот свет слишком ярок, чтобы быть отблеском ее лучей. Вот к облакам подымается столб черного мрачного дыма; вокруг него туман светлеет, и вот уже ясно видно большое пламя. Все смотрят друг на друга, каждый подозревает, в чем дело, но не решается доверить другому своих подозрений. Эмиас шепчет Иео: – Вы позаботились утопить порох? – Конечно, сэр, и разрядили пушки. Незачем поднимать шум и указывать испанцам, где мы. Да, это горел славный корабль «Рози». Эмиас, как некогда Кортес, сжег свой корабль и отрезал себе путь к отступлению.Глава XX Инквизиция в Индии
Прошло три недели. Место действия – город Картахена. Длинный темный коридор, в который выходит ряд низких камер. Дверь одной из них отворена, и около этой двери стоят две фигуры в плащах: одна из них нам знакома – это Евстафий Лэй. Другая – фамильяр[378] инквизиционного суда. Фамильяр держит в руке лампу, свет которой падает на соломенное ложе и фигуру спящего человека. Этот высокий белый лоб и тонкое бледное лицо нам также знакомы – они принадлежат Фрэнку. Он был вырван полумертвым из рук негров, для того чтобы испытать более утонченную жестокость цивилизованных христиан. Только сегодня он выдержал допрос, а теперь Евстафий, предавший его, пришел убеждать его – или ловить? Вряд ли Евстафий сам хорошо знал, зачем он пришел. Он должен исполнить свой долг – разбудить спящего и убеждениями, лаской или угрозами довести его до отречения, «пока его сердце еще размягчено пытками» – так выразились пославшие Евстафия. Как спокойно он спит! Что это – отблеск пламени, или он в самом деле улыбается? Евстафий взял лампу, наклонился над спящим и услышал, как Фрэнк во сне шептал имя своей матери. У Евстафия не хватило духу разбудить его. – Пусть отдохнет, – шепнул он своему спутнику. – Все равно, я боюсь, мои слова принесут мало пользы. – Я тоже боюсь этого, сеньор. Я никогда не видел более закоренелого еретика. Он не постеснялся открыто насмехаться над их святейшествами. – Ах, – сказал Евстафий, – велика испорченность человеческого сердца!.. Где она? – Где она? – Старшая колдунья или младшая? – Младшая – та. – Сеньора де Сото? Ах, бедное создание. Ее следовало бы пожалеть, не будь она еретичкой. – Говоривший взглянул на Евстафия проницательным оком и спокойно добавил: – Она сейчас на допросе, надеюсь, он окажет благотворное воздействие на ее душу. Потрясенный Евстафий задрожал. С трудом овладел он собой настолько, чтобы пробормотать «аминь!». – Это здесь, – сказал фамильяр, небрежно указывая на одну из дверей, мимо которых они проходили. – Мы можем немного послушать, если хотите, но не выдайте меня. Евстафий прекрасно знал, что его товарищ готов выдать его при малейшем признаке раскаяния с его стороны – во всяком случае, донести о самом легком выражении сочувствия к еретичке. Но жестокое любопытство превысило страх, и он прильнул к двери. Его лицо горело, колени подгибались, в ушах звенело, сердце готово было выскочить из груди, когда он прислонился к стене, пряча подергивающееся лицо от спутника. Из-за двери доносился мужской голос – тихий, но ясный. Судья предъявил обвинение в колдовстве – старое средство, которое инквизиция так часто пускала в ход против своих жертв. Затем – сердце Евстафия упало – раздался женский голос, полный негодования: – Колдовство против дона Гузмана? С какой целью, зачем? – Значит, вы отрицаете это, сеньора? Нам очень жаль вас. – Неясное, заглушенное бормотание жертвы могло означать и многое и ничего. – Она призналась, – прошептал Евстафий. – Святые, благодарю вас. Она! Отчаянный вопль прозвенел в ушах Евстафия. Он хотел рвануть дверь, чтобы отворить ее, но спутник заставил его уйти. Еще вопль, еще… тщетно несчастный бежал прочь, затыкая уши, чтобы не слышать пронзительных криков, которые преследовали его сквозь эти проклятые своды. Он выбежал на воздух, увидел золотой блеск тропической луны и сад, но эти крики, казалось, все еще звенели в его ушах. – О, горе, горе, горе! – бормотал он про себя, скрежеща зубами. – И это я довел ее до этого! Мог ли я поступить иначе? Кто решится осудить меня? И все же какой ужасный грех мог я совершить, что он требует такого наказания? Неужели нельзя было найти никого другого? Никого? И все же это может спасти ее душу. Это может привести ее к раскаянию! – Конечно, потому что она нежна и не сможет долго терпеть. Вы знаете не хуже меня, сеньор, как милосерден Священный суд. – Я знаю, знаю, – прервал бедный Евстафий, испугавшись на этот раз за самого себя. – Все через любовь, все через любовь и отеческое внушение. – А доказательством ереси служит, помимо сильных подозрений в колдовстве, всем известный промысел старой ведьмы. Вы сами, – помните, сеньор, – рассказывали нам, что она была известной колдуньей в Англии, прежде чем сеньора привезла ее сюда в качестве своей наперсницы. – Конечно, была, конечно. Да, другого пути не было. И хотя моя плоть может быть слаба, сеньор, все же никто не мог лучше доказать Святому суду, как силен может быть дух! С этими словами Евстафий ушел. Однако, прежде чем снова село солнце, он пришел к главе иезуитов, открыл ему все, что у него было на сердце, – по крайней мере все, в чем он осмеливался признаться самому себе, и умолил разрешить ему кончить его искус и вступить в орден, при условии, что его тотчас же пошлют обратно в Европу или куда-нибудь в другое место. Иначе, как он откровенно сознался, он сойдет с ума, если только уже не сошел. Иезуит пошел в Инквизиционный суд и обсудил вопрос с инквизиторами, напомнив им все прошлые заслуги Евстафия перед церковью. Суд более не нуждался в его показаниях: в ту же ночь Евстафий покинул Картахену и уехал в Номбре, а через неделю исчез неизвестно куда.Глава XXI Берега Меты
Прошло около трех лет. На пространстве в восемьсот миль длиной и четыреста шириной, по неприступным горам и лесам отряд смельчаков тщетно искал Золотой город. Искали вдоль лесистых берегов Ориноко, над грохочущей пеной Мэйпура; на верховьях величественной Амазонки; вверх по рекам доходили до самого Перу; попирали рощи хинных деревьев Локсы, не подозревая, как не подозревал никто в мире, их целебных свойств. Они видели девственные снега Чимборасо, сверкающие белизной над грозовыми тучами, и гигантский конус Котопахи, угрюмо чернеющий среди бурных потоков, струящихся по его склонам. Заброшенные по другую сторону Анд, они еще раз повернули на восток и спустились с альпийских высот в зеленые и туманные пространства Монтаны. Медленно, с трудом, они вновь стали пробираться на север вдоль восточного подножия внутренних Кордильер. В настоящее время путники сделали привал около одного из многочисленных притоков Меты. Они зажгли сторожевые костры и сидят в тени огромных деревьев – Эмиас, Карри, Браймблекомб, Иео и индейский мальчик, сопровождающий их во всех их странствованиях; они живы и здоровы, но все так же далеки от города Маньоа с его сказочными озерами, золотыми дворцами и всеми чудесами индейских легенд. В тени деревьев сидят сорок четыре человека вместо восьмидесяти четырех, покинувших леса Гвайры. День за днем редели их ряды от лихорадки, от укусов змей, от нападения ягуаров, аллигаторов, человекоядных рыб и электрических угрей, и первобытные леса не сохранили никаких следов их пребывания, кроме одиноких могил. Оставшиеся в живых сидят у тихого ручья, озаренные светом тропической луны, почерневшие и похудевшие, но бодрые, как всегда. Они подшучивают над опасностью и стараются перещеголять друг друга в работе. Их бороды отросли и спускаются на грудь; их длинные волосы подколоты, как волосы женщин, для защиты от палящих лучей солнца; их обувь сделана из тонкой кожи какого-то зверя; на их рубашках заплаты из шерстяных индейских тканей; на плечи наброшены шкуры ягуара, пумы или обезьяны. Их боевые припасы давно истрачены, большая часть мушкетов, испорченных постоянными паровыми ваннами лесных испарений, брошена. Они вооружены мечами, луками такой крепости, что ни одна индейская рука не может их согнуть, а некоторые – духовыми ружьями, индейским оружием, совершенно бесшумным, более смертоносным, чем огнестрельное оружие, с которым они расстались. Люди спят среди деревьев – некоторые просто на земле, другие в гамаках, протянутых между ветвями. Все тихо. Только время от времени ягуар, прыгающий в погоне за добычей с одного дерева на другое, тревожит сон обезьян, качающихся на ветвях. Обезьяны будят птиц, и в течение десяти минут весь лес звенит от неистового шума, гама, крика и клохтания. Но скоро весь этот шум замирает; и даже если он продолжается, он давно уже стал слишком привычным, чтобы разбудить спящих или прервать военный совет, происходящий у одного из сторожевых костров между тремя искателями приключений и Иео. Уже раз сто держали они подобные советы и все напрасно, – они прекрасно знают, что и этот будет так же бесплоден, как прошлые. Тем не менее это более торжественный совет, чем обычные. Давно прошли два года, предназначенные для розысков Маньоа, – необходимо избрать новую цель, если они не хотят провести остаток дней своих в этих диких лесах. – Ладно, – сказал Билл Карри, вынимая изо рта сигару, – эти последние индейцы принесли нам хоть некоторую пользу – после трехдневного поста можно позволить себе хорошую затяжку табаку. – Что касается меня, – заметил Джек Браймблекомб, – то должен признаться, что, когда я снова прикусил этот чудодейственный лист, я почувствовал искушение усесться спокойно, как какой-нибудь кацик[379], и так, не шевеля ни рукой ни ногой, курить до последнего дня моей жизни. – В таком случае я принужден буду запретить тебе курить, – сказал Эмиас, – потому что завтра утром мы должны двинуться в путь; мы и так уж просидели здесь три дня, ничего не делая. – Сделаем ли мы когда-нибудь что-нибудь? Мне кажется, золото Маньоа похоже на то золото, что лежит в том месте, где радуга соприкасается с землей: где бы ты ни находился, оно всегда недостижимо. Все молчали. Нельзя было отрицать, что все их надежды почти исчезли. На всем громадном пути, который они проделали, они не встретили ничего, кроме разочарования. – У нас остался последний шанс, – проговорил наконец Эмиас, – это те горы, к востоку от Ориноко, где мы скитались в первое время. Инки могли попасть туда во время своего бегства. – Почему бы и нет? – согласился Карри. – Их бы тогда ограждали все леса, прилегающие к льяносам, и полдюжины большущих рек. – Попробуем-ка одолеть эти горы еще раз! – сказал Эмиас. – Эта река должна впадать в Ориноко, а попав туда, мы очутимся у самого подножия гор. Как твое мнение, Иео? – Я не могу не думать о том, ваша милость, что, когда мы поднимались по Ориноко, индейцы рассказывали нам ужасные вещи о неприступности этих гор – об их крутизне и о непроходимых лесах, которыми они покрыты. – Есть о чем беспокоиться! Не может быть более непроходимых лесов, чем те, через которые мы уже пробрались; пожалуй, если б у нас были хвосты, как у обезьян, чтобы цепляться за ветви, и можно было бы путешествовать по верхушкам деревьев, – это было бы приятнее, чем с утра до вечера спотыкаться и подвергаться укусам всяких ползучих тварей. – И вспомните, – сказал Джек, – как они советовали нам остерегаться амазонок. – Что? Джек испугался шайки женщин? – Почему бы и нет? – возразил Джек. – Я не убежал бы от мужчины, но женщина – это неестественно. Это, должно быть, ведьмы или черти. Вспомните-ка, как караибы боятся их. И, кроме того, говорят индейцы, там живут люди без шеи, с глазами на груди. При таких условиях что можно с ними сделать? – Ясно, что нельзя срубить им голову; но я полагаю, что добрый удар между ребер окажет на них такое же действие, как и на их соседей. – Ну, – сказал Джек, – когда я дерусь, я хочу иметь дело с честной плотью и кровью, а не с этими заморскими уродами. Откуда вы знаете, что их не предохраняет от ран черная магия? – А ты откуда знаешь, что она их предохраняет? А что касается амазонок, то во всем мире женщины остаются женщинами. Ручаюсь, что их можно обвести вокруг пальца двумя-тремя комплиментами, – заметил Карри. – Слушайте, друзья мои, – заговорил Браймблекомб, – у меня в уме давно уже вертится мысль, что все против нас, когда мы идем на восток. Подумайте только! За эти два года, лишь только мы сворачивали на восток, мы начинали испытывать бедствия и терять людей; а как только мы уходили на запад, нам все удавалось. И сейчас, я думаю, удастся. – Хорошо, мы пойдем на запад, – сказал Эмиас, – но что мы будем делать там? – Делать? – переспросил Карри. – У нас найдется много дела: говорят, по другую сторону этих гор страна полна золота и испанцев. Так что наши мечи не притупятся от недостатка приключений, мои веселые странствующие рыцари. Они продолжали шутить, и, прежде чем прошла ночь, был выработан план, отчаянный план, но разве что-либо могло испугать их? Эмиас долго не спал в ту ночь. На сердце у него было тяжело. Трудно отказаться от дорогой мечты стольких лет, еще труднее будет взглянуть в глаза матери. Но это должно быть сделано ради его товарищей: надо идти не на восток, а на запад. Итак, на следующий день некий план был предложен и принят. Они поднимутся на горы, отдохнут немного, затем сделают новую попытку с новыми надеждами, быть может, с новыми опасностями. На следующее утро путешественники двинулись в путь. В течение трех часов они скользили по прозрачной спокойной реке, между двумя зелеными стенами леса, звенящими голосами бесчисленных обезьян, птиц и насекомых. По мере того как солнце поднималось, тишина воцарялась в лесу. Ягуары и обезьяны спрятались далеко в темной глубине. Птицы замерли одна за другой. Даже бабочки перестали порхать и со сложенными крылышками уснули на глянцевитых листьях. Вскоре слабый, но ясный рокот, постепенно перешедший в ужасающий грохот, дал знать путникам, что они приближаются к водопаду. Обогнув выступ, где наносная почва образовала небольшую возвышенность, увитую плющом, они очутились перед зрелищем, заставившим всех замолчать, но не от удивления, а скорее от негодования. – Опять пороги, – проворчал кто-то, – мало их, видно, было на Ориноко! – Нам придется выйти и вытащить каноэ на землю. Мы потеряем три часа, к тому же в самую жару. – Дальше будет еще хуже. Разве вы не видите пены позади пальмы? – Довольно ворчать, друзья, не плачьте, прежде чем вас не побили. Гребите прямо к самому большому из этих островов, – нам нужно осмотреться. Прямо перед ними вздымалась белоснежная стена бурлящей пены, футов в десять вышиной, вдоль которой лежали в ряд три или четыре острова из черного камня. По обе стороны водопада берега так густо заросли низким кустарником, что высадиться казалось невозможным. Внезапно индеец-проводник, оглянувшись вокруг, шепотом приказал им остерегаться дикарей и указал на пустое каноэ, покачивающееся среди водоворота у самого большого острова. По-видимому, оно было привязано к стволу какого-нибудь дерева. – Соблюдайте тишину! – крикнул Эмиас. – Гребите туда и захватите каноэ. Если на острове окажется индеец, мы поговорим с ним. Но помните, – обращаться с ним по-дружески; и, если жизнь вам дорога, ни одного удара, ни одного выстрела, даже если он захочет стрелять. Выбрав полоску спокойной воды, они с большим трудом подвели к берегу свои каноэ и благополучно укрепили их рядом с индейскими. После этого Эмиас, как всегда, первый выскочил на берег и тихо приказал индейскому мальчику следовать за ним. Весь остров был размером не больше пятидесяти квадратных ярдов. Эмиас с беспокойством искал ожидаемого индейца и не находил его. Перебравшись через покрытую цветами каменную гряду на другую сторону острова, Эмиас неожиданно увидел у подножия шестифутовой каменной стены, на которой он находился, небольшую полосу отлогого тенистого берега, окаймляющего тихую, прозрачную бухточку. Здесь наконец должен был быть владелец лодки, если он только вообще существовал. Эмиас соскочил вниз, но еще прежде, чем он успел это сделать, с ближайшего камня поднялась высокая фигура и встретила его лицом к лицу. Это была индейская девушка. И все же, когда он взглянул еще раз, он усомнился: действительно ли это индейская девушка? Эмиас видел сотни этих стройных темнокожих дочерей лесов, но никогда не видел подобной. Она была выше ростом, ее члены были полнее и более округлены; черты ее загорелого лица были гораздо тоньше, чем его собственные; волосы ее были не гладкие, прямые и черные, как у индианок, а блестящие каштановые, ниспадающие богатыми пышными локонами до самых колен. В ней воплотился самый совершенный тип испанской красавицы. Золотое ожерелье, перемешанное с зелеными бусами, обвивало ее шею, а золотые браслеты сжимали щиколотки. В памяти Эмиаса всплыли все слышанные им таинственные и странные легенды о белых индейцах – народе более высокой расы, чем карибы, араваки и солимо[380]. Она должна быть дочерью какого-нибудь великого кацика, быть может, самих исчезнувших инков – почему бы и нет? Полный простодушного удивления, он уставился на прекрасную девушку, а она бесстрашно смотрела, в свою очередь, на громадную фигуру, странную одежду и особенно на густую бороду и развевающиеся желтые локоны незнакомца. Эмиас заговорил первый на одном из знакомых ему индейских наречий и с ласковой улыбкой сделал полшага вперед. Но движением, быстрым как молния, девушка подняла с земли лук и угрожающе прицелилась, направив в Эмиаса длинную стрелу. Эмиас остановился, положив на землю свой собственный лук и меч, и снова шагнул вперед, по-прежнему улыбаясь и делая всевозможные знаки, выражающие у индейцев дружбу. Но стрела все еще была направлена ему прямо в сердце. Он хорошо знал быстроту и силу лесных нимф; поэтому он, не двигаясь с места, позвал индейского мальчика. Эмиасу не очень хотелось стоять и ждать, когда стрела вонзится ему в бок. Мальчик, наблюдавший все происходящее сверху, в одно мгновение спрыгнул к ним и начал для пущей безопасности тыкаться носом в землю, обращаясь к девушке на различных наречиях. Наконец она, по-видимому, поняла одно из них и ответила с явной подозрительностью и раздражением. – Что она говорит? – Что вы испанец и разбойник, потому что вы носите бороду. – Скажи ей, что мы – не испанцы, что мы ненавидим их и переплыли через высокие воды, чтобы помочь индейцам перебить испанцев. Мальчик перевел слова Эмиаса. Нимфа ответила недоверчивым покачиванием головы. – Скажи ей, что, если она пришлет к нам свое племя, мы не причиним ему вреда. Мы пробираемся через горы, чтобы драться с испанцами, и просим индейцев показать нам дорогу. Не успел мальчик договорить, как быстроногая нимфа вспрыгнула на скалу и бросилась к своему каноэ. Внезапно она заметила лодку чужеземцев и замерла с криком испуга и гнева. – Пропустите ее, – приказал Эмиас, шедший следом за ней, – оттолкните вашу лодку и пропустите ее. Мальчик, скажи ей, чтобы она не боялась: они не будут к ней приближаться. Но она все еще колебалась и, натянув тетиву, смотрела то на сидящих в лодке, то на Эмиаса, пока те не отошли примерно на двадцать ярдов. Тогда, вскочив в свою крошечную пирогу, девушка бесстрашно направила ее прямо в бешено кружащиеся и бурлящие воды, подвигаясь вперед сильными ударами, а Эмиас с дрожью следил, как легонькое суденышко вертелось и прыгало среди морд аллигаторов и громадных зубастых форелей. С быстротою стрелы индианка достигла северного берега, выскочила из своего каноэ, скользнула в какой-то узкий проход в кустах и исчезла. – Что за очаровательную амазонку вы откопали? – крикнул Карри, лишь только они вернулись к месту причала. – Будь я проклят, – заявил Джек, – если мы не в стране нимф. В следующий раз я рассчитываю увидеть самую Диану[381] с месяцем на лбу. – Тогда будьте осторожны, бродя по этим местам, сэр Джек, иначе вы окончите, как Актеон – будете превращены в оленя, и вас загрызет ягуар. – Актеона загрызли его собственные собаки, Карри, поэтому ваша параллель не выдержана. Но, право, это было настоящее чудо красоты. Эмиасу не понравилась эта невинная болтовня. И он мрачно сказал: – Оставьте женщин в покое, господа. Вам раньше придется иметь дело с мужчинами, поэтому вытаскивайте каноэ и будьте настороже. – Ого! – воскликнул кто-то через несколько минут. – Здесь, в этой пироге, хватит свежей рыбы, чтобы накормить нас всех. Я полагаю, что эта молодая горная кошка второпях забыла ее. Хотел бы я, чтобы она оставила в придачу свою золотую цепь и побрякушки. – Оставьте рыбу в покое, – сказал Эмиас. Матросы были приучены соблюдать строгую справедливость при сношениях с дикарями; но на этот раз они не могли удержаться от лукавого подмигивания и от намеков за спиной капитана, что, кажется, он очень потрясен новым знакомством. Они умели мастерски ловить рыбу всевозможными индейскими способами, и в скором времени на берегу лежало ее достаточно, чтобы накормить всю компанию. Целый час прошел, прежде чем вновь появились индейцы, а затем из-под кустов вынырнуло каноэ, и все глаза выжидательно устремились на него. Эмиас, надеявшийся найти остатки некоей особой расы, был очень разочарован при виде полдюжины обыкновенных орсонов, разрисованных красным орлеаном. На корме сидел седовласый старый индеец, судя по его перьям и золотым украшениям – важное лицо в маленькой лесной коммуне. Каноэ подошло к самому острову. Эмиас увидел, что индейцы безоружны, и, положив на землю свое оружие, вышел вперед, делая дружеские знаки. Они были возвращены стариком с выражением большого интереса, и следующей заботой Эмиаса было показать рыбу, которую оставила прекрасная нимфа, и, при посредничестве индейского мальчика, дать понять кацику (по-видимому, это он и был), что чужеземцы возвращают ее. Это предложение, как и рассчитывал Эмиас, было принято с большим одобрением, и каноэ подошло вплотную к берегу, но команда все еще боялась выйти. Эмиас приказал матросам перенести рыбу в лодку. Затем через мальчика он объявил, – таково было его обыкновение со всеми индейцами, – что он и его спутники – враги испанцев и идут воевать с ними и что все, чего они желают, – это чтобы их мирно пропустили через владения великого вождя и знаменитого воина, которого они видят перед собой. Эмиас правильно рассудил, что даже если старик не кацик, он получит не меньшее удовольствие от того, что его ошибочно принимают за кацика. После чего почтенный старец, встав в лодке и указав на небо, землю и все окружающее, начал длинную речь. Речь старика, частью переведенная индейским мальчиком, по-видимому, означала, что весть о белых воинах уже достигла ушей говорившего и он прислан дочерью солнца приветствовать их прибытие в эти края. – Дочь солнца![382] – воскликнул Эмиас. – Значит, мы все-таки нашли потерянных инков? – Мы нашли «нечто», – сказал Карри, – лишь бы оно не оказалось такой же ерундой, как и другие наши находки. – Мы должны остерегаться обмана, – сказал Иео. – Мы не должны бояться таких вещей, – почти злобно возразил Эмиас. – Разве я не говорил вам сто раз, что если они увидят, что мы им доверяем, то и они будут нам доверять, а если они увидят, что мы относимся к ним подозрительно, то и они будут к нам относиться так же. И Эмиас приказал матросам сесть в свои каноэ и последовать за старым индейцем, куда он укажет. Простодушные дети лесов пропустили чужеземцев, а затем, улыбаясь, показали им дорогу через поток и через узкий, незаметный проход к спрятанной в зелени лагуне, на которой стояла не Маньоа, а маленькая индейская деревушка.Глава XXII Как Эмиас предавался праздности
Это была обыкновенная деревушка, расположенная под сенью пальм, с протянутыми между деревьями гамаками. Но на ней лежал отпечаток чистоты и уюта, значительно превышающий средний уровень индейских деревушек. По-видимому, англичанам была приготовлена встреча. Дети лесов выстроились в два ряда, оставив посредине открытое пространство. Мужчины стояли впереди, женщины позади, и все были раскрашены орлеаном, индиго и украшены перьями. Затем на середину выскочило существо, которое, наверное, не обиделось бы, если бы его приняли за дьявола, ибо его костюм был именно на это рассчитан. На нем была шкура ягуара, с длинным хвостом, с оскаленными зубами, на голове пара рогов и черные и желтые перья, а в руках большая трещотка. – Этот бездельник – колдун, – сказал Эмиас. Колдун направился к дверям тщательно запертой хижины и, униженно упав на четвереньки, начал хныкать, обращаясь к кому-то, кто был внутри. Но вот из хижины раздалось тихое, нежное пение, при первых звуках которого все индейцы почтительно склонились, а англичане удивленно замолкли. Голос был не резкий и гортанный, как у индейцев, а был похож на европейский. Голос рос и звучал все громче и громче, обнаруживая необычайную глубину и силу. Затем дверь хижины открылась, и индейцы простерлись ниц перед той самой прекрасной девушкой, с которой наши друзья столкнулись на острове. На этот раз она была одета в платье из перьев всевозможных цветов и оттенков. Медленно и торжественно девушка подошла к Эмиасу и, указывая на деревья, сады и хижины, знаками дала ему понять, что все к его услугам, после чего она взяла его руку и робко приложила к своему лбу. При этом выражении покорности в толпе дикарей поднялись восторженные крики. Как только таинственная девушка вновь удалилась в свою хижину, индейцы тесным кольцом окружили англичан, с удивлением рассматривая их мечи, их индейские луки и самострелы и шкуры диких животных, в которые они были одеты. Женщины поторопились принести фрукты, цветы, маниоковый хлеб и (к большому беспокойству Эмиаса) опьяняющее тыквенное питье. Коротко говоря, под деревьями начался веселый пир. Звуки труб и барабанов сливались в дикую музыку, а гибкие девушки и юноши плясали странные танцы. Последнее так возмутило Браймблекомба и Иео, что они стали убеждать Эмиаса немедленно уйти отсюда. Эмиас охотно согласился вернуться на остров, пока матросы еще трезвы. После дружеских прощаний и обещаний наутро вновь приехать отряд отправился обратно в свою крепость на острове, ломая головы над вопросом, кем или чем может быть таинственная девушка. На следующий день они вновь посетили деревушку и в течение недели продолжали приезжать каждый день; но девушка появлялась лишь изредка и держалась в отдалении. Как только Эмиас научился объясняться немного со своими новыми друзьями, он спросил кацика, кто она. Тот долго отнекивался и не хотел говорить, но наконец со всевозможными предосторожностями приступил к рассказу, вернее, к ритмическому пению о том, как много лун тому назад (он не может сказать, сколько) его племя было великим народом и обитало в Пакамене, откуда их выгнали испанцы, и как во время своих скитаний по горам, лежащим за огнедышащей вершиной Котопахи, они нашли в лесу ребенка лет семи. Пораженные его белой кожей и красотой, они приняли его за божество и взяли с собой. Когда они убедились, что девочка такого же человеческого происхождения, как они сами, их удивление едва ли уменьшилось. Как могло такое нежное существо выдержать жизнь в этих лесах и избежать ягуаров и змей? Она, должно быть, находится под особым покровительством богов; она должна быть дочерью солнца, одной из рода великих инков, весть об ужасной судьбе которых достигла даже этих диких лесов. По приказанию колдуна девочка была окружена королевскими почестями, дабы привлечь благосклонность ее предка – солнца и заслужить милость инков в дни их будущей славы. Выросши, она, по-видимому, стала среди них чем-то вроде пророчицы. Она до сих пор не была замужем – не только потому, что пренебрегала ухаживаниями юношей, но и потому еще что, по словам колдуна, примесь их крови унизила бы род, происходящий от самого солнца. Колдун приказал отвести ей хижину рядом со своей собственной; в эту хижину ей приносили еду, а она давала вещие ответы на задаваемые ей вопросы. Таков был рассказ кацика. Эмиас молчал. Он был полон грез, если не о Маньоа, то, во всяком случае, о последних инках. Что, если их можно еще найти на южных истоках Амазонки! В таком случае он уже совсем близко от них. Это очень досадно. Правда, он уверен, что в тех местах инки не создали большого государства, иначе он давно услыхал бы о нем. Может быть, позже они двинулись отсюда на восток, чтобы избежать нового нашествия испанцев, и эта девочка была потеряна ими во время бегства. Затем он со вздохом вспомнил, как безнадежно начинать новые поиски с его уменьшившимся отрядом. По крайней мере он может узнать что-нибудь достоверное от самой девушки. Это может быть полезно ему в случае какой-нибудь новой попытки, потому что он совсем еще не отказался от мысли найти Маньоа. Если только он благополучно доберется до родины, там найдется много храбрецов (ему на ум сразу пришел Рэли), которые охотно присоединятся к нему для новых поисков золотого города Гвианы на этот раз не через Высокие воды, а через устье Ориноко. Затем Эмиас и его спутники уехали на свой остров. Время шло. Англичане продолжали каждый день посещать деревушку. Неизвестно, какие чувства удерживали Эйаканору – так звали девушку – в отдалении от них. Но вскоре она преодолела себя – быть может, из простого женского любопытства, может быть, из потребности в развлечении. Не прошло и месяца, как Эйаканора стала часто охотиться с Эмиасом в соседних лесах со свитой избранных нимф, которых она убедила последовать ее примеру и отвергнуть своих прежних вздыхателей. Наконец настал день, когда Эмиас объявил, что намерен пуститься в дальнейший путь; к своему удовольствию, он нашел своих спутников вполне готовыми двинуться к испанским владениям. Им не хватало одного – пороха для мушкетов. Но они могли бы его приготовить в пути, если достанут необходимые материалы. Древесного угля вокруг было достаточно, но селитры они до сих пор нигде не видели; может быть, они найдут ее в горах; что касается серы, всякий храбрый человек может раздобыть ее там, где есть вулканы. Кто не слыхал о том, как один из испанских спутников Кортеса был спущен в корзине в дымящийся кратер Попокатепетля и набрал в нем серы. А раз это мог сделать испанец, то это сделает и англичанин. Если же они ничего не найдут, – что ж? Верные луки не раз служили им службу, не считая самострелов и стрел, отравленных ядом кураре[383], которые, хоть и бесполезны против доспехов, но для добывания пищи более пригодны, чем мушкеты. Оставалось сделать еще одну вещь – пригласить индейских друзей сопутствовать им. И на следующий день в должной форме было сделано предложение. На совет, разумеется, пригласили Эйаканору. Все шло совершенно гладко, пока старый кацик не заметил, что, прежде чем тронуться в путь, союзникам следует заключить договор о разделе добычи. Ничего не могло быть разумнее, и Эмиас попросил кацика сказать его условия. – Вы возьмете золото, а мы пленников. – А что вы с ними сделаете? – спросил Эмиас, помнивший о злосчастном договоре, заключенном в подобном же случае Джоном Оксенхэмом. – Съедим их, – невинно ответил кацик. Эмиас свистнул. – Гм, – сказал Карри, – оправдывается старая пословица – много хорошо, а мало лучше. Думаю, что на этот раз мы обойдемся без наших краснокожих друзей. Эйаканора, призывавшая к войне, была очень огорчена, но кацик был человеком дела и настаивал на своем. – Разве это хорошо? – спрашивал он. – Белый человек любит золото, и он добывает его. На что индейцу золото? Он хочет только покушать, и он должен есть своих врагов. Чем другим вы можете заплатить ему за то, что он пойдет так далеко через леса и будет страдать от голода и жажды? Вы хотите взять себе все, а омаги не должны получить ничего. Довод был неопровержим, и на следующий день англичане ушли одни. А Эйаканора? Когда отъезд был окончательно решен, она скрылась к себе в хижину и больше не показывалась. И Эмиас покинул ее, жалея об ее отсутствии, но довольный и радостный, так как снова принимался за дело.Глава XXIII Как они захватили караван с золотом
Две недели сурового пути. Распрощавшись навсегда с безграничным зеленым простором восточных равнин, странники пересекли Кордильеры, бросили жадный взгляд на окруженный роскошными садами город Санта-Фе[384] и убедились, как и ожидали, что он слишком велик и не стоит даже делать попытки овладеть им. Но все же они не потеряли времени даром. Индейский мальчик узнал, что из Санта-Фе в Магдалену направляется караван с золотом. Этот караван они решили захватить. Они расположились лагерем под деревьями над тем местом, где дорога вьется по отвесному склону горы. Все их попытки найти серу и селитру до сих пор не увенчались успехом. Поэтому они по-прежнему вынуждены были полагаться на свои мечи и стрелы. Итак, сбросив на тропинку большое дерево, чтобы перегородить дорогу каравану, они уселись среди цветов и, грызя орехи, обсуждали вопрос, что за шум они слышат каждую ночь с тех пор, как покинули берега Меты. Это не было похоже ни на ягуара, ни на обезьян, ни на один из знакомых им звуков. Впрочем, на то они были в стране чудес, и, кроме того, караван с золотом куда важнее всякого шума. Наконец снизу послышался сильный треск и громкий крик. Треск не был звуком ломающихся ветвей или стуком дятла, а крик не был визгом попугая или воем обезьяны. – Это щелканье бича, – сказал Иео, – и женский плач. Они приближаются, ребята. – Женский? Неужто они тащат с собой женщин? – спросил Эмиас. – Почему бы и нет? Вот они! Видите, как блестят их копья. – Ребята, – тихо сказал Эмиас, – не стрелять, пока я не подам знака. Тогда выпускайте по одной стреле, затем меч наголо и на них. Вперед и ни звука. Караван медленно поднимался. Впереди двигалось человек двадцать солдат. Только половина из них шла пешком. Другую половину несли в креслах на своих спинах индейцы. Те солдаты, которые шли, передали самое тяжелое оружие и аркебузы следующим за ними рабам, подталкиваемым пинками солдат, идущих сзади. – Эти люди с ума сошли, выпустив из рук свое огнестрельное оружие. – О, сэр, индеец будет молиться аркебузу, чтоб тот не застрелил его. – Десять ружей, – подсчитал деловитый Эмиас, – и десять пик. Билл сможет напасть на них сверху. Последним шествовал какой-то офицер, тоже в кресле на спине индейца, ежеминутно вынимавший изо рта сигару, чтобы разразиться проклятиями. Дальше двигалась новая процессия – длинная цепь индейцев и негров, обнаженных, изнуренных, исполосованных кнутом и кандалами. Прикованные друг к другу за левую руку, они спотыкались и обливались потом под тяжестью корзин, придерживаемых ремнями, обвязанными вокруг головы. Иео сказал правду. Здесь были не только старики и юноши, но и женщины: стройные девушки и матери с детьми, бегущими около их ног. Первые сорок человек, как насчитал Эмиас, несли на своих спинах груз, который сразу заставил всех англичан, за исключением, может быть, самого Эмиаса и Иео, забыть о тех несчастных, которые тащили этот груз. В каждой корзине лежал четырехугольный, тщательно перевязанный сверток. Наш друг Эмиас был хорошо знаком с этими свертками. – Что в них, капитан? – Золото! При этом слове все глаза жадно устремились вперед, и поднялся такой шум, что Эмиас должен был предостеречь своих людей. – Будьте осторожны, будьте осторожны, или вы все погубите! Последние двадцать индейцев несли большие по размеру, но более легкие корзины, наполненные, по-видимому, маниоковой мукой, маисом и другими съестными припасами. За ними шли носильщики и сопровождаемые рабами еще двадцать солдат. Шествие замыкал офицер, улыбающийся, покручивающий громадные усы и меньше всего думающий о неприятельской стреле, которая вот-вот в него вонзится. Все было готово. Единственный вопрос – как и когда начинать. Внезапно, как обычно бывает, повод явился по их собственной вине. Одним из последних в ряду скованных индейцев шел старый седобородый человек вместе со стройной девушкой лет восемнадцати. Как раз при их появлении передняя часть колонны завернула за угол, послышался шум, и чей-то голос крикнул: – Остановитесь, сеньоры, через дорогу лежит дерево. – Дерево через дорогу, – повторил офицер с различными горячими обращениями к исчадиям ада, к святому Яго Компостельскому[385] и множеству других личностей. Меж тем цепь дрожащих индейцев, которым спереди приказывали остановиться, а сзади гнали вперед ударами, металась взад и вперед до тех пор, пока бедный старик не упал со стоном на дорогу. Офицер соскочил с кресла и бросился вперед узнать, что случилось, и наступил на старика. – Дед Вельзевула, нашел место разлечься! – И толкнул его острием своего меча. Старик пытался встать, но тяжесть на голове превышала его силы. Он снова упал и лежал неподвижно. Надсмотрщик с силой ударил его несколько раз, но далее эта мера оказалась бесполезной. – Гастадо, сеньор капитан, – сказал он, пожимая плечами, – негоден. Он болен уже три месяца. – О чем думал интендант, посылая мне этакую дрянь? Вперед! – крикнул офицер. – Очистите дорогу, сеньоры, а я живо очищу цепь. Держи, Педрилья. Надсмотрщик поднял цепь, которая была прикреплена к кисти руки старика. Офицер отступил и занес над головой свой толедский клинок. Офицер был крупный, широкоплечий человек, и Эмиас думал, что он собирается показать силу своей руки, одним ударом перерубив цепь. Даже Эмиас не был подготовлен к чудовищной прихоти испанского искателя приключений, достойного сына тех первых завоевателей, которые имели обыкновение испытывать остроту своих мечей на живых телах индейцев и щекотать себе обоняние запахом жареных кациков. Клинок блеснул в воздухе раз-два и опустился, но не на цепь, а на руку, которая была ею скована. Раздался крик, брызнула кровь, – и цепь и пленник были разделены. В то же мгновение девушка, быстрая и свирепая, как тигр, подскочила к офицеру, с дикой силой схватила его на руки и бросилась с ним с узкой тропинки в пропасть. Послышался шум, крик. Все головы склонились над бездной. Девушка повисла на скованной руке. Офицер исчез. Наступило мгновение тишины, а затем Эмиас услышал, как далеко внизу тело ударилось о деревья. – Тащить ее наверх! Растерзать на куски! Сжечь ведьму! – И надсмотрщик, схватив цепь, изо всех сил потащил ее к себе, меж тем как остальные, соскочив со своих кресел, столпились на краю пропасти. Теперь для Эмиаса настало время действовать. На расстоянии десяти ярдов он пронзил стрелой тело надсмотрщика, а затем обрушился на остальных. Он вытащил девушку и поставил на дорогу, меж тем как испанцы отпрянули в разные стороны, приняв его за какого-то горного великана. Однако его «ура» тотчас обнаружило им их ошибку. Поднялся крик: «Англичане, лютеранские собаки!» Но было слишком поздно. Люди из Девона последовали за капитаном. Ураган стрел умертвил пятерых испанцев и ранил еще дюжину, а затем подскочил Сальвейшин Иео со своими развевающимися белыми волосами и с ним еще двадцать мечей. И смертоносная работа началась. Испанцы дрались, как львы, но у них не было времени зарядить аркебузы и не было места, чтобы пустить в ход пики. Нападавшие имели за собой стену, а в подобных условиях это значило держать врага в своих руках. Пять отчаянных минут – и на дороге не осталось ни одного живого испанца, ни одного живого не нашлось бы и в зеленой бездне внизу. – Теперь освободите индейцев. На одном из мертвых тел нашли инструменты, и приказ был тотчас выполнен. Большая часть пленных сохранила полное равнодушие, и, когда их освободили от цепей, они спокойно сели там, где стояли. Железо слишком глубоко въелось в их душу. Казалось, они разучились надеяться, радоваться, даже понимать что-либо. Но молодая девушка, которая была последней в цепи, лишь только ее освободили, бросилась к телу своего отца, подняла его своими тонкими руками, положила к себе на колени, стала целовать его увядшие губы, ласкать морщинистую шею, все время бормоча что-то нечленораздельное, чего никто не мог понять. Затем она встала, держа тело на руках. Еще мгновенье, и она бросилась в пропасть. Все смотрели, как ее тело, сплетенное с телом старика, перевернулось раз, другой, третий, пока треск ветвей и гам, поднявшийся среди птиц, не сказали им, что она достигла деревьев, и зеленая чаща скрыла ее. – Мы должны взять оружие этих негодяев и их одежду также, Иео, если хотим спокойно добраться до Магдалены. Теперь слушайте. Мы добыли достаточно золота, чтобы обеспечить остаток нашей жизни, и не потеряли при этом ни единого человека. И мы сможем добыть еще больше, если будем умны. Но, друзья мои, вспомните мистера Оксенхэма и его команду и не превращайте золото в причину нашей гибели из-за предательства, жадности или чрезмерной поспешности. – Что мы должны делать? – Золото понесут индейцы, – сказал Эмиас. – Но нам нужно пробраться через самое сердце испанских владений и через город Санта-Мария. Поэтому мы должны носить одежду и оружие этих испанцев, чего бы это нам ни стоило. Сколько человек лежит на дороге? – Тринадцать здесь и еще около десяти выше, – ответил Карри. – Значит, около двадцати упали. Кто согласен спуститься в пропасть и принести их вещи? Дюжина выступила вперед. – Идите за мной. Сэр Джек, возьмите мальчика в качестве переводчика и попробуйте успокоить этих бедных индейцев. Разъясните им, что они все будут свободны. – Смотрите, кто это поднимается по дороге? Все глаза обратились по указанному направлению. К ним приближалась Эйаканора с самострелом в руках и луком за спиной, наряженная в свою одежду из перьев, хотя едва ли можно было найти что-нибудь менее подходящее для двухнедельного странствия по лесу. Все опешили от изумления, а она, увидев Эмиаса, испустила радостный крик и ускорила свой шаг до бега и, наконец, задыхаясь, упала к его ногам. – Я нашла вас, – говорила она, – вы хотели скрыться, но вы не сможете избавиться от меня. – Что я буду с ней делать?! – воскликнул Эмиас, глядя на плачущую девушку. Но медлить было некогда, и Эмиас начал карабкаться по скале, а девушка, увидев, что большая часть отряда осталась, уселась на каменный выступ ждать его. Через полчаса тяжелого труда оружие, одежда и доспехи свалившихся вниз испанцев были подняты на гору и распределены между матросами. Лежавшие на тропинке тела были сброшены в пропасть, и отряд возобновил свой путь на Магдалену. Теперь у Эмиаса нашлось время спросить Эйаканору, что означает ее странное появление. Он предпочел бы ее видеть где угодно, только не здесь. И когда Эмиас говорил с ней, в его голосе, из страха обидеть ее, было больше нежности, чем когда-либо прежде. Она рассказала ему, как день и ночь шла по их следам, стараясь производить самые громкие звуки, какие могла, надеясь, что они услышат ее и либо подождут, либо вернутся обратно узнать причину шума. Теперь Эмиас вспомнил странный рев, который их преследовал. – Шум, чем вы его делали? Эйаканора с таинственным видом подняла палец, а затем осторожно извлекла из своего платья какой-то предмет. – Посмотрите, – прошептала она, как бы испуганная тем, что сама вещь может услышать ее. – Священная труба. Это была красивая глиняная труба, около двух футов длиной, искусно глазированная, разрисованная причудливыми узорами и фигурами животных – очевидно, наследие какой-то исчезнувшей цивилизации. – Что это значит, Эйаканора, и почему вы пошли за нами? – спросил Эмиас. Она рассказала длинную историю, из которой Эмиас разобрал, что эта труба в течение многих лет была единственной вещью в племени, почитаемой больше нее; единственной вещью, на которую ей не разрешено было смотреть потому, что она женщина. Тогда она решила доказать, что женщина может быть не хуже мужчины. С тех пор начались ее амазонские подвиги. И все же колдун не хотел ни показать ей трубу, ни сказать, где она спрятана, а искать ее Эйаканора боялась, так как даже ей угрожал бы гнев племени. Но на следующий день, как только ушли англичане, колдун начал выражать свою радость по поводу их ухода. Последовало столкновение между учителем и ученицей, кончившееся тем, – призналась Эйаканора, – что она подожгла хижину старого мошенника. Он выскочил оттуда, потеряв все свои колдовские принадлежности, и убежал в лес. А она, забрав достаточно съестных припасов, оружия и перья, отправилась по его следам и настигла его в то самое мгновенье, когда он доставал из земли таинственную драгоценность. Она бросилась на несчастного колдуна и с триумфом утащила свою добычу. И вот она здесь. – Я надеюсь, вы не убили его? – спросил Эмиас. – Я немножко поколотила его; но я подумала, что вы не позволили бы мне убить его. Эмиаса слегка позабавило это признание, свидетельствовавшее о его влиянии на нее, а она продолжала: – А затем я не смела вернуться к индейцам, и потому мне пришлось пойти за вами. Девушка удалилась в арьергард и твердо пошла за всеми другими. Она ни с кем не разговаривала, но, очевидно, решилась следовать за англичанами до конца.Глава XXIV Как они захватили большой галеон
Епископ Картахены сидел в роскошной каюте большого галеона «Город Веракрус» и задумчиво смотрел в окно. Он пребывал в состоянии блаженного покоя. Его массивная фигура возлежала в одном мягком кресле, а массивные ноги покоились на другом – подле стола, уставленного апельсинами, сладкими лимонами, гуавами и ананасами. Девушка-индианка, разукрашенная шарфами и золотыми цепями, стояла за его стулом, отгоняла мух опахалом из перьев, а перед ним стояла во льду не одна бутылка славного аликантского вина. Но епископ не был так эгоистичен, чтобы вкушать прелесть плодов и вина в одиночестве: дон Педро – командир находящихся на корабле солдат, дон Альверез – интендант службы его католического величества в городе Санта-Марта, и дон Пауль – капитан корабля «Город Веракрус», по особому приглашению епископа, явились к нему в этот вечер и совместно с двумя католическими монахами, сидящими на нижнем конце стола, прилагали все усилия, чтобы убедить епископа не принимать слишком близко к сердцу печального положения его соборного города, недавно ограбленного и сожженного сэром Фрэнсисом Дрейком. Лишь только гости ушли, епископ приказал индианке подать ему из-под подушки шкатулку и, бормоча молитвы по требнику, злобными, жадными глазами скаредной старости стал пожирать драгоценности, наполнявшие шкатулку. – А все же это даст мне возможность купить красную шапку[386]. Поставь ее на место, Тита, и не смотри на нее слишком долго, дитя мое, не поддавайся искушению. Небо из любви к индейцам сделало их бедными в этой жизни, чтобы вознаградить в будущем. Ах! Уф! Так! – И старый скряга влез на свою койку. Тита задернула над ним сетку от москитов, второй сеткой обернула свою голову и сделала вид, что уснула в углу на полу. Полночь давно миновала, и луна скрылась. Часовые, которые топали и покрикивали наверху, пока не уснули их офицеры, разбрелись в разные стороны и заснули не менее крепко, чем епископ. Два длинных предмета выскользнули из-за одинокого утеса Морро Гранда, лежащего на расстоянии около пятисот ярдов от галеона. Они были почти невидимы на сверкающей поверхности воды, будучи совершенно белыми. Если бы даже часовой смотрел на них, он мог бы их заметить только благодаря фосфоресцирующим полосам по бокам. Епископ проснулся и с трудом повернулся на бок. Выпитое вино давало себя чувствовать. Болела голова. Он неловко сел на своей койке и позвал Титу. – Подсунь мне другую подушку под голову, дитя! Что это, рыба? Тита посмотрела. Она предпочла ничего не говорить. Ее слова вызвали бы возражения, а у нее были свои причины желать, чтобы епископ скорее уснул. Епископ взглянул еще раз, решил, что это, должно быть, белый кит или акула, или другое морское чудовище, перекрестился и снова захрапел. В это время дверь каюты тихонько открылась и просунулась голова интенданта. Тита села, а затем скользнула меж столов и стульев. – Спит он? – Да, но шкатулка у него под головой. – Черт бы его побрал. Как же мы достанем ее? Галеон отплывает завтра утром, и тогда все пропало. Тита показала свои белые зубы и дотронулась до кинжала, который висел на боку интенданта. – Я не посмею, – вздрогнув, сказал негодяй. – Я посмею, – сказала она, – он бил мою мать, она не хотела отдавать меня в их школу учиться. Он послал ее на рудники, и она умерла через три месяца. Я видела, как она шла с цепью на шее. Я смею убить его! Я хочу убить его! Хочу! Сеньор почувствовал себя гораздо легче. Разумеется, у него не было желания самому совершать убийство, потому что он был добрым католиком и боялся дьявола. Но Тита – индианка, и если ее душа погибнет, это не так важно. Души индейцев стоят так же мало, как и их тела. Так думал интендант; и поэтому он ответил: – Но нас накроют. – Я выскочу из окна с шкатулкой и поплыву к берегу. Они никогда не заподозрят вас и подумают, что я утонула. – Тебя может схватить акула, Тита. Лучше отдай мне шкатулку. Тита улыбнулась: – Вы не хотите потерять ее и мало беспокоитесь о том, что потеряете меня. И все же вы говорили мне, что любите меня. – И я люблю тебя, Тита! Я женюсь на тебе! Клянусь! Я готов поклясться на распятии, если хочешь! – Тогда клянитесь, или я не дам вам шкатулки, – сказала Тита, вытаскивая маленькое распятие, висевшее у нее на шее, и пожирая испанца глазами, полными любви. Дрожащий и бледный, он поклялся. – Дайте мне ваш кинжал. – Нет! Его могут найти. Меня заподозрят. Что, если увидят, что мои ножны пусты? – Тогда ваш нож. Его горло достаточно нежно. – Она неслышно, как кошка, скользнула к койке, а ее трусливый сообщник дрожа стоял на другом конце каюты, повернувшись к ней спиной и закрыв глаза, чтобы не видеть, что она делает. Внезапно чья-то тяжелая рука схватила его за горло. Что это – епископ или его дух? И, позабыв все, кроме дикого страха, интендант открыл рот для крика, но в ту же минуту ему в рот был засунут платок, а в следующую он лежал на столе, связанный по рукам и ногам. Каюта была полна вооруженных людей. Двое из них вязали епископа, двое других держали Титу. – Теперь, Билл, – прошептал схвативший интенданта, – наверх и изо всех сил кричи «Пожар!». Девушка-убийца! Ваша жизнь в моих руках. Покажите мне, где спит командир, и я прощу вас. Тита взглянула на громадную фигуру говорившего и молча повиновалась. Интендант видел, как она вошла в каюту полковника, затем послышалась короткая борьба, и на мгновение воцарилась тишина. Но только на мгновение, потому что уже был дан сигнал к тревоге и поднялась дикая суматоха. Эмиас (это был он) уже овладел кормой. Часовые были связаны и лежали с кляпом во рту; полуголых матросов, которые в одних рубахах, дрожа, вылезали на палубу через решетчатый люк с возгласами: «Пожар! Крушение! Измена!», хватали и сбрасывали вниз. – Спустите эту лодку! – крикнул Эмиас по-испански двум или трем испанцам, которым все же удалось выбраться на палубу. Безоружные, раздетые люди не посмели ослушаться. – Теперь прыгайте в нее и ловите других. Каждого вновь появляющегося хватали в охапку и бросали за борт, в лодку. – Теперь режьте канат и плывите, куда хотите, но если вы сделаете попытку вернуться на корабль – мы вас потопим. – Пожар, пожар! – продолжал кричать Карри. – Все наверх, если жизнь вам дорога! Хитрость вполне удалась. Не прошло получаса, как все лодки, битком набитые испанцами в одних рубашках, летели к берегу со всей быстротой, на какую только были способны. – Поставь грот и фок-зейль[387], Билл! – сказал Эмиас. – Обрежь канат. Когда двинемся, мы начнем щипать перья с убитой дичи. – Из тебя вышел бы недурной сокольничий! Надеюсь, потроха этого большого боевого петуха придутся нам по вкусу! – Уверен в этом, – сказал Джек Браймблекомб, – недаром он так низко сидит. – Главным образом благодаря твоей тяжести, Джек! Кстати, где командир? Увы! Забытый в суматохе, связанный дон Педро беспомощно лежал на палубе в одной рубашке. Он уже истощил весь свой запас обращений к невидимому миру. В ту самую минуту, как Эмиас произносил последние слова, мимо его уха просвистели две пули, выпущенные откуда-то снизу. Из окон кормы, выходящей на верхнюю палубу, был открыт меткий огонь. Эмиас не хотел напрасно рисковать жизнью, зная, что количество оставшихся на корабле испанцев все еще может превышать количество нападавших, и отступил на корму вместе со своими матросами. Начался горячий бой между двумя отрядами воинов, которые легко могли отличить своих от чужих по особенностям одеяния. Испанцы дрались в одних рубашках, англичане были одеты во что угодно, но среди них не было ни одного в рубашке. Испанцы бились как бешеные, но, несмотря на численное превосходство, постепенно отступали. – Сдавайтесь, сеньор! – крикнул Эмиас освобожденному командиру, который дрался бок о бок с капитаном корабля. – Никогда! Вы оскорбили меня. Моя иль ваша кровь должна пролиться! И командир бросился на Эмиаса. Несколько мгновений оба проявляли свое фехтовальное искусство, а затем Эмиас нанес противнику удар по голове, но в ту же минуту, как он поднял руку, клинок испанца скользнул по его ребрам и застрял в плечевой кости; на один дюйм левее – и он пронзил бы сердце нашего друга. Тем не менее последовал ответный удар, и командир упал, оглушенный плоской стороной меча, но не пораженный насмерть, так как рука Эмиаса дрогнула. Капитан корабля, увидев, что Эмиас пошатнулся, прыгнул на него и, схватив его руку, прежде чем он успел снова поднять меч, приготовился проткнуть Эмиаса насквозь. Эмиас, в свою очередь, попытался поймать руку капитана, но из-за слабости и темноты это ему не удалось. Еще мгновенье, и все было бы кончено. Перед глазами Эмиаса сверкнул блестящий клинок. Рука капитана, сжимавшая запястье Эмиаса, разжалась; капитан упал мертвым. А над ним стояла Эйаканора с развевающимися длинными волосами и поднятым кинжалом. – Вы ранены? – задыхаясь, спросила она. – Царапина, дитя. Что вы тут делаете? Ступайте назад, назад! – Эйаканора повернулась, как провинившийся ребенок, и исчезла в темноте. Битва кончилась. Испанцы, увидев, что их командир упал, побросали оружие и стали просить пощады. Она была им дана. Бедняги были связаны попарно и рассажены в ряд на палубе. Командир, получивший тяжелый ушиб, был вынужден сдаться, и галеон был взят. Эмиас поспешил отдать приказ распустить паруса. – Теперь, ребята, вытаскивайте из каноэ золото Санта-Фе, а затем мы свернем на северо-восток и двинемся вперед, домой, в старую Англию. И, мистер Браймблекомб, на этот раз вы не посмеете сказать, что стремление на восток приносит несчастье. Около семи часов корабельный дворецкий-португалец, получивший вместе с поваром-негром надлежащие инструкции от Джека Браймблекомба, явился на палубу и с глубоким поклоном объявил «светлейшему и героическому сеньору губернатору английскому капитану», что завтрак ждет его в лучшей каюте. – Надеюсь, вы не откажете нам в чести сопутствовать нам в качестве нашего гостя или нашего хозяина, если вы предпочитаете это звание? – сказал Эмиас стоящему невдалеке командиру. – Простите, сеньор, но моя честь воспрещает мне есть вместе с тем, кто нанес мне неизгладимое оскорбление, связав меня. – О, – сказал Эмиас, снимая шляпу, – в таком случае прошу вас немедленно принять мои извинения за все происшедшее и мои уверения, что все неприятности, которым вы, к несчастью, подверглись, были вызваны исключительно военной необходимостью, а ни в какой мере не желанием оскорбить вас. – Довольно, сеньор, – сказал командир, кланяясь и пожимая плечами, ибо, разумеется, он тоже был голоден. Они спустились вниз и нашли уже развязанного к тому времени епископа, сидящего в углу каюты со сложенными на коленях руками и блуждающими глазами, и двух монахов, тесно прижавшихся к стене и без устали бормотавших молитвы. – Ваше преосвященство, разумеется, будет завтракать с нами и эти двое в рясах также. Я не вижу причины отказывать им в гостеприимстве пока что. Он сделал на последних словах ударение, заставившее вздрогнуть обоих монахов. – Наш капеллан[388], конечно, возьмет их на свое попечение, джентльмены. Его милость епископ окажет мне честь сесть подле меня. Епископ, казалось, медленно приходил в себя, вдыхая живительные ароматы, и наконец, машинально поднявшись, опустился на стул, предложенный ему Эмиасом слева от него, в то время как командир сел справа. – Кусочек козули, ваше преосвященство? Нет? Ах, пятница – я и забыл[389]. Тогда немного этого черепахового плавника. Билл, подай его милости. Передай сюда маниоковый хлеб, Джек. Сеньор командир, стакан вина. Вы нуждаетесь в нем после ваших трудов. За здоровье всех храбрых воинов, в честь вашей пословицы: «Сегодня ты, а завтра я!» – Я пью вместе с вами, доблестный сеньор! Ваша учтивость делает вас достойным соотечественником генерала Дрейка и его славного лейтенанта! – Дрейка? Вы знаете его, сеньор? – спросили все англичане в один голос. – Разве вам не известно, сеньор, что он и его флот лишь в прошлом году подошли к этим берегам и взяли, со стыдом признаюсь в этом, Картахену, Сан-Доминго, Сант-Августин и… Я вижу, вы слишком вежливы, сеньоры, чтоб выразить в моем присутствии то, что вы имеете право чувствовать. Но откуда вы явились? С неба или со дна моря? Что вы не нуждались в помощи черной магии после того, как очутились на борту, я, к сожалению, слишком хорошо могу удостоверить, но какой дух доставил вас на борт и откуда? Где ваш корабль? Я думаю, что вся эскадра Дрейка покинула эти места уже более полугода. – Наш корабль, сеньор, был сожжен три года тому назад на берегу мыса Кодера. – А! Мы слышали об этом смелом приключении, но думали, что вы все погибли внутри страны. – Вы слышали? Тогда не можете ли вы мне сказать, где находится в данное время правитель Ла-Гвайры? – Дон Гузман де Сото? – ответил командир несколько принужденным тоном. – По слухам, он находится в настоящее время в Испании, покинув свою должность вследствие домашних обстоятельств, о которых я не имею чести ничего знать. Эмиас страстно желал спросить еще что-нибудь, но он знал, что тот не станет рассказывать ничего касающегося чужой жены, и продолжал: – Что случилось с нами потом, я вам откровенно расскажу. И Эмиас рассказал свою историю, начиная с той минуты, как он высадился в Гвайре и до перехода через Магдалену. – Будем надеяться, что эти удачи скоро кончатся, – проворчал про себя один из монахов. Джек расслышал его слова. – Послушайте, милорд епископ, – позвал он с другого конца стола, – мы, англичане, имеем привычку разрешать нашим гостям быть дерзкими; но, может быть, ваша милость соизволит намекнуть этим двум братьям, что, если они хотят сохранить свою шкуру в целости, пусть не дают воли языку. – Молчите, ослы! Мулы! – закричал епископ, настроение которого поднялось под влиянием вина. – Кто вы, что не можете проглотить мерзости?! – Хорошо сказано, милорд. За здоровье нашего святейшего и уважаемого гостя, – сказал Карри, меж тем как командир шепнул Эмиасу: – Жирный, старый деспот. Я надеюсь, вы нашли его деньги, потому что я уверен, что они у него где-то спрятаны, и я буду очень огорчен, если вы не сможете ими воспользоваться. – Я расскажу вам потом кое-что по поводу этих денег, командир… Кстати, лучше рассказать это сейчас. Милорд епископ, вы потеряли бы не только деньги, как теперь, но и самую жизнь. – Деньги?! Мне нечего было терять! Жизнь? Что вы хотите сказать? – бледнея, спросил епископ. – Это самое, сэр. Не следует лгать тому, чье горло лишь четыре часа тому назад было спасено от ножа убийц. Когда мы вошли в вашу каюту, мы застали в ней двух людей, находящихся в настоящее время здесь на корабле; они собирались перерезать вам горло, чтобы иметь возможность похитить вашу шкатулку, которая лежала у вас под подушкой. Минутой позже, и вы были бы мертвы. Мы схватили и связали их и, таким образом, спасли вам жизнь. Теперь вам ясно? Епископ упорно и тупо смотрел в лицо Эмиасу, затем глубоко вздохнул и медленно осел в своем кресле, уронив стакан. – Возможно ли это, сеньор? – спросил командир. – Это чистейшая правда. Эй, кто там? Иванс, пойди и приведи того негодяя, которого мы оставили связанным в его каюте. Иванс ушел, а командир продолжал: – Но наш корабль… Каким чудом попали вы на него? – Очень просто и без всякого чуда. Позапрошлой ночью мы вышли из бухты на двух каноэ, связанных вместе. Накануне днем мы тщательно вычистили их и натерли белым илом, чтобы ночью они были невидимы, и таким образом благополучно добрались до Моро Гранде, пройдя в какой-нибудь полумиле от вашего корабля. – Эти бездельники часовые! – Мы высадились на другой стороне Моро и простояли там весь день, подготовляясь к тому, что выполнили. Мы взяли наши паруса, сделанные из индейской ткани, и выбелили их илом, который привезли с собой по реке (мы рассчитывали встретить какой-нибудь испанский корабль, плывя вдоль берега, и решили завладеть им или умереть). Этими парусами мы покрыли сверху наши каноэ и гребли из-под них. Так что даже если бы ваши часовые не спали, они вряд ли заметили бы нас прежде, чем мы подошли к самому борту. Вместо лестницы мы пользовались длинными бамбуками, снабженными подпорками для ног и крюком из крепкого дерева на верхушке. Они и сейчас висят на перилах вашей кормы. Конец истории мне незачем вам рассказывать. Командир поднялся и учтиво промолвил: – Вы одержали победу, капитан! И мне не стыдно, что я не устоял перед противником, соединяющим хитрость змеи с храбростью льва. Сеньор, я так же горжусь быть вашим гостем, как гордился бы при более счастливых обстоятельствах быть вашим хозяином. – Вы слишком великодушны, сеньор. Но что там за шум снаружи? Карри, пойди и посмотри. Но не успел Карри дойти до двери, как она открылась. Появился Иванс с перепуганным лицом. – Преступление, сэр! Испанец убит и уж похолодел. Индианка исчезла, а когда мы обыскивали корабль, чтобы найти ее, мы нашли английскую женщину. На нее страшно смотреть! – Английскую женщину?! – вскакивая, закричали все трое. – Приведите ее сюда, – сильно побледнев, сказал Эмиас, и тотчас Иео с другим матросом ввели в каюту фигуру, в которой едва можно было узнать человеческое существо. Это была старая женщина, одетая в желтое одеяние жертв инквизиции, с растрепанными седыми волосами, свисающими на измученное и изнуренное голодом лицо. Страдальчески сощурив глаза, как человек, не привыкший к свету, она озиралась вокруг. Ее сжатые губы придавали ей полуидиотское выражение, и все же в глазах мерцали безграничный страх и подозрительность. Она подняла свои скованные руки, чтобы закрыть лицо, и при этом движении на костлявой руке обнаружился ряд ужасных шрамов. – Посмотрите сюда, господа! – указывая на них, сказал Иео с жестокой улыбкой. – Это работа папистских палачей. Я хорошо знаю, что означают эти знаки. И он показал подобные же шрамы на своей собственной руке. Командир отшатнулся с таким же ужасом, как англичане. – Как очутилась эта несчастная на борту моего корабля? Епископ, так это пленник, которого вы прислали? Епископ, который понемногу пришел в себя, посмотрел на нее, а затем быстро отодвинул свой стул, перекрестился и почти завопил: – Проклятье, проклятье! Кто привел ее сюда? Уберите ее, не смотрите на нее. Она сглазит вас, околдует! – И он начал бормотать молитвы. Эмиас схватил его за плечи и поставил на ноги. – Свинья! Кто это? Очнись, трус, и скажи мне, или я разрежу тебя на куски! Но, прежде чем епископ успел ответить, женщина испустила дикий крик, и, указывая на более высокого из двух монахов, спряталась за Иео. – Он здесь! – кричала она на ломаном испанском языке. – Возьмите меня отсюда! Я вам больше ничего не скажу. Я вам сказала все и еще много неправды. О, зачем он опять пришел? Ведь они сказали, что больше не будут меня мучить. Монах побледнел, но, как загнанный дикий зверь, обвел все собрание злым взглядом, а затем, в упор смотря на женщину, так сурово приказал ей замолчать, что она, как побитая собака, опустилась на пол. – Молчи, пес! – вскричал Билл Карри, которому кровь бросилась в голову, и подкрепил свои слова ударом, поневоле заставившим монаха замолчать. – Не пугайтесь, добрая женщина, и говорите по-английски. Мы все здесь англичане. Расскажите нам, что они с вами сделали. – Новая ловушка! Новая ловушка! – закричала она с сильным девонширским акцентом. – Вы не англичане. Вы опять хотите заставить меня лгать, а потом начнете мучить. О, я несчастная! – закричала она, разражаясь слезами. – Кому мне довериться? Эмиас стоял молча, полный жалости и ужаса. Какой-то инстинкт подсказывал ему, что он скоро услышит новости, о которых он боялся спросить. Но Джек сказал: – Не бойтесь, душа моя, не бойтесь. Бог защитит вас, если вы только будете говорить правду. Мы все англичане и все из Девона, откуда и вы, кажется, судя по вашей речи. Корабль этот наш, и сам папа не посмеет до нас дотронуться. – Из Девона! – колеблясь, повторила она. – Из Девона. Откуда же? – Из Байдфорда. Это мистер Билл Карри из Кловелли. Если вы – девонская жительница, вы, наверное, слыхали о Карри. Женщина сделала скачок вперед и бросилась Биллу на шею. – О, мистер Карри! Жизнь моя! Мистер Карри! Так это вы? Ох, душенька! Но вы таки почернели, а я совсем ослепла от горя. Ох, кто только послал вас сюда, мой дорогой мистер Билл, чтобы вытащить меня, несчастную, из ада?! – Кто же вы? – Люси Пассимор, «белая колдунья» из Вилькомба. Разве вы не помните Люси Пассимор, которая сводила вам бородавки, когда вы были мальчиком? – Люси Пассимор! – почти завопили все три друга. – Та, которая уехала с… – Да! Та, которая… – Где донна Рози Солтерн? – вскрикнули Билл и Джек. – Где мой брат Фрэнк? – воскликнул Эмиас. – Умерли, умерли, умерли! – Я знаю это, – сказал Эмиас, садясь опять. – Как она умерла? – Инквизиция… он!.. – указала Люси на монаха. – Спросите его. Он приговорил ее к смерти. И спросите его! – указала она на епископа. – Он сидел и смотрел, как она умирала. – Женщина, вам снится сон! – сказал епископ, вставая с перепуганным видом и отходя как можно дальше от Эмиаса. – Как умер мой брат? – спросил Эмиас все еще спокойно. – Кто вы, сэр? Луч надежды сверкнул перед Эмиасом. Она не ответила на его вопрос. – Я – Эмиас Лэй из Бэруффа. Знаете ли вы что-нибудь о моем брате, Фрэнке, который был взят в плен в Ла-Гвайре? – Мистер Эмиас! Как это я не узнала вас по росту! Ваш брат умер… – Но как? – настаивал Эмиас. – Сожжен вместе с ней, сэр! – Правда это? – обернувшись к епископу, спросил Эмиас совершенно спокойным голосом. – Я… его… – заикаясь и задыхаясь, торопливо оправдывался епископ. – Я ничего не мог сделать по своему положению епископа. Я был принужден быть невольным свидетелем… Я – слуга церкви, сеньории и не мог вмешаться в это, как ни в какие дела инквизиционного суда. Я не принадлежу к нему – спросите его, сеньор! Что вы собираетесь сделать?.. – закричал он, когда Эмиас положил ему на плечо свою тяжелую руку и повлек его к двери. – Повесить вас! – ответил Эмиас. – Повесить меня?! – воскликнул злополучный старик и стал униженно молить о пощаде. – Возьми черного монаха, Иео, и повесь его тоже. Люси Пассимор, этого молодца вы тоже знаете? – Нет, сэр, – ответила Люси. – Ваше счастье, брат Герундио, – сказал Билл Карри, меж тем как добросердечный брат закрыл лицо руками и заплакал. Но епископ продолжал кричать: – Ох, не сейчас! Один час! Только один час! Я еще недостоин смерти. – Это меня не касается, – заявил Эмиас. – Я знаю одно, что вы недостойны жизни! – О, брат Герундио, – визжал епископ. – Молитесь за меня! Я обращался с вами, как животное. О, брат мой, брат! – Не просите прощения у меня. Просите прощения у Бога за все ваши грехи по отношению к бедным невинным дикарям. Год за годом смотрели вы, как убивали ни в чем не повинных овец, и ни разу не подняли голоса в их защиту! О, покайтесь в этом, милорд, покайтесь, пока не поздно! – Я покаюсь во всем, брат: и в своем отношении к индейцам, и к золоту, и к Тите. Только пять минут, сеньоры, только пять минут, маленьких минуточек, пока я покаюсь доброму брату! – И он повалился на палубу. – Я не желаю подобной комедии там, где я распоряжаюсь, – жестко сказал Эмиас. – Уберите этого труса, – продолжал Эмиас, в то время как черный доминиканец стоял совершенно спокойно, сохраняя на лице нечто вроде улыбки жалости к несчастному епископу. Человек, привыкший к жестокости и упорный в своем фанатизме, он был так же готов переносить страдание, как и причинять его. Епископ дал брату Герундио ряд мелких поручений относительно своей сестры и ее детей и маленького виноградника на солнечных склонах далекой Кастилии и умер, как доблестный муж Испании. Эмиас долго стоял в торжественном молчании, глядя на два тела, болтающиеся над его головой. Вся манера Эмиаса держаться изменилась за последние полчаса. Казалось, он постарел на много лет. Его лоб нахмурился, губы сжались, в глазах появилось неподвижное спокойствие, как у человека, который замыслил великое и страшное дело и именно потому должен стараться быть спокойным, даже веселым. Когда он вернулся в каюту, он вежливо поклонился командиру, извинился перед ним за то, что так плохо играет роль хозяина, и попросил закончить завтрак. – Но, сеньор, возможно ли это? Неужели его преосвященство умер? – Он повешен и умер. Я повесил бы, если бы мог, всякое существо, присутствовавшее при смерти моего брата. Ни слова более, сеньор. Ваша совесть подскажет вам, что я прав. По окончании завтрака Эмиас пошел взглянуть на Люси Пассимор, которую кормили матросы, взявшие ее на свое попечение, меж тем как Эйаканора с надутым лицом наблюдала за ними. – Я поговорю с вами, когда вам станет лучше, Люси, – сказал Эмиас, беря ее за руку. – Теперь вы должны есть и пить и забыть обо всем среди девонских ребят. – Зачем вы взяли ее за руку? – спросила Эйаканора почти презрительно. – Она старая, безобразная и грязная. – Она – англичанка, дитя, и мученица, и я буду ухаживать за ней, как ухаживал бы за собственной матерью. – Почему вы не делаете меня англичанкой и мученицей? Я могу научиться делать абсолютно все, что умеет эта старая ведьма! – Вместо того чтобы называть ее нехорошими именами, лучше пойдите и позаботьтесь о ней. Эйаканора отскочила от него, растолкала матросов и овладела Люси Пассимор. – Куда я ее дену? – не подымая глаз, спросила она Эмиаса. – В лучшую каюту, дитя, и пусть ей прислуживают как можно лучше, слышите, ребята! – Никто, кроме меня, не дотронется до нее, – и, подхватив иссохшее тело на руки, как куклу, Эйаканора с победоносным видом удалилась, предложив матросам заниматься своим делом. – Девчонка спятила, – сказал один. – Спятила или нет, но она заглядывается на нашего капитана, – сказал другой. – А где вы найдете другого, который стал бы обращаться с бедной дикаркой так, как он? – Сэр Фрэнсис Дрейк стал бы. От него он и научился. Однако не мешало бы промочить глотку. Хотел бы я знать, водится ли у этих донов пиво? – Ручаюсь, что у них нет ничего, кроме виноградного уксуса, который дураки называют вином. – Положим, совсем недавно на столе стояли вещи получше уксуса. – Ну, – заявил один ворчун, – это не для таких бедняков, как мы. – Не лги, Том Иванс. До сих пор ты в этом не попадался, и я думаю, ложь – совсем не подходящее занятие для такого славного парня. Вся компания вытаращила глаза. Эти слова произнес не кто иной, как сам Эмиас, подошедший к ним с бутылкой в каждой руке. – Нет, Том Иванс. Три года делили мы все поровну, и каждый мужественно выносил свою долю страданий. И впредь так останется – вот вам первое доказательство. Мы с удовольствием разопьем хорошее вино все вместе, а затем примемся за плохое. Только помните, дети мои, не напиваться допьяна. Нас слишком мало, чтобы кто-нибудь мог позволить себе роскошь валяться под столом. Наконец этот бурный день кончился. К пленникам относились с большой добротой. И когда через два дня отправляемые на берег пленники усаживались в каноэ, побежденные и победители обменялись крепким рукопожатием. А Эмиас вернул командиру его меч и преподнес ему на прощанье бочонок епископского вина. Шаг за шагом, в той мере, как позволяли ей слабость и затмение рассудка, рассказала Люси Пассимор свою историю. В общем, она была очень проста, и обо многом Эмиас мог сам догадаться. Рози уступила испанцу не без борьбы. Он посетил ее два или три раза в домике Люси (как узнал он о существовании Люси, она сама не знала, – разве что от иезуитов?), прежде чем она согласилась пойти за ним. Он привлек Люси на свою сторону, обещав щедро вознаградить ее индейским золотом. Наконец они поехали в Лэнди, и там влюбленные были обвенчаны священником, и это был не кто иной, – Люси готова была поклясться, – как более короткий и толстый из тех двух, которые увезли на лодке ее мужа, – одним словом, отец Парсон. Они уехали из Лэнди на португальском судне, пробыли несколько дней в Лиссабоне (причем Рози и Люси не сходили на берег), а затем корабль пошел прямо в Вест-Индию. Молодые были веселы, как солнечный день. Он готов был целовать следы ее ног, пока не появился этот злой дух, мистер Евстафий, – никто не знал, как и откуда. И с этого времени все пошло плохо. Евстафий приобрел власть над доном Гузманом. Угрожал ли он ему расторжением брака или возбуждал в нем суеверные угрызения совести за то, что он позволяет своей жене оставаться еретичкой, или (как сильно подозревала Люси) внушал ему, что ее сердце все же рвется на родину, в Англию, и она мечтает, чтобы прибыл Эмиас со своим кораблем и увез ее домой, – неизвестно. Дом скоро стал вертепом зла, а Евстафий – его повелителем. Дон Гузман даже приказал Евстафию покинуть дом. И он ушел, но через неделю каким-то образом вернулся и оказался еще в большей милости, чем прежде. Затем начались приготовления к встрече англичан и сильные ссоры между доном Гузманом и Рози, и, наконец, за несколько дней до появления Эмиаса дон Гузман выскочил из дома как фурия[390] и открыто крикнул, что она предпочитает ему этих лютеранских собак и что он убьет сначала их, а потом ее. Конец был скоро досказан. Эмиас и так слишком хорошо знал его. На другое же утро, после того как он был в вилле, Люси и ее госпожа были схвачены (они не знали кем) именем инквизиционного суда и отправлены на корабле в Картахену. Там их допрашивали и обвинили в колдовстве, чего злополучная Люси даже не могла отрицать. Ее подвергли пыткам, чтобы оговорить Рози. И что она говорила или чего не говорила под пытками, бедняжка сама не знала. Через три недели их повезли на аутодафе[391]. И здесь Люси в первый раз увидела Фрэнка, который шел в ужаснойпроцессии обреченных огню. Люси была публично присуждена получить двести плетей и быть сосланной в «Священную обитель» в Севилье на вечное заключение, а Фрэнк и Рози были сожжены на одном костре. Люси полагала, что они не чувствовали мучений больше, чем двадцать минут. Оба они были очень бодры и спокойны и держались за руки (в этом она может поклясться) до самого конца. Так кончился рассказ Люси Пассимор. И можно ли удивляться, что, прослушав его, Эмиас Лэй снова поклялся отомстить дону Гузману, где бы его ни встретил?Глава XXV Как Сальвейшин Иео нашел свою малютку
Итак, Эйаканора водворилась в каюте Люси как равноправный член экипажа, но очень беспокойный член, ибо в ней начался опасный перелом. Воинственная жрица племени омагов очень скоро превратилась просто в испорченного ребенка. Диана с берегов Меты, удовлетворив свое простодушное удивление перед большим плавучим домом, излазив все углы и заглянув во все шкапы и щели, обнаружила большую склонность тащить и прятать (она была слишком горда или слишком застенчива, чтобы просить) всякую дрянь, поразившую ее воображение. Когда Эмиас запретил ей брать что-либо без разрешения, она пригрозила утопиться, а затем ушла и весь день просидела надувшись в своей каюте. Тем не менее она послушалась, поскольку дело не касалось сладкого. Может быть, она тосковала по растительной пище своих родимых лесов, – во всяком случае, епископские запасы фруктов и сластей быстро таяли. Хуже того, так же таял запас сладкого испанского вина, специально оставленный Эмиасом как укрепляющее для бедной Люси. Была прочитана суровая нотация. Эмиас разъяснил виновной, как низко обкрадывать бедную больную Люси, после чего Эйаканора пригрозила, по обыкновению, утопиться и побежала на палубу привести свою угрозу в исполнение, но Эмиас поймал ее и простил. В ответ начался бурный плач, потом последовали страстное раскаяние и обещания исправиться. А через неделю Эмиас узнал, что она надувала собственную совесть, заставляя португальца-повара давать ей другое вино. К счастью для Эйаканоры, предсказания Эмиаса, что вино сделает ее безумной, скоро сбылись. Однажды вечером она наделала тысячу глупостей, а на другое утро у нее сильно болела голова. Таким образом, секрет был разоблачен, и Эмиас приказал взять повара и высечь. Но Эйаканора с большим благородством не только избавила его от плетей, но предложила, чтобы ее высекли вместо него, сознавшись, что бедный малый говорил правду, когда клялся, что она угрожала убить его и что он дал ей вина только из страха за свою жизнь. Как бы то ни было, ее собственная головная боль и холодные взгляды Эмиаса оказались достаточным уроком, и после новой попытки утопиться дикая красавица на некоторое время угомонилась. И с этих пор уже до конца жизни ее нельзя было уговорить притронуться к крепким напиткам. Тем временем бедняга Эмиас, не переставая, ломал себе голову над вопросом, как нужно воспитывать девушку, которая при малейшем раздражении готова прибегнуть к убийству. Она испытывала дикую антипатию не только к Джеку Браймблекомбу, чьи походку и голос она открыто передразнивала в назидание матросам, но и к Биллу Карри, которому она не позволяла приближаться к ней. Когда ее спрашивали о причинах, она всегда давала один ответ, что Карри – кацик такой же, как Эмиас, и что здесь не должно быть двух кациков. И однажды она решительно предложила Эмиасу убить своего предполагаемого соперника и забрать себе весь корабль. И потом долго дулась, услышав, как Эмиас со смехом передал ее ценный совет своей предполагаемой жертве. В довершение всего она с невыразимым отвращением относилась к неграм; это выражалось в том, что она просто пряталась от них, а затем она стала швырять в них все, что попадалось под руку, пока негры, страшась за свою жизнь, не пожаловались Эмиасу. Остальными матросами она распоряжалась как слугами, отрывая их от работы, иногда подкрепляя требования ловкой затрещиной. Добрые малые, особенно старый Иео, как настоящие матросы, баловали ее, слушались и даже шутили с ней приблизительно так же, как они делали бы с прирученным леопардом, который каждое мгновение может пустить в ход свои когти. Она забавляла и их и Эмиаса. Им необходимо было кого-нибудь баловать, а можно ли было найти более милое существо? Что касается Эмиаса, то постоянный интерес, вызываемый ее присутствием, даже постоянное беспокойство по поводу ее диких выходок занимали его ум и прогоняли грустные мысли о предстоящей встрече с матерью и о той трагедии, которую он должен будет ей рассказать. Не будь Эйаканоры, эти мысли ввергли бы его в меланхолию и лишили бы всякой цены в его глазах весь его жизненный успех и чудесное избавление. И вот однажды, в вечерний час, когда весь экипаж кроме занятых своим делом собрался на верхней палубе, развлекаясь кто как может, Сальвейшин Иео вздумал петь старую матросскую песню:Мы эль и бренди с собой везем.
Матросу не много нужно.
С веселым сердцем на запад плывем.
Эй, налегайте дружно!
Глава XXVI Как Эмиас вернулся домой в третий раз
Пятнадцатое февраля 1587 года. Вечер. Миссис Лэй медленно расхаживает по террасе Бэруффа и смотрит на сердитую реку, на туманные пески и далекий океан. Три томительных года во всякую погоду, в солнце и в дождь, смотрит она на них каждый вечер. Уже более трех лет прошло, как нет вестей ни о Фрэнке и Эмиасе, ни о славном корабле и его славной команде. Волосы миссис Лэй поседели, щеки покрылись морщинами, походка стала медленной. Она теперь редко выходила из дома куда-либо, кроме как к ближайшим соседям. Она никогда не произносила имен своих сыновей, никогда не позволяла сорваться со своих уст ни одному слову, которое могло бы обнаружить, что она думает о них. Но каждый день во время прилива, когда красный флаг на песчаном холме указывал, что вода покрывает насыпь, она ходила все по той же террасе и жадным взглядом пожирала расстилающийся перед нею океан, отыскивая на нем парус, которому не суждено было появиться. Как и прежде, приходили и уходили величественные корабли и склонялись над берегом белые паруса, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, но внутренний голос подсказывал ей: «Не тот, не тот!» В этот вечер Норшэм в большом возбуждении. Все колокола звонят. Все жители высыпали на улицу, кричат и поют вокруг праздничных костров. Но что это отвечает им издалека, из быстро сгущающихся сумерек? Вспышка пламени и грохот пушечного выстрела на море. Миссис Лэй остановилась. Свет блеснул прямо за насыпью. Это не могло быть судно, потерпевшее бедствие, так как дул слабый западный ветер. Стоял высокий весенний прилив. Что это может быть? Новая вспышка, новый раскат грома. Шумный норшэмский люд сразу притих, и все столпились на церковном дворе, который выходил на реку. По ту сторону заграждения появился великолепный корабль. Он входил в порт, распустив все паруса. Большой корабль. В нем могло быть около тысячи тонн, но не английской оснастки. Что это означает? Благодаря приливу и славному западному ветру судно легко проскользнуло в канал между двумя рядами песчаных холмов. Вот оно уж почти у Аппельдора. Это не вражеский корабль, а если это чужеземец, он очень смел, так как не прикрыл своих марселей, что обязаны делать все иностранные суда, входящие в английские порты. Странное судно скрылось из виду за Аппельдорским холмом, а затем спокойный вечерний воздух огласился громовым «ура». Миссис Лэй стояла и прислушивалась. Новый выстрел, а затем новое «ура». Прошло, быть может, двадцать минут, прежде чем судно появилось вновь, огибая темные скалы Губбастона, перед тем как войти в гавань. Все это время миссис Лэй простояла совершенно неподвижно, устремив глаза на утес Викингов. Наконец корабль обогнул Губбастон. На нем слышалась музыка. И когда перед ним открылась норшэмская башня и бэруффское поместье, у команды вырвалось троекратное «ура» и огласило окрестные холмы на расстоянии целой мили. Миссис Лэй быстро вошла в дом и позвала свою служанку. – Грэс, принеси мне капор. Мистер Эмиас вернулся домой. – Ну, правда? То-то радость! Но, сударыня, как же вы это узнали? – Я слышала его голос на реке, но я не слышала голоса Фрэнка, Грэс! – О, сударыня, будьте уверены: где один, там и другой. Они не могли разлучиться. Я ручаюсь, что или оба вернулись, или ни один. Вот вам капор, сударыня. И миссис Лэй в сопровождении Грэс быстрым шагом направилась в Байдфорд. Спускаясь по Мостовой улице, они увидели, что странный корабль уже бросил якорь в реке. В ту минуту, как они достигли нижнего конца улицы, из-за угла появилась большая толпа матросов, женщин и подмастерьев, кричащих «ура», расспрашивающих, плачущих и смеющихся. Миссис Лэй остановилась и увидела, что толпа тоже остановилась. – Вот она! – закричал кто-то. – Вот его мать! – Его мать? Не их мать? – бледнея, сказала себе миссис Лэй. В следующее мгновение из-за угла показалась возвышающаяся над всей толпой голова Эмиаса. – Расступитесь! Дайте дорогу госпоже Лэй! – И Эмиас упал к ее ногам. Она обвила его шею руками и прижалась головой к его голове, меж тем как матросы и подмастерья почтительно умолкли, окружив кольцом мать и сына. Миссис Лэй ни о чем не спросила. Она видела, что Эмиас один. Наконец он прошептал: – Я умер бы, мама, чтобы спасти его, если б я мог… – Тебе незачем говорить мне это, Эмиас Лэй, сын мой! Новое молчание. – Как он умер? – Как мученик… – Инквизиция? – Да… Сильная дрожь пробежала по телу миссис Лэй, а затем она подняла голову. – Идем домой, Эмиас. Я не ожидала такой чести, – ха-ха… и такого красивого молодого мученика. Боже, пощади меня: не дай мне сойти с ума. Эмиас, кто это? – И она указала на Эйаканору, которая стояла подле Эмиаса и внимательно смотрела на все происходящее. – Это бедная дикая индейская девушка. Я зову ее моей дочерью. Я расскажу вам потом ее историю. – Твоя дочь? Значит, моя внучка. Пойди сюда, девочка, и будешь мне внучкой. Эйаканора послушно подошла и опустилась на колени, как это сделал Эмиас. – Не надо становиться на колени передо мной, дитя. Идем домой, и помогите мне убедиться, здорова я или сошла с ума, жива или мертва. И, надвинув капор на лицо, она повернулась, чтобы идти обратно, одной рукой крепко держа Эмиаса, а другой – Эйаканору. Толпа в почтительном молчании дала им отойти ярдов на двадцать, а затем разразилась таким «ура», от которого весь город зазвенел. Внезапно миссис Лэй остановилась. – Я совсем забыла, Эмиас. Я не должна мешать тебе выполнить долг. Где твои матросы? – В настоящее время зацелованы насмерть – то есть все те, кто уцелел. – Уцелел? – Когда мы уезжали, у нас было сто человек, мама, а домой вернулись сорок четыре, если только мы дома. Это сон, мама? Это вы? И это снова старая Мостовая улица? Клянусь жизнью, там у дверей стоит старый Эмиас-кузнец, с кружкой в руках, как он стоял, когда я был мальчиком! Мускулистый кузнец пересек улицу, чтобы подойти к ним, но остановился, увидев Эмиаса без Фрэнка. – Лучше один, чем ни одного, сударыня! – неуклюже попытался он утешить ее. Эмиас пожал ему руку, но миссис Лэй не слышала ни его, ни других. – Мама, – сказал Эмиас, когда они вышли на шоссе, – мы теперь богаты на всю жизнь. Я привез домой несказанные сокровища. – Что, мой мальчик? – Несказанные сокровища. Карри обещал мне присмотреть за ними сегодня. – Очень хорошо. Я хотела бы, чтобы он ночевал у нас. Он добрый мальчик и любил Фрэнка. Когда он?.. – Уже больше трех лет. Месяца через два после нашего отплытия. – А! Да, все, как должно было быть. Дитя мое, вам не кажется холодно в Англии после ваших жарких краев? – У Эйаканоры горячее сердце. Она не чувствует холода. – Горячее? Тогда, быть может, вам удастся отогреть мое сердце? – Быть может, я смогу это сделать, мама? – с полуупреком сказал Эмиас. Миссис Лэй подняла на него глаза и заплакала. – Мама! – крикнул Эмиас. – Если вы будете так плакать, я сойду с ума! Мама! Мама! Я много месяцев боялся этой встречи. Это был кошмар, висевший надо мной, как черная грозовая туча, как высокая гора с уходящей в облака вершиной, куда я должен был и не мог взобраться. Мне хотелось броситься за борт и, как трусу, спрятаться на дне моря. Думать, что вы можете спросить меня, почему я не уберег брата, что вы можете потребовать у меня ответа за его кровь, – а теперь, теперь… когда это мгновение пришло, найти в вас одну любовь, одно доверие и терпение… Мама, мама, это свыше моих сил! – И он бурно зарыдал. Миссис Лэй достаточно хорошо знала Эмиаса и понимала, что при его спокойной натуре подобный взрыв выражал ужаснейшую внутреннюю борьбу. И ее любящая душа тотчас же забыла все в одном желании успокоить его. Ей это удалось. И оба пришли домой рука об руку, а Эйаканора, как маленькая девочка, крепко держалась за юбку миссис Лэй. Самонадеянность и храбрость лесной нимфы уступили место детскому испугу существа, внезапно очутившегося в новом мире, среди чужих лиц, чужих надежд и чужих страхов. – Ваша мать будет любить меня? – шепнула она Эмиасу у входа. – Да, только вы должны делать все, что она прикажет. Эйаканора надулась. – Она будет смеяться надо мной, потому что я дикая. – Она никогда ни над кем не смеется. – Гм! – сказала Эйаканора. – Хорошо, я не буду ее бояться. Я думала, она будет высокая, как вы, а она даже меньше меня. Это не сулило больших надежд на послушание Эйаканоры. Но не прошло и двадцати четырех часов, как миссис Лэй совершенно покорила ее. И мужественная женщина с железным самообладанием заставила сына передать ей во всех подробностях рассказ Люси Пассимор и все, что случилось со дня их отплытия до той злосчастной ночи в Ла-Гвайре. А когда он кончил, она увела Эйаканору и стала заботиться об удобствах девушки с таким спокойствием, как будто Фрэнк и Эмиас спали в соседней комнате. Как только она поднялась наверх, послышался громкий стук в дверь, которую поспешно отворили. И, пренебрегая правилами приличия, в гостиную ворвался сэр Ричард Гренвайль. Мужественный воин совершенно не владел собой. Когда он склонился над своим крестником, слеза капнула с его железной щеки на железную щеку Эмиаса Лэя. – Мой мальчик! Мой прославленный мальчик! Где же вы были? Ну же, скорее расскажите мне обо всем. Матросы уже рассказали мне кое-что, но я должен знать каждый шаг. Я знал, что вы совершите нечто великое. Я сказал вашей матери, что вы не можете пропасть. Теперь расскажите мне все, все. Уф! Я совсем задыхаюсь! По правде сказать, я бежал три четверти дороги. Оба уселись, и Эмиас рассказывал почти всю ночь, а сэр Ричард, вернувший себе свою обычную величавость, одобрительно улыбался при описании каждого смелого деяния. На следующий день Эмиас пошел к Солтерну и рассказал ему свою историю. В общих чертах старик уже слышал ее; но он спокойно попросил Эмиаса сесть и, опустив подбородок на руки, опершись локтями в колени, прослушал все сначала. Он ни разу не побледнел. Его губы ни разу не дрогнули. Только когда Эмиас дошел до свадьбы Рози, он глубоко вздохнул, как будто с его сердца свалилась тяжесть. – Повторите это, сэр! Эмиас повторил и продолжал рассказ. Нерешительно намекнул он на род ее смерти. – Продолжайте, сэр! Почему вы испугались? Здесь ничего стыдиться; или, быть может, есть? Эмиас с опущенными глазами рассказал все, после чего бросил взгляд на лицо слушателя. Ни тени волнения не отражалось на этом лице; лишь горделивая улыбка змеилась в углах железного рта. – А ее муж? – спросил он, помолчав. – Стыдно признаться вам, сэр, что еще жив. – Все еще жив? – К сожалению, насколько мне известно. Это не моя вина, чему доказательством служит мой рассказ. – Я никогда не сомневался в вашем желании убить его. Еще жив, говорите вы? Что ж, крысы и ядовитые змеи тоже живут. Я полагаю, капитан Лэй, прежде чем пуститься в новый поход, вы захотите набраться сил на суше в обществе красивой девушки, которую, как я слышал, вы привезли домой? – Одну вещь я собираюсь сделать: отомстить тем, кто виновен в смерти моего брата. Я не знаю, куда забросит меня судьба, но здесь я останусь недолго. – Хорошо, сэр. Когда вы решите ехать, приходите ко мне, и лучший мой корабль будет к вашим услугам; а если он не подойдет, прикажите сделать с ним все, что найдете нужным, и я, Виллиам Солтерн, за все уплачу. – Мой дорогой сэр, у нас совсем иные счеты. Я должен вручить вам, как владельцу «Рози», вашу долю тех сокровищ, что я привез. – Мою долю, сэр? Если я понял вас, мой корабль погиб три года тому назад на берегу Каракаса, а все эти сокровища были добыты после того. – Правильно, но как участник экспедиции вы имеете полное право на свою долю, и вы получите ее. – Капитан Лэй, я вижу, что вы честный и справедливый человек, но эти деньги, сэр, не принадлежат мне, потому что они были добыты не на моем корабле. Выслушайте меня, сэр! Если бы это даже было иначе, если бы это судно (он не мог выговорить его название) стояло сейчас невредимым у байдфордской набережной, – неужели вы думаете, что Виллиам Солтерн станет извлекать деньги из гибели дочери? Нет, сэр! Вы отправились ее искать, и весь мир знает: вы сделали все, что было в ваших силах. И я благодарю вас. Но на этом наши счеты кончаются. Сокровища принадлежат вам, сэр! Но довольно об этом. Когда вам понадобится, корабль мой будет к вашим услугам, а до тех пор прощайте, сэр! – Старик поднялся и с тем же бесстрастным выражением проводил Эмиаса до дверей. Эмиас вернулся домой и рассказал обо всем Карри с просьбой взять половину подарка Солтерна, но Карри, крепко выругавшись, решительно отказался. – Наследник Кловелли станет обирать тебя, Эмиас? Я, который ничего не потерял, – тебя, который лишился брата? Я, разумеется, не притронусь ни к одному фартингу сверх моей доли. В тот же вечер из Байдфорда в бэруффское поместье, задыхаясь, прибежал посланный. Городские власти срочно требовали Эмиаса, так как он был одним из последних, кто видел в живых старого Солтерна. Солтерн, лишь только Эмиас покинул его, пришел к одному из своих старых знакомых, в его присутствии написал завещание и приложил свою печать со спокойным и твердым выражением лица, отказываясь от всяких утешений, а затем пошел домой и заперся в комнате Рози. Наступило время ужина, а он не появлялся. Подмастерья, не добившись ответа на стук, позвали наконец соседей и взломали дверь. Солтерн стоял на коленях у постели дочери. Его голова покоилась на одеяле, рядом лежало несколько детских игрушек Рози. Одну из них он держал в руках, но он был мертв и холоден. Его завещание лежало тут же. Он оставил все свое имущество бедным родственникам, исключая денег, причитающихся ему как владельцу корабля «Рози» и новой барки в три тысячи тонн. То и другое предназначалось капитану Эмиасу Лэю, с условием изменить название барки на «Месть», оборудовать ее, затратив часть сокровищ, и до истечения трех лет снова отправиться на ней против папистов. Таков был конец купца Виллиама Солтерна.Глава XXVII Как был задержан вирджинский флот
Итак, Эмиас спокойно поселился дома, и в течение следующего года ничего достопримечательного в его жизни не произошло. Иео обосновался при нем в качестве дворецкого с весьма неопределенными обязанностями; преимущественно они заключались в том, что он всюду ходил по пятам Эмиаса, как большая серая собака, а по вечерам, как настоящий старый матрос, сидел у огня и мастерил бесчисленные полезные и бесполезные безделушки для всех членов семьи и, главным образом, для Эйаканоры, которую он каждую неделю обижал, смиренно предлагая ей какую-нибудь игрушку, пригодную лишь для ребенка. В ответ она надувалась, а после упреков миссис Лэй брала подарок и откладывала в сторону, чтобы больше не взглянуть на него. Следующим источником огорчений миссис Лэй было поведение Эйаканоры в отношении окрестных дам. Разумеется, все они явились по очереди не только поздравить миссис Лэй, но и взглянуть на красивую дикарку. Однако красивая дикарка так обрезала их, что немногие отважились на вторичный визит. Миссис Лэй сделала ей замечание и получила в ответ поток слез. – Они только затем и пришли, чтобы глазеть на бедную дикую индианку, а она не хочет, чтобы ее выставляли напоказ. Раньше все любили ее и подчинялись ей, а здесь всякий смотрит на нее сверху вниз. Но когда миссис Лэй спросила ее, не хочет ли она вернуться в леса, бедняжка прильнула к ней как младенец и стала умолять не отсылать ее. И так продолжалось месяц за месяцем – от черной бури к яркому солнцу, но спокойствие той, под чьим влиянием девушка находилась, заражало и ее, взрывы делались все более редкими, и Эйаканора со дня на день становилась более рассудительной, хоть и не более счастливой. В ту весну в Вирджинию отправлялась большая группа переселенцев под начальством некоего Джона Уайта. Рэли неоднократно писал Эмиасу, убеждая его принять на себя командование, но Эмиас был связан данным матери торжественным обещанием пробыть дома с ней по крайней мере год. И вместо себя он послал пятьсот фунтов. Но вскоре обещание Эмиаса подверглось более тяжкому испытанию. В первый раз в жизни он стал угрюмым, раздражительным и беспокойным. Его мучила мысль, что другие дерутся с папистами, в то время как он праздно сидит дома. Его душа была наполнена мрачной ненавистью к дону Гузману. Никто не мог больше способствовать его мрачности, чем Сальвейшин Иео. Старик с каждым днем становился упорнее в своем фанатизме и нашел в хозяине слишком внимательного слушателя. И миссис Лэй не на шутку сердилась, когда слышала, как хладнокровно обсуждают вопрос, не совершили ли они непростительного греха, не перебив всех испанских пленников на галеоне. Приближался день последней решительной, грозной схватки между Испанией и Англией. До сих пор военные действия ограничивались Нидерландами, Вест-Индией и африканскими островами. К самой Испании Англия относилась с уважением (как и Испания к Англии) и продолжала вести торговлю с испанскими портами, пока в 1585 году испанцы без всякого предупреждения не наложили ареста на все английские суда, приближающиеся к европейским берегам Испании. Эти суда должны были быть захвачены, по-видимому, чтобы составить часть огромной эскадры, которой предстояло напасть и уничтожить раз и навсегда – кого? – мятежных нидерландцев, как говорили испанцы. Но англичане думали иначе. Англия была намеченной жертвой. Поэтому, вместо того чтобы начать переговоры о том, как избежать войны, англичане решили воевать, чтобы добиться переговоров. Дрейк, Фробишер[392] и Карлейль вымели Испанское море огнем и мечом и прекратили всякий подвоз из Индии. В то же время Уолсингхэм[393] посредством каких-то таинственных финансовых операций помешал венецианским купцам возместить испанские потери с помощью займа. И в тот год Армада не пришла. Между тем иезуиты ни в Англии, ни в других местах не делали секрета перед своей паствой из действительной цели испанских вооружений. Позорная гибель, ужасная смерть ждет всех этих Дрейков и Рэли, Гренвайлей и Кавендишей, Хаукинсов и Фробишеров. Их нечестивые суда будут потоплены под грохот испанских пушек, благословенных папой и освященных молитвами и святой водой. Да, они погибнут, и Англия вместе с ними. Их так называемая королева – беззаконная, отлученная от церкви, упорная покровительница свободной торговли, защитница Нидерландов, столп ложного учения, распространившегося по Европе, – будет послана в цепях через Альпы искупить свою жизнь у ног оскорбленного и страдающего отца человечества – Папы Римского! Так говорили Парсон, Аллен и целый ряд других. Злополучные иезуиты, которые целые годы хвастливо утверждали, что преследуемые верные сыны церкви на всем острове станут как один человек под священное знамя папы, убедились, что английские паписты, хотя не имеют ничего против реставрации папизма, но предпочитают какой-либо более спокойный способ, нежели вторжение иноземцев, ибо оно неизбежно лишит англичан их наследственных владений и посадит в их поместья жадных испанцев, которые станут обращаться с их арендаторами как с индейцами, а с ними самими как с кациками. Но хотя сердца человеческие оказались слишком жестоки и безжалостны к предполагаемым страданиям Марии, царствующей на небесах, нашлась другая Мария, которая царствовала (или должна была царствовать) на земле и страдания которой производили больше впечатления на человеческие чувства. Иезуиты не забыли о ней и, разумеется, нашли возможным на время отложить заботу о горестях Царицы Небесной ради горестей королевы шотландской. Не то чтобы эти горести их очень печалили, но сюда стоило вложить капитал. Она была католичка. Она была «прекрасна и несчастна», – добродетель, которая, подобно милосердию, покрывает множество грехов, – и поэтому служила подходящим козырем в большой игре Рима против Англии. Когда бедный козырь сложил голову на эшафоте, испанцы были очень мало огорчены несчастьем, ибо главное, что удерживало их до сих пор от завоевания Англии, было опасение, что английская корона достанется Марии, а не им. Но смерть Марии была для них подходящим предлогом! И на этот раз Армада действительно должна была прийти. Елизавета вступила в переговоры. Но не следует думать, что она не предпринимала ничего другого, как подтверждает следующее письмо, написанное в середине лета 1587 года:«Ф. Дрейк – капитану Лэю Спешно Дорогой мальчик! Что я сказал королеве, то же говорю тебе. Есть два способа отпугнуть врага. Первый – стоять и кричать: «Попробуй сделать это еще раз, и я ударю тебя». Второй – сначала ударить его, а потом крикнуть: «Лучше не пробуй, а то ударю тебя еще раз». Я предпочитаю последний способ и потому немедленно отправлюсь подпалить бороду испанскому королю (я так и сказал королеве, и она рассмеялась). Если я проживу столько времени, сколько требуется рыболовному судну, чтобы добраться из Коруньи до Кадикса, испанец в этом году не попадет в Англию иначе как вплавь. Поэтому, если ты все еще таков, каким я тебя знаю, приведи в Плимут добрый корабль не позже чем через месяц, и плывем вместе искать сражений и денег. Вкус того и другого тебе известен достаточно. Твой любящий Ф. Дрейк».
Эмиас рвал на себе волосы, читая письмо, и выкурил за этот день больше табаку, чем могла истребить в один прием вся Англия. Но все же он был верен своему обещанию. И вот что он ответил:
«Эмиас Лэй – его милости Ф. Дрейку, адмиралу флота ее величества в Плимуте Многоуважаемый сэр! Меня удерживает чародей, против которого вы бессильны, а именно – мать, которая запрещает. Я страдаю от этого. Но сражаться я могу в любое время, тогда как моя мать… Но я не хочу более утруждать ваше терпение, за исключением одной просьбы: узнать, если сможете, от пленных о некоем доне Гузмане Марии Магдалине Сотомайор де Сото – в Испании он или в Индии? Что делает этот негодяй и где его можно найти? Это все, о чем я вас прошу, и остаюсь с тяжелым сердцем ваш, во всем другом покорный, а я хотел бы и в этом, Эмиас Лэй».
Нужно признаться, что, послушавшись, таким образом, матери, Эмиас мстил за себя, становясь с каждым днем все более раздражительным и неприятным. Но его настроение значительно улучшилось, когда через несколько месяцев Дрейк вернулся с триумфом, уничтожив сотню судов в одном Кадиксе, захватив три больших галеона с неисчислимыми богатствами и потопив все малые парусники по побережью. Незачем говорить, что после этого приход Армады был отложен еще на год. Эти новости сами по себе, разумеется, мало успокоили Эмиаса, и он просто ворчливо заявил, что победа Дрейка испортила игру всем остальным; но его обрадовала весть, сообщенная Дрейком, что от капитана одного из галеонов он слышал о доне Гузмане. Последний в большой милости в Испании и командует солдатами на одном из самых больших кораблей. Чудовищная радость овладела Эмиасом. Когда придет Армада, а прийти она должна, он наконец встретится со своим врагом. Теперь он может терпеливо ждать, если… И он содрогнулся от ужаса перед самим собой, поймав себя на том, что опасается, как бы дон Гузман не умер до этой встречи. Однажды утром, как раз перед Рождеством, перед старым низким окном Бэруффа появилась величественная фигура сэра Ричарда. Эмиас выбежал ему навстречу и привел его в дом, спрашивая, какие новости. – Эмиас, Рэли давно не писал вам? – Давно. И я удивляюсь, почему. – Ладно. Вы не удивлялись бы, если бы знали, сколько он работает. Удивляться нужно тому, откуда он все знает, потому что, насколько я помню, он никогда даже не видел моря. – Во всяком случае, никогда не видел морского боя, исключая Смервика и схватки с испанцами в семьдесят девятом году, когда он направился с Вирджинию с сэром Гомфри, но тогда он был просто хвастунишкой. – Так что вы считаете его своим учеником, а? Но он многому научился в Нидерландах и в Ирландии. Теперь он хорошо знаком если не с силой наших кораблей, то со слабостью сухопутных войск. Поверите ли, этот человек обвел вокруг пальца весь совет и заставил их пожертвовать береговыми укреплениями ради морских. – И он совершенно прав. А что касается умения обвести вокруг пальца, этот человек за полчаса переубедит самого Сатану. – Я бы хотела, чтобы он поехал в Испанию и испробовал там власть своего языка, – сказала миссис Лэй. – Но мы, правда, будем иметь честь?.. – Да, мальчик. Многие требовали допустить высадку испанцев на берег и говорили, что и я не отрицаю, что лондонские подмастерья не ударят лицом в грязь перед голубой испанской кровью. Но Рэли возразил, что мы не можем подражать Нидерландам и другим странам, так как у нас нет ни одного замка или города, который мог бы выдержать десятидневную осаду, и что (как он хорошо выразился) нашим крепостным валом могут быть только человеческие тела. Поэтому до тех пор, пока враг может высадиться, где ему вздумается, нам остается надеяться только на предохранительные меры, но не на лекарства, а это дело не армии, а флота. – Тогда за его здоровье, за здоровье верного друга всех храбрых моряков и моего, в частности! Но где он теперь? – Завтра будет здесь, надеюсь. – А что будем делать мы? – спросил Эмиас. – В том-то и загвоздка. Я бы предпочел остаться и сражаться с Армадой. – И я тоже. И я это сделаю. – Но у него другие планы на наш счет. – Мы можем обойтись и без его помощи. – Эх, Эмиас. Надолго ли? Случалось ли, чтобы он просил вас сделать какую-либо вещь, а вы бы отказались? – Конечно, не часто, но я должен драться с испанцами. – Ладно, и я должен, мальчик. Все же я дал ему нечто вроде обещания. – Не от моего имени, надеюсь? – Нет, он сам его вытянет, когда приедет. Вы будете ужинать с ним и обо всем поговорите. – Вернее, дам себя уговорить. Но куда же, черт побери, он собирается нас послать? – В Вирджинию. Колонисты нуждаются в помощи. И, право, мы вернемся задолго до того, как Армада сдвинется с места. Рэли пришел, увидел и победил. Миссис Лэй согласилась отпустить Эмиаса с такой мирной и полезной целью. И следующие шесть месяцев Эмиас и Гренвайль провели в беспрерывной работе, а в байдфордской бухте стояли семь почти готовых кораблей, адмиралом которых был назначен Эмиас Лэй. Но этому флоту не было суждено увидеть берега Нового Света. В 1588 году, в один из долгих июньских вечеров миссис Лэй сидела у открытого окна, занимаясь рукоделием. Эйаканора сидела против нее на подоконнике и старалась внимательно читать «Историю девяти героев»[394], исподтишкапосматривая в сад, где Эмиас расхаживал взад и вперед. Наконец Эмиас поднял голову и увидел обеих. – Вам, кажется, очень весело там? – сказал он. – Иди сюда и повеселись с нами. Он вошел и сел, а Эйаканора пристально уставилась в книгу. – Ну, как идет чтение? – спросил Эмиас и продолжал, не дожидаясь ответа. – Я уверен, мы будем совершенно готовы на этой неделе. Разве вам не хотелось бы поехать с нами и еще раз увидеть индийцев, живущих в лесах? – Поехать с вами? – пылко переспросила девушка. – Ну вот! Я так и знал! Она не пробудет на берегу и двадцати четырех часов, как бросится в лес с луком в руках, как беглая нимфа, и мы больше никогда не увидим ее. – Это неправда, гадкий человек! – И она горько расплакалась, спрятав лицо в складках платья миссис Лэй. – Эмиас, Эмиас, зачем ты дразнишь бедную сиротку? – Я только пошутил, – уверял Эмиас, как провинившийся школьник. – Не плачь же, не плачь, дитя, вот посмотри, – и он начал выворачивать свои карманы, – посмотри, что я купил для тебя сегодня в городе. – Он вытащил нарядный платок на голову, пленивший его матросское воображение. – Посмотри на него: голубой, красный, зеленый – настоящий попугай. – И он поднял платок. Эйаканора со злобой посмотрела на него, выхватила из его рук платок и изорвала в клочья. – Я ненавижу его и вас ненавижу! – Она спрыгнула с подоконника и выбежала из комнаты. – О, мальчик, мальчик! – сказала миссис Лэй. – Ты хочешь убить это бедное дитя? Не стоит думать о таком старом сердце, как мое, которое и так уже почти разбито, но молодое сердце – одно из самых ценных сокровищ в мире, Эмиас, и оно долго страдает перед тем, как разбиться. – Я разбиваю ваше сердце, мама? – Не беспокойся о моем сердце, дорогой мальчик, но все же как можешь ты его разбить вернее, чем муча ту, кого я люблю, потому что она любит тебя? – Любит меня? Да, конечно. Я нашел ее и привез ее сюда. И я не отрицаю, она может думать, что многим обязана мне, хотя я только исполнял свой долг. Но что касается большего, мама, вы измеряете чувство других своими собственными. – Думает, что она многим обязана? Глупый мальчик, это не благодарность, а более глубокое чувство, которое может быть большей радостью, чем благодарность, но может также стать тягчайшей причиной гибели. От тебя зависит, Эмиас, чем из двух оно будет. – Вы говорите серьезно, мама? – Есть ли у меня настроение или время шутить? – Но не хотите же вы, чтобы я женился на ней? – тревожно спросил деловитый Эмиас. – Чего я хочу – я не знаю. Я не вижу ни твоего пути, ни своего собственного. Впереди все покрыто мраком. Что будет с нами, не знаю. Эмиас помолчал одну-две минуты, а затем внезапно сказал: – Если бы не вы, мама, я бы хотел, чтобы пришла Армада. – Что? И погубила бы Англию? – Нет, будь они прокляты! Никогда нога их не ступит на английскую землю, так горячо мы их встретим. Эх, попасть бы мне в середину флота, сражаясь так, чтобы все забыть: один галеон с бакборта, другой со штирборта[395], потом сунуть фитиль в крюйт-камеру[396] и взлететь на воздух в хорошей компании!.. Если бы не вы, мама, я бы очень мало тревожился о том, как скоро это случится. – Если я стою на твоем пути, Эмиас, не бойся, я не долго буду тебя беспокоить. – О, мама, мама, не говорите так. Я, кажется, уже наполовину сошел с ума и сам не знаю, что говорю. Да, я охвачен безумием, – мое сердце, во всяком случае, если не голова. Какой-то огонь сжигает меня день и ночь. – Мой бедный, упрямый мальчик. Кто это идет к нашим дверям? И притом так поспешно? Раздался громкий, торопливый стук, и через мгновение вошел слуга с письмом. – Капитану Лэю, весьма спешно! Почерк был сэра Ричарда. Эмиас разорвал конверт и… рассмеялся громким смехом. – Армада идет. Мое желание исполнилось, мама! – Покажи мне письмо. Там было торопливо нацарапано:
«Дорогой Эмиас! Уолсингхэм прислал сообщение, что Армада вышла из Лиссабона в Корунью 18 мая. Больше мы ничего не знаем, но имеем распоряжение задержать корабли. Приходи и помоги нам своим советом, дорогой мальчик. Любящий тебя Р. Г.»
– Простите меня, мама. Простите за все! – воскликнул Эмиас, обвивая руками ее шею. – Мне нечего прощать, мальчик мой, дорогой мальчик! Неужто я и тебя потеряю? – Если меня убьют, в нашем роду будет два героя, мама! Миссис Лэй опустила голову и молчала. Эмиас схватил шляпу и меч и побежал в Байдфорд. Эмиас буквально танцевал в гостиной сэра Ричарда, где последний серьезно разговаривал с различными купцами и капитанами. – Господа, враг наконец-то сорвался с цепи, и теперь мы знаем, что он будет в наших руках! – Почему вы так веселы, капитан Лэй, когда все прочие грустны? – раздался около него кроткий голос. – Потому что я долго был грустен, когда все прочие были веселы, дорогая леди. Разве сокол грустит, когда с него снимают колпачок и он видит, как цапля хлопает крыльями прямо над его головой? – Вы, кажется, забываете об опасности и страданиях, грозящих нам, слабым женщинам. – Я не забыл, сударыня, опасности и страданий, которым подвергалась одна слабая женщина – дочь человека, некогда находившегося в этой комнате, – опомнившись, ответил Эмиас тихим суровым голосом, – и я не забыл опасности и страданий, испытанных тем, кто стоил тысячи таких, как она. Я ничего не забыл. – И ничего не простили, по-видимому. – У нас будет время говорить о прощении после того, как обидчик раскается и исправится, а разве приход Армады похож на это? – Увы, нет. – Адмирал Лэй, – сказал сэр Ричард, – вы нужны нам теперь, – как всегда, впрочем. Вот приказ королевы снарядить столько кораблей, сколько нам удастся; хотя, судя по настроению этих джентльменов, я сказал бы, что этот приказ почти излишен. – Без сомнения, сэр. Я, со своей стороны, снаряжу корабль за свой счет и буду сражаться на нем до тех пор, пока у меня останется хотя одна нога или рука. – Или язык, чтобы ответить: «мы не сдаемся», – сказал один из старых купцов. – Вы вдохнули жизнь в нас, стариков, адмирал Лэй. – Правильно, сэр! – сказал Эмиас. – Завтра же я начинаю снаряжать «Месть» и выйду в море, лишь только пополню ее команду достаточным числом бойцов. В таком духе продолжался разговор. Не прошло и двух дней, как явилось большинство окрестных помещиков, приглашенных сэром Ричардом, и началось соревнование, кто больше сделает. Карри и Браймблекомб пришли с тридцатью высокими молодцами из Кловелли и, даже не спросив разрешения Эмиаса, как будто само собой разумелось, заняли свои места на «Мести». Целые семьи взялись за дело. Фортескью (малочисленный род) предложил снарядить один корабль, Чичеснепы – другой, Стокэляи – третий. Купечество не отставало: Бук, Страндт, Хард с радостью выгрузили свои вирджинские товары и заменили их порохом и пулями. И через неделю все семь кораблей были снова готовы и ждали попутного ветра, чтобы выйти в море. И наконец 21 июня эта славная эскадра вышла в море. А миссис Лэй опять стояла и смотрела на море, но на этот раз она была не одна, так как подле нее стояла Эйаканора и вглядывалась вдаль так, что ее глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит. Наконец она повернулась и всхлипнула: – Он даже не попрощался со мной, мама!
Глава XXVIII Как Эмиас бросил свой меч в море
И вот началась великая морская битва, которой предназначено было решить: папизм или протестантизм станет повелевать половиной Европы и всей будущей Америкой. В первый же день Эмиас и байдфордские корабли в течение двух часов старались продырявить громадный галеон, имеющий на корме изображение девушки с колесом и носящий имя «Святая Катарина». На его флаге на шпринтове был герб, принадлежащий, быть может, командиру солдат, но флаг очень быстро сбили, и Эмиас не мог сказать, был ли это герб де Сото или нет. Ну что же, времени для личной мести было сколько угодно. И, отозванный наконец адмиральским сигналом, Эмиас спокойно лег в постель и крепко уснул. Но не прошло и часа, как его разбудил Карри, спустившийся к нему за распоряжениями. – Мы должны были следовать за фонарем Дрейка, Эмиас, но я его нигде не вижу. Уж не торчит ли он там наверху, среди звезд? Эмиас, ворча, встал. Но ни одного фонаря не было видно, хотя вблизи должен был находиться целый флот, – ничего, – только внезапный взрыв и большое пламя на одном из испанских кораблей, который медленно снялся с якоря. Следующее утро застало «Месть» против Торбэя. Эмиаса окликнула лодка, доставившая письмо от Дрейка. Вот это письмо:«Дорогой мальчик! Я всю ночь попусту гонялся за пятью большими посудинами, которых феи на ночь превратили в галеоны, а сегодня утром – опять в немецких купцов. Я благословил их и отпустил, а на обратном пути попал на большой галеон Вальдеса[397], полный славной добычи. Лорд Эдуард пропустил этот галеон, думая, что он покинут экипажем. Я послал в Дартмут пропасть вельмож и офицеров – чуть ли не полсотни, в том числе самого Вальдеса. Когда я послал за ним лодку, он начал церемониться и ставить условия. Я ему ответил, что у меня нет времени с ним разговаривать. Если ему угодно умереть, я самый подходящий для этого человек. Он опять отказался, чванясь, что он – дон Педро Вальдес и что это несовместимо с его честью и с честью донов, его спутников. Я ответил, что со своей стороны я – Фрэнсис Дрейк и мои фитили горят. После чего он нашел в моем имени бальзам для ран своего собственного, явился ко мне на борт и заявил, что счастлив попасть в руки прославленного Дрейка, и еще много такого, что мог бы оставить при себе. Но я узнал от него много новостей (он – настоящая дырявая бочка) и между прочим, что ваш дон Гузман состоит на «Святой Катарине» командиром солдат. На ее шпринтове висит его герб, помимо герба святой Катарины на корме, изображающий девушку с колесом. Это величественного вида корабль с тремя орудиями, от которых пусть убережет вас судьба и пошлет нам удачу вместе с вашим другом и адмиралом Ф. Дрейком. Армада собиралась выкурить нас из Плимута. Хорошо, у них есть точные предписания на этот счет. Рабы дерутся, как ядро на привязи – не дальше своей веревки. Они не могут понять быстроты нашего управления и лавирования и принимают нас за настоящих чародеев. Чем дальше, тем лучше, а самое лучшее впереди. Мы с вами знали в старину длину их ног. Время и свет убьют любого зайца. Они убедятся в этом на пути от наших берегов до Дюнкирхена[398]».
– Адмирал в милостивом настроении, Лэй, что удостоил вас такого длинного письма. – «Святая Катарина»! Да ведь это тот самый галеон, который мы вчера колотили весь день! – гневно вскричал Эмиас. – Конечно, это он. Ладно, мы его опять найдем! Можешь не сомневаться. Ловкий старик этот Дрейк! Как он научился набивать свои карманы, даже если для этого нужно заставить весь флот сжать себя. День за днем искал Эмиас «Святую Катарину» в самой гуще парусов и не находил ее, даже не слышал о ней. Он то опасался, что она потонула ночью и его добыча ушла от него, то боялся, что она починила свои повреждения и скроется от него. Он стал угрюмым, беспокойным, даже раздражительным с матросами. И вот наконец в ту минуту, когда он меньше всего надеялся на это, он увидел справа громадный галеон, а на корме его – девушку с колесом! – Вот она! – закричал Эмиас, перебегая на штирборт. Матросы уже тоже заметили этот ненавистный знак, и злобный рев вырвался из всех глоток. – Тише! – сказал Эмиас глухим голосом. – Ни одного выстрела. Зарядить ружья и быть наготове. Сначала я должен говорить с ним. И в мертвом молчании «Месть» подошла к корме испанца. – Дон Гузман Мария Магдалина Сотомайор де Сото! – раздался среди грохота громкий и ясный призыв. Эмиас звал не напрасно. Бесстрашная и грациозная, как всегда, закованная в броню высокая фигура его врага вскочила на перила кормы, возвышающиеся на двадцать футов над головой Эмиаса, и Гузман крикнул через забрало: – К вашим услугам, сэр, кто бы вы ни были!.. Дюжина мушкетов и луков нацелились в испанца, но Эмиас нахмурился. – Никто не убьет его, кроме меня. Щадите его, даже когда вы покончите со всеми остальными. Дон Гузман! Я – капитан сэр Эмиас Лэй, я объявляю вас предателем и похитителем и еще раз вызываю вас на поединок, где и когда вам угодно. – Вы будете желанным гостем на борту моего корабля, сэр, – спокойным, ясным голосом ответил испанец, – когда в вашей глотке будет торчать ответ на вашу клевету… – И, помедлив немного, ради бравады поправляя свой шарф, он медленно спустился и скрылся опять за бульварком[399]. – Трус! – закричал Эмиас во всю силу своих легких. Испанец тотчас вновь появился. – К чему это имя, сеньор, ко всем прочим? – холодно и жестко спросил он. – Потому что мы, англичане, называем трусами тех мужей, которые допускают, чтобы попы сжигали живыми их жен. Испанец вздрогнул, схватился за рукоять меча, а затем прошипел сквозь опущенное забрало: – За эти слова, бездельник, ты будешь висеть на ноке. – Смотри, чтобы у тебя нашлась шелковая веревка, – расхохотался Эмиас, – потому что я только что посвящен в рыцари! – И он скрылся, так как ураган пуль засвистел сквозь снасти вокруг его головы. – Огонь! – Английские орудия обрушились на кормовую часть испанского корабля, меж тем как пули последнего, не причиняя вреда, жужжали среди снастей. Три раза «Месть», как дельфин, обходила вокруг «Святой Катарины», выпуская в нее залп за залпом. Бока испанца были продырявлены в сотне мест, меж тем как его ядра летали так высоко, а палубные укрепления «Мести» были так крепки, что ее потери ограничивались несколькими сломанными перекладинами и двумя-тремя ранеными матросами. Но, по-прежнему великолепный, испанец еще держался. Это была борьба между гарпуном и китом. Задолго до захода солнца грозовая туча окутала землю тьмой, и грохот небесных орудий слился с грохотом земных. И все же, несмотря на дым и дождь, Эмиас не отставал от своей добычи. «Святая Катарина», желая двинуться на север вслед за испанским флотом, распустила марсели. Эмиас приказал своим матросам стрелять выше и повредить ее снасти. Но напрасно. Три или четыре запоздавших галеры, рассыпая искры и брызги, подошли к сражающимся и заградили галеон. Эмиас заскрежетал зубами и отдал приказ пробиться к врагу, несмотря на носы галер. – Героический капитан! – с вытянутым лицом сказал Карри. – Если мы это сделаем, нас в пять минут разобьют и потопят, не говоря уж о том, что, по словам Иео, у него осталось не больше двадцати снарядов. Итак, «Месть» умолкла и отошла, но всю ночь, несмотря на дождь и грозу, она шла следом за маленькой эскадрой. На следующее утро солнце взошло на безоблачном небе. Дул сильный северо-западный ветер. Обе эскадры давно миновали Дюнкирхен. Перед ними простиралось Немецкое море. Жестоко разбитые и сильно уменьшившиеся в числе, испанцы за ночь восстановили в своих рядах некоторый порядок. Англичане шли следом за ними на расстоянии одной или двух миль. У англичан не было боевых припасов, и приходилось ждать новых. К большому неудовольствию Эмиаса, «Святая Катарина» нагнала за ночь своих товарищей. – Ничего не значит, – сказал Карри, – она не может ни нырнуть, ни улететь, а пока она находится на воде, мы… – Что это там передает адмирал? – Билл сигнализирует лорду Генри Сеймуру и его эскадре. Они скоро меняют галс и идут к берегам Фландрии. Внезапно начинается какое-то движение в испанском флоте. «Медина» и плывущие за ней корабли поворачивают на англичан. Что это может означать? Не хотят ли они возобновить бой? Если это так, лучше уйти с дороги, потому что англичанам нечем драться. Англичане ложатся в бейдевинд. Они пропустят испанцев и вернутся к прежней тактике – идти следом и тревожить. – Прощай Сеймур, – говорит Карри, – если он попадет между ними и пармской флотилией. Испанцы направляются в Дюнкирхен. – Быть не может! У них не хватит воды догнать легкий парусник Сеймура. Смотри, прямо на нас идет большой корабль! Угостите его всем, что у нас осталось, ребята! А если он одолеет нас, подойдем к нему вплотную и умрем, сцепившись. Они угостили испанский корабль всем, что имели, и все выстрелы попали в него; но его высокие борта были немы, как могила. Ему нечем было ответить на приветствие. – Клянусь жизнью, он ставит грот. Негодяи собираются удирать! – А за ним остальные! Победа! – вскричал Карри, когда испанские корабли один за другим распустили все свои паруса. В английском флоте на несколько минут воцарилось молчание, а затем раздались торжествующие крики. Кончено. Испанцы не приняли боя и, думая только о своем спасении, поспешно возвращались назад. Непобедимая Армада потеряла право на свое имя. Остаткам Армады не суждено было мирно добраться домой. Свирепый юго-западный ветер погнал на север и испанцев и англичан. Куда теперь? К берегам Шотландии! Но и в Шотландии Армада не нашла убежища и двинулась еще дальше, к Норвегии. На пятьдесят седьмом градусе широты английский флот, оставшись почти без провизии и давно уж не имея ни пороха, ни снарядов, повернул на юг, домой, сочтя за лучшее предоставить испанцев этим страшным и бурным северным водам. Когда лорд главный адмирал решил вернуться, Эмиас попросил разрешения следовать за испанцами дальше. Кроме того, он попросил у сэра Джона Хаукинса боевых припасов и провизии, обещая их вернуть лично, если останется жив, либо из своего наследства, если умрет. Эмиас написал соответствующую расписку и отдал ее сэру Джону, который, как деловой человек, взял ее и сунул в карман вместе с бечевкой, наперстком и табаком. Затем Эмиас созвал всех своих матросов и еще раз напомнил историю Розы Торриджа и дона Гузмана де Сото, после чего спросил: – Люди из Байдфорда, пойдете ли вы за мной? Тех, кто жаждет добычи, там ждет добыча; тех, кто жаждет мести, ждет месть, и всех нас (так как все мы жаждем чести) ждет честь изгнать последний испанский флаг из английских вод. И все как один ответили, что пойдут за сэром Эмиасом Лэем. Нет надобности описывать все подробности этой длинной и тягостной погони. Наступил шестнадцатый день. Низкие черные тучи и зловещая тишина предвещали шторм. Эмиас беспокойно и гневно шагал по палубе. Он знал, что испанец не может спастись от него, но проклинал каждое мгновение, отделяющее от великой мести, жажда которой омрачала его душу. Матросы хмуро сидели на палубе и говорили о ветре. Паруса вяло болтались; корабль ежеминутно глубоко нырял в волнах. – Позаботьтесь о пушках. Они у вас скоро отвяжутся, – проворчал Эмиас. – Мы позаботимся о пушках, когда погода позаботится о ветре, – огрызнулся Иео. – Ну, к вечеру у нас будет достаточно ветра, – сказал Карри. – И гроза будет. – Тем лучше, – заявил Эмиас. – По мне, пусть разверзаются небеса, лишь бы это не помешало мне выполнить мое дело. – Ручаюсь, что он недалеко от нас, – сказал Карри. – Лишь только проглянет солнце, мы увидим его. – С подветренной стороны? Это одинаково может и быть и не быть. Сам дьявол ему помогает. Шестнадцать дней идти по пятам и до сих пор не проткнуть его! И Эмиас нетерпеливо потряс мечом. За все утро англичане не видели ни единого живого существа, даже пролетающей чайки. В полдень все спустились вниз обедать – все кроме Эмиаса. Но не прошло и пяти минут, как с палубы загремел его голос: «Вон они!» – и в одно мгновение все вскарабкались на решетчатый люк с наибольшей быстротой, какую допускала неистовая качка. Да, вот «Святая Катарина». Тучи внезапно разорвались, и клочок голубого неба на юге позволил потоку солнечных лучей упасть на ее высокие мачты и величественный корпус, качающийся на расстоянии четырех-пяти миль к востоку. Но земли нигде не было видно. – Она там, а мы здесь! – сказал Карри. – Но где это «здесь» и «там»? – Не все ли равно, – ответил Эмиас, оглядывая корабль холодными и страшными голубыми глазами. – Можем мы добраться до нее? – Только если кто-нибудь выскочит за борт и станет толкать нас сзади, – сказал Карри. – Я спустился бы вниз доесть мою макрель, если бы качка не сбросила ее под стол, на радость тараканам. – Не шути, Билл! Я не могу этого вынести, – сказал Эмиас таким дрожащим голосом, что Карри посмотрел на него. Он весь трясся как осиновый лист. Карри взял его за руку и отвел в сторону. – Дорогой старый друг, – сказал Билл, когда Эмиас прислонился к бульварку, – что это значит? Ты сам на себя не похож. И ты такой уже четыре дня. – Да, потому что я – не Эмиас Лэй. Я – мститель. Не спорь со мной, Билл. Когда все будет кончено, я стану прежним веселым Эмиасом. И Карри грустно ушел. Спускаясь в решетчатый люк, он оглянулся. Эмиас достал оселок из кармана и точил лезвие меча, как будто подчиняясь роковому приговору: вечно точить и точить. Тягостный день кончался. Тучи снова заволокли голубое пятно, и стало темно, как прежде. С каждым мгновением делалось все более душно, и время от времени отдаленный рокот сотрясал воздух. Нельзя было ничего сделать, чтобы уменьшить расстояние между двумя кораблями, так как на «Мести» осталась всего одна лодка, и та была слишком мала, чтобы взять корабль на буксир. Около двух часов к Эмиасу подошел Иео. – Теперь он наш, сэр. Прилив шел на восток эти два часа. Наш, как лисица в капкане. Сам Сатана не вырвет его у нас. Пока он говорил, где-то на западе раздалось сердитое громыханье, все ближе и громче – и снова все стихло. Все посмотрели друг на друга. Лишь Эмиас не шелохнулся. – Надвигается шторм, – сказал он, – и вместе с ним ветер. На этот раз вперед на восток, мои веселые молодцы! – Вперед на восток никогда не приносит счастья, – вполголоса сказал Джек. Но в это время все глаза обратились на северо-запад, где на горизонте появилась черная полоса между водой и небом, а затем все слилось в тумане. – Это надвигается ветер… – И буря… Мачты заскрипели. Море покрылось рябью. Горячее дуновение пробежало по щекам, натянуло все снасти, надуло и поставило все паруса. Радостный возглас вырвался у матросов, когда руль начал работать, и «Месть» двинулась по ветру прямо на испанца, все еще лежавшего неподвижно. – Ветер усиливается, Эмиас, – сказал Карри. – Не убавить ли нам немного паруса? – Нет. Ни одной тряпки, – ответил Эмиас. – Дай мне руль, молодец! Боцман, свисти к бою. И через десять минут все матросы были на своих местах, меж тем как гроза грохотала все громче, а ветер быстро свежел. Прошло еще два часа, и четыре мили уменьшились до одной. Молния сверкала все ближе, и из громадной пасти черной тучи несся такой свирепый ветер, что Эмиас неохотно уступил намекам, грозившим перейти в открытый ропот, и приказал убавить паруса. Они несутся вперед, едва замедлив ход. Черный свод несется за ними, подернутый плоской серой завесой проливного дождя. Еще минута, и над их головами шквал разразился дождем, который хлестал как град, и ветром, который подхватил пену волн и слил все воды в сплошную белую бурлящую поверхность. А над ними, позади них и впереди них, сверкая и ослепляя, скакали и бегали молнии, меж тем как глухой рокот грома сменился треском. – Накройте оружие и боевые припасы чехлами и заберите их с собой вниз! – крикнул Эмиас, не отходя от руля. – И поддерживайте огонь на кухне, – сказал Иео, – чтобы быть наготове, если дождь испортит наши фитильные пальники. Я надеюсь, сэр, вы разрешите мне остаться подле вас на палубе, на случай… – Кто-нибудь должен остаться со мной, а кто может быть лучше тебя? Эмиас и его старый друг были теперь одни. Оба молчали. Каждый знал мысли другого. Шквал завывал все свирепее, дождь лил все сильнее. Где же испанец? Вот он качается с разорванными и болтающимися парусами. – Он пробовал удрать и поймал удар молнии, – сказал Иео, потирая руки. – Что мы теперь будем делать? – Станем с ним рядом, хотя бы из туч падали живые черти и ведьмы, и попытаем счастья еще раз. Паф! Как ослепляет молния! И они продолжали плыть, быстро нагоняя испанца. – Позови матросов наверх – и по местам! Через десять минут дождь пройдет. Иео побежал вперед к шкафуту и бросился обратно с бледным лицом. – Земля прямо перед нами! Лево руля, сэр! Бога ради, лево руля! Эмиас с бычьей силой налег на руль, меж тем как Иео звал снизу матросов. «Месть» сделала резкий поворот, мачты согнулись, как прутья. С громким треском сломался фок-зейль. Что за беда? На расстоянии двухсот ярдов от них находился испанец. Прямо перед ними из густого мрака вырастал и сливался с облаками громадный темный риф. – Что же это? Мора? Эартлэнд? Это могло быть все что угодно. – Лэнди, – сказал Иео, – южный берег. Я вижу вершину Шэттера в бурунах. Еще сильнее налево и поставьте его в бейдевинд, если можете. Посмотрите на испанца. – Да, посмотрите на испанца! По левую руку от них, когда они вышли из ветра, отвесно спускалась из туч гранитная стена уединенного утеса в две сотни футов вышиной. Дальше бушевала сотня ярдов бурунов, ревущих над подводными камнями, сквозь которые неслось водопадом быстрое течение; затем среди столбов соленых брызг, как громадный черный коготь, готовый схватить добычу, возвышался Шэттер, а между Шэттером и землей мрачно чернел большой галеон. Он тоже видел опасность и пытался выйти из ветра. Но его неуклюжая громада отказывалась подчиниться рулю. Наполовину скрытый пеной, одно мгновение он боролся, опять упал и ринулся навстречу своей судьбе. – Потерян! Потерян! Потерян! – обезумев, кричал Эмиас и, подняв руки, выпустил румпель. Иео схватил его как раз вовремя. – Сэр! Сэр! Что с вами? Мы еще благополучно минуем утес. – Да! – закричал в бешенстве Эмиас. – Но он не минует! Еще минута – галеон внезапно вздрогнул и остановился. Затем долгое напряжение и скачок, словно попытка освободиться, а затем его нос очутился над самым Шэттером. Страшная тишина воцарилась вокруг. Англичане не слышали рева ветра и волн, не видели ослепляющих вспышек молнии, – они слышали только один долгий пронзительный вопль пятисот человеческих глоток. Они видели, как величественный корабль накренился и, открыв весь свой бок до самого киля, стремглав понесся вниз вместе с водопадом, пока совсем не опрокинулся и навеки не исчез. – Позор! – крикнул Эмиас, бросая свой меч далеко в море. – Лишить меня моего права, когда оно уже было у меня в руках! Это безжалостно! Грохот, который расколол небо и заставил камень звенеть и дрожать, яркая полоса пламени и затем пустота совершенной темноты, на которой выделяются раскаленные докрасна мачты, и паруса, и утес, и Сальвейшин Иео, стоящий перед Эмиасом с румпелем в руках… Все раскаленное докрасна превращается в пламя, а позади черная ночь… Шепот, шорох совсем рядом с ним и тихий голос Браймблекомба: – Дай ему еще вина, Билл. Его глаза открыты. – Что это? – слабо спрашивает Эмиас. – Мы все еще не прошли Шэттера! Как долго мы боремся с ветром! – Мы давно миновали Шэттер, Эмиас, – говорит Браймблекомб. – С ума вы сошли? Что же, я не могу верить собственным глазам? Никакого ответа, а затем: – Конечно, мы давно прошли Шэттер, – очень ласково говорит Карри, – и стоим в бухте Лэнди. – Вы хотите сказать, что это не Шэттер? Вот Чертова Печь и утес, – этот проклятый испанец только что исчез, – Иео стоит около меня, а Карри впереди. И, кстати, где же ты, Джек Браймблекомб, который говорит со мной в эту минуту? – О, Лэй, дорогой Эмиас Лэй, – всхлипывает бедный Джек, – протяните руку, и вы почувствуете, где вы. Великая дрожь охватила Эмиаса. Со страхом протянул он руку и убедился, что лежит на своей койке. Видение исчезло, как сон. – Что такое? Я, должно быть, спал! Что случилось? Где я? – В своей каюте, Эмиас, – сказал Карри. – Что? А где Иео? – Иео ушел туда, куда желал уйти, и так, как он желал. Тот же удар молнии, который попал в вас, поразил и его насмерть. – Насмерть? Молния? Больше никаких повреждений? Я должен пойти посмотреть. Почему?.. Что это?.. – И Эмиас провел рукой по глазам. – Все темно, темно, клянусь жизнью! – И он снова провел рукой по глазам. Вторично мертвое молчание. Эмиас прервал его: – О, – вскричал он. – Я слеп! Слеп! Слеп!.. – И он в ужасе забился, умоляя Карри убить его и избавить от несчастья, а затем, рыдая, призывал мать, как будто вновь стал ребенком. И Браймблекомб, и Карри, и все матросы, столпившись за дверью каюты, рыдали. Скоро приступ безумия прошел, и Эмиас, обессилев, откинулся на подушки. Товарищи перенесли его в их единственную лодку, привезли на берег, с трудом внесли на гору в старый замок и устроили ему постель на полу той самой комнаты, где дон Гузман и Рози Солтерн дали клятву друг другу пять бурных лет тому назад. Прошло три горьких дня. Эмиас, совершенно разбитый своим несчастьем и чрезмерным напряжением последних недель, без конца бредил. А Карри, Браймблекомб и матросы ухаживали за ним так, как только умеют ухаживать моряки и женщины. На четвертый день бред прекратился, но Эмиас был еще слишком слаб, чтобы двигаться. Тем не менее около полудня он попросил есть, поел немного и, казалось, ожил. – Билл, – сказал он через некоторое время, – в этой комнате так же душно, как темно. Я чувствую, что выздоровел бы, если бы мог вдохнуть немножко морского воздуха. Врач покачал головой, не считая возможным тревожить больного, но Эмиас настаивал. – Я еще капитан, доктор Том, и если захочу – отправлюсь в Индию. Билл Карри, Джек Браймблекомб, будете вы слушать слепого адмирала? – Какое вам нужно доказательство? – спросили оба в один голос. – Тогда выведите меня отсюда, друзья мои, и поведите на дюну на южном берегу острова. Я должен попасть на самый край южного берега. Никакое другое место не годится. – И он твердо встал на ноги и оперся на их плечи. – Куда? – спросил Карри. – На скалу над Чертовой Печью. Никакое другое место не годится. Джек издал какое-то восклицание и приостановился, как будто у него мелькнуло нехорошее подозрение. – Это опасное место. – Что ж из этого? – спросил Эмиас, который по голосу Джека уловил его мысль. – Не думаешь ли ты, что я собираюсь броситься со скалы? На это у меня не хватит мужества. Вперед, дети мои, и устройте меня поудобнее среди камней. Медленно, с трудом подвигались они вперед, меж тем как Эмиас бормотал про себя: – Нет, никакое другое место не годится. Оттуда я могу все видеть. Так дошли они до того места, где циклопическая стена гранитного утеса, образующая западный берег Лэнди, резко обрывается трехсотфутовой пропастью. Несколько минут все трое молчали. Глубокий вздох Эмиаса прервал молчание. – Я здесь все знаю… Дорогое старое море, где я хотел бы жить и умереть… Усадите меня среди камней так, чтобы я мог отдохнуть, не боясь упасть, потому что жизнь сладостна даже без глаз, друзья, и дайте мне побыть немного одному. – Ты сможешь сидеть здесь как в кресле, – сказал Карри, помогая Эмиасу опуститься на одно из естественных четырехугольных сидений, часто встречающихся в гранитных скалах. – Хорошо! Теперь поверни меня лицом к Шэттеру. Так. Я смотрю прямо на него? – Совершенно прямо, – ответил Карри. – Тогда мне не нужно глаз, чтобы видеть все, что передо мной, – с грустной улыбкой сказал Эмиас. – Я знаю каждый камень, каждый выступ и каждую волну на пространстве гораздо большем, чем может охватить глаз. Теперь уходите и оставьте меня одного. Они отошли на небольшое расстояние и стали стеречь его. Эмиас несколько минут не шевелился, затем оперся локтями о колени, положил голову на руки и снова замер. В таком положении он оставался так долго, что его друзья начали беспокоиться и подошли к нему. Он спал и дышал быстро и тяжело. – Он схватит лихорадку, – сказал Браймблекомб, – если будет еще спать на солнце. – Мы должны осторожно разбудить его, если мы вообще сможем его разбудить. – И Карри приблизился к спящему. В то же время Эмиас поднял голову и, повернув ее направо и налево, посмотрел вокруг себя невидящими глазами. – Ты заснул, Эмиас? – Правда? Значит, сон не вернул мне глаз. Возьмите этот большой ненужный остов и поведите меня домой. Я куплю себе собаку, когда приеду в Бэруфф, и заставлю ее таскать меня на буксире. Так! Дай руку! Теперь марш! Его спутники с удивлением слушали веселый голос. – Слава Богу, что у тебя стало легко на сердце, – сказал добрый Джек. – Я чувствую, как будто и я сразу ожил от этого. – У меня есть основание стать веселым, Джон. Я сбросил с себя тяжкий груз. Я был диким заносчивым глупцом. Я раздулся от чванства и жестокости. Я думал, что месть – великое и правое дело, и только теперь я наконец понял, что на самом деле я давно уже был слеп и только теперь прозрел. – Но ты не раскаиваешься, что дрался с испанцами? – В этом нет, но раскаиваюсь в том, что ненавидел даже самых достойных из них – раскаиваюсь. Слушайте меня, Билл и Джек. Этот человек причинил мне зло, но и я ему причинил не меньше. Но я понял свою вину перед ним, и мы помирились. – Помирились? – Да, помирились. Но я устал. Дайте мне посидеть немного – я расскажу вам, как это произошло. Удивленные, они посадили его на траву. Вокруг жужжали на солнце пчелы. Эмиас нащупал руки своих друзей, соединил их в своей и начал: – Когда вы оставили меня там, на скале, ребята, я стал смотреть на море, чтобы в последний раз почувствовать дыхание веселого морского ветра, который никогда уж не возьмет меня с собой. И, уверяю вас, я видел воду и море так же ясно, как всегда, и я стал думать, что зрение вернулось ко мне. Но скоро я понял, что это не так, ибо я увидел больше, чем может увидеть человек. Передо мною открылся весь океан, клянусь жизнью, и все Испанское море. Я видел Барбадос и Гренаду и все острова, мимо которых нам случалось плавать, и Ла-Гвайру на Каракасе, и тот дом, где жила она. И я видел, как он гулял с ней в саду, и тогда он любил ее. И я говорю вам: он все еще любит ее. Потом увидел внизу скалы и утес Гэлль, и Шэттер, и Лэдж. Я видел их, Вильям Карри, и я видел траву на дне веселого голубого моря. И я видел большой старый галеон, Билл; прилив выпрямил его. Он лежит на глубине в девяносто футов, на песке, около самой скалы; и все его матросы лежат вокруг и спят беспробудным сном. Карри и Джек посмотрели на Эмиаса, а затем друг на друга. Его глаза были ясны и светлы и полны мысли; и все же они знали, что он слеп. Его голос звучал почти как пение. Что это: вдохновение или безумие? И они напряженно слушали, а великан продолжал, устремив глаза в голубую глубь далеко внизу. – И я увидел, что он сидит в своей каюте; вокруг него сидят все его офицеры и пьют вино; их мечи лежат на столе. А рыбы и креветки и речные раки плавают взад и вперед над их головами. Потом дон Гузман говорил со мной, Билл. Он обратился ко мне прямо через морскую траву и воду: «У нас была славная ссора, сеньор. Теперь время стать снова друзьями. Моя жена и ваш брат простили меня; поэтому ваша честь не пострадает». И я ответил: «Мы – друзья, дон Гузман». Тогда он протянул мне руку, Карри, а я нагнулся, чтобы взять ее, и проснулся. Он кончил. Друзья снова посмотрели на его лицо. Оно было измученное, но ясное и кроткое, как у новорожденного младенца. Постепенно его голова вновь склонилась на грудь. Он был в обмороке или спал, и они с большим трудом доставили его домой. Он проспал сорок восемь часов, затем внезапно поднялся, попросил есть, плотно поел, и, казалось, исключая зрения, прежнее здоровье и силы вернулись к нему.
Глава XXIX Как Эмиас уронил яблоко
Первое октября. Ясное и спокойное утро. Небо покрыто нежно-серыми осенними облаками. И небо и земля как будто отдыхают после тревожного лета битвы и бури. В полном молчании, словно пристыженная и грустная, «Месть» проскользнула через заграждения, миновала уснувшие песчаные холмы и бросила якорь у Аппельдора. Ее флаг был наполовину спущен, так как на борту находилось тело Сальвейшина Иео. От корабля отошла лодка и направилась к западному берегу. Карри и Браймблекомб помогли выйти из нее Эмиасу Лэю и медленно повели его наверх, к его дому. Вокруг него столпился народ. Раздавались радостные возгласы и всхлипывания добросердечных женщин: весь Аппельдор и Байдфорд знали уже, что с ним случилось. – Пощадите меня, мои добрые друзья, – сказал Эмиас. – Я высадился здесь, чтобы иметь возможность спокойно дойти до дому, не проходя через город и не становясь предметом общего внимания. Не думайте и не говорите обо мне, добрые люди. Идите за мной и проводите к могиле тело более достойного человека, чем я. В это время к берегу пристала вторая лодка и в ней покрытые английским флагом останки Сальвейшина Иео. Народ внял словам Эмиаса. В Бэруфф послали человека сообщить миссис Лэй, что ее сын прибыл. Когда выгрузили и подняли гроб, Эмиас и его друзья заняли место позади него, во главе погребального шествия; за ними выстроилась команда, а позади двигалась толпа, возраставшая с каждой минутой, так что уже на полпути до Норшэма за гробом шло не менее пятисот человек. Миссис Лэй оставалась дома. У нее не было сил видеть людей, и хотя ее сердце было полно скорби за сына, все же она была довольна (когда не была она довольна?), что он отдает последний долг своему старому и верному другу. Она сидела в нише окна, и рядом с ней сидела Эйаканора. – Эйаканора, – сказала миссис Лэй, – они хоронят старого мистера Иео, который любил тебя и искал тебя по всему свету. Разве ты не жалеешь о нем, дитя, что ты так весела сегодня? Эйаканора покраснела и повесила голову. Бедное дитя, она не думала ни о чем и ни о ком, кроме Эмиаса. Иео похоронили. Опираясь на руки своих товарищей, Эмиас медленно вышел с церковного двора, прошел деревню и поднялся по тропинке к воротам Бэруффа. Казалось, он великолепно знал, когда они подошли к воротам. Он сам отворил калитку и храбро пошел вперед по усыпанной гравием дорожке, меж тем как Карри и Браймблекомб, дрожа, следовали за ним. Они ждали бурного взрыва чувств со стороны Эмиаса или его матери, и сердца славных парней трепетали, как девичьи. Эмиас подошел к двери, как будто видел ее. Нащупав порог, переступил и спокойно позвал: «Мама». В одно мгновение мать очутилась на его груди. Некоторое время оба молчали. Она внутренне рыдала, но глаза ее были сухи. Он стоял твердо и бодро, обняв ее своими большими руками. – Мама! – сказал наконец Эмиас. – Я вернулся домой, вы видите, потому что я должен был вернуться. Хотите вы принять меня и смотреть за этим беспомощным остовом? Я не буду причинять вам слишком много хлопот. Или буду? – Он склонил голову, улыбнулся и поцеловал ее в лоб. Она не ответила ни слова, лишь ласково обняла его талию и повела. – Береги голову, дорогое дитя, дверь низкая. – И они вместе вошли. – Билл, Джек! – поворачиваясь во все стороны, звал Эмиас, но оба друга быстро удирали. – Я рад, что мы ушли, – сказал Карри. – Еще минута, и я превратился бы в младенца, глядя на эту женщину. Как дергалось ее лицо! И как она держала себя в руках! – Да, – сказал Джек. – Море лишилось славного искателя приключений, не совершившего и четверти того, что он мог бы сделать. Ох, теперь я должен зайти домой повидать моего старика отца, а затем… – А затем домой ко мне, – сказал Карри. – Ты от меня никуда не уйдешь. Мы слишком долго скитались вместе, Джек, и я не позволю тебе растратить призовые деньги на распутную жизнь. Я должен буду присматривать за тобой на берегу, старый Джек, иначе ты целую неделю станешь угощать в таверне полгорода. – О Билл! – воскликнул возмущенный Джек. – Пойдем со мной домой. Давай отравим пастора, и мой отец сделает тебя ректором. – О Билл! – простонал Джек. И в тот же день они вместе отправились в Кловелли. А Эмиас сидел совершенно один. Его мать вышла на несколько минут поговорить с матросами, принесшими багаж Эмиаса. Эмиас сидел в старой нише, где сиживал, когда был совсем крошечным мальчуганом, читая «Короля Артура», «Мучеников» Фокса и другие увлекательные книги. Он протянул руку и попробовал их найти. Вот они лежат одна подле другой, точно так же, как лежали двадцать лет тому назад. Окно было отворено, и прохладный ветерок доносил, как встарь, аромат поздних роз, розмарина и осенних левкоев. А на столе блюдо с яблоками, – он знал это по запаху. Такие же самые старые яблоки, какие он собирал, когда был мальчиком. Он протянул руку, взял яблоки и играл ими, и гладил их, как будто вовсе не прошло этих двадцати лет. Но вдруг одно из них выскользнуло из его пальцев и упало на пол. Он нагнулся и хотел поднять его, но не мог найти. Досадно! Он быстро повернулся, чтобы поискать с другой стороны, и больно ударился головой о стол. Была ли это боль или маленькое разочарование? Или это смешное и ничтожное происшествие напомнило ему о его слепоте и о всех связанных с нею унижениях? Или это была внезапная реакция напряженных нервов, вызванная незначительным раздражением? Или он в самом деле стал ребенком? Но он сердито затопал ногами, а затем, опомнившись, горько заплакал. Быстрый шорох – яблоко вернулось на место, и голос Эйаканоры прорыдал: – Вот! Вот оно! Не плачьте! О, не плачьте! Я этого не вынесу. Я достану все, что вы хотите! Только позвольте мне ухаживать за вами, кормить вас, водить вас. Скажите, что мне можно быть всегда с вами! – И, упав к его ногам, она схватила его руки и стала покрывать их поцелуями. – Да! – кричала она. – Я хочу быть всегда с вами! Я должна быть с вами! Вы не можете помешать мне! Теперь вы не сможете убежать от меня! Вы не можете уйти в море! Вы не можете отвернуться от меня, несчастной! Теперь вы весь мой! Весь! И она торжествующе сжимала его руки. – Ах, какая я негодная, что радуюсь этому! Что дразню его его слепотой! О, простите меня! Я только бедная дикарка, дикая индийская девушка… вы знаете… Но… но… – И она разрыдалась. Великое волнение потрясло тело и душу Эмиаса Лэя. Он минуту молчал, а затем торжественно сказал: – Так это еще возможно? Эйаканора вопросительно взглянула вверх на его лицо, но прежде, чем она успела что-либо сказать, он наклонился, схватил ее, прижал к своей груди и покрыл ее лицо поцелуями. С той минуты дар песен вернулся к Эйаканоре. День за днем, год за годом раздавалсяее голос в этом счастливом доме и уносил безмятежные мысли слепого великана в леса далекого Запада вслед за искателями приключений, которые держали курс «Вперед, на запад!».Зофья Коссак КОРОЛЬ-КРЕСТОНОСЕЦ
Глава 1 В РОДНОМ КРАЮ

Госпожа Бенигна [400] скинула бархатные сапожки и сунула ноги в приготовленные у порога деревянные башмаки. Энергичным жестом поддернула слишком длинную юбку, прихватив ее сверху поясом, и двинулась, опираясь на палку, обычным своим вечерним дозором по всем помещениям замка. Кроткое имя Бенигна не очень-то подобало ее внешности, а тем более решительному характеру. Благородная супруга Гуго Смуглого, двадцатого по счету владетеля родового замка Лузиньянов, месившая сейчас деревянными башмаками крутую осеннюю грязь, лицо имела широкое и костистое, губы узкие, плотно сжатые, лоб же пересекала глубокая морщина. Острые и приметливые глаза давно привыкли зорко следить за порядком в доме. Скуповатая, суровая, властная, никому не давала она потачки. С высоких лип и каштанов, окружавших двор, сыпались пожухлые листья. Небо в наступающих сумерках тускло отливало свинцом. Вокруг островерхих башен с криками кружили галки. Госпожа Бенигна остановилась, запрокинув голову, но глядела она не на шумливых птах, а на обветшалую кровлю: даже издали видно, что вся в дырах. Самое время ее чинить, пока не налетели зимние вьюги, не то весной придется стелить новую… С южной стороны еще ничего, а с восточной надо подправить незамедлительно… А на башне Мелюзины так и вовсе прохудилась… Она невольно вздрогнула и ускорила шаг, искоса поглядывая на башню. Мелюзина, дочь шотландского короля Элинаса, рожденная феей, считалась праматерью рода Лузиньянов, давшего ей свое имя [401]. Когда появилась она в здешних местах, в нее влюбился славный рыцарь Реймонден де Форе и взял ее себе в жены, не зная о тяготевшем над ней заклятье: по субботам его красавица превращалась в змею. Была она, как и ее мать, тоже феей, даже колдуньей – знала язык эльфов, повелевала гномам и умела строить: не только знаменитый замок Лузиньянов, но и многие другие в графстве Пуату – Партенэ, Марво, Марманд, Иссудон – возведены Мелюзиной, вернее, ловкими духами, работавшими по ее приказанию. Строили они тайком – по ночам. Вечером каменщики покидали стройку, оставив всего три локтя возведенной стены, а утром приходили и диву давались: стена выросла до целых десяти локтей! Мастера об этом помалкивали – любо им было, что дело делает нечистая сила, а большие деньги берут они. Так и повелось. Мастеров хвалили да награждали, а Мелюзина знай себе строила замок за замком, один красивей другого. Гномы камень пальцем резали, точно глину, всякие узоры выводили, но ни разу не начертали креста или еще какого святого знака. Это уж днем мастера все в потребный вид приводили. Может, так бы оно и дальше шло, но однажды супруг-рыцарь углядел невзначай, как Мелюзина перекидывается змеей, и в такой несказанный пришел ужас, что накрепко замуровал жену в башне, той самой, что стоит ныне с прохудившейся крышей. Одни говорили, будто Мелюзина так в башне и умерла, другие же уверяли, что змея колдовскими чарами вызволила себя из заточения и затаилась где-то в окрестностях замка. В графстве Пуату история эта рассказывалась редко, слишком хорошо она была всем известна. Любой малец знал ее назубок, лучше даже, чем деяния святого Мамерта, покровителя здешних мест. Неудивительно, что благородная Бенигна де Лузиньян, проходя мимо башни Мелюзины, поглядывала на нее с опасливым почтением. Госпожа Бенигна ни на фею, ни на змею не походила: кряжистая и сильная, издали она скорее смахивала на крепкий суковатый пень. Но колдовать случалось и ей, особенно когда дело касалось хозяйства, которым она правила самолично, без помощи искусников-гномов. «Свой глаз – алмаз», – говаривала она, начиная неизменный, ежедневный обход сараев и закутков. Особенно в такую вот ненастную осеннюю пору надобно смотреть за холопами в оба: иззябли, работу справляют абы как, лишь бы отделаться. Уж лучше самой проверить, пригнано ли стадо из леса, сколько набрано желудей, какое приготовлено пойло. И курятник: а ну как подлые девки забыли прикрыть его поплотнее и к курам заберется куница? Прошлым годом случилась уже такая оплошка. Из темного чрева коровника вышел ей навстречу пастух Блажей: коренастый, с лицом землистого цвета, весь пропахший ветром и навозом. Босые ноги густо зашлепаны грязью, будто у неухоженной скотины. Склонился перед хозяйкой в глубоком поклоне. – Сызнова змея приползала, – доверительным полушепотом сообщил пастух. Госпожа Бенигна постаралась не показать тревоги, но перекрестилась на всякий случай. – Ты сам видел ее? – спросила она, тоже понизив голос. Пастух кивнул утвердительно. Как же, видел, собственными глазами. Уже несколько дней он подозревал неладное: Пеструха-то неспроста с пустым выменем стоит. Знамо дело: либо ведьма, либо змея… И вот сегодня сам удивился – ползет! Выдоила Пеструху начисто, к утру ни капельки молока не осталось… – Ох, напасть, напасть! – У кума моего эдак же вот повадилась как-то змея выдаивать его коровенку. И что вы думаете? Скотинка так к этому делу привыкла, что уж никому, кроме твари ползучей, молока своего не давала. Стали куму со всех сторон наговаривать, чтобы он грешную животину живьем спалил, потому как она спозналась с дьяволом. Только он даже ухом не повел на такие речи. Змеюку пришиб, а коровушку доит и по сю пору… Ежели ваша милость дозволит, то и я… – Нет-нет! – живо запротестовала хозяйка. – Не надо… Знаешь сам… Святой Мамерт, не оставь нас своим попечением! Пастух понимающе сплюнул. Еще бы не знать! Вестимо: может, это змея обычная, а то и уж паршивый с надречного луга, а может… Лихо пусть себе лежит тихо… А с другой стороны, что ж, неужто так и глядеть, как пропадает скотина? – Посоветуюсь с отцом Гаудентием, – постановила госпожа Бенигна. – А ты покамест хорошенько заткни дыру чуркой или камнем, да поплотнее, чтобы ей и щелки не осталось протиснуться. – Мало ли в нашем хлеву других дыр, – с сомнением отвечал пастух, отходя прочь. Обезопасившись от зла полумерой, что было отнюдь не в ее характере, госпожа Бенигна побрела через грязный двор к замку, испуская тяжкие вздохи. – Вот беда так беда! – громко сетовала она. – Лучшая корова! Будто без этого хлопот не хватает! Других хлопот было у нее и впрямь предостаточно. Род Лузиньянов, по праву числившийся среди лучших рыцарских родов, в последнее десять лет сильно захудал. Два неудачных военных похода, неуемная расточительность Гуго Смуглого, недороды – все это заметно опустошило кладовые замка. Правда, уемистый ларь, сокровищница рода Лузиньянов, ключ от которой всегда носила при себе бдительная госпожа Бенигна, все еще стоял на почетном месте в особой камере, при дверях коей день и ночь держал караул кто-либо из челядинцев. Но делалось это лишь для отвода глаз, чтобы никто не догадался о бедственном положении семьи; впрочем, в самом замке всем было доподлинно ведомо, что на дне грозно охраняемого ларя не завалялось ни единого дуката или драгоценного камня, ни единой запоны или пряжки. Однако полное обмеление родовой казны никак не отражалось на будничной жизни обитателей замка. Деньги требовались на выезды и турниры, на фамильные праздники и пиры – вот когда полагалось звенеть золотом, щедро потчуя всю округу. По будням же деньги были без надобности. Все необходимое для господ и челяди изготовлялось тут же, на месте, из собственного сырья: вино и свечи, домотканая шерсть и полотно, утварь, посуда и прочие потребные для обихода предметы. Только соль, оружие да выходное платье привозились из далеких стран, но этого добра в замке оставалось еще довольно. Жизнь текла здесь прежним, давно заведенным чином, с той только горькой разницей, что будни никогда не сменялись праздниками. А вдруг кому-то из сыновей придет охота жениться? Что тогда?… Сыновья! Самая жгучая боль госпожи Бенигны, столь же чадолюбивой, как ее прародительница Мелюзина. Сыновей четверо. И всем готовь достойную справу и выпускай в мир, дабы воскресили они угасшую славу знаменитого рода. Бродячий рифмоплет может странствовать по миру без гроша в кармане, но Лузиньяна не годится выпускать на люди с пустым кошельком. Деньги! Их приходится копить годами, отказывая себе во всем. Над ее скопидомством посмеиваются соседи, челядь жалуется на ее скупость, но она не обижается. Какое ей до чужих дело? Трудолюбивая, как пчелка, хозяйственная, как муравей, день за днем громоздит она запасы муки, кож, воска, полотна, солонины и меда, чтобы обратить все это в звонкую монету на монастырской ярмарке в Пуатье, что раз в году собирается на площади святой Радигонды. Слава Богу, двое старших уже вылетели из гнезда. Неусыпными ее стараниями оба приодеты, снабжены какими-никакими деньгами, у обоих по коню и по слуге. Первенец, Гуго, отбыл ко двору английского короля Генриха Плантагенета, графа Анжуйского. Второй, Амальрик, отправился морем в Святую землю в свите господина де Куртене. Старших удалось пристроить достойно, без урона для чести Лузиньянов. Ее хлопоты и труды увенчались победой. Но радоваться пока рано, ибо еще остаются младшие. Правда, третий, Бертран, хром: ребенком он упал с лестницы и остался на всю жизнь калекой. Придется пустить его по духовной части, рыцарской справы не надобно, значит, обойдется дешевле. Зато младший! Вит! Дитятко ненаглядное, красавец писаный, ни дать ни взять королевич из сказки! Отослать бы его не мешкая ко французскому двору – а деньги где? Сколько времени пришлось ей копить на старших! И вот теперь снова копи, А молодые годы летят. Да как назло в хозяйстве сплошные убытки. На той неделе волк задрал четырех овец. Теперь вот эта змея… Что с ней делать? Упаси Боже, не натворить бы какой беды! Тяжело вздыхая, она поднялась по каменной лестнице и со злостью скинула у порога заляпанные грязью сабо. Они тут же покатились вниз. Хозяйка гневно посмотрела им вслед, словно именно они были виноваты в том, что высокородная дама не могла обеспечить своим сыновьям достойного места в жизни. Ведь и Бертран, хоть и калека несчастный, тоже сын и тоже Лузиньян. Были бы деньги, стал бы он каноником либо епископом. Лузиньяну сан ниже епископского не подобает… Лузиньян!… Благородное имя на вес золота ценится, да никто что-то этого золота не дает… Ничего не попишешь, придется парню идти в монахи, прикрыть рясой свою беду, притворяясь, будто увечье послано ему свыше во благо. С ним дело не к спеху. Сидит дома, помогает матери по хозяйству. Всегда брюзгливый, снедаемый завистью к красавчику брату, любимцу матери… Да, любимцу! Суровое лицо госпожи Бенигны озаряется нежной улыбкой, как только она вспоминает о младшем. Бедняжка! Вместо того чтобы блистать на пирах и турнирах, теряет молодость в угрюмой пустоте огромного замка… Замок и вправду был сумрачен и угрюм. Да и кто мог наполнить его радостью и весельем? Престарелый, туговатый на ухо рыцарь Гуго по прозвищу Смуглый был не веселее лесного филина. Скучал смертельно и от скуки чудил и капризничал в доме, погибавшем от его же мотовства. Слишком старый, чтобы ввязываться в рискованные военные авантюры, слишком гордый, чтобы лизоблюдничать при богатых дворах, сидел он в замке и плесневел. Благородная супруга его, погруженная в хозяйственные заботы, тоже веселостью не отличалась. Хромой Бертран тем более не видел радости в жизни, обрекавшей его на монашескую рясу. Гостей Лузиньяны никогда не принимали – слишком накладно. И сами по гостям, ясное дело, не ездили – неприлично пользоваться чужим хлебосольством, не имея чем отплатить за него. Так и погребали себя заживо в непомерной своей гордости и нищете. Даже бродячих актеров и певцов, которыми кишмя кишела вся округа, хозяйка замка не очень жаловала. – Можно и без баек прожить, – говаривала она, – задаром они нас тешить не будут. Если и оглашался иногда веселым смехом замок Лузиньянов, то это смеялся самый младший, Вит, о котором так сильно тревожилась мать. Он вовсе не разделял общего уныния. Вместе с привлекательной внешностью Вит получил от природы ценнейший дар: умение радоваться жизни, какой бы она ни была. Радостным было уже то, что он живет, и солнышко греет, и веет ветер, и поют птицы, и журчит вода под мельничным колесом. Вит не любил предаваться пустым мечтаниям, не грезил о блестящих королевских дворах; наоборот, он думал о них с опаской: там надо разить словом, точно мечом, вечно быть начеку, чтобы не обругали и не подняли на смех деревенского увальня. Сам себя он считал простаком, которого легко потехи ради обвести вокруг пальца. Вот битва – дело другое, на войну он бы с радостью поехал, но как на грех в те годы не велось никакой войны, а раз не велось, Вит предпочитал сидеть дома. Чем плохо? Богатая охота в отцовских угодьях да жаркие поцелуи деревенских девушек, не жалевших ласк для юного красавца из замка… Госпоже Бенигне, женщине суровой и богобоязненной, и в голову не могло прийти, что ее любимец возвращался с охоты, отягощенный не только добычей, но и множеством любовных побед. Любовные переживания Вита были неглубоки и вряд ли достойны рифм бродячего трубадура, ибо двигало им не истинное чувство, а природный инстинкт, как бы разбуженный здешней землей, обильной и плодородной: любовь сливалась для него с окружающей природой – с пряным запахом трав в сенокосную пору и с осенним багрецом буковых листьев. За вечерней трапезой, как только замковый капеллан отец Гаудентий дочитал краткую молитву, хором повторяемую за ним остальными, госпожа Бенигна завела речь о змее. Рассказывая, поджимала губы чуть ли не после каждого слова – для пущей многозначительности. Под конец промолвила, обращаясь к отцу Гаудентию: – Теперь вы знаете, как обстоят дела. Что вы мне посоветуете, отче? Отец Гаудентий в замешательстве тер заросшую щетиной щеку, искоса поглядывая на хозяйку замка. Благородные супруги сидели друг против друга на стульях с подлокотниками и высокими резными спинками. Чуть пониже – оба сына и капеллан на табуретах без спинок, но с такими же подлокотниками. Дальше расстилалось обширное пустое пространство огромного стола, в самом конце которого разместилась челядь, сидевшая на простых лавках. Перед господами и слугами стояли блюда с одинаковой снедью – жареными рябчиками да оладьями из ячменной муки – и жбаны с вином. Вино, правда, подавалось разное: господам – выдержанное, многолетнее, а слугам – кислятина прошлогоднего урожая. – Как вы полагаете, преподобный отец, – не отступалась госпожа Бенигна, – обычная это змея – или… Она замолкла, тревожно оглянувшись по сторонам. – Завтра я покроплю в коровнике святой водой, – объявил священник, избегая прямого ответа. – Коли это шкодливая тварь земная, ее святой водой не проймешь. А коли… – Думаете, она не вернется? – Не вернется, клянусь мощами святой Радигонды!… Я знаю такие молитвы, которые разрушат любые чары, помогут наверняка. – Дай-то Бог! – с надеждой вздохнула хозяйка замка. – Зря вы, матушка, так переполошились, – заметил Вит, кидая кости псу. – Над речкой ужей невпроворот, добрался какой-нибудь и до коровника, они на молоко падки… А все прочее – глупые сказки… Сколько раз я слонялся ночью вокруг башни, надеясь выманить оттуда бабушку Мелюзину, и все впустую… – Осенись крестом и не пустословь, – сурово осадила его мать. – Остерегайтесь, ох, остерегайтесь вызывать злых духов, особенно ежели дело к ночи, – поддержал ее капеллан. – Вовсе она не была злым духом, – защищал прабабку Вит, – никому ничего худого не делала… – Принимала на себя обличье змеиное, коим пользовался и дьявол. Вот и довод, что она из его рати. – А я все равно ее не боюсь и не прочь с ней повстречаться! – Замолчи сейчас же! – Мать разгневалась не на шутку. – Накличешь ты на себя беду! – Не бойтесь, матушка, Мелюзина пригожих молодцев не обижает… Вит первым рассмеялся собственной немудреной шутке. Бертран, сверкнув на него злобным взглядом, прошипел: – Дурак! Пригожестью своей похваляется! Красавец! – Похвались и ты! Я не возражаю, – отрезал Вит. Молчавший до сих пор отец, приставив ладонь к уху, спросил: – О чем спорите? Сыновья смолкли. Капеллан громким голосом ответил: – О пустяках, ваша милость. Известное дело, молодежь, болтает о том о сем. – О чем? – настаивал старик. – О чем болтает? – О… об охоте… – Ну и как, удачная была охота? Начали ему рассказывать про дичь, мелкую и покрупнее. Госпожа Бенигна, сложив руки, смотрела на сыновей. Да, бедный Бертран не мог похвастаться красотой. По детской неосторожности стал на всю жизнь калекой. Спина вроде прямая, а лицо длинное, как у горбуна, плечи высоко вздернуты. Да и ростом не вышел, даже до плеча братьям не достает. Горемыка! Она перевела взгляд на младшего и засияла, словно выбралась из мрака на солнечный свет. И вправду, какая женщина, простая смертная или фея, устоит против такого красавца? Всякий раз, глядя на сына, Бенигна испытывала чувство несказанной гордости: взгляд ее невольно смягчался, губы складывались в улыбку, когда она рассматривала каждую черточку дорогого ей лица. Красивый рот, тонкий благородный нос, высокие дуги бровей, детские голубые глаза, зубы белее снега, ровные и блестящие… Вит, перестав возиться с псом, который лез к нему на колени, поднял голову и ответил улыбкой на материнский взгляд, отчего сделался еще краше. «Архангел, – про себя восхищалась Бенигна, – архангел Гавриил – да и только… В королевском дворце ему место, а не здесь». Заворчали псы. Дверь в залу отворилась, и вошел привратник. – Ваша милость! Там, у ворот, какой-то чужак… – Что? Громче! Что он говорит? – допытывался Гуго Смуглый. – Чужак стучится в ворота! – Так впустить его! – Вот еще! – запротестовала супруга. – Каждого бродягу впускать! Откуда он? – Сказывает, из Святой земли. На лицах сидящих за столом изобразилось любопытство. Только Бертран насмешливо произнес: – Каждый так говорит, лишь бы ему открыли ворота и дали поесть, а потом оказывается, что он дальше Пуатье и не заглядывал… Сколько мы уж таких видали! – Верные слова, – согласилась мать. – Чужака не пустим. Пусть себе идет восвояси. Стражник вышел. Из распахнувшейся на мгновение двери понизу, по ногам, потянуло сквозняком. – Ходят тут всякие бродяги, и всякий болтает, будто из Святой земли воротился… Можно подумать, что уж и не осталось никого, кто бы там не побывал… – И то сказать, ваша милость, почитай что все туда ринулись, словно за морем помирать слаще… – А налог-то на войну с Саладином епископ взимает исправно… Знать бы, на что только идут наши денежки… Уж не на ту ли толпу проходимцев, что без толку снуют туда и обратно?… Дверь снова скрипнула: это вернулся привратник. – Ваша милость, он говорит, что привез письмо от молодого господина… – От Амальрика? Письмо?! Да веди же его сюда скорее! – заволновалась госпожа Бенигна, разом сменив гнев на милость. – Письмо, а? От кого? – допытывался старый рыцарь, острием кинжала выковыривая из зубов остатки мяса. Предусмотрительная супруга отняла у него опасную игрушку, после чего громко заявила ему прямо в ухо: – Письмо пришло! От Амальрика! – О! – возрадовался глава семьи. Правда, его любимцем был старший, Гуго, но и Амальрика он весьма ценил за необычайную ученость. Башковит шельмец! Что ни скажет – все по его слову выходит! Привратник с громким топотом уже мчался вниз по лестнице. Вит спешил следом. Бертран же кричал вдогонку, чтобы хорошенько проверили печати, прежде чем впустить чужака: может, все это сплошной обман. Препровожденный наверх посланец был вне себя от возмущения: – Я уж думал, не к неверным ли меня занесло ненароком… На таком холоду целый час продержать божьего человека! А письмо это благородный рыцарь писал тому назад всего два месяца с половиной. Даже из Парижа в Пуатье письма не так скоро попадают. Но никто не обращал на него внимания. Все сгрудились вокруг старого сеньора, который внимательно разглядывал печати. – Настоящие, – объявил он наконец. – Читайте, ваше преподобие, да погромче. Капеллан взял письмо. Все расселись по местам и, затаив дыхание, приготовились слушать. Но чтение началось не сразу: госпожа Бенигна вдруг порывистым жестом выхватила письмо из рук священника, разложила перед собой и погладила, словно оно было живое, а затем благоговейно поднесла к глазам. Давно забывшая трудную науку чтения, тем больше восхищалась она великой премудрости сына, сумевшего исписать целый лист ровными рядами искусно выведенных букв. Не всякий аббат сумеет написать так длинно и красиво, как ее Амальрик! Потеряв терпение, Гуго Смуглый рявкнул на супругу: – Отдай же, наконец, письмо, твоя милость! Пора читать! И капеллан приступил к чтению, громко и отчетливо выговаривая каждое слово: Да хранит Господь Святую землю! Милый господин мой батюшка, милостивая госпожа матушка, любезные братцы! В первых строках сего письма призываю на Вас Благословение Божие, о себе же сообщаю, что, хвала Провидению, пребываю в добром здравии. Пять месяцев уже минуло, как без всяких помех добрался я до Иерусалима. Здесь, верно, не чем иным, как заботами святого Мамерта и святой Радигонды, покровителей наших, удалось мне снискать благосклонность вдовствующей королевы-матери Агнессы, в чьей свите я ныне и состою, будучи одним из приближенных ее рыцарей. Другие подолгу ждут подобной для себя чести, мне же и трех недель достало. С Божией помощью надеюсь милости сей не утерять, но еще ее и умножить, явив себя в ратном деле, ибо мне покуда ни разу не выпало случая выказать мое боевое искусство. Край здесь совсем иной, ни на что не похожий. Каждый, кто сюда едет, думает попасть к своим, а оказывается среди чужаков. Всем они отличны от нас, даже одеждой. Поверх шлемов наматывают кусок белой ткани, конец же спускают хвостом на шею, так что получается повязка – вроде чалмы! Говорят, это защищает от солнца, чтобы не обжигало затылок… Да кабы только это! Вчерашний франк или италиец обращается тут в галилеянина и палестинца. И зовутся они не по родовым своим вотчинам, а по землям, коими завладели здесь: графы Самаритянские, князья Тивериадские, владетели Вифлеемские. Женятся большей частью не на своих, а на сирийках да на армянках. Пуще того! Есть и такие, что в жены себе сарацинок побрали, наспех их окрестив перед браком. Лица им велят закрывать и взаперти держат, говоря, будто они к такому обхождению привычны. Трудно поверить, но есть якобы и такие, что имеют несколько мусульманских жен. Точь-в-точь как неверные! И патриарх им не грозит анафемой, тут ко всему иное отношение. Погаными никто не гнушается, коли нет войны, живут с ними дружно, как с соседями. Я сам видел, как к одному рыцарю, женатому на мусульманке, наехала вся ее многочисленная родня, шумливая да разряженная, будто так и надо… О возвращении домой никто не помышляет, родиной почитают Палестину. И то правда, многие тут разбогатели, иной у себя сидел на двадцати душах, а ныне владеет целым городом, а то и двумя. Кому ж охота от богатства бежать! Богатство же здешнее берут оружием, рук не прилагая к земле, да и земля тут засушлива и бедна на диво. Лишь приморские края красивы и всякими плодами богаты, сама же Палестина – сущая пустыня, какую и во сне мудрено увидеть. Камни, камни, сплошные камни – и ничего иного. Поля вместо хлебов валунами усеяны, будто сатана назло Спасителю натащил их сюда со всего света. Духотища летом страшная – не продохнешь, воды мало, и в Иерусалиме достать ее труднее, чем вино. Мухи и прочий мерзкий гнус прокусывают насквозь, спасу нет, а по ночам донимает стужа. Простолюдины в здешних местах ленивые, трудиться страсть как не любят, даже скотину редко кто заводит, многие же целыми днями лежмя лежат прямо на улицах, на солнце нежатся, аж глядеть противно. Иногда только повелением епископа батогами сгоняют их на постройку церкви; домов же Божиих здесь поставлено множество, и предивных, красотою разве что с римскими сравнимых, а славнее всех, святостью и пышным убранством, – Храм Гроба Господня. Золота на церкви не жалеет никто, много у всех здешних этого золота, рыцари отнимают его у неверных, к которым оно приходит из Египта, а в Египте ему и счета нет. Из каждого похода, коли повезет, богатую привозят добычу. Местные бароны без поживы жизни не мыслят, каждый хоть раз в году да старается сделать на язычников набег (они называют это «охотой»); выгоднее же всего грабить караваны паломников, идущих в Мекку, магометанский Рим, ибо множество даров богатых припасают они в пожертвование своим святыням. Покойный король на баронов сильно гневался за такие набеги, нынешний тоже грабежей не дозволяет, и можно бы пожить в покое, кабы не баронское самовольство. Ее подобает христианам в нарушение договора бесчинствовать разбойным обычаем по большим дорогам, однако король свое, а господа бароны – свое: не по королевскому наказу поступают, а по собственному разумению. Первым среди здешних рыцарей должно помянуть Раймунда III, внука того самого Раймунда Тулузского, что некогда вместе с Готфридом Бульонским Иерусалим добыл. Он правит в Триполи и доводится дядей королю, который весьма его почитает. Рыцарь это благоразумный и рассудительный и в совете имеет первый голос. Хотелось бы мне к нему прибиться, да он отчего-то не по нраву пришелся королеве-матери, и сильно я опасаюсь, как бы она не обиделась, неблагодарным меня почтя, а пуще того – не разгневалась, ибо женщины тут большую силу имеют и многое зависит от них. В неменьшей чести у короля и другой высокородный рыцарь по имени Вильгельм де Монферрат, а по прозвищу Длинный Меч; нынешней весною он станет супругом королевской сестры Сибиллы, и ходят слухи, будто король собирается уступить ему трон. Посему уже загодя многие к нему ластятся и осыпают дарами и комплиментами. Далее идет Ибелин, владетель Рамы. Поначалу вроде бы за него собирались отдать принцессу Сибиллу, но потом женихом объявили Монферрата. Тут же надобно помянуть и Ренальда, владетеля Сидона. Видом как есть магометанин, на христианина вовсе не похож – бороду отпустил, арабским лучше, чем латынью, владеет. Но рыцарь достойный, и при дворе его очень ценят. Много есть и других, всех перечислить трудно. На новичков, что с родины приезжают, поглядывают свысока, словно на чужих, даже если они имениты. Многие же худородные вошли тут в большую славу оттого только, что деды их вместе с Готфридом и Раймундом брали Иерусалим. От сей даты ведут они свое родословие, да и всю историю. И какой-нибудь де Бруа ставится тут выше меня, Амальрика де Лузиньяна! Правду сказать, поначалу пребывал я в Святой земле безо всякой чести, и было мне это в большую обиду, ибо я сызмала привык род свой в наиславнейших числить. Теперь же все изменилось благодаря милости вдовствующей королевы Агнессы…» Гуго Смуглый грохнул палкой по столу так, что зазвенела посуда. – Пусть возвращается! Как можно скорее! Немедля отпишите ему, чтобы возвращался! – Почему? – ошеломленно спросил капеллан. – Де Бруа ставится выше его! Сами слышали! Не потерплю! – Благородный рыцарь Амальрик пишет, что теперь все переменилось… – Бабьей милостью, тьфу! Я сказал: пусть возвращается! В разговор вмешалась госпожа Бенигна. – Супруг мой! Если Амальрик покинет Святую землю по вашему повелению, чести ему от этого не прибудет. Пусть уж лучше останется и на поле боя докажет, чей род выше… – Вот слова воистину мудрые! – горячо поддержал ее отец Гаудентий. Старый рыцарь глядел на них исподлобья, кривя губы. Кажется, они говорили дело. Но долго еще он гневно сопел, не в силах справиться с нанесенной семейству обидой. Капеллан продолжал читать: «…Как уже говорено было, женщины тут большую силу имеют, в обычаях же совсем отличны от наших благородных дам: вытворяют такое, за что у нас из города выгоняют, а то и к позорному столбу ставят, им же никто и слова в упрек не скажет. Однако они весьма красивы и разодеты пышно; правда, ни о чем, кроме нарядов своих да забав, не пекутся. Много я тут престранных вещей приметил, но о сем более не пишу, дабы скромности досточтимой матушки нашей не уязвлять. Скажу только, что жену отсюда лучше не брать. О короле Балдуине писать неловко, да и невозможно, ибо возбраняется писать то, о чем и без того многим уже известно. Летами король юн и великую душу имеет, да такова, видно, воля Божия. А султан Саладин…» – Стой! – прервал чтение старый Гуго. – Прочитайте еще раз, преподобный отец, про короля Балдуина. Что-то я ничего не пойму. – И я тоже, – призналась госпожа Бенигна. Отчетливо и с большим тщанием капеллан по второму разу зачитал строки, относящиеся к королю, но это делу не помогло: никому не удалось догадаться, что хотел сказать Амальрик. Надо думать, пропустил случайно какое-то слово. – Ничего удивительного, еще бы: столько написать! Вот голова так голова! – восхищалась мать. «…А султан Саладин, как говорят, силою владеет несметною, какой не владели неверные со времен Гаруна аль-Рашида, водившего дружбу с Карлом Великим. Ему ничего не стоит Иерусалим сокрушить, но человек он незлобивый и, будучи сам язычником, христианам благоволит. С таким нетрудно жить в мире, только бароны наши то и дело его дразнят. Я же нимало не сожалею, что сюда приехал, ибо во всем свете не сыскать лучшего места, чтобы себя показать и добыть богатство. Ежели получится и Бог даст, за год-два я денег подсоберу и вышлю Биту на снаряжение и на дорогу. И коли будет на то воля милостивых родителей наших, пускай он сюда приедет попытать счастья. Я за ним присмотрю и на дурную дорожку ступить не дам, об этом любезная госпожа моя матушка может не беспокоиться…» – Вот еще! – рассмеялся Вит. – На чужбину тащиться! Это не для меня. Хромец взглянул на брата с завистливой злобой: он, Бертран, душу бы отдал, чтобы отсюда вырваться, но его-то за море не зовут. Капеллан прочитав напоследок витиеватые пожелания благополучия всем домочадцам, отложил письмо в сторону и глотнул вина, ибо охрип от долгого чтения. Вид у него был несколько обескураженный. Остальные сидели молча, обдумывая услышанное. Чувства, вызванные посланием, были сложны и противоречивы, не сразу найдешься, что и сказать. Первой нарушила молчание госпожа Бенигна. – Господи помилуй! – вздохнула она. – Отчего же он совсем не пишет о Гробе Господнем? Отец Гаудентий взглянул на нее с благодарностью: она вслух высказала недоумение, мучившее и его. Где же Гроб Господень? Кроме краткого упоминания о богатом убранстве храма, ни слова не проронено о том, что им казалось самым интересным и важным. Письмо, такое длинное, такое ученое, что его можно было читать, как книгу, слушать, как увлекательную сказку, умалчивает о том, что является главным для каждого христианина, отправлявшегося в Иерусалим. Почему? – Может, он раньше писал о святых местах, да то письмо не дошло? – высказала предположение мать. – Может, – согласился из учтивости капеллан, хотя из содержания послания явствовало, что оно первое. Гроб Господень! Хотя только в преданиях сохранилась память о первом походе в Святую землю, устроенном папой Урбаном II, хотя одни лишь глубокие старцы помнили, с каким пылом тысячи христиан, воодушевляемые аббатом Бернаром Клервосским, ринулись спасать Гроб Господень, хотя крепко ныне прижился обычай давать на борьбу с неверными деньги, избавлявшие от личного участия в войнах, все равно набожность, пускай и утерявшая былое рвение, оставалась искренней. Для любого обитателя Западной Европы единственным оправданием, единственной целью существования Иерусалимского королевства была защита Гроба Господня. Паломники, посещавшие Святую землю, привозили оттуда множество благоговейных впечатлений, показывали пальмовые листья, срезанные на берегах Иордана, ветви олив, взятые из самого Гефсиманского сада, с восторгом говорили о той роскоши, какой иерусалимские короли окружили святые места. Столько святынь, столько священнослужителей! Слушатели проникались убеждением, что, честь Гроба Господня составляет единственную заботу иерусалимских властей. Да иначе и быть не могло! А в письме Амальрика ни благоговейности, ни восторгов, словно в самом сердце Святой земли с этими устаревшими чувствами давно покончено! Хорошо, что кроме письма имелся посланец: он-то наверняка доскажет то, о чем умолчал Амальрик. Позвали паломника за господский стол и приступили к расспросам. Человек с виду бывалый, он, к великому огорчению госпожи Бенигны, до Святой земли не добрался. Как в воду глядел осторожный Бертран! Письмо от Амальрика привезли генуэзские купцы, доставлявшие почту, и отдали епископу из Пуатье, который и переправил его сюда с первым же бродягой, угодившим под руку. – Нечего мне там и делать, в Святой земле, коли я про нее поболее любого паломника знаю, – похвалялся бродяга. – Спрашивайте, ваши милости, о чем хотите. – Откуда же, коли сам не бывал, знаешь? – сомневался отец Гаудентий. – У меня, ваше преподобие, брат родной то и дело туда наведывается. Да и в книгах сколько о тех местах понаписано! На книгочея он, правду сказать, вовсе не походил, зато историй о Святой земле и впрямь мог поведать немало. Наверное, были они не вполне правдивыми, зато увлекательными и яркими, а главное, такими именно, каких чаяло их наивное благочестие. Вот она, настоящая Святая земля, столь скудно описанная Амальриком! – Сто лампад неугасимых днем и ночью теплятся у Святого Гроба, – повествовал бродяга, – сто рыцарей днем и ночью караулят Его, крестом простершись на земле. А как сходятся на совет бароны иерусалимские, Святой Дух, воочию видимый, парит над ними. Однажды, пролетая над городом, уронил Святой Дух перышко, и досталось оно моему брату. Пушистое, точно облачко, серебром отливает. Я видел его собственными глазами, уж поверьте мне. В Великий Четверг огонь предивный бывает ниспослан свыше, чтобы запалить свечу патриарху, и многие это чудо зрели. От свечи патриарховой возжигаются все иные свечи: каждый несет в свой дом святой огонь и блюдет его целый год. Девицы иерусалимские видом прекрасны, словно лилии Сарона. Кто их любви домогается, должен собственноручно убить сто язычников… – То же самое, слово в слово, рассказывал нам год назад заезжий вагант, – заметил Вит. – Вот и довод, ваши милости, что я говорю чистую правду. Бродяга, конечно, весьма ловко нашелся с ответом, но все-таки тут же перевел рассказ в новое русло, вопросив почтенную публику, слыхала ли она про двух братьев – золотильщиков из Пуатье, что ходили в Иерусалим прошлым годом? Перед тем как в путь тронуться, меньшой возьми да и признайся старшему, что несет с собой деньги, которые он скопил, чтобы пожертвовать на Гроб Господень. Сумма оказалась немалая, вот старшего и толкнул бес под ребро: как только вышли они из города, на первом же ночлеге убил негодяй родного брата и забрал себе дукаты. Вскинул на плечи труп, чтобы в речку сбросить, подошел к воде, дернул мертвеца – а тот ни с места. Уж он и так и этак исхитрялся – никакого проку! Прирос! Накрепко прирос труп к плечам! Ошалев со страху, кинулся он в лес, там его на другой день и нашли добрые люди да повели обратно в город – к епископу. Горожане тотчас же золотильщика признали и хотели его растерзать на месте, как Каина, но епископ не разрешил: повелел убийце идти вместе с мертвяком в Иерусалим. Он и пошел. Идет, на плечах труп высохший, почернелый, сам чуть ли не в скелет обратился, люди шарахаются от него в превеликом ужасе. Целый, год шел, наконец добрался. И как только стал на колени у Пресвятого Гроба Господня, тело брата с его плеч соскользнуло, и понял он, что Бог ему вину отпустил. Тут же и сам он преставился – отошел с миром. Рассказывали про то люди, которые там были, на их глазах смерть эта приключилась. Там, у Гроба Господня, и дня без таких чудес не проходит… – И дня без многих таких чудес не проходит… – эхом отозвалась госпожа Бенигна. «…И дня не проходит… – думала она. – Так почему же Амальрик ничего не пишет об этом? Постоянно среди святых мест пребывая, он небось многого навидался!…» – Время уже позднее, – промолвила она вслух, – пора на покой. Время и вправду было позднее. Давненько в замке Лузиньянов не засиживались до такого часа. Все дружно встали, с шумом отодвигая стулья. Капеллан забрал посланца с собой, надеясь порасспросить его еще кое о чем. Старый сеньор, сопровождаемый оруженосцем, удалился в свои покои. Мать осталась в зале наедине с сыновьями. – У меня из головы не выходит письмо Амальрика, – обратилась она к Биту. – Не мешало бы и тебе на мир взглянуть, тем более брат сам к себе зазывает… – Никуда мне ехать не хочется. С чего это вам вздумалось, матушка, из дома меня прогнать? – Прогнать? Тебя? Бог ты мой, да я с тоски без тебя зачахну! Госпожа Бенигна тут же пожалела о сказанном: негоже сыну слышать такие речи. Но Вит не обратил на ее слова никакого внимания. Он старательно пытался представить себе далекую землю, однако перед глазами отчего-то вставали родные леса и луга, тополя над ручьем, дубравы… и охотничьи забавы, и девушки, и песни жнецов… Юноша блеснул зубами в улыбке: – Даже если королевство мне посулят, не поеду! – Ладно, нечего наперед загадывать, – рассудила мать. – Поглядим, что ты через год скажешь. Гасите огонь, спать пора… Куда это ты собрался на ночь глядя? – К Блажею, посмотреть на змею. – И думать не смей! Завтра отец Гаудентий покропит там святой водой, а покамест чтоб в коровник ни ногой! – Да я только разведать, может, старику почудилось… Не бойтесь, матушка, мы с Мелюзиной столкуемся и обид друг другу учинять не станем! И Вит, разразившись веселым смехом, вышел вон. Хромой Бертран закрыл дверь за братом, ворча на свою злосчастную долю. В эту ночь долго не спалось госпоже Бенигне – видно, сказалось непривычное для нее обилие впечатлений. Жизнь в их глуши всегда текла неспешно, и вдруг сразу столько событий: змея в коровнике, письмо от Амальрика… письмо длинное, ученое, странное… А еще… убийца с приросшим к плечам мертвецом… а главное, возможный отъезд Вита на чужбину… надо, надо ему поехать… Амальрик так добр, что о брате печется… А когда же она наконец уснула, ей приснился кошмарный сон. Змея уползла из коровника! «Нет у меня змеи, нет! – кричит старый пастух. – Она уже в замке!» Госпожа Бенигна рванулась было бежать, но ноги от ужаса приросли к полу. А змея тем временем добралась до рыцарской залы – огромная, головой потолочных балок касается… И вдруг гадина обернулась женщиной, принялась обнимать кого-то… Амальрика?… Нет, Вита! Вита! А он смеется, глупый… Мелюзина любит пригожих молодцов, это всем известно! Женщина же, обняв Вита, снова превратилась в змею, оплетая его все крепче, обвивая скользкими кольцами… Мать глядела на все это и не могла двинуться с места… Госпожа Бенигна пробудилась с криком, вся в холодном поту. – Святой Мамерт, святая Радигонда, не оставьте нас своим попечением!
Глава 2 НА НОВОЙ РОДИНЕ
В Храме Гроба Господня, достроенном и освященном двадцать восемь лет назад, в пятидесятую годовщину взятия Иерусалима, гасили свечи – служба уже закончилась. Голубоватые струйки дыма тянулись к высокому куполу. Хотя на улице сиял яркий солнечный день, в храме было сумрачно и прохладно. Поблескивали во мраке богатый алтарь, надгробья шести почивших в Святой земле иерусалимских королей, образа и дары, принесенные в храм по обету. Через распахнутые настежь двустворчатые медные двери волнами выливалась королевская свита, строясь в надлежащем порядке на выложенном мраморными плитами дворе. Красивый двор был перерезан наполовину разобранной стеной, выстроенной на скорую руку из кирпича и камня. Неприглядного вида стена, к которой прихожане уже привыкли, имела свою неприглядную историю. Несколько лет назад обычные свары между церковнослужителями и рыцарскими орденами обострились до такой степени, что приняли вид настоящих военных действий. Иоанниты (иначе – госпитальеры) спешно возвели эту стену и, укрывшись за ней, разили стрелами священников и монахов, пытавшихся проникнуть в храм. На поле боя прибыл для вразумления враждующих сам патриарх, но также был закидан стрелами – старец насобирал их целый пук и вывесил у Гроба в назидание злодеям. Патриарх послал жалобу папе, но вскоре умер в великом сокрушении, так и не дождавшись ответа из далекого Рима. Король твердо державший сторону патриарха, приказал иоаннитам стену разобрать, но тоже умер, а когда на трон вступил его четырнадцатилетний наследник, рыцари тем более не стали спешить с разборкой своей городьбы. Безобразная стена так и осталась стоять посреди двора, только в самом центре ее был сделан пролом, позволявший богомольцам проходить в храм. Первыми в проломе показались иоанниты, облаченные в красные плащи с большими белыми крестами. Почетное право возглавлять королевские кортежи принадлежало им по старшинству [402] – их орден был основан еще в те времена, когда Иерусалим находился в руках неверных. Первенства своего они не уступали никому, и даже гордые тамплиеры, или храмовники, превосходившие их силой, вынуждены были довольствоваться в шествиях вторым местом. В отличие от иоаннитов, они были в белых плащах с красными крестами; впереди них ехал великий магистр, перед которым несли хоругвь с надписью: «Domine, поп nobis, sed Nomini Tuo da gloriam!»[403], добившуюся чести выступать перед королевским стягом. Добродетелями рыцарей Христовых считались бедность, целомудрие, смирение, сдержанность, послушание и отвага, причем среди храмовников особенно ценимы были последние две. Храмовникам не разрешалось сдаваться или платить за себя выкуп, не разрешалось ни пяди земли уступить ради спасения своей жизни: только победить – либо погибнуть. Было время, когда железные когорты рыцарей церкви оказывали молодому королевству неоценимые услуги. Но постепенно королевская властьслабела, а ордена усиливались и становились для государства чуть ли не опаснее сарацинов. За храмовниками знаменосец вез большой королевский штандарт, а за ним в окружении виднейших рыцарей следовал позолоченный королевский паланкин с плотно задернутыми занавесками. Сразу же за паланкином на великолепных скакунах, покрытых дорогими попонами, достающими до земли, ехали сестра короля Сибилла и ее молодой супруг Вильгельм де Монферрат по прозвищу Длинный Меч. Высокого роста, широкоплечий, с суховатым властным лицом, он, небрежно прихватив поводья одной рукой, сдерживал горячего, играющего под ним жеребца. Будущий король надменно поглядывал на толпу, словно уже чувствуя себя хозяином города, тогда как его молодая супруга щедро раздаривала на все стороны улыбки. До свадьбы, состоявшейся месяц назад, она воспитывалась в монастыре, что расположен на Масличной горе, под опекой своей бабки, игуменьи Иветты, и благочестивой тетки, носившей то же, что и она, имя. Пребывание в монастыре не истребило в ней жажду жизни, а только усилило ее: видно было, что Сибилла намерена наслаждаться жизнью и познать все ее удовольствия, ни в чем себе не отказывая. За молодыми супругами и их двором поспешал седой архиепископ Тирский Вильгельм, ученый-историк и наставник короля; за архиепископом следовали дворы двух вдовствующих королев – бывших супруг покойного Амальрика. С пышнотелой и говорливой Агнессой де Куртене Амальрику приказано было развестись, ибо они оказались родственниками в четвертом колене. И хотя дети их, Балдуин и Сибилла, признавались законными, Амальрик вынужден был оставить Агнессу и взять в жены Марию Теодору Багрянородную, дочь василевса Иммануила. Дама эта, красивая и еще молодая, воспитывала дочь Изабеллу, не вмешиваясь в дворцовые интриги и не претендуя на власть. Ее двор блистал утонченной роскошью и изяществом. За королевами гарцевало многочисленное рыцарство, а замыкала шествие пешая городская стража. С залитой солнцем площади кортеж въехал в полумрак тесных улочек, мощенных мрамором, по которому звонко цокали конские копыта. Город почти не изменился за семьдесят восемь лет, что прошли с тех пор, как в нем утвердились крестоносцы: все тот же лабиринт узеньких скользких улочек, затененных сверху каменными распорами, защищающими постройки от землетрясений. Дома каменные, серые, без украшений, с плоскими или бочкообразными кровлями – по ним не определишь, стоят они тысячу лет или выстроены лишь вчера. Улочки кишели людьми, сбежавшимися отовсюду, чтобы поглазеть на королевский кортеж. Хотя население Иерусалима уменьшилось по сравнению с прежними временами почти вдвое, город – из-за чрезвычайной суетливости и шумливости его обитателей – отнюдь не выглядел обезлюдевшим. Впрочем, в последние годы сюда прибыло много новых поселенцев. По указу Балдуина III тот, кто занимал брошенный дом, виноградник либо землю, по истечении года становился законным их владельцем. И наоборот: кто покидал свое достояние на год, терял на него всякое право. Снят был также запрет на торговлю с мусульманами, и на улицах города замелькали купцы в тюрбанах. Население было весьма пестрым: латиняне (их было меньше всего), армяне, сирийцы, греки, генуэзцы, евреи… Разные наряды, разные лица. Люди жались к домам, пропуская пышное шествие. Нищие, стуча костылями, домогались милостыни, показывая свои струпья и отталкивая друг, друга. Королева Агнесса бросала им монеты со смехом, королева Мария Теодора подавала сдержанно и словно чего-то стыдясь. Сибилла не замечала их вовсе, заглядевшись на красавца-супруга. Множество прокаженных остервенело рвалось к королевскому паланкину, скуля, воя и плача. Как только они добирались до шелковых занавесок, братья-лазариты, сопровождавшие паланкин, отгоняли их палками. Светлой кожей и запыленным дорожным платьем выделялись из толпы только что прибывшие сюда пилигримы. Некоторые, не довольствуясь большим капюшоном, посохом и пустотелой тыквой-флягой, облеклись в престранного вида плащи, усеянные раковинами и памятными записками. То были пилигримы-профессионалы, за плату совершавшие паломничество вместо кого-то другого. Иные наезжали сюда по пятому, а то и по шестому разу. Но таких было немного. Большинством же двигала горячая вера и неподдельное благочестие. Длинной темной вереницей растянулись странники от городских ворот до самого храма, передвигаясь ползком, обдирая колени о камни мостовой, не глазея по сторонам, не замечая королевской процессии. Они жаждали увидеть Гроб Господень, и ничто другое их не интересовало. Только вид арабских купцов в тюрбанах приводил их в несказанное изумление. Как же так? Значит, неверные все еще в Иерусалиме? Из смрадной тени переулков кортеж выехал наконец на открытое пространство у подножия горы Мориа. Четверо ворот вело на широкое плоскогорье, выложенное массивными плитами. Посередине, там, где некогда стояли храм Соломона и храм Ирода (тот самый, разрушение которого было предречено Иисусом), высилась мечеть халифа Омара – Коуба-Эль-Сакра, или Мечеть Скалы, переименованная ныне в Храм Скалы. В храме, укрытая его стенами, и впрямь находилась большая серая скала, с которой по преданию вознесся на небо пророк Илия и на которой Авраам собирался принести в жертву Исаака. Место, служившее некогда для кровавых жертв, стало ныне алтарем Жертвы Бескровной. Восьмиугольный храм выглядел игрушечным по сравнению с огромной площадью. Сверкающий драгоценностями, разноцветной эмалью и стеклом, он походил на яркую бабочку, которая присела на краешек стола и, казалось, вот-вот вспорхнет и улетит. Внутри храма в таинственном полумраке виднелись величественные изображения Святой Троицы. Достигающий свода Бог Отец держал на коленях Христа, а над Ними возносился Дух Святой. В боковых же нишах помещались золоченые фигуры Богородицы и святых. Однако христианскому искусству так и не удалось победить восточного стиля этой бывшей мечети: в храме, хотя и освященном по всем правилам, витал дух чужой веры, поэтому он не рождал в душах паломников должного благоговения и божественного трепета и восторга. На противоположной стороне обширной площади высился королевский дворец Эль-Акса, также переделанный из мечети, построенной, однако, византийскими мастерами, отчего вид у дворца был вполне христианский. Громадное строение позволило легко разместить в нем многочисленные необходимые службы. Под дворцом, в гулких, подпираемых рядами гранитных колонн подземельях, сохранившихся здесь с незапамятных времен (легенда гласила, что они были выдолблены джинами по приказу царя Соломона), находились кухни и королевские конюшни. Поначалу кони сильно пугались и упирались со страху, когда их сводили по темному скату вниз, но потом привыкли к удобным стойлам: в подземных конюшнях царила прохлада и не было докучливых мух. Пространство между дворцом Эль-Акса и Храмом Скалы замыкали монастырь и часовня Ордена храмовников, или тамплиеров, обязанного своим названием близкому соседству с Templum Domini [404]. По сравнению с пышным восточным убранством храма часовня выглядела сурово, даже убого. Устав ордена запрещал украшать святилище чем-либо иным, кроме оружия, добытого у врага, потому вокруг креста развешаны были бунчуки, щиты и поломанные копья. Монастырь снаружи тоже выглядел довольно уныло, но ходили слухи, что внутри царит небывалая роскошь. Впрочем, роскошь была заметна везде. Давно прошли те времена, когда первый король иерусалимский Готфрид принимал послов султана в походной палатке, сидя прямо на земле, приговаривая, что смертному, который вышел из праха и в прах же обратится, пристойнее всего сидеть на персти земной. Недолго, очень недолго держалась простота нравов среди крестоносных рыцарей: уже двор Балдуина I перенял византийскую пышность, и преемники этого государя усердно следовали его примеру. С плоскогорья, на котором стояли Храм Скалы и королевский дворец, виден был весь город. Стены, разрушенные во время осады, а ныне заново отстроенные и укрепленные, окружали гору зубчатым кольцом. Над стенами тянулись вверх стрельчатые башни многочисленных храмов. Кортеж остановился перед дворцом Эль-Акса, где король устраивал сегодня званый пир. В лучах солнца играли и переливались всеми цветами радуги рыцарские плащи: вопреки обычаю западного рыцарства, носившего большей частью темные цвета, в Иерусалиме предпочитали облачения яркие и разукрашенные, ибо в одежде, как и во многом другом, тут утвердился восточный вкус. Пир давался в честь молодых супругов, на следующий день отбывавших в двухмесячное путешествие по городам приморья. Ни для кого не было тайной, что по их возвращении король намерен передать власть своему зятю. Посему многие склонялись перед Монферратом ниже, чем перед самим королем. Балдуин IV с помощью лазаритов как раз выбирался из своего паланкина. Это был юноша лет семнадцати, стройный, худощавый, с неестественно белой кожей. На юном, почти детском лице странно выделялись глаза – умные, взрослые, затаившие боль; взор короля был строг и даже суров. Голову его венчала бархатная шапка с золотым зазубренным обручем – знаком королевской власти. Спускавшийся из-под шапки шелковый плат, скрепленный под подбородком, плотно закрывал шею и уши. Из-за темного одеяния монарх казался еще худее. В длинных рукавах прятались кисти рук. Король имел привычку разглядывать в задумчивости собственные ладони, изучая палец за пальцем. Говорил он редко и очень кратко. Ступив на землю, король оперся о плечо одного из братьев-лазаритов и медленно двинулся к пиршественной зале. За ним следовали остальные – в том же порядке, в каком возвращались из храма. Помещение, сохраненное от прежней мечети, было огромным. Четыре ряда колонн из монолитного желтого мрамора подпирали плоский потолок. Пять длинных столов были уже уставлены дымящимися яствами. Утомленные долгой службой гости усаживались поспешно и шумно: при иерусалимском дворе византийский этикет мирно уживался с латинской непринужденностью и гонором. Все, кто собрался в этой зале, за исключением одной лишь Марии Теодоры Багрянородной, были равны между собой и никогда об этом не забывали. Их нисколько не стесняло присутствие короля с лицом больного ребенка: он неподвижно и молча сидел на возвышении под королевским балдахином и мог без помех разглядывать свои руки – никто не обращал на него никакого внимания. Утолив первый голод, все оживленно заговорили. Присутствие на пиру прекрасных дам, что на Западе считалось немыслимым, придавало беседе пикантность и возбуждало остроумие даже сильнее вина. Тем более что дамы, кроме Агнессы де Куртене, уже немолодой и расплывшейся, были прекрасны в истинном смысле этого слова: за столами не сидело ни одной дурнушки, словно им возбранялся въезд в Иерусалимское королевство. Обе сестры короля, старшая Сибилла и молоденькая Изабелла, их фрейлины – короче говоря, все как на подбор были молоды и красивы, и заманчивый блеск женских глаз, нежный румянец щек, яркость губ, подчеркнутая помадой, сообщали пиру особое очарование. Внучки ходивших в домотканых платьях крепких баб, не умевших румяниться и завивать волосы, с удивительной быстротой преобразились в опытных кокеток, до мелочей освоивших трудное искусство обольщения. Богатая примесь сирийской, а то и арабской крови разбудила в них чувственность, старая добрая рыцарская кровь питала прямодушие и отвагу, а пример гречанок вызывал у них тягу к образованию. Все хронисты единодушно утверждают, что столь очаровательных, но и опасных женщин, как благородные иерусалимские дамы, трудно было сыскать во всем свете. Сознавая власть своей красоты, они разговаривали уверенно и смеялись громко, походя на птиц, вырвавшихся на волю. Казалось, они спешили наверстать упущенное их смиренными матерями, бабками и прабабками. Временами громкие женские голоса перекрывали мужские. Тогда великий магистр тамплиеров Одо де Сент-Аман, известный своей неприязнью к прекрасному полу, хмурил лоб и с раздражением и даже гневом поглядывал на короля, словно взывая к его суровому суду. Но погруженный в раздумья король по-прежнему рассматривал свои руки. Магистр переводил взгляд на архиепископа Тирского, но тот с отеческой заботой в глазах наблюдал за своим бывшим воспитанником. Патриарх Ираклий, мирского вида красивый мужчина, рассказывал что-то веселое королеве-матери Агнессе. Дородная матрона заливалась смехом, точно молоденькая – аж тряслись ее тяжелые груди. Злобный тупой взгляд великого магистра ни у кого не встречал сочувствия. Вокруг столов суетились разодетые с восточной пестротой слуги, пажи в алых нарядах разливали вино, разносили все новые и новые блюда, сильно наперченные и терпко пахнущие корицей, шафраном и кардамоном. От пряных ароматов и винных паров в большой зале становилось душно. Пирующие гудели, как растревоженный пчелиный рой. Кое-где громко смеялись, кое-где заводили ссоры, а иные уже и запели, так что вдовствующая королева Мария Теодора то и дело опускала глаза, стараясь не замечать бесчинства. За дверью раздались шаги вооруженного человека: слышно было, как звенит меч о мраморные плиты пола. Пирующие притихли и подняли головы, ожидая появления нового гостя. Вошел дю Грей, один из рыцарей, стоявших в дозоре на заставе у Иаковлева Брода на Иордане. Прибывший проследовал прямо к королю и склонился перед ним в низком поклоне. – Да хранит Господь Святую землю! – Да хранит! – ответил король. – Приветствую тебя, дю Грей! Что-то случилось? – Точно так, государь. Эмир аль-Малех напал на нас с отрядом в двести всадников. Еле удалось его остановить… – Как? Он нарушил границу?! – изумленно воскликнул король. – Не то чтобы первым… Вначале де Ла Хей сунулся на его землю… – Опять! Вечно одно и то же! Де Ла Хей мне за это ответит! Велики ли потери? – Пеших полегло человек десять. Много раненых. Из рыцарей ранен де Бруа, а Ибелин из Рамы уведен в плен. – Да хранит Господь Святую землю! Ибелин в плену?! – Да, государь. Его оглушили, он упал, и его придавило конем. – Ибелин из Рамы в плену… – По зале пробежал удивленный говор. Такой рыцарь, как Ибелин, дал увести себя в плен?! – Он уже из Иерусалима выехал пришибленный, тут и дивиться нечему! – заметил Ренальд из Сидона. – Подался к неверным, чтобы не видеть чужого счастья! Гости разразились громким смехом, ибо чувства рыцаря Ибелина к королевской сестре были всем хорошо известны. И теперь все взгляды обратились к Сибилле, которая кокетливо опустила голову, изображая смущение. Ее супруг, ударив себя по колену, воскликнул: – Клянусь своим длинным мечом! Я готов первым отправиться на выручку этого храброго рыцаря! – Лучше оставить его в покое. Пускай отстрадает свое в добровольном изгнании, – уверял Ренальд. Балдуин IV поднял голову. – Нет той цены, которой я не заплатил бы, чтобы выкупить Ибелина! – объявил он. – Снимай доспехи, дю Грей, и садись за стол. – У меня еще одна новость, государь. – Говори! – По повелению султана Алеппо Имад аль-Дина шейх Гумуштекин возвратил свободу рыцарю Ренальду де Шатильону… – Да хранит Господь Святую землю! – выкрикнул в третий раз король. – Что ты сказал? – Славный рыцарь Ренальд де Шатильон, бывший правитель Антиохии, выпущен из неволи. Самое позднее через две недели он явится к вам с поклоном… – Хорошо. Можешь садиться. Балдуин IV устремил взгляд на свои руки и задумался. Белый его лоб пересекла глубокая морщина. Гости, удивленные неожиданным известием, замолчали. Только великий магистр, метнув на короля победный взгляд, злорадно сказал: – Ренальд де Шатильон на свободе – значит, с политикой соглашательства покончено! Монферрат, перегнувшись через стол, впился в него бледно-голубыми глазами. – Неужели вы полагаете, что по прихоти одного барона может измениться политика короля? Голос его свистел, словно бич. Великий магистр презрительно скривил губы, но, к всеобщему изумлению, ничего не ответил. Король с благодарностью взглянул на зятя. – Де Шатильон на свободе! – дивился Ренальд из Сидона. – Интересно бы на него взглянуть… Сколько же лет он пробыл у мусульман? – Шестнадцать, если не больше! – Наверное, постарел! – Может, угомонился? – Давайте выпьем за здоровье воскресшего рыцаря! Шестнадцать лет! – Интересно, что он собирается делать? Куда бедолага денется? – Жена умерла. Антиохийцы его и в ворота не пустят. – Вот еще, не пустят! До сих пор его поминают добром! – А может, его по старой памяти приголубит Стефания де Милли? – Тише! Ее сынок тут сидит! – А что я плохого сказал?… Вот увидите, они поженятся, и Ренальд обоснуется в Кир-Моава. – Тогда он Саладину покоя не даст… – Имад аль-Дин затем только и отпустил его, чтобы он докучал и королю, и Саладину одновременно… – Вполне возможно, клянусь Святым Крестом! Вполне возможно! – Кто этот освобожденный рыцарь, о котором все говорят? – осведомился Амальрик де Лузиньян у своего соседа Онуфрия де Торона – молодого человека с гладким, как у девушки, личиком. – Не знаю, – равнодушно ответил тот, не отрывая глаз от сидящей напротив принцессы Изабеллы. Рыцарь де Гранпре, чуть ли не самый старший за этим столом, за спиной юнца вполголоса сказал Амальрику: – Что вы спрашиваете желторотого? Да он пешком под стол ходил, когда Шатильона забрали в полон. Подсаживайтесь ко мне, я расскажу. – Вы не согласитесь поменяться со мною местами? – попросил Амальрик соседа как можно любезнее. Амальрик де Лузиньян хотя и не мог тягаться красотой с младшим братом, внешность имел приятную, манеры весьма учтивые, речь обдуманную и рассудительную. Влюбленный юнец, не слышавший, как его обозвали желторотым, вежливо уступил ему свое место. – Итак? – обратился Амальрик к старому рыцарю, с любопытством поглядывая на него. – Итак, Ренальд де Шатильон приехал сюда лет двадцать тому назад, может, чуть больше, в году эдак тысяча сто пятьдесят пятом, во времена Балдуина III, дядюшки нашего бедного короля. Ну, значит, приехал. Красивый, будто сошел с картинки, и глупый как пень. Из захудалого рода. Зато бедовый, да и боец отменный, этого у него не отнимешь. Прибыл Шатильон в Антиохию, чтобы повоевать с сарацинами и пограбить, падок он до наживы, точно ворон. А случилось, видите ли, так, что годом раньше овдовела княгиня Констанция, внучка Боэмунда Тарентского, первого латинского владетеля Антиохии… Мужа ее убили в бою… Антиохийское же княжество, сами понимаете, куда важнее, чем целое королевство, ибо без Антиохии Иерусалиму не выстоять. Король стал ломать себе голову, кого бы ей в мужья выбрать, чтобы сведущ был в государственных делах. Чуть ли не год просидел в Антиохии, предлагал ей то того, то другого, самых достойнейших перечислял, но ничего не добился. Уперлась баба – и все тут: никто ей не нравится, и никого-то она в мужья не возьмет. Сама, мол, будет править княжеством… – С трудом верится, – заметил Амальрик, – чтобы женщины такую волю забрали. Разве король не мог ей приказать? – Это у вас там, на старой родине, можно еще бабам приказывать, а у нас они вытворяют, что хотят, только себя слушают… Ну и вот, напрасно ее король убеждал, что ей самой не управиться, что Нур-ад-Дин наступает и потому править надобно крепкой рукой, знакомой с оружием. Нет и нет. Король так и уехал, ничего не добившись, а тем часом надо такому случиться, что на глаза ей попался этот самый Ренальд де Шатильон, он как раз в то время в Антиохию заявился. И что бы вы думали? Достойнейшим рыцарям отказала, а в этого тут же влюбилась по уши, свадебку справила без королевского дозволения и только после того отправила в Иерусалим послов доложить, что вот, мол, как я поступила… Что тут поднялось! Все диву давались, что такого великого роду дама выбрала себе в мужья бродягу! Клянусь Святым Крестом! Король чуть не взбесился со злости, а поделать уж ничего не мог. Бродяга заделался князем и быстренько всем показал, почем фунт лиха. Патриарха, человека святого, за то только, что выговор ему учинил, приказал кнутом отстегать, медом обмазать и выставить нагишом на башню, на самое солнце, мухам на съедение. Нехристь бы на такое не решился, а он, христианин, не замешкался! А потом уж и года не проходило, чтобы он чего-нибудь не натворил. Бога не боялся, короля не слушал, присяг никаких не признавал и вечно со всеми ссорился – без грабежей ему и жизнь не мила. До ночи можно перечислять его геройства. Жену колотил нещадно и содержал полюбовницу, но это бы ладно – Констанция свое получила и поделом ей. Только что проку? Спохватилась – да поздно, ничего уже не поправишь… А у вас, значит, бабы все еще тихонько сидят? Экое счастье! Вечно с ними хлопот не оберешься. Слышали вы, что отмочила тетка той же самой Констанции, королева Мелизанда? Слюбилась тайно с рыцарем Гуго дю Пюизе, а пасынок ее выдал, и все королевство в войну втравилось, потому как дю Пюизе убежал к неверным и подговорил их подняться на короля… А вспомнить Алике по прозванию Золотая Нога – обожала она золотые сапожки… С Саладином столько хлопот не было, сколько с ней! – Можно подумать, – язвительно заметил Амальрик, – что здешним королевством правят женщины. – Еще бы не подумать! Так и есть. Тут они любой бочке затычка, и столько от них вреда, что и вообразить трудно!… – Ну, и что же было дальше с Ренальдом? – спросил Амальрик. – А дальше ничего не было. Слава Богу, забрали его магометане в неволю. Такая была в королевстве радость, что и не описать. Другого рыцаря король давно бы уж выкупил, а с этим спешить не стал, небось, еще бы и доплатил, чтобы его стерегли покрепче. Шестнадцать лет просидел, мы уж про него и забыли. А тут нате вам: выпускают! Нынешний наш король – мальчишка, знает этого баламута только по рассказам, но и то вон как призадумался. – А может, он за столько лет изменился? – Это дьявол, а не человек. Такого только могила исправит. А ежели еще… Он прервался, заметив, что гости стали подниматься из-за столов, с шумом отодвигая стулья. Незаметно пролетело время за веселым пиром: солнце за окнами клонилось к западу. Слуги заботливо поддерживали пошатывающихся господ. Лица мужчин и женщин, слегка опухшие от вина, были красны и лоснились от пота. Перед уходом король поискал глазами архиепископа Тирского. – Государь? – отозвался тот, спеша к нему. – Передайте моей сестре с мужем, чтобы зашли ко мне… И вы тоже… Придете втроем, больше никого не надо… Король удалился, устало опираясь на своих лазаритов. Братья увели его в опочивальню, раздели, выкупали в воде, пахнущей целебными травами и благовониями. Балдуин безвольно поддавался их сильным, ловким рукам, не делая ни одного самостоятельного движения. Он закрыл глаза, боясь взглянуть на свое тело. Лазаритов было четверо, и звали их Иоанн, Марк, Матфей и Лука, отчего их в шутку величали иногда евангелистами. Они никогда не покидали короля, в любую минуту готовые оказать ему помощь. Орден святого Лазаря основал в Иерусалиме византийский император Ираклий. Главной заботой орденской братии был уход за больными, в особенности за теми, которых все гнушались, опасаясь заразы. Веками добровольно исполняли братья свое опасное дело с великим терпением и искусством – недаром писали о них хронисты, что усердием лазаритов пополняется сокровищница небесная. Выгод для себя от этого они не имели и вовсе к ним не стремились, стяжателями не были, поэтому лазаритов любили в народе столь же сильно, сколь ненавидели иоаннитов и храмовников. Выкупанного и переодетого в льняную рубаху короля уложили в постель и прикрыли легким одеялом. Лицо его было мертвенно бледным и выделялось своей неестественной белизной даже на фоне белоснежной подушки. – Вам ничего больше не нужно, государь? – спросил брат Иоанн, склоняясь над ним. – Нет, можете идти. Король открыл глаза и, заметив рядом с собой шероховатую ладонь лазарита, расправлявшую складки на покрывале, спросил, словно пораженный внезапной мыслью: – Как у вас дела? Все ли братья здоровы? – Все здоровы, государь, – не без удивления отвечал брат Иоанн. – Как же так, если вы столько времени обихаживаете меня? Лазарит развел руками. – В нашем ордене мало кто заражается… – Почему? – Трудно сказать… Может, потому что мы не боимся. При вас, государь, служба легкая. Воздух чистый, есть время последить за собой… А вот каково тем братьям, что по бедняцким приютам рассеяны! От смрада духа не переведешь… Кусок в горло не лезет… И все равно редко болеют! – Может, вы знаете особый способ, чтобы оберегаться? Брат Иоанн искренне рассмеялся. – Был бы такой способ, мы бы уж наверняка в тайне его не держали… Нет у нас никакого секрета. Обвыкли, все само собой получается. Видно, нужны мы на своем месте… Кто бы такой страшной бедой занимался, не будь нашего ордена? Вот и бережет нас милосердный Господь Иисус Христос. – Вы думаете, брат мой, что Господь бережет тех, которые на своем месте нужны? – А как же иначе? Лазарит низко склонился над распростертым королем и доверительно сообщил: – Вчера среди паломников, что пришли поклониться Святому Гробу, снова один страждущий исцелился! Проговорив это, он выпрямился и отодвинулся от постели. В дверях раздались шаги – в опочивальню входили супруги Монферрат и архиепископ Тирский. Братья-лазариты тотчас удалились. – Вы звали нас, милостивый государь и любезный шурин? – весело спросил пышущий здоровьем и силой Длинный Меч, непринужденно усаживаясь на скамью у самой постели. Надутая Сибилла, не скрывавшая отвращения к брату, осталась стоять у порога в надежде на то, что этот визит не слишком затянется. – Я хотел просить… просить вас не уезжать завтра… Не могли бы вы отказаться от своего путешествия? – Почему вдруг? – спросил ошеломленный Монферрат. – Сам не знаю… Лезет в голову всякое… Наверное, это из-за сегодняшних новостей… – Вас беспокоит Ренальд де Шатильон, государь? – Не знаю, – смущенно повторил больной. – Мне трудно объяснить, но… Зять смотрел на него с тем мягким снисхождением, какое люди сильные и великодушные обыкновенно питают к слабым. – Ваша воля для нас закон, государь, только я не пойму, в чем дело. Если даже возникнет надобность укротить Шатильона, мы к тому времени вернемся… Но не забывайте, что он уже пожилой человек. Из него делают пугало по старой памяти, но никто не знает, каким он теперь стал… Шестнадцать лет… Седой бездомный рыцарь… Какая от него опасность? К тому же его еще нет, ко двору он прибудет только через несколько недель… – Ренальд де Шатильон меня не волнует, – ответил король. – Тогда кто же? Впрочем, я сказал уже: ваша воля для нас закон. Если вы этого хотите, мы останемся. – Но я-то этого не хочу! – выкрикнула разгневанная Сибилла. – Милостивый господин мой брат! Я этого не хочу! Вы же дали разрешение на наш отъезд! С какой стати вы его теперь отменяете?… Вещи уже уложены… Я так радовалась… Мне давно уже надоел этот город, где сплошной камень, сплошная пустыня… Я здесь задыхаюсь… Уехать, уехать хоть на несколько недель! Несколько недель… Всего-то! Да и что случилось-то? Извольте немедленно объяснить, почему нам нельзя уезжать! – Не знаю… – в третий раз повторил больной. Он и вправду не знал. Какое-то предчувствие, какая-то смутная тревога овладела им. Слишком уж блестели глаза у великого магистра храмовников во время его краткой стычки с Монферратом. Нехороший блеск, подозрительный. Но как об этом скажешь? – А если не знаете, значит, нет никакого повода нас задерживать, – стояла на своем Сибилла. – Ради собственного каприза хотите меня обидеть! Вечно вы надо мной измываетесь… Столько лет в монастыре держали… – В монастыре вас держал не я, а матушка. – С вашего дозволения! Могли бы за меня заступиться. Молодые годы пропали в заточении… За что? Вне себя от гнева, она позабыла о своем отвращении и подскочила к постели. – Ваши пропавшие в заточении годы все равно лучше моих, проведенных на троне, – тяжело вздохнув, ответил король сестре, которая тут же отпрянула назад. Монферрат молчал, не вмешиваясь в семейную распрю. Он, впрочем, не знал, чью сторону принять. Не исключено, что Балдуин хочет его задержать, чтобы поскорее передать ему королевскую власть. Тогда стоило бы остаться – недурно стать королем на два месяца раньше обещанного… Но Сибилла! Он все еще был в нее влюблен, не успел натешиться молодой женой, так же, как и она, мечтал о беззаботной поездке в веселые приморские города, утопающие в апельсиновых рощах и виноградниках. Станешь королем – прощай забавы! Шлем на голову, меч в руку – и знай носись от границы к границе, разбирайся с баронами, храмовниками, иоаннитами, со всеми этими бесами, которые несноснее сарацинов… – Не хочу! Не хочу! Не хочу! – плакала Сибилла, топая ножкой. – И хоть бы какая-то причина была! Так нет! Только чтоб меня позлить, не пускает! Монферрат внезапно нахмурился. – Может, вы чувствуете себя хуже, государь? – Нет, – ответил Балдуин, – наоборот. Я чувствую себя немного окрепшим. Летом мне всегда лучше. Дело не в этом. Он закрыл глаза и погрузился в размышления. Какой же пронзительный у Сибиллы голос! И собственно говоря, в чем дело? В том, что Одо де Сент-Аман, знавшийся, как говорят, с самим дьяволом, косо взглянул на его зятя? Велика важность! Серьезного повода для беспокойства и вправду не было. Может, сестра права, и все это пустая фантазия, прихоть больного воображения? – Если вам так хочется, можете ехать, – громко объявил он. – Желаю благополучного возвращения. Да хранит Господь Святую землю! Он махнул рукой. Супруги вышли. Сибилла с нескрываемой торопливостью, Монферрат медленно и словно колеблясь. С порога он еще раз выжидательно глянул на шурина. Тот лежал неподвижно, уставившись в потолок. Иссиня-бледный призрак. Вильгельм де Монферрат по прозвищу Длинный Меч осторожно притворил дверь. Сибилла схватила его за руку. – Наконец-то! – выдохнула она. – Если бы не я, ты бы ему поддался! Скажи мне спасибо. Уф, какой он ужасный! Брр!… Брр!… Я боюсь к нему заходить… Как только ты сделаешься королем, он отправится в монастырь, с глаз долой… не так ли? – Почему он нас не пускал? – задумчиво промолвил ее супруг.* * *
В королевской опочивальне воцарилась тишина. Молчавший до сих пор архиепископ бесшумно приблизился к постели. – Два месяца пройдут быстро, – успокаивающе произнес он. Балдуин медленно перевел на него глаза. – Возможно… Оставим это… Брат Иоанн сказал мне, что среди паломников еще один больной исцелился у Святого Гроба…Глава 3 ПРОКАЖЕННЫЙ
– Исцелился у Святого Гроба! – повторил король тоном упрека. – Почему такое сплошь и рядом случается с паломниками – а среди нас никогда? Словно мы нехристи! Ученый Вильгельм, архиепископ Тирский, не находя ответа на этот вопрос, смущенно пожал плечами. – Почему? – настойчиво вопрошал Балдуин. – Приносят сюда больных из-за моря, и те обретают здоровье. А мы, живущие тут, совсем рядом, владеющие Святым Гробом, будто и не ведаем о его силе. Почему меня не отнесли туда, когда я был маленьким? Может, и я бы спасся. Христос исцелял прокаженных… – Тс-с… – прошипел архиепископ, оглядываясь. Балдуин горько рассмеялся. – Все еще оберегаете тайну? Да она известна уже всему свету! Прокаженный король!… Неужели вы думаете, отче, что люди слепы? Что, единожды увидев меня, можно сомневаться в характере моего недуга? – Благо государства повелевает скрывать это несчастье, покуда это возможно… Балдуин, приподнявшись в постели, метнул на собеседника гневный взор. – Ради блага государства, – твердо проговорил он, – давно надо было втайне умертвить меня, а на место мое взять здорового мальчика из хорошего рода. Вот что повелевало благо государства, а вы вместо этого растили прокаженного короля… Король! Корона выставила мою беду на всеобщее посмеяние! Архиепископ низко склонил голову, точно его ударили. – Покойный король любил вас… – Знаю, что любил… И вы тоже, отче… – Я и теперь люблю вас ничуть не меньше! – Верю, отче, только злом обернулась для меня ваша любовь. Худшего и врагу не пожелаешь. Как только вы догадались, чем я болен, надо было меня умертвить и вышвырнуть прочь, как падаль! – Когда-то один человек предложил вашему отцу нечто подобное. Покойный король в ответ взялся за меч… – Как давно это было? – спросил Балдуин, снова укладываясь навзничь и прикрывая глаза. – Семь лет назад… Вам тогда шел десятый год… – Расскажите, как это случилось! – Лучше усните, государь, дорогое мое дитя! Зачем травить себя понапрасну, вспоминая былое? – Рассказывайте! – приказал больной. – Не хотелось бы ворошить прошлое, но раз вы настаиваете… Вам тогда сравнялось девять… Клянусь Святым Крестом, не сыскать было мальчика разумнее, здоровее и краше. Глядя на вас, каждый с радостью говорил себе: настоящий растет король, владыка, он возвысит нашу державу… И к наукам способности чрезвычайные. Да вы, наверное, и сами помните – ученье было для вас забавой… Что ни день, я благодарил Господа, пославшего такого государя нашему вечно бурлящему, беспокойному королевству. И вдруг… – Что – вдруг? Говорите! – Вдруг… Каждый день я наблюдал с галереи, как вы играете во дворе с другими мальчишками; чаще всего вы, как это водится, бились меж собой на палках, будто на мечах, ну и, само собой, в такой игре кто-нибудь то и дело получал дубинкой по спине либо по рукам и вскрикивал от боли… Смотрел я, смотрел – и начал диву даваться, что среди детских криков никогда не слышен ваш голос, а доставалось вам не хуже других, королевскому сынку поблажек не давали, нет! Вот я и призадумался: и впрямь вы такой выносливый или отчего-то боли не чувствуете?… Наконец я не выдержал и спросил вас… Вы помните? – Нет. – Я спросил вас, почему вы никогда не охаете во время игры, а вы ответили: не больно, вот и не охаю. А если хлестнут прутом? Тоже не больно. Я испугался, схватил вас за руку и потащил к свету, стал разглядывать кожу… На вид вроде обычная, но даже если хорошенько нажмешь пальцем – не краснеет… Я царапнул по вашей руке ногтем – ни следа… Да хранит Господь Святую землю! Меня словно кипятком обдало… Весь дрожа, бегу к государю нашему, к королю, и говорю: лекаря надо, как можно скорее лекаря, искусного в своем деле и умеющего держать язык за зубами… Король на мои страхи только смеялся, но лекаря все же позвал… – Лекаря я помню, – заметил Балдуин, не открывая глаз. – Тот сразу признал проказу… Сказал вашему отцу королю, что спасения нет и лучше такого ребенка в живых не оставлять… – Верно сказал. Надо было дать мне яду… Избавить королевство от срама, а меня от муки… И что же ответил отец? – Чуть с мечом не кинулся на лекаря за такой совет, под страхом смерти запретил рассказывать о вашей болезни, а потом закрылся в своих покоях и три дня к себе никого не впускал… Плакал… Оруженосцы караулили у дверей, слышали – рыдал в голос. Три дня не показывался на людях, придворные чуть не ошалели со страху – не могли уразуметь, в чем дело. Да и потом никто ничего не понял: о случившемся ни одному человеку не сказали, даже вашей матери – королеве… Правду знали только король, лекарь да я. – Надо было меня отравить, – с упреком повторил Балдуин. – Отец не захотел, так могли бы вы… – Да хранит Господь Святую землю! Я жизнь готов за вас положить, а вы – отравить! Он тяжело перевел дух и продолжил: – С той поры покойного короля словно подменили. Я думаю, он от горя и преставился прежде срока, ведь летами король был вовсе не стар, ему бы править и править… измучился из-за вас. Когда начинали ему вас хвалить – даже султан завидовал, что у короля такой наследник растет, – он так глядел на вас, так глядел… У меня аж сердце разрывалось от этого взгляда, ведь я-то знал про его беду! – Да, я помню, – задумчиво произнес Балдуин, – помню, как он на меня глядел… Но зачем, зачем вы от меня таились? Я бы в монастырь убежал, я бы кинулся в море, я бы не позволил себя затащить на трон! А я ни о чем не знал… В первый раз подозрение возникло у меня после битвы при Айн-Анжаре… Битва! Последний счастливый день в моей жизни! – Как, вы подозревали уже тогда? – Тогда я только начал догадываться. Айн-Анжар! Целая жизнь прожита в первый год моего правления… Весной на магометан ходили… Месяцев через девять – снова… И каждый раз победа! Вплавь через Иордан, по оазисам Панеаса, по склонам увенчанного снегом Ермона, спешным ходом подошли мы к стенам Дамаска… Из осажденного города выманивали врага в чистое поле… Взяли небольшое селение неподалеку… Возвращаясь с пленными и богатой добычей, захватили по пути крепость Беит-Джин. Она стояла в цветущей долине, среди зелени и ручьев, мы назвали ее «Domus Voluptatis» [405]. Co всех сторон к нам сбегались люди, кричали: «Король! Король!» Сарацины – и те хвалили меня, видя, как ловко я орудую мечом на турнирах. Проезжая своими землями, я мечтал о том, как вверенную мне Богом державу расширю, укреплю, возвеличу… Саладина от своих границ отодвину… Я – король! Мне было всего лишь четырнадцать лет, и впереди – целая жизнь… – Король умолк, задумавшись, но вскоре продолжил: – Не прошло и года, как мы двинулись в новый поход. На сей раз побережьем морским до Сидона, оттуда через Ливан, через земли богатые и урожайные, истекающие молоком и медом… Под Айн-Анжаром нам преградил дорогу Саладинов брат Туран-шах с большой силой. Битва, битва! Не турнир, не осада, а первая настоящая битва! Охваченный воспоминаниями, король порывисто приподнялся на ложе. Широко распахнутые глаза заблестели. – Моя первая битва… Первая и последняя… Зато победная! О, я прекрасно знаю, что мой дядя Раймунд все заранее обдумал и рассчитал, что это он, а не я руководил сражением… Как только все было готово к бою, он, отойдя со своими людьми, приказал мне: «Веди!» И я повел, клянусь Святым Копьем, я повел! О, если б хоть раз еще повести мне славных рыцарей в бой! Или хотя бы во сне еще раз почувствовать то, что въяве переживал тогда! Вам, отче, такого не представить! Это счастье… Ты ощущаешь за собой силищу, которая дышит, грохочет, мчится, которую можно метать, как копье… ты – голова, а силища эта – твои плечи… Это счастье… Нестись вперед, чуя позади настоящую бурю! Конь играет под тобой, ржет и рвется вперед, перемахивает через овражки… Только ветер свистит в ушах… И сеча! Чуть потом! Такая, что дух захватывает! Будто ты из обычного человека вдруг превратился в разящую молнию! Задохнувшись, король изнеможенно откинулся на подушки. Архиепископ скрыл в ладонях лицо, чтобы не показать слез. – Последний день, последний счастливый день в моей жизни, – лихорадочным полушепотом продолжал больной. – А назавтра явились послы от Туран-шаха с предложением мира. Явились ко мне, победителю! Я принял их в латах и при мече, только рукавицы снял, а дядя Раймунд стоял у меня за спиной и шепотом мне подсказывал, что говорить, ведь я же был совсем несмышленыш. Этакий счастливый и гордый собой мальчишка… И тут я заметил, как один из шейхов уставился на мою руку, уставился со страхом, даже речь свою заготовленную проговорил кое-как. Глядел, точно змею увидел, и будто смешался, а в глазах злорадство светится… Поглядел тогда и я на свою кисть и впервые заметил на коже синеватые пятна. Может, они были и раньше, да я на них внимания не обращал, нынче же взгляд сарацина насторожил меня. Такой взгляд! Воротившись домой, я показал вам руку и спросил про пятна. Вы ответили, что это, наверное, от холода… – Боже мой! Боже мой! – стонал архиепископ. – Я бы вам, конечно, поверил, кабы не тот взгляд… Я побежал вниз, к воротам: стражников возле них не было. На улице стоял какой-то человек, может, паломник, а может, просто бродяга. Он меня совсем не знал, не знал, кто я такой… Я показал ему руку и задал тот же вопрос. «Господи, огради! – завопил прохожий. – Парень, да у тебя же проказа!» А вы… а вы говорили – от холода! – Что же мне было говорить?! – горестно всхлипнул старик. – У меня язык не поворачивался сказать правду… – Лучше было сказать правду! Лучше было наслать на меня в бою милосердного солдата, чтобы он проткнул меня пикой или зарубил мечом!… Я бы погиб как воин и радовался бы своей славной смерти. Вот что надо было сделать для моего блага! А рыцари вместо этого охраняли меня! Ибелин из Рамы, старый де Торон, дю Грей, все, все… Сами не береглись, лишь бы я уцелел… Для чего?! Для того, чтобы я сгнил заживо?! – Но что стало бы с королевством, подумайте сами! – робко защищался архиепископ. – А что с ним станет теперь? Что проку было оттягивать конец? – Теперь здесь Вильгельм де Монферрат, которого вы нарочно из Франции вызвали… – Это верно, – признал Балдуин, несколько успокаиваясь. – Монферрат здесь… Только бы он вернулся благополучно! Не знаю отчего, но мне все время кажется, что он в опасности. Так, странная блажь… Сам понимаю, что блажь. Мысли в голове мешаются от хвори… Монферрат отважен, рассудителен, неуступчив… Королевство только выиграет, когда он сменит меня, но я… что будет со мной? В голосе его зазвучали слезы. – …Я боюсь взглянуть на себя, – шептал король. – Только на руки смотрю часами, часами наблюдаю, как подступает погибель… Мои руки! Мои руки!… Я стараюсь ни к чему не притрагиваться – и не могу не смотреть на них… забыть хоть на минуту о своей болезни… Пока что мясо, хоть и гниющее, держится на костях, но что случится через месяц? Через год? Сегодня, когда меня несли в паланкине, сквозь щель в занавесях я видел одного прокаженного: вместо лица – черная яма… Ни глаз, ни носа, ни губ… Скоро и я… и я… – Не думайте об этом, государь! Бог смилуется, пошлет чудо… Балдуин чуть не соскочил с постели. – Чудо?! – гневно воскликнул он. – С чего бы вдруг? Чудеса посылаются паломникам, а нам – никогда. Брат Иоанн сказал мне… что еще один больной… А среди нас – никогда, никто! Архиепископ поднял голову. – Вот об этом и поразмыслите, – почти сурово произнес он. – Попрекаете меня, что я не отнес вас маленького в храм, к ложу святому, дарующему исцеление… Почему же вы теперь сами не сделаете этого? Ведь чудо, которое могло свершиться тогда, возможно иныне… Балдуин глядел на старика с изумлением. – Правда ваша, – признал он. – Возможно… возможно… Сам не знаю, почему я не сделал этого… Господь наш Иисус Христос исцелял прокаженных… Может, сжалился бы и надо мной… Мне кажется, я давно бы к Нему пошел, если бы Гроб Святой находился далеко, а сам я был обычным убогим странником… Не являться же к Нему в раззолоченном паланкине!… Выбраться из дворца переодетым, прийти к Гробу никем не узнанным – простым паломником… И чтобы не слышать вокруг никакого ученого суесловия, этих бесконечных прений между храмовниками и иоаннитами! Всякий раз, как я оказываюсь в храме, мне чудится, будто Гроб, окруженный толпою нищих, по праву принадлежит им, а не нам… Будто свет, которым мы завладели, сияет всему миру – и только нас оставляет во тьме… Мне трудно выразить это словами… Архиепископ слушал его с напряженным вниманием. – Я понимаю, что вы хотите сказать, государь. Да, действительно, вера наша слабеет, ей недостает жара и детского благочестия. Мне кажется, это оттого, что святыня не может принадлежать никому – нельзя делать ее подножием чьего-либо величия. Тот, кто пытается завладеть святыней, превратить ее в средство для достижения бренных целей, тут же ее теряет, отгораживается от нее непроницаемой завесой – для всех будет реликвия доступной, а для него нет. Мы стали владетелями Святого Гроба, и в этом наша беда. Иерусалим не должен принадлежать никому. Пускай бы каждый приходил сюда только молиться. Пускай бы Святой Гроб стерегли бедные монахи, не имеющие, подобно лазаритам, никаких заслуг, кроме небесных. Паломники идут к Святому Гробу за отпущением грехов, не думая о корысти, не мечтая ни о чем, кроме пригоршни иорданской воды да пальмового листа. Они не жаждут обладать святыней, потому уносят ее в своем сердце. Так же бескорыстно шли сюда наши отцы и деды – крестоносцы… Мы же другие. Мы чувствуем себя здесь хозяевами, а Бог этого не одобряет. Царь Небесный и царь земной друг с другом не уживаются… Готфрид Бульонский об этом догадывался. Он не хотел короны. Считал себя только стражем Святого Гроба и жил в бедности… – Готфрид?! – удивился Балдуин. – Но вы же сами меня учили, отче, что Готфрид был королем слабым и только благодаря Балдуину I Иерусалимское королевство обрело мощь! Вильгельм, несколько смешавшись, поспешно пояснил: – Да, государь, дитя мое, именно так я учил. Но мы тогда рассуждали об истории земной. Балдуин I был несравненным правителем. Мудрый и способный к предвидению, он был настоящим земным королем, слишком, быть может, привязанным к соблазнам плоти и роскоши. Он создал иерусалимское государство, но сразу же утратил святыню. Понимаете, что я хочу сказать? Он создал государство силой оружия, на крови и на костях, ибо только так создаются державы земные. А там, где утверждается держава земная, для святыни места не остается. Рушится царство духа. – Что же делать? – спросил Балдуин. – Перенести столицу в Аскалон или Яффу? – Это не поможет. Пагуба коренится в людях. Порой, видя, как вокруг возрастает зло, я начинаю сожалеть, что Иерусалимское королевство было создано… – Что вы говорите! – ошеломленно вскричал король. – Неужели вы хотите, чтобы сюда вернулись язычники?! – Боже упаси! Нет! О таком и помыслить страшно. Я только говорю о государстве – о державе земной. Иерусалим не должен принадлежать никому на земле, он должен быть одновременно общим и ничьим. Никто, кроме Господа, не вправе царствовать в нем… – Не знаю, как можно это устроить, – вздохнул король. – Я тоже не знаю и даже думаю, что этого устроить нельзя… И потому мы, стражи, мы, цепные псы при Гробе Господнем, лишены главного – милости Спасителя. Слишком близко стоим, чтобы разглядеть Его… – Если бы я был здоров! Если бы… – прошептал король. – Может, мне удалось бы соединить в себе Балдуина и Готфрида?… Взгляд архиепископа Тирского наполнился безграничной нежностью. – Вам?… Вам бы удалось – без сомнения! Боже мой! Голос его прервался. – Уже петухи поют, слышите? Проговорили чуть ли не полночи. Пора спать, государь. Архиепископ осенил короля крестным знамением и направился к выходу. В дверях он внезапно обернулся и сказал: – Если вы захотите пойти в храм… незаметно… никем не узнанным… я мог бы… Лицо Балдуина IV приняло надменное выражение. – Не хлопочите понапрасну, отче. Если я пойду в храм, об этом не узнает никто… даже вы… Время позднее, почивайте с миром. Да хранит Господь Святую землю! – Да хранит Господь Святую землю! – откликнулся ученый старик, прикрывая за собой тяжелую дверь.Глава 4 СБЫВШЕЕСЯ ПРЕДЧУВСТВИЕ
Как большинство новых строений, возведенный в Иерусалиме крестоносцами, дворец Агнессы де Куртене, матери короля, причудливо сочетал в себе черты Востока с чертами Запада. При дворце имелся внутренний двор с фонтаном, однако многие окна глядели вовне – частью на улицу, частью на городскую стену. Сразу же за стеной простиралась долина Иосафата, узкая и глубокая, загроможденная каменными гробницами. – Бог весть, как мы там все поместимся, – беспокоилась Агнесса де Куртене, взглядывая в ту сторону. – Людей попроще будут, конечно, погребать не здесь, но и для самых именитых места не хватит. Разве что долина расширится каким-то чудом… Беспокойство о загробном своем устроении отнюдь не нарушало безмятежности, с какой Агнесса относилась к жизни и ее невзгодам. По натуре она была женщина хладнокровная, не любила предаваться печалям, зато обожала лесть: выслушивая похвалы, разнеженно жмурилась, точно сытая кошка. Двор у нее был большой и содержался богато, однако во дворце царил неописуемый беспорядок, граничащий с полным неряшеством. Паломники, нищие, подозрительного вида бродяги беспрепятственно входили в здание, где их принимали и кормили в любую пору. По этой причине Агнесса слыла образцом христианского милосердия, хотя на самом деле жалостливостью не отличалась и была равнодушна к чужим бедам. Благоволение ее к сирым и убогим проистекало не из доброты, а из досужего любопытства – она была весьма падка на всякого рода новости и сплетни. Кто-то из ее бродяг как раз и занес в королевские хоромы проказу, и молодой король напрасно старался подавить в себе чувство глубокой обиды по отношению к матери, не сумевшей уберечь его от страшной болезни. Кроме вечно голодных и жадных до подаяния нищих, завсегдатаями дворца были многие видные представители местной знати: патриарх Ираклий, великий магистр тамплиеров, брат хозяйки и дядюшка короля Жослен де Куртене, Ренальд из Сидона, Амальрик де Лузиньян, Онуфрий де Торон и многие другие рыцари. Тон всему этому обществу задавал острослов и весельчак Ренальд из Сидона. Густая черная борода придавала его латинской внешности восточный колорит, да и наряд его был наполовину арабским. В молодости он несколько лет провел в мусульманском плену, где преотлично выучил арабский язык и основательно познакомился с восточными нравами. Легкомысленный и щедрый, он вечно сидел по уши в долгах. Ренальд был женат на ленивой красавице-сирийке по имени Марфа. Отец ее Абирам был столь же богат, сколь и скуп, и весьма неохотно снабжал транжиру зятя деньгами. Ренальд, однако, не унывал, изобретая все новые и новые хитроумнейшие уловки, заставлявшие раскрываться неподатливый кошель тестя. Вот и теперь, стоя посреди облицованного мрамором двора, он рассказывал всему благородному обществу о последнем своем ухищрении. – …Так меня прижали, так прижали, совсем оставили на мели: почтенный Абирам, изволите ли видеть, поклялся, что больше мне ни гроша не выдаст. Камень легче разжалобить, чем моего тестя, но я все-таки надежды не теряю и приглашаю его на ужин. А за ужином испускаю вздохи, еду от себя отодвигаю и все время бороду свою сквозь пальцы пропускаю, с жалостью на нее поглядывая. Тесть наконец не выдержал и спрашивает: чего это ты свою бороду так охорашиваешь? А я ему: охорашиваю на прощание, завтра придется мне ее сбрить. Абирам глаза на меня выкатил и от ужаса даже костью подавился, пришлось мне его по спине похлопать. Он кость выплюнул, воздуха глотнул да и говорит: «Что за неприличные шутки? Как это – сбрить бороду?!» Вам, высокочтимые дамы и господа, без сомнения, ведомо, что у наших друзей сирийцев мужчина без бороды за евнуха почитается. Позор страшный! Неудивительно, что почтенный Абирам чуть не помер при одной мысли о безбородом зяте. Я же его и того пуще пугаю: – До шуток ли, когда мне и самому до слез обидно. Да ничего не попишешь, придется мне с бородой распроститься. – Что ты плетешь? – чуть не визжит почтенный Абирам. – Куда твоя борода денется? Что случилось? – Я свою бороду евреям заложил, – поясняю и тут же выхватываю из его руки цыплячью ножку, чтобы он, упаси Бог, снова не подавился. – За…ло…жил?! – Заложил за тысячу дукатов, а выкупить не на что… Завтра у меня бороду заберут… – Нечего дело иметь с такими разбойниками! Гнать их надо взашей! Да как они смеют! – кричит почтенный Абирам, а у самого лицо аж побагровело от злости. Я глаза опустил, вздыхаю по-прежнему да скорбно поглядываю на бороду. – Гнать их никак нельзя, – говорю, – я им рыцарское слово дал, обещался заплатить, а не плачу. Они на мою бороду имеют полное право. – Тогда заплати! Заплати! Я ему с горьким смехом отвечаю: – Чем же я заплачу, почтеннейший? У меня ж никакого добра нет, кроме меча да неглупой головы, но головой-то, хоть ты ее с плеч вместе с бородой сними, не расплатишься… – Сколько твоя борода стоит? – Две тысячи дукатов. – Ты только что вроде тысячу поминал? – Да я с расстройства оговорился, ошибся вдвое… – Две тысячи за бороду?! Две тысячи?! За бороду?! – Мало, почтенный, не правда ли? Сглупил я, по дешевке такую красоту запродав!… – Нельзя тебе оставаться без бороды! Нельзя! Нельзя! Две тысячи! Две тысячи! – Тесть заметался по комнате, причитая и размахивая руками, но в конце концов все-таки раскошелился… И посему, мои прекрасные дамы, я имею честь явиться перед вами по-прежнему украшенный бородой… Присутствующие от души развлеклись рассказом. Даже красавица Марфа лениво усмехалась, будто речь шла вовсе не об ее отце. Агнесса де Куртене хохотала так, что слезы на глазах выступали. Она отирала их кулаком и продолжала хохотать. Пухленькие, пышущие здоровьем девицы разносили на больших подносах вино, засахаренные фрукты и лепешки с медом. Фераль де Туар, недавно прибывший из Франции, склонился к Амальрику де Лузиньяну. – Гладкие девки. Сирийки? – Кажется, нет. Вроде бы потомство тех сицилиек, что были завезены сюда при короле Фулько. – Сюда завозили сицилиек? – Говорят, завозили. Я тут тоже недавно, года еще нет, как приехал, в точности сказать не могу, но старожилы уверяют, что лет двадцать пять назад король Фулько приказал доставить из Сицилии девок – женщин тут было мало, и Иерусалим обезлюдел. В общем, похватали их штук триста да привезли сюда… Само собой, королевские посланцы гонялись не за добродетелью, а… – Стало быть, и дочки ихние в монашки не собираются? – Куда там! Днями, правда, сбежали две со двора, но, надо думать, не в монастырь… Агнесса услышала, о чем они говорят, и тут же вступилась за беглянок. – Развратничать мои девушки не станут, наверняка с ними какая-то беда приключилась. Не дай Бог, сарацины украли… – Сарацины? Они, ваша милость, в Иерусалиме озорничать не станут! – Тогда разбойники. Девушки эти были тихие, скромные, послушные. Таких трудно на дурную дорожку толкнуть… – Внешность обманчива, ваша милость, – сурово остерег ее великий магистр. – Вы судите о других по ангельской своей доброте. А мир от добра далек. Развратницы любят рядиться в овечью шкуру. – Когда возвращаются наши молодые? – прервал спор Жослен де Куртене. – Вот-вот вернутся, – сообщила Агнесса. – Сибилла пишет, что время пролетело быстро и пора собираться домой. Моя голубка в тягости… Это столь важное для королевства известие было встречено одобрительным шумом. – Да точно ли это? – сомневался Жослен. – Еще бы не точно! – ответила гордая мать. – Дивиться нечему, ибо она в меня пошла. Будь покойный Амальрик попроворнее, я бы ему с десяток сыновей нарожала… – Коли так, станем надеяться, что через несколько лет, куда не пустишь стрелу, непременно в Монферрата угодишь… – Замков не хватит… – Конечно, не хватит, если Длинный Меч своего усердия не умерит. – Удалой парень, и в битве хорош, и в постели… – С таким наше королевство не пропадет! Последние слова изрек великий магистр, чуть ли не впервые отозвавшийся о Монферрате без обычной язвительности. Вслед за ним гости взапуски принялись хвалить душевные и телесные достоинства зятя светлейшей хозяйки; вспомнили и его высокое происхождение, и родство с королем французским и с германским императором. Агнесса по-кошачьи жмурилась от удовольствия. – Да-да, моей девочке грех жаловаться… Внезапно все обернулись к воротам, откуда донесся шум: конский топот, сменившийся громким голосом. Ренальд из Сидона пошел взглянуть, что случилось. И через минуту вернулся с расстроенным и побледневшим лицом. Подергивая себя за бороду, точно он и вправду решил от нее избавиться, рыцарь тяжело опустился на табурет и глотнул вина. – Что случилось? – крикнула с другой стороны фонтана Агнесса. – Ничего, ваша милость, слуги там повздорили у ворот. Великий магистр шагнул к нему и тихо спросил: – Что случилось? Говорите! – Монферрат погиб, – ответил Ренальд сдавленным голосом. Великий магистр в неописуемом изумлении отшатнулся назад. – Быть не может! Монферрат! Кто сказал? Где погиб? – В ущелье… Придавило скалой… Не слушая дальше, великий магистр поспешно вышел, видимо, надеясь разузнать подробности у гонца, но тот уже отправился к королю. Ренальд рукой отер пот со лба. Все уже догадались, что произошло нечто серьезное, и приступили к нему с расспросами. Весельчак на сей раз обошелся без шуток и огорошил всех невероятным известием: Вильгельм де Монферрат по прозвищу Длинный Меч – мертв! Останки его с подобающими почестями уже следуют из Аскалона. Вдова, принцесса Сибилла, вне себя от горя: рыдает, рвет на себе волосы, то и дело падает в обморок… Беда случилась в горном ущелье: рыцарь, вероятно, заехал туда во время охоты. Он был один, без свиты. Выветрившаяся скала рухнула на него и накрыла вместе с конем. Вот и все, нет больше королевского зятя, не сидеть ему на монаршем престоле… – Доченька! Голубка моя! – громко зарыдала Агнесса. – Бедняжка! Где она? Скорее везите меня к ней!… Помогите! Люди! Помогите! Где гонец? Как все было? Может, это неправда? Люди! Я вам говорю, он лжет! Это невозможно! О Боже… Женщины повели тонущую в слезах и причитающую Агнессу в дом. Оставшиеся молча поглядывали друг на друга. – Неужто скала упала сама по себе? – осторожно спросил Ренальд. – И не на кого иного, а на Монферрата… И именно тогда, когда он собирался вернуться, чтобы сделаться королем! – Да кому бы понадобилось эту скалу спихивать? Вроде мир у нас сейчас, а Саладин на такую подлость не пойдет… Он настоящий рыцарь! – Да уж, Саладин исподтишка убивать не станет… – А для короля какой удар! Только-только он собрался отойти от дел… – Клянусь мощами Святых Мучеников! Говорят, он молодых отпускать не хотел, словно предчувствовал недоброе… – Теперь опять начнется суета вокруг трона… Любопытно, кого же выберут? – Сибиллу так скоро замуж не выдашь. К тому же она беременна… – Придется выдать. Королю-то недолго осталось, может год-два еще протянет, не больше. – Да хранит Господь Святую землю! Кого же ей теперь дадут в мужья? – Скорее всего Ибелина из Рамы. – Ибелин в плену. – Выкупят, за этим дело не станет. Король денег не пожалеет. – Выкупить – это еще не все! История любит повторяться… Как бы Сибилла не заупрямилась, не повела себя подобно княгине Антиохийской Констанции… Нрав у нее… Да вы сами знаете! – Тьфу! Накаркаешь ты беду! – Я не каркаю, но история действительно может повториться…* * *
Для Балдуина IV смерть зятя и впрямь была тяжким ударом. Совершенно обессилев и пав духом, он распорядился устроить пышные похороны и послал гонцов в Триполи, к князю Раймунду. Баронам же объявил, что совет будет созван только после прибытия Раймунда, а до тех пор просит его не беспокоить. Наконец король остался один. Неподвижно вытянувшись на своем ложе, он пытался осознать несчастье, в котором винил себя. Почему, почему не поверил он своему предчувствию? Не надо было уступать сестре… В углу комнаты стояли братья-лазариты, безликие и неприметные, словно тени. Их отношение к случившемуся никого не интересовало – а они между тем очень тревожились за короля. Надежда на отдых и покой, столь необходимые больному, рушилась. Братья успели привязаться к своему подопечному и были сильно обеспокоены его судьбой. Будь их больной обычным нищим, валяющимся в уличной грязи, он, пожалуй, дожил бы до глубокой старости, но юный король постоянно изнурял собственное тело, заставляя его подчиняться своей воле, и тем самым только приближал конец. Впрочем, опасения лазаритов были безразличны Балдуину. Он вовсе не желал продления своей убогой жизни и думал сейчас не о себе, а о зяте. Глумливый рок расправился с Монферратом как раз тогда, когда он собирался освободить несчастного помазанника от тяжести короны. Монферрат мертв – повторяй это себе хоть тысячу раз, трудно в такое поверить! Всего восемь недель прошло с тех пор, как сидел он вот здесь, возле королевского ложа, пышущий силой, безмятежный и ласковый. Зять всегда относился к нему с уступчивой мягкостью: сила снисходила к слабости. И вот силу забрала смерть, а слабость осталась жить, сгибаясь под бременем государственных забот. Монферрата везут сюда в гробу, чтобы торжественно похоронить в соборе святого Стефана. В жаркое лето тело разлагается быстро, и подумать страшно, как выглядит теперь красавец Вильгельм. А заживо гниющий прокаженный – жив. Поистине, судьба решила сыграть с ним злую шутку!* * *
Раймунд прибыл из Триполи раньше, чем предполагалось. Услышав о несчастье, он сам, не ожидая вызова, поспешил в Иерусалим. Соскочив с коня, в запыленном дорожном платье он прошел прямо к Балдуину, чтобы успеть переговорить с ним до созыва совета. Раймунд III был высок и худ. От своего знаменитого деда, графа Раймунда де Сен-Жиль, владетеля Тулузы, он унаследовал резко очерченное лицо с большим орлиным носом – однако порывистый дедовский нрав ему не передался. Князь Триполи, сдержанный, рассудительный и осторожный, никогда не терял самообладания. В молодости, подобно многим крестоносцам он провел несколько лет в неволе у мусульман и многому там научился. Для людей неглупых и восприимчивых к новому, к каким принадлежал и Раймунд, пребывание в арабском плену становилось отличной школой жизни. Сарацины не обращали пленных рыцарей в рабов, а обходились с ними вполне по-дружески. Зачастую эта дружба сохранялась и в дальнейшем. – Но что, мой мальчик, – с порога произнес Раймунд. – Новая забота свалилась тебе на голову? – Такая беда! Видно, меня преследует злой рок, – пожаловался Балдуин. – Что мне делать? – Рок тут ни при чем. Уж я дознаюсь, кто оказал нашему королевству такую услугу! Балдуин широко открыл глаза. – Вы полагаете, дядя, что кто-то… что это не случайно? – Только дитя может поверить в случай! Случайностей вообще на свете не бывает, запомни на будущее, мой мальчик. Случайно! Но пока что рано об этом говорить. Надо разузнать побольше. Давай подумаем, что нам теперь делать. – У меня такое чувство, будто земля уходит из-под ног. Не могу сосредоточиться, не могу привыкнуть к мысли… – Не надо преувеличивать, – с напускной суровостью повторил Раймунд. – Подберем Сибилле другого мужа – вот и все… – Она беременна. Если родится мальчик, можно будет сына Монферрата объявить наследником престола, а до его совершеннолетия вы, дядюшка, возьмете бразды правления в свои руки. Для королевства это наилучший выход. Раймунд невесело рассмеялся и принялся мерить шагами королевскую опочивальню. Запыленные сапоги оставляли на темном ковре светлые следы. – Наилучший выход, говоришь? Конечно, я сумею править не хуже многих. Но об этом нечего и думать. Сам знаешь, тамплиеры ни за что не согласятся. Великий магистр готов сожрать меня живьем. Взбунтует остальных, поднимется вой: по какому праву?! Почему не этот паяц Куртене, почему не королевские сестрицы? Они всех ближе трону! И что ты на это скажешь? Я знаю, закон – что дышло, но нам с тобой такие игры не к лицу. Понимаешь? Единственное, на чем еще кое-как держится наше королевство, – это закон. Если мы начнем вертеть им туда-сюда, другие тотчас же последуют нашему примеру. Бароны только того и ждут. Со времен Готфрида королевская власть у нас передавалась по линии ближайшего кровного родства, и нам этот порядок нарушать нельзя. Подумать страшно, какую это может вызвать смуту… Да хранит Господь Святую землю! Не буду строить из себя скромника: я желал бы стать королем и смог бы им быть… продолжить дело, начатое Балдуином III и твоим отцом… Но я не хочу ломать заведенный порядок, а законных прав на трон и даже на регентство у меня слишком мало. – Но вы же правили за меня, когда я был ребенком? – Девочки тогда были так малы, что их в расчет не принимали. Раймунд возбужденно расхаживал взад-вперед по опочивальне. Корона! Корона, некогда завоеванная его дедом, но так и не доставшаяся внуку, манила его. Но в отличие от деда князь Триполи умел обдумывать и взвешивать свои поступки и несбыточных надежд не питал. Хватит у него сил, чтобы сокрушить храмовников, привести к покорности баронов и установить новый порядок? Нет, не хватит. Так лучше об этом и не помышлять, а сидеть себе спокойно в Триполи да присматривать за Галилеей и Тивериадой, что достались ему в приданое за женой. Балдуин, следя за дядей удрученным взглядом, жалобно проговорил: – Раньше, чем через год, Сибиллу замуж не выдашь. Пока разродится, пока траур отбудет… А я еще год не выдержу: со мной совсем худо! Я так мечтал, что избавлюсь наконец от власти и затворюсь с моей бедой в монастырской келье, чтобы в покое молить Бога о скорой смерти… А теперь вот снова принимайся за дела! Давно уже и лекари и братья-лазариты советуют мне бросить все это – и пускай, мол, оно катится, куда хочет… Но не дай мне Бог поступить по их совету! Ведь я помазан на царство, я державу свою крепкой и устроенной получил от отца, и никак, никак нельзя допустить, чтобы она при мне погибла. Я обязан в целости и сохранности передать королевство своему преемнику! – Будь я холост, взял бы я твою сестру замуж – и дело с концом, – объявил, останавливаясь, Раймунд. – Но я женат, не бросать же мне мою почтенную Эхивию, да и Сибилла не захочет такого старика в мужья… А такого, как Монферрат, с тремя королями породненного, нам уже не найти. Я тут по дороге перебрал в уме всех европейских принцев. Или пустозвоны вроде Филиппа Фландрского, что сюда паломником заявился, или сплошная мелкота. Притом пока-то он прибудет, пока у нас пообвыкнет – пройдут годы. Нет, на чужаков нечего и оглядываться. А из здешних я одного только подходящего вижу… – Ибелин из Рамы? Я тоже про него думал. – Да, Ибелин. Надо как можно скорее договориться с султаном и выкупить его. Даже если придется в долги залезть или запустить руку в церковную казну, Ибелина мы должны вернуть. А ты годок еще как-нибудь переможешься. Черт возьми! С проказой иные люди живут дольше здоровых… – Ну, я-то долго не протяну – к счастью… А Ибелина мы выкупим! Может, дело еще как-то поправится. Хотелось бы в это верить, а не верится. Не верится – и все тут… Мне иногда кажется, что над нами тяготеет проклятье, что Бог от нас отвернулся. Я не потому это говорю, что болен: не обо мне речь. Подумайте – королевство наше существует всего семьдесят восемь лет, а я уже седьмой по счету король! В других же землях монархи сидят на троне лет по двадцать, а то и по тридцать. Господь им посылает и здоровья, и сил – а нам нет. А неурядицы наши, а распри, а своеволие баронов! Главное же – это оскудение веры. У нас только паломники и чтут по-настоящему Гроб Господень, а мы про него редко вспоминаем. Как подходит опасность – воздвигаем перед воинством Святой Крест, но и тогда свары не прекращаются… Зло вокруг множится, а корень его в нас самих! Беседовали мы об этом недавно с архиепископом Вильгельмом… Он полагает причиной то, что мы завладели Святым Гробом, а святыней владеть нельзя. Считает, что Иерусалим должен быть ничьим, а просто доступным каждому для молитвы, что не нужен ему земной владыка – один лишь Царь Небесный должен в нашем городе властвовать… Раймунд, поначалу слушавший племянника с вниманием, под конец его речи зевнул и заметил: – Архиепископ рассказывает ученые сказки. Будь ты здоров, ты сам бы им посмеялся. Хворому, конечно, ничего, кроме дум, не остается, вот ты с больного ума и надумываешь… Зло у нас множится? А где бывает иначе? Иерусалим объявить ничьим? А кто его будет охранять, от разбойников защищать, следить, чтоб люди друг друга не перегрызли? Разве что с земли его забрать да поставить на облаках! Но тогда как же его сделать доступным? – Можно окружить его стражей и с оружием в город никого не пропускать, – предложил Балдуин. Раймунд досадливо отмахнулся. – Только безоружных пускать? А ногти? А зубы? А кулаки? Кому надо, те и без мечей обойдутся – станут побивать друг друга камнями! Нет, мой мальчик, все это пустые бредни. Люди есть люди, они мыслят и действуют по земному, иначе и быть не может. Конечно, в королевстве нашем живут не ангелы, но ведь сам Бог сотворил нас человеками, а не ангелами, и с этим ничего не поделаешь. Мы прогнали неверных, мы блюдем Гроб Господень, чтобы паломники могли спокойно молиться в Святой земле: разве мало в этом заслуги и чести? Наше дело – сохранить то, что мы имеем… – Этого мало, – стоял на своем король.Глава 5 СОВЕТ БАРОНОВ ИЕРУСАЛИМСКОГО КОРОЛЕВСТВА
Недавно вернувшийся из плена рыцарь Ренальд де Шатильон склонился перед королем, входившим в залу совета: – Государь, – начал он, – в недобрый час выпадает мне честь явиться к вам, но судьбе не прикажешь… Король издали сделал жест, изображавший предписанное этикетом объятие, и с любопытством оглядел говорившего, которого знал только понаслышке. Вид знаменитого барона разочаровал его: ни ростом, ни заметной силой де Шатильон не отличался и ничего не сохранил от удалой красы, прельстившей некогда легкомысленную антиохийскую княгиню. Кряжистый, широкоплечий; красноватое лицо испещрено синими прожилками; когда говорит, поседелые взъерошенные усы щетинятся, как у кота. В отличие от других рыцарей, блистающих роскошными нарядами, одет с вызывающей простотой – в кожаную солдатскую куртку, к тому же сильно потертую. – Да хранит Господь Святую землю! – приветствовал собравшихся король, усаживаясь на возвышении. – Да хранит Господь Святую землю! – хором ответили рыцари, вставая и тут же опускаясь на свои места под шелест пышных одежд и стук мечей. Собрание было как никогда многочисленным, ибо выбор нового претендента на трон живо затрагивал каждого. Отсутствовал лишь великий магистр госпитальеров, сказавшийся больным. Зато не поленились приехать Боэмунд III, князь Антиохийский, и седой коннетабль Онуфрий де Торон, дед молоденького рыцаря, на королевском пиру не отрывавшего влюбленных глаз от принцессы Изабеллы. Кроме местных рыцарей, совет почтили своим присутствием гости из-за моря. Среди них выделялся принц Филипп, прибывший из Фландрии, внук всем памятного Роберта Крестоносца, совершенно, впрочем, на деда не похожий. Князь Триполи, в беседе с королем обозвавший принца пустозвоном, нисколько не преувеличил: Филипп был суетен, завистлив, подозрителен и ленив. Обуреваемый непомерным честолюбием, жаждал только первых ролей, которых играть не умел. В Иерусалим он заявился несколько недель назад в сопровождении множества вымуштрованных молодцеватых ратников, коими всегда славилась Фландрия. Их бравый вид пробудил в короле надежду на военный союз с родичем. Как раз представлялся случай с помощью греческого флота потеснить Египет – Балдуин IV, памятуя о неосуществленном отцовском плане, намеревался атаковать Саладина с тыла. Но Филипп уклонился от участия в замышленном походе, объявив, что в Святой земле он будет заниматься сугубо благочестивыми делами. Однако и совершив паломничество к Святому Гробу, принц с отъездом на родину не спешил, и содержание его воинства было немалым бременем для пустой королевской казны. Хоть и восседавший на почетном месте, Филипп Фландрский вид имел недовольный и даже обиженный. Он надеялся, что именно ему совет баронов предложит руку принцессы Сибиллы вместе с троном. Он, конечно, совету откажет, не бросать же в самом деле родную Фландрию, зато какая честь! Догадавшись же, что его намерены обделить, принц косился на присутствующих неприязненным взором. Ну и народец! Бородами обросли, точно турки или жиды. Выхолены и разряжены, ничего не скажешь, но ничем, ничем с европейскими рыцарями не схожи! Без сомнения доля истины имелась в ехидных мыслях принца. Иерусалимские бароны в третьем поколении обрели чужеземное обличье и напоминали скорее ненавистных греков, чем соотечественников, оставшихся за морем. В чем именно состояло их отличие от европейских рыцарей, трудно было определить и человеку более смышленому, чем принц, но оно было и ощущалось в каждом слове и в каждом жесте, не говоря уж об одежде. Кровь и родовое имя оставались прежними, а душа и нрав пропитывались духом Востока. Сирийские франки, как их стали называть, быстро вырождались. Внуки закаленных, крепких, как булат, мужей, прибывших сюда более семидесяти лет назад, становились хрупкими, податливыми к хворям и – что было куда прискорбнее – к порокам, сильно укорачивающим жизнь. Только сожаление мог, к примеру, вызвать вид Жослена де Куртене – обжоры, пьяницы и несусветного враля, а ведь отец его был рыцарем столь знаменитым, что его любили сравнивать с героями Гомера. Не лучшее впечатление производил и Боэмунд III из Антиохии, которого не уважал никто – ни подданные, ни враги. Из дедовских доблестей, пожалуй, одно только удалось не утерять иерусалимским рыцарям – отвагу. Король, дабы не утомлять себя долгой речью, поручил вести совет Раймунду III. Князь Триполи в четких и чеканных выражениях оповестил собравшихся о причине нынешнего чрезвычайного совета. Как известно, такие советы, принимающие решение безотложно, созываются лишь в крайних случаях, и ныне случай именно таков: избрание королевского преемника – это дело весьма и весьма срочное, ибо государь не надеется на поправление своего здоровья и имеет опасение, что вскорости не сможет нести трудов по управлению святым королевством. Стало быть надлежит как можно скорее найти мужа для Сибиллы Иерусалимской, вдовы Монферрат, избрав такого рыцаря, коему впоследствии можно будет без колебаний доверить трон. Прежде чем приступить к избранию, предлагается обдумать, какие достоинства будущему королю наиболее потребны… – Пыл в борьбе с неверными! – одновременно выкрикнули Ренальд де Шатильон и великий магистр тамплиеров. Раймунд, усмехнувшись в ус, заметил: – К сей добродетели, я думаю, не помешало бы добавить разум… – Разум само собой, он рыцарю дается от рождения. Блюсти честь – вот от чего не должен отступать король. – Согласен с вами, благородный рыцарь. Блюсти честь – наиглавнейшая забота короля. Только ведь честь чести рознь. Всяк ее горазд по-своему толковать. Многие бароны с криками повскакивали с мест. – Как это – «по-своему»?! Едина честь у рыцарей! Едина! – Нет, не едина. Мое, к примеру, разумение чести повелевает соблюдать клятвенные договоры, заключенные с неверными… – А мое нет! – крикнул де Шатильон. – А ваше нет, это всем известно. Сами видите, благородные бароны, сколь разным бывает разумение чести. По сей причине королю, кроме скорого меча, потребна и голова, дабы решить, какую из честей ему блюсти для выгод королевства. – Все это увертки! – ярился де Шатильон. – Ишь ты! честь чести рознь!… Увертки! Честь – это значит не терпеть позора! – А в чем вы полагаете позор? – полюбопытствовал Ренальд из Сидона. Старый барон, посинев от гнева, испепелил дерзкого взором. – В чем же еще, как не в трусости?! Рыцарь пятиться не должен! – А неосторожными шагами подталкивать королевство к гибели, разве это не позор? – Королевство не погибнет, коли во главе поставить самых смелых. – Сколько раз наше королевство едва не погибло от избытка смелости! – заметил Раймунд. – Однако переходим к делу. Господа бароны! За последний десяток лет нами столько понаделано ошибок, что ныне мы, ради спасения королевства, не имеем права ни на один неверный шаг… Почитай, на наших глазах произошла немалого значения перемена: ислам, дотоле разбитый на множество враждующих меж собой государств, соединился. Соединился нашим попущением, и это главная из помянутых мною ошибок. Промах непростительный, а виной всему – как раз избыток смелости: своими драками со всяким, кто носит на голове тюрбан, мы крепко поддержали Саладина, ибо губили его врагов, просивших у нас подмоги. Государю известно, что сказанное мною вовсе не относится к его достойным похвалы предшественникам, ибо стремлением каждого из прежних королей было поддержать слабого против сильного, дабы сохранить усобицы в разрозненном мусульманском стане. Вы же, благородные бароны, сводили все эти мудрые усилия на нет. Когда Саладин осадил Дамаск с засевшими там сынами Нур-ад-Дина, вы с оружием в руках бесчинствовали на их границах. И напрасно Амальрик, отец нашего государя, убеждал вас подсобить Египту, славшему к нам посольство за посольством: вы дружно отказали египтянам. И что же? На наших глазах Саладин прибрал к рукам Египет. Вот уж кто должен поклониться вам в ножки! Не без вашей помощи он объединил под своей властью Багдад, Каир, Дамаск! И ежели падут последние независимые города Моссул и Алеппо, мы окажемся лицом к лицу с огромнейшим войском. Ныне государь намерен поддержать Зенгидов, из последних сил противящихся Саладину, и будущий наш король должен сию политику разуметь. Претенденту на иерусалимский престол надобно знать, что делается у соседей, дабы искусно вести свою игру. Филипп Фландрский поднялся с оскорбленным видом. Это уж слишком! Его, видимо, даже в расчет не собираются брать! Не скрывая возмущения, он промолвил: – Слушаю я и ушам своим не верю! Вы, князь, во всеуслышание твердите, что надобно помогать неверным?! А пристало ли такое христианину? Не почитается ли единственным его долгом борьба с сарацинами? – Верно! Верно! – загремели, срываясь со своих мест, Ренальд де Шатильон и Одо де Сент-Аман. Раймунд остался невозмутим. – На то, чтобы бороться со всеми, – холодно возразил он, – потребно иметь достаточно сил. – Наши деды о силах не беспокоились… – Сейчас речь не о дедах. Иные настали времена, иные народились люди… Неожиданно подал голос седой Онуфрий де Торон. – Напрасно мы так редко вспоминаем о предках, – сказал он, – напрасно! Деды наши воистину были воинами Креста, а вот мы… И выразить трудно, чему мы стали подобны… Они говорили: «Так хочет Бог!», а мы с нехристями договоры пишем… Ведем игру… Рыцарю одна только игра гожа – схватка с врагом в чистом поле… Стар я, новых времен не пойму, так что значения моим словам прошу не придавать… – Слова достойнейшего из нас всегда имеют значение, – учтиво ответил ему Раймунд. – Но времена воистину изменились, благородный рыцарь, и не считаться с этим опасно. Деды наши прибывали сюда из родного края, защищенного морем. Им нечего было терять, кроме жизни, отданной Богу. И ныне, кто приезжает оттуда хоть в паломничество, хоть на битву, одним только рискует: жизнью. Либо погибнуть, заслужив вечное спасение, либо воротиться домой, покрытым славою, – такова цель всякого крестоносца. Вы нас укоряете, что мы об этом забыли. Но ведь нам приходится здесь оставаться навсегда. Мы отвечаем за Гроб Господень, мы его стража. Погибнуть зачастую бывает легче, чем жить, но нам приходится выбирать труднейшее. Мы не только за себя отвечаем, но за все королевство, за возведенные тут дома Божии, хранимые нами от поругания, за жизнь христианскую, что расцвела у нас богатым цветом, за людей, явившихся к нам издалека с надеждой, что мы их от опасности защитим. Вот в чем наше различие с дедами, и различие это огромно! – Стар я и новых времен не пойму, – упрямо повторил де Торон. – Вернее сказать, не хотите понять, благородный рыцарь, не хотите! Ныне одним мечом да верой уже не управишься. Военные походы короля Людовика VII, императора Конрада III и других властителей королевству принесли больше вреда, чем пользы, ибо они, подобно вам, тоже не хотели понять. – Клянусь святыми патронами Фландрии! – обиделся принц Филипп. – Вы то и дело клянчите у нас помощь, святой престол постоянно понуждает всех к походам в Святую землю, и вот какая нас ждет за это благодарность! – Помощь ваша желательна и даже необходима, но прибывающие сюда войска должны подчиняться нам, доверившись нашему опыту. Драться только с теми, на кого мы укажем, а союзников наших оставить в покое. – Всех неверных должно почитать врагами, – упорствовал Филипп. – Так было когда-то, но не теперь. Почему вы никак не желаете поверить нашему опыту? Сто лет назад мусульмане владели Святым Гробом, ходили под стены Византии, грозились погубить Европу. Ныне мы отогнали их очень далеко. Латинский Моав [406] сделался пятерней, сдавившей шею мусульманского мира и разделяющей Дамаск и Египет. Паломники мусульманские, идущие в Мекку из Индии, Марокко, Туркестана и Андалузии, вынуждены проходить мимо наших пограничных крепостей, расположенных в Идумее [407] и Моаве. Мы стали хозяевами дорог ислама. И кабы нам оказано было немного разумной помощи – повторяю: разумной! – мы превратились бы в силу, не уступающую Саладину! – Все, чем вы сейчас похваляетесь, добыто нашими дедами! Крестоносцами! – О, нет! Все, чем я сейчас похваляюсь, добыто мудрой политикой Балдуина I. Без него крестоносцам не удалось бы удержать Иерусалим. Однако говорить ныне об этом – только время терять. Благородным баронам кажется, будто любое дело можно решить мечом… Но чтобы замахиваться на Саладина, одного меча маловато, надобно еще и мозги поднатужить. Восемь лет я пробыл у мусульман в неволе. Приглядывался к ним, изучал. На их стороне военный опыт, умение предвидеть, а главное, на их стороне – единство… – Я у них шестнадцать лет пробыл! – выкрикнул де Шатильон. – И ничего там такого не заметил, хоть я, слава Богу, не глупее других. Недоумки мерзкие, пропахшие мускусом и козлом! Куда им с нами равняться! Да тут и дивиться нечему: откуда им набраться ума, ежели вся мудрость мира только от Святого Духа исходит! Князь Триполи посмотрел на говорившего, и на лице его появилось странное выражение. – Действительно, – признал он, – вы там провели шестнадцать лет… И неужто ничего интересного не заметили и ничего нового не узнали? – Ничего! – горделиво заверил барон. – Потому как мне это без надобности. Верую я в Господа нашего Иисуса Христа и в свой добрый меч, а кто скажет, что рыцарю сего мало, тот понапрасну мудрствует! – Что ж, позавидовать можно такой беззаботности. Я хоть и пробыл там меньше вас, а увидел… – Много видит тот, у кого глаза велики от страха. От гнева Раймунд побледнел как полотно, шее у него вздулись синие жилы, спокойствия его как не бывало. Сразу став похожим на неистового своего деда Раймунда Тулузского, князь, словно изготовившись к атаке, подался вперед и свистящим голосом вопросил: – Вы смеете намекать, что я трус? Вопрошаемый не успел блеснуть достойным ответом, ибо молчавший до сих пор король изо всей силы грохнул об пол позолоченным посохом. – Никаких свар! – произнес он бесстрастно и повелительно одновременно. – Свой спор вы уладите после и в другом месте. Князя Трипольского прошу продолжать и не забывать о том, что он замещает меня и стоит выше оскорблений, по недомыслию бросаемых ему. Ренальд де Шатильон все так же вызывающе смотрел на возбужденного и тяжело дышащего Раймунда III, но князь сумел-таки совладать с собой и продолжил речь: – Не знаю, что уж там такое непонятное случилось с моими глазами, но видели они предовольно. Видели, как росла военная мощь Айюбида, бывшего некогда простым военачальником, видели, как обветшалая держава бессильных халифов сама далась в руки победителю, а он сумел власть не только захватить и удержать, но и упрочить. Вот у кого стоило бы поучиться! Веками незначительные различия в вере разделяли халифов багдадских и халифов египетских. Черный цвет Багдада и белый – сынов Египта… Ныне же этих различий не существует, над магометанами взвилось общее для всех знамя Пророка, победило единство. Ныне «джихад», священная война сарацин, может быть объявлена только нам. Иного врага у них нет. – Подобает ли столько времени посвящать богомерзким делам неверных? – вопросил со вздохом епископ из Бовэ, прибывший в Святую землю вместе с Филиппом Фландрским. – Подобает, ваше преосвященство. Знание врага – признак силы. Повторяю: нам надо поучиться у мусульман искусству управлять. В огромной державе Саладина все решает одна голова. Одна воля! Там и быть такого не может, чтобы группка людей, мнящая себя государством в государстве, на каждом шагу ставила препоны властям. – Кажется, это в наш огород камень? – пристукнув мечом, поинтересовался великий магистр. – Удивляюсь вашей догадливости. Да, я говорю о вас. Где нам тягаться с Саладином, ежели оба иерусалимских ордена всегда действуют наперекор любому распоряжению короля! – Единственной нашей целью является сбережение Святого Гроба, – ответил великий магистр. – Странные же вы выбираете средства для ее достижения. – Средства мы выбираем по собственному разумению. Государь всегда может на наши мечиопереться. Смиренные и покорные рабы Божии, мы… – Будет вам шутки шутить, ваша святость! Не до веселья сейчас!… Не вы ли недавно повязали послов Саладина, возвращавшихся от короля с подписанным договором? Держали до тех пор, пока я на вас не двинулся с войском! – Подобно благородному рыцарю де Шатильону, мы против заключения договоров с неверными. – Мнения свои надобно в совете отстаивать, не уподобляясь разбойникам с большой дороги! – Оскорблений не потерплю! Государь! Я протестую! Но никто не поддержал великого магистра ордена, вызывавшего всеобщую ненависть. Напротив, озлобленно зашумевший совет с редким единодушием набросился на Одо де Сент-Амана, бароны наперегонки перечисляли проступки и вины храмовников. Припомнили великому магистру некоего армянского правителя, записавшегося было в их орден, но не стерпевшего беззаконий и сбежавшего к туркам. Видать, даже у неверных порядка побольше, чем в их ордене! С особой яростью поминалось недоброй памяти взятие Аскалона, когда храмовники выставили в проломе стены свою стражу, не давая другим рыцарям войти в город. И что же? Пока храмовники со своими бились, язычники собрали разбитые силы и их самих прогнали из города. А ведь его осада длилась много дней и стоила много золота… Великий магистр, давно привыкший к подобным нападкам, хладнокровно молчал, поглядывая на крикунов презрительным взором. Когда же бароны охрипли и успокоились, он надменно изрек: – Пусть не ждет благодати от Бога королевство, в котором вернейшие слуги Его столь несправедливо гонимы. Невместно рыцарям Храма защищать себя оправданиями. Заботу о нашей чести мы доверяем Господу. Он и рассудит. – Ишь, невместно им себя защищать, кротким ягняткам! – язвительно прокричал дю Грей. – Да с вами только свяжись, сразу распростишься с жизнью! С исмаилитами иметь дело не так опасно, как с храмовниками! Спесивцы! Душегубы! – Государь! – закричал великий магистр, но голос его потонул в новом взрыве общего возмущения, в котором уже не различались отдельные голоса. Хотя иерусалимские бароны и далеко ушли от честной рыцарской простоты былых времен, проявление явного лицемерия разозлило всех донельзя. «Смиренные, покорные рабы Божии» – каково! Богачи ненасытные, ростовщики, кровопийцы, самого дьявола за пояс заткнут! Честь свою они доверяют Господу! Честь! Бароны раскраснелись, постукивали мечами, в воздухе пахло дракой. Принц Филипп тревожно заерзал на стуле, патриарх Ираклий озирался, ища, куда бы сбежать. Из-за колонн с любопытством выглядывали оруженосцы. Ученый архиепископ из Тира безмолвно воздел руки горе. Попытался было что-то сказать король, но слов его никто не услышал, и снова ему пришлось изо всей силы ударить посохом в пол. – Молчать! – прокричал он. – Вы на совете, а не в кабаке! Мы собрались здесь в скорбный час, дабы решить вопрос чрезвычайной важности. Все по местам и сидеть тихо! Бароны примолкли, тревожно поглядывая на короля. А ну как вздумается ему сойти к ним и пустить в ход руки? Брр!… Да и голос его – громкий, повелительный – произвел должное впечатление. На белом неподвижном лице дико горели глаза. Бароны присмирели и расселись по скамьям. Король продолжал стоять, тяжело опираясь на посох. – Великий магистр требовал моей защиты, – произнес он. – Отвечу ему так: орден Храма – точно рана живая на теле нашего королевства. Мой отец усиленно добивался его роспуска и, коли продлил бы ему Бог веку, непременно получил бы на то позволение от Рима. У меня мало сил, я терплю… Надеюсь, преемник мой не потерпит… – Я тоже не потерплю! – вспылил великий магистр и, осыпая всех отборной бранью, выбежал вон из зала. Патриарх Ираклий кинулся следом, якобы для умягчения ссоры, на самом же деле – боясь утерять милость могущественного Сент-Амана. Не обращая на их уход внимания, Балдуин продолжал: – Короля мы должны выбрать такого, чтобы он не пугался вооруженных монахов. Чтобы он никого не пугался, ибо, если по правде говорить, то и вы, благородные рыцари, недалеко ушли от храмовников. Слышал я тут многих, которые на магистра кричали, ногами топая, а сами-то ничуть его не лучше! Да-да, ничуть, ничуть! Припомнили вы храмовникам все их грехи, а ежели я начну припоминать ваши? Своевольство ваше доведет когда-нибудь королевство до гибели! Из-за вашей строптивости и корысти уже пропала Эдесса, жемчужина нашего королевства. Ваши свары погубят все! И король, утомленный речью, опустился на свое место. Присутствующие посверкивали на него глазами, возмущенно щелкали пальцами, притопывали каблуками. Дохляк! Да как он смеет так обращаться с ними, славными воинами, первыми баронами королевства?! Мальчишка! Знает, что его никто пальцем не тронет, побрезгует. Ну и все-таки помазанник… И потом, злись не злись, а говорит он чистую правду… Пропала Эдесса… Пропала, потому как тогдашний князь Антиохии Раймунд отказал в помощи старому де Куртене… Так и отрезал: скорее туркам помогу, чем ему! Давняя была меж ними ссора из-за какой-то девки… Жалко, жалко Эдессы… Откинув голову на спинку кресла, король сделал знак князю Триполи, и тот возобновил ход прерванного спором совещания. – Все, на нынешнем совете сказанное, – начал он, – да еще сказанное среди крика и ссор, являет собой неопровержимый довод тому, что на наш трон нельзя сажать заморского родича, будь он хоть семи пядей во лбу. Мы должны выбрать в короли одного из нас, благородного здешнего рыцаря, хорошо знающего местные условия и трудность нашего положения. – Согласны! – прокричали бароны, наконец-то не имевшие возражений. – Верно! Верно! – громче всех кричал рыцарь де Шатильон, словно именно ему и никому иному должен был достаться трон. – Итак, уважаемые бароны, государь с большим тщанием рассмотрел возможных претендентов на трон. Среди рыцарей, свободных от брака, наидостойнейшим признан им Ибелин из Рамы, пребывающий ныне в мусульманском плену. Саладин назначил за него немалый выкуп – восемьдесят тысяч бизантов. Государь намеревается переслать эти деньги по назначению, а после дать дозволение на брак рыцаря Ибелина из Рамы и Сибиллы Иерусалимской, вдовы Монферрат. Вопрос предлагается вашему рассмотрению. В зале воцарилась глубокая тишина. Ибелин из Рамы? Жаль, что выбор пал на него… Каждый чувствует себя невольно обиженным, каждый рад бы сам жениться на принцессе или женить на ней сына, кровного родича… Только не очень ловко выкрикивать самого себя. Поднимут на смех… Так может, лучше чужого? По крайней мере, не будет над ними величаться никто из своих. Ни мне, ни тебе. Все рыцари останутся равными. Все молчат и ищут зацепки для возражения. Нелегкое дело, ибо род Ибелинов воистину славен, это настоящий кладезь рыцарских добродетелей. Первые и в бою, и в совете. Опора короля, никогда его ни в чем не подводили. К тому же всем хорошо известно, что Балдуин Ибелин любит принцессу. Останься среди них великий магистр, он наверняка нашел бы, к чему придраться, призвал бы на голову Ибелина громы и молнии – хотя бы ради того, чтобы позлить короля. За ним подняла бы крик добрая половина совета, все те, кому неохота низко кланяться Ибелину. Но Одо де Сент-Аман отсутствовал. Королю внезапно подумалось, что князь Триполи нарочно затеял ссору с магистром, надеясь выгнать его из зала. В который раз дивится Балдуин IV политической изворотливости своего дядюшки. Предложение короля не встречает отпора. Первым выражает согласие Онуфрий де Торон, благородный старец. Жослен де Куртене зевает. Какое ему до всего этого дело? От скуки заговаривает с Боэмундом, князем Антиохийским, об охоте. Ренальд де Шатильон не выражает протеста. Ренальд из Сидона не скрывает удовольствия – Ибелин его друг. Ежели государь не возражает, он сам согласен отвезти сарацинам выкуп за Ибелина. Что ж, значит, все устроилось без дрязг. Остается получить согласие принцессы Сибиллы. – Благодарю вас, достойные рыцари, – с довольным видом произнес король. – Да хранит Господь Святую землю! Мы сделали славный выбор. Ибелин из Рамы, я уверен, сумеет заместить погибшего Вильгельма де Монферрата по прозвищу Длинный Меч. – Было бы совсем славно, кабы он сумел за него отомстить, – звучным голосом промолвил старый де Торон. В наступившую тишину слова старца пали громко, точно камень в стоячую воду. Его уста во всеуслышание изрекли то, о чем давно уже думали многие рыцари. Несчастный случай, повлекший за собой смерть молодого принца, всем казался каким-то странным. Не каждый день рушатся скалы. Так случайно ли завернул Монферрат в то ущелье, где в засаде его поджидала внезапная смерть?… – Подобное уже было! – выкрикнул Жерар д'Авесн. – Помните, некоторое время назад вот так же тайком убили сенешаля де Милли? Убийцу сыскать не удалось… – Я его сыщу и отомщу за покойного, – пообещал Ренальд де Шатильон. – А вдову сенешаля, ежели государь не возражает, я возьму в жены. – У меня нет права возражать, – сухо ответил король. Доброе расположение духа сразу покинуло его. Бледное лицо стало более угрюмым. Ренальд де Шатильон, женившись на Стефании де Милли, станет владетелем Заиордании. Засядет в крепости Кир-Моав, нависшей над границей… Но как же этому помешать? Король бросает многозначительный взгляд на князя Триполи. Тот нервно подергивает себя за ус. Архиепископ Тирский склонил голову на грудь. Не знает, радоваться тому, что таинством брака искупится давний плотский грех – ведомо всем, что рыцарь де Шатильон был любовником Стефании де Милли, – или же ужасаться будущему союзу, отдающему в руки строптивого драчуна наиглавнейшую в королевстве твердыню. Да хранит Господь Святую землю! Раймонд III как ни в чем не бывало вернулся к прерванному разговору: – Поверить невозможно в то, что Монферрат погиб волей случая. Исмаилиты, на коих привыкли мы сваливать все, чего прояснить не умеем, тоже тут ни при чем. Синан, Старец с Гор, с Саладином в войне, стало быть ему нас ослаблять нет никакой корысти. Не он. Тогда кто же? Сколько я ни ломаю над этим голову, не могу догадаться… Епископ из Вифлеема Обер, ни разу еще голоса не подавший и весь совет просидевший с видом задумчивым и даже отсутствующим, вдруг очнулся и робко промолвил: – Дозвольте и мне, благородные рыцари, сказать кое-что. Хоть и негоже говорить о таковых сквернах при благочестивейших наших гостях из-за моря, да делать нечего… Кто тайком убивает? Кто зло чинит непрестанно? Ясно кто: сатана. Крутится, крутится он вокруг нас, по следам его я узнаю его… – Да хранит Господь Святую землю! О чем это вы, ваше преосвященство?! – О том я, о чем все мы ведаем, а говорить не дерзаем… Давно уже чудится мне, будто под сенью наших святынь свило себе гнездо нечестивое братство, строят тайные козни приспешники зла… Возросли, возросли плевелы от семян, посеянных враждолюбцем… От сего братства соблазн идет, и многие злом прельщаются… Странно вымолвить, благородные рыцари, но завелись среди нас чтители Симона-мага и Чернокнижника Марка, иные же превозносят Каина, братоубийцу, иные поклоняются змею, подобно офитам [408]… Позабыли о страхе Божием… В стенах Града Святого ширится зловерие, а дьявол радуется… Благостного старичка выслушали с большим вниманием, не особо, впрочем, вникая в темные глубины его речи. Некоторые, однако, принялись креститься, тревожно озираясь по сторонам. Жослен де Куртене, разразившись веселым смехом, воскликнул: – Среди нас если кто и подружился с сатаной, так это уж точно Сент-Аман. Вот у кого прорва нечестивого золота: сколько ни швыряет, все не убывает! – Неужто? – радостно откликнулся Ренальд из Сидона. – Я немедля готов записаться в братство, снабжающее неубывным золотом. Ваше преосвященство, не могли бы вы объяснить подробнее, как это делается? Старичок огорченно вздохнул и погрузился в прежнюю думу. Шутник весело повел на него глазами. – Не хочет выдать соблазнительной тайны. А мне позарез нужно стать приспешником зла… Архиепископ, расстроенный общим легкомыслием, осадил весельчака: – Перестаньте кощунствовать, благородный рыцарь, накличете темные силы, а они и так уже слишком близко… Король поднялся уже, чтобы покинуть собрание, но епископ из Бовэ, благообразного вида муж с искаженным тревогой лицом, умоляюще воздел кверху обе руки. – Государь, дозвольте и мне сказать свое слово. Весь совет я сидел, снедаемый жестоким недоумением, но не смея вопросить об одном деле… Но коли уж епископ Обер… – Спрашивайте, ваше преосвященство, без стеснения. Балдуин снова занял свое место. Лазариты, приблизившись было, чтобы свести короля с помоста, опять отошли вглубь зала. Все с любопытством глядели на чужого епископа, который, с трудом одолев свою робость, чуть ли не с плачем заговорил: – Государь! Благородные господа бароны! Не достанет слов описать, с каким чувством спешили мы к вам, стражам Святого Гроба… Вы нам мнились архангелами, приставленными к раю земному… А прибывши сюда, очам своим перестал я верить. Тяжко, тяжко… Дома и рассказывать не посмею, чего я тут наслушался и навидался… Но в наихудшее не могу поверить… В голову не вмещается… Посему и решился я вопросить самого государя и благородный совет… По-христиански, по-рыцарски ответьте мне, правдив ли дошедший до меня слух, или же сие навет злобный? – Какой слух, ваше преосвященство? Говорите яснее, и мы ответим по-рыцарски. Епископ снова заломил руки. Слова застревали у него в горле. – Сейчас, сейчас скажу… Вы же на мой вопрос не гневайтесь… Что вы нехристями не гнушаетесь, то я и сам с прискорбием наблюдал, в Иерусалиме их полным-полно… Но ходит слух, что в одном городе, городе… названия не помню… – Сен-Жан д'Акр, – подсказал ему де Туар. – Именно, Сен-Жан д'Акр! Так вот, будто бы в этом городе храм и мечеть, святыня христианская и языческое капище, местятся под одной крышей! Горестно заслонив лицо ладонями, епископ ожидал ответа. – Это правда, – смертельно усталым голосом ответил король. – Князь Триполи растолкует вам, в чем дело. – Правда? – всхлипнул епископ из Бовэ. – Правда? Он в отчаянии обратил свой взор на присутствующих духовных лиц. Все молчали. Раймунд заговорил обычным своим уверенным голосом. – Успокойтесь, ваше преосвященство! Прибывшему из далекого края зачастую трудно бывает уразуметь вещи для нас вполне очевидные. С магометанами находимся мы в постоянной войне. Замиримся на два-три года, потом десять лет воюем. На войне же бывает по-разному, то одни берут верх, то другие, когда как. Некоторые города, в первый черед приморские, то и дело переходят из рук в руки. Посему установлен нами такой порядок: за изъятием Иерусалима, где иных святынь, кроме христианских, быть не может, оставляем мы в каждом городе по одной мечети, дабы мусульманам было где справлять свои службы. Соответственно и враги наши, когда нам изменяет удача и города переходят к ним, храмов наших не рушат и не возбраняют христианам молиться. Так уж у нас повелось… В городе Сен-Жан д'Акр мечетей нет, все спалены во время штурма, храм же весьма велик, к тому же из мечети и переделан. Вот я и выделил мусульманам один придел, с особым входом – христиане с сарацинами отнюдь не сталкиваются и вреда друг другу не учиняют… Мы по справедливости поступили, и Господь нам сего в вину не поставит… Епископ из Бовэ снова закрыл лицо руками. – Боже, Боже! – шептал он. – Значит, это правда, а я не хотел верить… Храм и мечеть… словно равные… Вера истинная и идольское нечестие… – Магометане идолам не поклоняются, – возразил Раймунд, теряя терпение. – Они веруют в единого бога, как и… Король стукнул о пол позолоченным посохом. – Совет объявляю закрытым. Да хранит Господь Святую землю! Ответили ему дружно и громко, с облегчением поднимаясь с мест. Выходили шумно, потягиваясь и стуча мечами о мрамор. Епископ из Бовэ торопливо семенил рядом с надутым принцем Фландрским, жалостно причитая: – Боже! Боже! И это христиане?… Хуже сарацин… Храм с мечетью!… До чего дошло!… Немедля возвращаемся домой, ваша светлость! Немедля! – Они посмели не предложить мне корону! – гневно бурчал свое принц. – Я собирался от нее отказаться, а они посмели не предложить!…Глава 6 ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Агнесса всплеснула руками от удивления и ускорила шаг, направляясь к королевскому паланкину, ожидавшему ее на дворе. Слуги и братья-лазариты отошли к воротам. Невидимый за тонкими занавесками, Балдуин промолвил: – Приветствую вас, любезная матушка. Да хранит Господь Святую землю! – Радуюсь вашему здравию, сын мой и государь, – ответила она и тут же ужаснулась своим словам: надо же было брякнуть такое – радуюсь, мол, вашему здравию! Хоть и было всем известно, что король давно ни в какие дома, кроме своего собственного, не заходит, Агнесса принялась горячо уговаривать сына оказать ей честь и посетить давно покинутые покои. – Вы были бы в чрезвычайном затруднении, матушка, если бы я принял ваше приглашение, – холодно прервал ее Балдуин. – Мне надо поговорить с Сибиллой. Пусть она выйдет сюда. – С Сибиллой?! Бедное мое дитятко! Голубка кроткая! Да сжалится над ней Господь… Такая нежная, такая чувствительная – и столько страданий… Она своего горя Не переживет, нет, не переживет… Где же справедливость Божья, если страдают даже безвинные агнцы?! Может, я поговорю с ней от твоего имени, милостивый сын мой и государь? Она беременна, и как бы… – И как бы вид моего паланкина не причинил ей вреда? Но я же скрыт занавесками! Обещаю во время нашего разговора ей не показываться. – Ах, да я совсем не об этом… Сибилла так впечатлительна, что любое волнение… – Мне необходимо с ней поговорить, – промолвил король властным тоном. Послав служанку за дочерью, Агнесса застыла в обиженной позе. Вся ее материнская нежность сосредоточилась на Сибилле, к сыну она теперь испытывала враждебность не меньшую, чем он к ней. Спесивый мальчишка, обиженный на нее за свою проказу, словно это не попущение Божие, словно в его недуге и впрямь виновна она! Показалась Сибилла: она шла, вернее сказать, плыла по двору, изысканно покачиваясь в волнах своего пышного вдовьего одеяния. Ее сопровождала редкая в городе гостья – игуменья с Масличной Горы, бабка Иветта. Монахиня проследовала к мраморной скамье и уселась на ней, ожидая конца семейного разговора. Сквозь узкие щели в занавесках Балдуин со вниманием приглядывался к сестре. В последний раз он видел ее на погребении зятя, и тогда она выражала буйную скорбь – рыдала, рвала на себе одежду, каталась по земле. Всего несколько недель прошло с того дня, но она, похоже, уже успела оправиться: вид, правда, несколько хмуроват, зато личико тщательно набелено и накрашено. Можно заводить разговор о новом супружестве. При первых же его словах на лице сестры выразилось живейшее любопытство, но она тут же спохватилась и начала причитать: – И слышать ни о чем не хочу! Оставьте меня в покое!… Ничего мне, кроме смерти, не надобно… Умру или в монастырь уйду… Нет, умру, родами умру, так лучше будет… Оставьте меня в покое… – Надеюсь, ты не умрешь, но если такое случится, выбранного для тебя мужа мы передадим Изабелле, она уже вошла в возраст… Сибилла аж подскочила от возмущения. – Уже хоронишь меня?! – выкрикнула она. – О, ты бы рад был моей смерти, я знаю! Изабелла тебе милее меня, а мачеха милее родной матери! Безжалостный! Ну как же, ты ведь король, значит, можешь измываться над нами! Продолжай! Так кого ты мне подсовываешь в мужья? И когда? Прямо сегодня? Ну, кого? Такого же красавчика, как ты сам?… – Этими словами ты унижаешь не меня, а себя!… Сибилла от злости расплакалась, и Агнесса немедля заключила ее в нежные материнские объятия. – Перестань мучить мою голубку. Ты и вправду безжалостный. Говорить о новом муже, когда у нее еще слезы не высохли от горя!… – Слез я не заметил, а вот краски на лице многовато. Рад бы я оставить ее в покое, да дело спешное. Я держусь из последних сил. К тому же бракосочетание состоится не раньше, чем через год, сейчас от нее требуется только согласие. – И кто же выбран в мужья? – с любопытством спросила Агнесса. – Ибелин из Рамы. Сибилла отерла слезы и вскинула голову. – Простой рыцарь? – с презрением выкрикнула она. – Ибелин! Или в Европе не стало принцев? Бедный мой Вильгельм был в родстве с королем французским, приходившимся ему дядей, и с германским императором, который был ему… Она отчаянно зарыдала от наплыва воспоминаний. Агнесса успокаивала дочь, обиженно поглядывая на паланкин. – Нет у нас претендента более подходящего, – твердо проговорил Балдуин. – Ибелин – человек достойнейший во всех отношениях. Благородный иерусалимский рыцарь выше всех европейских принцев. Он любит тебя и будет заботливым отцом твоему ребенку. О ребенке надо думать прежде всего. Если родится сын, он наследует королевский трон. – О, я умру, умру!… О мой бедный Вильгельм!… – рыдала Сибилла. – Перестань же наконец ее мучить! Отпусти ее! – не на шутку разгневалась королева-мать. – Как бы она от волнения раньше времени не родила… – Я ее держать не стану, как только она скажет, что согласна. Нам пора посылать за Ибелином. – Согласна! Согласна! Я же твоя служанка, твоя раба! Приказывай дальше! Чего еще тебе хочется? – Мне хочется, чтобы ты хоть на минуту осознала, что не только на мне, но и на тебе лежит ответственность за будущее королевства… Бремя это нелегкое, многим приходится жертвовать ради общего блага… Но ты, впрочем, этого никогда не поймешь… И вы тоже, матушка… Прощайте. Да хранит Господь Святую землю! Он высунул в щель между занавесок свой посох, подавая знак лазаритам, но поднявшаяся со скамьи игуменья остановила их властным жестом. Это была старуха лет семидесяти, с морщинистым, точно корой покрытым лицом, всегда хранившим выражение суровости и достоинства. Твердым шагом проследовала она к паланкину и отдернула занавески. Лицо внука оказалось у самых ее глаз, она глядела на него без тени отвращения, с былой нежностью. – Давно мы с тобой не виделись, мой мальчик, но я молюсь за тебя каждый день… – Не трогайте меня, святая мать! – испуганно крикнул король, заметив, что она протянула руку, намереваясь погладить его по голове. – Мне, дитя мое, страшиться нечего. И так зажилась на белом свете. С этими словами она ласково обняла сопротивляющегося короля и поцеловала в лоб. Он низко опустил лицо, чтобы скрыть слезы, которых не сумел удержать. – Бабушка… бабушка… – Да пребудет с тобой Бог, малыш. Старуха начертала над ним знак креста. Как только она выпрямилась, Балдуин резко задернул шторки. Слуги понесли паланкин со двора. Агнесса и Сибилла, стоявшие поодаль, поглядывали на игуменью с беспокойством. – Не пугайтесь, – промолвила она в ответ на их опасливые взгляды. – В ваши покои я заглядывать не собираюсь, мне пора домой. Она сделала знак сестре-монахине, поджидавшей ее в зелени у фонтана, и, опираясь на палку, бодро двинулась к выходу. Паланкин уже исчез в воротах. – Наконец-то убрался! – проговорила Агнесса, привлекая к себе дочь. – Не расстраивайся, моя голубонька, все обойдется… Ибелин рыцарь крепкий, здоровый. А уж любит-то тебя без памяти! Будешь им вертеть, как захочешь… К тому же целый год до свадьбы, а за год мало ли чего может случиться… Не расстраивайся… Ах, если бы ты родила сына!… По отцу был бы родичем короля французского и императора… Могла бы к ним поехать в гости или их пригласить сюда… О! Стать матерью сынка, породненного с императором, это кое-что значит… Ибелин тебе мешать не будет… Он добряк… – Верно, добряк, – согласилась немного утешенная Сибилла.* * *
– Король нынче сюда приходил, слышали? – прошептал рыцарь дю Грей на ухо Лузиньяну. – Говорят, принцесса согласилась на Ибелина, и Ренальд уже собирается за ним ехать. Деньги на выкуп займут у византийских купцов. Через год повеселимся на свадьбе. – Счастливчик Ибелин, – негромко отозвался Амальрик. В последнее время вид у него постоянно был рассеянный и отсутствующий, словно его снедала какая-то тайная забота. В этот день Лузиньян вернулся на свою квартиру раньше обычного. Старательно замкнув двери комнаты, он сел за стол, вынул из-за пазухи начатое письмо и, разложив его перед собой, принялся внимательно изучать написанное. Однако же дочитав до конца, поморщился и скомкал листок в руке. – Плохо, плохо, так не годится… Перед образом Божьей Матери, висевшим в углу комнаты, теплилась небольшая лампадка. Амальрик поднес бумагу к огню и держал до тех пор, пока весь листок не сгорел. Бросив пепел на пол и старательно растерев его ногой, он уселся за стол, достал чернила и положил перед собой чистый лист бумаги. – Святой угодник Мамерт, вразуми меня! Перо усердно заскрипело по бумаге. Письмо это, как и предыдущее, обращенное в пепел, пятном чернеющий на мраморном полу, предназначалось матери, почтенной госпоже Бенигне. Амальрик писал долго. При малейшем шорохе подымал голову. Наконец закончил, перечитал и в отчаянии стукнул себя по лбу. – Не так, не так! Опять плохо! Вскочив с места, он разгневанно забегал по комнате. Иногда останавливался перед столом, просматривал написанное и снова бегал. Плохо, совсем плохо! – Но как? Как иначе? …Ежели написать ясно, в чем дело, и письмо угодит в чужие руки (что весьма возможно, ибо поговаривают про тамплиеров, будто как раз из чужих писем черпают они свое всеведение), он, Амальрик, вынужден будет немедленно отсюда убраться. А ежели написать осторожно, намеками, никто в доме не догадается, о чем речь… Первое письмо получилось слишком откровенным. Хорошо, что он его сжег. Второе – слишком загадочно. Тоже не годится. Надо считаться с тем, что семейство здешней жизни не разумеет и ни за что не поймет замысла Амальрика, если не растолковать ясно. …Может, вообще не писать? Передать на словах, устно? …От написанного и запечатанного слова мудрено отпереться, а от сказанного устами легко. Что за небылицы он тут рассказывает! Лжет как пес! Не лжет? Так пусть же тогда докажет правду!… От устного слова даже в воздухе не остается следа… …Но кому доверить свой тайный замысел?… Он бегал по комнате и думал, думал, так что голова от дум разболелась. Иногда казалось ему, что лучше совсем от своей опасной затеи отказаться, не выставляя себя на посмешище, а иногда становилось обидно. А вдруг получится? Такая возможность, такая заманчивая возможность! И пройти мимо, даже не попытавшись?! Жаль, ох, как жаль! Отомкнув дверь, он хлопнул в ладоши и приказал подскочившему слуге позвать старого оруженосца Матвея де Герса. Де Герс происходил из хорошего, но давно обедневшего рода. Сызмала попав в службу к Лузиньянам, всю жизнь провел в оруженосцах, терпя вместе с хозяевами горькую нужду. Когда молодой рыцарь отправился в Иерусалим за счастьем, поехал с ним и Матвей в надежде поправить свое положение. Амальрику улыбнулась фортуна: он быстро попал ко двору, подкопил денег. Может, и оруженосца его не обошла бы удача, но старик никак не свыкался с новой жизнью: отчаянно скучал по родине, аж иссох от тоски, ходил вечно мрачный и ко всему равнодушный. Впустив его, Амальрик снова тщательно запер дверь. – Де Герс, хотели бы вы вернуться домой? – Прогоняете, ваша милость? И то сказать, проку вам с меня никакого… – Проку мне с вас маловато, но я вас пока не гоню, а посылаю домой с важным поручением. Письмо писать не годится, хочу через вас на словах передать… – Ваша милость! Старик бухнулся ему в ноги и от радости расплакался, как дитя. Домой, домой! Убежать из этого постылого края, где христиане ничуть не лучше нехристей! Домой! – Будьте осторожны, никто не должен знать, зачем я вас посылаю. Ежели вы проболтаетесь по дороге, ежели хоть словечко об этом деле оброните, я от всего отопрусь. Скажу, что вы меня обокрали и пустились в бега. Предам на муку. Предупреждаю сразу… – Буду нем, как рыба, ваша милость, помереть мне без святого причастия! – Помните об этом! Теперь слушайте: то, что я скажу, вы передадите госпоже Бенигне. Ей одной. С глазу на глаз. И деньги, что я с вами пошлю, отдадите ей. А всем другим скажете, что я вас отпустил, потому как вы чуть тут с тоски не подохли… – Святая правда, ваша милость! Чуть не подох!… – Отправляться можете хоть завтра. До Яффы верхом, оттуда – первым же генуэзским кораблем. – Понял, ваша милость. Бог вам за доброту заплатит. А что я должен передать благородной госпоже Бенигне? Амальрик, покусывая губы, молчал. Тревожно оглянувшись по сторонам, он еще раз проверил дверь, посмотрел, слегка сдвинув штору, в окно, выходившее во двор. Нигде никого не было. – Клянетесь спасением души никому, кроме госпожи Бенигны, слов моих не передавать? – Клянусь спасением души! И Святым Гробом! – Тогда слушайте… Склонившись к уху оруженосца, Амальрик долго ему что-то шептал, стараясь быть вразумительным. Чем далее он говорил, тем более круглели от изумления глаза старика. – Ясно? – Ясно. – Повторите. Матвей де Герс повторил. – Не забудете? – Что вы! Забыть такое! – Тогда в путь! Да хранят вас святые покровители Пуату!* * *
Покачиваясь в паланкине, Балдуин стискивал зубы, чтобы не закричать от боли. Не от боли телесной, нет. К ней он давно притерпелся. Встреча с бабушкой, ее сердечный голос, ее поцелуй потрясли его, разбудили в душе бурю отчаяния. Отчаяния безграничного, впору было кататься по земле и выть от горя. Холодноватая маска гордости и достоинства, наложенная на нервное мальчишеское лицо, неподвижная, никогда не снимаемая, крепящаяся огромнейшим усилием воли, разлетелась в клочья под влиянием самой обычной вещи: ласкового слова, дружеского прикосновения. Он едва сдерживался, чтобы не разрыдаться, не закричать в голос. Пора бежать, бежать ото всех, а главное – от самого себя! Но куда, куда? Боже! Куда мне бежать? Некуда! Разве что к Тебе, Господи… К удивлению и к тайной радости лазаритов, король приказал нести себя не во дворец, а в Храм Гроба Господня. В эту пору храм должен быть пустым, но брат Иоанн и брат Матфей пошли на всякий случай вперед – проверить. Король хотел остаться в соборе один. Слуги с паланкином и даже они, братья-лазариты, подождут снаружи. Большие, окованные медью двери закрылись за входившим с глубоким металлическим звуком. Внутри царил золотистый сумрак. Балдуин продвигался вперед осторожно, словно попал сюда первый раз. Он тяжело опирался на палку – трудно было ходить одному, без посторонней помощи. Бессильные, робкие шаги его терялись без эха в пустоте огромного храма. Величественный главный неф окружен был венцом часовен, отделенных от него аркадами. В центре, под высоким фонарем стрельчатого золотистого купола, располагался Святой Гроб – серая скальная глыба, покрытая снаружи мрамором и золотом. Гроб был увешан дарами: жемчужины, похожие на застывшие материнские слезы, висели рядом с пучком стрел, пущенных иоаннитами в патриарха, дальше шли мечи Готфрида Бульонского, Танкреда, Раймунда де Сен-Жиль и знаменитые оковы, в которых смельчак Ибелин де Куртене, дед по матери прокаженного короля, убежал из плена, переплыл Евфрат и чудом добрался до своих. Во множестве были развешены добытые у магометан бунчуки и стяги, копья и шлемы. Обращала на себя внимание отлитая из золота детская фигурка ростом в полтора локтя – дар Балдуина II, сделанный во дни печали, когда отдавал он любимую младшую дочь Иветту (ныне седую игуменью) Нур-ад-Дину в заложницы. Таинственно поблескивали надгробья – запечатленные в камне иерусалимские короли либо стояли в боевых позах, либо почивали спокойно, оберегаемые расположившимися в их ногах львами. Благочестивый Готфрид; брат его мудрый Балдуин I; родич их и товарищ Балдуин II дю Бург; его зять Фулько Анжуйский; Балдуин III и Амальрик… Деяния минувших семидесяти девяти лет, сохраненные в камне на вечные времена. Но не ради их славной памяти пришел сюда королевский внук и сын. Он не обращал на надгробья никакого внимания и даже не взглянул на место, приготовленное для него. Затерянный в немотствующей громаде храма, Балдуин чувствовал только одно: присутствие Бога, равнодушного к его горю. Непостижимое величие Создателя и маленькая беда человека… Творец и тварь… Пронзительное дыхание вечности ощущается порою в местах пустынных – среди горных вершин, или на морской глади, или же в тишине огромного храма, в общем, везде, где беспомощный человек чувствует свою малость. И свое одиночество… Тогда он оказывается с Богом лицом к лицу, тогда он говорит с Ним, как Моисей на горе Синай, плачет и жалуется, как Иов… Иов, вечный образ безвинной человеческой муки… Бог и Иов… Бессильно распростершись у входа в Святую пещеру, Балдуин, изнемогший от неправой кары, взывает к небу словами Иова: …Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: «зачался человек!»… …Да померкнут звезды рассвета ее: пусть ждет она света, и он не приходит… …За то, что не затворила дверей чрева матери моей и не скрыла горести от очей моих!… …Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?… …На что дан страдальцу свет, и жизнь огорченным душою?… …Объяви мне, за что Ты со мной борешься?… …Вспомни, что Ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня?… …О, если бы верно были взвешены вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей!… …Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? и какой конец, чтобы длить жизнь мою?… …Твердость ли камней твердость моя? и медь ли плоть моя?… …Тело мое одето червями и пыльными струпами; кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока, и кончаются без надежды… …Опротивела мне жизнь… …Заступись, поручись Сам за меня пред Собою!… …Где милосердие Твое?… Словам человека Иова внимает наполненное Богом пространство. Шумит, точно огромная раковина. Наплывает рокот невидимых волн. Рокот переходит в бурю. Буря гнева Господня обрушивается на чадо праха, простертое в прахе. …Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?… …Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь… …Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь?… …Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его?… …Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место ее?… …Нисходил ли ты во глубины моря, и входил ли в исследование бездны?… …Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?… …Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града?… …Есть ли у дождя отец? или кто рождает капли росы?… …Из чьего чрева выходит лед и иней небесный – кто рождает его?… …Знаешь ли ты уставы неба?… …Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли тебе: «вот мы»?… …Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить?… Грозными шумами наполняется пространство Божьего храма. От них сжимается сердце, леденеют чувства. На что ты отважился, человек никчемный и глупый? Что твоя боль, твоя мука для Вседержителя? Для Того, Кто полагал основания земли? Кто ты пред лицом неохватной вселенной? Пыль дрожащая. Дрожа и смиряясь пред Его величием, говорили с Богом Моисей, Илия, Иов… И Сын Человеческий в Гефсиманском саду… И Сын Человеческий… Словно осененный внезапной мыслью, Балдуин, приподнявшись с пола, ползет к темнеющему створу пещеры. Внутри, в душной нише, теплится неугасимая лампада. Каменное ложе высечено в твердой скале… Припав к нему, прокаженный кричит: – Христе Боже! Боже страдающий! Единственный из богов, скорбевший смертельно! Познавший людскую муку! Сжалься надо мною! Сжалься! …Ты сотворил мир, но не хотел муки, молился, чтобы Тебя миновала чаша страданий. Ты страдал телесно… Как человек! Как я! Страдал безвинно… Ты, Которому дана власть наделять здоровьем… Христе Боже, надели меня! С плачем приникает Балдуин к камню, дрожит от отвращения к собственной немощи, просит: – Смени мое прогнившее тело! Дай мне родиться заново! Исцели меня! Он слушает тишину, ждет. Тихонько потрескивает масло в лампаде. Ждет. Камень исходит холодом… Ждет, когда с неба или из глубин его собственного измученного сердца послышится голос Бога, безвинно претерпевшего наказание. …Зачем же плакать? Разве я уже не сделал того, о чем ты просишь?… На том самом камне, который ты обнимаешь, лежало тело мое, поруганное, измученное, орошенное кровавым потом. Лежало бренное и жалкое, смерти преданное, а на третий день воскресло в славе. И видели мое воскресшее тело многие: жены-мироносицы, и двое учеников на дороге в Еммаус, и апостолы, за трапезой возлежавшие. И сказал я, что каждый, призывающий имя мое, воскреснет – по вере своей и силою моей благодатной помощи. Крепким восстанет слабое, страждущее – исцеленным, и в радости обретет нетление. Се, мое неложное обетование: ты воскреснешь! Зачем же плакать? И надо ли просить о чуде большем ? Надо ли торговаться со мною о жалких мгновениях пребывания в земной юдоли, отделяющих тебя от жизни вечной? Не плачь, но радуйся!… Воскреснешь! Воскреснешь!… Обеспокоенные долгим отсутствием короля, Матфей, Марк и Лука вступили вопреки запрету в храм и нашли Балдуина припавшим к Святому камню. Вынесли на улицу почти бесчувственного. Тело юноши, по-прежнему немощное, бессильно свисало с их заботливых рук, но открытые глаза его казались наполненными безбрежным покоем.Глава 7 БОГ – ОДИН
Второй месяц пошел, как Ренальд из Сидона бездействовал в Дамаске: сперва ждал согласия на выкуп от Саладина, пребывавшего в Египте, куда Туран-шах, сын Айюба и брат Повелителя Правоверных, послал гонцов, потом, когда согласие было привезено, ждал Ибелина. Рыцаря, как пленника особо ценного, держали в одной из самых отдаленных крепостей. Ренальд вовсе не сожалел о том, что его поездка затягивается. Жил он во дворце старого эмира Абдуллаха из рода аль-Бара, купаясь в роскоши. Эмир, бывший некогда другом покойного Наим аль-Дин Айюба и воспитателем его сыновей, пользовался всеобщим уважением. Во времена султана Нур-ад-Дина Айюб занимал должность начальника его стражи, а Саладин и Туран-шах были диковатыми курдскими мальчишками. Оба сохранили теплые чувства к своему наставнику, и Саладин, нынешний Повелитель Правоверных, всякий раз, оказавшись в Дамаске, навещал старика. Сейчас старого эмира дома не было. Несмотря на преклонный возраст, он несколько месяцев назад отправился паломником в Мекку. В роли радушного хозяина, принимавшего латинского гостя, выступал его сын – Наим аль-Бара. Обходительный и образованный, молодой араб быстро подружился с весельчаком Ренальдом, прекрасно знавшим язык и обычаи Востока. Время они проводили нескучно. Да и можно ли скучать в Дамаске? Этот волшебный город славился по всей Азии своими богатством и красотой. Обильно орошаемый водой, он утопал в садах. Тут цвели удивительные розы, знаменитые во всем мире дамасские розы, которые шли на выработку изысканных парфюмерных ароматов. Тут ковали лучшую боевую сталь – дамасское оружие было мечтой каждого рыцаря. Тут воспитывались самые красивые женщины, опытные в искусстве любви. Недаром называли Дамаск раем – именно раем казался он Ренальду из Сидона. Глаза, отвыкшие в Иерусалиме от вида зелени, утомленные однообразием серого камня, с наслаждением отдыхали на пышно цветущих роскошных садах. По супруге он отнюдь не скучал, по тестю, хоть и выкупившему его бороду, тем более. Большую часть времени проводили они с аль-Барой на охоте – с соколом или гепардом. Когда обученный хищник со стальными мускулами, туловом пса и круглой кошачьей мордой пускался в погоню за быстрой газелью, оба друга, горяча коней, мчались за ним во весь опор. Исподтишка следили, кто из них двоих ловчее перемахнет через расщелину, одолеет крутой поворот, метнет копье. Вслед за ними состязались в удальстве и слуги. Соперничество, разумеется, было тайным, в манерах оба рыцаря оставались учтивыми и доброжелательными. Воротясь с охоты в самый разгар жары, отправлялись отдыхать. В прохладную комнату гостя бесшумно проскальзывала красивая рабыня, усердная в утехах ложа, не в пример ленивой Марфе, похожей на снулую рыбу. После ужина, когда чудная летняя ночь раскидывалась над Дамаском мириадами звезд и огромная золотая луна показывалась на черни неба, когда сады начинали благоухать розами, гвоздиками и сандалом, друзья устраивались на плоской кровле дворца, огороженной резным поручнем. Пили пряное вино и беседовали. – Такая прохлада кругом, такая свежесть, – говорил Наим, – а мой старый отец мается в пекле пыльных дорог. Я так о нем беспокоюсь. – Но он ведь скоро вернется? – любезно поинтересовался Ренальд. – Не скоро. Он наверняка задержится в святом городе. Мой отец очень набожен… Что до меня, я до пилигримства не охотник, недаром же сказал пророк, что язык меча достаточно красноречив, чтобы вымолить отпущение грехов. Я предпочитаю зарабатывать спасение мечом, а не бродить по грязным дорогам вместе с вонючей толпой нищих. Но отец мой другого мнения. Он любит Бога так, как его любили когда-то, и постоянно тревожится, что любовь его недостаточно велика. Ренальд вертел в пальцах сорванный с оградки лист вьющегося растения. Темная зелень отливала в лунном блеске серебром. – Значит, у вас прежде тоже сильнее любили Бога? – не без некоторого удивления спросил он. Аль-Бара, слегка поколебавшись, признался: – Во всяком случае, мне так кажется. Взять хотя бы отца и меня. Да и не нас одних… Предки наши признавали только «джихад», священную войну, ненависть ко всем неверным, а мы с тобой сидим рядышком и беседуем, точно родственники… Не знаю, хорошо это или плохо… Прежде смерть за Аллаха и Пророка почиталась счастьем, а теперь нет. Земную жизнь люди стали ценить больше, чем рай… – У нас то же самое, – смущенно отозвался Ренальд. – Нам это ведомо. Вы тоже чрезмерно полюбили жизнь. Низким звучным голосом аль-Бара началдекламировать старинный арабский стих:…резвый конь, острый меч,
клики пира и нежная музыка арф,
траты щедрые роскоши, женские ласки -
вот утехи сего быстротечного века.
Коварное время смеется над нами.
Веселье и горе, богатство и скудость
равно прейдут.
Смерти никто не минует…
…безумные, то веселимся, то забываемся сном,
но не ведают сна очи зоркие смерти.
Мы, точно слепые, спешим к ней навстречу,
она же издалека всех поспешащих видит,
словно коршун заранее намечает добычу…
Глава 8 СТАНЕШЬ КОРОЛЕМ!
Год 1179 подходил к концу. Год этот, славный громкими битвами между императором Фридрихом Рыжебородым и князем Генрихом Львом, между антипапой Каликстом и папой Александром, между королем английским и королем французским, между римлянами и ломбардцами, прошел в уединенном замке Лузиньянов совершенно безмятежно, ни в чем не изменив издавна заведенного порядка. Как в прошлую, позапрошлую и позадесятую осень двор покрывала густая липкая грязь, одолимая лишь в сапогах или деревянных башмаках. Идущие на водопой коровы бороздили ее ровными узкими тропками. Старый пастух тянул из колодца воду под пронзительный скрип журавля. Над башнями с криком кружили галки. Из людской раздавались песни девушек, сидевших за прялками. В большом зале подремывал в кресле перед камином старый хозяин в обществе борзых и легавых, уютно расположившихся вокруг. Ничего, ничего тут не изменилось, и только что прибывший из Иерусалима де Герс убеждался в этом с неописуемой радостью. Жизнь в замке текла старым руслом. По-прежнему Бог был здесь Богом, господин господином, холоп холопом. Даже скудный, как всегда, ужин, и прокисшее вино были милы старому оруженосцу, как доводы прочности жизненного устройства. Стоя у дверей флигеля, старый де Герс обводил глазами усадьбу с невыразимым чувством блудного сына, вернувшегося в отчий дом. Послышались быстрые, хлюпающие по грязи шаги – по двору, утеряв обычную свою важность, бурей мчалась госпожа Бенигна. Не к курам, не в конюшню и не в коровник, нет, она бежала напрямую, не разбирая дороги, не обращая внимания на лужи. Де Герс со вздохом покачал головой: даже не заметив его, хозяйка пронеслась мимо – к реке, которая делала возле замка крутой заворот. От воды тянуло осенью и туманом. Тоненькие нагие лозинки гибко гнулись к самой воде. Прелые листья, сбиваясь вместе, образовали затор у берега. Перекинутый через речку мостик блестел от влаги. Остановившись возле него, госпожа Бенигна устремила взгляд на противоположный берег, высматривая в буроватых сумерках младшего сына – пора ему уже вернуться с охоты. Пора, пора! От лихорадочного нетерпения ей не стоялось на месте, она бегала вдоль воды, тяжело дыша, хотя вовсе не чувствовала усталости. Чепец у благородной дамы съехал набок; коренастая, облаченная в пышные негнущиеся юбки, делавшие ее вдвое шире, она выглядела весьма странно. Ждать пришлось долго. Наконец на другом берегу замаячила стройная мужская фигура. Вит! Он направлялся к мостику. Юноша уверенно ступал по скользким доскам, что-то негромко мурлыча себе под нос. Как только он сошел на тропинку, мать подскочила к нему так внезапно, что Вит даже испугался. – Ради Бога, матушка! Что случилось? Не в силах вымолвить слова, госпожа Бенигна, задыхаясь, гладила его плечи и грудь. – Дитятко мое… ненаглядное… – Что случилось?! – повторил он, пугаясь все больше. – Ничего, ничего, наш де Герс воротился из Святой земли… – Вот и славно, что старик вернулся. Я по нему соскучился. Как он, здоров? Почему так скоро? Опостылело на чужбине?… – Его прислал Амальрик… Передал для тебя деньги… Кучу денег… На дорогу… Теперь ты можешь к нему поехать… Юноша в ответ весело рассмеялся. – Деньги возьмите себе, матушка, или отдайте Бертрану, бедняга так мечтает о путешествии, а я вовсе… – Амальрик ждет тебя, а не Бертрана. – Но зачем же ехать, если мне не хочется? – Я-то знаю зачем, – многозначительно произнесла она. Вит со смехом покачал головой. – Клянусь гробом святой Радигонды! Вы и вправду решили меня прогнать из дому, матушка? С каких это пор вы меня так невзлюбили? Невзлюбила?!… Удерживая рвущуюся наружу нежность, она решительно повторила: – Ты должен поехать, причем без промедления. Амальрик очень настаивает. – Да что с ним? Не иначе, от жары взбесился. – Он тоскует по тебе. – Откуда вдруг такая чувствительность? Тоскует – так пускай сам едет сюда. Он снова рассмеялся: уехать сейчас, именно сейчас – нелепее ничего не придумать. Когда мать узнает, в чем дело, перестанет настаивать. Может, признаться ей прямо здесь? Нет, пока рановато. Ничего, уступит и так. – Нельзя упускать такой возможности, – горячо доказывала госпожа Бенигна. – Амальрик по-братски себя ведет, хочет обеспечить твое будущее… Денег прислал. Поедешь туда не бедняком, а вельможей… Об отказе и речи не может быть… Слегка склонившись над матерью, Вит поглядывал на нее с добродушной усмешкой и лихорадочно размышлял: сказать или не сказать ей о своих столь частых в последние два месяца свиданиях с юной и прелестной Люцией де Сен-Круа, дочкой владетелей Иссудона? Лузиньяны когда-то дружили с ними, но Гуго Смуглый, доведя свое семейство до бедности, из гордости общаться с соседями перестал и даже не упоминал о них никогда. Молодые люди, случайно встретившись на летней охоте, не знали друг о друге ровным счетом ничего, но это не помешало им с первого взгляда воспылать взаимной любовью. За одной встречей последовала другая, вроде бы тоже случайная, а потом еще одна и еще… Влюбленным удалось снискать расположение Маргариты, почтенной дамы, неотлучно сопровождавшей девушку. Под ее благосклонно подремывающим оком расцветала юная любовь, так не похожая на прежние легкомысленные приключения Вита. Довелось и ему испытать всеволнение большого чувства: беспричинные радости и обиды, наполненные мечтаниями бессонные ночи, страх за свою любовь, о которой, к его изумлению, не догадывались окружающие. – Я люблю тебя и непременно стану твоей женой, – именно сегодня объявила Люция, протягивая к нему руки. Юноша радостно охнул и стал нежно целовать озябшие пальцы девушки, длинные, тонкие и слегка обветренные. – Наши отцы не столкуются, – наконец с горьким вздохом промолвил Вит. – Я же бедняк. Даже приличного коня не имею, хожу к тебе на свидания пешком. – Если наши отцы не столкуются, ты меня украдешь, – с беззаветной отвагой семнадцати лет постановила Люция. – Моя милая! Не пойдешь ни за кого другого? – Только за тебя! Большие темные глаза девушки сияли. Вит обнял ее с такой осторожностью, как никогда еще не обнимал ни одну девушку, – словно вещь неизмеримо драгоценную и хрупкую. Он вглядывался в любимое лицо с восторгом и обожанием. Ее шубка, вылинявшая и потертая, доставшаяся еще от бабки, казалась ему прекраснее любой парчи, воспеваемой бродячими певцами. Маленькие ножки в грубых юфтевых башмаках ступали уверенно и легко, словно обутые в бархат. – Украдешь меня, – повторила она. – Я все придумаю, вот увидишь. – Как ты пожелаешь, так и сделаем, дорогая. Почтенная Маргарита, продрогшая и утомленная, кашлянула, намекая, что пора по домам. Разошлись, с трудом оторвавшись друг от друга и назначив новую встречу на следующую неделю. Вит летел домой, как на крыльях, а тут на тебе – пристают с отъездом. И отчего это Амальрику вздумалось именно сейчас зазывать его в Святую землю?! Вит слушал матушку рассеянно, посмеиваясь про себя, уверенный, что стоит ему произнести имя Люции, она первая воспротивится его отъезду, а присланные Амальриком деньги тут же пустит на приготовления к свадьбе. Сам начисто лишенный расчетливости, Вит тем не менее понимал, какими глазами посмотрит мать на возможность его брака с дочкой господ де Сен-Круа. Такой союз восстанавливал утраченное достоинство рода Лузиньянов, а о чем, как не об этом, не переставала мечтать втайне госпожа Бенигна? Да-да, стоит только произнести имя! Но юноша не спешил пускать в ход это надежное оружие, ему не хотелось делать свое чувство предметом семейных выкладок и расчетов. Он продолжал отговариваться пустяками: – Пускай Бертран едет, его черед выходить в люди. – Оставь Бертрана в покое! – гневно прикрикнула госпожа Бенигна на сына. – Поедешь ты, именно тебя велит прислать Амальрик… – Обойдется! – Ты поедешь, ибо такова наша родительская воля. Понял? – Неужто вы способны меня приневолить, матушка? – недоверчиво спросил он. – Приневолю! – решительно отвечала мать. – И что же, мне ехать прямо сегодня? Она топнула ногой. – Не сегодня, но через две недели самое позднее. Он разразился громким смехом и привлек разгневанную мать к себе. Ишь как разозлилась его милая старушка, прямо из себя выходит. Ничего, сейчас поостынет, и он ей во всем признается. Пусть сама над собой посмеется. Госпожа Бенигна решила не поддаваться ласке сына. Она отступила от него на шаг со словами: – Поедешь через две недели. Я все тебе справлю, оружие, одежду… Хорошего коня купим на ярмарке в Пуатье… У юноши загорелись глаза. Коня!… Может, не признаваться ей, пока не купит? Явиться на следующее свидание с Люцией на коне, настоящим рыцарем… – А где же наш славный де Герс? – выкрикнул он, словно спохватившись. – Мне надо его порасспросить, что там делается, в Святой земле! И он резвым шагом двинулся прочь от матери. Госпожу Бенигну поведение сына ничуть не поколебало. Мальчишка не хочет ехать? Велика важность! Много его мнение значит. Велят ехать – поедет. Слава Богу, родители не обязаны считаться с капризами сыновей. Рыдать будет, в ноги ей упадет, все равно она не уступит… не уступит… Ведь для его же блага… Вит может стать королем… королем!… Госпожа Бенигна шептала это слово самой себе, наслаждаясь его звучанием. Между тем мрак вокруг нее сгущался. Надо идти домой. Пора ужинать. Но как появиться перед людьми? Амальрик наказал никому тайны не выдавать, а у нее по лицу видно, что произошло нечто необыкновенное. Перед тем как шагнуть на подворье, она остановилась под башней, прильнув к холодному камню разгоряченным телом, чтобы хоть немного успокоиться. И даже не заметила, что ищет успокоения у башни Мелюзины, которую привыкла опасливо обходить. Мелюзина, змеи, чары – все улетучилось из ее головы, кроме единственной волшебной мысли… Король… король… Ее сын – король!… Помазанник Божий, владыка судеб людских, обладатель короны и скипетра. Пение боевых труб, железные полки, лес стягов, канцоны трубадуров, устланная розами жизнь в неге, в холе, в сияющем свете; блистающий роскошью дворец, золотая посуда на столе, мантия с горностаем; толпы подданных, верные придворные, храброе рыцарство; кони в попонах с длинной бахромой, турниры и охоты, соколы в колпачках, пиры и забавы; всеобщее восхищение, слава и… прекрасная королева… В ушах госпожи Бенигны уже торжественно звонили колокола, возвещающие о коронации. Король… король… король… Глубоко вздохнув и прижав ледяные ладони к пылающим щекам, она двинулась к замку, стараясь идти обычной своей степенной походкой. В угрюмой и холодной трапезной сияющий от счастья Вит ласково уговаривал Бертрана: – Поезжай, поезжай, ты должен настоять, чтобы отправили тебя. Я ни за что не поеду. Сейчас по праву твоя очередь. – Как будто у меня есть какие-то права! – угрюмо пробурчал в ответ Бертран. – Да и о чем говорить? Тебя и спрашивать не станут, хочешь ты или не хочешь… – Уж я найду способ отговорить матушку, а отец послушается ее. – Даже если ты дома останешься, я все равно не поеду, разве что монахом, а молиться можно и здесь, – промолвил Бертран. Выглядел он еще более угрюмым и скособоченным, чем год назад. Он уже не старался держаться прямо. Все равно рыцарем ему никогда не быть. Подошла госпожа Бенигна, и все уселись за стол. Де Герсу поесть не удалось, пришлось рассказывать о своих приключениях, к тому же чуть ли не выкрикивая каждое слово, чтобы слышал глуховатый сеньор. Старый рыцарь интересовался королем и войском, капеллан храмами и святыми местами, госпожа Бенигна – молоденькой овдовевшей принцессой, а Вит все допытывался, не собирается ли Амальрик жениться? Старый оруженосец пребывал в немалом затруднении. Амальрик, чтобы залучить к себе брата, приказал расписывать все в радостных красках, а его, де Герса, мнение о иерусалимской жизни было совсем иным. Хуже всего обстояло дело с королем. Каждый из рыцарей и оруженосцев, прибывающий в Иерусалим, честью своей клялся не разглашать на старой родине правду о поразившей Балдуина IV беде – августейшей особе не подобает страдать таким недугом. Люди благородные, само собой разумеется, молчали, зато слуги, купцы, пилигримы вовсе не собирались держать язык за зубами, и весть о прокаженном короле быстро разнеслась по Европе. Уединенный замок Лузиньянов был, пожалуй, единственным местом, куда эта новость еще не просочилась, и де Герс изрядно потел, не ведая, можно об этом говорить или нет. С облегчением перешел он к описанию Храма Гроба Господня, королевского дворца и конюшен, устроенных в подземельях царя Соломона, а также святых прудов, Масличной горы и долины Иосафата. Рассказ его был выслушан всеми с большим интересом. Госпожа Бенигна не спускала с говорившего зачарованных глаз. Ей виделась голова сына в блистающей драгоценными камнями короне. На плечах – королевская мантия…* * *
– …Ага, значит, ты все-таки заимел коня! – радостно выкрикнула Люция при виде молодого Лузиньяна, выезжавшего из лесу на рослом гнедом жеребце. Конь, сбруя, седло, наряд всадника – все блистало торжественной новизной. Вит ловко соскочил на землю и с сияющим лицом устремился навстречу девушке. – Здравствуй, любовь моя! Приветствую вас, почтенная Маргарита! Да, я заимел коня. И не только коня. Поглядите, какой я красивый! И он с детским самодовольством крутанулся на каблуках. Люция захлопала от восторга в ладоши – таким он ей показался нарядным. – Ты стал похож на принца, а я – будто твоя служанка… Ладно, я тоже выряжусь на следующее свидание… Вот увидишь! Рассказывай, откуда ты взял коня! – О, престранная вышла со мной история, – таинственно начал он. – Ты знаешь, наверное, что в роду нашем имелась колдунья, бабка Мелюзина. Так вот она… Девушка испуганно схватила его за руку и спешно перекрестилась. Вит весело рассмеялся. – Не бойся, моя радость! Не чарами Мелюзины появился у меня Гнедой. Мой старший брат, что служит при иерусалимском дворе, прислал нам кучу денег, и матушка третьего дня купила мне его на ярмарке в Пуатье. А в придачу еще много всяких обновок… – На нашу свадьбу? – зарумянившись, спросила девушка. – На нашу свадьбу я оденусь еще лучше! – заверил он ее горделиво. Молодые люди крепко взялись за руки, словно прямо отсюда собирались двинуться к алтарю.* * *
– С какой это стати ты напялил на себя новую одежду? Драть по лесу такое дорогое сукно! – выругала госпожа Бенигна сына. Она поджидала его, как и десять дней назад, расхаживая по берегу. На сей раз Вит пренебрег мостиком и с шумом пустил своего скакуна в воду. Вздымая фонтаны брызг, Гнедой выскочил на размякший берег. Услышав голос матери, всадник остановился и слез с коня отнюдь не так охотно и резво, как на только что состоявшемся свидании. – Отдашь холопам коня, переоденешься и придешь в мою комнату, – приказала мать. – Я сам его вывожу и оботру соломой, а то он слишком разогрелся. – Нет! Чистить коня – не твоя забота. – С каких это пор? – чуть было не выкрикнул Вит. Разве не выполнял он всех хозяйственных работ наравне со слугами? А тут вдруг собственного Гнедка не дают похолить! – Отдай повод конюху! – повторила мать голосом, не терпящим возражений. – Мне надо срочно поговорить с тобой. Юноша пошел к замку угрюмый, ведя коня за собой. Начинается! Сейчас опять будут приставать с отъездом. Ничего не поделаешь, придется рассказать о Люции. Люция! Она любит меня, мое сердечко, думает, что я готовлюсь к свадьбе…* * *
– Чтобы ты не смел мне пачкать новую одежду до отъезда, – властным тоном заговорила госпожа Бенигна, как только в ее душную комнатенку вступил сын, из принца снова превратившийся в обтрепанного деревенского парня. – Впрочем, мы не станем медлить. Все уже готово. Я решила, что лучше всего тебе поехать во вторник, в день Ангелов-хранителей, это самое подходящее время. В воскресенье капеллан отслужит напутственный молебен… Госпожа Бенигна говорила нарочито твердым тоном, чтобы заглушить собственную тоску: она не представляла жизни без своего любимца и вместе с тем страстно желала его отъезда. Вит, ласково обняв мать, промолвил: – Матушка, я должен вам кое в чем признаться. Давно пора было это сделать, но я не смел. Простите… Я не могу поехать в Святую землю, потому что собираюсь жениться на Люции де Сен-Круа. Я люблю ее, и она отвечает мне взаимностью… Он отступил на шаг, выжидательно глядя на мать. Госпожа Бенигна покраснела от гнева. – Ты что, ошалел?! – прошипела она. – Жениться задумал?! Без нашего дозволения? Без родительского благословения? Мы тебе велим ехать, а ты – жениться? Он подумал, что мать не расслышала, и повторил с нажимом: – На Люции де Сен-Круа! – Не дозволю! Поедешь, куда велено! – закричала она в ответ. – Люция. Люция!… Да что в ней, в твоей Люции?… Тоже мне, великий род – де Сен-Круа!… Только и знают, что надуваться спесью! Думаешь, это честь для нас? Такую ли мы тебе жену сыщем! Такую ли!… Люция! Простая неученая девка из деревни!… Вит глядел на мать с искренним испугом: что с ней? Боже правый, не иначе умом тронулась! – Матушка! – встревоженно заговорил он. – Почему вы не хотите, чтобы я оставался дома? Почему гоните меня на чужбину? – Замолчи! Ничего ты не понимаешь! Она закрыла лицо руками, дрожа от обиды и злости. Что правда, то правда. Если бы не затея Амальрика, весть о взаимной любви Вита и Люции наполнила бы ее горделивым счастьем… Это правда… Но теперь, теперь она ни за что не согласится на такой союз. Ни за что! Вит должен поехать и поедет. Она не уступит. Умрет тут от тоски, но он станет королем… Отняв руки от лица, она поглядела на сына властным взглядом. Он стоял, пораженный ее нежданным отпором. Губы у него дрожали, как у ребенка, казалось, он вот-вот расплачется. Усилием воли госпожа Бенигна подавила в себе жалость и жестким тоном произнесла: – Поедешь во вторник. – Чем я провинился перед вами, матушка? Почему вы хотите сделать меня несчастным? – Я тебя – несчастным?… Глупыш! – Матушка, сжальтесь надо мной! На коленях вас умоляю!… Не будет мне на чужбине счастья!… Святыми мучениками вас умоляю, святыми нашими покровителями, смилуйтесь надо мной!… Не отсылайте из дома!… Сердце ее разрывалось от жалости. Может, сказать ему? Пусть узнает и пусть поймет. – Поклянись честью никому не выдать того, что я тебе сейчас скажу! Он поклялся. – Наклонись. Он согнулся чуть не вполовину, и она зашептала ему на ухо: – Амальрик вызывает тебя в Святую землю, потому что там ты можешь сделаться королем! – Что-что? – он даже фыркнул, несмотря на все свое горе, так смешны ему показались слова матери. – Тихо ты, молчи! Ты же поклялся! Можешь сделаться королем… Без всяких шуток… Та самая вдова, принцесса Сибилла, о которой рассказывал де Герс, возьмет тебя в мужья, ежели влюбится… Женщины там выбирают мужей по своему хотению… Таков обычай… Тот, кого выбирает в мужья принцесса, делается королем… Был уже такой случай… Приехал туда один рыцарь, бедный, но молодой и красивый, так за него вышла княгиня… Она оглядела сына горделивым взглядом и вполголоса присовокупила: – Не думаю, чтобы он был красивей тебя… Вит внимал ей с возрастающим изумлением и даже страхом: мать, без сомнения, тронулась умом, да и Амальрик тоже… Надо же, выдумать такую блажь! – А батюшка знает об этом? – осторожно спросил он. – Никто не знает, кроме Амальрика, де Герса и нас с тобой. Помни, что ты поклялся! Отец рад, что ты едешь добывать рыцарский пояс, так что на него не рассчитывай. Уж он-то тебя не поддержит. – Я ни на кого не рассчитываю, но принцесса ваша мне не нужна. Я люблю Люцию де Сен-Круа и женюсь только на ней! – несвойственным ему решительным тоном объявил Вит. Госпожа Бенигна вскинула голову. – Хватит! Чтоб больше и поминать не смел о Люции! Поедешь во вторник и сделаешь все, что скажет Амальрик! А теперь пошел прочь! – Матушка, матушка! – застонал юноша, пытаясь ухватить ее за руки. Она резко оттолкнула его. Ну нет, она себя разжалобить не позволит! – Матушка, на горе вы меня посылаете!… Она вытолкала его за порог и захлопнула дверь. И лишь оставшись одна, дала слезам полную волю.* * *
Вит с минуту стоял под дверью, онемев от отчаяния. Жизнь, всегда такая простая и легкая, покатилась вдруг кувырком, увлекая его в пропасть. Мать и старший брат сошли с ума, это понятно. Но Люция, что скажет Люция? Из-за их дури он может ее потерять! Что делать, святой Мамерт, что делать? Не ехать? Да, не ехать! Однако бунт был не в натуре Вита, человека доброго и мягкого, и потому желание воспротивиться родительской воле быстро сменилось обидой. Де Герс выслушал его жалобы с величайшим сочувствием. – Хотя и наказывал мне благородный рыцарь Амальрик говорить об иерусалимском крае только хорошее, – признался старый оруженосец, – но я так скажу: пускай мне это зачтется за грех, а здешняя пятница милее, чем тамошнее воскресенье, прожитый тут день лучше целого тамошнего года… И богатства ихнего не захочешь… – Что делать? Что делать? – ломал руки юноша. – Ехать вашей милости, конечно, придется, родительскую волю не переломишь. А приехавши, упросить брата, чтобы назад отправил. С братом столковаться легче, чем с родителями. Рыцарь Амальрик поймет… Заработаете пояс, вернетесь рыцарем… – Но Люция, Люция, – повторял Вит, – что она обо мне подумает? Что я от нее убегаю!… Я – от нее!… Хотела, чтобы я ее украл… Сама сказала… А я вместо этого уезжаю… – А ей вы, ваша милость, скажите, что едете Святому Гробу поклониться и заслужить пояс, чтобы легче было дозволение от ее батюшки получить. – Я уеду, а ее выдадут за другого… – А может, не выдадут? Возвращайтесь быстрее… – Бог вас наградит, де Герс, за разумное слово. Так и поступлю. А на принцессу и глядеть не стану, чтоб она провалилась в самое пекло! – Тьфу, тьфу! – одобрительно сплюнул старик, но для порядка добавил: – Не годится христианину призывать на подмогу пекло.Глава 9 ПРИНЦЕССА СКУЧАЕТ
Замок Кирхарешет или Кир-Моав, среди сарацин известный под названием аль-Акрад, представлял из себя неприступную крепость. Все эти названия обозначали одно – стена, камень, твердыня. Хоть замок Кир-Моав и был небольшим и не имел ни трапезной в двести локтей длиной, ни многоярусных подземелий, ни легких ажурных галерей, он все равно производил неизгладимое впечатление своей мощью и выразительной цельностью. Воздвигнутый на рубеже с пустыней исключительно в целях обороны, он, тем не менее, имел нарядный вид благодаря изящным аркам, резным дверям и богатым капителям на окружавших внутренний двор колоннах. Вывезенные из Европы суровые законы романского зодчества вобрали в себя много нового и словно помягчели от жаркого дыхания Востока. Тяжеловесные колонны покрылись каменными кружевами, сплетенными из стеблей и листьев, мягкие полукружья сводов стали стрельчатыми, а приземистые пилоны постройнели и устремились ввысь. Побывавшие в Святой земле паломники среди прочего привозили домой и восторженные описания ее дивных храмов и твердынь, чем оказали неоценимую услугу европейской архитектуре. Однако новый хозяин Кир-Моава, рыцарь Ренальд де Шатильон, был совершенно безразличен к его красотам. Вступив несколько недель назад во владение крепостью, он не стал заглядываться на каменные цветочки, а тщательно проверил боевую готовность здешних воинов, мощь стен и запасы оружия, продовольствия и воды. – Можно подумать, дорогой супруг, что вы готовитесь к войне, – с кокетливым упреком заметила сопровождавшая его в прогулке по крепостным стенам недавно обвенчавшаяся с ним Стефания. – К войне надо быть готовым всегда, – недовольно буркнул он в ответ. Рыцарь де Шатильон не таил гнева по поводу порядков, царивших в крепости. Что проку в тысячном гарнизоне, коли разленившийся сброд делает, что хочет, напрочь позабыв о солдатском ремесле? Суровый сенешаль Плантон де Милли, прежний владелец замка, погиб два года назад при загадочных обстоятельствах, и бразды правления перешли к Стефании, которой помогал начальствовать ее сын от первого брака Онуфрий де Торон, изнеженный мальчишка со смазливым личиком. Ничего странного, что гарнизон разболтан. Что ж, теперь узнают они твердую руку – и солдаты, и сарацины, все! Срам глядеть на мусульманские караваны, осмеливающиеся появляться так близко, что с башен замка можно пересчитать верблюдов и коней. Недели не проходит, чтобы караван паломников не протащился мимо – на юг или на север, в Мекку или из Мекки. Ноздри нового владельца замка трепетали, гневно щетинились короткие седоватые усы. Пока что приходится терпеть и спускать язычникам, но погодите! Скоро он заберет в кулак своих распущенных людишек, сделает из ленивых блюдолизов настоящих ратников, тогда посмотрим! Стефания бросала на грозного супруга косые взгляды. Эта дама, полноватая, со светлыми, наполовину седыми волосами, была когда-то настоящей красавицей, души не чаявшей в Ренальде де Шатильоне, пылком любовнике и удалом рыцаре. Долго хранила она в памяти его крепкие объятия и отвагу, с какой смельчак карабкался по стенам, чтобы проникнуть ночью в ее опочивальню. После смерти своего второго мужа, сенешаля де Милли, Стефания не без любопытства ожидала, кого король назначит ей в мужья и в начальники осиротевшей крепости. И тут, как по заказу, подоспел Ренальд: весть о его возвращении из плена пробудила в ней былые чувства. Не давая им остыть, великий магистр храмовников быстренько свел прежних любовников и обвенчал их, так что Стефания даже заметить не успела перемен, происшедших с ее рыцарем за шестнадцать долгих лет. Опомнилась она лишь после свадьбы и мучилась теперь раскаянием – к сожалению, запоздалым. Да, весьма неосторожно было с ее стороны так спешить с замужеством. А всему виною Одо де Сент-Аман – это он ее уговорил и все устроил. Только теперь ей стало приходить на ум, что великий магистр благословил этот брак вовсе не из приязни к ней, а назло Раймунду из Триполи, который рыцаря де Шатильона не выносил. И Ренальд тоже хорош! Обхаживал ее лишь для того, чтобы замком завладеть, а она сдуру взяла в мужья бездомного бродягу с тяжелым нравом. Да, точно, она, Стефания, поддалась на обман и пала жертвой коварных расчетов двух мужчин, которым совершенно безразлично ее счастье. Она так глубоко ушла в свою обиду, что не услышала, как супруг обратился к ней, и очнулась лишь тогда, когда он ее хорошенько тряхнул. – И ты на ходу спишь? Потому и челядь разболталась, что хозяйка бродит по усадьбе осоловелая… Но я с вами разберусь, ох, разберусь… Стефания взглянула на него с укором. – Когда-то вас моя рассеянность не раздражала. Он небрежно отмахнулся от нее: – Ба! Когда-то! Нашла что вспоминать! Уж не надеешься ли ты, что я и в постели начну резвиться с тобой, как когда-то? Стефания пристыженно поникла головой. Да, она надеялась, и именно в надежде на любовные утехи взяла его в мужья, принеся в приданое один из лучших замков королевства. Но говорить об этом не годилось. – Эти глупости я давно уже выкинул из головы, – строго предупредил ее супруг. Она чуть не разревелась от горя и обиды. О таких вещах до свадьбы объявляют! Вот уж повезло ей с третьим браком! И зачем ей надо было так торопиться? Сидела бы спокойненько в своем замке, сама себе госпожа, покуда король и Раймунд, князь Триполи, не выбрали бы ей в мужья достойного рыцаря, степенного и благородного, который бы ее ценил и уважал. А с Ренальдом жизнь, судя по началу, предстоит неприятная, и никакого утешения ни от кого не жди. «Эти глупости я давно уже выкинул из головы». Так и отрезал! И кто бы мог подумать?… Единственная надежда, что она и третьего супруга переживет, и на закате жизни ей, быть может, все же улыбнется счастье. По законам королевства благородная наследница укрепленного замка обязана до шестидесяти лет иметь при себе супруга, годного для битвы. А ей только сорок пять. Женщины, если благополучно минуют возраст материнства, живут куда дольше мужчин. Здоровье берегут, не дерутся в битвах и друг дружку не калечат из-за одного глупого словца. Ренальд, неосторожный, вспыльчивый, драчливый, долго не протянет, наверняка его убьют в первой же настоящей битве. До седых волос он дожил только потому, что шестнадцать лет сидел под крепкой магометанской стражей… Следуя течению своих мыслей, она спросила будто ненароком: – Говорят, что господа бароны едут спасать Боэмунда из Антиохии… Вы, конечно, примете участие в походе? – Вот еще! – возмутился он. – Чтобы я стал спасать антиохийцев и этого задаваку Боэмунда? У меня дел полно и в замке: надо же расшевелить твоих лентяев, приучить их к оружию… А сарацинов и тут хватает. Нечего их искать в Алеппо. Стефания с глубоким сожалением вздохнула.* * *
Король явился на совет укутанный до самых глаз. Ренальд из Сидона толкнул локтем сидевшего с ним рядом Амальрика. – Поглядите, все лицо закрыто, наверное, нос начал подгнивать. Амальрик промолчал в ответ – в последнее время он постоянно был угрюм и чем-то озабочен. В зале уже собрался цвет рыцарства: великие магистры обоих орденов; архиепископ Тирский Вильгельм; крепко надушенный мускусом патриарх Ираклий; епископ из Вифлеема Обер; Раймунд из Триполи; Жослен де Куртене; Балдуин Ибелин из Рамы и брат его Ибелин Балиан; дю Грей; де Бруа, женившийся на мусульманке; Рауль де Музон, целый гарем будто бы державший; Роже де Гранпре и другие. На сей раз совет собрался по делу Боэмунда III из Антиохии. Беспечный и ленивый, но задиристый князь два месяца назад затеял войну с султаном Алеппо Имад аль-Дином. Затеял совершенно напрасно, ибо султан был из рода Зенгидов и терпеть не мог узурпатора Саладина, а значит, был франкам естественным союзником, которого надлежало всячески поддерживать, а не побивать. Таково было мнение короля и Раймунда III, но Антиохия являлась удельным княжеством, так что Боэмунд мог поступать по собственному усмотрению. Надеялись, что по врожденной лености князь быстро к своей затее охладеет, но к нему пришла нежданная подмога в лице Филиппа Фландрского. Гость-пилигрим, обойденный честью на выборах жениха для Сибиллы Иерусалимской, попомнил королю обиду и воспользовался первым же случаем, чтобы отомстить. Громко порицая не подобающее якобы христианину деление язычников на союзников и врагов, он двинул свои полки на помощь князю Антиохии. Война разыгралась не на шутку. На помощь Имад аль-Дину явился из Моссула брат – Из аль-Дин-Масуд. Несмотря на это, войска франков были достаточно сильны, чтобы захватить Алеппо, но все дело портили стоявшие во главе воинства вожди. Уверенные в победе, Боэмунд и принц Филипп в ожидании триумфального входа в Алеппо проводили время в пирах, игре в кости и охоте, с которой их чуть не увели в неволю люди султана. Латинские войска потерпели сокрушительное поражение. Давно уже миновали те героические времена, когда тысяча франков обращала в бегство пятьдесят тысяч мусульман. Из осаждающих Боэмунд с Филиппом превратились в осажденных. Перепуганные и сразу потерявшие весь свой гонор и спесь, незадачливые вояки выслали к королю гонцов с просьбой о незамедлительной помощи. Их отчаянный призыв и стал причиной созыва нынешнего совета. Собственно говоря, советоваться было не о чем. Рыцари и добрые христиане просили помощи для одоления сарацин, и тут всякая политика замолкала. Почитай впервые Раймунд из Триполи и Одо де Сент-Аман сошлись в едином мнении. Речь велась о рыцарском достоинстве и чести Креста. К тому же, если бросить принца Фландрского на произвол судьбы, он всю Европу взбаламутит жалобами на трусость и жестокосердие иерусалимских баронов. Делать нечего, придется расхлебывать заваренную двумя глупцами кашу, придется выступить походом на Алеппо, причем не мешкая и с большими силами, дабы поскорее покончить с этим делом. С большими силами… В этом-то и была загвоздка. Коли рыцарство двинет все свои полки, королевство останется совсем незащищенным. – Королевству опасен только Саладин, а с ним у нас мирный договор, – доказывал Раймунд из Триполи. – Саладин не станет рушить договора первым, – произнес король голосом, глухо звучавшим из-под повязки. – Но где порука, что кто-либо из наших благородных баронов не учинит набега на его земли, как то было прошлой весной при Иаковлевом Броде, когда схватили Ибелина? – Если все двинутся походом, то озорничать на границах станет некому. – Де Шатильон не желает участвовать в походе. – Да хранит Господь Святую землю! – простонал Раймунд из Триполи. – Это точно? – Точно. – Ну, тогда пропало дело. – Не пропало, – отозвался Вильгельм, архиепископ Тирский. – Я поеду в Кир-Моав и не двинусь оттуда, пока поход не завершится. Постараюсь растолковать де Шатильону положение дел в нашем королевстве. Думаю, мое присутствие удержит сего рыцаря от безумных выходок. – Без сомнения, удержит, ваше преосвященство. С Божьей помощью не попускайте самовольству. Значит, улажено. Тогда десять рыцарей мы оставляем для охраны короля, остальные могут выступать немедля. Да хранит Господь Святую землю! – Да хранит Господь Святую землю! – дружно прокричали рыцари, срываясь с мест. Оставалось обговорить обычные в таких случаях подробности. Место и время сбора согласовали быстро, зато с охраной короля возникли трудности. Рыцари рвались в поход. Сидеть в Иерусалиме во время настоящей рати! И так уже наотдыхались. Трехлетний мир (если не считать постоянных мелких стычек на границах) сильно всем надоел. У всех глаза разгорались при мысли о далеком походе и о захвате богатого Алеппо. В кои-то веки разразилась настоящая война – и на тебе: прозябай в охране! Храмовников и госпитальеров даже уговаривать не пытались – этим всегда подавай только драку. После долгих пререканий согласились наконец остаться: Ренальд из Сидона, де Музон, де Гранпре, старый Онуфрий де Торон и Амальрик де Лузиньян. Последний со свойственной ему учтивостью промолвил: – За честь почитаю охранять особу нашего государя, но взамен осмеливаюсь просить князя Раймунда из Триполи взять под свое начало моего младшего брата. – У вас есть брат? – удивился Раймунд. – Прибыл сюда несколько дней назад. Совсем юнец. Грезит о битвах и рыцарском поясе. – С удовольствием возьму его к себе. Амальрик молча поклонился. Брат доставлял ему множество хлопот. В душе он уже проклял ту минуту, когда решил послать де Герса с поручением к матери. Истратил все свои накопленные деньги, а толку? Вит заявился на прошлой неделе, донельзя разгневанный на брата за его затею, о которой, конечно же, проболталась мать (ох, уж эти женщины!), и сразу же запросился обратно домой. Первая их беседа протекала бурно. – Я не бродячий рифмоплет, высматривающий красоток побогаче! – ярился Вит. – И уж, во всяком случае, не уличная девка, чтобы так гнусно мной распоряжаться! – Тише, тише… Ради Бога, замолчи! – умолял брата не на шутку перепуганный Амальрик. – Да не ори ты! Услышат люди, слуг полон двор… – Да что мне люди! Я… – Молчи, осел, и слушай тех, кто поумнее. Сейчас я все объясню… Тебе там наплели с три короба, а ты поверил… Старик де Герс совсем ополоумел… – Ну да? – снова разъярился Вит. – Так значит, де Герс от себя с три короба наплел? Не по твоему указу? – Ну, не совсем так… Я только… – Без уверток! Отвечай: по твоему указу или нет? Ежели не по твоему, так я ему задам! Где он? – Оставь его в покое. Ну и длинны же бабьи языки! А ты, братец мой, дурак… Я тебя считал за парня с головой, хотел вывести в большие люди, ты же, точно сорока верещишь, слова мне вставить не даешь, не позволяешь объяснить… – Чего тут объяснять? Ты приволок меня сюда, возомнивши, что на меня позарится принцесса и ради меня жениху откажет. Я знаю уже, что у принцессы есть жених и… Но докончить фразу юноше не удалось, ибо к нему подскочил Амальрик – смертельно бледный и переставший от гнева владеть собой. – Придется мне заколоть тебя кинжалом, если ты кричать не перестанешь!… Погубишь не одного меня, но и себя в придачу, так и знай! Слуги крутятся везде, не дай Бог кто-нибудь услышит… Так вот: все твои бредни – ложь! Я ничего подобного не говорил и никаких гонцов не посылал. Де Герсу тут не глянулось, он от меня сбежал домой и в оправдание наговорил вам с матерью всякого вздора. Вольно ж вам было верить!… Ха-ха-ха!… Он притащился за тобой сюда, чтоб с твоей помощью вымолить мое прощение. – А деньги? Деньги, что ты прислал? – не поддался Вит обману. Амальрик пропустил вопрос мимо ушей. – Ладно, хватит разговоров! Знаться с тобой я больше не желаю. Не место тебе в Святой земле. Можешь возвращаться домой немедля, хоть завтра, хоть сейчас… – Ну уж нет! Раз я сюда попал, то должен заработать пояс. Без рыцарского пояса обратно домой не вернусь. – Я силой тебя на корабль втолкну! Не дозволю, чтобы ты здесь своим глупым языком трепал!… – Больно мне надо языком трепать! Чтобы надо мной тут все потешались? – Пожалуй, верно, потешатся, – злобно согласился Амальрик. – Уфф! Такой пот меня прошиб со страха, что аж рубашка взмокла… Ладно, ежели ты обещаешь языка не распускать, то я согласен тебе помочь. Тут как раз подходит хороший случай: рыцарство отправляется в поход – выручать Боэмунда Антиохийского. К ним пристроиться, так можно не только отличиться и пояс заслужить, но и прихватить богатой добычи. – Постарайся, чтоб взяли меня в поход, и я на тебя зла держать не стану. Больше мне ничего не надо. Добуду пояс – и сразу же домой! – Куда хочешь, только с глаз моих долой! – Не волнуйся. Я и дня лишнего тут не задержусь… Но предупреждаю: начнешь тянуть меня на королевский двор или к каким-нибудь бабенкам, сразу все выложу… Понял? – Чтобы я тянул куда-то такого дурня?! Боже упаси! Буду счастлив узнать, что ты отсюда убрался. – Вот и хорошо, оба останемся довольны. Этим и закончился их разговор. Братья расстались обиженные друг на друга. Крепко досталось и старику де Герсу. – Вы что, рехнулись, обо всем докладывать мальчишке? – наскочил на оруженосца Амальрик. – Не понимаете, какой беды он может натворить? – Я, ваша милость, ни о чем таком не говорил, проболталась благородная госпожа Бенигна. – Надо было ей сказать, как я велел: чтобы никто, кроме нее, не знал причины… – Так я и сказал, как вы велели. Только ваш брат никак ехать не хотел, и благородная госпожа во всем ему призналась. – Вот еще! Ехать не хотел! – фыркал Амальрик, бегая взад и вперед по комнате. – Да кто ж такого сопляка спрашивает о хотенье?! Снарядить в путь и вытолкать из дома… У меня теперь минуты спокойной не будет!… Де Герс! – Слушаю, ваша милость. – Я надеюсь пристроить его в отряд Раймунда из Триполи. Вы поедете с ним. Щенок ни разу еще в битве не был. Следите, чтобы он сраму роду нашему не учинил… – Нет, ваша милость, сраму он не учинит, будьте покойны. – По возможности не отступайте от мальчишки ни на шаг. Следите за каждым его словом. Постарайтесь никого к нему не допускать, чтобы он ни с кем особо не сближался и в длинные беседы не вступал… Такого болвана первый же встречный вокруг пальца обведет… Выболтает все, как на духу… Глядите, вы мне головой отвечаете за это… Дав старику указания, Амальрик немного успокоился, а когда Раймунд согласился взять Вита к себе, соблаговолил побеседовать с братом без всякой злобы. – Ни к мечу, ни к копью ты не привычен, – толковал он, – но беда невелика, я думаю, в этом ты поднатореешь быстро, у Лузиньянов способность к бою в крови… Все делай так, как велит де Герс. Слушайся его, как отца. Понятно? Поначалу людям на глаза не суйся и копьем впустую не размахивай, это тебе не телок в коровник загонять. А вот когда почуешь, что оружие тебе послушно, тогда лезь вперед и рубись без страха, и только старайся, чтобы начальники тебя заметили. Добудешь себе пояс – и без промедления езжай сюда. Я вздохну свободно, только когда отошлю тебя домой… Да, на будущее мне наука, как заботиться о своем семействе… Столько денег на тебя спустил, подумать страшно! И вот благодарность! Понадеяться ни на кого нельзя… Биту сделалось неловко, что он не оправдал ожиданий брата. – А почему ты сам не женишься на этой самой… – Молчать! – грозно цыкнул Амальрик. – Да я же имени не называю! И с чего ты стал такой пугливый? Я только хотел спросить, почему ты не позаботишься о себе самом? Ведь ты же такой видный, умный, не то что я, и знаешь толк во всяком обхождении… – Ну, – пожал плечами Амальрик, – со мной не так все просто. Он замолчал, не желая объяснять брату вещей, которых этот молокосос все равно не уразумеет. Собственные шансы Амальрик тщательно обдумал. Добыть корону для себя? Ба! Не было таких стараний, каких бы он на это дело пожалел. Этот расчетливый и трезвый человек был снедаем немалым честолюбием, но основной чертой его характера являлся здравый смысл, и посему он никогда не замахивался на невозможное. А что невозможное вдруг станет возможным – он не верил. Да, из истории известны безумцы, посягавшие на невозможное и дерзко менявшие свою судьбу. Но такое случалось давным-давно. Ныне надлежит опираться лишь на расчет. Точнейший расчет должен распоряжаться жизнью. Точнейший расчет отсоветовал ему добиваться руки принцессы для самого себя. Да, он собою недурен, но и только, ничего особенного, не то что красавчик Вит, похожий на сказочного принца. К тому же он, Амальрик, стал здесь уже своим, привычным, в нем не было обаяния новизны, Сибилла привыкла к нему, как к завсегдатаю их дома. При таких условиях влюбить в себя женщину чрезвычайно трудно. …А Вит, только захоти он… Только захоти… Королевским братом сделаться совсем неплохо… Конечно, править вместо Вита стал бы он, Амальрик, тут потребна голова… И как знать?… Может, удалось бы взять в супруги порфирородную вдову Марию Теодору?… Дама еще красива, нрав пристойный… Наверняка прискучило ей долгое торжественное вдовство… За простого рыцаря идти невместно, а за королевского брата можно и пойти… Тем более он, Амальрик, Марии Теодоре по душе… Учтивый, не буян, не выпивоха… За него пошла бы… Лузиньянам породниться с василевсами!… Один брат в королях, а другой – в супругах у порфирородной дамы… …Вит! Только захоти он – и все стало бы возможным… В анналах описаны и не такие случаи… Он, Амальрик, все верно рассчитал… …И подумать только, вернейшие расчеты рушатся из-за дури сопляка!* * *
Патриарх Ираклий благословил отбывающее в поход рыцарство Святым Крестом. Огромный золотой реликварий блестел на солнце и переливался драгоценными каменьями. Впереди, как всегда, ехали госпитальеры. За ними развевался черно-белый стяг рыцарей Храма, трепетал на ветру, бился о шишаки великого магистра Одо де Сент-Амана и заместителя его Жерара де Ридефора. Конские копыта звонко цокали по каменной мостовой, пробуждая эхо под сводами Яффских ворот. За храмовниками скакали остальные рыцари, впрочем, далеко не все – многие собирались присоединиться к рати по дороге. За отъезжающими с шумом захлопнулись Яффские ворота, их заперли, оставив для входа лишь небольшую, боковую калитку. Начальник городской стражи Жерар д'Авесн, взяв с десяток своих людей, двинулся в объезд города, дабы показать иерусалимской черни, вечно склонной к бунту, что не все войско ушло в поход и есть кому поддерживать порядок. Объехав весь город, он вернулся на свой обычный пост в Давидовой башне. На Иерусалим навалилась тишина, прерываемая лишь криками уличных торговцев да заунывною мольбою паломников, на коленях ползущих по Крестному Пути. Архиепископ Тирский Вильгельм уже отправился в Кир-Моав. Король не покидал своих покоев и никого к себе не допускал, братья-лазариты были единственной его связью с миром. Во дворце вдовствующей королевы Агнессы, в опочивальне, глядевшей окнами на долину Иосафата, под неусыпным оком бабки гугукал в колыбели младенец, сын погибшего Вильгельма де Монферрата. Тоскующая и угрюмая, слонялась по дворцу принцесса Сибилла. Нет, как ни верти, жизнь обошлась с нею жестоко! Та самая жизнь, к которой она так стремилась, о которой так мечтала в монастыре! Что она ей дала? Три месяца счастья, всего-то! Брак с красивым и влюбленным в нее Вильгельмом был и правду счастьем, но три месяца пролетели, как одно мгновение. А потом? Вдовье платье, затворничество, роды. А как только минет вдовий срок, ступай замуж за Ибелина, порядочного, спору нет, но невыносимо занудного. Ибелин… Было время, когда он ей даже нравился, но теперь Сибилла чувствовала к жениху все возрастающую неприязнь. Тем только и хорош, что не докучлив. Показался на глаза всего два раза: после своего приезда и совсем недавно, когда приходил прощаться перед походом, – сдержанный и до крайности серьезный. Глаза преданные, как у собаки, в голосе настоящее волнение, но зубы, ох уж эти выбитые зубы! В разговоре шепелявит и брызгает слюной. И такого выбрали ей в мужья! И до брака всего три месяца осталось! Прокаженный братец, полудохлый их король, говорил ей: «Многим приходится жертвовать для блага королевства…» Да какое ей до королевства дело?! Она в принцессы не просилась! Она хочет жить… жить счастливо, как любая женщина… Жить, как в те три месяца с Вильгельмом, злополучным супругом, погибшим под скалой… Ей девятнадцать лет, она красива. Жить! Жить!… Не находя себе от скуки места, принцесса подсела к фрейлинам, занятым старомодным делом – вышиванием на пяльцах. Они толковали об отъезде рыцарей, о золотом реликварии, о прекрасных скакунах. – …А рыцарь Ибелин то и дело поглядывал на наш дворец, – лукаво промолвила хорошенькая и веселая Катрин де Ла Хей. – А рядом скакал рыцарь де Лузиньян… – Милочка, тебя подводят глазки, – рассмеялась на ее слова Сибилла. – Рыцарь де Лузиньян не участвует в походе, он остался в городе. – Нет, принцесса. В городе остался Амальрик, а я говорю про его брата, что сюда совсем недавно прибыл… – Брат? Еще один де Лузиньян? Даже не слыхала. Ну и каков он? – Совсем молоденький, а уж красив, точно херувим! В доспехах да на коне – вылитый святой Георгий… Никто из рыцарей сравниться с ним не мог… – Правда? Отчего же Амальрик нам ни разу его не показал? – Наверное, из зависти, – предположила темноволосая Моника д'Авесн. – Боится, что брат его обгонит в успехах у дам… – Верно, верно. Мужчины так тщеславны. Сибилла зевнула во весь рот. В комнату вошла Агнесса с внуком на руках. Развившиеся пеленки волочились по полу. Младенец кричал, а бабка что-то нежно ворковала, потряхивая головой и вытягивая губы в трубочку. – Нет, ты только погляди, какое чудо! – взывала она к дочери. – Сразу видно, что ребенок и по матери, и по отцу королевской крови… Зайчик мой маленький, мой принц золотой… – Где няньки? – разгневалась Сибилла. – Житья от его ора нет… – Не жалей ему грудей, голубка, вот и не будет ора… Он же голодненький, бедняжка, погляди, как кулачок сосет… Сокровище мое… Мы затем и пришли к тебе, чтобы ты нас покормила… Сибилла с неохотой уселась на низенькую софу и взяла ребенка. Вынимая округлую белую грудь, вновь почувствовала прилив недавней обиды. На что уходит красота? На ребенка? На Ибелина? Рожай, корми. Жизнь опостылела и люди тоже. Любезный Лузиньян не лучше прочих: вызвал к себе красавца брата и от всех скрывает, а ей так скучно, скучно, скучно…* * *
Закинув голову кверху и устремив глаза на украшенный резьбою кедровый потолок, поэт исполнял свою песнь, словно позабыв об окружающих. Это был не просто странствующий бродяга, а знакомый с латынью ученый человек, которого допускали в самое изысканное общество. Он похвалялся, что во Франции не осталось замка, равнодушного к его искусству, и песнями его не гнушались даже короли. Виола испускала сладостные звуки, еще сладостней звучал голос самого поэта. Вдовствующая принцесса Сибилла, единокровная сестра ее принцесса Изабелла, супруга Ренальда из Сидона Марфа, Катрин де Ла Хей, Моника д'Авесн и другие придворные дамы слушали чужеземца с немалым любопытством, ибо воспевал он всем известную любовь рыцаря Рудо де Блэа и прекрасной Трипольской княгини Годерны, дочери короля Балдуина II и матери Раймунда III. Поэт, восхитительно передавая чувства умелым своим голосом, вел песнь все дальше: «…Бесстрашный рыцарь, подвигов наделав, – сняв головы у двух драконов, распотрошивши сотню супостатов, зычно прокричав в ста двадцати славнейших городах, что нет прекрасней Трипольской княгини, – итак, наделав подвигов, бесстрашный рыцарь облекся в пламенного цвета одежды и молвил такое слово своему оруженосцу: – Мню, пора пришла явиться на очи к моей прекрасной даме, – ибо столько лет любивший верно рыцарь не зрел еще ни разу лика дамы сердца, а знал прекрасную лишь по рассказам, услышанным от пилигримов, что побывали во Святой земле. – Вы верно мните, благородный рыцарь, – учтиво отвечал оруженосец. И вот взошел влюбленный рыцарь на корабль. И все дивились, что без участия рулевого корабль в далекий Триполи поплыл, подгоняемый ветрами, столь охотно любви идущими на помощь. Вслед кораблю дельфины свершали свои резвые прыжки – всем ведомо, природа веселится, греясь у пламени великой страсти. Достигнув суши, рыцарь в Триполи пошел, но в град войти не смел, у стен остановился, ибо жарче его одежды яркой в нем разгорелось сердце, и он слова такие сказал оруженосцу: – Нет, не дерзну я предстать пред ликом дамы. Иди к ней ты, оповести, что тут я, и выпроси мне в дар кусочек малый от головной повязки. Ушел оруженосец, а де Блэа у стен на землю опустился, дабы ждать. От нетерпения сердце в нем стучало сильнее, чем о наковальню молот. Мимо проходили горожане и такую речь с ним повели: – Кто ты, чужестранец? Уж не пилигрим ли? И что за стук исходит от тебя? И отвечал им рыцарь: – Да, пилигрим я, пилигрим великой страсти, а стуком, что услышан вами, стучится сердце, пораженное любовью. – Кого ж ты любишь? – Ту, что всех прекрасней, всех целомудренней, всех неприступней. – Ты говоришь о нашей госпоже: все знают, нет никого ее на свете краше. Рыцарь, от счастья побледневши, попросил: – Так расскажите же о ней скорее! Они сказали так: – Ладони ее белей слоновой кости, румянец ярче утренней зари, по добродетелям же хоть бери на небо – великодушна, благостна, стыдливостью надежнее ограждена, чем башней крепкой… Рыцарь в сладостном томленьи слушал. Лежал под стенами и грезам предавался, но тут оруженосец прибегает и, за рукав его схвативши, молвит: – Вставайте, благородный рыцарь! Грядет! Сама грядет к вам ваша дама сердца! Но рыцарь сил не мог собрать, дабы подняться, лишь для гляденья веки ослабевшие возвел и смотрит… …Грядет, грядет… В окружении дам придворных. Нет, не грядет, плывет, как лебедь белая. Мраморное чело сияет под повязкой, словно месяц. Очи горды, но милостив их взор. О, краса! Непревзойденная! Волшебней грез поэта!… Прекраснейшая подошла, склонилась к рыцарю и на челе его сладчайший поцелуй запечатлеть изволила… Но что это? Как холодно высокое чело… как неподвижен лик… Бесстрашный рыцарь мертв… Усоп от…» Певец испуганно прервался в середине фразы, ибо в комнате послышалось весьма звучное фырканье: принцесса Изабелла, пихая в рот тонкий льняной платочек, напрасно силилась удержаться от смеха. Сибилла взглянула на нее и тоже фыркнула. Вслед за ними зафыркали и прочие слушательницы. Комната огласилась заразительным молодым смехом. Смеялись все, даже тучноватая ленивая Марфа. Поэт побагровел. – В чем дело, ваши светлости? Что случилось? Ответить ему никто не смог, ибо перепуганное лицо гостя вызвало новый приступ веселья; дамы тряслись от хохота, точно безумные. Певец в отчаянии отбросил виолу и, заломив руки, выскочил вон. – …Усоп… от поцелуя!… – заливалась неудержимым смехом Сибилла. Агнесса де Куртене, слушавшая пение из соседней комнаты, высунула из двери голову и укоризненно произнесла, глядя на Изабеллу: – Зря вы его на смех подняли. Теперь Бог весть чего про вас наплетет. С рифмоплетами лучше поосторожнее… – Матушка! – крикнула Сибилла. – Да разве можно удержаться от смеха, когда нашу славную бабку Годерну величают неприступной башней? – «По добродетелям же хоть бери на небо!» Ха-ха-ха! Невольно поддавшись общему веселью, Агнесса со смехом заметила: – Только на небе ее не хватало! Покуролесила княгиня Трипольская вволю… Как, впрочем, и все ее сестрицы, кроме, разве что, Иветты… А этого самого рыцаря де Блэа Раймунд II приказал потихоньку убрать от греха подальше… – Многих же пришлось ему убрать от греха подальше! – Этот был самый опасный, стихи кропал и мог ославить на всю Европу… А теперь угомонитесь наконец, ребенок заснуть не может. Агнесса удалилась, затворив за собой дверь. Тут в комнату вошел улыбающийся, как всегда, Ренальд из Сидона, стараниями которого был отыскан и приведен во дворец злополучный певец. Ренальд, правда, ожидал иного действия высокого искусства, но радовался от души, что повеселил скучающих дам. – Нынешнего дня бедняге не пережить, – уверял он. – Слезно жаловался, что никогда еще не претерпевал такого позора. Обычно, слушая его, благородные дамы плачут, а то и в обморок падают от волнения… – Мы тоже плакали, только от смеха. Неужели в Европе дамы все еще так чувствительны? Ренальд, задумчиво погладив бороду, ответил: – Сомневаюсь. Люди везде одинаковы, и кровь у всех одинаково красная… Думаю, дело тут вовсе не в дамах, а в мужчинах: они стараются воспитывать своих жен на высоких образцах добродетели. – Ничего себе образцы добродетели!… А что вы нам приготовили на завтра? Вы же обещали развлекать нас до тех пор, пока рыцари не вернутся из похода! – Обещал и ума не приложу, как я выкручусь, если Имад аль-Дин окажет упорное сопротивление. Но на завтра развлечение уже готово: я вам раздобыл старичка невиданного возраста. Сто шесть годков, каково? – Это и вправду нечто новенькое! Сто шесть? А где вы его достали? – Вы все его хорошо знаете, благородные дамы. Седой как лунь, борода до пояса, во время торжественных процессий выступает вслед за патриархом, несет меч… – Меч Готфрида Бульонского! Старик вроде бы его оруженосец… Только говорят, будто он – ряженый, будто держат его специально для шествий… – Сей недостойный слух пущен в обращение мною, но это клевета. Нынче я самолично убедился, что старик не ряженый, а самый настоящий. Ему действительно сто шесть лет, и он служил оруженосцем у первого нашего короля Готфрида. Зовут его Робер де Корбье. Завтра я его доставлю во дворец. Старичок еще довольно резв, память не угасла, можно послушать. – А послезавтра? Ренальд глубоко вздохнул. – Пока не знаю, но если не осенит меня какая-нибудь блистательная мысль, усопну от стыда, не всем же, как рыцарю де Блэа, умирать от счастья. Позвольте откланяться, дорогие дамы!* * *
Память у Робера Корбье и вправду не угасла. Как это нередко бывает со старыми людьми, близкие события он забывал и путал, зато давние воспоминания, отлившиеся в яркие картины, хранились в душе неповрежденными. Усаженный в мягкое кресло и напоенный вином, он с любопытством поглядывал на окружавших его дам и с придурковатым лукавством ухмылялся. Дамы… В последний раз он прикасался к женщине лет этак пятьдесят назад… Странные создания… – Расскажите нам, как вы брали Иерусалим, – уговаривал его Ренальд. – Да что там рассказывать, благородный рыцарь? Давно уж все записано в книги. Ученые люди много чего понаписали, каноник д'Агилер и каноник Фуше де Шартр… Его преосвященство архиепископ Тирский Вильгельм тоже меня не раз призывал и выспрашивал, а потом заносил мои слова в книгу… – То, что в книгах написано, мы знаем. Но всегда интересно послушать человека, видевшего все собственными глазами… Расскажите про штурм. – Да… штурм… Жарища тогда стояла невыносимая, прямо пекло. Тут летом всегда так, но мы-то поначалу без привычки были. И в воде испытывали большой недостаток… Платили по два динара за кварту, точно помню… Ну и вот, ходили мы вкруг стен с молитвами да с крестом, а магометане на тех стенах верещали и всячески на наш крест паскудили… И такое нас разбирало зло, такая лютость, что каждый готов был эти стены зубами грызть и драть ногтями, лишь бы ухватить поганцев… На другой же день пошли на штурм… Одну из трех самых больших башен захватил государь наш Готфрид с братом своим. При них был и я, а еще принцесса из Бургундии со своим мужем, датским принцем… – Расскажите о принцессе! – хором потребовали слушательницы. Старик в замешательстве пожал плечами. – Да что я о ней знаю! Флориной звали, герцога Бургундского дочка. – Про это мы читали. А что-нибудь еще? Как она выглядела? Де Корбье снова пожал плечами. Как выглядела? В памяти всплыла охваченная бушующим пламенем башня, изящная головка, из-под шлема струятся золотые волосы… Но как об этом скажешь? Его язык был проще и грубее памяти. – …Она сгорела, – кратко сообщил он. – И все мы чуть не сгорели, уж дух стало спирать от жара, и башня затрещала, но тут Господь подал нам в умерших помощь… – В умерших? – Ну да. На горе показалось войско призраков умерших, и мусульмане дрогнули… – И вы их видели собственными глазами? – Как вас, благородные дамы, и никогда этого не забуду, проживи я хоть еще сотню лет… Все их видели, все… и наши, и сарацины… Их было много, тьма тьмущая, занимали весь склон горы, впереди епископ… С их помощью мы и захватили город… Робер де Корбье замолк. Морщинистое лицо его, с которого исчезла глуповатая ухмылка, посуровело. Старик вглядывался в синеющую далеко за окнами Масличную гору, словно надеялся отыскать на ней следы призрачной рати, явившейся с того света на помощь сражавшимся братьям. Невольно стали серьезны и остальные; любопытные дамы приумолкли. Даже Ренальд из Сидона не смеялся, а думал о чем-то с глубокой печалью, словно предчувствовал, что не пройдет и семи лет, как он, беспечный шутник и полуараб, сложит голову за Святой Крест, подобно своим славным дедам… Старик выпил вина, отер рукою бороду и первым прервал молчание: – А как вошли мы в город, такая началась резня, страсть! Не знаю, писал ли об этом каноник д'Агилер, больно уж он мягкосердечен. Про такую бойню и вспоминать страшно… Кровища по улицам лилась потоками, кони в нее по грудь забредали… От тоски, от ужаса смертного язычники выли, точно волки, отовсюду слышался этот нечеловеческий вой… Пробовали бежать, да бежать-то некуда было… Те только и спаслись, кого рыцарь Танкред – он потом сделался князем Галилеи – пустил в Храм Гроба Господня… – Танкред, кажется, был хорош собой? – полюбопытствовала Изабелла. – Ничего себе, а уж силы поистине львиной. Он одно время вместе с Готфридом бился, и я его тогда частенько вблизи видел. Когда брали Вифлеем, он тоже с нами был… И на Горе Соблазна… – Ах, вот о чем вы нам расскажите! О Горе Соблазна! – Да что там рассказывать, – скривился старец. – Мы туда завернули по пути в Вифлеем… Рыцарь Танкред, как только эту мерзость увидел, приказал разрушить, так гора и стоит в развалинах по сю пору… – А что именно он увидел? Что там было? – Скверна, – коротко ответил старец, явно не желая говорить на эту тему. Безуспешно пробовали расшевелить его принцессы, которых Гора Соблазна интересовала чуть ли не больше всего прочего. О таинственном этом месте ходило множество зловещих слухов. По преданию, на этом взгорье, расположенном неподалеку от Иерусалима, ютилось когда-то капище, возведенное Соломоном для своих языческих жен. Брошенный и наполовину разрушенный памятник грешной слабости великого монарха заново отстроил Ирод, царь иудейский. Он окружил бывшее капище высокой стеной, за которую редко кому удавалось проникнуть, и частенько туда наезжал. Утверждали, что после явления Вифлеемской звезды он закрылся в сем непотребном месте и именно там ожидал возвращения трех волхвов. Далее предание гласило, что во время избиения младенцев именно туда сносили вырванных из материнских рук малюток и там предавали их смерти. Сведущие люди уверяли, что вход на гору днем и ночью караулят черти. Ничего удивительного, что зловещее взгорье, отягощенное самым страшным в истории человечества убийством, считалось проклятым. С давних времен его издалека обходили все – мусульмане, греки, сирийцы, и даже простодушные арабские пастухи не заглядывали туда. Латинские рыцари, прибывшие вместе с Танкредом, сравняли капище с землей: подпилили колонны, и потолок рухнул, завалив вход грудой обломков. Оставленные ими руины до сих пор загромождали взгорье, скрывая под собою тайну, в которую пока никто не проник. А этот самый Робер де Корбье, замшелый, трясущийся старичок, был там и многое знает, вот только рассказывать ни о чем не хочет. Старик действительно упорствовал в своем нежелании говорить о Горе Соблазна, и даже вид туго набитого кошелька не сделал его уступчивее. На все уговоры он только качал головой. – Не помню, – уверял упрямец, и невозможно было уличить его во лжи. – А все остальное помните? – пытался вывести его на чистую воду Ренальд. – Все остальное помню, а это позабыл. – Но почему так? – Почему? – старик задумался на какой-то миг и убежденно повторил: – Потому что скверна. Больше от него не удалось ничего добиться, и он тут же запросился домой. Лучше, мол, ему прийти в другой раз. Тогда расскажет о короле Балдуине I. А сейчас устал и покорнейше просит отпустить его. Де Корбье отпустили, не скрывая обиды, что о самом интересном он промолчал. – Охота же из всего делать тайны! – брюзжала Сибилла. – Придется мне самой туда поехать и хотя бы посмотреть, как выглядят руины. Ехать надо перед полуднем, когда в храмах звонят колокола, – черти от колокольного звона разбегаются. – И я с тобой! – обрадовалась Изабелла. – А рыцарь Ренальд поедет с нами для охраны. – О, нет! – решительно возразил рыцарь. – Лучше я съезжу туда один, а потом расскажу вам, благородные принцессы, об увиденном. Хотя я уверен, что ничего там нет, кроме груды обломков, но вам туда ездить не годится. – Почему же? – обиделись принцессы. – Потому что государю это не понравится. Место проклятое, позорное, и не гоже королевским дочерям любопытствовать о вещах, о которых стесняются говорить воины… – Король об этом даже не узнает! – Ибелин из Рамы тоже такой затеи не одобрил бы… – Ибелин! Только его одобрения мне не хватало! Ренальд не смог удержаться от смеха. – Вот слова, достойные послушной супруги. Нет, с вами, благородные принцессы, я не поеду, а вот один могу произвести разведку. – Обойдемся и без вас. Я хочу увидеть. Непременно! И как это мне раньше в голову не пришло… – Возьмем с собой Онуфрия де Торона, – предложила Изабелла. – Он будет делать все, что мы велим, и никому не скажет. – Онуфрий подойдет! Бедняжка! Ну и натерпится же он страха! Ренальд задумчиво гладил свою бороду. – Вижу, придется и мне ехать с вами, – кисло объявил он. – Знаю по опыту, что женского каприза не переломить, а де Торона для охраны недостаточно. Чертей, да еще среди бела дня, можно не бояться, а вот разбойникам в развалинах самое место. Довольные принцессы захлопали в ладоши. – Значит, поедем вчетвером! Прелестно! А когда? – Лучше пораньше, пока рыцари не вернулись из похода. – Но я же кормлю ребенка! – расстроенно воскликнула Сибилла. – Совсем об этом позабыла! Мать меня не пустит. Что делать? – Ничего, – ответил Ренальд с облегчением, – отложим затею до той поры, пока вы станете посвободнее. Гора Соблазна никуда не убежит. – Гора-то, конечно, не убежит, но что-нибудь непременно помешает… Когда все вернутся в город, уже не вырвешься… Достанется же такая судьба!… Всегда так!… Всегда все наперекор… Несчастнее меня нет никого на свете!…Глава 10 ПРОСТИ, БРАТ!
Моав – царство пустыни. С запада простирается Мертвое море, окруженное венцом гор. На выступающей скале, нависшей над недвижимо застывшими волнами, высится фигура окаменелой Лотовой жены, праматери моавитян, наказанной за любопытство. В этих краях яснее, чем где-либо еще, ощутимо, что Бог не любит противления своим делам. Пейзаж грозен, суров и неприступен для крикливой тщеты людских дел. Все, что здесь случалось когда-то, оставило свой след на века: обитавшее в древности племя великанов эмим пробороздило дикие ущелья и вырезало стремнины гор, а пришедший с ассирийцами Ваал, называемый также Вельзевулом, угрюмый бог, алчущий человеческой крови, затянул горы красновато-ржавым налетом, похожим на застывшую сукровицу. Давно уже исчезли великаны и забылось имя кровожадного божества, но горы, над которыми они трудились, насупленно нависают над дорогой, и ветер сметает с них на караваны бурую пыль. Даже парящие в высоте башни пограничного замка франков, хоть и возведенные в новые времена, кажутся вросшими в эту древнюю землю издавна и навсегда. Проходя такими краями, можно мыслить только о Боге: в пустыне присутствие Его ощущается с особой силой. Здесь владычествует только Он. О Нем думает эмир аль-Бара, совершающий обратный путь из Мекки. Хотя слуги ведут за ним богато навьюченных верблюдов, старый эмир идет пешком, как и все остальные паломники. Погруженный в раздумья, он не чувствует усталости. Тело пошатывается, в глазах жжение от несносного солнечного жара, но душа легка, словно приготовилась к отлету… Что нужно страннику в этом мире? И есть ли в нем что-то, достойное познания? К концу подходят сроки мои… Напрасно, словно внапоминание о радостях сего мира, манят его взор миражи – прельстительные картины, порождаемые дрожащим от солнца воздухом. Тенистые рощи, фонтаны, башни, заколдованный град Ирем, некогда вознесенный духами в воздух. Старый эмир глядит на все приманки равнодушно. Ему это не нужно, нет! Единственное обретение долгих лет состоит в познании, что все, кроме Бога, из тлена вышло, окружено тленом и уходит в тлен. Мудрость в том, чтобы угасить чувства и прикрыть глаза, не впуская в себя ничего из видимого мира. Эмир шагает в длинной, бесконечной веренице паломников. У каждого под белым тюрбаном – собственные мысли. Кто думает о Боге, как аль-Бара, кто о доме, об урожае, о стадах, надолго оставленных без хозяйского присмотра. Глаза суровы, в пальцах коротенькие четки из янтаря. Идут налегке, ничем себя не обременяя. Узлы с одеждой и пропитанием тащат для тех, кто побогаче, верблюды, для тех, кто победнее, – жены. Внушительная толпа этих приравненных к вьючным животным существ тащится вслед за паломниками, сгибаясь под тяжестью плетенных из лыка коробов, жбанов с водой, иногда детей. Все в порыжелых от солнца черных одеяниях, у всех закрыты лица. Их сердец хадж [411] не возвысил, ибо женщины к святыне не допускаются. Довольно с них и того, что им из внутреннего двора разрешено увидеть кровлю святой мечети, хранящей камень Каабы [412]. Вполне довольно! У них же нет души, они ни за что не отвечают, ибо Пророк отказал им в даре различать добро и зло. Понятия у них не больше, чем у осла или верблюда, и гораздо меньше, чем у коня. Клонившееся к западу солнце заиграло на башнях франкского замка. В горном прозрачном воздухе он видим уже давно, представляясь то далеким, то совсем близким, и долго еще предстоит паломникам шагать мимо горной крепости. Эмир аль-Бара глядит на зажженные солнцем башни с неясным волнением – это дает себя знать латинская кровь. Его всегда тянуло к франкам, о которых он столько слышал, но которых совсем не знал. Всю жизнь он тайком надеялся узнать их поближе, но так и не сделал этого, а теперь стар уже, видно, так и придется уйти из мира с этой неисполнившейся надеждой. Минуту назад ему казалось, что все, положенное ему в жизни, он исполнил. Оказывается, нет. Почему он всегда упускал столько раз представлявшиеся возможности? Ведь ему не возбранялось отправиться к франкам с посольством, или с купцами, или просто так… Почему же он не поехал? Быть может, из тайной боязни разочарования? Из страха, что они окажутся совсем не такими, какими их описывала мать? …Мать!… Франкский замок на горизонте и еле слышный гомон навьюченных женщин позади него навеяли воспоминания о матери. Ни на кого не похожая, гордая, мудрая, она поражала всех, кто с нею сталкивался… Женщина… Те, что позади него тащат кладь, тоже женщины… Но между ними – целая пропасть… …Мать… Сколько раз говорила она ему: «Рассуди сам, сын мой, разве не лучший довод в пользу моей веры та несправедливость, которую вы чините женщинам? Взгляни на меня и ответь по чести: разве нет во мне души, равной твоей?» У нее и вправду была душа, какая и не всякому мужчине дается. Рыцарская, отважная душа. Но у женщин, нагруженных узлами и стадом бредущих позади каравана, души нет. Это точно. Пророк не мог ошибиться. – Пророк ошибается, – дерзко утверждала мать. – Познай мою веру, сын мой, сравни со своей – и сам убедишься, какая из них лучше! Об этом же просила его, умирая, и он обещал познать веру франков, но обещания своего не сдержал. Солнце скрылось, запало в морскую бездну. Желтовато-ржавые краски пустыни гасли, синели, напитывались трупным холодом. Паломники укладывались спать прямо на земле, для тепла тесно грудясь вокруг животных. Слуги эмира окутали своего господина толстыми теплыми одеялами и оставили одного, как он хотел. Лежа навзничь, он смотрел в глубину усеянного звездами неба, ждал сна, разматывал клубок мыслей дальше. …Мать… Кем же она все-таки была?… Как звалась? Как ее окликали родители? Быть может, она оставила среди франков мужа и сыновей… Может, кто-то из ее родичей живет в этом замке… Хорошо бы прийти к нему и сказать: «Брат! В наших жилах одна кровь…» Он подумал, что на свете нет слова лучше, чем это: брат! Сладостней имени любимой или ребенка, благородней золота. Мир изменился бы как по волшебству, если бы люди стали называть друг друга этим словом… …В Коране сказано (и в святых книгах христиан также), что все люди, призывающие одного Бога, – братья… Одного Бога… Конечно, одного, двух и быть не может! Верно говорила мать, что все одного Бога славят, только каждый по-своему. Значит, все люди, славящие Бога и желающие царствия Его на земле, – братья… …Даже если владелец замка не одной с ним крови, завтра же эмир аль-Бара пойдет к нему и скажет: «Брат, расскажи мне о твоей вере…» …Пойдет непременно…* * *
«Пойду непременно», – думал эмир аль-Бара на следующий день, вышагивая вместе с караваном в солнечном пекле и клубах пыли. С каждым шагом замок франков оказывался все ближе. Идущие впереди паломники затянули четвертую суру Корана, отдохнувшие за ночь дервиши выкрикивали слова особенно пронзительно и громко. Старому эмиру показалось даже, что громче обычного, – их визгливый крик прямо-таки резал уши. Крик становился все визгливее и громче, многие, подобно дервишам, стали метаться из стороны в сторону или крутиться на месте, воздев руки кверху… Эмир неохотно замедляет шаг. Он не любит дервишей, и в этом крике, заразившем уже всю толпу, чудится ему нечто странное. Крик переходит в плач. Передние ряды пятятся, напирают на задние, начинается давка. Что случилось? Неужели лев? Впечатление такое, будто кто-то выскочил навстречу каравану… Нет, не навстречу. Теперь уже кричат и с боков, и сзади; в красноватой пыли различимы головы коней, стальные шлемы, блеск оружия. Звучит ненавистная чужая речь. О меч Пророка! То не львы, а франки!… Железные рыцари побивают безоружных паломников, колют копьями, рубят мечами, топчут павших, на конях врезаясь в самую гущу толпы и не давая несчастным добраться до верблюдов, дабы никому не удалось спастись. Женщины, побросав тюки, воют от ужаса. Убийцы срывают покрывала с их лиц, молодых вяжут, а старых и некрасивых приканчивают ударами кинжалов. Вырванных из материнских объятий детей умерщвляют на месте, не щадя безгрешных душ. Поначалу онемевший от ужаса, старый эмир преисполняется ярости. – Убийцы, изверги, палачи! Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – Пророк его! Со старым кличем своей веры, которой он теперь уже не изменит, бросается аль-Бара на первого же попавшегося под руку разбойника. Вырывает у него копье и начинает остервенело раздавать удары направо и налево. Пример его действует вдохновляюще. Многие паломники, оправившись от ужаса, вступают в ожесточенную схватку с вооруженным противником. Дерутся отчаянно, хотя и без всякой надежды на победу. Что значит горстка отчаявшихся мужчин против целого отряда? Голые кулаки против стальных мечей? Вот и пал уже старый эмир аль-Бара, за ним полягут и остальные. Битва оказалась недолгой. На земле остаются трупы, на их лица медленно оседает коричневая пыль. День гаснет в глазах эмира аль-Бары, но сознание его не покидает. С ужасающей ясностью видит он, что творится вокруг. Грудь, из которой уходит дыхание, разрывает смех – желчный, злой. Всю жизнь мечтал он познать франков – и наконец познал. Доподлинно, в их настоящем обличье. Вон он стоит – вождь благородного воинства, перебившего безоружных странников. Да, несомненно вождь: над ним стяг, а на стяге – крест… «Кабы хватило сил, – думает аль-Бара, – я бы встал, чтобы плюнуть ему в лицо… Так вот какова она, твоя вера, матушка?!» Из последних сил он всматривается во врагов с отвращением и безмерной обидой и видит, как в их ряды врывается какой-то человек. Только что прибежавший. Измученный, хрипящий, старый. Такой же старый, как аль-Бара, с растрепанной седой бородой. Он ломает руки, плачет, грозит стоящему под стягом рыцарю. Мечется среди трупов, разыскивая живых, с плачем склоняется над ними. Укладывающие на верблюдов добычу воины глядят на него с недоумением. Залитое слезами лицо старого человека склоняется над холодеющим телом аль-Бары. – Брат мой!… – бормочет он по-арабски. – Прости, брат… Брат… Раненый с усилием приподнимает голову… Брат… Ночью ему снилось это слово… И вот оно – пробуждение… – Прости, брат… – повторяет старый человек так упорно, словно не знает других слов. Слезы из его глаз падают прямо на лицо эмира. Губы умирающего кривит горькая усмешка: – Моя мать была христианкой… Говорила, будто ваша вера самая лучшая… Она лгала… – Нет! Нет! Она не лгала! Она говорила правду, брат мой! Правду!… – Отчего же вы… такие подлые?! – Не знаю, брат мой… Вера тут ни при чем… Где люди, где Бог?! – в отчаянии кричит Вильгельм, архиепископ Тирский, ибо это – он. Он может говорить что угодно. Эмир аль-Бара его уже не услышит.Глава 11 CHRISTUS VICIT [413]
Почти одновременно с возвращением архиепископа Вильгельма Иерусалим облетела весть о том, что султан Египта Салах-ад-Дин объявил королевству войну. Потрясенный до глубины души разбойным набегом, учиненным людьми Ренальда Шатильонского, и смертью своего старого воспитателя эмира аль-Бара, Саладин – так называли его среди франков – повелел по обычаю вынести на площадь перед дворцом семихвостый бунчук, посылая его взмахами угрозы в сторону Запада. – Довольно терпеть вероломство! – вскричал он. – Да свершится моя воля над королевством гяуров! И боевые трубы возвестили начало «джихада» – священной войны с неверными, а пограничные гарнизоны были отозваны к столице. Никогда еще положение королевства крестоносцев не было таким отчаянным. Хотя на север во весь опор поскакали гонцы, чтобы вернуть из-под Алеппо светское рыцарство и отряды воителей церкви, не вызывало сомнений, что, как бы ни спешили гонцы и как бы ни торопились обратно те, за кем их послали, прежде чем придет помощь, Иерусалим будет взят. Город охватила паника. Нескончаемой вереницей тянутся к Яффе богатые итальянские купцы, увозя с собой самое ценное. За ними едва поспевают паломники: помолиться – помолились, а к сарацинам в ясыры им не хочется. Местные же жители, которым бежать некуда, бесцельно бродят по улицам и сетуют на судьбу. Лишь король Балдуин IV не теряет головы. Тот, кто уже не одну неделю лежал чуть ли не трупом, не видя белого света, при вести о подступающей беде вдруг воспрял и ожил. Он собственноручно скрепляет большой королевской печатью бесчисленные грамоты-приказы: vidi[414]! Не в силах вывести гниющими пальцами свою подпись, он ставит печать – а архиепископ Тирский приписывает ниже слова: «Клянусь Страстями Господа нашего Иисуса Христа, что государь мой король сам к сей грамоте руку приложил». Гонцы доставляют эти послания в каждый замок, в каждую крепость королевства. Всякий, кто жив и может держать оружие, пусть поспешит под стены Иерусалима! Ни единого человека не оставлять в гарнизоне! Забыть обо всем, кроме приказа короля! Гроб Господень в опасности! Король зовет! Король зовет! У кого рука тверда – берись за меч! Бог и король воздадут! Безродный станет дворянином, простой латник – рыцарем… Франки, спасайте Гроб Господень… Гроб Господень! К оружию! Все как один во главе с королем двинутся навстречу врагу. В самом Иерусалиме не останется даже стражи. Зачем? Против осаждающих горстке воинов все равно не устоять – а кто знает, быть может, Бог даст им силы не подпустить сарацин к городским стенам? Лишь бы, не мешкая, выступили войска из Вифлеема, Лидды, Рамы, Тивериады, Хеврона, Еммауса… Только в Кирхарешет, что в земле Моав, король не выслал гонца. Владетель Кир-Моава Ренальд де Шатильон в его глазах – изменник, чьей помощи он не попросит даже перед лицом смертельной опасности. Ожидая войска, Балдуин приказывает принести из библиотеки описания знаменитых битв и войн и сочинения о военном искусстве, и знающий грамоте брат Лука охрипшим от напряжения голосом читает государю вслух: один труд, другой, третий… – Брось! – кричит король. – Это не то. Давай дальше! У брата Луки уже голова идет кругом. Записки Цезаря, историю Тацита сменяет победная летопись походов византийских василевсов – Василия Болгаробойцы, Никифора Фоки, Иоанна Цимисха; затем наступает черед жизнеописания Карла Великого, за которым следует хроника Иерусалимского королевства, труд архиепископа Тирского Вильгельма, доведенный им до самых последних дней. Брат Лука читает, а про себя думает: и зачем королю все это… не иначе, сам на войну собравшись, хочет поучиться, как другие бились… Тут чтец со вздохом облегчения сделал передышку: патриарх Ираклий просил у короля аудиенции. Балдуин закрыл лицо (ибо нос у него уже опух и начал гноиться) и дал знак впустить посетителя. – Государь, – сказал патриарх, – вот что мы решили с ее милостью королевой-матерью с одобрения рыцарей. Надо войти в переговоры с Саладином и попросить его повременить с наступлением, покуда не прибудут наши главные силы; ведь невелика слава захватить беззащитный город… Этот язычник – рыцарь, может, он и согласится… Я сам, не жалея собственной ничтожной жизни, готов поехать послом! Король приподнялся на своем ложе. – Я не ослышался? Кто смел без меня что-то решать? – Государь, зная, как мучит вас недуг… – Кто смел без меня решать? – гневно повторил Балдуин. – Никаких переговоров! Никаких послов! Помимо молитв и благословения Святым Крестом мне от вашего святейшества ничего другого не нужно… – Вы намерены воевать, государь? Простите мне мою дерзость, но это – чистое безумие! Вы ведь… – Прокаженный, полутруп? Что же из этого? Я – король! И пока я жив, город, да и вся страна не беззащитны. – Государь, опомнитесь! Откуда нам взять людей? – Повторяю: все, что мне от вас будет нужно, – это благословение, но не советы. Послезавтра я с горсткой тех, кто соберется по моему зову, выступлю навстречу Саладину. Святой Крест мы берем с собой. Надеюсь, ваше святейшество соблаговолит везти его? Патриарх заломил руки. – Святой Крест предать на поругание! Вы хотите, чтобы он стал добычей язычников? – Язычникам он не достанется, но поможет нам победить, как помогал Готфриду Бульонскому и его брату Балдуину. Так как, ваше святейшество, возьметесь везти его? – Я?! Здоровье мое не то… Вы же знаете, государь: из-за больной печени я и в седло-то не сажусь. Даже если очень захочу – не смогу. – Раз так, оставайтесь. Крест повезет епископ Альберт. Тоже старый и слабый человек, но он, думаю, не будет искать отговорок. – Я не ищу отговорок, – оскорбился патриарх, – я просто не могу. Действительно, чтобы выдержать такой путь, нужно иметь здоровье. – Здоровье? О да, ваше святейшество! Хвала Создателю, меня Он им наделил в избытке… Я вас больше не задерживаю. Читай дальше, брат Лука! Патриарх удаляясь, сердито бормочет сквозь зубы: «Этот безумец погубит нас всех!» Проходит немного времени – и король снова обрывает чтеца. Не то, не то… Все это он наизусть помнит, но сегодня это как-то не годится. – Почитай еще что-нибудь, брат Лука! – Что прикажете, государь? – Не знаю… поищи… Растерянный брат Лука озабоченно роется в груде манускриптов. Как понять, что сегодня годится, а что нет? Ну, да была – не была… И он открывает первую попавшуюся книгу. – «О смерти доброго рыцаря Ибелина де Куртене», – объявляет он. – Читай! – соглашается король, вдруг успокаиваясь, откидывается на подушки и слушает. – «Когда наспех сколоченная осадная башня, – читает брат Лука, – потеряла по недосмотру осаждающих равновесие и рухнула на Ибелина де Куртене, размозжив рыцарю поясницу, так что тот не мог больше встать, раненый велел нести себя в бой на носилках – и нести бегом, ибо доблестный сей муж желал быть впереди. Так понесли его, а прочее рыцарство с хоругвью устремилось за ним. И, чуть завидя хоругвь, дрогнули и побежали язычники, коим ведомо было, что это знак непобедимого воина. Тогда добрый рыцарь де Куртене попросил опустить носилки на землю и сложить ему руки на груди, после чего сказал: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что, хотя я почти труп и не могу уже пошевелить и пальцем, Ты сотворил чудо – и враги имени Твоего бежали передо мной. Так велика милость Твоя и щедрость; за это на пороге смерти благодарю Тебя всем сердцем». И, договорив, испустил дух…» – Это был мой дед, – как бы вскользь замечает король.* * *
Пятьсот рыцарей, еще столько же оруженосцев и слуг, да кучка случайных людишек, всего не более тысячи трехсот человек – таково франкское войско. Убеленной сединами головой издалека выделяется Онуфрий де Торон. С хмурым видом едет Ренальд из Сидона. Амальрик Лузиньян тоже невесел. Пожалуй, лучше было отправиться под Алеппо, соображает он, ведь этот поход добром не кончится… На ремнях между двух коней покачивается паланкин, в котором следует король. Неотлучные братья-лазариты в подвернутых сутанах снуют туда-сюда, передавая приказы. Сверкает на солнце массивный золотой реликварий Святого Креста, который везет епископ Вифлеемский Альберт. За войском не тянется обычный в подобных случаях обоз: ничто не должно задерживать, сковывать, замедлять движение. Они помчат вскачь, быстрым галопом, чтобы опередить Саладина, не дать сарацинам раньше войти в тесные ущелья гор Иудеи. На городских стенах воинов провожают плачем и горестными причитаниями остающиеся жители Иерусалима – сплошь одна беднота. Те, у кого водились деньги, успели уехать в Яффу и сейчас на борту итальянской галеры спокойно пережидают события. Когда золотой реликварий, скрывшись на миг в воротах, показывается по другую сторону стены, за чертой города, причитания сменяются криками отчаяния. Многие, попрыгав вниз, бегут за отъезжающими, чтобы только не оставаться одним в этом городе, который покидает Сам Господь. – Саладин не позволит обидеть женщин, – утешает Сибилла придворных дам. – Так что бояться нам нечего. Впрочем, и в гареме жить можно: сарацины, говорят, мужчины пылкие…* * *
Тысяча триста защитников Гроба Господня оставили позади горы Иудеи, миновали древний край филистимлян – а сарацин все нет и нет. Однако король торопит: вперед, навстречу врагу! Пусть сражение грянет как можно дальше от Иерусалима! Так, останавливаясь лишь ненадолго, ровно настолько, чтобы дать отдых лошадям, они дошли до Аскалона и там, подступив уже к самому замку, увидели наконец войска Саладина. Широким полукругом они стоят на холмах и в ложбинах (в тех самых местах, где нашел свою смерть де Монферрат); колышется лес бунчуков, тучи стрел затмевают солнце… На глаз их тысяч пятьдесят, не меньше – и в основном отборная конница. Посередине, точно большой зеленый лист, играет на солнце знамя Пророка. Под ним восседает Салах-ад-Дин, рядом – брат его Туран-шах, родич Фарун-шах и любимый племянник Таки-ад-Дин, горящий боевым задором юноша. Презрительно-недоуменным взглядом обводят они горстку воинов в долине. Что это? Передовой отряд франков? А где же остальные? Но вот лазутчики-армяне (которых всегда хватает и с той, и с другой стороны) доносят, что никакой это не передовой отряд, а само войско во главе с королем. Приближенные султана разражаются смехом, но Салах-ад-Дин хмурится. – Рад, что мы возвратим себе старинный наш край малой кровью, – говорит он, – но при таком превосходстве сил победа над противником не сделает мне чести… Таки-ад-Дин, тебе, сын моей сестры, поручаю я вести наше войско. И, чувствуя недовольство во взоре брата и Фарун-шаха, добавляет: – Пусть молодой поучится под присмотром старших. Таки-ад-Дин сияет. Близится вечер. Султан уединяется в своем шатре для молитвы. Его воины готовятся к ночлегу. Горстка же франков, войдя в замок и заперев ворота, собирает на стенах ядра и снаряды для отражения штурма. Слыша грохот, который доносится со стороны замка, молодой Таки-ад-Дин смеется: – Только безумец стал бы терять время, осаждая бесполезный замок. Время на войне может быть и врагом, и другом. Я сделаю его своим союзником: оставлю небольшой отряд стеречь франков, которые загнали себя в ловушку, а сам меж тем завоюю край, брошенный на произвол судьбы. После намаза Таки-ад-Дин объявляет свой замысел султану. – О Повелитель Правоверных, – говорит он, – пусть достойный Туран-шах осаждает франков, укрывшихся в Аскалоне, мы же поспешим к Иерусалиму, чтобы взять его, пока не подоспели основные их силы, воюющие с Имад аль-Дином. – Я поручил тебе вести наше войско, поэтому не стану вмешиваться, – зевая, отвечает Салах-ад-Дин. – Поступай как знаешь, если ты уверен, что так будет лучше. – Уверен так же, как в том, что каждая буква Корана стоит ангела. – Тогда действуй!* * *
Туран-шах, брат Повелителя Правоверных, оскорблен до глубины души. Целый день он провел в шатре, призывая всех шайтанов на голову своего племянника. Его, старого, опытного воина, этот молокосос оставил караулить запертых в крепости франков – все равно что стеречь курятник! Как будто нельзя было найти кого помоложе… О настоящей осаде без стенобитных машин и катапульт и думать нечего: стены Аскалона выдержали не один штурм, и всякий раз после этого их заново укрепляли и надстраивали, так что они стали почти неприступны. Да и стоит ли стараться сокрушить их сейчас, когда через неделю-другую над всей этой землей победно заполощется зеленое знамя Пророка? Нет, тут делать нечего – только сидеть и следить, чтобы осажденное войско не получило помощи снаружи. А разве это занятие достойно старого Туран-шаха?* * *
Страна действительно беззащитна, как рыцарь без доспехов. Отряды египтян стремительно продвигаются вперед, нигде не встречая сопротивления. Таки-ад-Дин растянул их словно узким длинным полумесяцем от границы до границы, разрешив своим людям жечь, грабить и брать пленных. Султан верен слову и не вмешивается: даже не едет во главе, а следует за войском. Таки-ад-Дин молод и упоен успехом. Его не смущает, что иные полки далеко оторвались от остальных и он потерял с ними связь. Он так беспечен, что не выставляет стражи, не высылает дозоров. Зачем? Иерусалимский король со своими воинами заперт в Аскалоне, а главные силы королевства сражаются под Алеппо. Салах-ад-Дин послал туда мощное подкрепление: султан Алеппо и атабек Моссула отдались под власть Повелителя Правоверных, чтобы он помог им обороняться от франков. Так что во всей земле нет никого, никого, кто мог бы дать отпор, и вечером у костра бойцы Пророка со смехом вспоминают далекие от правды легенды о непобедимых франках. В Раме войско Таки-ад-Дина не застало ни одного жителя: все загодя бежали. В Лидде горстка горожан укрылась в укрепленной церкви святого Георгия – первой из построенных крестоносцами в Святой земле. Храм был разрушен, люди – вырезаны, а отряды завоевателей двинулись вперед. Так дошли они до селения Тель-Джазер, которое на языке франков звалось Монжисар. Дальше предстояло пройти через ущелье Вади аль-Дар. Вот уже первые ряды вступают под его скалистые своды. Но что это? На склонах нависшей над ущельем горы Вади аль-Кабра стоят франки, а над их шлемами сверкает в лучах солнца золотой реликварий Святого Креста! Крошечная армия короля вырвалась, точно джин, из Аскалона, чтобы преградить путь врагу! Не веря своим глазам, Таки-ад-Дин спешно отдает запоздалые теперь приказы. К бою! Трубить общий сбор! Строиться колоннами! Но легко сказать – труднее сделать. Занятые грабежами отряды рассеяны по всей округе и, как бы ни призывали их хриплым воем зурны, не могут собраться сразу. Откуда же вдруг взялось войско Балдуина? Разумеется, франки обманули бдительность Туран-шаха – а точнее, его порученца, ибо сам военачальник не соизволил даже взглянуть в сторону осажденной крепости. Меж тем как ее жители по просьбе короля подняли шум на стенах, изображая приготовления к продолжительной осаде, рыцари незаметно выбрались из замка через южные ворота. Их было так мало, что они легко проскользнули мимо беспечных дозорных Туран-шаха. Когда же те остались далеко позади, всадники, пришпорив коней, рванули с места в карьер догонять отряды сарацин. Они мчались без отдыха днем и ночью. Королевский паланкин, закрепленный ремнями между двух лошадей, мотало из стороны в сторону и сильно трясло, а братья-лазариты, державшиеся рядом, не раз на скаку заглядывали с беспокойством внутрь, проверяя, жив ли еще их государь. Но Балдуин, с трудом набирая воздух в легкие, повторял одно: – Быстрее, быстрее! Нужно успеть преградить им дорогу! И они успели. Чтобы сарацины не обнаружили их прежде времени, рыцари повернули на запад и дали больше десяти миль крюка, но под Монжисар прибыли первыми. В пути им встретился отряд братьев Ибелинов – владетелей Рамы: с двумястами всадниками они, опередив остальных, спешили из-под Алеппо защищать свои земли. Ценная помощь! И вот, вторя зурнам сарацин, над христианским воинством протяжно запели трубы. К бою! Братья-лазариты помогают королю выбраться из паланкина. Измученный долгой скачкой, Балдуин едва стоит на ногах. Поддерживая его, братья бережно облачают государя в доспехи и закрепляют у него на голове шлем с закрытым забралом. – Коня! Коня! – требует он. – Что? Этот? Куда мне такая кляча! Подать моего доброго скакуна, что был со мной под Айн-Анжаром! Я ведь велел взять его… Надеюсь, он еще не слишком стар? – Государь, это горячий жеребец… Вам его не удержать! – А кто сказал, что я его буду удерживать? Именно такого мне и надо, чтобы сам нес меня на врага. Сюда его, живее! От нетерпения король весь дрожит. Брат Матфей украдкой утирает рукавом слезы. Боевые трубы ревут, зурны в рядах сарацин воют так, что не выдерживает слух. Но вот оруженосцы подводят скакуна. Он косит глазом, прядет ушами, раздувает ноздри… Королевский конь! На нем – особое седло с высокой лукой сзади. Братья-лазариты осторожно подсаживают государя и прочно привязывают ремнями к седлу, потом вставляют безжизненно свисающие ноги в стремена, которые скрепляют вместе у жеребца под брюхом. Теперь король не упадет и не пошатнется в седле, хотя бы даже в него угодило копье! Шлем Балдуина венчает золотой обруч с зубцами. Загнивающая, почти беспалая ладонь не ухватит рукоять меча, и лазариты намертво соединяют ее с железной перчаткой, так что меч становится неподвижным продолжением предплечья. Рука еще повинуется государю, и поднять меч он еще сможет. Король смотрит на епископа Альберта, который держит перед собой Святой Крест. Взгляд этого тихого, кроткого старца преисполнен сегодня несгибаемой твердости. Реликварий страшно тяжел; при помощи хитроумного приспособления он крепится к крупу лошади и к стременам, а в довершение привязывается толстой веревкой к всаднику. И в круговерти беспорядочно сменяющих друг друга мыслей в голове у Балдуина внезапно возникает отчетливое сознание того, что и этот прикованный к кресту старик, и он, полутруп, ведущий горстку своих людей на врага, который вдесятеро сильнее, несут в себе некий высший смысл – утверждают торжество духа, а может быть, и что-то большее… Но не время теперь раздумывать обо всем этом, нет, не время! Балдуин впивается взглядом в Святой Крест, на котором вознесен был Искупитель всех грехов мира. Отвыкшие от яркого света глаза короля больно режут лучи солнца, ослепляющие даже сквозь решетку забрала. В их нестерпимом сиянии чудится, будто Святой Крест становится все выше, выше, вырастает до небес, задевает верхушкой за облака… А сарацины кажутся то карликами, то, наоборот, исполинами, то близкими, то страшно далекими… Рыцари уже стоят в боевых порядках. Епископ Альберт с усилием чуть наклоняет Святой Крест, благословляя Христово воинство. Балдуин молится – жарко, истово, словно в свой смертный час: – Не допусти, Господи, гибели верной Твоей державы! На Тебя вся моя надежда – не оставь же меня! Давид был слабым отроком, а Голиаф – великаном… Дай мне, Господи, силы Давида! Наконец, подав условный знак своему тезке Балдуину Ибелину и Ренальду из Сидона, которые с двух сторон держат под уздцы его скакуна, король поднимает над головой меч – и бросается вперед с боевым кличем наследников Готфрида Бульонского: – Christus vicit! Christus regnat! Christus imperat! [415] – Государь! – кричит вслед Балдуин Ибелин. – Здесь моя земля! За мной право первого удара! И, не дожидаясь ответа, несется со своими людьми в самую гущу врагов, туда, где полощется на ветру их зеленое знамя. Рубя направо и налево, он врезается в ряды сарацин, сминает их и, повернув коня, рубит снова. Его пример увлекает и других, тем более что посреди жаркой схватки с самого начала мелькает также золотой обруч на шлеме Балдуина IV – а отстать от своего государя недостойно звания рыцаря! Из глубин пламенного подсознания всплывает, оживая, давняя доблесть дедов. Вассалы прокаженного короля сражаются, как сражались первые крестоносцы. Бьются, как будто бы каждого из них хранит архангел! Святой Крест искрится на солнце. Это явный знак благоволения Всевышнего. Таки-ад-Дин мечется как угорелый, но мало что может изменить. Его воины уже слишком свыклись с мыслью, что никакие франки им не грозят, и при первом же натиске противника готовы броситься перед ним врассыпную. Вдобавок, из разрозненных, растянувшихся по всей округе полков на поле боя собралась в лучшем случае половина. А раз уж будто неведомый колдун таинственными чарами перенес сюда франков, разве не мог он удвоить, утроить, удесятерить их число? Так что, как бы ни старались подбодрить их военачальники, отряды сарацин отступают – все поспешнее, все беспорядочнее… Вскоре отступление переходит в бегство. Не раз помехой у них на пути вырастает их же лагерь с богатой добычей и пленными. Уже и туда добрались рыцари, освободили узников, раздали им оружие… Смятение усиливается. В довершение надвигается буря: небо темнеет, вихрь, яростно завывая, кружит в воздухе столбы пыли. Салах-ад-Дин, сидя на коне, в ошеломлении кусает губы. Сон это или явь? Неужели вот так громят его армию? Ибо то, что это – разгром, не вызывает сомнений… Любимый племянник Таки-ад-Дин, злополучный полководец, был только что зарублен мечом. Пал его брат Ахмед, погиб Фарун-шах. Франки дерутся как львы! И кто говорил, будто их король насквозь изъеден проказой? Знамя его видно в самой гуще битвы! Но как он выбрался из Аскалона? Проклятое, темное племя! То малодушное, вероломное, продажное – а то, наоборот, лютое, как стая волков, порывистое и горячее, как пламя. Посреди всеобщего бегства лишь гвардия мамлюков в желтых бархатных кафтанах стоит стеной вокруг Салах-ад-Дина. Эти не побегут! В детстве насильно увезенные от родителей-христиан, недаром ели они свой хлеб при дворе султана. Они никогда не отступают, верные псы, готовые умереть за своего хозяина. Против их-то отряда и направлена теперь лязгающая броней десница франков. Балиан Ибелин мощным клинком сумел отрезать гвардию султана вместе с самим Саладином от бегущего войска. Балдуин Ибелин и Ренальд из Сидона, держа каждый одной рукой поводья королевского скакуна, другой сплеча наносят вокруг себя сокрушительные удары мечом. Рядом с ними старый Онуфрий де Торон словно вновь исполнился юной силы. На склоне дней он уже не надеялся побывать еще раз в такой битве. Не верил, что в этом развращенном и измельчавшем мире когда-либо представится случай проявить рыцарскую доблесть. Неужели вокруг него те же люди, которых он обвинял в изнеженности и малодушии? Мамлюкская гвардия тает на глазах. Желтый бархат становится пурпурным. Остолбеневший Салах-ад-Дин уже совсем близко от себя видит раздувающиеся ноздри лошадей, занесенные вверх мечи… Еще немного – и он попадет в плен. Немыслимо! Повелитель Правоверных – узник Балдуина Прокаженного?! О Аллах! Лучше бегство! И вот впервые в жизни непобедимый сын Айюба бежит. Половина оставшихся мамлюков прикрывает его отступление, принимая натиск противника на себя, а другая берет султана в кольцо и с боем отходит с ним с поля битвы. Во мраке бури отряд мчится прочь, пряча свернутое зеленое знамя Пророка. Буря спасает Салах-ад-Дина. Движимый одной мыслью – сбить со следа погоню, он по пустынному бездорожью спешит назад, в Египет. Между тем бой близ ущелья Вади-аль-Дар, что под горой Вади-аль-Кабра, продолжается, несмотря на сгустившуюся темень и хлынувший вдруг ливень. Франки преследуют бегущих сарацин. Схваченные, те дают себя связать, как баранов. Еще бы! Салах-ад-Дин исчез, и никто не знает, что с ним: убит он или в плену? Таки-ад-Дин и Фарун-шах погибли. У войска нет вождя. А войско без вождя – что опавшая листва… Те, которых не поймали, бегут со всех ног. Бегут куда глаза глядят – только бы подальше от неприятеля, бросая по дороге весь лишний груз. Завтра франки выловят из неглубокого болота аль-Хаси их доспехи, шлемы, щиты, колчаны и луки… Пока же на поле сражения, прямо под дождем, четверо братьев-лазаритов при свете факелов снимают своего государя с коня – осторожно, как снимали ученики тело распятого Господа с Креста. Епископ Альберт со слезами на глазах припадает к стремени: – О государь! Мы победили! – Христос побеждает… – шепчет через решетку забрала Балдуин. Брат Матфей приобнял короля, так что безжизненная рука Балдуина обвилась вокруг его шеи. Остальные братья отвязывают веревки, которыми больной был закреплен в седле. Лишившись опоры, король покачнулся, накренился и стал сползать вниз, выскальзывая из объятий брата Матфея. Еще немного – и он свалится на землю! Стоящий поодаль Вит Лузиньян, который прибыл с отрядом, возвратившимся из-под Алеппо, не раздумывая бросается к королю, пытается поддержать… – Не прикасаться! – с трудом шевеля губами, останавливает его Балдуин. Впрочем, помощь уже ни к чему. Братья-лазариты кладут государя на носилки, отвязывают меч – но перчаток и шлема не снимают, щадя его чувства: вокруг столько нескромных глаз… – Ecce homo! [416] – шепчет епископ Альберт. – Бренный прах, который, кажется, достоин только жалости, – а между тем ему-то как никому другому обязаны мы одержанной сегодня великой победой! Как же слаб человек – и вместе с тем как тверд… А Вит Лузиньян в душе ругает себя за неосторожность. Зачем он только сунулся помогать, совсем забыв, что король – прокаженный! Но, может, через броню проказа не передается? На это вся надежда. Дождь громко барабанит по камням. Начавшись во время сражения, он льет целых десять дней подряд: неслыханное дело в засушливой Палестине! Отступающие сарацины разбрелись кто куда в горах Иудеи – промокшие, дрожащие от холода и страха. Вышедшие из берегов горные потоки преграждают им путь, струи водопадов внезапно обрушиваются им на головы… Укрываясь на ночь в пещерах, с наступлением дня они, не веря в спасение, порой сами идут искать франков. Салах-ад-Дин, сын Айюба, с горсткой верных мамлюков бежит, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Не в Дамаск, куда франки без труда могут перекрыть все дороги, а домой в Египет! Неблизкий путь для тех, кто мчит без воды и пищи сквозь белые пески пустыни… Загнанные лошади падают одна за другой – и вот уже Повелитель Правоверных идет пешком, размышляя на ходу. Итак, объявилась сила. Страшная, как сама стихия, с которой эта сила будто в сговоре. Сила, о которой говорили, что это только сказка, выдумка дедов. Так нет же: вот она, живая, невыдуманная. Но почему эта сила дает о себе знать так редко? И как случилось, что, вооруженное ею, Иерусалимское королевство не стало самым могущественным на свете? Дикие вопли прерывают раздумья Салах-ад-Дина: это кочевники-бедуины окружают отряд беглецов. Они не будут разбираться, кто перед ними. Им дела нет ни до султана, ни до Магомета. У них на уме одно – добыча. А измученные путники, кто бы они ни были, одеты богато. С хищным ястребиным клекотом бедуины бросаются на противника – и великий Салах-ад-Дин, вытащив из ножен саблю, бьется что есть сил, защищая свою жизнь. Только близ Суэца султан наконец натыкается на египетские заставы. Отправив гонцов в Каир, он под прикрытием надежных стен этой крепости остается дожидаться приближенных с лошадьми. Тут-то и находит его Туран-шах, возвращаясь берегом моря из-под Аскалона. Старый военачальник, подавленный, сломленный, винит себя во всем случившемся. Слов нет: своей небрежностью он заслужил праведный гнев брата и суровую кару. Но Салах-ад-Дин и не думает упрекать его. – О Туран-шах, – говорит он, – не земные то были силы, которые собрались против нас! Не слишком обрадованный этим признанием, Туран-шах скачет в Каир, предваряя Салах-ад-Дина. Там, встав посреди площади перед мечетью Ибн-Тулун, он громко кричит в толпу: – Радуйтесь! Сам Повелитель Правоверных едет за мной, целый и невредимый! Толпа безмолвствует. Наконец какой-то дервиш с бронзовой от загара кожей взбирается на украшенную резьбой кладку городского колодца. – О Аллах! – восклицает он. – Велика же победа Повелителя Правоверных – унести ноги! Уж лучше скажи по совести, что вас разгромили! Туран-шах вперяет в смельчака гневный взгляд – но дервиша нельзя тронуть и пальцем. Да и толпа явно на стороне крикуна… И старый полководец спешит назад, навстречу брату, доложить о настроениях, царящих в столице. – Враги твои, о Повелитель Правоверных, не тратили времени зря. Будь начеку: Египет важнее всего остального. Заключи мир с франками, чтобы не потерять Египет! – Я так и поступлю, Туран-шах.* * *
С триумфом возвращаются рыцари в Иерусалим. Князь Раймунд из Триполи с главными силами королевства прибывает как раз вовремя, чтобы присутствовать при торжественном въезде победителей в город. Раскатисто бьют колокола. Жители словно обезумели от радости. Лишь иоанниты и тамплиеры не скрывают недовольства. Им не повезло: осада Алеппо закончилась плачевно. Великий магистр Одо де Сент-Аман погиб. Новым гроссмейстером был избран Жерар де Ридефор («Люцифер вместо Вельзевула», – говорят об этом в Иерусалиме). Злополучный поход! Положить столько народу – и все впустую, в то время как тут этот смердящий труп одержал такую победу! Сам Саладин бежал от него! Едущий в закрытом паланкине Балдуин не видит ни ликующих, ни недовольных лиц. Пелена плотнее занавесей паланкина застилает ему глаза. Он с трудом различает отдельные фигуры. Это от напряжения – нечеловеческого напряжения в бою под Монжисаром. Почти слепой, слабый как никогда, но в здравом уме и все еще живой, он простерт на своем ложе, с которого больше не встанет. Еще только раз заботливые руки братьев-лазаритов поднимут его и застывшим изваянием посадят на королевский трон: когда Саладин пришлет послов просить победителя о мире.* * *
Вскоре после этого король вызвал к себе Ибелина из Рамы. – Друг мой, через два месяца истекает срок траура Сибиллы Иерусалимской. Подготовьте все необходимое, чтобы ты, не мешкая, мог с ней сразу же обвенчаться. Я хочу уйти со спокойной душой, зная, что она замужем и что королевство в твоих руках. А конец мой близок… Я совсем ослеп, даже тебя сейчас – и то уже не вижу. Однако по воле Божией я вручаю тебе державу не униженную, но увитую славой! – Государь, ни один из нас, здоровых, не стяжал бы ей большей славы, чем вы. – Господь стяжал – не я… Господь явил милость! Впрочем, несмотря на победу, трудно тебе будет справляться с королевством. Слишком много язв. В крепости Кир-Моав – изменник Ренальд де Шатильон. Тут – великий магистр де Ридефор. Этот куда хуже, чем покойник Сент-Аман, потому что умнее. А главное – то, что нас мало. Мало рыцарей! Редкие приезжают, редкие остаются… Балдуин замолчал – говорить ему тоже было уже нелегко. Молчал и Ибелин, от природы немногословный. Переведя дух, король продолжал: – Кто был тот рыцарь, который хотел поддержать меня после битвы? Должно быть, кто-то из новых, если не побоялся до меня дотронуться? – Лузиньян, младший брат Амальрика. Еще не рыцарь: как раз и приехал, совсем недавно, чтобы заслужить тут посвящение. Он был с нами под Алеппо. Славно бился – добрая кость! – Так посвятите его от моего имени. Надеюсь, он у нас останется, как и его брат? – Не останется. Говорит, после посвящения сразу же поедет домой. Там у него невеста. Девица, верно, боится, как бы его у нее не отобрали: малый-то – красавец… – А я и не заметил, каков он собой. Неужели и впрямь так хорош? – О, не то слово! – Ибелин оценивающе присвистнул. – Редкая для мужчины наружность. Но при всем том – славный и честный юноша. – Тем обиднее его лишиться.Глава 12 ГОРА СОБЛАЗНА
– Принцессы требуют от меня невозможного! – отбивался, теряя терпение, Ренальд из Си-Дона. Но принцессы стояли на своем. – Вы же обещали! – Дали слово рыцаря! – Прошло много времени. Сейчас это уже не в счет. – Как это не в счет? Тогда я не могла поехать из-за ребенка, потому что кормила грудью. Но мы договорились, что поедем, как только я его отлучу. Теперь я свободна. Едем! – Вы отлучили принца? – переспросил Ренальд. – Не рано ли? – Мужчине не следует соваться в бабские дела. Что вы в этом понимаете? Да, я отлучила малыша, потому что он кричал, не переставая. – А теперь не кричит? – Кричит по-прежнему, но хоть никто не говорит, будто все из-за меня. А то матушка чуть что: «Это ты виновата, это твое молоко никуда не годится, это ты за ним плохо смотришь…» Словом, и то не так, и это не этак – совсем меня заела! Так когда мы едем? – Я уже не раз покорнейше объяснял, что никуда мы не едем – разве только с ведома короля или рыцаря Ибелина. – Вы шутите? Ни тот, ни другой не позволят. – Я знаю – и тем более не посмею ехать втайне от них. – Трус! Вы их боитесь? Ренальд покраснел, задетый за живое. – Я не трус, просто я не могу поступить бесчестно! Речь, как нетрудно догадаться, шла о задуманной некогда поездке на Гору Соблазна. Обе принцессы, припомнив об этой затее, загорелись желанием как можно скорее там побывать. Изабелла все больше времени проводила у своей единокровной сестры. Двор ее матери был строгий и скучный, а свадебныехлопоты Сибиллы казались такими заманчивыми; самое же главное – Онуфрий де Торон, которого не жаловала вдовствующая королева Мария Теодора Багрянородная, зато, наоборот, привечала Агнесса, встречался здесь со своей милой. Сегодня же, как назло, Онуфрия не было: пару дней назад у него случился приступ жестокой лихорадки. Лишившись его общества, принцессы принялись тем настойчивее добиваться от Ренальда из Сидона, чтобы он сдержал данное им слово. – Так вы не хотите сопровождать нас? – Сибилла перешла от уговоров к угрозам. – Что ж, вы еще пожалеете об этом, когда мы поедем туда одни. А мы-таки поедем – видит Бог! И нас похитят разбойники, потребуют за нас выкуп, а то еще и обесчестят – и королевство погибнет. Слышите? Королевство погибнет! Мы всем должны быть готовы послужить королевству, говорит мой брат, прокаженный. Так послужите нам! А если вы не согласитесь и с нами случится какая-нибудь беда, мы скажем, что это ваша вина. Что это вы затащили к нам старого оруженосца Готфрида Бульонского, чтобы возбудить наше любопытство, а потом совсем не по-рыцарски отказали нам в помощи. – От двух таких своенравных сумасбродок можно ждать чего угодно, – сердито буркнул Ренальд. – Но что бы вы там ни говорили – я не поеду! Сибилла даже заплакала с досады. Слезы не портили ее красоты. Она знала это и не старалась сдерживаться. – О я несчастная! – причитала принцесса. – И что только у меня за жизнь! Мелочь, каприз – пусть глупый, не спорю, но и того я не могу себе позволить… Всего-то и было счастья на моем веку, что три месяца с Вильгельмом! А что впереди? Тоска… одна тоска… И ничего-то мне нельзя. Проехать полторы мили, чтобы поглядеть на старые развалины, – и то не дают! Сибилла вытерла заплаканные глаза надушенным белым платком. Ренальд невольно представил себе подле этой юной красавицы щербатого, вечно озабоченного Ибелина и подумал, что горюет она не без причины. Не пара ей Ибелин. Бедная женщина… Растрогавшись, Ренальд стал податливее. – Если бы можно было устроить это так, чтобы никто ни о чем не догадался! – вырвалось у него. Радостными криками встретили сестры первый знак того, что несговорчивый рыцарь готов уступить. – А вот и можно, можно! Мы уже все обдумали! – И никто не узнает? – Слушайте: утром мы поедем в монастырь, в гости к бабке Иветте. Мол, помолиться за счастливое замужество Сибиллы и все такое… Когда доедем, отошлем назад придворных дам с пажами и скажем, чтобы вернулись за нами вечером. Сразу после этого уедем и мы – за монастырской стеной вы будете ждать нас с лошадьми. Около полудня мы будем обратно. Правда, хорошо продумано? – Не очень: как объяснить в монастыре, почему вы, едва приехав, уезжаете? – Это мы тоже предусмотрели. Одна из нас забудет дома кошелек с милостыней или еще какую-нибудь мелочь, за этим мы якобы и вернемся. – Какая хитрость! Неудивительно, что женщины вертят нами, простодушными, как им заблагорассудится. Что ж, похоже, наша затея может увенчаться успехом. Подождем только, пока выздоровеет Онуфрий. – Нечего ждать! – вскричала Сибилла. – Неизвестно, сколько времени он еще проболеет, а я вот-вот буду замужней дамой… Едем завтра же, не откладывая! – Один я ни за что не поеду. Для такого дела нужны самое меньшее двое мужчин, чтобы защитить вас в случае нападения. – Возьмите кого-нибудь из рыцарей! – И кто бы это, по-вашему, мог быть? – Плебан де Бутрон! – Этот?! На Гору Соблазна? Да он как услышит, что где-то нечисто, так давай креститься и озираться по сторонам! – Бриз Барр! Уж он-то сумеет постоять за нас хоть против сотни разбойников… – А что толку? Крепкая кость, но болтлив – хуже бабы. Все растрезвонит. – Амальрик де Лузиньян! – Эта лиса? Он первый же и доложит королю, что мы задумали. Впрочем… есть у меня одна мысль… – Какая? Какая? – Если я сумею найти нужного человека, готовы ли вы дать слово, что не откроете ему, кто вы? Я представлю вас как своих родственниц, совершающих паломничество к Гробу Господню с целью перебороть грех чрезмерного любопытства. – Замечательно! Даем слово! – Тогда я, пожалуй, кое с кем потолкую. Но предупреждаю, вы будете разочарованы: там одни развалины – и больше ничего. Простившись с принцессами, Ренальд из Сидона нехотя двинулся к дому Амальрика Лузиньяна. В душе он ругал себя за то, что поддался женским уговорам. «Вот ведь охота пуще неволи!» – думал он, берясь за массивное медное кольцо на воротах. На стук вышел привратник, и Ренальд с радостью услышал от него, что рыцарь Амальрик уехал на охоту и дома только Лузиньян-младший. Вит был счастлив. Неделю назад Раймунд из Триполи торжественно посвятил его в рыцари, вручив шитый золотом пояс и серебряные шпоры. Помимо этого, из-под Монжисара он привез немало трофеев. Сам-то он и не подумал о добыче, но предусмотрительный Амальрик потрудился за двоих, захватив семь отличных скакунов с богатой сбруей да четыре воза всякого добра. Там были дамасские клинки, золотая и серебряная посуда, дорогие одежды… Вит впервые в жизни увидел своими глазами роскошь Востока – а в полной мере оценил его сказочные богатства в покинутом шатре султана. Часть добычи Амальрик взял себе, чтобы возместить деньги, истраченные на прием брата. Остальное разделил между ними обоими, не забыв и старого оруженосца. Так нежданно-негаданно Вит сделался обладателем целого состояния, что довершило его счастье… Он больше не сердился на брата за то, что тот вызвал его сюда, а наоборот, был ему от души благодарен. «Вот повезло, так повезло!» – повторял про себя Вит. Еще бы: он возвращается рыцарем и вдобавок с добычей, так что теперь ему не зазорно будет явиться к господину де Сен-Круа и попросить руки Люции. В рыцарское достоинство его возвели от имени самого короля, за участие в величайшей виктории из всех, какие знало Иерусалимское королевство. И всем этим он обязан брату. – Да уж езжай, езжай себе, – говорил на это Амальрик, подавляя зевоту. С тех пор как ему удалось возместить понесенные расходы, он повеселел, но все же с нетерпением ждал отплытия брата, опасаясь, как бы легковерный молокосос не проболтался кому-нибудь об истинных причинах его приезда. – Послезавтра мы простимся, – объявил Вит брату, когда тот собирался на охоту. – В четверг отплывают галеры из Яффы. – К этому времени я вернусь, – бросил в воротах Амальрик, – так что еще увидимся. Да хранит Господь Святую землю! Вит повторил последнюю фразу и, весело напевая, отправился укладывать трофеи. Приятное это было дело! Приехал ни с чем, не считая того, что на себе, а теперь вот сколько у него богатств! Не стыдно дома показаться. Больше всего восхищали его переливающиеся всеми цветами радуги стеклянные флаконы, секрет изготовления которых был совершенно неизвестен в Европе. Их он укладывал особенно тщательно, представляя себе восторг Люции. О любимая! Через месяц, даст Бог, они снова будут вместе. А если добавить сюда те три с половиной месяца, которые прошли со времени его отъезда, то получится неполных пять. Нет, она еще не могла забыть его! Ей он подарит эти флаконы и дорогую пряжку. А перед матушкой наденет вот этот тюрбан с алмазным аграфом и скажет: «Я – султан! Это даже больше, чем король!» То-то будет смеха… Только бы флаконы не разбились. И какими такими чарами эти язычники засунули в стекло радугу? Вот обрадуется Люция! Вот удивится! Занятый этими мыслями, Вит не слышал, как вошел Ренальд из Сидона, и вздрогнул от неожиданности, когда тот положил руку ему на плечо. – Я пришел просить вас оказать мне услугу, – начал Ренальд, не теряя времени на приветствия. Вит сердечно улыбнулся. – Рад был бы служить вам, благородный рыцарь, всем, чем только пожелаете, но послезавтра я уезжаю… – Послезавтра? Так посвятите мне завтрашний день! – сказал Ренальд, а про себя подумал: «Тем лучше, что он уезжает. Не успеет никому проговориться». – Располагайте мною, – без колебаний ответил Вит. Он сам был так рад и счастлив, что готов был осчастливить каждого. – Что, кстати, у вас за дело? Ренальд смущенно погладил свою роскошную бороду. Даже такому закоренелому насмешнику, как он, нелегко обманывать честного рыцаря. Проклятые бабы! Хорошо еще, что молодой Лузиньян уедет, так и не узнав, что его водили за нос. – Дело-то пустячное, – махнул он рукой, – даже сказать смешно. Две мои родственницы, совершающие паломничество, хотят осмотреть развалины на Горе Соблазна. Слышали о ней? Вит не слышал. – Неважно, расскажу по дороге. Туда никто не ездит: считается, что там нечисто. И совсем бы уж ни к чему совать туда нос женщинам: говорят, в старину там творились гнусные непристойности. Но бабы и есть бабы. Заладили, что не уедут, пока не увидят этих развалин. Пришлось мне пообещать, что завтра я их туда сопровожу. Вит был заинтригован, но все не мог взять в толк, при чем же тут он. Ренальд поспешил объяснить: – Один с двумя девицами я туда ехать побаиваюсь. Мне должен был составить компанию Онуфрий де Торон, но он заболел, а родственницы на меня наседают… – Вы хотите, чтобы я заменил Онуфрия? – догадался Вит. – С радостью! Я-то думал, что все повидал в Иерусалиме, а тут еще кое-что новенькое… – Спасибо, что согласились, только… – нерешительно протянул Ренальд, – я попросил бы еще сохранить нашу поездку в тайне. А то, знаете, пойдут разговоры о моих родственницах, что, мол, неприлично дамам ездить на эту гору и все такое. – Я никому не скажу: слово рыцаря! – воскликнул с чувством Вит, наслаждаясь тем, как прекрасно это прозвучало. Впервые после своего посвящения он дал эту клятву. Про себя он, правда, недоумевал, к чему такие предосторожности. Прожив в Иерусалиме совсем недолго, он уже успел заметить, что здешние женщины не отличались чрезмерной робостью и не слишком боялись пересудов. Впрочем, это его не касается. – Даю слово рыцаря, что не выдам тайны, – повторил Вит, протягивая Ренальду руку. – Весьма вам обязан, рыцарь, – пожимая ее, отозвался тот. – С женщинами, когда они заупрямятся, ох как трудно сладить!* * *
Конские копыта цокали по камням. Час был еще ранний, поэтому жара пока не особенно ощущалась. Всадники ехали парами – Изабелла с Ренальдом впереди, Сибилла и Лузиньян сзади. Гора Соблазна была уже совсем близко. Изабелла разочарованно смотрела перед собой: обычный, не слишком высокий холм, усеянный какими-то глыбами. Соседние горы ничем не отличались от этой, и издалека трудно было разобрать, громоздятся ли на них развалины построек, возведенных здесь некогда рукой человека, или это валуны, которые во времена сотворения мира сбросили на землю мятежные ангелы. – Уверяю вас, принцесса, что и вблизи это выглядит ничуть не лучше, – ворчал Ренальд. Сибилла не обращала внимания на возгласы сестры, да и вообще не замечала Горы Соблазна. Словно завороженная смотрела она на едущего рядом Лузиньяна. Катрин де Ла Хей была права: красив как ангел! Интересно, о чем думает ее молчаливый спутник? Она задала этот вопрос вслух. Вит ответил ей обворожительной молодой улыбкой. – Завтра я возвращаюсь домой, и, признаться, все мои мысли сейчас – только об этом, – проговорил он, смущенно отводя глаза. Впервые в жизни очутился он в обществе такой женщины. Эти родственницы Ренальда, должно быть, знатные дамы: надушены, нарумянены, холеные ногти накрашены! Та, что впереди, еще совсем ребенок – зато старшая… Какой необычный взгляд, какая волнующая плавность в движениях! Трудно даже сказать, красивая она или нет. Пожалуй, красивая, но прежде всего – она другая. Не такая, как матушка, как Люция, не такая, как все те девушки, которых он бывало целовал. Никто с ней не сравнится! Они молча ехали друг подле друга. Впереди, не переставая, болтала и шутила со своим спутником Изабелла. Хотя Гора Соблазна обманула ее ожидания, она все-таки была довольна прогулкой. Особенно веселило ее то, что все во дворце думают, будто они сейчас благоговейно молятся в монастыре за счастливое замужество Сибиллы. – Совет да любовь, сестра! – дразнила ее Изабелла. Сибилла сердито вздергивала плечи. Сестрице хорошо смеяться: не ей делить ложе со щербатым брюзгой! Принцесса нахмурилась и погрустнела. И зачем только она настояла на этой поездке? Ничего интересного на Горе Соблазна, конечно, нет: даже отсюда видно, что там одни голые камни. Вот красивый ее кавалер, с безразличным видом скачущий рядом, – это частица настоящей жизни, той, которой она никогда не познает, которая проходит мимо нее… Этот юноша, счастливый и довольный, завтра отправится домой. Должно быть, там его ждет милая, они любят друг друга, поэтому он и улыбается так блаженно, говоря о предстоящем отъезде… Расстроенная, Сибилла ехала понурясь, не поднимая глаз от серой каменистой дороги. Пользуясь случаем, Вит пригляделся к ней пристальнее и нашел, что все-таки она красивая. Определенно красивая: нежная округлость щек, длинные ресницы, тонкая шея… Только отчего она так грустна? Может быть, и она тоскует о ком-то далеком? Очнувшись, Сибилла вскинула голову и поймала на себе его взгляд. Вит покраснел, словно напроказивший школяр. Этот румянец развеселил принцессу. – Вы давно в Иерусалиме, рыцарь? – спросила она. – Без малого три месяца. – И как, понравилось вам тут? – Вы не здешняя, благородная госпожа, поэтому скажу честно: не понравилось. К местам этим, да и к людям, привыкнуть трудно, и я с радостью уезжаю. Поистине на муку себе выбрал наш Господь этот край! Сущая пустыня… Я бы тут ни за что не остался. – Так вам не понравилось… – разочарованно протянула Сибилла. Вит испугался, как бы она не сочла его неблагодарным. – Нет-нет, я не жалуюсь! – с жаром возразил он. – Упаси Бог! Для меня все здесь сложилось на редкость удачно. Правда, под Алеппо дело не заладилось, зато под Монжисаром… Побывать в такой битве – это и старшим нечасто выпадет, а вот мне, юнцу, повезло! И в рыцари меня посвятили – причем от имени самого короля! И у Гроба Господня я был, и величайшие в мире святыни видел… И немалые трофеи собрал на поле боя, так что, уехав из дому бедняком, возвращаюсь богатым человеком… Словом, во всем мне повезло. – Должно быть, дома вас ждут – не дождутся! – О да! – бесхитростно отвечал Вит. – Матушка и невеста. – У вас есть невеста? – Есть… Конечно, – юноша снова покраснел, – мне не следовало бы еще называть ее невестой: наши отцы пока ничего не знают и не дали нам своего родительского благословения. Мы сами обручились, хотя так и не полагается. Но теперь, когда я стал рыцарем, ее отец наверняка мне не откажет. – Еще бы он отказал! А что, ваша невеста такая же красивая, как и вы? Вит смешался и даже не знал, что ответить. Он, конечно, отдавал себе отчет в том, что красотой его Бог не обделил. Красноречивее всякого зеркала говорили ему об этом восхищенные взгляды соседских девушек, Люции, матушки… Но впервые столь благородная дама с такой откровенностью высказала это вслух! Юноша напрасно надеялся, что скачущая впереди пара повернет коней и поможет покончить с тягостной беседой. Как назло, Ренальд с Изабеллой ехали не оглядываясь. Владетель Сидона со смехом доказывал своей спутнице, что нынешний отчим Онуфрия де Торона, Ренальд Шатильонский, наверняка не разрешит пасынку жениться, покуда тот не принесет ему сто отрубленных сарацинских голов. А Онуфрий, сам потерявши голову, конечно, никогда не замахнется на чью-либо чужую. Изабелла возмущенно опровергала эти наветы. Онуфрий, твердила она, так же отважен, как его отец и дед, как и все в его роду! Нрава он мирного, но если будет нужда… Ренальд кивал, допуская, что лев, начертанный на гербе Торонов, живет и в Онуфрии – только, должно быть, его сызмальства поили маковым отваром, поэтому он крепко спит и никакая сила его не разбудит. – Я… люблю свою невесту… – наконец выдавил Вит, так и не найдясь с ответом, но чувствуя, что промолчать было бы неучтиво. Сибилла не спускала с него глаз. – Стало быть, вы любите друг друга… потом поженитесь… – и что же дальше? Вит совсем растерялся. Чего она от него хочет? – Будем жить в отцовском замке. У меня трое братьев: самый старший – при дворе английского короля, второй тут, третий хромой, так что его готовят к духовному званию, а я – я, верно, останусь хозяином в родовой усадьбе. – И так всю жизнь? – Даст Бог… – И не жаль вам будет? – Другой судьбы я для себя и не мыслю. Чего мне жалеть? – Всего! Краев, которых вы не повидаете, приключений, которых не изведаете, да мало ли чего еще… – Нет, – убежденно ответил Вит. – Это хорошо для бродячих музыкантов да странствующих рыцарей, которые мыкаются по белу свету, нигде не находя себе места. Такое житье не по мне. – Только ради нового, неизведанного, и стоит жить! – запальчиво выкрикнула Сибилла. Госпожа Бенигна была бы, конечно, иного мнения, а Люция – та вообще не поняла бы, о чем речь, поэтому и Вит, не задумываясь, принял сторону матери и невесты. – Мне другой жизни не надо. Как дед мой и отец сидели себе в замке, так и я… Сибилла насмешливо скривила губы. – Странно, что при вашем образе мыслей вы решились участвовать в этой поездке. На Горе Соблазна, знаете ли, всякое может случиться… Разве рыцарь Ренальд не предостерег вас, что там бродят привидения? Но Вит был слишком бесхитростен, чтобы почувствовать в ее голосе злорадство. – Да, он говорил – только мне это нипочем. У нас в роду была колдунья, бабушка Мелюзина; ее башня и по сей день цела, а сама она будто бы гуляет ночами по замку. Но я никогда ее не боялся! – Ваша бабушка была колдуньей? Расскажите мне о ней! – заинтересовалась Сибилла. И Вит вкратце пересказал ей все, что знал о жизни Мелюзины, обворожительной женщины-змеи. – Вы ее видели? – допытывалась принцесса. – Не видел: сколько ни наведывался вечерами к ее башне, она ни разу не показалась… – А портрет какой-нибудь не сохранился? Любопытно, как она выглядела? – Мне кажется… она походила на вас! – выпалил Вит и сам испугался слов, которые невольно сорвались у него с языка. Как он посмел! Благородную даму уподобил колдунье! Ренальд ему этого не простит… А она? Полон раскаяния, он не решался даже взглянуть на свою спутницу. Но только и впрямь: она – единственная из знакомых ему женщин, кого можно было сравнить с Мелюзиной. Этот гибкий змеиный стан, эти дерзкие черные глаза, вспыхивающие золотистыми искорками из-под длинных ресниц… Сибилла, вопреки его опасениям, ничуть не обиделась. – На меня? – переспросила она с улыбкой. – Это забавно… Но уж я бы, конечно, не пряталась, если бы меня вечерами поджидали под башней! Вит смутился еще больше. К счастью, выручил Ренальд. – Тут лучше будет спешиться и вести лошадей в поводу! – крикнул он. – Дорога становится круче. Ренальд соскочил с коня, помог выбраться из седла Изабелле и ухватил обоих коней под уздцы. Лузиньян последовал примеру товарища. Сибилла, на миг обвив руками его шею, легко соскользнула на землю – тоненькая и юркая, как змейка. Именно змейка! Они стали взбираться наверх, таща за собой упирающихся лошадей и стараясь не оступиться на шатких острых камнях, которыми были покрыты склоны горы. Все четверо хранили молчание. Чем ближе они были к вершине, тем сильнее разбирало их любопытство, к которому примешивался смутный страх перед будто бы обитавшими там духами. А цель была и впрямь близка. Путешественники уже не сомневались, что перед ними – не случайное нагромождение валунов, а полуразрушенная кладка стены. В прозрачном горном воздухе отчетливо виднелись отбитые куски статуй, витые капители колонн, детали пилястров – и все это в беспорядке раскидано, рассыпано тут и там, словно после землетрясения. Наконец они достигли вершины и двинулись в обход этих развалин, тщетно пытаясь отыскать в стене какой-нибудь проем. Ренальд успокоился: все эти страхи вокруг Горы Соблазна – пустые байки, не из-за чего было и шум поднимать. И нет тут никого, ведь чтобы проникнуть внутрь, убрав с пути огромные каменные глыбы, надо иметь силы исполина! – Пусто – ни тебе духов, ни разбойников… – пожаловалась Изабелла. – Это из-за меня, – вздохнула Сибилла. – Ни в чем мне не везет! Лошадь Ренальда фыркнула и запрядала ушами. Рыцари, переглянувшись, застыли на месте как вкопанные: им послышалось, что в ответ где-то совсем близко раздалось приглушенное ржание… Конь? Здесь, среди этих развалин? Не может быть! Верно, это дьявольское наваждение! Так значит, все же… все же… Сердце у обоих принцесс сжалось от страха, смешанного со сладостным предвкушением того, что, кажется, вот-вот начнется. Ренальд, нахмурившись, обнажил меч. Вит тоже изготовился к бою. Все с осторожностью пошли дальше, внимательно осматриваясь по сторонам. Но вокруг по-прежнему царила мертвая тишина, которую нарушал только громкий, слишком громкий отзвук их собственных шагов. «Нет, на наваждение это не похоже! – думал Ренальд. – Ржал конь. Духи же коней не жалуют. Дьявол может обернуться козлом, петухом, старой бабой, но конем – никогда. Стало быть, это люди. Обыкновенные разбойники – или… кто знает… Исмаилиты?!» Мысль эта в первый раз пришла рыцарю в голову – и он даже задрожал, вообразив себе страшные последствия своей беспечности. Как он мог привести принцесс в такое место, подвергая их смертельной опасности! Прочь, прочь отсюда, пока не поздно, скорее назад! Однако принцессы и слышать не хотели о возвращении, так что все продолжали продвигаться дальше по краю крутого обрыва, огибая разрушенную, но все же неприступную для них стену. В прежние времена ее украшало множество барельефов, и даже сейчас с расколотых плит на путешественников взирали то бдительные, то сонные, то гневные, то смеющиеся лица поверженных и забытых ныне богов, которых некогда чтили в этом святилище. Вдоль стены валялись обломки рук и ног, конские, львиные или бычьи головы, фрагменты резного орнамента… Они описали уже почти полный круг, когда наконец обнаружили вход – точнее сказать, узкую щель, достаточную, однако, для того, чтобы туда мог протиснуться всадник с конем. Изабелла сразу же устремилась в этот проем, но Ренальд опередил ее. – Ни шагу далее, принцесса! – вскричал он, отстраняя ее, и с обнаженным мечом пошел первым. Лузиньян быстро привязал лошадей к полуобвалившейся колонне и побежал догонять Сибиллу. Но не успели они как следует оглядеться, как откуда-то из-под земли послышался грохот. Пророкотав, подобно грому, он затих, чтобы тут же возобновиться. К грохоту примешивался протяжный свист и странные шорохи. В звуках этих, противоестественных, идущих словно из самых глубин преисподней, не было ничего человеческого. Не удивительно поэтому, что четверо смельчаков не раздумывая ринулись обратно: дамы впереди, а рыцари – за ними, прикрывая общее отступление. Грохот то смолкал, то нарастал вновь. Побелев от страха, беглецы отвязали коней и потащили их за собой, а на полпути вскочили в седла и, невзирая на крутизну, помчали во весь опор под гору, рискуя сломать себе шеи. Только у подножия они остановились и перевели дух. – Что это? Что это было? – бескровными губами шептала Сибилла. – Дьявол – что же еще! – без тени сомнения ответил Ренальд. – Надеюсь, вы довольны? – Не то чтобы очень. Слишком рано мы убежали. Меня так и тянет туда вернуться. – Меня тоже! Это так сладко – когда сердце замирает от страха! – Что ж, возвращайтесь – но только без нас. Нам еще жизнь не надоела, не правда ли, рыцарь? Обратный путь прошел в молчании. Ехали быстро: время было уже позднее. Проводив мнимых родственниц Ренальда до монастыря на Масличной горе, рыцари направились в город. – Странные дела творятся на этой горе, – говорил дорогой Ренальд. – Как-нибудь надо будет собрать отряд и перетряхнуть эти камни. Сдается мне, тот проход в стене не сам по себе возник… да и конь заржал – клянусь Святым Крестом! А где конь, там люди – не духи… – А грохот? – спросил Вит. – Под сводами подземелья каждый стук подобен грому. Нет, нужно непременно туда наведаться. – Я бы с радостью присоединился к вам, – произнес Вит учтиво, – но завтра я уезжаю…* * *
Однако он не уехал. На другой день, чуть свет, неизвестный посыльный принес ему записку и тут же удалился, не сообщив, кто его направил. Сложенный лист не был запечатан, зато источал аромат, который живо напомнил Биту о вчерашней прогулке. Размашистым четким почерком на тонкой дорогой бумаге было начертано следующее:«Рыцарь, не спешите с отъездом – галеры из Яффы выйдут в море не раньше, чем через две недели. Ждите меня сегодня перед заходом солнца в Гефсиманском саду. Мелюзина ».Из строчек этого странного послания Вит понял только одно: что его долгожданный отъезд откладывается. Почему? Что задержало галеры? И как о том проведала родственница Ренальда из Сидона, которая, теперь это ясно, и прислала письмо? Встревоженный, он прошел в покои брата, чтобы расспросить его о подробностях: может, Амальрику что-то известно? Старший Лузиньян лежал еще в постели – весь пожелтевший, с кислым лицом. До дома он добрался далеко за полночь, совершенно больной после обильного застолья с неумеренными возлияниями. – Откуда ты знаешь? – изумился Амальрик. – Это потрясающе – всякая новость здесь разносится даже раньше, чем она выйдет из стен дворца! Так вот: приехали мы вчера после полудня с охоты, которая не задалась, и Жослен де Куртене зазвал всех к себе на пирушку. Едва мы сели, как за ним послала Агнесса… то есть ее милость королева-мать… Вернулся он через час и рассказывает, что наутро должен отправить гонца к начальнику портовой стражи в Яффе, чтобы ни единой галеры из порта не выпускал, покуда сборщики пошлин как следует не проверят, нет ли за кем каких долгов: кто-то, понимаешь, донес, будто иные купцы недоплачивают. Мы еще говорили, что судовладельцев со злости удар хватит, потому что таможне спешить некуда, а у них товар пропадает. Жослен же на это: «Да пускай хоть лопнут – мне-то что за дело!» Теперь они подадут прошение королю, и он их скорее всего выпустит – но это когда еще будет! А ты-то как об этом узнал? – В городе слышал… Уж не помню, от кого… – выкручивался Вит. Покажи он письмо – пришлось бы признаться, куда и с кем он вчера ездил. Чтобы избежать расспросов брата, младший Лузиньян отправился в город и бесцельно бродил по улицам, бесясь от досады и скуки. В последнее время он привык уже смотреть на здешнюю жизнь со стороны – как будто с палубы корабля, который уносит его к родным берегам. А сейчас его словно вернули с полпути, и он не знал, чем заполнить тягостные дни. Две недели ждать… Нет, это невыносимо! Напрасно он внушал себе, что не так это и долго, а стало быть, и сокрушаться тут не о чем: странное предчувствие заставляло его вопреки доводам рассудка воспринимать непредвиденную задержку как жестокий удар судьбы. Просто наваждение какое-то! А все оттого, что домой тянет… Родственница Ренальда из Сидона, которая так и не открыла своего имени, а в записке назвалась Мелюзиной (святой Мамерт, святая Радигонда: и не побоялась же, и не постыдилась!), которая писала куда ловчее любого мужчины, назначила ему встречу в Гефсиманском саду. Пойти или не пойти? Отказываться неучтиво, к тому же стоит выяснить, откуда ей известно, что галерам запрещено выходить в море, и не знает ли она поточнее, когда же их выпустят. Итак, в Гефсиманском саду… Но отчего она выбрала это священное, единственное на свете место? Вит и не мог подумать о нем иначе, как с чувством глубокого благоговения. Ведь в Гефсиманском саду, скорбя и тоскуя, молился наш Господь. «Отче Мой! Если возможно, да минует меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты…» Нет, неподобающее это место для свиданий с женщиной! Лузиньян дал себе слово сурово, без обиняков указать на это таинственной незнакомке. Однако когда Сибилла, вся будто озаренная розовым отсветом закатного солнца, легкая и стройная, вступила под сень деревьев, от его решимости не осталось и следа. Собравшись с духом, он осмелился только невнятно пролепетать, что, мол, Гефсиманский сад располагает скорее к молитве… Она беспечно засмеялась. – Если все время помнить о том, что было, то трудно и жить – особенно тут, в Иерусалиме! Я выбрала это место потому, что только здесь можно найти немного прохлады и тени. Сибилла повела рукой – и Вит, оглядевшись по сторонам, вынужден был признать, что среди серых каменных дебрей города единственным зеленым пятном выглядела Масличная гора с Гефсиманским садом. Чтобы набрести на другой такой оазис, нужно было идти в Вифлеем, Еммаус, а то и в Айн-Карим, на родину Иоанна Крестителя. Гефсиманский сад составляла сотня оливковых деревьев – старых, причудливо изогнутых. Глядя на их могучие, узловатые, извивающиеся, словно хвосты дракона, корни, на их поросшие мхом дуплистые стволы с шершавой, кремнистого оттенка корой, легко было поверить, что эти деревья помнят времена Иисуса Христа. Глубокая их древность пробуждала мысли о вечном, непреходящем. Торжественная тишина царила под их кронами, а почву внизу покрывала скудная, но все же зеленая трава, усеянная мелкими темно-красными цветочками. – Тут что ни шаг – то святыня, – продолжала принцесса, усаживаясь на удобный изгиб выступающего над поверхностью земли корня. Вит по ее знаку опустился прямо на траву. – И каждую святыню нужно чтить, каждой поклоняться… Вы, наезжающие сюда ненадолго, и вообразить не можете, как это нестерпимо! Ни минуты покоя, даже вздохнуть нельзя полной грудью – вечная неволя. Священные камни давят на нас. За морем считают, что мы тут должны быть ангелами, раз уж живем в таком месте. Мы же – самые обычные люди. Нам остается только на котурны встать, чтобы на старой родине нас похвалили! А я не люблю стоять на котурнах, – покачала она своей маленькой ножкой, обутой в шитый золотом сафьяновый башмачок, – я хочу жить в свое удовольствие. Бог дал нам всего одну жизнь, и она так мимолетна! Я и оглянуться не успею, как стану старой да уродливой. Молодость не вернется – а тут ни в чем себе воли не даешь, то и дело на что-то оглядываешься. Поэтому я не выношу Иерусалим: в приморских городах дышится куда легче, свободнее… Вит слушал ее с нескрываемым недоумением. – Вы говорите так, словно вы местная! Сибилла покраснела, как ребенок, уличенный во лжи. – Да нет, просто я живу здесь уже год, вот поневоле и освоилась… Но скажите, вы очень огорчились, что отплытие галер задерживается? – Очень! – откровенно признался Вит. – Худшего со мной, кажется, и случиться не могло. Сощурясь, Сибилла взглянула на него из-под густых ресниц. – Вам так не терпится уехать? Почему? Вит встрепенулся. – Я же говорил вам вчера, что… – Помню-помню: матушка и невеста. Но они никуда не денутся, зато, быть может, вам тем временем доведется пережить нечто необычайное! – Мне это без надобности, – буркнул Вит. – Не зарекайтесь, рыцарь! – возразила со смехом Сибилла. – Как знать? Ходили же вы ночами к башне вызывать дух вашей праматери-колдуньи – а вдруг такая колдунья, только живая, встретится вам здесь? Лузиньян от изумления вытаращил глаза. Ему отчего-то вспомнилась Люция: ее румяные щеки, коса до пояса, ее потертая шубка, хранящая запахи леса и хлева… – На что мне колдунья? – стоял он на своем. – Вы еще спрашиваете! Что если она волшебными чарами велит галерам двинуться в путь? В ее голосе слышалась насмешка. Таинственная незнакомка подшучивает над ним! Вит почувствовал, что его это задевает. – И где же найти такую колдунью? – Она перед вами. Юноша недоуменно оглянулся назад. У Сибиллы от смеха на глаза навернулись слезы – частые спутницы ее веселья. – Я говорю, перед вами, а не за вами! Неужели вы не поняли? Это я и есть. Вы же сами вчера сравнили меня с колдуньей! Я могу обернуться змеей. Могу обвить вас и задушить… Вит испуганно отшатнулся от нее. А вдруг это в самом деле Мелюзина, которая последовала за ним на чужбину? Сибилла встала, плавно поводя бедрами. И вправду: упругий, гибкий стан ее колыхался точь-в-точь как у змеи! – Не верите? А я вам докажу: сделаю так, что галера через неделю выйдет в море, и вы наконец сможете отправиться домой… если захотите… И принцесса бросила на него такой вызывающий взгляд, что юноша вздрогнул и потупился. – Однако мне пора, – заключила Сибилла. – Приходите завтра в тот же час – побеседуем подольше…
Глава 13 ТАЙНОЕ БРАТСТВО
Если бы принцессы и их провожатые побороли в себе страх, вызванный шквалом непонятных звуков, которыми вдруг взорвалась тишина на Горе Соблазна, если бы они не обратились столь стремительно в бегство, а внимательно осмотрелись по сторонам, они без сомнения обнаружили бы узкую, но достаточно удобную для пешехода тропу, петлявшую зигзагом среди развалин. По ней им нетрудно было проникнуть внутрь, дабы убедиться, что там действительно не осталось камня на камне: так беспощадно творили здесь разрушения рыцари Танкреда. Удостоверившись в этом, пытливые путешественники могли покинуть развалины, удовлетворенные, но и разочарованные; однако стоило им поискать тщательнее, приглядеться пристальнее, и они наверняка бы заметили небольшое, зияющее чернотой отверстие – спуск в подземелье, которое было гораздо обширнее и едва ли не важнее остальной части святилища. Сотоварищи вспыльчивого Танкреда то ли не наткнулись на этот ход, то ли подумали, что, заваленный обломками, он все равно никому недоступен… В мрачном проеме смутно виднелись ступени, ведущие в низкое просторное помещение, посередине которого находился колодец. Он казался поистине бездонным: бросив вниз камень, пришлось бы долго ждать, пока оттуда донесется глухой его удар о черную мертвую гладь воды. А если при этом посветить лучиной, то можно было бы увидеть внизу, в головокружительной глубине, дрожащее мерцание тусклого огонька на растревоженной поверхности. В конце этого помещения была устроена неплохая конюшня с удобными денниками, с запасами корма и воды. Сейчас конюшня пустовала, но ее ухоженный вид говорил о том, что ею пользовались, а стало быть, ржание, слышанное Ренальдом из Сидона и Витом, им не почудилось. Под сводом подземелья висел странный предмет, отдаленно напоминающий мельничное колесо, с рукоятью, которая, очевидно, приводила в движение его механизм. На первый взгляд трудно было определить, каково его предназначение. Вокруг колодца виднелась вырубленная в толще скалы и уходящая глубоко вниз узкая винтовая лестница, соединявшая расположенные ярусами друг над другом галереи. От них лучами разбегались во все стороны длинные коридоры, ведущие в подземные залы, покои, кельи. Стены этих ходов и помещений покрыты были барельефами и фресками, краски которых в царящем здесь вечном мраке не потускнели от времени и при свете факелов представали в своей первозданной свежести: шафран, индиго, кармин… Одни помещения были низкие и тесные – они, скорее всего, служили склепами. Другие – просторные, с высокими сводами, которые подпирали украшенные роскошной резьбой колонны. В этих помещениях были сооружены каменные скамьи, столы и приземистые округлые жертвенники с желобами для стока крови. Если бы сюда попал тонкий знаток Востока, исследователь древней истории и первобытных верований, многомудрый архиепископ Тирский Вильгельм, он тут же понял бы, что эти подземелья являлись местом поклонения стародавней богине плодородия, которая в разных краях и у разных народов звалась Астартой, Иштар, Исидой, Афродитой, Венерой. Богиня эта олицетворяла плотское начало, бренную телесную оболочку человека, буйную, но слепую жизненную силу природы, разгул стихии, сладострастные объятия которой дышат смертью. Потому-то на стенах подземелья помимо астрономических приборов, треугольников, горизонтальных и вертикальных линий, помимо сфинксов, изображающих молчаливое Знание и дерзновенную Волю, помимо быков и львов, запечатлены были бесконечные шествия женщин, посвященных богине. Искусно высеченные в камне и раскрашенные фигуры повторяли одна другую до мельчайших подробностей: высокие маленькие груди, чуть откинутые назад головы, глаза подрисованные, тянущиеся по обычаю египтян к самым вискам… На женщинах была длинная, достигающая щиколоток одежда с разрезом сверху донизу. Сквозь разрез виднелся прикрывающий бедра передник. Каждый такой барельеф заканчивался изображением жертвенника, к которому и устремлялась процессия. По мере приближения к нему женщины сбрасывали передники и томно выгибались назад, словно даря невидимому божеству свое целомудрие, свое тело и жизнь. Так шли они цепью по всем подземельям, страстные и покорные. Только на нижних ярусах печальные их фигуры уступали место мерзким чудовищам в зверином или людском обличье – вопиюще безобразным и отвратительно бесстыдным. При виде их становилось понятным, почему так убоялся царь Ирод, приверженный этой вере, звезды, явившейся в Вифлееме и возвестившей всему миру, что Пречистая Дева родила Мессию. Становилась также понятной праведная ярость, с которой последователи Христа старались стереть с лица земли этот приют порока. Трудно было назвать точное число ярусов, составляющих подземелье. Ходы вели то вверх, то вниз, образуя замысловатый лабиринт. Нижние ступени винтовой лестницы тонули в черной воде, что сочилась со дна колодца. Мертвая тишина веками царила на самых глубоких ярусах, единственными обитателями которых были вырезанные в камне фигуры. Но то было лишь на самых глубоких ярусах. Выше наметанный глаз легко отыскал бы следы частого, а то и постоянного присутствия человека: песок, нанесенный на подошвах, обгорелые факелы… Сегодня же вдобавок в огромной пиршественной зале были накрыты столы, на скамьях лежали мягкие подушки, а вдоль стен горели масляные светильники. Стены и здесь испещряли все те же женские фигуры, изображения астрономических приборов и сфинксов, призывающих к молчанию. Над входом отчетливо виднелась свежая, совсем недавно выбитая надпись: «Igne natura renovatur integra»[417]. Несколько раз в году в этой зале, заранее должным образом подготовленной, собирались люди. Они съезжались ночью, по одному или по нескольку человек сразу – все в одинаковых серых плащах с низко опущенными капюшонами. В преддверии залы их встречал мужчина, одетый в такой же, как у них, балахон. Лицо его было наглухо закрыто капюшоном с прорезями для глаз и для рта. Сзади него стоял безобразный карлик-горбун с зажженным факелом. Встречающий спрашивал всякого входящего голосом великого магистра храмовников Жерара де Ридефора: – Чего ты ищешь? – Цветов акации. – Что значат цветы акации? – Что скрытое в недрах едино с тем, что на поверхности. – Откуда это известно? – Так гласит священный знак Гаммы. – Кто указал тебе путь? – Ясон, возлюбленный Медеи. – Зачем Ясон плавал за море? – За золотым руном. – Что есть золотое руно? – Желтый убор посвященного – покров Эпопты. Вопросы и ответы сыпались один за другим, быстро, громко, без запинки. Удовлетворенный хозяин впускал гостей, и те спешили занять места на скамьях. Число их колебалось от десяти до пятидесяти: бывало, что не всем участникам удавалось попасть на очередное собрание. Многие ехали издалека, из краев, лежащих за тридевять земель… Часто люди эти были меж собой вовсе незнакомы – только здесь и встречались, ведать не ведая, ни как кого зовут, ни какого кто племени. В мире же в случае нужды они узнавали друг друга по знакам треугольника и отвеса. Из фигур, которыми пестрили стены подземелья, эти легче всего было изобразить в воздухе рукой, не привлекая ничьего внимания. Как ни разнились они речью и верой, связующие их тайные нити были сильнее. Они составляли невидимое миру крепкое братство, о котором из непосвященных догадывались, быть может, только самые проницательные. Члены этого братства отрекались от всего того, что облагораживает человека, что возвышает его, заставляет устремляться к совершенству духа, обуздывая собственную плоть. Поэтому устав их проникнут был сугубой враждебностью к христианской вере. Они ненавидели Христа за то, что, будучи человеком и Богом, Он и других людей научил доискиваться божественного. За то, что Он спас их, не спросив, хотят они того или нет. Члены братства восставали против божественного, а в безудержных плотских удовольствиях находили сладость уничижения, обратного жертвенной кротости христиан: смердящий козел, воплощение похоти, был им милее Агнца. Не терпя сурового мужского начала, они сознательно или бессознательно старались ниспровергнуть все, что с ним связано: порядок, закон, обычаи… Сами себя они с гордостью называли воителями древней веры, считая, что человечество было счастливее, когда служило не душе, но телу. Лишенные чувства родины, они мечтали разрушить все разделяющие людей границы, чтобы утвердить на земле всеобщее царство плоти. Свой орден они нарекли Братством Соломонова Храма. Церемониал и традиции разноплеменного их сообщества объединяли в себе черты многих культур Запада и Востока. Больше всего заимствовало братство у христиан и исмаилитов. От последних восприняли его члены готовность слепо повиноваться своим вождям и даже умереть по их приказу. От них же был взят и прочно вошедший в обиход братства гашиш – смола индийской конопли, вызывающая у человека дивные неземные видения. У христиан членами братства усвоена была ученость, которая порождала отчетливое осознание совершаемых кощунств; это придавало их обрядам особую остроту. Уже лет двадцать, чуть ли не со времени основания братства, его глава неизменно становился также великим магистром тамплиеров. Неведомые часто даже друг другу члены братства вовремя сказанным словом или звонкой монетой умели повлиять на выборы в ордене с тем, чтобы добиться избрания нужного человека. Нетрудно догадаться, что совмещение в одном лице званий великого магистра ордена и предстоятеля братства шло на пользу обеим сторонам. Кроме прямых выгод, братству, которое объявило войну Христу, приносило злорадное удовлетворение ощущение того, что оно свило гнездо именно здесь, вблизи Гроба Господня, в Святой земле, где столько Его следов! Стереть эти следы, изгладить их из памяти людской – вот что полагало братство своей первейшей задачей.Потом его члены намеревались проникнуть в Европу и укрепиться там, чтобы повести наступление на христианство в Риме, во Франции – в краях, где оно имело особенно давние и глубокие корни. Во всем этом привечаемый в христианском мире орден призван был послужить братству щитом и опорой… Собрание все не начиналось. Безобразный карлик, страж подземелья, пытался объяснить что-то великому магистру. Рослый Жерар де Ридефор нагнулся, дабы разобрать, что он там бубнит. – Чужие тут были… третьего дня… – Чужие? Кто? – Обе принцессы… рыцарь Ренальд из Сидона… и с ними еще один рыцарь – не знаю, кто таков. – И далеко они забрались? – Только во двор вошли. Тут я запустил нашу мельницу – они и бежали… Великий магистр нахмурился. Бежать-то они бежали, но могут вернуться, чтобы понять, откуда был этот шум. Ренальд из Сидона – не трус! Подумав, он распорядился: – Завтра завали вход камнями и ступай домой. Обратно, пока не прикажу, не возвращайся. А Ренальду из Сидона я сам предложу поехать сюда со мной и обыскать развалины. Успокоившись, Жерар де Ридефор занял почетное место и дал знак начинать собрание. Главным вопросом сегодня была недавняя победа короля Балдуина под Монжисаром, которая немало обеспокоила членов братства. Неожиданный триумф стоящего на пороге смерти государя укрепил пошатнувшуюся было королевскую власть, что грозило срывом их замыслов. – Жаль, меня при этом не было! – восклицал великий магистр. – Но кто бы подумал, что в смердящем полутрупе найдутся такие силы? Ну, да больше подобное не повторится. – Не должно повториться! – подтвердили хором собравшиеся. Обсудив главное, заговорили о том, сколько хлопот доставит им Ибелин. Он постарается стать добрым королем и управлять страной разумно – что, конечно, никуда не годится. Как быть? Устранить его, как Монферрата, нельзя. Два несчастных случая подряд – это слишком. Ничто не должно нарушать естественного порядка вещей. Все собратья обязаны это помнить. Ибо на их пути, где малейший шаг вперед приближает братство к цели, недопустимо ошибаться в мелочах. Собрание завершилось пиром, за ним же последовала гораздо более приятная часть встречи. Жерар де Ридефор осушил в один глоток огромный кубок с вином и закрыл глаза, предвкушая. Король Балдуин заблуждался, приписывая ему недюжинный ум. Славой проницательного человека великий магистр был всецело обязан братству, с которым его, однако, связывали не столько далеко идущие разрушительные замыслы, сколько безудержное, порочное сластолюбие. Вот и сейчас, не в силах думать ни о чем другом, он нетерпеливо ждал той минуты, когда наконец войдут женщины. А их немало заключено было в этом подземелье. Юные красавицы, которых похищали из бедных семей, оставались здесь навсегда. Когда узницы увядали от истощения, затхлого воздуха и гнусных надругательств над их плотью, останки их скрывал каменный саркофаг с изображением быка, а места погибших занимали новые девушки. Длинной покорной вереницей они входят уже в залу. Одурманенные гашишем, с выражающими страдание лицами, с подрисованными глазами, тянущимися к самым вискам, в ниспадающих одеяниях с разрезом сверху донизу, они ступают, словно ожившие фигуры с барельефов, которыми покрыты стены этого святилища…Глава 14 МЕЛЮЗИНА… МЕЛЮЗИНА…
Редкой гостьей была королева Агнесса во дворце своего венценосного сына. Крестясь и призывая на помощь всех святых, торопливо проходила она сейчас покой за покоем, а перед входом в королевскую опочивальню на мгновение остановилась. Ну и дух же тут! Несчастный… Несчастный… Балдуин возлежал на своем ложе, скрытый за тонким пологом, который спускался от балдахина. Он не хотел, чтобы его видели. Хотя мир для него был погружен уже во тьму, он сознавал, как страшно, должно быть, исказила его черты подступающая смерть. Не раз долгими бессонными ночами ему чудились картины одна чудовищнее другой, но, не в силах даже ощупать свое лицо бесчувственными гниющими ладонями, проверить он их не мог. Уйдя в себя, он таил от окружающих, как глубоко это его мучило. Стал ли он уже похож на того урода с гноящейся ямой вместо лица, которого он когда-то встретил? Никто не скажет… Милосердные братья-лазариты из жалости не открывают правды. Потеряв зрение и осязание, король, однако, сохранил отменный слух и полную ясность мысли. – Да хранит Господь Святую землю! – приветствовал он вошедшую Агнессу. – Добро пожаловать, любезная матушка. Что наследник? – Пока, бедняжка, слаб, – вздохнула королева. – А уж как его только не лелеют! Можно сказать, что без моей опеки он бы давно был на том свете. Родился-то он таким хилым! Ну, да удивляться тут нечему, ведь сколько пережила его страдалица-мать… Впрочем, – поспешила она добавить, – сейчас малыш немного окреп: почти здоровый ребенок, разве что еще худенький. – Это очень важно, чтобы мальчик вырос здоровым, – озабоченно проговорил Балдуин. – Может быть, здешний воздух ему не на пользу? Прошу вас, матушка, сразу же после свадьбы Сибиллы вывезите принца к морю. Там дышится легче. После свадьбы Сибиллы! Агнесса встрепенулась. В том-то и дело… Но как об этом сказать? Что сказать? Не найдя слов, она выбрала самый верный способ: разразилась слезами. Балдуин насторожился. Что бы это значило? Уж не случилось ли что-нибудь, о чем ему не доложили? Будь проклят вечный мрак, который его обступает! – Почему вы плачете? – спросил он раздраженно. – Потому что Сибилла… голубка моя… доченька моя ненаглядная… – Что, заболела? – испугался он. – Нет-нет, слава Богу, здорова – но… Агнесса подавила рыдание и договорила: – Она не может выйти за Ибелина! Воцарилась тишина. Королева перестала плакать и, затаив дыхание, ждала, что ответит сын. Сказав главное, она испытала облегчение. Уф! Балдуин лежал, словно оглушенный. Наконец он вымолвил: – Не понимаю. Почему? – Потому что она полюбила другого! И прежде чем король мог вставить слово, Агнесса затараторила: – Рыцаря полюбила, рыцаря куда лучше Ибелина из Рамы! Молод, хорош собой – всем ей под стать. Они точно два ангела! А рыцарь он добрый, храбрый… – Поберегите ваше красноречие, – оборвал ее Балдуин. – Сибилла выйдет за Ибелина из Рамы и ни за кого другого. А этот другой – как его имя? – Вит Лузиньян. Младший брат Амальрика. «Лузиньян… Тот самый, который поддержал меня под Монжисаром, – мелькнуло у него в голове. – Поддержал – чтобы сейчас так подкосить!» – Пришлите ее ко мне, матушка, – сказал Балдуин вслух. – Прислать? Кого? – Кого же еще! Ее. Сибиллу. – Ах, зачем, зачем? Вы же знаете, она так не любит здесь бывать! Моя голубка такая чувствительная… с самого детства такая нежная… Я передам ей все, что вы велите. А сама она скажет вам не больше моего. Они любят друг друга – и… – Поберегите ваше красноречие, – сурово повторил король. – Пусть тотчас прибудет ко мне – или ее приведут под стражей! Агнесса вышла, оскорбленно шелестя юбками. Балдуин остался лежать без движения, стараясь собраться с мыслями. Это известие обрушилось на него, словно удар молота. Что делать? Какие слова могут убедить сумасбродную женщину не губить будущее королевства? Явилась Сибилла. Он сразу же ощутил ее враждебное, мятежное присутствие. «Спокойнее! – внушал он сам себе. – Только не волноваться!» Принцесса остановилась посреди опочивальни, не подходя к постели. – Нельзя ли зажечь тут благовония? – проговорила она в пространство, брезгливо раздувая тонкие ноздри. – Я знаю, что от меня смердит, – ответил Балдуин. – Но каждый человек после смерти будет смердеть так же. Я разлагаюсь заживо – вот и вся разница. Сибилла презрительно молчала. Король обратился к ней сдержанно, но твердо: – Матушка сообщила мне только что известие, в которое невозможно поверить: будто ты вместо Ибелина из Рамы хочешь взять в мужья другого рыцаря, которого ты сама выбрала. Надеюсь, ты пошутила. Должна же ты понимать, что это совершенно немыслимо. Как Бог свят – немыслимо! Ты не принадлежишь самой себе. Твое замужество решает судьбу королевства. Ибелин выбран мной и советом баронов. Этого человека мы нашли достойным, и вступить в брак с другим тебе никто не позволит. Об этом не может быть и речи. Через две недели ты выйдешь за Ибелина. Принцесса сверкнула глазами. – Не выйду! – вскричала она. – Ты говоришь, я не принадлежу себе? Можно подумать, будто я чья-то рабыня! Кто меня приневолит? Никто! Слышишь – никто! Ни ты, ни совет баронов! Хоть посадите меня под замок, хоть убейте – с Ибелином я под венец не пойду, разве только меня понесут связанную. Мне на Ибелина и взглянуть противно! Когда-то он мне нравился, не отрицаю, но теперь я терпеть его не могу. Нудный, беззубый, слюной брызжет… Тьфу! Зато тот, другой, – ты бы видел, какой красавец! Просто как святой Георгий! И храбрый… Из него получится король в сто раз лучше Ибелина – ведь им нельзя не восхищаться! А что самое главное, я люблю его, люблю! Люблю больше, чем любила Вильгельма. Я пошла бы за ним в огонь и в воду! Никакими силами ты не заставишь меня от него отказаться. Ты не знаешь, что значит любить, и тебе этого не понять. Легко тебе говорить: выйдешь за Ибелина. Ты же никогда не жил! А каково слышать живому человеку: забудь о том, кого ты любишь, и ступай за того, который тебе противен, потому что его выбрал совет баронов! Так вот нет же! Нет! Балдуин молчал, встревоженный ее вспышкой. Любовь, которой он сам не испытал, ибо болезнь вытравила в нем это чувство, прежде чем оно успело проснуться, предстала вдруг перед ним как грозная, слепая сила, способная уничтожить королевство и сокрушить Гроб Господень. – Послушай, – проговорил он наконец, подбирая слова, – если бы ты поняла, что такое решение погубит державу, продолжала бы ты на нем настаивать? – Державе это только во благо! – самоуверенно выкрикнула Сибилла. – Куда Ибелину тягаться с моим Витом! Ах, как к лицу ему будет корона! Если бы ты мог это увидеть, ты сам бы убедился… – Ты не ответила на мой вопрос, – оборвал ее Балдуин. – Изволь – раз уж это тебе так важно, я отвечу. Отвечу по совести. Даже зная, что мой брак пойдет во вред королевству, я бы не отступилась. Не отступилась бы – слышишь? Потому что я имею право распоряжаться своей жизнью, и его у меня никому не отнять! Повисла гнетущая тишина. Наконец король приказал: – Брат Иоанн, пошлите за рыцарем Амальриком Лузиньяном! Стуча сандалиями, брат Иоанн бросился исполнять повеление своего государя. Сибилла в изнеможении опустилась на стул. Прижимая к лицу надушенный платочек, она старалась мысленно вызвать образ возлюбленного, чтобы он дал ей сил выстоять. Не сдаваться! Только не сдаваться! В полумраке опочивальни тихонько потрескивали свечи. Вокруг ложа короля неподвижными изваяниями застыли трое братьев-лазаритов – молчаливых свидетелей событий, вершащих судьбу Иерусалима. Амальрик, заинтригованный и польщенный королевским приглашением, не заставил себя ждать. Почтительно поклонившись Сибилле, он устремил исполненный любопытства взгляд в сторону ложа. – Рыцарь де Лузиньян? – спросил Балдуин. – К вашим услугам, государь. – Рыцарь де Лузиньян, известно ли вам о том, что моя сестра, принцесса Сибилла Иерусалимская, вдова Вильгельма де Монферрата, должна вступить в брак с рыцарем Ибелином из Рамы, на что была воля моя и совета баронов? – Известно, государь, – ответил Амальрик, недоумевая. – Как в таком случае могли вы допустить, чтобы ей вскружил голову ваш младший брат? Разве достойно чести рыцаря соблазнить чужую невесту? – Но мой брат никогда не встречался с принцессой Сибиллой! – воскликнул изумленный Амальрик. – Не встречался? А между тем она только что объявила мне, что любит его и намерена с ним обвенчаться. – Даю слово рыцаря: я впервые слышу о том, что они знакомы! В его голосе было столько искренности, что Балдуин отбросил всякие сомнения. – Рыцарь Амальрик не лжет, – злорадно подтвердила Сибилла, вставая со стула. – Его брат не знает никакой принцессы. Он любит меня, не подозревая о том, кто я такая. Откройся я – он бы и подойти ко мне не осмелился! – Раз так, он уедет, узнав правду. – О нет, теперь он меня не бросит. Он мой, и никакая на свете сила нас не разлучит! Об этом можешь даже не помышлять. И не беспокойся: Вит станет хорошим королем. Лучшим в мире. Вот увидишь! – Ступайте оба… Брат Иоанн, пусть сюда приведут рыцаря де Лузиньяна-младшего. – Я останусь! – обернулась с порога Сибилла. – Повторяю: ступайте оба! Они вышли. Амальрик двигался как во сне, ошеломленный неожиданным известием. Вит и Сибилла – знакомы… и любят друг друга… Он, правда, и прежде догадывался, что, верно, молокосос волочится за чьей-то юбкой. Брат перестал говорить об отъезде, а когда об этом вспоминал Амальрик, он старался незаметно перевести разговор в другое русло. Уложенные тюки пылились во дворе их дома. Юноша с утра до вечера ходил какой-то возбужденный и словно сам не свой. Амальрик полагал, что его завлекла в свои сети одна из любвеобильных пышнотелых и черноглазых армянок, а это была принцесса… принцесса… Как будто сама судьба извлекала из небытия и претворяла в жизнь безумные мечты, которые он, Амальрик, давно уже выбросил из головы! Судьба… Погруженный в свои мысли, Амальрик не слышал, как окликает его Сибилла. Только когда она дернула его за рукав, рыцарь очнулся и рассыпался в извинениях. – Не тратьте времени на пустую учтивость, – перебила его принцесса. – Надеюсь, рыцарь, что в этом деле вы на нашей стороне? – Разумеется, принцесса, если… – поспешно добавил он, – если от этого не будет ущерба моей рыцарской чести. – Ничья честь не пострадает. Итак, вы с нами. Подумаем же вместе, как нам спасти Вита. – Спасти? От чего? – Вы не понимаете? О Боже! Да ведь Балдуин велит взять его под стражу или выслать, чтобы только разлучить его со мной! Надобно его защитить. Амальрик согласно покивал головой. Принцесса права. Любящая женщина бывает осмотрительнее самого осторожного из мужчин. Король и особенно Раймонд из Триполи, конечно, постараются удалить Вита любой ценой. Чудесный подарок судьбы легко потерять безвозвратно. – Не пустим его к королю! – вскричала Сибилла. – Это невозможно, – возразил Амальрик. – Он бы покрыл себя позором! Впрочем, во дворце его не схватят, это исключено. А вот после того как он выйдет… – Тогда скорее к матушке! Она что-нибудь посоветует. Оба торопливо направились во дворец Агнессы де Куртене. Та с нетерпением ожидала возвращения дочери. По обыкновению у королевы-матери были гости: патриарх Ираклий и великий магистр де Ридефор. Не умея хранить тайну, она успела уже поведать им о сердечных делах Сибиллы, поэтому когда принцесса с горящими щеками и растрепанной прической ворвалась в гостиную, ее встретили сочувственные лица обоих присутствующих. – Матушка, что нам делать? – чуть не плача заголосила Сибилла. – Балдуин стоит на своем. Послал за Витом – верно, хочет его посадить под замок… Помогите! Вмешался Амальрик. – Вряд ли король зайдет так далеко, чтобы лишить свободы рыцаря, который ничем не провинился, – произнес он. – Скорее он просто прикажет ему покинуть Иерусалим, что мой брат не замедлит исполнить. – Это одно и то же! Если у меня его отнимут, я умру! Умру! О Боже! Принцесса прижалась щекой к пышной груди королевы-матери, и обе горько зарыдали. За стеной им вторил истошным жалобным криком младенец. Патриарх Ираклий вздохнул: он не любил, когда жизнь совершала неожиданные повороты. Такое торжественное венчание приготовил он для Сибиллы – а теперь, видно, придется его отложить… Амальрик молчал, перебирая мысленно различные решения, из которых ни одно не казалось ему надежным. Но вдруг обычно суровое лицо великого магистра храмовников расплылось в улыбке. – Как не сжалиться над этой парой юных влюбленных! – сказал он медоточиво. – Не плачьте, принцесса: я возьму милого вашему сердцу рыцаря под свою защиту… И, подав знак Амальрику, вышел с ним из дворца. Вит тем временем уже давно стоял посреди королевской опочивальни – а Балдуин все молчал. Впервые очутившись здесь, юноша с любопытством оглядывался по сторонам. Роскошные, богатые покои – только до чего же тяжелый дух! Смрад, как от разлагающейся падали. Ну да, ведь на ложе за тонким пологом лежит почти что труп и отравляет воздух вокруг себя. Безмолвный, неподвижный труп между тем думает. Вот в нескольких шагах от него стоит тот, которого полюбила Сибилла. Она говорит, что если бы я мог его увидеть, то одобрил бы ее выбор. Должно быть, он и вправду прекрасен. Впрочем, каждый здоровый человек прекрасен – уже тем, что не гниет… Кожа у здорового человека гладкая, упругая, пахнет приятной свежестью… Здоровые люди могут любить друг друга, они полны сил и радуются жизни… «Красавец, просто как святой Георгий!» – сказала Сибилла. Интересно, как поступил бы этот ее красавец, прикажи я ему подойти и дотронуться до меня? Послушался бы он? Кто знает, может, и послушался бы, и стал бы прокаженным, как я… Тогда бы Сибилла вмиг от него отказалась, гнушаясь им, как гнушается мной. Каков выход! Но нет, братья-лазариты не допустили бы этого. Да я и сам… я сам… Молчание затянулось. Наконец труп шевельнулся и заговорил: – После битвы под Монжисаром, когда меня снимали с коня, вы, рыцарь, забыв о моей болезни, подбежали, чтобы поддержать меня. Это был храбрый поступок – хотя неосторожный. Узнав потом, что и в бою вы отличились, я просил князя Триполи посвятить вас в рыцари. Насколько мне известно, вы пробыли у нас всего несколько недель – и стали рыцарем, каковой чести другие ждут годами… – Я буду всегда с благодарностью помнить об этом, государь! – с жаром заверил его Вит. – Сразу же после посвящения вы, кажется, намеревались вернуться домой? – Точно так, государь, но галеры не выпускали из порта… – Этот запрет давно снят. Что же вас удерживает? Юноша не отвечал, покраснев от смущения. Тогда Балдуин подсказал: – Понимаю – какая-нибудь из иерусалимских дам… Кто она? Вит стиснул зубы. Святой Мамерт! Не может же он нанести ущерб чести женщины, которая ему доверилась! Пусть король спрашивает, сколько хочет: он останется нем. – Дама, в которую вы влюблены, только что была здесь. Она сообщила мне, что собирается выйти за вас замуж. Я хорошо ее знаю – слишком хорошо… Так что вы можете быть откровенны. Ну же! – Это родственница рыцаря Ренальда из Сидона, – нехотя буркнул Вит. – Где вы с ней познакомились? – Этого я сказать не вправе. – Как ее имя? – Не знаю. – Вы любите ее, не зная даже, как ее зовут? – Она велела мне… велела называть себя Мелюзиной. – Что за имя! – Так звали одну колдунью, которая… – Что еще вы знаете об этой даме? – перебил король. – Что она тут полгода… Что злой брат хочет выдать ее за нелюбимого человека… – Вот как? И вы, конечно, поклялись ее защищать? – Я… да, государь… – Так знайте: злой брат – это я, а ваша колдунья – это моя сестра принцесса Сибилла! – Господи Иисусе Христе!!! Ошеломление Амальрика не шло ни в какое сравнение с пережитым сейчас его младшим братом. Мелюзина, обворожительная, чарующая искусительница, ради которой он забыл об отъезде, о доме, о Люции! Мелюзина с ее жаркими устами, манящим взором и змеиной плавностью в движениях – принцесса! Та, к которой его хотел посватать Амальрик и которая обручена с Ибелином из Рамы. Сибилла! – Я ни сном ни духом… – в отчаянии застонал Вит. – Знаю. Она вас обманула. Но теперь вам это известно. Как, полагаю, и то, что будущий супруг моей сестры должен стать королем и править державой в эти нелегкие для нее дни. Ответьте же мне по совести: ощущаете ли вы в себе силы справиться с королевством? – Нет! Нет! – испуганно отшатнулся Вит. – Я не смогу! Я не хочу! – Я тоже так думаю. Неблагодарное это дело требует подготовки, опыта, знания людей… В таком случае как вам надлежит поступить? Вит понуро молчал. Он понимал, чего от него добивается Балдуин. Ему следует уехать. Сейчас же, не мешкая. Вычеркнуть из памяти последние три недели и вернуться домой. Но как же это трудно, трудно, трудно… Мелюзина оказалась Сибиллой. Ее жених – Ибелин из Рамы, тот самый, который взял его под свое покровительство, когда они были на пути к Алеппо, обучал его рыцарскому ремеслу… Ибелин – доблестный, благородный рыцарь! Нет, голос чести велит ехать. – Я возвращаюсь домой, – проговорил он через силу. – Благодарю вас. Вы истинный рыцарь. Сегодня же скачите в Яффу. Я дам вам провожатых, лошадей, возы для поклажи. Галера выйдет в море, как только вы окажетесь на борту. – Могу я проститься… с ней? – несмело спросил Вит. – Нет. Она вас не отпустит. Езжайте немедленно. За нее не бойтесь: ничего ей не сделается. Погорюет дня два – и забудет. – Я не хочу уезжать, не попрощавшись! – по-детски упирался Вит. – Вы не выйдете отсюда, пока не дадите мне слово рыцаря, что уедете сегодня же, не видясь с ней. Скача всю ночь, вы к утру будете в Яффе. Я распоряжусь, чтобы вас там не задерживали. – А что если она… – От отчаяния наложит на себя руки? Не беспокойтесь: я знаю свою сестру! Итак? – Даю слово рыцаря, что уеду сегодня же, не прощаясь… – Да отплатит вам Бог! Утомленный король замолчал, а Вит так и остался стоять посреди опочивальни, не в силах собраться с мыслями. То нестерпимой болью пронизывало его страдание – такое, что криком кричать хотелось, и казалось, что он не выдержит, нарушит слово… То им вдруг овладевало чувство, будто кто-то будит его от мучительного сна, и сквозь призрачные грезы он предугадывал близящееся освобождение… Сейчас он любит одну Сибиллу-Мелюзину, все его мысли о ней, он весь в ее власти. Но кто знает, что будет, когда корабль снимется с якоря: не стряхнет ли он ее чары, не воскресит ли в памяти образ Люции – некогда милой своей невесты! Только бы отплыть, отплыть… – Здесь ли еще рыцарь де Лузиньян? – внезапно спросил король. – Здесь, государь. – Я отсылаю вас домой – а может быть, вы нуждаетесь в средствах? Не стесняйтесь! Вы оказываете мне такую услугу, что я рад буду вас ссудить… – Ни в чем я не нуждаюсь! – оскорбился Вит. – Не стану же я брать деньги за то, что… – Я не хотел вас обидеть. Еще раз благодарю. Да хранит Господь Святую землю! Пошатываясь и спотыкаясь, Вит выбрался из дворца. Но не успел он пройти и нескольких шагов, как кто-то обхватил его сзади за плечи. Могучие руки повалили его на землю, набросив сверху мешковину. Напрасно он вырывался, метался из стороны в сторону, будто дикий вепрь, напрасно пытался вытащить меч… Напавшие проворно связали его, так что он не мог и пошевелиться, потом подняли с земли и понесли Куда? Вит подумал, что, может быть, это король, не полагаясь на его слово, приказал похитить его и вывезти из города… Кровь так и закипела в нем при мысли о подобном бесчестье! Потом он услышал скрип открывающейся двери, шорох задевающей о каменные стены мешковины. Наконец его опустили на землю и, отобрав меч, развязали. Одним прыжком Вит вскочил на ноги, но пока он, чертыхаясь, срывал с себя мешковину, злодеев и след простыл. Он был один в просторном помещении с высоким сводчатым потолком, которое скупо освещал единственный масляный светильник. Вит кинулся к двери, которая оказалась запертой на ключ. Он стучал кулаками, ногами – тщетно: все было тихо. Тогда он оглядел окна. Находившиеся на недоступной высоте, они были забраны решетками. Пленник даже застонал, осознав свое бессилие. Ему нельзя здесь оставаться! Он должен ехать, ехать! Он же дал слово! Кто посадил его под замок? Не король – тот хотел, чтобы он уехал. Но кто же, кто? И с какой целью? А он еще дал слово… Теперь король сочтет его лжецом, клятвопреступником! – Выпустите меня! Выпустите немедленно! Вит кричал до хрипоты. Колотил в дверь так, что руки у него распухли и одеревенели. Измучившись, он без сил рухнул на каменный пол. Ощущение, будто все, что с ним творится, – это кошмарный, тягостный сон, вернулось и не желало отступать. Ах, хоть бы его кто разбудил, хоть бы он наконец отплыл, оттолкнулся от берега… Он и не заметил, как и впрямь задремал. Но спал он чутко. Стоило ему заслышать, как скрипнула, приотворяясь дверь, – и он уже был на ногах. Кто-то вошел. На Вита пахнуло знакомым благоуханием, потом послышался шепот: – Это я, милый… Мелюзина… Юноша подбежал к ней. – Я знаю все. Выпусти меня! Сейчас же! Улыбаясь, она безмолвно глядела на него сияющими глазами. Он бросился к двери. Она по-прежнему была на замке. – Как же я тебя выпущу, – сказала наконец Сибилла, – если я такая же пленница? Нас заперли здесь вдвоем. – Зачем? Ведь я дал слово рыцаря, что уеду, не видясь с тобой! Я с ума сойду, я на меч кинусь… – Какое счастье, что его у тебя нет! Сибилла попыталась взять его за руку. Вит вырвался и опустился на пол, пряча лицо в ладонях. – Ты обманула меня! Утаила правду! – В чем же я обманула? Скрыла, что я принцесса? Так это для меня ничего не значит! А колдунья я самая настоящая… Не веришь? Я и есть твоя Мелюзина! Не надейся, что когда-либо избавишься от моих чар. Ты – мой… мой… мой… Ты дрожишь? Разве я такая страшная, что ты меня боишься? Милый… Вит молчал. В ушах у него стоял шум. Он должен был уехать… освободиться… Какой-то корабль отплывал без него. На нем отплывала Люция… все его прошлое… горячо любимый дом… А он – он оставался. В плену у колдуньи. Серебристый смех Сибиллы вывел его из забытья. – Не смейся! – застонал он. – Король… Мое рыцарское слово… – Разве ты виноват, что не можешь сдержать слово? Тебя похитили, заперли… Вместе со мной. Бог знает, сколько дней мы тут пробудем! – Где мы? Кто посмел?! – Поживи ты подольше в Иерусалиме, ты давно бы догадался, прочтя вон ту надпись. – Принцесса указала рукой на дверь, над которой виднелись выбитые в камне слова: «Domine, поп nobis, sed Nomini Tuo da gloriam». – На самом деле все обстоит как раз наоборот, но не в этом суть. Мы – у благородных рыцарей Храма. Они решили нам помочь, рассчитывая, что мы не забудем этой услуги… Король, возможно, захочет нас отбить. Пусть попробует! Пока сюда прорвутся его люди, мы уже успеем обвенчаться. – Я не могу с тобой обвенчаться! – в отчаянии крикнул Вит. – Я не хочу… Сибилла придвинулась к нему вплотную. – Не хочешь? Ну-ка, повтори…Глава 15 Я ВОСКРЕСНУ!
Ученый Вильгельм, архиепископ Тирский, склонился над двадцать четвертой книгой истории Иерусалимского королевства. Это был главный труд его жизни, к которому он приступил много лет назад по воле короля Балдуина III. Начав от Клермонского собора, когда толпы, воодушевленные пламенными призывами Петра Амьенского и папы Урбана II, устремились, словно вышедшая из берегов река, на Восток, он не пропустил ни одного года. Стараясь возможно точнее воссоздать запутанные события глубокой давности, он обложился всеми касающимися сего предмета хрониками, какие только знал, и из их противоречивых порой строк по крупицам извлекал правду о минувшем. Добросовестный летописец, он не довольствовался единственно латинскими источниками, но обращался и к греческим, и к сирийским, а то и к арабским. Не раз полезнее писаного слова были для него предания, хранимые в памяти вот уже нескольких поколений рыцарских родов. Все это он тщательно заносил на пергамент. Наконец он дошел до событий, которые сам пережил, которых был очевидцем и которые мог излагать, доверяясь собственным воспоминаниям. Иногда, глядя на огромную груду своих книг, ученый даже диву давался, как же долго живет он на этом свете, сколько же всего он видел, испытал… А что-то еще ждет впереди? Вильгельм глубоко вздохнул, ибо будущее рисовалось ему далеко не радужным, и устало отложил перо. Тонкой струйкой сыпался песок в песочных часах. Докучливо жужжали мухи. Воздух был липким от духоты. Раньше архиепископу всегда хватало времени каждое событие должным образом взвесить, всесторонне обдумать и вынести о каждом свое непредвзятое, справедливое суждение (насколько вообще может быть непредвзятым и справедливым суд человеческий). Но то было раньше. С некоторых пор он уже не поспевал, сам не зная, оттого ли, что, состарившись, в работе стал нескор, оттого ли, что дела, одно неожиданнее другого, приняли слишком быстрый оборот… Взять хоть все эти неурядицы вокруг расторгнутой помолвки принцессы Сибиллы Иерусалимской с рыцарем Ибелином из Рамы! И поныне ученый с ужасом вспоминал бурное заседание совета баронов, созванное по этому поводу. Съехались все. Собрание вел Раймунд, князь Триполи. А вот он, архиепископ Тирский, без устали сновал между залой совета и королевской опочивальней, осведомляя прикованного к одру государя обо всем, что говорили бароны, и передавая им приказы и распоряжения Балдуина. Ибелин Балдуин из Рамы сидел с потерянным видом подле своего брата Ибелина Балиана. Для них вся эта история была особенно тягостна. Если бы не сумасбродство принцессы, Ибелин уже был бы королем! «Рановато радовался, дружок…» – бормотали некоторые. Дю Грей же повторял: «Ну вот, а вы не верили, не верили мне, что выйдет, как с Констанцией!» Амальрик Лузиньян осовело смотрел перед собой, гадая, чем все кончится. Рыцари бросали на него косые взгляды, подозревая в тайном сговоре с орденом храмовников. Жослен де Куртене, щуря опухшие от пьянства глаза, откровенно потешался над ним. Но хуже всех чувствовал себя Ренальд из Сидона. Ведь это по его вине (о которой пока никто не знал) Сибилла познакомилась с Витом Лузиньяном – и вот оно как обернулось! Кто бы мог подумать… Провалиться ей в преисподнюю, этой Горе Соблазна: и зачем он только туда поехал?! Завзятый насмешник, Ренальд совсем потерял дар речи и подавленно молчал, соображая, не лучше ли самому рассказать, как все было, покуда другие не докопались до истины. Раймунд из Триполи расписывал собравшимся недостойное поведение тамплиеров, которые, поправ закон и нарушив королевскую волю, похитили рыцаря де Лузиньяна-младшего, когда тот собирался покинуть Иерусалим, и держат его в заточении до сего дня. Великого магистра Жерара де Ридефора это обвинение нисколько не смутило. – Я никого не похищал, – объявил он, – а просто предоставил убежище гонимому, как велит орденской братии долг христианского милосердия. Рыцарь де Лузиньян обретет свободу, как только ему перестанет грозить опасность, то есть когда вы согласитесь на его брак с принцессой. – На это мы не пойдем никогда, но никакой опасности для него нет и не было, кроме приказа короля незамедлительно вернуться на родину. – Разлука с любимой нестерпима для любящего сердца! – с пафосом возразил Жерар де Ридефор. – Я стою за этот брак. Чувства юной пары меня трогают. Безудержным весельем встретили бароны этот порыв нежности, проснувшейся вдруг в великом магистре. Раньше подобной сентиментальности за ним не замечали. Когда смешки прекратились, он с вызовом спросил: – Чем же Лузиньян хуже Ибелина? В зале вновь зашумели. Действительно, чем?! Юнец! Молокосос! Щенок! Без году неделя, как стал рыцарем! Да кто его здесь знает? Да что он умеет? Все помнят, как под Алеппо его учили управляться с копьем! И это – король?! Смех – да и только… – Не оттого ли вы так о нем печетесь, – крикнул великому магистру рыцарь де Музон, – что при нем ордену будет вольготнее? – Ордену будет вольготно при любом короле! – кичливо ответил де Ридефор. Но бароны были против него – все, кроме Ренальда Шатильонского. Владетель Кир-Моава поддержал Лузиньяна в пику Раймунду из Триполи, который некогда сурово осудил его нападение на караван сарацинских паломников, возвращающихся из Мекки. Коротко высказав свое мнение, он потерял всякий интерес к происходящему в совете и принялся увлеченно рассказывать сидящему рядом рыцарю дю Грею о новой своей затее: – Пять-шесть кораблей велю разобрать на части, погрузить на верблюдов – и вперед, через пустыню, к Красному морю! Там, на берегу, быстро соберем галеры и ударим Саладину в тыл. То-то будет потеха! Этот Вельзевул лопнет от злости, когда мы свалимся ему на голову… Клянусь Богом, мы дойдем до самой Мекки! – Да ведь с Саладином сейчас мир, – пытался образумить его дю Грей. – Для доброго рыцаря не может быть мира с неверными… Они замолчали, видя, что старый коннетабль Онуфрий де Торон просит слова. Убеленный сединами рыцарь окружен был таким почетом, что стоило ему поднять руку, как в зале совета воцарилась глубокая тишина. – Что за времена пришли на землю! – с неодобрением потряс головой старец. – Как будто дурманом нас кто опоил, как будто мы белены объелись! Да когда такое бывало, чтобы у девки спрашивать, за кого ей идти замуж?! Отец выбирал ей мужа, а коли отца нет – так брат. Из-за чего мы спорим? Тамплиеры изловили Лузиньяна? Да пусть себе держат его хоть до скончания века! На что он нам сдался? Мы с королем порешили: быть Сибилле за Ибелином. Так повенчать их – и дело с концом… Почти такой же седовласый рыцарь де Ла Хей горячо поддержал коннетабля: – Чего встарь не бывало, негоже и теперь вводить в обычай. Ведь женщина дальше своего носа не видит: что ей до судьбы державы – глупая прихоть для нее важнее… А все началось еще в те поры, когда деды наши ходили добывать Иерусалим, взявши с собой подруг. Те дома были скромные, тихие, боязливые, а дорогой совсем стыд забыли, так что и суды над ними созывать понадобилось. Да только судьи очень уж были снисходительны – вот оно и пошло… А до чего дошло, тому мы все свидетели! На старой родине такого нет: там женщины сидят, как в старые времена, за прялкой и в мужские дела не мешаются. – Верно! Верно они говорят! – загудели все. – Пусть придет принцесса! Объявим ей, чтобы выходила замуж за того, кого мы выбрали! Ибелин из Рамы вскочил на ноги – бледный, с горящими глазами. – Не смейте! – вскричал он. – Я этого не хочу! Я не поведу ее под венец неволей… – Да тихо вы! Вас никто не спрашивает! Не вносите смуту! – Пусть патриарх завтра же их обвенчает – добром или силой! – Нет! Нет! – вопил Ибелин. Но никто не обращал на него внимания. Все как один восклицали: – Принцессу сюда! Принцессу! Был послан паж. Через короткое время он вернулся, возвестив, что принцесса Сибилла Иерусалимская вскоре соизволит прибыть. Бароны затихли в ожидании. Великий магистр злорадно сощурился. Всеобщее молчание нарушал только голос Ибелина, который твердил: – Не позволю… Не позволю, чтобы ее принуждали… Вдруг настежь распахнулись двери, и вошла Сибилла – нарядно, с нарочитой пышностью одетая, – и не одна. За собой она вела, а точнее сказать, тащили за руку пленника тамплиеров Вита Лузиньяна. Если принцесса шла королевской поступью, твердо и величественно, с горделиво вскинутой головой, то юный рыцарь рядом с ней был похож на зайца, который только того и ждет, как бы задать стрекача. Оторопелый, сгорающий со стыда, он покорно следовал за Сибиллой, уткнув глаза в землю, чтобы избежать сверлящих его взглядов. Вот смотрит на него князь Раймунд, который посвящал его в рыцари, вот Ибелин – его наставник в ратном деле, вот старый коннетабль Онуфрий де Торон… Что они все о нем думают? Кем он им должен казаться? А ведь он – честный человек! Он всегда старался поступать по-рыцарски… Ах, и зачем его только сюда занесло! Сибилла дерзко вела Вита прямо к возвышению, на котором стоял Раймунд. Чтобы добраться туда, им пришлось протискиваться между рядами скамей. – Держись, черт тебя дери! Не вешай носа! – прошипел брату Амальрик, когда тот шел мимо. Сибилла не отпускала руки своего избранника, словно боялась, как бы он и впрямь не сбежал. Так они вступили на помост. Вит затравленно поднял глаза на баронов, чувствуя себя предметом их пристального внимания. Многие его видели впервые и сейчас с нескрываемым любопытством воззрились на него, изучая и оценивая. Красив – ничего не скажешь! Пригож, как девушка, но – не король… не король… – Вы стали, рыцарь, причиной раздора в королевстве, – сурово молвил Раймунд. – Клянусь честью: не по своей вине! – выкрикнул Вит так по-детски, что в зале грянул дружный смех. Амальрик посинел от злости. – Уж хоть бы умел взять вину на себя… – сердито бормотал он. Отовсюду слышались возгласы: – Трус! Мальчишка! За бабий подол цепляется! – Молчать! – осадила их Сибилла. – Перед вами – будущий король! – Король?! Этот?! Ха-ха-ха!… – Молчать! – поддержал принцессу Ибелин. – Нельзя оскорблять рыцаря! – Смотрите-ка! Нашелся защитник! – Не позволим! Не позволим вам венчаться! – Вот как? Не позволите? – Сибилла сверкнула глазами. Красивая и грозная, она бросала баронам вызов, ощущая, что она сильнее их. На побледневшем ее лице гневно пылали щеки. Точеные ноздри яростно раздувались. Ибелин смотрел на нее со своего места с благоговейным восторгом. – Не позволите?! – повторила она. – Так слушайте: две недели рыцарь де Лузиньян содержался под замком у тамплиеров. Все это время я провела с ним. Если король намерен допустить, чтобы его сестра родила бастарда, пусть запрещает брак! – Ох! – застонал Ибелин, обхватив руками голову. Гнетущая тишина повисла над собранием после столь откровенного, неслыханного признания принцессы. Раймунд уставился на племянницу с негодованием, смешанным с восхищением. Жослен де Куртене глупо захихикал. Вит молил небеса ниспослать молнию, которая поразила бы его на месте, избавив от этой пытки. Всеобщее молчание нарушил старый Онуфрий де Торон. – Позор! Позор! – закричал он, воздевая руки горе. – Выпороть эту… эту… – и изгнать! Вот до чего мы дожили! Тщетно рыцари старались его успокоить. Озабоченный архиепископ Вильгельм бросился к королю. Амальрик Лузиньян был вне себя от злости. Никогда, никогда не станет его брат настоящим королем! Бароны не забудут, как он стоял перед ними в тени своей возлюбленной, как будто это она его соблазнила, а не он ее! – Выведите вон распутницу! – не унимался коннетабль. – Сгинет, сгинет держава, коли самовольство бесстыдной девки возьмет верх над советом! – На себя бы посмотрели, вы все! – ничуть не смущаясь, ответила Сибилла. – Уж так ли вы сами слушаетесь совета? Вернулся архиепископ. – Государь объявляет, что ввиду возмутительного поступка Сибиллы Иерусалимской он лишает ее права на трон и передает его принцессе Изабелле. – Верно! Верно! Мы согласны! Сибилла вздрогнула. Такого она не ожидала. Готовая биться до последнего, она злорадно засмеялась. – Изабелла?! Не прикажете ли теперь ей обвенчаться с Ибелином? Но у нее уже есть жених – младший Онуфрий де Торон, и за другого она не пойдет. Не хотите моего мужа – будет вами править Онуфрий! Собрание забурлило. Вот ведь наваждение! Старый коннетабль взобрался на скамью, чтобы его было лучше слышно, и кричал, тряся седой головой: – Благородные рыцари! Мой внук в короли не годится! Он будет еще хуже этого! – Позвольте! – вмешался Ренальд де Шатильон. – Молодой Онуфрий – мой пасынок. Чем он не король? Я стою за него! Великий магистр рассерженно фыркнул. Этот глупый петух готов нарушить их соглашение! Волнение в зале не стихало. Архиепископ вновь бросился к королю. – Сибилла, – сказал вполголоса Раймунд, – опомнись! До чего ты довела совет? Это же балаган, игрище бродячих комедиантов, а не собрание баронов! А ведь тут решается судьба королевства! Судьба королевства! – Я не отступлю, – произнесла принцесса, сжав зубы. – Слишком далеко я зашла. – Я не виноват! Я не виноват! – повторял Вит, чуть не плача. Тем временем подоспел архиепископ с новыми вестями от Балдуина. – Государь, – сообщил он, – лишает прав на престол обеих своих сестер и просит баронов признать королем сына покойного Вильгельма де Монферрата и Сибиллы Иерусалимской, короновать его без промедления, а регентом при малолетнем монархе назначить Раймунда, князя Триполи. Король настоятельно просит об этом, взывая к милосердию собравшихся и заклиная их позволить ему спокойно отойти в мир иной. При этих словах голос архиепископа Вильгельма предательски задрожал, но сказанное им упало на добрую почву – члены совета почти единодушно воскликнули: – Быть по сему! Да здравствует король Балдуин V! Короновать его! Короновать! – Не бывать посему! – пытались оспорить это решение великий магистр де Ридефор и Ренальд Шатильонский, но никто не обращал на них внимания, тем более что каждый из них гнул свое: один выкрикивал здравицы Сибилле, другой – Изабелле. Раймунд облегченно вздохнул. Младенец Балдуин V – это все же лучше королишек, которых сулило державе своенравное упрямство распустившихся баб! Посрамленная Сибилла с бесстрастным лицом вышла из залы, ведя за собой возлюбленного. Амальрик Лузиньян бросил на брата исполненный ненависти взгляд и стал кричать громче всех: – Да здравствует Балдуин V!* * *
Листая свои записи, архиепископ Тирский живо припомнил то собрание, как и все, что за ним последовало. Через несколько дней в Храме Гроба Господня совершен был обряд венчания принцессы Сибиллы с Витом Лузиньяном, который получил звание королевского лейтенанта вместе с титулом графа Аскалона и Яффы. Избежав грозившей ему короны, юный рыцарь повеселел, осмелел и даже приобрел друзей. Только Сибилла никак не могла оправиться от нанесенного ей поражения. Спустя еще десять дней состоялась коронация Балдуина V Младенца. Балдуин IV Прокаженный – Балдуин V Младенец! Странная это была церемония… Раймунд из Триполи нес на руках маленького помазанника. Дитя, бледное, хилое, никогда до этого не покидавшее дворца, напуганное видом толпы и непривычной обстановкой, громко кричало. Убогость всего этого зрелища призваны были скрасить нарочито пышные торжества и щедрые дары жителям Иерусалима. В толпу горстями бросали золотые монеты, на площади выкатили бочки с вином. Народ ликовал и с жаром славил обоих королей. Ибо пока еще был жив Балдуин IV, так что в стране стало двое государей. – Хоть и двое, да вместе взятые не стоят одного здорового! – вздыхал рыцарь де Ла Хей. И впрямь… Умирающий – и хрупкий, болезненный младенец… Слишком тонкая ниточка связывает обоих с жизнью! Вот отчего так хмур был регентРаймунд во время коронации. Если дитя, плачущее у него на руках, умрет, права на престол вернутся к Сибилле – или придется отказаться от обычая их наследственного преемства. А это еще хуже, ведь тогда к короне потянутся хищные лапы таких, как Ренальд из Шатильона или Жерар де Ридефор. Поистине не радужные рисуются виды! Архиепископ Вильгельм глубоко задумался. Выйди тогда Сибилла за Ибелина, все было бы иначе. Спокойная будущность ожидала бы Иерусалимское королевство. Вот до чего может довести безоглядная погоня за собственным счастьем! «Я имею право на свою жизнь!» – объявила королю мятежная принцесса. Право на свою жизнь… Кому оно дано?! Что есть жизнь, как не многотрудное служение, от которого никто не смеет уклоняться? Ради этого служения человек рождается, живет и в служении умирает. Не служить он не может и волен лишь выбирать господина. Кто служит Богу, кто черту, а кто и сам себе… Последнее, верно, горше всего!* * *
Стук в дверь прервал эти раздумья архиепископа. Он тяжело поднялся и пошел открыть. На пороге стоял брат Иоанн с переменившимся лицом. – Ваше преосвященство, государь зовет… – Что с ним? – встревожился старец. – Ему хуже. Кажется, вот-вот… – брат Иоанн не сдержал рыдания и, не договорив, бросился назад, к королю. Архиепископ поспешил за ним. В королевской опочивальне он застал уже патриарха и рыцаря де Ла Хей. Вскоре подоспел и Раймунд, князь Триполи. Воздух вокруг отравлял нестерпимый смрад, которого не заглушали даже обильно воскуряемые благовония. На ложе покоилось тело, давно потерявшее человеческий облик: разлагающийся труп… Но из беззубого провалившегося рта вырывалось еще дыхание, а в незрячих глазах таилась еще ясная живая мысль, объемлющая от края до края всю державу. – Deus meus, in Те confido [418]… – хором выводили слова молитвы братья-лазариты. – Кто здесь? – беззвучно спросил умирающий. – Я, возлюбленное мое чадо… – И я, Раймунд. Балдуин не ответил, так что стоявшие у одра не знали даже, понял ли он их. Раймунд опустился на стул, беспокойно теребя бороду. Регентство, которое на него возложили несколько месяцев назад, грозило закончиться быстро: младенец, похоже, был совсем плох. Только что дю Грей принес свежие новости от верного человека при дворе Агнессы. Мать свое дитя забросила – впрочем, так у нее повелось с самого начала; ребенок растет на попечении бабки, а как это выглядит, вообразить нетрудно. Агнесса во внуке души не чает, но только его портит. Малыша держат в грязи, пичкают сладостями с утра до вечера – никакого порядка! От всего этого у него живот слаб, кожа желтая, прозрачная, ножки подгибаются… – Ваша милость, – просил дю Грей, – заберите вы его в Триполи! Там и воздух лучше… Пусть бы супруга ваша его выходила, а то тут он долго не протянет! – Если бы мне об этом раньше рассказали, – отвечал Раймунд, – я так бы и сделал. Моя Эхивия четверых сыновей здоровыми вырастила: и животом ни один не маялся, и заразы не подцепил… Но сейчас поздно. Ну как малец дороги не выдержит? Будут потом говорить, что это я короля извел, чтобы самому на трон сесть! Нет уж, увольте! С болью смотрел он теперь, как угасает его племянник. Вот это был бы король, если бы не проказа! Рыцарь без страха и упрека! Рассыпался на глазах… Не так ли, медленно, но неотвратимо, рассыпалось в прах все Иерусалимское королевство, разъедаемое изнутри неведомым злом, от которого где сыскать лекарство? – Дядя! – позвал умирающий. – Я здесь, Балдуин. – Брат Иоанн даст вам перстень… королевский перстень… Берите без страха – я его не носил. Когда-нибудь вручите его малышу. Расскажите, как он? Здоров? А то мне говорили – хиреет… Раймунд поколебался. – Тот, кто нашептал вам это, солгал, – сказал он наконец твердо. – Ребенок здоров и крепок. В свои два года выглядит на все четыре! – Обещайте мне, что вырастите из него мужчину! – Обещаю… Умирающий затих. Собравшиеся, не зная, жив он еще или нет, жарко, истово молились. Вдруг Балдуин пошевелил беспалой культей, и из провала его рта вырвалось невнятное бормотание. Низко склонившись над ним, архиепископ Тирский разобрал последние слова своего государя: – Господи, Иисусе Христе… Я был трупом… Гнил заживо… Зато теперь я воскресну… Воскресну!Глава 16 МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Люди легко верят в то, во что им хочется верить. Вот и госпожа Бенигна так твердо и горячо верила в удачу своего младшего сына, что письмо от Амальрика, в котором тот сообщал, что Вит стал королем, обрадовало ее, но ничуть не удивило. Она ждала этой новости – ждала целых два года. Ничего другого она и не предполагала. Письмо, как и новости, полученные два года назад, пришло в ноябре. Этой порой и поступали обыкновенно весточки с Востока. Торговые галеры, отплывавшие в Святую землю по весне, возвращались к родным берегам в конце лета или ранней осенью. Еще месяц-другой проходил, пока переданные с корабельщиками послания доставлялись по назначению. Предзимние заморозки в этот год запаздывали, и вокруг замка Лузиньянов хлюпала непроходимая топкая грязь. Хозяин усадьбы Гуго Смуглый, который в последнее время почти совсем оглох и стал слаб в коленях, дни напролет просиживал в своем любимом кресле у камина. Старший его сын, Гуго, по-прежнему жил при дворе английского короля, и не помышлял о возвращении, так что из четверых братьев дома оставался лишь увечный Бертран. Госпожа Бенигна больше не заговаривала с ним о монастыре: одна бы она с хозяйством не управилась… Как обычно в эту пору, по утрам было темно и хотелось еще поспать; смеркалось же рано. Утренние и вечерние дойки проходили при свете лучины. Хорошо хоть змеи как будто забыли дорогу в коровник! С ветвей окружающих замок огромных деревьев клоками свисал бурый туман. В воздухе стоял запах прелой листвы, трюфелей и речной сырости. Река лениво катила непроглядные, цвета чернил, воды. У леса с громким граем вились тучи ворон. Стаи галок кружили над башней Мелюзины. Томительно тянулись в замке бесконечно длинные вечера при дрожащем пламени очага (ибо свечи хозяйка почитала излишней роскошью): ничто не нарушало их тоскливого однообразия. Скупость Лузиньянов известна была всей округе, так что в уединенную их обитель никогда не наведывались бродячие актеры, фокусники, сказители; даже паломники обходили ее стороной. Замковый капеллан отец Гаудентий, спасаясь от скуки, старался, чуть свечереет, выбраться тайком в деревенскую корчму, где он коротал время, играя с мужиками в кости и слушая их разговоры о местных новостях. Госпожа Бенигна вначале возмущалась тем, что преподобный отец братается с простонародьем, однако вестям, которые он ей пересказывал, внимала с жадностью; потом она стала нетерпеливо ждать их, поощряя в душе эти вылазки капеллана, и наутро первая спрашивала: – Ну, что нового в мире, отец Гаудентий? В мире этом, из которого даже отстоящий на несколько миль Пуатье казался недостижимо далеким, конечно, не происходило ничего чрезвычайного. Но и скромные деревенские новости служили пищей для размышлений и радостных мечтаний. «Старуху Павлу дети выгнали из дома, и теперь она просит подаяние…» – Уж меня-то мой сын не выгонит! «Сына Бенедикта бакалавр в ученье взял: говорит, способный. Мать себя не помнит от счастья…» – Куда ее счастью до моего! Мой-то сын не к бакалавру в ученье – в короли пошел! «У хромого Петра дочь выдают замуж…» – Ах, а за моего Вита, верно, сосватали какую-нибудь принцессу! Бертран расхаживал по замку с постным лицом, ворча даже на госпожу Бенигну. На все, что его окружало, он начинал смотреть хозяйским оком. Кто знает, не унаследует ли он усадьбу, раз его братьям так нравится за морем? Может, если матушка снова заговорит о монастыре, отказаться, жениться (да-да, назло всем – жениться) и остаться дома? Так вечерами, сидя друг напротив друга, предавались они этим мыслям: Бертран – своим, госпожа Бенигна – своим… Гуго Смуглый храпел в кресле. В трубах свистел и завывал ветер. В один из таких вечеров и принесли письмо от Амальрика. Госпожу Бенигну чуть удар не хватил от нетерпения, так как капеллан по обыкновению отсутствовал и письмо некому было прочитать. В корчму за капелланом немедленно послали. Наконец вбежал запыхавшийся отец Гаудентий. Его усадили к столу, придвинули зажженную ради такого случая свечу. Дремлющего в кресле старого Гуго будить не стали: он бы все равно ни слова не расслышал. Отдышавшись, капеллан приступил к чтению: «Да хранит Господь Святую землю! Милостивый господин мой батюшка, милостивая госпожа матушка, дорогой братец Бертран! В первых строках своего письма призываю на вас благословение Божие и сообщаю, что и я, и брат мой Вит по воле Провидения пребываем оба в добром здравии. А ежели я с письмом промедлил, то оттого только, что королевство потрясали великие смуты и волнения, кои ныне по милости Божией улеглись. Ибо третьего дня в Храме Гроба Господня Вит, уже полгода тому повенчанный с принцессой Сибиллой Иерусалимской, провозглашен был королем…» – Святой Мамерт!!! – вскричал отец Гаудентий, выпустив из рук письмо. Ошеломленный, он покосился на госпожу Бенигну. Та спрятала лицо в ладонях, роняя сквозь пальцы слезы радости. Свершилось! Сбылись ее ожидания! Не обмануло ее вещее материнское сердце, стали явью мечты… Будь славен тот день, когда она сурово приказала сыну ехать! – Вит – король?! – повторял пораженный капеллан. – Что за чудо! – Нет тут никакого чуда! – оборвала его госпожа Бенигна. – Я с самого начала знала, что так будет, как только Амальрик его вызвал… О святые заступники! Она опустилась на колени, сложила руки, но от волнения не могла вспомнить ни одной молитвы. Поднявшись, она устремилась к Бертрану. – Твой брат – король!!! – рявкнула она над ним, так что он даже подпрыгнул. – Да слышал я, слышал… – буркнул калека. – Я же не глухой, как отец! – Ты как будто и не рад? – Рад несказанно! – с насмешкой ответил он. – Теперь тебе прямая дорога в епископы… в кардиналы… а там, Бог даст, может, и папой тебя выберут… – Премного благодарен, – произнес Бертран мрачно. Черная зависть снедала его… Король! Этот недоумок – король? Должно быть, так оно и есть: Амальрик зря писать не станет. Вот счастье дураку привалило! Живет себе среди роскоши, в сплошных развлечениях да удовольствиях, в то время как он, Бертран, пропадает в деревенской глуши. А ведь они – братья! Какая жестокая несправедливость… – Наш Вит – король!!! – завопила госпожа Бенигна в самое ухо мужу. Разбуженный ее криком, старый Гуго открыл глаза и непонимающе заморгал. – А? Что? Что такое? – Вит, наш Вит – король, и… – Кролики? Шкодливые твари… Спустите собак! – Да не кролики – Вит королем стал, наш Вит! – Вит домой едет? Это хорошо… Успокоившись, старик снова задремал. – Не дать ли челяди вина? – предложил отец Гаудентий. Бертран скривился. – Это еще зачем? Может, и в колокола ударить? – Попридержи язык! – осадила его госпожа Бенигна. – Отец капеллан прав. И вина велю дать, и солонины из кладовой… Она бросилась в людскую. – Эй, где вы там? Слушайте все! Молодой господин Вит стал в Иерусалиме королем! Принцессу взял в жены! В короне ходит… Слуги стояли, разинув рты, и не могли взять в толк, что случилось. – Кувшин вина каждому! И солонины! А завтра – выходной, как в праздник! Только после этого они поверили, что хозяйка не шутит, и кинулись ей в ноги, благодаря и горячо желая молодому господину всяческого счастья. Не дослушав их, госпожа Бенигна заторопилась обратно в гостиную. Ведь отец Гаудентий так и не дочитал письма! Она вернулась за стол и замерла в ожидании, глядя на пламя свечи. Суровое ее лицо, тронутое нежной улыбкой, смягчилось. Преподобный отец продолжил чтение: «…Вот, как и обещал я вам, матушка, и вышел Бит в короли, отчего почет немалый всему нашему роду, но и в недоброжелателях нет недостатка. В том и беды бы не было, когда бы только слушался Вит моих советов. Этим бы он себя и меня от многих забот избавил…» – Да на что ему чужие советы? – возмутилась госпожа Бенигна. – У него, слава Богу, своего ума хватает! «…Ибо править такой державой – труд нелегкий, и проще на трон сесть, чем на нем удержаться. Тут надобно голову на плечах иметь да уметь за дело взяться, а Вит ни тем, ни другим похвастать не может. Сказать по совести, не знаю, когда еще такого дурня земля рожала…» – Что-что?! – вскинулась мать. – Вот это верно – прямо не в бровь, а в глаз! – развеселился Бертран. Госпожа Бенигна хлопнула ладонью об стол. – Молчать! Амальрик – такой же клеветник, как и ты! Это он из зависти наговаривает, от обиды, что не его выбрали. Дурень? Да как он смеет! Где это написано, отец Гаудентий? – Вот, – с готовностью показал капеллан. Госпожа Бенигна с трудом прочла по буквам: «imbecillus»[419]. Она водила пальцем по строчке, точно желая стереть кощунственное слово. И это брат пишет о брате… о короле! Завистник… Завистник… Ее Вит такой пригожий, такой смышленый, такой славный – а братьям это как кость поперек горла! Вит должен слушаться советов Амальрика? С какой стати! Будь Амальрик умнее Вита, принцесса вышла бы за него, это ясно. Капеллан откашлялся. – И впрямь странно, что Амальрик пишет такое о короле, – заметил он. – Правда? Правда? – обрадовалась поддержке госпожа Бенигна. – Чай, дурня бы королем не выбрали! Мой любимый, мой ненаглядный, дитятко мое золотое… Я-то давно смекнула… чуть не с самых пеленок знала… А Амальрик – завистник! И Бертран такой же! Ну да Бог с ними… Отец Гаудентий, не забыть бы отслужить благодарственный молебен! – Я уж подумывал, – подхватил капеллан, – не устроить ли торжественную воскресную службу для всей деревни? Я бы и проповедь приготовил о том, как добродетель ведет к вершинам мира – на королевский трон! Но ничего не выйдет… – Почему? – разочарованно протянула госпожа Бенигна. – Потому что риза вся в дырах, стыдно в такой служить на людях! – А починить нельзя? – До воскресенья? Можно, тут и одного дня хватит… Только шелка купить и подлатать! – Я дам вам четыре денье [420], – сказала она скрепя сердце. Капеллан развел руками. – Маловато… – Ну, так шесть… восемь… Дам все десять! – расщедрилась госпожа Бенигна. – Десять денье – от короля! – Воздай вам Бог, благородная госпожа! Мне бы еще кобылу, чтобы добраться до Пуатье. Прикуплю там шелку, а ради такой оказии уж и к епископу заверну – рассказать про наши дела… Мудрый отец Гаудентий знал, как затронуть нужную струнку в душе человеческой. Госпожа Бенигна обещала дать и кобылу, а после долгих торгов добавила еще один денье на нитки. Засиделись допоздна. Ночью счастливая мать долго не могла уснуть: ворочалась, вставала поглядеть в окно, отчего вдруг залаяли во дворе собаки, а улегшись опять, вздыхала и, не в силах сомкнуть глаза, беспокойно всматривалась в черную пустоту. Вит короновался в Храме Гроба Господня… Верно, красивая была церемония! Именно такая, о какой она мечтала… Ох, повидать бы его! Ведь два года уже, как он уехал! «А что если мне его навестить?» – мелькнуло у нее в голове. Поначалу госпожа Бенигна пыталась отогнать от себя эту мысль – сумасбродную, неосуществимую… Но мысль не отступала и постепенно всецело завладела ею, перестав казаться странной. Так ли это неосуществимо? Да мало ли паломниц ездит в Святую землю – отчего же не поехать ей, матери короля! Или она не заслужила? Разве за много десятков лет она позволила себе малейшее развлечение, удовольствие? Деньги на дорогу у нее есть – те, которые она по крохам копила для Вита. Теперь-то ему уже не понадобятся жалкие материнские гроши. Целое королевство со сказочным своим богатством лежит у его ног, и он, конечно, не обидится, если мать потратит эти сбережения, чтобы повидаться с ним. Бертран будет недоволен – но, может, она что-то выкроит, может, и ему что-то оставит… Надо извлечь из сундуков старые платья из ее приданого, выколотить, привести в порядок – и можно ими обойтись. Только башмаки потребуются новые: в деревянных при королевском дворе показываться не пристало, а ее бархатные совсем развалились! К рассвету госпожа Бенигна уже до мелочей продумала предстоящее путешествие. Решила, что возьмет с собой отца Гаудентия: в сопровождении духовного лица в Иерусалим ехать ловчее! Да и вообще капеллан – человек бывалый, в чужих краях не растеряется, тогда как сама она дальше Пуатье за всю ее жизнь ни разу не выбралась… Они отправятся вдвоем, а в замке за хозяина останется Бертран. Зимой об этом, конечно, и речи быть не может, но сразу же по весне поедет, – поедет мать к сыну – птицей полетит!* * *
Сибилла встала из-за туалетного столика и удовлетворенно оглядела себя в зеркале. Обе ее любимые придворные дамы, Катрин де Ла Хей и Моника д'Авесн, взирали на нее с нескрываемым восхищением. Действительно, в эту пору своей жизни Сибилла, похоронившая недавно двух Балдуинов – брата и сына, выглядела как никогда прекрасной. Утолив свое честолюбие, добившись всего, чего домогалась, она была довольна собой. Чуть пополнела – не настолько, чтобы потерять былую легкость в движениях, но как раз в меру, чтобы фигура ее приобрела приличествующую ей царственную стать. «Королева до кончиков ногтей, до корней волос!» – подумала она сама о себе и, поправив на голове изящную, дивной работы корону, двинулась величавой поступью к залу совета, где ожидал ее супруг. По обе стороны от своей государыни следовали придворные дамы, впереди вышагивали попарно четверо пажей, а еще двое шли за ней, поддерживая отороченный горностаевым мехом край королевской мантии. Так прошествовала эта процессия через многочисленные покои дворца. Заново отделанные в последние месяцы, они поражали роскошным убранством; только опочивальня Балдуина IV стояла наглухо запертая, и никто туда не заглядывал. Ни одно заседание совета баронов не проводилось без Сибиллы. Временами она принималась притворно жаловаться на то, как это ее тяготит. Но никуда не денешься, приходится жертвовать собой – ведь честнейший Вит и шагу без нее не сделает! Вступив торжественно в зал, Сибилла с неудовольствием обнаружила, что мужа там нет, хотя по бокам трона стояли два его оруженосца: один с мечом, другой – со скипетром. Значит, король был, но куда-то отлучился. Сплошные хлопоты с этим Витом! Не считая короля и великих магистров обоих орденов, весь совет был в сборе. Против прежнего состава из членов его выбыли старый коннетабль Онуфрий де Торон, рыцарь де Ла Хей – дед Катрин, любимой придворной дамы Сибиллы, архиепископ Тирский Вильгельм и епископ Альберт. Их место заняли новые люди. Отсутствовал также Раймунд из Триполи. Князь-регент покинул Иерусалим на другой день после погребения Балдуина V Младенца, перед отъездом решительно объяснившись с племянницей. – Ты добилась своего, – сказал он ей. – Дай Бог, чтобы вы вдвоем не погубили державу. Остерегайся великого магистра тамплиеров! – Он нам друг, – холодно ответила она. – Друг, покуда вертит вами, как хочет. А попробуйте вы выйти из его воли, враз обернется врагом. Он махнул рукой и заключил: – Ну, да твой муж вовек из чужой воли не выйдет… Да сохранит вас Господь! Если станет совсем худо – пошлите за мной. Прибуду сразу же. Нелегко мне уезжать, Сибилла: душа не на месте! Супруг твой – из воска, не из стали… Ты-то, правда, кремень, но дальше своего носа не видишь. Она обиделась. Раймунд уехал. Вскоре состоялась коронация. Бароны до последнего противились помазанию Лузиньяна. Решено было, что патриарх увенчает короной только принцессу. Но едва венец коснулся волос Сибиллы, она схватила его и тут же водрузила на голову отбивающемуся супругу. Патриарх, подученный Агнессой, не препятствовал. Великий магистр тамплиеров вскричал: «Священная корона Балдуина I – на челе нового помазанника! Свершилось! Fiat voluntas Tua! [421]» И Лузиньян стал королем. Со времени всех этих событий прошел уже целый год. Он промелькнул быстро в вихре бесконечных увеселений. После королевы Мелизанды иерусалимский двор не помнил стольких пиров и турниров! Король все не появлялся. Из-за закрытых наружных дверей зала доносились возбужденные мужские голоса. Сибилла нетерпеливо поманила к себе Ренальда из Сидона. Тот подлетел, такой же веселый и беспечный, как раньше. – Где государь? – Там, за дверьми, – показал он. – Великий магистр храмовников повздорил с великим магистром госпитальеров из-за того, кому войти в зал совета первым. Государь отправился их мирить. Сибилла сердито нахмурила брови. – Его ли это дело? Хоть бы кого послал! – Ах, государь – такой любезный человек… – возразил рыцарь с добродушно-насмешливой улыбкой. Ренальд из Сидона смел допустить в отношении королевы некоторую вольность, зная, что Сибилла не может без него обойтись. – Запаситесь терпением, государыня, – продолжал он, – ибо свара эта грозит затянуться. И Жерар де Ридефор, и Роже де Мулен остры на язык, и раз уж они пустили в ход это оружие, поединок закончится не скоро. Боюсь, даже вмешательство короля их не остановит. Ах, как блаженны были годы, когда предшественник нынешнего великого магистра госпитальеров лежал прикованный к одру болезни! И уж поистине рай настал бы на земле, если бы милосердный Господь наслал мор на всех великих магистров! Сибилла зевнула. – Расскажите мне что-нибудь забавное… – Какую-нибудь свежую сплетню? Извольте! О патриаршихе. – О ком? – не поняла Сибилла. – О патриаршихе, наложнице нашего святейшего Ираклия. – А, знаю… Как бишь ее? Паскалина? – Кажется… По правде говоря, – забыл о сплетне Ренальд, – недостойно ведет себя патриарх, прелюбодействуя с этой особой. Стыдно подумать, что будут повторять по белу свету паломники, побывавшие в Святой земле! Худо без архиепископа Вильгельма… Пока он был жив, Ираклий еще держал себя в узде – по крайней мере, грешил не так явно. – И что это он вдруг ни с того ни с сего умер! – Вот именно… Ведь крепкий был старик, а как вернулся из Рима – так сразу! – Ходят слухи, будто его отравили… – Все в этом убеждены, но улик никаких не обнаружено. – А правда, что архиепископ ездил в Рим с просьбой лишить патриарха сана? – Правда. Мне об этом доподлинно известно от Плебана де Бутрона, который его сопровождал. Архиепископ пал в ноги Его Святейшеству папе, обличая Ираклия, и папа дал ему грамоту, в которой объявлял о низложении негодного иерарха. – Где же эта грамота? – Исчезла. Однако Плебан клянется, что она была. – Вот как? Но в таком случае, кажется, яснее ясного, кто… – Ох, не так все это ясно… Вокруг нас вообще творится много странного, таинственного, непостижимого, так что порой поневоле начинаешь верить в духов и в нечистую силу, словно какой-нибудь мужик неотесанный. Вспомнить, к примеру, нашу безрассудную и обернувшуюся такими необычайными последствиями поездку на Гору Соблазна! Через несколько дней завел со мной разговор об этих развалинах великий магистр де Ридефор. Ну, я и рассказал, что там раздавались за звуки. Он заинтересовался, и мы отправились туда вместе, взяв с собой десяток его людей, потому что эти удальцы и черта не боятся. Мы обшарили всю гору – но, кроме нагромождения камней, ничего не нашли. А я поклясться готов, что слышал конское ржание, а потом этот грохот и скрежет… – Я до сих пор не могу их забыть! – Кто знает, может, не так уж неправ был старый епископ Альберт? Вам, без сомнения, известно, что за год до смерти несчастный начисто помешался: всем подряд доказывал, что вокруг будто бы гнездится измена, что дьявол сеет свои плевелы среди христиан… – Он видел дьявола? Это занятно! – Видел ли – не знаю, а только на каждом углу взывал: «Откройте глаза! Опомнитесь! Я чую его! Чую!» – Так старик его чуял? Интересно, чем же он пахнет? Неужто и впрямь серой? Оба прыснули. Однако, отсмеявшись, Ренальд согнал улыбку с лица и сказал: – Шутки – шутками, но не кажется ли вам, государыня, что нам все же следует больше считаться с Римом, и главное – обуздать беспутного патриарха? Может быть, король призовет его и строго запретит творить блуд? Сибилла широко открыла глаза. – То-то матушка разгневается! Разве вы не знаете, что Ираклий – ее любимец? – Как не знать! Всякому известно, что только стараниями королевы Агнессы Ираклий и сделался патриархом… Но раз он так низко пал… – Нет, – отрезала Сибилла. – Матушку обижать нельзя. И потом… Уж слишком многого требует Рим от бедных служителей церкви! Почему не позволить им маленьких человеческих слабостей? Почему… Она не договорила, так как в этот миг с треском распахнулись входные двери и в зал стремительно ворвался Жерар де Ридефор; за ним, раздуваясь от злости, как индюк, поспешал великий магистр госпитальеров Роже де Мулен. Только после обоих гроссмейстеров вошел король Вит в короне и горностаевой мантии. Двое пажей, которые обязаны были прокладывать королю путь, шагали сзади, весело пихая друг друга локтями. Когда Вит наконец взгромоздился на королевский трон, Сибилла сердито прошипела ему на ухо: – Сколько можно учить тебя, как подобает держаться королю? Твое ли это дело – разбирать вздорные ссоры у дверей? – Я хотел их помирить… – И при этом допустил, чтобы оба вошли перед тобой? Неслыханно! – Пусть их – слава Богу, что они вообще вошли! Послы уже час как дожидаются… Вит утер со лба пот и, поерзав на троне, приказал Ренальду из Сидона ввести послов Саладина. От султана прибыл длиннобородый, суровый эмир Ибн аль-Имад в сопровождении нескольких шейхов. Посреди зала совета посланники остановились, глубоко кланяясь королю. – Государь просит вас приблизиться, – сказал им Ренальд, исполняющий обязанности толмача. Они расселись за низкими столиками напротив королевского трона. Вит в знак приветствия чуть приподнялся, опершись о подлокотники, после чего осведомился о здоровье своего друга Саладина. – Хвала Аллаху, здоровье Повелителю Правоверных служит отменно, – проговорил эмир медленно, так, чтобы Ренальд успел перевести королю каждое слово. – Но душа Повелителя Правоверных омрачена печалью. – Какова же причина печали великого султана? – спросил Вит со вздохом, наперед зная ответ. – В твоей власти устранить эту причину, о великий король! Уповая на тебя, Повелитель Правоверных отправил меня, недостойного, к твоему двору, сказав: «Вот третий король франков, к которому обращаю я слова приязни. Первый, Мурри, – тут Ренальд обратился к своему государю с разъяснением, что таким именем называли сарацины короля Амальрика, и продолжил переводить речь посланника без малейшей запинки, – был благородным и великодушным соперником. Второй, прокаженный, был львом. Надеюсь, что третий не уступит им в доблести и мудрости!» – Я рад буду исполнить желания султана, – заверил его Вит. – О великий король франков! Хищный шакал бродит среди твоих рыцарей. Корень всего зла, причина раздоров между державой Повелителя Правоверных и твоим королевством – известный тебе владетель замка аль-Акрад, который мы зовем Камнем Пустыни. Недавно он учинил разбойный набег на побережье Красного моря, разорил цветущий приморский край и дерзко двинулся на Мекку. О Аллах! Кощунственная рука потянулась к святой Каабе. Хотя нападение отбили, страх остался. Правоверные боятся совершать ежегодный хадж, предписанный нам Кораном! Никто больше не чувствует себя в безопасности в своем же доме! Нигде нет покоя верным сынам Пророка – и это во время мира, который ты, король, обещал соблюдать! Сокрушаясь над несчастьями своих подданных, Повелитель Правоверных молился три дня и три ночи, прося Пророка вразумить его. И вот что внушил ему Пророк… – Я сожалею о вылазке рыцаря Ренальда Шатильонского, предпринятой им помимо моей воли! – перебил Вит. – Повелитель Правоверных не сомневается, что король франков не знал об этом набеге, – учтиво ответил эмир. – Но вот что внушил Повелителю Правоверных Пророк: пусть король в залог мира даст во владение Ренальду Шатильонскому другой замок, а Камень Пустыни препоручит честному рыцарю, который не нарушит присяги! – Султан за нас решает, кому каким замком владеть?! – выкрикнул с угрозой великий магистр де Ридефор. – Султан просит короля как друга… Но если король не уважит его справедливой просьбы, султан перестанет верить в его добрые намерения. Повелитель Правоверных – отец своим подданным, и он не может спокойно смотреть на их страдания. Не поможет ему король франков – он защитит их сам… силой оружия! – Саладин грозит разорвать мир? – с тревогой спросил Вит. – Клянусь Аллахом! Мир уже разорван – и не по вине Повелителя Правоверных! Вы слышали, на каких условиях султан обещает забыть о новом вероломстве рыцаря из аль-Акрада. – Но Ренальд Шатильонский никогда не откажется от Кир-Моава, – беспомощно возразил Вит. Эмир Ибн аль-Имад снисходительно улыбнулся. – Насколько нам известно, он не услышал пока ни слова упрека! Если ты, король, прикажешь, а он воспротивится, тебе довольно лишь объявить его мятежником – и Повелитель Правоверных сможет покарать его, не нарушая мира, который он с тобой заключил. Это все, что мне поручено объявить. Он замолчал. Вит вопрошающе взглянул на Сибиллу. Та поморщилась в знак несогласия. Король обвел взглядом лица баронов, собравшихся в зале. Великий магистр де Ридефор завертел головой: «Не уступать! Не уступать!» Вит задумался. – Эмир Ибн аль-Имад, – сказал он наконец, – наш ответ мы дадим вам завтра. Посол глубоко поклонился. – Надеюсь, ответ этот окажется благоприятным! – проговорил он. – Повелитель Правоверных неохотно берется за меч, но если его вынудят, он будет биться до полной победы… Посольство удалилось. В зале совета поднялся шум. – Угрозы?! Эти язычники посмели нам угрожать?! – надрывался Жерар де Ридефор. – Мы не можем ввязываться в войну! – доказывал Балиан Ибелин. – Мы не готовы! – Добрый рыцарь всегда готов к войне! По какому праву неверные нам указывают, кому каким замком владеть?! Роже де Мулен, взявший за правило во всем перечить великому магистру тамплиеров, поддержал Балиана. – Требования их справедливы – раз уж мы неспособны обеспечить мир на границе… – заявил он. – Мир? Да кому он нужен! Неожиданно вмешался король. – Саладин прав, – сказал он весьма твердо. – Рыцарь де Шатильон поступил бесчестно. – Возражаю! – вскричал Жерар де Ридефор. – Рыцарь де Шатильон покрыл славой оружие франков! Из речей этого эмира можно было понять, какой страх нагнал он на неверных! Он не обвинений – похвалы достоин… – Он нарушил мир, – стоял на своем король. – К войне нас толкает! – подхватил Балиан. – Войны бояться нечего. Разобьем их, как под Монжисаром! Вит размышлял. «Это же точь-в-точь как если бы я обещал соседу, что не буду спускать собак в его лесу, – соображал он, – а потом спокойно смотрел, как мои псы там бегают, пугая дичь! Он мне: – Да позовите же их – к ноге! к ноге! А я: – Ату! Ату! Так и тут…» Это простое сравнение еще более укрепило его уверенность в своей правоте, и он повторил: – Подобный набег без объявления войны – не рыцарский поступок, и я при первой же возможности готов высказать это Ренальду Шатильонскому в лицо. Рассеянно молчавшая до сих пор Сибилла резко повернулась к мужу. – Ты с ума сошел?! Через две недели мы едем к нему на свадьбу Изабеллы – а ты вздумал оскорблять хозяина! – Я на свадьбу не поеду, – решительно отказался Вит. Сибилла застыла, меря непокорного супруга гневным взглядом. – Глупости! – обрела она наконец дар речи. – Ты и сам отлично знаешь, что поедешь! Как можно? Я так этого ждала! Уже и платье готово… Лучшие музыканты и певцы королевства приглашены… Целый месяц танцев! А ты – не поеду… Поедешь! А послы с чем к нам пожаловали, с тем пусть и возвращаются. Но Вит был в этот день в строптивом настроении. – Повторяю: рыцарь де Шатильон поступил бесчестно, и на свадьбу его пасынка я не поеду. А с Саладином надобно договориться. – Может, еще и извиниться перед ним? – рассмеялся великий магистр тамплиеров. – Он прав. – Неверный правым не бывает! – Этот неверный – рыцарь не хуже нас! Я, король, запрещаю… Великий магистр вскочил с места. – Король?! – зашипел он. – Королишка! Что ты тут петушишься? Я посадил тебя на трон, и стоит мне пальцем пошевелить, как от тебя и следа не останется… Рыцари просто онемели от подобной наглости, а Лузиньяна словно обухом по голове ударили. – Отрекаюсь! – взвизгнул он и сорвал с себя корону, готовый грохнуть ею оземь. Сибилла вовремя схватила мужа за руку. О нет! Этого она не допустит! Она по-своему любила своего простодушного красавца-супруга и ни за что не позволила бы ему уйти. Да и Жерар де Ридефор уже жалел, что не сдержался. Король Лузиньян устраивал его как никто другой. В случае его отречения великому магистру пришлось бы опять иметь дело с Раймундом из Триполи! – Простите, государь, дерзкие и безумные мои слова, сказанные в запальчивости. Суровое покаяние назначу себе, ночь напролет крестом пролежу перед алтарем и бичевать себя велю за то, что оскорбил моего государя. Простите! – Ну, вот видишь… Садись! – потянула мужа за рукав Сибилла. Вит нерешительно переминался с ноги на ногу. Бароны опустили головы, пряча усмешки. Знатно припечатал его великий магистр! «Королишка…» Просто потеха! А королишка он и есть… «Отрекусь!» – думал Вит. В этот миг распахнулись двери, и в зал стрелой влетел старый оруженосец Лузиньянов Матвей де Герс. – Государь! – крикнул он королю. – Госпожа приехала! – Кто-кто? – непонимающе спросил Вит. – Старая хозяйка, благородная госпожа Бенигна! – Матушка… – выдохнул Лузиньян и не помня себя выбежал из зала вслед за оруженосцем. Сибилла закусила губу. Среди собравшихся послышались уже громкие смешки. Жерар де Ридефор попросил слова. – Государь изволил покинуть заседание совета ради семейных дел. Мы искренне рады узнать, что наш король – добрый сын. Однако мы должны закончить собрание. Благоволите, государыня, его возглавить! Сибилла милостиво кивнула. – Какой же ответ дать послам Саладина? – спросил ее великий магистр тамплиеров. – Ах, скажите им, что хотите, лишь бы свадьба Изабеллы состоялась без помех!* * *
Госпожа Бенигна с потерянным видом стояла посреди королевских покоев. Какая тут везде красота, какое богатство, великолепие! И как же жалко в таком окружении выглядела она сама… Правильно ли она поступила, приехав в Иерусалим? Может быть, следовало вначале написать, спросить позволения? Вот, заявилась запросто, как мать к сыну – а вдруг у королей так не принято? Она робела тем больше, что осталась совсем одна, даже отца Гаудентия при ней не было: тот сразу после приезда поспешил, выполняя обет, к Гробу Господню. Ее же направили во дворец, который занимал Амальрик. Роскошное жилище! Она и шагу ступить не смела, страшась испачкать пол… Амальрик отсутствовал – король послал его в Аскалон. Госпожу Бенигну встретил Матвей де Герс, который и привел ее сюда. По дороге она не успела ни о чем расспросить старика и теперь стояла здесь, вся дрожа от радости, смешанной с беспокойством. Что если сын и знать не захочет убогой своей матери? Будет ее стыдиться… Ее сердце этого не вынесет! Пока же она прижимала руки к груди, словно боясь, как бы это ее бешено колотящееся сердце не выпрыгнуло наружу, и ждала. Но вот уже за дверью послышались шаги – быстрые, нетерпеливые… Вот он! Ее Вит! И одетый именно так, как она воображала: в пурпуре, в короне! Прекрасный, будто архангел! Вот он вихрем подлетает к ней, срывает с головы корону, сбрасывает мантию, небрежно кидает то и другое на скамью – и сжимает мать в объятиях. – Матушка… матушка… Оба заливаются слезами. Сын опускается на колени, обхватывает ее старые, подгибающиеся колени. Милая матушка… Все та же… Все та же… Загрубевшие, натруженные руки, седые пряди волос, выбивающиеся из-под старого смешного чепца, морщинистое лицо… Матушка! Как будто все его счастливое детство и родной его дом предстали перед Витом вместе с ней! Он подвел мать к низкой кушетке, и они сели, держа друг друга за руки. – Ты ведь всегда так ходишь… и по будням, правда? – спросила госпожа Бенигна, кивая на мантию и корону. – Нет! К счастью, нет… Но сегодня я принимал послов султана. У нас сейчас заседание совета баронов, и я бы должен туда вернуться… А, да ну их – не вернусь! Я так рад видеть вас, матушка! В первый раз с тех пор, как я тут, так рад! Госпожа Бенигна удивилась: разве не вся его жизнь здесь – одна сплошная радость? Дверь опять распахнулась, пропуская четверых пажей, вслед за которыми в сопровождении придворных дам вошла Сибилла. Она холодно взглянула на мужа. – Вот моя жена, – сказал Вит, вставая. – Твоя жена? Королева? Какая красивая! Простодушное восхищение пожилой женщины тронуло Сибиллу. Смягчившись, она чуть заметно улыбнулась краешком губ и, приблизившись, сделала вид, что склоняется к плечу свекрови. – Милое мое дитя! – воскликнула с чувством госпожа Бенигна. – Я бы обняла вас, но не осмеливаюсь… Да благословит вас Бог, прекрасная госпожа, за то, что вы выбрали моего Вита! Ох, не знаю, как мне вас и величать, чтобы ненароком не обидеть… – Обращаться ко мне следует так: государыня невестка… – назидательно сказала Сибилла. – Государыня невестка… Да-да… Вы… Уж вы простите мой приезд, но я так соскучилась по моему мальчику! Это был мой любимец… С самого детства… Я первая поняла, какая перед ним дорога! – Мы рады вам, любезная госпожа свекровь. Будьте нашей гостьей. Мои придворные дамы покажут вам ваши покои. А пока я кое о чем потолкую с мужем… Королевская чета скрылась за дверью. Госпожа Бенигна смотрела ей вслед восторженными, полными счастья глазами. – Что ты себе позволяешь?! – напустилась на мужа Сибилла, как только они оказались за дверью. – Уходишь из совета, не дожидаясь конца заседания! – Ты права. Это никуда не годится. Но я так обрадовался, что приехала матушка, что позабыл обо всем на свете! – Свекровь могла потерпеть. Ну и наряд на ней! Дай ей поскорее денег, пусть как следует оденется. А то просто срам, как все на нее смотрят! А совет мы закончили без тебя… – И что вы решили? – с тревогой спросил Вит. – А что тут можно было решить? Что требований Саладина принять нельзя. Вит схватился за голову. – Но это означает войну! – Не бойся, войны не будет, – убежденно сказала Сибилла. – Султан только грозится. Он такой урок получил под Монжисаром, что больше наверняка не сунется. – Дай Бог! – вздохнул Вит. – Мне другое не дает покоя… – понизила голос Сибилла. – Великий магистр. Как он смел назвать тебя королишкой! Я не потерплю, чтобы орден ставил себя выше помазанника. – Что же делать? – Может… может, позвать исмаилитов? Знаешь, как это делается? Они пошлют своих людей – и… Остальное Сибилла договорила беззвучным шепотом ему на ухо. Вит отскочил от нее как ошпаренный. – Нет! Нет! Вы сделали из меня дурака, шута, а сегодня и клятвопреступника – но убийцу вам из меня не сделать! Сибилла зажала ему рот рукой. – Молчи! Кричать об этом незачем! А дурака из тебя никто не делал – ты им родился… Она вздернула плечи и удалилась, разгневанно шурша шлейфом на платье. Вит вернулся к матери. Та встретила его все такой же радостной улыбкой. – Раскрасавица у тебя жена, – растроганно проговорила госпожа Бенигна. – И такая ласковая… Сразу видно, что вы души друг в друге не чаете! – Расскажите, как там у нас дома, матушка! – перебил ее Вит. – Да что тут рассказывать! Дома все по-старому. С тех пор, как ты уехал, почти ничего не изменилось. Только отец совсем оглох, да Бертран чудной стал… А змея в коровник больше не заползает, и как-то, когда я плакала, потому что невмоготу мне без тебя было, отец Гаудентий, чтобы меня развеселить, сказал, что, верно, и Мелюзина по тебе соскучилась да за тобой подалась! Вит так и отпрянул. – Значит, и дома об этом говорили?! – Ну, это только так отец Гаудентий пошутил, – не поняла сына госпожа Бенигна. – Он, кстати, надеется, может ты дашь ему новую серебряную чашу в часовню: наша-то оловянная совсем погнулась… – Дам я ему и чашу, да золотую, и другую церковную утварь в придачу! Но вы рассказывайте, рассказывайте… Говорите, Бертран чудной стал? Ах, какой он счастливый, что живет дома! Сам себе хозяин… Тихая жизнь! Река течет, как раньше… Лес шумит… А что собаки? Сильно сдали? Ведь с ними и на охоту пойти некому… Вот бы мне сюда моего пса! А птицы? По-прежнему щебечут? Тут птицы не водятся… Он не выдержал и заплакал. Госпожа Бенигна подбежала к нему, пораженная в самое сердце. – Что с тобой, дитя мое? Что с тобой? Вит взял себя в руки. Бедная матушка! Исковеркала она его судьбу, отправив тогда на чужбину, но поступила она так от великой материнской любви. Зачем лишать ее покоя? Прошлого не вернешь! Пусть она порадуется… И, утирая слезы, он сказал: – Это от счастья… от счастья видеть вас… ни от чего больше…* * *
Госпожа Бенигна уезжала, и Матвей де Герс вместе с отцом Гаудентием присматривали за погрузкой коробов на возы, следующие за хозяйкой в Яффу. Поклажи было немало. Богато одарили мать оба сына: Вит – от щедрого сердца, Амальрик – из расчета. Пусть все Пуату, да и вся Аквитания полнятся слухом о силе и славе Лузиньянов! Пусть все знают, каким великим королем стал один из них! Отец Гаудентий не помнил себя от радости и не переставая повторял: – Осанна! Таких риз, такой утвари нет даже у епископа в Пуатье… У самого епископа! Госпожа Бенигна, однако, скорее ошеломленно взирала на все эти богатства, а на сердце у нее лежала тяжесть. Грустно ей было уезжать, и какой-то смутный страх не покидал ее. Странно тут… Как будто все так, как ей это виделось, но при этом –все по-другому! И в ее душу закрались сомнения. – Как ты думаешь, – доверительно спросила она Амальрика, – он справляется с королевством? – Слава Богу, хоть перед отъездом вы задали, матушка, первый разумный вопрос! А то, чуть я заведу речь об этом, так вы сразу: «Завистник! Завистник!» Это я-то завистник? Я ведь его сюда и вызвал! Но, по правде говоря, я думал, он умнее… С королевством он не справляется. Никто тут его и в грош не ставит. Всяк из него норовит веревки вить – и жена, и великие магистры, и бароны… Да вы, верно, и сами об этом догадались! – Боже мой! – застонала госпожа Бенигна. – Он ангел, а люди такие подлые… Ангел как раз подъезжал верхом. После торжественных проводов матери во дворце Вит хотел еще обнять ее перед дорогой. Он спешился и приник к ее груди с таким жаром, словно с ее отъездом рвались все нити, связывающие его с домом. Госпожа Бенигна тревожно прижала его к себе. – Амальрик мне только что говорил, – не скрыла она беспокойства, – что тебе тут нелегко… Будто бы люди тебя не боятся… Вит печально улыбнулся. – Бога они не боятся, так что для них я – жалкий червь! Желая отвлечься от невеселых мыслей, он подошел к возам. – Не надобно ли вам еще чего, матушка? Одежды, посуды – а может, ковров? Вдруг он хлопнул себя ладонью по лбу. – Господи! А где же мои трофеи, добытые под Монжисаром, которые я укладывал, собираясь домой? Никто не знал. Вспомнили, что тюки эти долго валялись под ногами, пока кто-то их не убрал. Кто? Куда? На этом следы обрывались. – Жаль, – вздохнул Вит. – Тут у вас, матушка, правда, добра и так хватает – но то было мое, добытое, а не из жениной милости! Я для вас собирал, для вас и для… Вит не договорил. За все время он так и не решился спросить у матери о Люции, а сама госпожа Бенигна о ней не вспоминала. Да что спрашивать! Это ничего не изменит. Бедная матушка… Она бы могла называть Люцию «дитя мое» – а не «государыня невестка»… Виту живо представились чудесные стеклянные флаконы, которые он так тщательно заворачивал, думая порадовать невесту. Куда-то их забросили, наверняка и разбили… Напрасно теперь искать их, пытаться склеить – скрытая в них некогда радуга не вернется!Глава 17 FINIS HIEROSOLIMAE [422]
Как говорил эмир Ибн аль-Имад, его султан Салах-ад-Дин, сын Айюба, не брался за меч без крайней нужды. Но в Иерусалимском королевстве заблуждались, объясняя подобную сдержанность страхом полководца, который должен был на всю жизнь запомнить свое поражение под Монжисаром. Великий завоеватель был не только воин, но и мудрец. Саладин знал, что он – могущественнейший восточный владыка и что потомки будут называть его имя в одном ряду с именами царя Соломона и Гаруна аль-Рашида. Соломон, Гарун аль-Рашид, Салах-ад-Дин… Величие, мудрость, сила! Но хотя Саладин и осознавал свое могущество, он не упивался им и никогда не забывал о неотвратимой своей кончине. Саладин не сомневался, что славный сын Айюба умрет точно так же, как любой из его подданных. Да, он прожил яркую жизнь, однако это не значит, что его ожидает бессмертие… И что же тогда станется с его страной? Страной, протянувшейся от Тигра и Евфрата до самого Нила, объявшей Моссул, Алеппо, Дамаск, Багдад, Каир? Сохранится ли она такой же, какой была в годы его мудрого, осмотрительного правления? Нет, наверняка нет… Сыновья, братья и племянники Саладина кинутся на нее, как жадные вороны на падаль, и никто не захочет уступить своей доли. Впрочем, среди них все равно не найдется ни одного достойного мужа, который сумел бы подчинить своей воле остальных. И, беспомощный перед прозреваемым им неизбежным будущим, Саладин не раз задавался вопросом – стоило ли идти на такие жертвы ради объединения, слияния в одно целое крохотных государств, если вся эта огромная держава распадется на кусочки, едва лишь смертный сон смежит его веки? Подобные мысли мало располагали к новым завоеваниям, и оттого Повелитель Правоверных медлил с ударом по франкам. Он никогда не скрывал ни от себя, ни от других, что не испытывает ненависти к вере своих врагов. Скорее она вызывала у него острое любопытство. Недаром же растил и воспитывал его эмир аль-Бара, сын христианки, всю свою жизнь тянувшийся к христианам – и подло, предательски убитый христианским рыцарем. Эмир аль-Бара накрепко внушил сыну Айюба, что вера гяуров – особая вера, которая зиждется на близости к Богу, на том, что человек всегда может полными горстями черпать из чистого источника Господней любви. «Вот почему, – говаривал эмир, – христиане лучше и сильнее многих. Ведь им дозволено общаться с их Богом в любое время, когда в этом есть нужда!» Саладин часто размышлял над этими словами своего наставника, то соглашаясь, то гневно отвергая их. Жизнь Балдуина IV, ученого Вильгельма, архиепископа Тирского, или старого коннетабля Онуфрия де Торона как будто подтверждали правоту убеждений эмира аль-Бара. Однако таких примеров было мало, очень мало… В подавляющем же большинстве франки вызывали у него отвращение – такими они были вздорными, мелочными, жадными, жестокими, кичливыми… Непохоже было, чтобы, беседуя со своим Богом, они проникались хотя бы крохотной частицей Его святости! Раздираемый этими сомнениями, султан и теперь колебался, никак не решаясь нанести франкам окончательный удар. Смятение мудреца, тщащегося постичь чужого Бога, брало верх над нетерпением военачальника. Уверенный в своей силе, равнодушный к мелким уколам, какими были для него непрекращающиеся набеги вероломных баронов, он медлил у границ Иерусалимского королевства, в Дамаске, словно могучий золотогривый лев, который греется на солнце и не бросается на свою добычу, продлевая ей жизнь еще на несколько часов. С бесстрастным лицом выслушивал султан последние новости иерусалимского двора, которые доставляли ему вездесущие армяне. Вести эти не содержали в себе ничего особо занимательного. Король с королевой блистают красотой – и это, пожалуй, все, что можно о них сказать. Королева только и думает, что о нарядах да о празднествах, а король не выходит из воли великого магистра тамплиеров. Тот вертит юным Лузиньяном, как хочет, и Жерар де Ридефор стал ныне едва ли не первым лицом в государстве. – Беда от него королевству! – говорил Саладин, наслышанный о неблаговидных делах великого магистра. Возмутительные известия сообщали также о жизни отцов церкви, о самом патриархе… Старики-епископы, как и старые рыцари, поумирали, новое же поколение совсем не походило на своих достойных родителей. Молодые люди не знали, что такое долг и чувство ответственности, и хотели лишь одного: повеселее и полегче прожить на белом свете. – Клянусь Аллахом, это королевство развалится само по себе! – решил в конце концов султан. Так он, должно быть, и продолжал бы наблюдать за происходящим в Иерусалиме со стороны, если бы не очередная, неслыханно наглая выходка неукротимого Ренальда Шатильонского. Владетель Кир-Моава вновь вторгся с вооруженным отрядом на земли Саладина и захватил богатый караван, направлявшийся в Мекку. Среди паломников находилась родная сестра султана. Ее, как и всех остальных, привязали к длинной веревке, и вереницу пленников погнали в Кир-Моав; несчастная была так напугана, что умерла прямо на дороге. Узнав об этом, поднялся в справедливом гневе весь род Айюбов. Мужчины явились к Повелителю Правоверных, требуя отомстить и покарать виновного. Салах-ад-Дин отправил в Иерусалим новое посольство, добиваясь, чтобы король удалил обидчика от границы. Однако послы опять вернулись ни с чем… – Клянусь Аллахом! – воскликнул тогда султан. – Поистине потомки будут называть меня не иначе как Салах-ад-Дин Терпеливый! Но тетива моего терпения лопнула. Довольно унижений! Да протрубят боевые трубы: смерть франкам! И да будет таков наш клич в этой войне! – Смерть франкам! – радостно подхватили его родичи. – Смерть франкам! Пусть стервятники разнесут по пустыне их кости! Пусть исчезнет их след на этой земле! Война! Война! Со всех сторон спешат к Дамаску верные сыны Пророка. Мамлюки из Египта, янычары из Багдада, мавры с верховьев Нила. Точно реки в море вливаются их потоки в войско султана. Сотню лет не видели эти края такой мощной армии, но ныне оживает память о минувших днях. Война! Война! Священный джихад! Да сгинут неверные! Смерть франкам!* * *
В Иерусалимском королевстве забили тревогу. Долготерпение султана усыпило бдительность баронов. Плохо зная Саладина, они и вправду уверовали в то, что султан их боится. Ведь они раз от разу все больнее задевали его, а он как будто не замечал их вызова. Подобную невозмутимость султана рыцари объясняли страхом: сами-то они никогда не упускали случая подраться! Только сейчас им стало приходить в голову, что, пожалуй, не стоило попусту дразнить Саладина, что надо было получше принять его послов. Теперь же у границ королевства стоит больше чем двести тысяч его войска… Да хранит Господь Святую землю! Отовсюду спешат в Иерусалим рыцари. Раймунд из Триполи привел свои железные полки. Боэмунд Антиохийский прислал старшего сына Раймунда с большим отрядом. Госпитальеры, отринув привычную для них скупость, пожертвовали для набора войска дары, поднесенные их ордену Генрихом Плантагенетом. В итоге, после того как в столицу были стянуты гарнизоны из всех замков и крепостей, в Иерусалиме собрались две с половиной тысячи рыцарей да двадцать тысяч пехоты. Таковы были силы христиан. Ах, если бы во главе войска встал бывший регент королевства! Но об этом нечего и мечтать. Оба великих магистра, которые вечно грызутся друг с другом, тут, объединенные ненавистью к Раймунду, князю Триполи, выступают заодно. Они убеждают королевскую чету, что Раймунд, возглавив войска, прогонит Вита с Сибиллой и объявит себя королем. Это возымело ожидаемое действие. Сибилла, подстрекаемая вдобавок матерью и патриархом Ираклием, настаивает, чтобы муж сам вел армию на врага, как и подобает королю. Вит Лузиньян – военачальник?! Немыслимо! Однако напрасно бедняга отбивается, объясняет, что он не полководец, что ничего не понимает в военном искусстве. Сражаться он умеет. Командовать – нет! Сибилла не уступает. Король обязан вести войско, твердит она. А что он неопытен – не беда! Великий магистр будет рядом – и подскажет, и поможет… О да! Великий магистр поможет… Движущиеся со всех концов страны отряды собираются в оазисе Сефория. Это тенистая долина, богатая водой и пастбищами для лошадей. Менее двух дней пути отделяет ее от Тивериады, на которую скорее всего и обрушится первый удар Саладина. По воле короля – ибо король иногда выражает-таки свою волю – при войске находится патриарх со Святым Крестом. Он недоволен. – Великий грех, – повторяет он, – трогать с места и подвергать опасности священные реликвии! Год 1187, первые дни июля. В эту пору в Святой земле всегда стоит нестерпимая жара, такая, что кажется, будто само небо пышет зноем. В раскаленном воздухе висят клубы сухой пыли. Из Тивериады прибывает гонец, присланный женой Раймунда Эхивией. Саладин уже подступил к городу и осадил его. Сарацин несметное множество, они заняли берега Тивериадского озера – и все равно не поместились, часть осталась в горах. Княгиня Триполи и Галилеи заперлась с сыновьями и всеми своими рыцарями в крепости и готовится к обороне. – Храбрая моя старуха! – восхищенно восклицает Раймунд. В королевском шатре собирается совет баронов. Великие магистры, на удивление единодушные, и король предлагают идти на помощь Тивериаде. Раймунд теребит свои длинные усы. – Послушайся я зова сердца, – говорит он, – я первый бы кричал то же самое. Ведь в Тивериаде окружена моя семья! И все же я не советую покидать Сефорию. Здесь у нас есть вода и корм для лошадей, а на всем пути в Тивериаду – ни одного колодца… – Напоим коней в Тивериадском озере! – отмахивается Жирар де Ридефор. – Если дойдем, – возражает Раймунд. – Вы же слышали: Саладин занял берега озера. А сил у султана против нашего – вдесятеро больше, так что пробиться нам будет нелегко. Можем и погибнуть от жажды в этом пекле… а нет – так бесславно вернемся обратно в Сефорию… – И что же посоветуете? – перебивает его король. – Ждать здесь. Пусть даже Саладин захватит Тивериаду: богатой добычи для него там нет, и в городе он долго не задержится. Выйдя же оттуда, он либо выступит против нас – и мы, имея вдоволь воды, дадим бой его войску, изнуренному долгим переходом по знойной пустыне, либо направится в другую сторону – и тогда мы ударим ему в тыл и вынудим драться там, где это будет удобно нам. Голос рассудка подсказывает Лузиньяну, что Раймунд прав, однако оба великих магистра наперебой опровергают доводы седого рыцаря. От их крика у бедного короля голова идет кругом и мысли путаются, так что он уже не знает, чью сторону ему принять. Ах, хоть бы брат был рядом – может, он бы что подсказал… Но Сибилла оставила Амальрика при себе – охранять Иерусалим. Она пыталась удержать и Ренальда из Сидона, да тот не послушался. Королева обиделась. – Когда вернетесь, это вам зачтется! – пригрозила она. – Боюсь, государыня, теперь мы с вами свидимся только на том свете, а там нам зачтется и кое-что похуже этого, – отшутился по своему обыкновению весельчак Ренальд и поспешил за войском. – Оставить выгодные позиции затем, чтобы сунуться в самую пасть к Саладину, у которого в десять раз больше людей, чем у нас, – это верная смерть! – не сдается князь Раймунд. Де Ридефор язвительно усмехается. – Что это вы все сарацин считаете? Уж не испугать ли нас вздумали? Так мы не из пугливых! Много их? Ну, и что из того? Ведь сколько дров ни кинь в огонь – он спалит их дотла! – Такие речи разве что для женщин годятся… Да нас самих спалит в пустыне солнце! – Вы отговариваете нас, как будто обещали сдать Тивериаду Саладину… Раймунд побелел от гнева. – Вы мне за это ответите! После битвы, если живы будем… Государь! Я знаю, что бросаю слова на ветер, однако заклинаю вас страстями Христовыми – не дайте сбить себя с толку, не покидайте Сефорию! Поймите: забудь я о благе королевства, в чем меня тут обвиняют, я бы первый помчался к стенам Тивериады! Это мои владения, там осталась моя семья… Не завтра, так послезавтра Саладин начнет штурм крепости. Может, все мои в бою погибнут, а может, попадут в плен, и мне их потом выкупать придется – это уж как Бог решит! Но я предпочитаю потерять Тивериаду и близких, а не всю отчизну разом. Повторяю, на всем пути отсюда до Тивериады – ни одного колодца, ни одного источника! Кони по такой жаре долго без воды не протянут. А вдруг нам придется встать лагерем? Вдруг Саладин не примет сразу бой и будет тянуть время, не подпуская нас к озеру? Мы все погибнем – и королевство вместе с нами! Вит глубоко задумался. – Вы правы, – проговорил он наконец и поднялся в знак того, что совет окончен. Оба великих магистра покинули шатер. Де Ридефор от злости скрежетал зубами. Раймунд, озабоченный и невеселый, поспешил к своему отряду. Слава Богу, что от этой глупой затеи отказались, но каково сейчас его бедной Эхивии? Она послала сказать, что будет оборонять город. Бесполезная отвага! Замок слабый, плохо укрепленный, защитников – горстка… Сарацины возьмут его шутя. «Только бы мои остались живы!» – с тревогой думал Раймунд. Князь Триполи любил свою жену, хотя она была много старше его и далеко не красавица. Вдова владетеля Галилеи, она вышла за Раймунда замуж с четырьмя сыновьями, которых бездетный князь растил как родных. «Только бы их пощадили… выкуп дам, какой потребуют! Если Саладин или Туран-шах загодя узнают, что там моя жена, они не дадут ее в обиду. Если загодя узнают! Иначе толпа ворвется в замок – и…» До самой ночи сидел он не шелохнувшись, погруженный в эти мысли. Он был знаком с Саладином, а с Туран-шахом даже дружил, будучи в сарацинском плену. И князю Триполи пришло в голову написать ему. «Напишу ему как рыцарь рыцарю, и попрошу позаботиться о моей жене и сыновьях!» Сочтя, что это – удачное решение, Раймунд взял бумагу и не колеблясь написал по-арабски (этот язык он знал не хуже Ренальда из Сидона) следующие слова: «Туран-шаху, сыну Айюба, – поклон и рыцарский привет. Мужчины сражаются, но не обращают свой меч против женщин, которые не подлежат суровым законам войны. В Тивериадской крепости находится моя жена, княгиня Триполи и Галилеи. При ней – двое младших ее сыновей. Верю, что Бог поможет ей отстоять замок. Но в случае, если счастье ей изменит, прошу тебя, о сын Айюба, взять ее под свою защиту». Удовлетворенно прочитав послание, князь Триполи приложил свою печать и крикнул оруженосца: – Возьми бурдюк с водой, садись на верблюда и скачи к Тивериаде. Наткнешься на сарацин – не бойся, а помаши вот этим письмом и крикни, чтобы тебя отвели к Туран-шаху. Запомнишь? Это брат Саладина и мой старый знакомый. Отдай письмо и возвращайся. А если они будут допытываться, где наше войско, не говори. Отвечай, что я дал тебе это письмо в Иерусалиме, а где король и все рыцари – не знаешь… Понял? – Понял, мой господин. – Ну, так ступай с Богом! Оруженосец удалился, почесывая в затылке. Не нравилось ему это поручение, хотя при князе он не смел в этом признаться. К неверным ехать гонцом? Спаси Господи! А вдруг это письмо не защитит его? Нехотя двинулся он к погонщикам попросить у них верблюда и бурдюк для воды, но на обычном месте их не обнаружил. Узнав, что они перегнали верблюдов на новое пастбище – куда-то в другой конец оазиса, оруженосец, кляня свою судьбу, отправился их искать. В лагере тамплиеров у костра собрались слуги. Он подсел к ним, чтобы пожаловаться на опасное задание, с которым посылает его хозяин, и порасспросить о нравах сарацин: убьют они его или нет?* * *
Наутро, едва забрезжил рассвет, в шатер спящего крепким сном короля ворвался великий магистр Жерар де Ридефор. – Государь! Измена! – Где? – вскричал Вит, протирая заспанные глаза. – Там, где я давно ее чуял! Мы только что схватили оруженосца князя Триполи, которого тот отправил с письмом к Саладину – или к его брату, что одно и то же. – Письмо? К Саладину? О чем? – Вот оно: по-арабски, предатель, пишет! Явная измена! Вит растерянно взглянул на лист, испещренный мудреными арабскими закорючками, и от одного их вида его бросило в дрожь. – Где Ренальд из Сидона? Пусть прочтет! – Ренальда еще нет, – ответил великий магистр. Он, конечно, знал, что Ренальд вчера прибыл, но в его намерения не входило читать письмо. Оруженосец рассказал, что Раймунд велел ему не выдавать сарацинам, где стоит королевское войско. Уже одно это позволяло заключить, что письмо не содержало ничего предосудительного. Но простодушный король поверит чему угодно! – Что же делать? Что делать? – беспомощно застонал Вит. Он чуть не плакал: какие все подлые! Князь Триполи говорил так убедительно, так, казалось бы, искренне – и надо же! Пишет письма по-арабски! – Ночью, тайком послал, чтобы никто не узнал… – подлил масла в огонь великий магистр. – Что делать? – повторил король. – Ясно, что: скорее трубить поход – и вперед, на Тивериаду, вопреки тому, что нам внушал этот изменник! – Ну, так велите трубить… – в отчаянии соглашается Вит. Он совсем сбит с толку. Ах, будь тут хоть Амальрик, хоть Ренальд из Сидона… Или Ибелин из Рамы – вот кому можно было довериться! Но Ибелина среди них давно нет: еще до кончины Балдуина Прокаженного он уехал из Иерусалима и навсегда перебрался на старую родину. В стане Христова воинства будто внезапно наступил судный день: ревут трубы, грохочут барабаны… В предрассветных сумерках раздается клич: – По коням! По коням! Вперед, на неверных! Разбуженный этим шумом Раймунд из Триполи вскакивает со своего ложа. Что это значит? В чем дело? Он спешит к королевскому шатру. Вит смотрит на него исподлобья. – Великий магистр принес мне ваше письмо. – Мое письмо к Туран-шаху? Так гонец не выехал… – Зачем вы писали Туран-шаху? – хмуро спрашивает Вит. – Чтобы при штурме города он пощадил мою жену и пасынков. Да вот, послушайте… Раймунд слово в слово переводит королю свое письмо. Вит хватается за голову. Господи, кому верить? То, что говорит сейчас князь Триполи, похоже на правду – но великий магистр… – Меня, честного рыцаря, выставили изменником! – горячится Раймунд. – Но изменник не я, а тот дьявол, который толкает вас к погибели! Ради всего святого, не ведите войско к Тивериаде! Останьтесь здесь, как было решено в совете! – Я уже отдал приказ. – Лучше отменить приказ, чем погубить себя и державу! Вит колеблется. Он бы и послушался, но ему стыдно. Уже протрубили поход. Будут потом над ним смеяться, что он даже не может решить, выступают они или остаются! А кроме всего прочего – он боится великого магистра. Попросту боится. И он с непреоборимым упрямством, какое бывает свойственно людям слабым и неуверенным в себе, говорит: – Я отдал приказ и теперь его не отменю. – Вы идете на верную гибель! – Это мы еще посмотрим! Вы отказываетесь выступить с нами? – Добрый рыцарь не бежит смерти, даже если это напрасная жертва, – отвечает Раймунд и выходит из шатра. Уже совсем рассвело. В лагере – крик и беготня. Раймунд смотрит на сборы войска с трезвым, холодным отчаянием. Людей ведут на смерть. Одного не может он понять: какую цель преследует великий магистр храмовников? Он-то наверняка знает, что делает! А может быть, крикнуть людям, чтобы они остановились? Скинуть этого безмозглого королишку, прогнать великого магистра да взять дело в свои руки, спасая державу? Так размышляет Раймунд – а все вокруг суетятся, гомонят, не обращая на него никакого внимания. Он слышит обрывки разговоров. – Воды запаси, воды… – Не во что мне ее запасти: у меня всего один бурдюк, да и тот дырявый! – А ты спроси, может, у кого есть лишний! – Кто же даст? Ежели у кого и есть, то для себя… – Сказывали, два дня без воды будем идти – в этаком-то пекле! – Слыхали? Говорят, князь Триполи нас предал! Великий магистр перехватил его письмо султану. – Спаси Господи! Князь Триполи? Такой благородный господин – и сносился с султаном? Ну, да великий магистр не лучше будет! – Ясное дело… Все они такие: плутуют, как могут, а ты за них погибай! – Все нас предали! На смерть в пустыню ведут… – Вот бы не ходить! – А с кем оставаться-то? Никому нет веры, никому… Раймунд вышел из тени дерева, под которым он стоял, и направился в свой лагерь. Не стоит созывать людей, поднимать бунт. Да свершится воля Господня!* * *
Копыта глухо стучат по мертвой каменистой почве. Нигде никакой зелени. Из трещин в земле торчат редкие сухие стебли. Солнце опаляет огнем. Раскаленные доспехи нестерпимо жгут тело. Пыль забивается в рот, в глаза… Воздух дрожит от зноя. Медленно тянется изнурительно жаркий день. Кони повесили головы. Перед взорами всадников встают манящие миражи. Вот в багровом мареве показалась Тивериада. Она так близко, что камень можно добросить! Белеют дворцы… зеленеет трава… синеет гладь озера… Все это маячит впереди, соблазняет, влечет к себе, довершая муки страждущих. С наступлением сумерек войско поднимается на холм Хаттин. На пологих его склонах помещается вся небольшая армия франков. Лошади чуть не падают. У людей от жажды потрескались губы. Развязав бурдюки, воины ненасытно пьют, поят лошадей, оставляя совсем немного воды на утро… – Нельзя здесь долго задерживаться! – доказывает князь Раймунд. – Ночью идти легче – тогда холодно. Раз уж мы выступили, не будем останавливаться! Может, мы застигнем Саладина врасплох, пробьемся к озеру… Люди ропщут. Каждый только и мечтает, как бы поскорее повалиться на землю и уснуть. После мучительного дневного перехода идти еще и ночью?! Ну уж нет, пусть князь Триполи идет один, если хочет. Если его так тянет к Саладину, которому он пишет письма… На пустыню опускается ночь – глухая, темная, душная. В непроглядном мраке что-то поскрипывает, шумит. Может, это ветер поднимает волну в Тивериадском озере? Ранним утром над горизонтом стремительно взмывает огненный солнечный диск – и сразу возвращается непереносимая жара. Воины садятся на коней. В путь! В путь? Но куда, франки? Пути больше нет. То не буря шумела ночью, не волны в далеком озере. Это Саладин со своим несметным воинством подкрался во мраке и окружил со всех сторон холм Хаттин. Франки в кольце. Они не могут уже вернуться назад в Сефорию – а о том, чтобы добраться до Тивериадского озера, и мечтать нечего! И вот стоят они в лучах палящего солнца на этом холме, словно жертва всесожжения, вознесенная на огнедышащем столпе в небо. Крик ужаса проносится по рядам франков. Король Лузиньян заламывает руки. Великий магистр тамплиеров де Ридефор зловеще молчит. Князь Раймунд из Триполи хмуро кивает седой головой. То, что он предсказывал, сбылось даже раньше, чем он ожидал. Бывали времена, когда франки выходили победителями из куда более отчаянного положения. Умирая от голода и жажды, они громили армии куда многочисленнее этой. Были такие времена, были… Но нет им возврата! Окруженное войско все же пытается бороться, пытается вырваться из вражеского кольца. Ни у кого не спрашивая дозволения, Раймунд принимает командование на себя. Он выставляет вокруг холма оцепление из пеших воинов. Те вбивают в землю копья, прикрепляют к ним щиты, образуя мощное заграждение. В этой стене оставлены ворота, через которые четырежды совершают вылазки рыцари. Пришпоривая обессилевших от жары коней, они бросаются на врага, врезаясь глубоко в ряды сарацин. Но врагов так много, что натиск рыцарей быстро ослабевает: все новые и новые волны неверных накатываются на них, напирают, теснят, заставляя вернуться на проклятый холм, который должен стать для франков могилой. Чтобы положить конец этим вылазкам, сарацины поджигают высохшую траву на равнине. Клубы дыма и языки пламени берут войско христиан в еще одно смертоносное огненное кольцо. Вит Лузиньян в смятении смотрит на все происходящее. Из покрасневших, воспаленных его глаз струятся слезы. Сквозь эти слезы он видит над клубами дыма парящий в воздухе отцовский замок… и речку… и лес… Он не ощущает себя королем, не осознает всей глубины нынешнего поражения, не понимает, что означает оно для державы крестоносцев. Он чувствует себя бедным юношей из Пуату, втянутым против своей воли в водоворот страшных событий. Кто-то трясет его за плечо. Это дю Грей. Хриплым голосом он кричит: – Где Святой Крест? Почему его не поднимут? А и впрямь! Где Святой Крест? Все о нем забыли. Где патриарх Ираклий? Его нет: он еще вчера бежал из лагеря в Сефории, когда стали трубить поход. Бежал, бросив Святой Крест. При реликварии остался теперь брат Бенедикт – напуганный и жалкий. По приказу короля он садится на коня, устанавливая впереди себя тяжелый реликварии. И вот Святой Крест вознесся над рядами рыцарей. Крест! Знак неземной славы! Довольно начертать его рукой в воздухе – и отступят служители сатаны… Но если простое знамение наделено такой властью, то какая же мощь кроется в Святом Древе – том, на котором был распят Искупитель всех грехов мира! Древо Святого Креста распятого Спасителя! Испокон веков оно избрано было среди деревьев. Благословенна была почва, на которой предстояло ему расти, благословен ветер, который принес издалека и уронил в землю его семя. И выросло дерево, осененное благодатью, ожидающее встречи с Сыном Божиим! Правда, и прочее свое творение благословил Господь: ягнят при яслях в Рождество, камни при Положении во Гроб… Но более всего отмечено было Древо Святого Креста. По Древу стекали кровь и смертный пот Иисуса. Древо приняло Его последний вздох. Поистине Древо вобрало в себя больше силы Божией, чем что бы то ни было на этом свете. О Святое Древо, чудом сохранившееся, благочестивой Еленой обретенное, вновь утраченное – и вновь возвращенное императором Ираклием! Ты и теперь таишь в себе источник этой вечной, неодолимой, чудотворящей силы! Твоей силой горы рушатся, долы на дыбы встают, земля раскалывается надвое… Малые торжествуют, великие повергаются в прах… Нет ничего, что не было бы в Твоей власти! Только нужно молить и взывать о чуде, домогаться его, громко крича о своей вере и понуждая милость разлиться по земле. «Просите – и дано будет вам, ищите – и обрящете, стучите – и отворят вам…» Но кто бы стал делать все это на холме Хаттин в четвертый день месяца июля в год от Рождества Христова 1187? Патриарх Ираклий бежал. Брат Бенедикт трясется от страха за свою жизнь, закрывшись щитом от стрел, пряча голову за оправой реликвария. Король плачет. Окружающие его рыцари, обезумев от зноя и жажды, задыхаясь от дыма, думают лишь о том, что близок их конец. Только один человек всматривается издали в сверкающий на солнце золотой реликварий с ожиданием и тайной надеждой: Салах-ад-Дин, сын Айюба. Он не верит, что битва могла закончиться так быстро и столь полной его победой. Он-то знает, какая сила покровительствует франкам! Не раз уже стояли они на краю гибели, но в последнее мгновение благодаря этой силе поражение их оборачивалось победой. Сила эта заключена в дереве, на котором умер Пророк Христиан, Иисус. И теперь султан с беспокойством поглядывает на золотой реликварий, сам не зная, боится он явления этой силы или жаждет его. Аль-Афдал, сын Салах-ад-Дина, возбужденно восклицает: – О Повелитель Правоверных! Конец франкам! – Не радуйся прежде времени, сын мой. Нельзя быть уверенным в победе, пока над ними, вон там, сияет их гонфалон. Салах-ад-Дин, плохо знающий язык франков, ошибается, называя этим словом Святой Крест. Гонфалон – это королевский стяг. Стяг Готфрида Бульонского с крестом на золотом фоне. Впрочем, знаменосец со стягом держится вблизи Святого Креста, и издалека обе реликвии сливаются в одно целое. – Франки пробиваются! – спохватывается вдруг аль-Афдал и спешит к своим. Действительно, Раймунд из Триполи, Ренальд из Сидона, молодой Раймунд из Антиохии, Балиан Ибелин и еще десяток-другой рыцарей бесстрашно бросаются прямо в пламя и, преодолев это препятствие, врезаются в гущу сарацин, а там мечами прокладывают себе путь дальше, движимые одной мыслью: погибнуть или прорваться. Обратно в живое пекло, каким стал для них этот холм, они не вернутся! И в предсмертном упоении они рубят, колют, раздают удары направо и налево. Отчаяние удваивает их силы. Князь Раймунд заранее высмотрел с холма, где кольцо окружения всего тоньше, – туда-то он и направляет свой отряд. Пядь за пядью они пробиваются вперед. Над ними развивается старинная хоругвь Раймунда де Сен-Жиль, графа Тулузского. Разгоряченный битвой, аль-Афдал подбегает к отцу. – Они прорвались, о Повелитель Правоверных! Это князь Триполи. Я не успел отрезать им путь, но послал погоню. Их быстро настигнут: кони под ними чуть не падают… – Останови погоню, Афдал. Что нам эта горстка рыцарей? Обиженный аль-Афдал уходит, а Салах-ад-Дин окидывает взглядом поле битвы. Он должен бы радоваться! Так что же он не рад? Франки разгромлены. Теперь чудо их не спасет. Пехотинцы, едва живые от нестерпимого жара, рядами валятся на землю: будь что будет, им уже все равно! Мусульмане пытаются вязать их, но ни пинками, ни копьями не могут поднять пленных на ноги. Тогда кому-то приходит в голову окатить их водой. Вода?! Слыша это слово, поверженные восстают из мертвых. Вода, где вода? И они дают вести себя, покорные, как бараны, так что и путы не нужны. Но рыцари презирают плен и соблазн утолить жажду. Ряды их, тающие, как снег по весне, стоят на холме. Они еще бьются, еще защищаются! Из старых рыцарских добродетелей в них остались лишь доблесть и готовность принять смерть. Они не сумели сохранить королевство, не сумели отстоять Гроб Господень, но они не побоятся умереть и не станут молить о пощаде. Они полягут здесь с оружием в руках. С каждым мгновением их становится все меньше. Сарацины косят их одного за другим. Кровь сбегает с горы потоком, он пролагает себе русло, от которого ответвляются, опутывая склоны густой сетью, тысячи алых ручейков. – Скоро, скоро им конец! – кричит отцу аль-Афдал. – Не радуйся, сын мой, пока… – Гонфалон упал!!! – возвещает сын. Гонфалон упал! – Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – Пророк Его! – Салах-ад-Дин закрывает лицо свисающим концом чалмы. Султан не хочет видеть. Он узнал истину. Крест Пророка Иисуса упал на землю. Бог не вступился за христиан. Их вера ничем не лучше любой другой. И султан усталым голосом говорит: – Кончайте быстрее, Афдал.* * *
Хотя день клонится к вечеру, жара не спадает. На холме Хаттин громоздятся груды мертвых тел, они заполнили все ложбины и впадины, их так много, что холм стал заметно выше. Он красен от крови, и издалека кажется, что на нем вырос то ли огромный морской коралл, то ли диковинный яркий цветок. На холме Хаттин царит тишина. Все рыцари полегли. Уцелели лишь немногие – те, что вырвались из окружения вместе с князем Раймундом из Триполи. Трое – король, Ренальд де Шатильон и великий магистр тамплиеров Жерар де Ридефор – попали в плен. Они шатаются от слабости, не в силах поднять меч – и такими предстают перед султаном, который повелел привести пленников к себе. Салах-ад-Дин уже покинул поле брани. Он сидит в тени шатра, и двое рабов обмахивают его большими опахалами. Невдалеке на низеньком столике стоит поднос, а на нем – чаши с холодным шербетом. По знаку Повелителя Правоверных один из эмиров снимает с короля шлем, утирает ему влажным платком лицо. Глаза Вита Лузиньяна затуманены, дыхание с хрипом срывается с запекшихся губ. Он с трудом сознает, что происходит вокруг. Ему чудятся родной лес, лента реки… Салах-ад-Дин берет чашу с холодным шербетом из розовых лепестков и молча протягивает ее пленнику. Вит дрожащей рукой принимает дар, подносит ко рту. Вит не умеет быть ни королем, ни полководцем. Он не герой. Он остался тем, кем был всегда: славным, добрым юношей. Он помнит, что жажда терзает не его одного. Едва омочив губы, Вит, отдает чашу стоящему рядом Ренальду де Шатильону. И тут происходит страшное… Салах-ад-Дин, проследив взглядом за движением короля, узнает владетеля Кир-Моава. Это он! По-кошачьи торчащие усы, надменное спесивое лицо. Он с жадностью отхлебывает шербет. Султан вскакивает с места. От его величавого спокойствия не остается и следа. Его глаза мечут молнии. Он кричит: – Как ты посмел дать ему напиться без моего дозволения?! Это же разбойник из аль-Акрада! Я поклялся, что он умрет, ибо нельзя простить его вероломство! Султан стремительно выхватывает из-за пояса Ренальда его же собственный кинжал и наносит им рыцарю удар в шею. Брызжет кровь. У Шатильона подгибаются колени. Ликующий аль-Афдал довершает начатое отцом и добивает раненого мечом. Салах-ад-Дин набрасывает себе на голову край плаща, прикрывает лицо. – Я убил пленного, – стонет он, – убил безоружного человека, который вкусил пищу под моим кровом! Я нарушил закон Пророка… И все же он должен был умереть… Я дал себе клятву, что он умрет… Салах-ад-Дин стягивает с головы плащ и грозно смотрит на Лузиньяна. – Отчего ты сам не сделал этого раньше? Тогда ты сейчас не стоял бы передо мной! Этот, – султан прикасается носком сапога к трупу, – и вон тот, – он указывает на Жерара де Ридефора, – погубили твое королевство! Султан брезгливо смотрит на великого магистра тамплиеров, который принимает надменно-равнодушный вид. Ридефор не боится. Он только что незаметно обменялся с одним из племянников султана тайными условными знаками…* * *
Ночь похожа на предыдущую – такая же темная и душная. Салах-ад-Дин никак не может уснуть. Обычно победители спят крепким, безмятежным сном. Он – нет. Странно, но он так и не ощущает радости! Государство франков, сотню лет раздражавшее мусульман, точно бельмо на глазу, перестало существовать. Войско разгромлено, король в плену. Крепости и замки, лишенные защитников, ждут новых хозяев. Блажен, трижды блажен нынешний день! В шатер султана входит сын его аль-Афдал – живое олицетворение этого блаженства. Сияющий, с хищным блеском во взгляде. – Я увидел свет в твоем шатре, о Повелитель Правоверных, и пришел сказать тебе, что почти все уже сделано. Я отобрал лучших из наших пленников. Они пойдут на невольничий рынок, а увечным и раненым уже рубят головы. Не знаю, управимся ли до утра, потому что таких оказалась добрая половина. Салах-ад-Дина передергивает от отвращения. – Не говори со мной об этом, Афдал! – Первыми мы, само собой, – продолжает сын, не обращая внимания на слова султана, – прикончили всех слуг тамплиеров. Шайтаново семя! Жаль, рыцари нам не достались – все в бою полегли… А правда ли, Повелитель Правоверных, что ты даровал жизнь их великому магистру? – Правда, – неохотно признается султан. Афдал багровеет от гнева. – Почему, о Повелитель? Этот человек не достоин ни жалости, ни уважения. – Знаю, Афдал. Но твой родственник Абдуллах пришел ко мне вечером и вымолил у меня жизнь великого магистра. Я недавно обещал Абдуллаху исполнить любое его желание. Он попросил голову Ридефора, и я не мог ему отказать. – Но что Абдуллаху до великого магистра? Разве они знакомы? – Не знаю, сын мой. Довольно того, что он просил, а я уступил. В конце концов, мы обязаны этому тамплиеру своей сегодняшней победой. Король говорил мне, что как раз по его настоянию франки ушли из Сефории. – Что ж, пусть живет. Позволишь ли ты, о Повелитель, выступить завтра на Иерусалим? – Позволю, но потребую, чтобы там не проливалась кровь. Ведь сегодня она текла потоками… Жителей Иерусалима и прочих городов – не трогать! Виновных в насилии и грабежах – строго наказывать! И не рушить храмов… Аль-Афдал слушает со все возрастающим недоумением. – Но, Повелитель, – запинаясь, бормочет он, – неужели твое великодушие заставило тебя забыть о резне, какую устроили франки, когда занимали Иерусалим? Они не щадили никого – ни детей, ни женщин! – Я все помню, сын мой, но не хочу уподобляться франкам. Ты слышал мою волю. Я не желаю крови. Не желаю я и унижать побежденных. Королева и благородные дамы из ее придворных свободны и вольны отправляться, куда им будет угодно. Христианским купцам скажите, что препятствий в торговле им чиниться не будет. Их галерам я дозволю свободно заходить в порты и покидать их. Я вовсе не хочу, чтобы этот цветущий край вновь стал пустыней. И наконец – самое важное: Бога славить всякий может так, как велит ему его вера. Такова моя воля, Афдал. Сын молча склонился в глубоком поклоне. Про себя же он думал, что, видно, очень постарел Повелитель Правоверных, если он дрожит от вида крови, как женщина. Отец читал его мысли. «…Он воображает, что я никчемный старик и что он сумел бы править лучше меня! Кто знает, может, я и впрямь старею? Будь я моложе, я наверняка бы радовался этой победе… Я должен радоваться…» Однако напрасно он убеждал себя, напрасно гнал прочь гнетущую печаль. Легче ему не становилось. Королевство франков сгинуло, отжив свое. Эмир аль-Бара ошибался. Вера христиан столь же несовершенна, как и всякая другая человеческая вера. Крест упал, и Бог не подхватил его. Нечего теперь пытаться постичь, нечего искать… …Так ли это? Нет, конечно, нет! Будь это так, лучше было бы жить, как домашняя скотина – ни о чем не думая, ничего не ожидая… Молиться, вертясь волчком и визжа, как дервиши, размышлять о жизни не больше, чем делают это верблюд или шакал, отказаться от человеческого достоинства – ибо ради чего это? ради кого? – и, подобно зверю, утверждать себя, беря верх над слабыми… …Достоинство, мудрость, доброта, самопожертвование – вот ступени лестницы, которая должна привести высоко-высоко, к самым стопам Бога… Но если лестница эта никуда не ведет, а внезапно обрывается и повисает над пустотой, не стоит и труда карабкаться по ней, не стоит смотреть вверх… Ночная тьма сгущается. Тем ярче на мрачном небе сияют звезды. Султан все глубже погружается в свои думы. …Коран заключает в себе не всю Правду, а только часть Правды. (Какое счастье, что одна лишь ночь слышит эти кощунственные мысли султана.) Можно сказать, что Коран – не более чем преддверие истинного знания. Ведь, согласно Корану, совершенство дается без особого труда. Довольно воевать с неверными и хотя бы раз в жизни совершить хадж в Мекку, чтобы достичь вершины добродетели. Разумный человек никогда с этим не согласится! …Почему Пророк не требует от своих сынов большего? …Пророк Иисус хочет много больше. Он велит человеку пожертвовать собой без остатка, отдать себя всего… Он взыскует душ, которые преображает по своей воле… Удовлетворить его нелегко! …И все же Пророк Мухаммед победил Пророка Иисуса… …Победил… победил… победил… …Крест упал… Султан тяжело вздыхает – от великой печали, от разлада с самим собой. Он стонет, словно алчущий лев, испытывая неутоленный голод. До боли в глазах он всматривается в ночную темень, будто ожидая знамения… Чувствуя себя ничтожнее последнего шакала, беднее последнего нищего, он молит Бога о знамении… – О Аллах, просвети мой разум! …Бог ли отринул и покинул христиан? …Или… или это христиане отринули Бога?Милош Вацлав Кратохвил Магистр Ян
Г. Шубин. Роман «Магистр Ян»
Его уничтожили, но не победили!Великий подвиг национального героя чешского народа магистра Яна Гуса на протяжении пяти с половиной веков вызывает восхищение всех честных людей. Интерес русских к личности Яна Гуса возник очень давно. Бесстрашный враг самодержавия и крепостного права А.Н. Радищев отмечал сходство своей судьбы с судьбой чешского мыслителя. Позже имя Гуса стало еще более популярным. Буржуазные либералы видели в нем церковного реформатора, а революционные демократы — борца за народное счастье. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов желали «стране таборитов, родине Гуса и Иеронима Пражского» как можно скорее избавиться от социального, иноземного и церковногогнета. Передовые русские люди, горячо сочувствовавшие борьбе чешского народа, пользовались взаимным уважением своих друзей. В знак признательности за дружественное отношение многие чехи посылали русским братьям сочинения и портреты магистра. В рукописном отделе Ленинградской государственной Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина до сих пор хранится дар чешских ученых русским ученым — сборник проповедей, прочитанных магистром Яном Гусом за четыре года до его трагической гибели. Личностью Гуса глубоко интересовались основоположники научного коммунизма — К. Маркс и Ф. Энгельс. Молодой Энгельс собирался изобразить Гуса как борца, жертвующего жизнью за человечество. В образе героя своей новеллы он хотел Фауста «соединить с Яном Гусом».[423] К. Маркс и Ф. Энгельс показали классовую природу, движущие силы, основные политические течения, характер идеологии и значение гуситства в освободительном движении чехов. В начале XV века Чешское королевство, одно из сильнейших государств в Европе, раздиралось острыми социальными, политическими, национальными и церковными противоречиями. Помещики, духовенство и городские патриции (как правило — немцы-колонисты) жестоко угнетали чешский народ. Трудящиеся — крестьяне и ремесленники — страдали от поборов короля, папы, помещиков и попов. Католическое духовенство, владевшее одной третью всех земель, безжалостно эксплуатировало чешский народ, тормозило развитие образования, наук и искусств. С протестом против гнета католической церкви и с требованием ее реформы выступил профессор Пражского университета магистр Ян Гус (1369–1415). Гус резко осудил алчность и стяжательство духовенства. Утверждение папы о своей непогрешимости магистр объявил богохульством, продажный папский Рим — царством антихриста, а патрициев и купцов — подручными дьявола. Хотя магистр признавал обязанность крестьян работать на господ, однако требовал от последних справедливого вознаграждения. Гусова критика феодализма не выходила за рамки этого строя, но в ней слышатся отголоски борьбы трудящихся со своими угнетателями. «Как защитник национальных и народных прав, — писал К. Маркс, — Гус становился тем популярнее… чем яростнее нападали на него немецкие остолопы (Knoten)».[424] Констанцский собор объявил учение Гуса еретическим и приговорил магистра к сожжению на костре. После смерти Гуса в Чехии разразилось плебейско-крестьянское движение (1419–1437). Войско последователей Гуса — таборитов, возглавлявшееся Яном Жижкой и Прокопом Великим, отразило пять крестовых походов, организованных папой и императором. Молодая чешская буржуазия, боровшаяся за свое господство, увидела в Гусе вождя и стала под его знамя. Но уже в конце XIX века она отказалась от гусизма. На дискуссии Земского сейма (1889 г.) об установлении мемориальной доски с именем магистра в Национальном музее представитель крупных помещиков и капиталистов князь К. Шварценберг заявил: «Мы — потомки той католической шляхты, которая разгромила таборитов у Липан и гуситские чешские отряды на Белой Горе. Мы, Шварценберги, видим в гуситах не славных богатырей, а банду разбойников и поджигателей, коммунистов XV века, и будем бороться против вас, новоявленных гуситов, так же решительно, как паны Рожмберки против старых гуситов». Подлинными носителями и продолжателями прогрессивных гуситских традиций оказались рабочие и крестьяне. Сватомаркетский съезд рабочих демократов (1878 г.), на котором была основана Чехословацкая социал-демократическая партия, в своем решении заявил о поддержке гуситской традиции. После основания Чехословацкой республики (1918 г.) буржуазии снова понадобился Гус, — она захотела быть «гуситской» и изобразила его предтечей «отца нации», президента республики Т. Масарика. Чехословацкие коммунисты показали, что «отец нации» и его клика вовсе не гуситы, а прислужники капиталистов. Всемирно известный писатель Ярослав Гашек, один из первых чешских коммунистов, с оружием в руках защищавший молодую Советскую Россию, видел сходство своих соратников, чехословацких и русских красноармейцев, с гуситами XV века. Он гордо заявлял: «Мы — потомки таборитов, первых в Европе социалистов-коммунистов!» В годы второй мировой войны советские и чехословацкие воины, как пелось в марше Чехословацкого корпуса, — «потомки славных русских богатырей и внуки гуситов», плечом к плечу боролись за освобождение Чехословакии от немецко-фашистских оккупантов. Немало советских и чехословацких бойцов полегло на улицах и площадях Праги, в том числе и на Староместской площади, прямо у памятника магистру Яну. Чехи и словаки высоко чтят память своего национального героя и учителя. Юные граждане Чехословацкой Социалистической Республики изучают жизнь Гуса и пишут о нем сочинения. Более сорока лет тому назад сочинение о Гусе под названием «Не отрекусь!» написал гимназист Юлиус Фучик. Защищая коммунизм, Фучик совершил такой же мужественный подвиг, как и Ян Гус. Трудящиеся Чехословакии, построив общество без эксплуатации человека человеком, осуществили многие заветные мечты своего великого предка. В 1952 году они восстановили национальную святыню — Вифлеемскую часовню, с кафедры которой Гус проповедовал свои идеи. В настоящее время Чехословацкая Академия наук издает тщательно подготовленное полное собрание его сочинений. Ежегодно 6 июля в память о Гусе по всей Чехии зажигаются костры. Крупнейшие манифестации, связанные с успехами социалистического строительства, ныне происходят у памятника магистру на Староместской площади. В 1957 году там же состоялся массовый митинг, посвященный советско-чехословацкой дружбе, — на нем выступил с речью Н.С. Хрущев. Создать роман о героическом подвиге Яна Гуса не удалось ни либералам, ни демократам. Известный историк-либерал Ф. Палацкий просил своего друга писателя К. Гавличека-Боровского написать роман о Гусе. Осуществить этот замысел Гавличек не смог. На основе исторической концепции Палацкого. Й. Тыл и А. Ирасек создали пьесы о магистре. В сороковые годы XIX века поэт-демократ К. Сабина написал роман «Гуситы». Шесть раз он переделывал роман, и шесть раз цензура возвращала его автору. Тогда Сабина разбил свое сочинение на отдельные главы и некоторые из них опубликовал. Благоприятные условия для успешного развития чешской литературы появились только после победы чехословацких трудящихся над буржуазией. За создание романа о Яне Гусе взялся известный современный писатель М. Кратохвил, который к этому времени прошел сложный путь идейно-творческих исканий. Милош Вацлав Кратохвил родился 6 января 1904 года в семье историка-архивариуса. Уже в гимназические годы он решил идти по стопам своего отца. С этой целью он окончил историческое отделение Карлова университета, ректором которого более пяти веков назад был герой его романа, и специальную архивную школу. Проработав в Пражском столичном архиве пятнадцать лет, Кратохвил глубоко изучил историю гуситского движения и опубликовал ряд исследований. Книги, написанные Кратохвилом накануне и в годы второй мировой войны, начиная со сборника новелл «Ложный путь» (1938) и кончая романом «Король надевает рубаху» (1945), несут на себе отпечаток духовного кризиса, который переживало чешское общество. В эти годы писатель еще далек от традиции прогрессивной исторической прозы. Романы «Одинокий забияка» (1941) и «Король надевает рубаху» — наиболее характерные книги этого периода. В образах главных героев этих романов — кондотьера-забияки Русворма и короля Вацлава IV — писатель дает поэтические портреты индивидуумов, неспособных обрести веру ни в жизнь, ни в самих себя. Успехи и неудачи героя показаны автором в трагическом аспекте жизни, не позволяющем герою найти путь к народу. Демонический нигилизм и обреченность героя не что иное, как выражение пессимизма самого автора. От этих недугов он избавился только после освобождения страны от господства фашизма, когда активно включился в строительство новой, социалистической культуры. Кратохвил принял энергичное участие в критической переоценке истории прошлого и его искусства. Героическая борьба чешского народа за социальное и национальное освобождение в прошлом и строительство социалистического общества после второй мировой войны явились источником оптимизма и творческого пафоса самого писателя. Кратохвил прочно встал на передовые позиции как в науке, так и в литературе. Писатель обратил особое внимание на две важнейшие эпохи чешской истории — эпоху национального пробуждения и эпоху гуситского революционного движения. Эпохе гуситского революционного движения Кратохвил посвятил ряд рассказов, сценариев и романов. Рассказы о народном трибуне — гуситском проповеднике Яне Желивском «Капеллан из Желива» и «Кровавый священник» (1946) — первое свидетельство об отказе писателя от старых художественных критериев и об овладении новыми. В духе нового миропонимания написаны Кратохвилом биографии Яна Гуса и его великих последователей — Яна Жижки и Яна Желивского. Вместе с режиссером О. Ваврой писатель создал по мотивам произведений А. Ирасека ряд сценариев известных советскому зрителю фильмов. «Ян Гус», «Ян Жижка», «Старинные чешские сказания», «Против всех» и другие. Для детей Кратохвил написал «Гуситскую хронику». Это — книга рассказов о Яне Гусе и его последователях. В романе «Магистр Ян» автор изображает начальный период гуситского революционного движения; роман состоит из двух книг — «Магистр Ян» (1951) и «Факел» (1950). В них повествуется о мужественном подвиге великого борца и мыслителя. В первой книге показана деятельность Гуса на фоне классовой борьбы в Чехии, во второй описывается церковный суд над героем в Констанце. Процесс Гуса длился четыре дня, а заседания собора — четыре года. Влияние их на последующие события оказалось обратно пропорциональным: осуждение и смерть Гуса послужили началом чешской драмы, потрясшей всю Европу, а заседания собора оказали на развитие европейских дел незначительное влияние. В художественном воспроизведении Кратохвила Ян Гус — титан по силе мысли, страсти и учености. Многогранность интересов и сильный характер свойственны цельной, волевой и жизнедеятельной натуре великого гуманиста. Гус — ученый, преподаватель, богослов, писатель, проповедник и народный трибун. Он — автор многих трактатов, песен и проповедей. Мы видим Гуса среди студентов, которым он диктует свой антипапский памфлет, слышим речь против индульгенций на совете профессоров университета, искреннюю беседу со своими коллегами в мензе, задушевный разговор с пражскими ремесленниками, проповеди в Вифлеемской часовне и под липой, среди баварских крестьян и констанцских ремесленников, его мужественные ответы прелатам-инквизиторам. Перед кем бы поборник правды ни выступал, везде он отстаивал интересы народа. Гус, как многие великие люди средневековья, был искренне верующим, набожным человеком. Однако это не помешало ему выступить против церковных порядков. Отстаивая догмы «Священного писания», он одновременно защищал свой народ от поборов помещиков, попов и Ватикана. Во время господства религиозной формы идеологии Гус использовал «Священное писание» как оружие против угнетателей своего народа. Это поняли и его враги: кардинал Забарелла упрекает магистра в «буквальном» понимании им библейских заповедей. Образ магистра подается в сравнении с целой галереей портретов светских и духовных лиц. В этой галерее есть беглые характеристики его духовных предшественников и яркие, запоминающиеся образы его друзей и противников. Писатель показывает целый ряд светских лиц — слабовольного, усталого и больного короля Вацлава IV, сначала поддерживавшего Гуса, а потом отказавшегося от него, королеву Софию, королевских советников — Яна из Хлума, Вацлава из Дубе, Индржиха Лефля из Лажан и земана Ондржея из Козьего Градека — почитателей и защитников магистра; брата Вацлава IV, властолюбивого, вероломного негодяя и интригана, мечтавшего стать во главе светской и духовной власти, римского короля Сигизмунда,[425] выдавшего Гуса собору; грубого и беспринципного военачальника папы — тирольского герцога Фридриха и «деловых людей» — негоцианта Рунтингера, банкира Виндэкке, менялу Аммеризи, которые требовали скорейшей расправы со «смутьяном». Особенно хорошо удались Кратохвилу портреты духовных лиц. Убедительны образы заклятого врага чешского народа, папы-разбойника Иоанна XXIII, уставшего от борьбы со своими соперниками-антипапами; властных, хищных, фанатичных, мечтавших о папской тиаре кардиналов-мракобесов дʼАйи и Жерсона, интригана Забареллы, потерпевшего моральное поражение в беседах с Гусом; беспощадного папского посла-вояки Бранкаччи, пражского архиепископа, попа-доносчика Противы и отца Войтеха. Все они, как могли, приложили руку к черному делу — казни Гуса. К другой группе относятся престарелый учитель Гуса, затравленный инквизицией Станислав из Знойма, и бывший друг магистра трусливый Штепан Палеч, перешедший на службу церкви и предавший Гуса. В романе изображены друзья и единомышленники Гуса — Иероним Пражский, Якоубек из Стршибра и Ян Кардинал, которые остаются верными магистру до конца. С большой теплотой рисует Кратохвил пражских подмастерьев Яна, Йиру, Мартина и его возлюбленную Йоганку. Но эти герои эпизодичны, — они служат автору лишь для раскрытия характера демократизма Гуса. К сожалению, недостаточно убедительно изображена борьба между крестьянами и шляхтичами, — из числа последних показаны только сторонники и покровители Гуса. Роман «Магистр Ян» — документально достоверное и художественно правдивое произведение. «Современному читателю, — пишет автор в послесловии к чешскому изданию, — может показаться, что некоторые понятия и взгляды Гуса, изложенные в этом романе, иногда слишком созвучны нашим понятиям. Таков, например, взгляд Гуса на свободу человека, его понимание зависимости церковной политики от ее материальной базы и т. п. Я обращаю особое внимание читателя на то, что любой взгляд, любая точка зрения, девиз и тезис Гуса, выраженные его словами, идеями и проявляющиеся в его поступках, всегда строго опираются на источники — сочинения, письма, проповеди, университетские выступления, диспуты и протоколы констанцского суда». Благодаря своей исторической документальности и художественной правдивости роман имеет большое познавательное и воспитательное значение. Попы-католики всячески чернили образ Гуса и стремились вытравить его из памяти народа пропагандой культов «национальных святых»: короля Вацлава I и викария Яна Непомуцкого, которые служили примером смирения, покорности и непротивления злу насилием. В отличие от них Гус в изображении католического духовенства — еретик и революционер, не отрицавший применения насилия ко всем угнетателям народа. В Гусе Кратохвила мы видим не святого великомученика, а настоящего национального героя. «Магистр Ян» — яркое антиклерикальное произведение, разоблачающее кровавые преступления предков современных отцов Ватикана, убедительно показывающее паразитизм католической церкви, многовекового врага и эксплуататора чешского народа. Автор романа осуждает реакционную роль немецких феодалов-колонистов, которые вместе с Римом веками угнетали, грабили и разоряли чешских трудящихся, разоблачает человеконенавистнические феодальные порядки. Он показывает историческую беспочвенность и бесперспективность стремлений отдельных властителей, грезивших о мировой империи во главе с папой или императором в то время, когда в центре Европы уже складывались сильные национальные государства. Ян Гус и его последователи глубоко верили в счастливое будущее своего народа. Их борьба не пропала даром: чехословацкий народ построил социалистическое общество и осуществил самые заветные мечты своих мужественных предков. Советским людям небезынтересно узнать, что уже в XV веке сподвижник Яна Гуса Иероним Пражский посетил Русь с миссией дружбы и что нерушимая дружба между чехословацким и советским народами имеет глубокие исторические корни. Закрыв последнюю страницу романа, читатель преисполнится еще большей любовью к чешскому национальному герою и с гордостью повторит слова, сказанные о нем Н.С. Хрущевым: «…образ великого борца и мыслителя Яна Гуса зовет народ к неустанной борьбе за идеи правды и справедливости, за которые он без колебаний пошел на костер».Эразм Роттердамский
Георгий Шубин
Магистр Ян Книга первая

В ПРАГЕ
Вороньё
— Грешники! Взгляните на эти цепи! В них закуют вас дьяволы и станут мучить. Отверзьте слух ваш и трепещите! Перед вами — человек, только что вернувшийся из преисподней! — хрипло, надорванным голосом кричал высокий костлявый монах со ступеней бокового портала Тынского храма, подняв высоко над головой толстую цепь, он перебирал пальцами ее звенья. Резкое звяканье железа и крик монаха привлекали внимание людей, столпившихся на маленькой площади перед храмом. Изжелта-бледное лицо монаха напоминало лошадиный череп. Его оживляли только темные колючие глаза. Монах беспокойно следил за слушателями, желая увидеть на их лицах смятение и страх. Потом, опутав себя цепью, он забегал по паперти, размахивая руками и извиваясь всем телом. Монах походил на ярмарочного торгаша, — он так же расхваливал свой товар и выискивал холодными хитрыми глазами покупателя, чтобы надуть его. — Милосердый господь послал мне в ночи ангела, — продолжал монах с лошадиной головой, — а тот повел меня в ад, дабы я собственными глазами увидел невообразимые муки, уготованные вам, несчастные грешники! Я до сих пор не могу прийти в себя от страха, который мне пришлось пережить там! О ужас, ужас! На моих глазах черти варили грешников в кипящей смоле, кололи их раскаленными вилами, вспарывали животы и вытаскивали внутренности. Вот как они терзают грешников — без устали, вечно, вечно! — И цепь снова зазвенела над головой монаха. — Кто не верит, пусть взглянет на эту цепь! Когда ангел-хранитель выводил меня на божий свет, я вырвал ее из лап дьявола и взял с собой, как доказательство того, что я сам побывал в преисподней. Посмотрите на царапины — следы дьявольских когтей! Монах наклонился к слушателям и протянул им цепь. Они невольно попятились. У самой паперти собралась большая толпа. Маленькая площадь между храмом, Унгельтскими воротами и домами горожан непрерывно наполнялась людьми, стекавшимися по узкой улочке со Староместской площади через ворота Старого Унгельта. Толпа, собравшаяся на маленькой площади, привлекала прохожих. Они двигались не спеша. Многие пялились на необычное зрелище у входа в храм. Зеваки, стоявшие в задних рядах, приподнялись на цыпочки и вытянули шеи. Люди следили за судорожными движениями монаха и, когда его крик и жесты надоели им, начали показывать друг другу на большой окованный сундук, стоявший позади оратора, и на второго монаха, сидевшего за столиком у сундука. В отличие от костлявого крикуна его собрат был тучен, вял и равнодушен. Он словно утопал в собственном жиру. Толстяк еле-еле удерживал свои оплывшие веки полуоткрытыми. Возле монахов стояло несколько наемных солдат — таких же равнодушных и неподвижных, как толстяк у столика. Опершись на алебарды, они прислонились спинами к стене храма. В душе стражники проклинали на чем свет стоит свою проклятую службу, которая обязывала их торчать рядом с крикливым монахом и бессчетное количество раз быть свидетелями надоевшей им ярмарочной комедии. Стражники раздраженно поглядывали на толпу. Бог знает, чтó забавного нашли эти люди в карканье монаха! Куда интереснее ловкий акробат, которого они видели позади толпы. Напротив собора какой-то комедиант расстелил тряпье на мостовой и, запрокинув свое гибкое тело назад, изогнул его дугой. Голова у него оказалась между согнутыми коленями и повернулась лицом к зрителям. Он охватил колени руками и судорожно застыл в таком положении. От натуги лицо акробата побагровело. Он держал зубами ветхий конусообразный колпак, ожидая, не бросит ли кто-нибудь на его донышко жалкий грошик. Но пражанам уже надоели эти ярмарочные комедианты, — никто не хотел тратить денег попусту, особенно теперь, когда возле акробата появился монах, его необычный горластый соперник. Человек-змея с досадой разжал зубы. Колпак упал на землю. Бедняга расправил затекшие руки. Измученный, он еле стоял на ногах и, чтобы не упасть, прислонился к порталу. Столько народу прошло мимо, но никто не бросил ему ни гроша! Накануне Троицына дня все готовились к празднику. Хозяйки убирали в домах, а их дочери вешали над окнами и над дверями гирлянды зеленых веток. Улицы Праги кишмя кишели приезжими. Чтобы положить в свои вечно пустые кошельки хоть немного денег, крестьяне несли на ярмарку козлят, ягнят, гусей, кур и даже немного яиц. Расположившись у стен и ворот, они робко предлагали свой товар прохожим. Бродячие торговцы шныряли в толпе, крикливо расхваливая гусей, булочки, пряности, стеклянные и медные безделушки. По улицам бродили не столько бюргеры и ремесленники, торговцы и покупатели, сколько обездоленные — поденщики, батраки и безработные подмастерья. Эти люди не могли ни покупать, ни продавать. Занятые не более двух-трех дней в неделю, они постоянно голодали. Бедняки зарабатывали только на кусок хлеба, — слишком маленький, чтобы жить, и слишком большой, чтобы умереть. Так почему бы им не послоняться в субботу по улицам Праги, если у них мало работы и много времени? Сколько десятков несчастных приходилось на одного занятого ремесленника и сколько сотен — на одного купца и на одного бюргера! Прага — город бедняков, но ни один камешек ее стен, ни один глоток из винных бочек трактиров и богатых домов не принадлежит им. Церковь не поскупилась на праздники, — они у нее каждую неделю. Но для чего бедняку Троица и другие праздники? Они придуманы только для того, чтобы меньше трудиться и еще меньше зарабатывать. Свежий воздух щекотал ноздри и легкие. Ощущение голода в пустом желудке становилось острее. Но с приближением весны еще бодрее сокращались мышцы. Человеку хотелось охватить весь мир и так тряхнуть им, чтобы из него выпала хотя бы маленькая частичка счастья на долю бедняка. Глянь-ка, там работают! Даже сегодня! Небольшая толпа людей, двигавшаяся со Староместской площади к маленькой площадке Тынского храма, точно по команде остановилась перед башней, еще стоявшей в лесах. По их доскам ходили люди и… работали. Да, работали! Поденщики завистливо следили за движениями плотников. Пальцы напрасно сжимались сами собой. Поденщикам казалось, что они тоже взялись за топорища. Эх, если бы это было на самом деле! Они целый день размахивали бы топором, ударяли по смолистому бревну и обтесывали его. Работали бы! Весь день работали бы, а вечером получили бы деньги. Внизу, у основания башни, вращалось большое колесо. На его вал наматывался канат, которым поднимали на леса тяжелые балки. Колесо приводилось в движение ногами. Какой-то бедняга шагал со спицы на спицу, перенося тяжесть всего тела то на одну, то на другую ногу. Его руки качались как маятники, а глаза с тупым безразличием смотрели на доски, беспрестанно двигавшиеся под его ногами. Ну, этому не позавидует ни один человек, имевший дело с топором, молотом, долотом. Тот, кто делает вещи, не позавидует тому, кто делает только шаги, даже если он нашагает за весь день несколько грошей. Казалось, уже никакая сила не остановит этого человека: он будет шагать днем и ночью, до самой смерти, и даже не заметит, когда она наступит. Поденщики хотели было идти дальше, но человек в колесе неожиданно пошатнулся и потерял опору. Его тело наклонилось и опустилось на мостки. Колесо резко затормозилось, дрогнуло и начало вращаться в обратном направлении. Балка полетела вниз, раскачиваясь и ударяя по лесам. А на земле стремительно вращалось колесо, подкидывая жалкое и бессильное тело. Когда балка коснулась земли, колесо остановилось. Пыль, поднявшаяся при падении балки, мало-помалу оседала. Оглушительные удары никого не заинтересовали, — шума и стука на стройке хоть отбавляй. О несчастье знали только поденщики, стоявшие у колеса, да плотники, работавшие неподалеку, на лесах. Не успели двое плотников подбежать к колесу и вытащить из него безжизненное тело, как возле них очутился мастер. Его не интересовала ни работа плотников, ни судьба этого бедняги — умер он или только потерял сознание. Взгляд мастера сначала устремился на неподвижное колесо, а потом на кучку убогих, изможденных поденщиков. Работа должна продолжаться, колесо должно вертеться! — Нужен один человек! — крикнул мастер. Никто не завидовал бедняге, пока он шагал в колесе. Но когда он разбился, колесо оказалось свободным и ждало нового человека! Куда девалась гордость плотника и каменщика! Голодные поденщики обступили мастера. Каждый старался пробраться поближе и попасться ему на глаза. Мастер взглянул на поденщиков, выбрал двоих и, быстро оглядев их с головы до пят, ловким движением ощупал мускулы рук и ног. — Валяй! — сказал мастер одному из поденщиков. Когда второй ушел, опустив голову, первый быстро вскочил на колесо и всей своей тяжестью заставил его вращаться. На лесах снова заскрипели доски. Монах всё еще продолжал хрипло взывать к толпе, собравшейся перед порталом Тынского храма. — Я и сейчас еще содрогаюсь от ужаса за вас, несчастные грешники, думая о том, какие страдания придется испытать там в пекле! — говорил монах, алчно всматриваясь в лица старух и крестьян, до полусмерти напуганных адскими муками. — Но вы не отчаивайтесь! К счастью, еще не всё потеряно! На свете есть святая церковь. Она несет вам спасение! Святейший отец Иоанн XXIII[426] соблаговолил дать разрешение на продажу всемогущих индульгенций — они спасут вас от пекла и его мук. Эти индульгенции — изумляйтесь и ликуйте! — может купить каждый прямо здесь, у нас! За копу[427] грошей господь избавит вас от ста дней адских мучений. Заплатите меньше — получите отпущение грехов на месяц или на неделю. Искупление грехов даже на один день — благо. На таком листке, — монах взял одну из индульгенций, лежавших на столике, за которым сидел второй монах, и стал размахивать ею перед глазами слушателей, — смотря по тому, сколько вы заплатите, мы запишем вам дни адских мук, которые простит вам господь своею милостью. Слова монаха, подобно морским волнам, доносились до толпы, но она, как скала, была безмолвна и безучастна. Монах бросал взгляды то на одного, то на другого, но повсюду видел насупленные лица, нахмуренные брови и недоверчиво кривившиеся губы. В задних рядах раздались насмешливые голоса: — Ишь, как складно! Богачи попадут на небо, а мы, с дырявыми карманами, — прямехонько в ад!.. — Мы и здесь, на земле, живем как в аду! Монах вытянул жилистую шею и, как коршун, стал высматривать добычу. Но напрасно он искал среди своих слушателей дерзких крикунов, — они примолкли. — Каждый должен подумать о своем спасении! — завопил монах после тщетных поисков. — Кто больше пожертвует, тому и воздастся больше. Но это еще не всё, благочестивые христиане: тот, кто купит святую индульгенцию, спасет не только свою душу, но и самого господа Иисуса Христа, чью церковь раздирают ныне алчные волки. Двое антипап оспаривают звание папы и престол у Иоанна XXIII — Бенедикт во Франции и проклятый Григорий в Италии. Антихрист Григорий привлек на свою сторону неаполитанского короля Владислава и, собирается выгнать нашего святого отца из Рима. Ныне наместнику Христову даже негде приклонить свою голову… Я знаю, что всё это возмущает вас, вы готовы взяться за оружие и ринуться на врагов святого отца. Я вижу улыбки на ваших лицах — вы, конечно, радуетесь при одной мысли о том, как станете колотить неприятеля. Кое-кто ухмылялся. Глаза монаха метали искры, но он не подавал виду, что понимает подлинный смысл улыбок. — Если вы не можете сражаться за наместника Христова с оружием в руках, поддержите святую войну деньгами. Помогите прогнать врагов Христа и вернуть власть над христианством единственному законному папе — Иоанну XXIII. Охрипший от натуги голос монаха то и дело срывался. После долгой подготовки монах решил обрушиться на кого-нибудь, чтобы не потерять усилий даром. Ведь наступила пора собирать плоды. Осторожный взгляд монаха скользнул по первым рядам тесно столпившихся слушателей и задержался на бедном старом крестьянине, ошеломленном как устрашающими угрозами, так и многочисленными обещаниями. Морщинистый старик держал под мышкой тощего ягненка со спутанными ногами. В выпученных глазах животного и хозяина отражался одинаковый страх. — Иди сюда, дедушка! — сказал монах, мгновенно очутившись возле крестьянина. — Сам господь бог направил твои стопы к нам. Ты чувствуешь, что дни твоей жизни сочтены, и спешишь искупить грехи. Взгляните на этого христианина: он принес нам то, что у него есть, — и монах выхватил ягненка из рук бедняка. Растерявшийся старик опомнился только тогда, когда лишился животного. В отчаянии он протянул руки к ягненку, который уже лежал под столам с индульгенциями. Услыхав жалобное блеяние, крестьянин не выдержал и сказал дрожащим голосом: — Я… я собирался его продать… Но монах с лошадиной головой не обратил на эти слова никакого внимания. — Выпиши ему отпущение грехов на пять дней! — крикнул он монаху, сидевшему за столом, и снова повернулся к толпе: — Этот благочестивый дедушка понял, что деньги — суета сует. Он не возьмет их с собой в могилу, а индульгенции помогут ему на том свете! Глаза крестьянина, неожиданно лишившегося ягненка, заблестели от слёз. Кто-то сунул ему в руку листок. Люди, пробиравшиеся поближе к паперти, оттеснили его от столика, — так река уносит щепку по течению. — Ну и ловкачи!.. — заметил один из батраков, кивнув в сторону торговцев индульгенциями. — И как это господь не поразит их громом с ясного неба? Какой-то старец, одетый в лохмотья, повернулся к парню и сказал: — Близится конец света! Уже появились знамения. Трое пап разделили христианство, императора нет, а наш добрый король Вацлав вот-вот отдаст богу душу. Говорят, в Пражском Граде держат какого-то пьяницу и выдают его за короля. На голову пьяницы надели корону, а паны и попы правят вместо него. Близок страшный суд, близок! — Я бы расправился с ними и без страшного суда! — оборвал батрак старца. — Пусть искупают свои грехи торговцы индульгенциями, приходские священники, папы, советники и их присные. Они могут купить себе сколько угодно индульгенций, но бумажки никого не спасут. В воздухе, насыщенном пылью, потом и запахами кореньев, не умолкали крик толпы и стук кувалд, доносившийся со стороны Тынского храма. То там, то тут взвизгивали девушки: пользуясь давкой, озорные парни тискали их. В складках одежды ловко шарила рука вора, осторожно нащупывая плохо спрятанные кошельки, а на разостланной тряпке фокусник показывал новые чудеса. Из волос, ушей и носа какого-то зеваки он доставал одну монетку за другой! Увы!.. Эти монетки не умножат его достатка, — он сам заранее спрятал их между пальцами. Топот, голоса и крики на маленькой площади напоминали бурное кипение в каменном котле. Стены домов отражали и усиливали шум. Он поднимался всё выше и выше — к карнизам и крышам, а оттуда — до верха башни, окруженной лесами. Там шум превращался в неясный, глухой гул. Время от времени в нем выделялись звучные удары молотов по металлу и стук топоров по дереву. Движение толпы на площади походило на малопонятную толчею обитателей муравейника, а жалкая фигурка в монашеской рясе, прыгавшая над шляпами и чепцами, — марионетку, ожившую в ловких руках кукольника. На верхнем ярусе лесов, выше стены храма, стоял коренастый плотник и, сильно размахиваясь, обтесывал сосновое бревно, — оно постепенно превращалось в четырехгранную балку. Внимательно поглядывая на уже обтесанную часть балки, плотник заметил под лесами крошечную фигурку монаха, сновавшего по паперти. — Ишь, шут гороховый! Мечется, как ужаленный! Плотник положил топор и что-то крикнул вниз грубым голосом, который как нельзя больше подходил к его медвежьему облику. Человек, сидевший на карнизе, поднял голову. То был парень с живым юным лицом и весело оскаленными зубами. Он сидел на туловище химеры, высовывавшейся из каменной ниши и повисшей в воздухе, над площадью. Он обрабатывал резцом ту часть туловища химеры, которая словно вырастала из самой стены храма. Но плотнику было не до улыбок веселого камнереза. — Для этих негодяев мы и строим божьи храмы! — сказал он и, размахнувшись топором, вогнал его в бревно. Камнерез лукаво усмехнулся. Его взгляд скользнул по туловищу химеры и задержался на голове с нетопырьими ушами, придававшими ей вид исчадия ада. Это сделал он. Получеловечья, полузвериная морда чудовища поражала жутким сочетанием злобы и похоти. Острые шипы торчали на туловище химеры. Орлиными лапами она вцепилась в карниз и распростерла перепончатые драконьи крылья, заканчивавшиеся когтями. Окинув взглядом свою работу, камнерез повеселел и с удовольствием осмотрел фигуру. Казалось, химера вот-вот прыгнет в воздух, вниз. Камень ожил — стал легким, хищным, алчным и злым! Химера получилась такой, какой должна быть. Есть что-то общее между шутом в монашеской рясе и химерой карниза. Сегодня в полдень камнерез шел мимо и слушал монаха, — парень, собственно, не столько слушал, сколько изучал его тяжелое лошадиное лицо, движение челюстей под длинным хрящеватым носом. Парень напряг всё свое внимание, рассматривая тупой, грубый череп монаха. Живыми в нем были одни колючие глаза. Они сверкали из-под низкого квадратного лба. Камнерез запомнил каждую черту его лица и тотчас же решил: вот такой будет морда новой химеры. — Что ты, Йира! — ответил парень. — Мы строим храмы не для них, а для себя, для себя. Они же… вроде моих уродливых химер, присосавшихся к божьему храму. Парень еще раз окинул взглядом химеру. Она была готова. Камнерез собрал инструменты, перекинул ногу через туловище химеры и спустился на леса. С них открывался великолепный вид на Прагу. Внизу раскинулись ее каменные города: густо заселенное Старе Место с его домами, расположенными на холмах, в тесном кольце крепостных стен; просторное Нове Место, постепенно спускавшееся к Влтаве, и дальше, за ней, — Мала Страна, доходившая до самых Градчан. Сверху города напоминали волны окаменевшего моря. Казалось, на нем поднимался прибой: острые гребни крыш то возвышались, то плавно опускались. Сурово и гордо насупились фронтоны домов. Над ними вздымались к небу розы каменных ребристых шпилей, башен, часовен, костелов и храмов, легких и узорчатых, как тончайшее кружево. Под кровлями жилищ и храмов, куда не мог проникнуть взгляд молодого камнереза, неистребимо кипел труд. Он воплощал новые формы красоты и мысли в чудесных сводах, пышных порталах, в воздушных арках, в прекрасных статуях нежно улыбавшихся мадонн, в предсмертной агонии распятых, простерших над миром свои страдания, в чеканных фигурах с подсвечниками, в драгоценных кубках, кувшинах, шкатулках, резных ларях и ярких орнаментах стен. — Всё это — дело наших рук, — улыбнулся камнерез, поворачиваясь к Йире. — Да, наших… Однажды парень проходил по улице, на которой словно из-под земли вырастал маленький костел, точнее — неуклюжая, сложенная из грубых квадров[428] ротонда с дверью и узкими окнами, похожими, на бойницы. Века не сточили ее камней, не выдробили из них ни одной песчинки. Парень пристально глядел на стены ротонды, сложенные из крупных молочно-желтых сланцевых плит. Ему казалось, что на них до сих пор остались следы сотен рук, которые поднимали и укладывали камень на камень. Уже давно истлели и превратились в прах кости строителей костела, но продолжала жить маленькая крепкая ротонда — чудесное творение человеческих рук. Глядя на город, парень испытывал тó же чувство, но не знал, как выразить его своему товарищу. Разве он не трудился на радость себе и людям, вырезая из гранита и мрамора образы своих фантазий и грез? И чтó ему за дело до тех, кто нанял его и платил за работу! Как же выразить словами сокровенные чувства, светлые и ясные, но нелегко постижимые разумом? Только резцом и молотком он сумеет сказать это, и… и у новой химеры будет такая же злая лошадиная голова, как у монаха — торговца индульгенциями. Молодой камнерез с трудом очнулся от своих грез. — Ты еще остаешься? — спросил он товарища, пряча свои инструменты за пояс и собираясь уходить. — Да, сегодня придется работать допоздна! — хмурясь ответил Йира. — Мне надо заплатить остаток долга священнику; он уже напоминал об этом. Камнерез задержался у лестницы. Ему были известны заботы плотника. У Йиры умер старый отец, и ему не на что похоронить его, а священник требует денег во что бы то ни стало. Но где их взять? Парню не хотелось оставлять товарища наедине с мрачными мыслями, и он, пытаясь отвлечь его, усмехнулся: — Скверное у нас ремесло, Йира. Мы за пару грошей надрываемся целую неделю, а поп побрызгает покойника святой водой — и наш недельный заработок окажется у него в кармане. — Фарар[429] запрещал хоронить отца на кладбище, — пробормотал плотник. — Мне как нищему пришлось умолять его повременить с платой. Он согласился подождать неделю. Сегодня я должен рассчитаться с ним полностью. Мне всё еще не хватает полутора грошей. Мы сидим уже на одном хлебе, да и его не вдоволь. Хоть иди по миру. Что тут скажешь? Камнерез начал спускаться по лестнице, но снова задержался. Теперь плотнику была видна только его голова, — настил словно отрезал ее досками. Голова поглядела на плотника — за настилом мало-помалу темнело. — Знаешь, Мартин… — опираясь на топор, заговорил Йира шепотом, — не такова божья воля, не такова… Те, кто так говорит и ведет себя, — настоящие антихристы, даже если они посвящены в духовный сан и носят крест на груди. Им следовало бы… — Я знаю, что нам следовало бы… — засмеялся Мартин. — Отобрать у них мошны. Тогда они ни за что не выживут: в мошну поп прячет свое сердце. Плотник тесал, уже не скрывая гнева. Суровые слова срывались с его губ в такт ударам топора: — Золото и грехи… как язва… поразили попов… Оставляя их… без наказания… мы сами грешим. Мартин понял, что Йира сел на своего конька. Когда он сердится и бранится, ему становится легче. Но молодость звала Мартина вниз. Там, у лесов, его ждала Йоганка, там — ее глаза, ее губы, ее улыбка. — Верно, Йира!.. — сказал Мартин, весело прощаясь с плотником. — Ты настоящий ученик магистра Яна. Итак, до завтра, до встречи в Вифлееме! Он спускался вниз, а над его головой равномерно стучал топор.В трактире «У колокола», на Староместской площади, служанки мыли и украшали окна. Взобравшись на табуретки и скамейки, девушки привязывали к рамам березовые и осиновые ветки. Выше всех стояла Йоганка. Держа в руках зеленые ветки, она погрузила лицо в шелковистую листву. Вдохнув ее сладкий аромат, девушка прикрепила ветки над окном. Йоганка закрыла глаза, и ей почудилось, что она в редком, светлом лесу. Весенний ветер качает стройные стволы молодых берез, шуршит листьями и играет веселыми солнечными пятнами. Йоганка запела:
Сорву я розы, любви цветы.
Мне всех дороже, любимый, ты!..
В круг не мани меня белым платком:
Стану плясать я лишь с милым дружком!
Над головами прохожих зазвонили колокола, — в храме окончилась послеобеденная месса, и из него начали выходить молящиеся. Монах сразу же кинулся к ним, — ему казалось, что они лучше поймут его: — Милые братья! Слово господне открыло ваши сердца! А теперь — вы сами откройте кошельки. Докажите, что для вас, добрых христиан, спасение души превыше всех мирских благ! Впереди торжественно шествовал высокий и статный шляхтич. Пурпур, золото и меха свидетельствовали о его богатстве. С холодным равнодушием он смотрел куда-то вперед, не обращая никакого внимания на толпу. Слева от шляхтича шла его супруга в модном бургундском корноуте.[430] От острой верхушки шляпы до земли опускалась тонкая белая вуаль. За ними двигались два роскошно одетых пажа с двумя борзыми на позолоченных цепочках. Повинуясь небрежному кивку вельможи, один из пажей положил на стол маленький мешочек. Толстый монах тотчас же оживился. Высыпав перед собой содержимое мешочка, он быстро пересчитал монеты. Монах с лошадиной головой начал торопливо загребать монеты из-под руки толстяка и ссыпать их в сундук через отверстие в крышке. — Отпущение грехов на двести дней! На двести дней! — громко кричал монах, обращаясь к толпе, стоявшей у ступенек. — Взгляните на смиренного христианина, отвергшего суетное богатство! Другой шляхтич, проходивший мимо продавца индульгенций, язвительно ухмыльнулся и сказал своему товарищу: — Однако святая церковь весьма неравнодушна к нашему суетному богатству. — Он бросил золотую монету к самому носу торговца индульгенциями. — У нее теперь больше деревень и усадеб, чем у нас. Когда монах выписал святые индульгенции, паж взял их и поспешил за своимгосподином. Зеваки, столпившиеся у паперти, расступились перед свитой с носилками и оседланным конем. Шляхтянка скрылась за дверками носилок, а «смиренный христианин» вскочил на гнедого коня и бесцеремонно въехал в толпу. Давя друг друга, люди в страхе пятились от конской морды. Возле монахов остановилось трое богатых горожан — староместский бургомистр и его советники Штумпфнагель и Ганфштенгель. Обрюзгший Штумпфнагель с пренебрежением взглянул на монаха и, вытянув толстый указательный палец с большим перстнем в сторону вельможи, буркнул: — Сколько дал? — Две копы, сударь… — услужливо ответил монах. — Две копы! На низком широком лбу советника от удивления приподнялись брови. Немного подумав, он сунул толстую руку в большую мошну, висевшую у пояса на двух крепких серебряных цепочках, и нарочито громко произнес: — Возьми три! Советник гордо посмотрел на толпу и стал следить, правильно ли монах выписывает ему индульгенцию. Бургомистр тоже положил на стол несколько монет и ехидно спросил второго советника: — Ну, сосед, а сколько ты не пожалеешь на спасение своей души? Ганфштенгель, тощий желчный старик, отвел глаза от бургомистра, но тут же заметил насмешливые взгляды зевак. Они слышали слова бургомистра. Советник, видя, что ему не миновать монаха, полез в кошелек. Он тщательно сосчитал деньги, положил на стол несколько медяков и сердито забрюзжал: — Спасение души, спасение души… Лучше бы вы подумали о том, как выгнать из Рима неаполитанского коронованного мерзавца! Ну как мне покупать перец в Италии, если там несусветный беспорядок! — обратился он к монахам. — Вечные свары ваших пап подрывают торговлю. На что я должен жить? В толпе раздались язвительные слова: — Слыхали? Он заботится не о душе, а о перце!.. Люди захохотали: — Штумпфнагель, когда ты кончишь нас обвешивать? — Бургомистр никогда не станет проверять весы своего советника! — Вы лучше выкупайте свои грехи у нас! Бургомистр на мгновение растерялся. Заметив стражников, подпиравших стену храма, он с огорчением подумал, что их чертовски мало! Побуждаемые толстяком Штумпфнагелем, они быстро направились к воротам старого Унгельта, через которые было удобнее всего удрать отсюда. Монах растерялся, не зная, что предпринять. В конце площади раздались задорные голоса студентов:
Веселитесь, христиане.
Рай земной у нас настанет:
Поп за медные гроши
Снимет смертный грех с души,
Жадничать не станет!
Решение
В ауле Каролинума[431] студенты плотным кольцом обступили магистра Гуса. Все смеялись. Магистр весело поблескивал глазами, студенты громко и безудержно хохотали. Душная, тесная аудитория — почти половину ее занимали кафедра и два узких ряда скамей с пюпитрами — стала свободнее и светлее. Казалось, большие плиты белых стен блестели не столько от лучей заходившего солнца, сколько от задорного юношеского смеха. Желая успокоить развеселившихся учеников, Гус подал им знак рукой: — Итак, друзья, приступим к делу! Сегодня я познакомлю вас с образцом папского послания. Студенты мигом разбежались по своим местам. Они достали бумагу, гусиные перья, отвязали от поясов чернильницы и бережно поставили их перед собой. Гус подошел к кафедре. Солнечные лучи озарили его черные волосы, ниспадавшие на плечи, и безусое лицо с полными губами и густыми бровями. Поскольку магистр всегда смотрел прямо и чистосердечно, его голубые глаза казались большими и глубокими. — Перед нами образец… — Гус сделал маленькую паузу и, не отрывая пристального взгляда от студентов, закончил: — послания папы римского Иоанна XXIII нашему королю… Студенты зашевелились, многозначительно поглядывая друг на друга. Их лица стали серьезными. В университете изучались документы о привилегиях, нотариальные бумаги, папские бреве и буллы[432] наравне с частными документами и письмами. Тексты их никогда не представляли собой точных копий подлинных документов и писем: то были, как правило, образцы превосходного слога и словесных оборотов, обязательных в бумагах такого рода. Студенты знали, что Гус избегал хрестоматийных текстов и документы для диктантов подбирал сам. Послание, которое неспроста было связано с именами здравствовавших папы и короля, вызвало у них особый интерес. Студенты вздрогнули от неожиданности, когда двери тихонько приоткрылись и в аулу вошел их коллега Прокопек. Опоздавший смущенно поклонился в сторону кафедры (Гус ласково ответил ему), пробрался на цыпочках к своей скамье и быстро сел. Магистр подождал, пока тот приготовился писать. От студентов не укрылось необычное возбуждение их товарища. Блуждающий взгляд и румянец на лице юноши свидетельствовали о волнении, вызванном не только спешкой и смущением из-за опоздания, но и чем-то другим. Прокопек заметил вопрошающие взгляды друзей. Он наклонился к соседу и, задыхаясь, шепнул: — Уже начали продавать индульгенции. Говорил об этом магистр? Сосед отрицательно покачал головой. Гус начал диктовать: — «Ego, Johannes, epiccopus, servus servorum Dei… — Я, Иоанн, епископ, слуга служителей божиих, шлю тебе, Вацлаву, чешскому королю, свое поздравление и святое благословение. Да будет тебе известно из сего послания, что я, памятуя завет господа нашего Иисуса Христа „Возлюби своего ближнего, как самого себя“, предал страшной анафеме обоих антипап — Венедикта XIII и Григория XII. Оба эти проклятые антихриста оспаривают мою тиару и мой трон, на которые только я имею законное право. Уже тогда, когда я был наместником покойного папы Александра V в Болонье, кроме меня не было никого иного, более достойного трона Христова царства любви на земле, — ибо я тогда изгонял, заточал в тюрьму и уничтожал всякого, кто сомневался в нашей святости…» Студенты заволновались. Судя по первым фразам, магистр диктовал им текст не папского послания, а своего острого памфлета. Слушатели начали перемигиваться и подталкивать друг друга локтями. А Гус спокойно продолжал: — «Мои злоязычные соперники клевещут, будто я отравил папу — моего предшественника — и заставил кардиналов голосовать за себя. Правда, мои войска стояли в Болонье в те время, когда там собрался конклав.[433] Это чисто случайное совпадение. Мои враги приписали мне даже убийство родного брата. Они пустили этот слух только на том основании, что прекрасная супруга убитого побывала в моей резиденции. Клеветники обвиняют меня в грабежах, прелюбодеянии, небрежении масс, молитв и бог знает, в каких еще пустяках. Наместник Христа на земле и глава христианства, я выше всяких подозрений, и недостойно моего высокого сана терять драгоценное время на исполнение обременительных повинностей, обязательных для простых священников и монахов». Слушатели один за другим отложили перья в сторону. Уже никто не сомневался, что «послание» — не простой диктант, а сатира. Магистр сочинил эту сатиру им и себе на радость. Разумеется, он сочинил ее не только для забавы. В язвительных и насмешливых словах памфлета звучала суровая правда жизни. Студенты готовы были расхохотаться и нисколько не сдерживали себя. — «Ныне, когда на меня напал наемник Григория XII, архимерзавец неаполитанский король Владислав, — продолжал уже более громко Гус, — я испытываю необыкновенные затруднения…» Подавшись вперед и вытянув шеи, студенты затаили дыхание, — ага, сейчас речь пойдет о продаже индульгенций. — «Вот почему я объявил крестовый поход против него, как еретика. Хотя Владислава никакой суд не обвинял в ереси и не осуждал за нее, а его воины — такие же христиане, как и мы, однако не является ли величайшим отступничеством та дерзость, с коей он обратил свой меч против меня, помазанного на папский престол не только святым миром, но и обильною кровью моих врагов и, стало быть, врагов святой церкви». Гус отчеканивал каждое слово, придавая ему необычайную силу: — «Для крестового похода мне нужны деньги. Мне нужно много денег, как можно больше денег! Для войны уже не хватит ни десятины, которая плывет в мою кассу со всего христианского мира, ни тех сборов, которые поступают мне за выдачу архиепископств, епископств, аббатств и даже самых захудалых приходов. Вот почему я продаю теперь даже права на бенефиции[434] и приходы одновременно трем-четырем домогающимся. Я считаю, что бенефиций должен достаться тому, кто уплатит больше. Но и этого будет мало. Я придумал новый источник доходов — отпускать грехи за деньги. Мои противники и прочие безбожники утверждают, что только бог может прощать грешникам их заблуждения. Но разве ключи святого Петра были вверены мне не для того, чтобы я открывал ими человеческие души? Поскольку мне позволено открывать души верующих, то у меня есть еще большее основание открывать их сундуки и кошельки». Студенты громко смеялись и стучали кулаками по скамьям. Гус ждал, когда юноши успокоятся. Но они так расшумелись и расхохотались, что не заметили, как распахнулась дверь и на пороге появился человек в докторской мантии. Гус первым заметил доктора. Он поднялся и вышел ему навстречу. Повернулись в ту сторону и ученики Гуса. Они увидели в дверях бледного профессора Палеча. Улыбки тотчас исчезли. Студенты заметили суровое лицо профессора с подрагивавшими скулами. — Вам смешно… — нарушил тишину профессор неприятным холодным голосом. — Увы, сейчас совсем не до шуток… Студенты с недоумением смотрели друг на друга. От мрачной фигуры, бледного лица и сухого голоса профессора исходило что-то недоброе. Палеч тут же повернулся к Гусу: — Магистр, я пришел за тобой. Срочно созван совет профессоров всех факультетов. Университету необходимо высказать свое отношение… — начал он и, взглянув на студентов, кончил ничего не говорящими словами: —…к весьма неотложному делу… Это сообщение вызвало у студентов необыкновенное любопытство. Почему Палеч не сказал при них, что это за неотложное дело? Разве они, студенты, не члены академической общины? Обеспокоенные юноши глядели на Гуса. Гус кивнул Палечу в ответ на его приглашение. — Ничего не поделаешь, друзья! — обратился он к студентам. Заметив возбуждение своих учеников и желая несколько сгладить впечатление от таинственных слов Палеча, Гус улыбнулся и добавил: — Я полагаю, что там мне придется продолжить то, на чем мы остановились здесь. А сейчас займитесь Вергилием, переводите «Буколики». Прокопек, ты закончишь занятия… Палеч нахмурился и опустил глаза, — ему не хотелось смотреть в лица студентов. Как только под сводами аулы зазвучали мелодичные стихи пасторали «Tytyre, tu patula recubans sub tegmine fagi…»,[435] Гус покинул учеников и поспешил за Палечем, который на минуту раньше него вышел в коридор.* * *
В ауле Каролинума собрались магистры и бакалавры артистического и теологического[436] факультетов. Они заняли кресла, лавки и стояли группами. Торжественная церемония рассаживания по местам была нарушена, профессора пришли сюда в обычной одежде, рясах и плащах, без каких-либо знаков принадлежности к ученой курии. Некоторые из них срочно приехали из провинции. Тревожные взгляды и возбужденные голоса присутствовавших свидетельствовали о том, что их собрали по чрезвычайно важному делу. Шум уже стихал, когда Палеч и Гус вошли в аулу. Ректор университета, магистр Марек из Градца, поднялся на подиум[437] и открыл совет. Марек был стар, но его голос звучал громко и уверенно: — Spectabiles, magistri, domini doctissimi![438] Славный Kaролинум, старейший университет не только в империи, но и далеко за ее пределами, — мозг и совесть чешского народа. В минуты мучительных сомнений к нам обращались за советом королевские дворы, духовные и светские князья. Знаменитые университеты других стран видели в Каролинуме мудрого брата и дорожили его мнением. Вспомните, с каким почтением отнеслись к нашему мнению о схизме[439] Сорбоннский университет, коллегия кардиналов и его величество король Вацлав. Их глубоко встревожили пагубные последствия великого раскола, который нарушил, единство христианской церкви. Накануне раскола наш университет выдержал роковое испытание: после суровой борьбы чешскому народу удалось защитить свой университет и вырвать его из рук иноземцев, а нашему королю — подтвердить эту победу славным Кутногорским декретом.[440] Как только управление университетом оказалось в руках нашего народа, мы прямо и смело высказались за реформу церкви и созыв Пизанского собора. Увы, собор, который должен был бы навести порядок и избрать одного законного папу, посеял раздор. Теперь за престол наместника Христа и ключи святого Петра дерутся трое. Борьба между ними и разложение в христианском мире не прекращаются. Папы предают друг друга анафеме и вооружаются. Лихорадочное вымогательство денег и золота на военные походы с целями, чуждыми христианской добродетели, — причина появления в нашей стране комиссаров одного из пап — Иоанна XXIII. Его слуги уже начали широко торговать индульгенциями во всем Чешском королевстве. Эти люди говорят, что только таким путем можно помочь утвердиться законному наместнику Христа на земле, одержать верх над обоими антипапами и восстановить единство церкви. Итак, на чьей стороне правда? Я уже говорил о славе Пражского университета. Она не только наполняет наши сердца гордостью, но и возлагает на нас великую ответственность. Нам необходимо выразить свое отношение к продаже индульгенций. Решения университета ждет не только наша страна, но и наша совесть. Голос ректора замер под сводами высокого зала. Слушатели, еще недавно гудевшие, как пчёлы потревоженного улья, затаили дыхание. Казалось, на всех собравшихся лег груз прошлого, которое снова ожило в словах ректора. Это прошлое теперь будет взвешивать и судить каждое новое слово: достойно ли оно звучать под сводами прославленного зала? Окончив речь, почтенный старец опустился в кресло и стал оглядывать зал помутневшими глазами. Трудно было поверить, что еще минуту назад они горели необыкновенным воодушевлением и придавали его хилой фигуре горделивую осанку. Люди, сидевшие перед ректором, казались очень спокойными. После речи напряжение в ауле возросло; ослабление его наступило только тогда, когда заговорил новый оратор. Гус посмотрел на соседей и неподалеку от окна заметил магистра Иеронима, который стоял рядом с магистром Якоубеком. Они улыбались — больше глазами, чем губами. Гус тихонько подошел к ним. На его спокойном и приветливом лице не наблюдалось никаких следов возбуждения, — он оставался таким, каким был в лектории несколько минут назад. Наконец, пожелал выступить новый оратор — Штепан Палеч. Он волновался. Дойдя до подиума, Палеч остановился возле ректорского кресла и заговорил резким, пронзительным голосом. После воодушевляющей речи ректора слова Палеча зазвучали как-то не в лад с нею и чем-то раздражали ученых: — Уже немалое время наш университет защищает славные заветы великого обличителя и реформатора церкви Джона Виклефа. Мы отстояли его от нападок немецких профессоров, архиепископа и самой папской курии. Вы знаете, что меня самого вызывали на церковный суд и я защищал там учение Джона Виклефа. Меня пытали на допросах и держали в кандалах. Об этом мог бы убедительно рассказать вам тот, кто вместе со мной прошел мучительный крестный путь, — наш глубокочтимый учитель Станислав из Знойма. Глаза профессора устремились в направлении вытянутой руки Палеча. Он показал на дряхлого старца. Тот сидел в кресле против профессорской скамьи и был явно смущен неожиданным вниманием всего совета. — Я спрашиваю вас, — еще более взволнованно продолжал Палеч, — что сказал бы об этой торговле индульгенциями наш славный предшественник-англичанин, доктор богословия и великий реформатор евангелической церкви Виклеф? Я уверяю вас, он осудил бы их как грешников, как заблудших и — я не боюсь произнести это слово — как еретиков. Среди нас нет никого, кто мог бы одобрить торговлю индульгенциями. Что касается меня, то я лично запретил чтение папской буллы об индульгенциях в своем коуржимском приходе. Пафос не помешал Палечу сделать небольшую паузу, необходимую для того, чтобы слушатели обратили особое внимание на его решительное заявление. Иероним, улыбаясь, повернулся к Гусу: — Никак не могу понять, о чем он говорит — об индульгенциях или о себе? — Я целиком согласен с ректором Мареком, — продолжал Палеч. — Наш университет должен высказать свое мнение по этому делу. Но этого мало! Университет должен официально осудить торговлю индульгенциями и, более того, обратиться к королю с призывом, чтобы он запретил ее и изгнал папских комиссаров из королевства. Таково мое предложение. — Палеч окинул зал торжествующим взглядом. — Академической общине я предлагаю проголосовать за это!.. В зале поднялся шум. Магистры собирались парами или маленькими группами, чтобы обменяться мнениями. Одни поражали коллег решимостью и серьезностью, а другие таинственно поглядывали по сторонам и, осторожно оборачиваясь, подмигивали друг другу. Большая часть профессоров обступила Палеча и шумно одобряла его предложение. — Я слышал, magistri doctissimi,[441] что папские комиссары торгуют индульгенциями под охраной королевских стражников, — громко заметил Иероним. Те, кто шушукался, умолкли и уставились на статного, широкоплечего человека, с хитроватой улыбкой возразившего велеречивому магистру. Услыхав голос Иеронима, Палеч вздрогнул, повернулся в его сторону и ответил: — Я не знаю и не желаю знать ничего подобного! У меня нет ни малейшего сомнения в том, что король примет мое предложение… предложение университета. Он всегда поддерживал нас в борьбе за чистоту святой церкви. Король был с нами, когда мы стремились освободиться от засилия иноземных магистров в нашем университете. Об этом свидетельствует и последний случай: король взял под защиту моего друга Гуса и сумел спасти его от преследования самой римской курии! Разве король не изгнал из страны архиепископа Збынека и не отобрал имущество у тех священников, которые клеветали на Гуса? — Как сказал древний римский поэт, времена меняются, и мы меняемся с ними, — заметил Иероним, и с его лица исчезла последняя тень улыбки. — Почему королевский двор до сих пор поддерживал Гуса? — уже серьезно заговорил Иероним. — Потому, что Гус боролся против церкви и защищал короля. Он утверждал, что церковь должна быть подвластной и послушной королю. Теперь Вацлаву нужен папа — с его помощью король хочет вернуть утраченную корону императора. Как видите, он еще верит, что ему удастся когда-нибудь снова надеть ее на свою голову. Но разве может стать императором король еретиков? — Мы не видим никаких перемен, — прервал Палеч Иеронима, — и у нас нет оснований думать, что король изменит свое отношение к нам. — Ты думаешь? — по-прежнему трезво и рассудительно сказал Иероним. — Иоанн XXIII уже прислал в Прагу своих комиссаров. Каждого, кто выступит против них, папа объявит еретиком. Вслед за папой то же заговорят его сторонники в Европе — немецкие князья и король Сигизмунд. Этот завопит на весь мир о чешской ереси. Сигизмунд только и ждет такого случая: ведь он сам зарится на императорскую корону. Не думаешь ли ты, что король Вацлав, очень обрадуется, когда на его голову польется грязь поповских обвинений, наветов, проклятий и интердиктов?[442] — Магистр Иероним! — язвительно отвечал Палеч. — Ты много лет провел на дипломатической службе — по твоей речи видно, что ты не столько простой христианин и ученик Виклефа, сколько дипломат! — Разве одно исключает другое? — спросил, улыбаясь, Иероним. — Впрочем, если бы ты внимательно слушал меня, то заметил бы, что я отвечал только на твой вопрос, следует ли университету обращаться к королю с предложением запретить торговлю индульгенциями. Мы собрались сюда для того, чтобы от имени университета выразить свое отношение к индульгенциям. Первым, кто заговорил о короле, был ты, — и он лукаво добавил: — ты, простой христианин и ученик Виклефа… — Каждый понял, что я говорил о короле в связи с главным делом, — раздраженно сказал Палеч. На подиуме появился магистр Гус. — Уважаемые магистры и бакалавры! — начал он свою речь. Ученые сразу насторожились. — Вы только что прослушали речь магистра Иеронима — он сказал правду. А теперь о деле. Мы — университет. Нам не пристало давать непрошеные советы. Но нам не следует выносить такое решение, которое зависело бы от воли короля. Мы не только можем, но даже обязаны высказать свое отношение к столь важному документу, как папская булла об индульгенциях и к самой торговле ими. Я вряд ли ошибусь в вас, если предложу нашему университету осудить торговлю индульгенциями как деяние, противоречащее Священному писанию и учению Иисуса Христа. Мы должны объявить об этом не только от имени магистров и бакалавров, но и от имени студентов. Нам не следует забывать о своих учениках: ведь без них мы ничто. Наше решение должно зависеть только от нас самих. — Решение университета, не опирающееся на поддержку короля, равносильно удару кнутом по воде! — заметил Палеч. — Сегодня rector magnificus[443] напомнил нам о славе и значении Каролинума. Наше мнение будет столь весомым, сколь значительными окажемся мы сами. Мы должны быть достойными наших великих предшественников: они с нами, их дух осеняет нас. Да, бессмертный Войтех Раньку, профессор нашего университета, и ректор Сорбонны Микулаш из Литомышля, магистр богословия и весьма дальновидный советник Штепан из Колина, пламенный ревнитель отчизны знаменитый математик Енек, великий поэт Микулаш из Раковника, прекрасный знаток музыки Ян Штекна и много, много других, чьи имена не перечислить. Все они будут забыты, если мы окажемся малодушными и отречемся от их заветов. Мы, конечно, сознаём, что решаемся на нелегкое испытание, выступая против новой папской буллы. Если мы наказываем приходского священника, незаконно требующего платы за исповедь, то можем ли мы молчать, когда святой отец торгует своими индульгенциями, обирая целый народ. Нам остается только вспомнить слова апостола Павла из послания коринфянам: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды и делайте всё с любовью к богу, истине и человеку». Гус говорил тихо. Глаза слушателей пристально следили за ним. Во время речи Гуса члены совета один за другим подходили к нему всё ближе и ближе и скоро окружили его со всех сторон. Позади них была пустая аула. Только двое не покинули своих мест: согбенный старец Станислав из Знойма и Штепан Палеч. Руки Палеча судорожно дрожали, а губы сомкнулись и побелели. Он не мог оторвать глаз от Гуса, перед которым благоговейно застыли его коллеги. Невыносимая тишина, которую никто не смел нарушить, была самым убедительным знаком одобрения слов Гуса. Почувствовав свое поражение, Палеч попытался освободить людей от проклятых чар. Его губы невольно раскрылись, и он закричал не своим голосом: — Мы стоим на земле, а не витаем в облаках! Нам приходится считаться с земными силами. Я ухожу. Попробую добиться аудиенции в королевском совете. Я обращаюсь с предложением к ректору Мареку и декану факультета свободных искусств присоединиться ко мне. Не дождавшись никакого ответа, Палеч быстро зашагал к выходу. В зале поднялся шум. Снова образовались группы возбужденных людей. Все спорили, перебивая друг друга. Молчали только Иероним и Якоубек, стоявшие неподалеку от Гуса. Они не спорили, но думали о том же. Их огорчило странное поведение друга, который неожиданно расшумелся и разошелся с ними. Иероним ухмылялся, а Якоубек, погруженный в глубокое раздумье, смотрел вниз. Только Гус продолжал глядеть на двери, за которыми скрылся Палеч. Взгляд Гуса был полон огорчения и разочарования. Как красноречив тот, кто старается скрыть свою слабость!..* * *
Малостранский архиепископский дворец с его крепкими, толстыми стенами и башнями гордо возвышался над низкими соседними домишками. Холодный и неприступный, он, как могучий замок, подавлял их своей мощной крепостной кладкой. В его каменной громаде зияли узкие островерхие окна, похожие на глаза, настороженно глядящие исподлобья. Под этим крепким панцирем были замурованы покои, богато украшенные живописными панно, коврами и изящной мебелью. В шкафах сверкали книги своими белыми пергаментными переплетами, а крашеные статуи и золоченые статуэтки усиливали блеск роскоши. Золотое шитье ярко переливалось на облачении прелатов, собравшихся в рабочем кабинете архиепископа, чтобы приветствовать прибывшего сюда высокого гостя — папского легата Лодовико Бранкаччи. Пурпурные облачения чередовались с белыми ризами, вышитыми золотом, и только одна черная мантия профессора Бора выделялась на этом фоне своей необычной строгостью. Сотни свечей, расставленных по три в каждом канделябре, своим золотисто-желтым пламенем рассеивали сумерки угасавшего вечера. Яркие блики играли на златотканых краях облачений, широких пряжках, блестящих перстнях, кубках и кувшинах, в беспорядке стоявших на столе. Съехавшиеся гости чувствовали себя непринужденно. Прелаты стояли группами или сидели в креслах. Звучная латинская речь приглушалась плотной тканью портьер. То там, то здесь журчало вино и нежно позванивали бокалы. Легат, крепкий, широкоплечий итальянец с военной выправкой, сидел на почетном месте. Одеждой гость мало чем напоминал высокого духовного сановника. На нем было дорожное платье рыцаря. Металлические пластинки и кольчуга виднелись из-под алого кардинальского плаща, свободно спускавшегося с плеч. Искусный чеканщик изобразил на панцире легата гибель Фаэтона: юный возница стремительно несется по небу, но молния Юпитера настигает его колесницу. При малейшем движении легата большой золотой крест, прикрепленный к толстой цепи, раскачивался и знамение Христа звонко ударялось о нагрудный панцирь с языческим рельефом. В руках Бранкаччи держал восточный инкрустированный кинжал. Легат почти не сводил глаз с оружия, равнодушно ожидая, что скажут ему те, которые покорно и услужливо сновали вокруг него, как планеты вокруг солнца, стараясь скрыть свое волнение и сохранить уверенность в себе. Больше всех нервничал архиепископ: он впервые принимал у себя папского посла. Архиепископ привык к людям, беспрекословно выполнявшим любые его распоряжения. Он понимал, что этот сильный человек в пурпуре и латах мог одним словом накликать на него беду и пустить его пó миру. Чего надо легату от архиепископа, — неужели у архиепископа мало своих забот! Когда архиепископ добивался своего места (боже, сколько оно стоило ему сил и денег!), то полагал, что обеспечит себе в старости покой и безбедное существование. Правда, с той поры архиепископ кое-чего достиг… Но покоя он, по-видимому, не обретет уже до самой могилы. Во всем виноват проклятый Гус! Гус нарушил блаженный покой пражского архиепископа, как палка, сунутая в осиное гнездо. О, как всё это ужасно сложно! Архиепископ Збынек на Гусе поломал зубы, — а он, его преемник, слишком стар, чтобы решиться на что-нибудь подобное. Разумеется, если бы король Вацлав был настоящим королем и верным сыном церкви, всё было бы иначе. Но проходимец Гус околдовал короля. Гус повсюду трубил о том, что король — верховный господин страны, а все светские и духовные особы — его подданные; король правомочен наказывать своих подданных за грехи и проступки. Доносчик — как бишь его зовут? Впрочем, не важно… Да, Ян Протива! Так этот священник однажды принес ему, архиепископу, удивительную запись проповеди Гуса в Вифлеемской часовне. Тогда Гус сказал: «Если после бога король — верховный господин Чешского королевства, то он вправе наставлять на путь истинный и карать священников, когда те грешат. Поскольку самое мягкое наказание для священника — лишение имущества, то король должен отбирать его у недостойных». Как лукаво сумел этот ловкач сыграть на самой чувствительной струнке короля! «Разумеется, — бубнил Гус королю и чешским панам, — если бы право распоряжаться церковными имениями принадлежало папе, архиепископу и нашим священникам, то король и светские паны оказались бы безвластными, король перестал бы быть королем, а вельможи — светскими господами». О проклятый, проклятый Гус! Архиепископ отлично понимал его слова. Пока существовал союз Гуса с королем, архиепископ мало верил, что ему удастся заткнуть глотку вифлеемскому смутьяну. Архиепископ тяжело вздохнул. На его груди висела длинная цепь из золотых монеток, соединенных проволочками. Он весь вечер любовался своим ярким украшением, перебирая его сухими костлявыми пальцами. Золотые кружочки свободно передвигались. Из них можно было составить столбики, как это делают менялы. Но стоило пражскому патриарху встряхнуть эти монетки, как они послушно образовывали замкнутую цепь вокруг его шеи. В это время доктор Бор наклонился к уху архиепископа. — Мне хотелось бы, — начал он, и его тощее лицо покрылось сетью злых и ехидных морщинок, — посмотреть на Палеча и Гуса, когда они узнают, что король Вацлав получил треть от продажи индульгенций. Архиепископ хихикнул. Он всегда радовался, когда кто-нибудь отвлекал его от невеселых размышлений. Взгляд архиепископа скользнул в сторону легата. При упоминании имени Гуса легат уставился на архиепископа. — Отец архиепископ, — заговорил легат, — доктор сейчас упомянул имя одного смутьяна. Как ты думаешь, не пора ли предать его анафеме? — Казалось, Бранкаччи произнес эти слова мягко, вскользь, безо всякого нажима. Но уже по следующей фразе было видно, как он подбирал слова, чтобы приковать к ним внимание архиепископа: — Прошло уже немало времени с тех пор, как ты получил папскую буллу, в которой предусматривались меры наказания для Гуса. Наконец легат задел архиепископа за живое. Пальцы старика разжались, цепь выскользнула и обвила запястье правой руки. Папская булла… Да, она у него надежно заперта в массивном секретере. Архиепископ поднялся и суетливыми старческими шажками направился к шкафу, — ему хотелось сделать всё, чтобы оттянуть нежелательный ответ. Но что они умолкли, словно воды в рот набрали? Почему такая невыносимая тишина? В этой тишине особенно назойлив скрип ключа. Да, булла лежала здесь. Вынув послание из потайного ящичка, архиепископ поцеловал свинцовую печать, висевшую на двух шелковых шнурах, и развернул пергамент. Глаза архиепископа впились в ровные буквы текста, и он тотчас забыл об опасности, прозвучавшей в вопросе легата. Грозное проклятие, готовое обрушиться на смутьяна, приободрило его, и в душе преподобного старца закипела злоба, которая накопилась у него за долгие годы страха, ненависти и забот. — Вот она. Да, вот она, — сказал старик, бросая поверх буллы испытующий взгляд в сторону легата. — Но для исполнения ее еще не настало время! — Когда же оно настанет? — ухмыляясь, без стеснения спросил Бранкаччи. Доктор Бор (он ненавидел Гуса еще больше, чем архиепископ) еле сдерживал себя. Только повелительный жест архиепископа не позволял профессору открыть рот. Архиепископ с минуту молчал. Он смотрел по сторонам, словно подыскивая что-то для ответа легату, и неожиданно его лицо прояснилось. Он подошел к книжному шкафу, поднял руку вверх и указал пальцем на корешки книг: — Взгляни сюда, отец легат! Вот маленький паучок спускается на своей паутинке к земле. Это Гус. А единственная тоненькая ниточка, на которой он держится, — король. Он последняя опора Гуса. Когда мы порвем эту нить… вот так… — архиепископ, видимо не желая прикоснуться к липкой ниточке, оборвал ее своей золотой цепью, — он упадет. Мы сотрем его с лица земли этой буллой… — И архиепископ раздавил ногой паука, свалившегося на пол. В зале наступила гробовая тишина. Архиепископ снова подошел к секретеру, поцеловал свинцовую печать и, положив буллу в ящик, осторожно запер его. Бор не выдержал и сказал: — Я осмеливаюсь утверждать, что именно теперь для этого настал подходящий момент. Как только Гус выступил против торговли индульгенциями, так… Сухой, надтреснутый голос архиепископа снова оборвал профессора: — Видишь ли, дорогой гость, мы не зря называем нашего милого доктора Бора грозой еретиков. Он никак не может дождаться того времени, когда его коллега по университету окажется на костре. Разумеется, такое поведение делает ему честь, — и, повернувшись к Бору, архиепископ продолжал: — Я полагаю, дорогой доктор, что Гус столько же умен, сколько ты хитер. Гус образумится и не станет подрубать тот сук, на котором сидит. Мы должны сами позаботиться изобрести удобный повод, — заключил архиепископ, и на его лице появилась злая, коварная усмешка. Легат пожал плечами: он уже по горло сыт бесконечными заверениями здешних трусливых болтунов. Окажись он на месте пражского архиепископа, легат куда бы решительнее повел дело Гуса. Но это, разумеется, не его забота. Он прибыл сюда по другому делу. Бранкаччи напомнил о Гусе только для того, чтобы немного припугнуть прелатов перед началом более важного разговора. Он должен как можно больше выжать из Чехии денег от продажи индульгенций. Разговор о Гусе не доставил легату никакого удовольствия, он небрежно ударил кинжалом по кресту и панцирю. — Да, пока это ваше дело… — сказал легат. — Я подчеркиваю: «пока»… Между прочим, — многозначительно улыбнулся он, — римская курия отложила процесс Гуса, руководствуясь особыми соображениями. А теперь поговорим о деле, по которому я прибыл сюда. Мне хотелось бы знать, как вы торгуете индульгенциями в провинции? Один из прелатов поднялся и ответил: — Всё архиепископство мы разделили на округа, а каждый округ — на церковные приходы. Продажу индульгенций мы поручили приходским священникам и архидьяконам. Мы не пропустили ни одного прихода. — Сколько получат те, кто продает индульгенции? — Десятую долю… — Не слишком ли много? Почти половика дохода останется в королевстве. — Отец легат, — поспешил объяснить архиепископ, — мы руководствовались желанием побольше заинтересовать тех, кому придется продавать индульгенции. Тогда доход будет больше. — Он должен быть очень большим, — энергично вмешался легат. — Не забывайте, ваше королевство должно убедительно доказать свою преданность его святейшеству. Вы сами понимаете, его святейшество очень нуждается в помощи и особенно — в деньгах. Вы знаете, во имя какого святого дела они нужны. Вам предоставляется возможность показать, что ваши слова не расходятся с делом. Помните, только по вашим делам будут ценить и уважать вас. — Затем шепотом, с угрозой добавил: — Я не завидую тому, чья чаша на весах Рима подпрыгнет вверх и кто окажется на ней слишком легким…* * *
Простые деревянные подсвечники, расставленные на голых дубовых столах, освещали скромную преподавательскую мензу,[444] ее стены, обитые досками, и беленый сводчатый потолок. Менза была пуста. Трое студентов убирали миски, тарелки и ложки. В углу, за одним из столов, задержались три магистра — посередине Гус, а по бокам Иероним Пражский и Якоубек из Стршибра. Они молча сидели в пустом зале. Уже не звякала посуда, и утихли шаги студентов, закрывших за собой двери. Гус опирался локтями о стол и задумчиво мял в пальцах кусочек хлеба. Только перед Иеронимом еще стоял металлический кубок свином. — Наш милый Палеч не перестанет болтать о Виклефе, пока держится за край королевской мантии. — Иероним всё еще не мог освободиться от того впечатления, которое вызвало у него сегодняшнее выступление Палеча. — Поляки говорят: «Блоха в медвежьей шкуре не боится даже собаки мясника». — Он махнул рукой, словно освобождаясь от навязчивого воспоминания. Его лицо внезапно оживилось. — Я не успел сказать вам, что отправляюсь путешествовать — еду в Литву и на Русь… Тебя это могло бы особенно заинтересовать, — обратился он к Якоубеку. — Говорят, православная церковь до сих пор исполняет предписания и обычаи раннего христианства. Мне хочется увидеть это своими глазами. Я стал изучать греческий язык. А пока я повоюю вместе с вами против папских торгашей. — Восток вовремя оторвался от римской блудницы, — мрачно сказал Якоубек. Магистр Якоубек был ровесником Гуса. По сравнению с выдержанным и спокойным Гусом он — неугасимый огнедышащий вулкан. На его живом лице довольно странно выделялись кроткие, полные мягкой нежности, глаза. — Восток спасся от моровой язвы римской алчности и спеси. Мы тоже могли бы избавиться от недугов, если бы вовремя вытравили у нашего духовенства страсть к стяжательству. Духовенству следует отказаться от богатства и светской власти. Об этом должны позаботиться сами священники, — горячо говорил Якоубек, не повышая голоса и не делая ни одного жеста. — Мы должны провести всестороннюю и повсеместную реформу в духе кротости и любви. — …как овца советовала волку, чтобы он подпилил себе зубы, — язвительно добавил, вздохнув, Иероним. Гус засмеялся: — Брат Якоубек, вот уже полторы тысячи лет, как Священное писание указывает людям путь к спасению и блаженству, требуя от священников смирения и апостольской бедности. Однако люди не придерживаются его заветов. Кто виноват в этом? Священное писание или люди? Разумеется, не Священное писание, ибо оно — истина. Стало быть, виноваты люди. Кому же следует больше всего печься о соблюдении заветов Христа? Церкви и ее служителям. Но как приняли они доверенное им учение? Священники сделали своей привилегией толкование заветов Христа, заперли Священное писание в железные сундуки — отняли его у верующих. Они превратились в недосягаемых наместников Христа на земле, и всё, что они говорили, выдавали за святой закон. Разумеется, малодушные люди всегда оглашали только такие законы, которые были выгодны им, а из Библии выбирали только то и в такой мере, в какой она поддерживала их спесь и стремление к власти. Вот как они пользовались Библией! Что же надо делать? Надо отнять у священников привилегию на истолкование Христова Евангелия, вернуть Священное писание верующим, дать Библию в руки всем людям. Пусть они сами найдут в ней законы любви и справедливости. Тогда священник перестанет быть судьей над верующими. Сама Библия окажется советчиком и судьей как народа, так и священников. Это в один миг устранило бы все распри, которые мы ведем ныне, в эпоху упадка и гибели. Что надо делать теперь? Прежде всего, мы должны сказать, что алчные и развратные христианские пастыри предали забвению учение Христа — они используют его для закабаления человека. Нам следует показать это зло и сделать его понятным большинству людей. Проповедовать словом и делом. Способ — простой, очень простой. Надо только быть искренним — говорить правду, защищать правду, служить правде, жить в правде и, разумеется, умереть за правду. Друзья слушали Гуса, потупив глаза. Они могли не любоваться лицом магистра, — один его прозрачно-чистый и кроткий голос глубоко очаровывал их. Им казалось, что устами этого человека говорит сама истина — вечная, свободная от всего бренного. В его словах ощущались сила, величественная по своей мудрости, могучая по чистоте и необыкновенная по простоте. Магистры молчали, словно лишились дара речи. Первым пришел в себя Иероним. Он резко поднял голову, как бы желая освободиться от ноши, непомерно тяжелой для смертного человека. На его красивом, серьезном и мужественном лице, обрамленном длинными волосами, заиграли глаза. Иероним бросил взгляд на руки Гуса — когда магистр говорил, они перестали мять кусочек хлеба. Его ловкие пальцы слепили из мякиша маленькую ложечку. Иероним улыбнулся: — Что ты делаешь? Гус смутился: — Сами руки сделали. Это у меня с той поры, когда я был еще бедным студентом. Тогда мне не на что было купить себе даже ложку. Я делал ее из хлеба и ел кашу. С последним глотком каши я съедал и свою ложку. В этот момент заскрипели двери и в зал вошли два человека, одетые в темное. Они показались Иерониму и Якоубеку выходцами с того света, хотя в них легко было узнать профессора Палеча и Станислава. Штепан Палеч был бледен и подавлен. Его скулы нервно вздрагивали, а глаза блуждали. Опираясь на руку Палеча, еле-еле брел Станислав, — губы старика дрожали, а из глаз текли слёзы. Гус быстро поднялся и пошел навстречу своему старому учителю. Он осторожно подвел его к ближайшей скамье. Станислав грузно опустился на нее. Друзья Гуса смотрели на Палеча. Он стоял возле Станислава скрестив руки и, ни на кого не глядя, сказал сдавленным голосом: — Король… король взял торговлю индульгенциями под свою охрану… Лицо Гуса не изменилось. Он подвинул скамью и уселся прямо против своего учителя. Иероним и Якоубек встали и подошли к ним. Палеч ждал, чтó скажут они по поводу этой новости, и беспокойно поглядывал то на одного, то на другого. — Значит, не зря у сундуков с индульгенциями стояла королевская стража… — насмешливо сказал Иероним. Это всё, что услышал Палеч. — Ну, что же дальше? — спросил Гус. Палеч оживился, морщинки возле глаз исчезли. — В таком случае… в таком случае нам не остается ничего другого, как отступить, — выпалил он. — Кому — нам? — спокойно спросил Гус. — Тебе, мне, нашему учителю? — Он указал на Станислава. — Иерониму? Якоубеку?.. — Нам… университету… Сам понимаешь… — Прости, я не понимаю тебя. — Гус отрицательно покачал головой. — Ну, ладно, король решил поддержать торговлю индульгенциями. Что же от этого изменилось? Разве мы сами изменились? Сейчас Палеч услышал то, чего более всего боялся. Друзья пристально посмотрели на него. Их взгляды жгли Палеча. О, ему отлично известно, чтó на уме у Гуса. Чем яснее сознавал Палеч свое бессилие, тем больше трусил и бесился. Он попытался перевести разговор на другую тему: — Ты не понимаешь этого? Или не хочешь понять? Мы не можем поставить под удар весь университет! До сих пор нашу борьбу с Римом поддерживал король. Теперь он будет не с нами. Римская курия уступила ему… — Палеч сделал небольшую паузу, а затем сказал, подчеркивая последние слова: — долю от продажи индульгенций. Треть дохода пойдет в карман королю. Тот, кто выступит против индульгенций, выступит против короля. Иероним не мог не съязвить: — …а тогда прощайте наши пребенды[445] и кафедры!.. Палеч не сводил глаз с Гуса. Он ждал его решительного ответа. Но магистр Ян отвернулся от Палеча и устремил свой взор, полный любви и уважения, на старого Станислава. — Магистр Станислав, — сказал он мягким, тихим голосом, — ты, был моим учителем. Ты первый направил мои неуверенные стопы на истинный путь. Я помню, как ты открыл мои еще слабые глаза на пороки омирянившейся церкви и показал, что причина ее упадка состоит в пристрастии священников к золоту и власти. Я никогда не смогу как следует отблагодарить тебя за это. Но сейчас, когда я обращаюсь к тебе с этими словами, ты должен услышать в них глубокую любовь. Эту любовь, любовь к истине и любовь к тебе, магистр Станислав, ты передал мне. Вот почему я больше всего хотел бы услышать сейчас твое мнение об этом. Старые глаза растроганного Станислава медленно повернулись к Гусу. Они слезились. Строгий образ Гуса стал сливаться в них с тем образом, который вызвали у него воспоминания. Станислав снова увидел перед собой юное лицо студента. Когда-то Гус с благоговением смотрел на учителя, жадно ловя каждое его слово. Они не раз читали страстные трактаты Виклефа и восхищались ими. Взгляды магистра Станислава и его ученика еще более сблизились и окрепли в стенах университета и в их полемических сочинениях. Оба они защищали общее дело, отстаивая учение великого английского реформатора. «De simonia»[446] — да, именно так назывался трактат Виклефа, — маленький по объему, но великий по своей обличительной силе. Виклеф резко осудил стяжательство и алчность недостойных служителей церкви. Потом магистры сравнили пороки английского духовенства с пороками чешского духовенства, и кафтан, сшитый Виклефом из суровых обличений, оказался совсем впору чешскому духовенству. Чешские священники погрязли в тех же пороках. Но не только ученые трактаты сблизили учителя и ученика. Позже они, оба профессора-коллеги, шли, невзирая ни на какие превратности судьбы, вместе рука об руку, исповедуя одну и ту же истину. Долго ли? Недолго, меньше десятилетия. В то время архиепископ Збынек поручил Станиславу и Гусу проверить, совершались ли чудеса в бранденбургской деревне Вильснак. Рассказывали, там сгорела церковь. Приходский священник сумел спасти причастие, из которого выступила кровь самого Христа. С утра в деревню потянулись больные. Станислав и Гус должны были опросить исцелившихся. Две «чудом прозревшие» женщины признались, что они никогда не были слепыми, а мужчина, прикоснувшийся к облатке, умер на другой день. Самое убедительное показание дал Станиславу и Гусу пражанин Петршик из Цах. Чтобы исцелить свою больную руку, он принес на алтарь церкви в Вильснаке большую руку, отлитую из серебра. Приходскому священнику на этот раз не повезло: пражанин задержался в Вильснаке и на следующее утро увидел, как священник показывал паломникам его серебряную руку и говорил, что ее подарил церкви больной мирянин, исцелившийся вильснакским чудом. Разумеется, он, лгал, — рука Петршика не поправилась. Чудеса оказались мошеннической выдумкой вильснакского приходского священника, желавшего как можно больше заработать на паломничестве верующих. Вернувшись оттуда, Станислав и Гус написали трактат «De sanguine Christi».[447] Это было восемь лет назад, с той поры Станислав постарел на целых пятьдесят лет. Церковь сломила его. За то, что он отстаивал учение Виклефа, священники бросили его на растерзание папского суда. Еще по дороге на суд, в Болонье, кардинал Бальтазар Косса арестовал его, ограбил и бросил в тюрьму. Станислав просидел в болонской темнице несколько месяцев. Король Вацлав потратил немало усилий, прежде чем открылись тюремные двери; они открылись при одном условии: Станислава заставили отказаться от его убеждений. Учитель ни разу не вспомнил о Палече, а ведь он прошел со стариком весь крестный путь… Станислав думал только о Гусе, о своем любимом ученике. С ресниц Станислава сползла слеза и упала на грудь. — Сынок мой, сынок… Руки Станислава дрожали. Ему хотелось положить их на голову Гуса, а они, как подстреленные птицы, опустились на колени и не могли подняться. — Что скажу тебе я — старик, одной ногой уже стоящий в могиле? Только одно: они… они — очень сильны. Я на себе испытал их силу. Они подавят любого, подавят всякого, кто поднимет на них руку… Гус тихонько кивнул головой: — Вижу, они сломили и тебя… В словах магистра не было никакого упрека, — в них звучали печаль и боль. В разговор вмешался раздраженный Палеч: — Пойми, что произойдет теперь, когда мы потеряем поддержку короля. Против нас выступит весь мир! Не забудь и о другом: если папа привлекает короля к продаже индульгенций, он придает им важное значение. — Не столько индульгенциям, сколько тому, что он получит за них, — не выдержав, заметил Иероним. Но Палеч не позволил прерывать себя: — Наше выступление против индульгенций может вызвать не только спор, но и подлинный разрыв с церковью. Гус махнул рукой: — Вы постоянно говорите о короле, о папе, о церкви, хотя речь идет не об этом. Мы не должны уклоняться от главного. Нам следует решить вопрос, должен ли истинный христианин исполнять предписания, находящиеся в явном противоречии с учением Христа. Разве вы найдете в Священном писании оправдание тому, что позволяют себе священники, отпуская человеку грехи за плату? Вы же знаете — их может простить только сам милостивый господь. Речь идет как раз об отступлении церкви от Священного писания, а не о том, кто отдал распоряжение продавать индульгенции. — Ян Гус, — отозвался старый Станислав, — вспомни о нашем великом реформаторе, — светлая ему память, — Конраде Вальдгаузере.[448] Он еще при императоре Карле выступил против индульгенций и был вызван за это на суд папской курии. Конрад умер во время процесса. Истинный святой и божественно красноречивый проповедник Милич из Кромержижа[449] ставил учение бога выше светской и духовной власти и тоже оказался в руках инквизиторов. Он умер в Авиньоне перед окончанием процесса. Самый ближайший к нам магистр Карлова университета и Сорбонны Матей из Янова,[450] суровый обличитель всего суетного в церковном учении и глашатай восстановления принципов раннего христианства, тоже был осужден. Его заставили отречься от своих убеждений. Наши предшественники были самыми верными сыновьями церкви: обличая пороки церкви, они желали избавить ее от них. Ты же идешь дальше наших учителей и не колеблясь переступаешь рубеж, перед которым они останавливались, — идешь против церкви. Долгая речь сильно утомила старика. Он сгорбился и дрожал, с тревогой ожидая ответа Гуса. Глаза друзей смотрели на магистра: доверчиво и ободряюще у Иеронима, восторженно у Якоубека и с надеждой и страхом у Палеча. Гус только слегка пожал плечами. Палеч не выдержал: — Ты хочешь идти один против всех? — Один? — Брови Гуса поднялись от удивления. — Я не один. Взгляни, — и он указал на Иеронима и Якоубека. — Приди в Вифлеем хоть завтра. Я должен решать с ними и от их имени. Магистр Станислав умоляюще посмотрел на Гуса: — Обещай мне, дорогой сынок, что ты всё обдумаешь! Всё хорошенько взвесь, прежде чем начнешь действовать. Всё хорошенько обдумай! Всё!.. — Разумеется, человек должен всё тщательно и честно взвесить, когда речь идет о смысле его жизни! — с лаской и признательностью сказал Гус. Магистр хотел сказать Станиславу и другим коллегам о том, что вполне сознаёт ту ответственность, которая ложится на его плечи. Он ответствен за всё не только перед собственной совестью, но и перед теми, кто увидел в нем, пастыря и пошел за ним. Он не только укажет им путь, но и пойдет вместе с ними, с тысячами людей, которые слушают его в Вифлееме. Да, принимая решение, он прежде всего должен думать об этих людях. Те, кому он проповедовал, хотят знать, как он будет действовать. Они ждут его решения с доверием, любовью и надеждой. Но ради чего говорить друзьям об этом? Иероним и Якоубек поняли его и без слов, а Палеч, сколько ему ни говори, всё равно не поймет! Гус повернулся к усталому Станиславу из Знойма и сказал: — Как же человеку не рассудить и не взвесить, когда, может быть, решается вопрос — жить ему или не жить? Все умолкли. К сказанному добавить было нечего. (обратно)Пражская ночь
Сырой майский вечер опускался над еле прогретой землей. От реки дул холодный ветер. Широкие воды Влтавы под безлунным небом были черны, как деготь. Ветер будоражил их, — мелкие волны, чавкая, набегали на грязный пологий берег. После каждого шага в глине отпечатывался глубокий след, — не успеешь вытащить ногу, как вода заливает дырявые башмаки. Сначала подмастерье Ян выбирал сухие каменистые места, но потом махнул рукой. Впереди было непролазное болото. Ему не оставалось ничего другого, как идти по колено в грязи.Веселитесь, бедняки,
Сладко жить нам стало:
Прохудились башмаки,
Шуба полиняла.
Все, кто беден, к нам за стол,
За один большой котел!
Кашевары наши
Из мглы сварят каши,
Сжарят дичь из тьмы,
На перине из дождя отдыхаем мы.
Жизнь чудесна, друг мой милый,
С той поры, как мы полюбили.
Розы цветут, в зелени край,
Бог на земле сотворил людям рай.
* * *
Все священники постятся.
Даже воду пить боятся.
Во спасенье не грешно
Пить лишь чистое вино.
Воду хлещет всякий скот,
Пей вино, друг, — твой черед!
Чей же тост — ой-ой, ой-ой?
Твой!
Другие не дают —
Они худшее пьют! —
In nomine Bacchi et Veneris et pleni ventris…
Славлю я Бахуса, сытый живот и Венеру.
Господи, грех триединый портит святую веру:
Грех — спать ночью без подружки,
Грех — когда вина нет в кружке,
Грех тягчайший — если редки
В кошельке твоем монетки!
Если вдоволь пьешь вина.
Жажда в гробе не страшна… —
* * *
Магистр сидел в своей комнате за столом и писал. Он даже не успел сменить профессорскую мантию на домашнее платье. Густая вечерняя мгла плотно облегла окна. В их стеклах отражался тусклый свет свечи, стоявшей на столе. Перо магистра скрипело по бумаге. Хотя он целиком погрузился в свои мысли, однако слышал тихие шаги студента, убиравшего комнату. Прокопек присел к очагу, возле которого уже лежали поленья. Прокопеку оставалось только поджечь трут под кучкой хвороста. Он ударил огнивом по кремню, и на трут посыпались голубовато-белые искры, похожие на маленькие звездочки. Скоро пламя охватило хворост и зашумело. Магистр повернулся к очагу и долго глядел на огонь. Пламя заблестело в зрачках Гуса и заплясало в них, искрясь и ослепляя. Положив гусиное перо на стол, он встал и начал ходить по комнате. Студент всё еще сидел на корточках, внимательно поглядывая то на огонь, то на магистра, ходившего по комнате от стола к дверям и обратно. Сложив руки за спину и вскинув голову, Гус смотрел вперед. Казалось, он хотел заглянуть за стены своей комнаты и в плотной вечерней мгле увидеть далекое завтра. Магистр остановился перед Прокопеком, пододвинул к себе стул и заговорил со своим учеником. — Ну Прокопек, — улыбнулся Гус, — ты хорошо разжег, хорошо. Гляди-ка, какое пламя разгорелось от одной-единственной искорки. Ныне в Праге и во всем королевстве разгорелся такой же огонек, не правда ли? Он тлеет в людях, в их сердцах… Когда-нибудь он вырвется наружу. Древние римляне сжигали своих покойников. Они верили, что огонь очищает… Прокопек с благоговением и тревогой посмотрел на своего учителя. — Да, всё мертвое, отжившее нужно спалить. От всего, что устарело, человеку необходимо избавиться… — и, немного погодя, добавил: — даже если ему придется при этом погибнуть. Прокопек понял, что магистр говорил это скорее себе, чем ему, но юноше было приятно то, что в минуту духовного откровения своего учителя он оказался рядом с ним. Прокопек опустился перед магистром на колени, чтобы быть еще ближе к нему, и взволнованно сказал: — Учитель! Все мы любим тебя, верим тебе! — Я знаю, сынок, знаю… — сказал Гус, ласково коснувшись волос Прокопека и пристально поглядев в его искренние глаза. Прокопек больше не мог молчать: — Ты, конечно, знаешь это сам. Но я обязан сказать тебе об этом. У тебя, учитель, тысячи учеников — не только мы, твои студенты, но и те пражане, которые слушают твои проповеди в Вифлееме. Студенты университета по твоему совету учат читать и писать поденщиков и батраков. Если бы ты знал, какие это прилежные и благодарные ученики. Они читают еще по слогам, но сколько радости приносит им это чтение! Мы ходим к ним, в ночлежки. Тебе надо бы побывать там самому! Многие люди подсаживаются к нам и слушают. То, что ты говоришь в Вифлееме, мы передаем людям. Ты проповедуешь там перед тремя тысячами, а за неделю о твоих проповедях узнает девять или двенадцатьтысяч. Эти сильные и добрые люди жаждут твоих слов, как пересохшая земля — влаги. Ты даже не представляешь, что значит для них каждое твое слово! Да, каждое твое слово! Теперь, когда монахи начали продавать индульгенции и обманывать людей, людям еще больше нужна твоя помощь. Они готовы расправиться с монахами, но пока не решаются на это. Все ждут, что ты скажешь народу. Гус посмотрел в широко раскрытые глаза юноши и увидел в них тысячи нетерпеливо вопрошающих взглядов. Разогнув плечи, Гус уставился на огонь. — Ты говоришь, прихожане ждут моих слов? — тихо, почти беззвучно спросил он Прокопека. — Но где беру я свои слова, если не у них? Это они, горемычные труженики, учат меня! Их жалкое и мучительное прозябание — источник моих мыслей. Я беру слова у этих людей, как пасечник — мед из пчелиных сот. Вот как, сынок! Гус встал и подошел к окну. Гам, за окном, где-то в кромешной тьме, сидели или уже ложились спать те, кто завтра придет к нему со своими думами. Магистр не помнил, долго ли он стоял у окна и глядел в темноту. За его спиной неожиданно скрипнула дверь. Он обернулся и увидел на пороге Палеча. — Я не хотел тебе мешать, — извинился тот. Хозяин пригласил Палеча, но гость, кивнув в сторону студента, сказал: — Я хотел бы поговорить с тобой наедине. Гус сначала нахмурился, а потом согласился. — Оставь печку! — обратился он к Прокопеку. — Теперь я подложу дров сам. Иди спать… Только после того, как студент вышел из комнаты, Палеч переступил ее порог: — Ты, по-видимому, догадываешься, чтó привело меня к тебе домой. — Нет, не догадываюсь, — ответил Гус и подложил полено в огонь. — Я полагаю, что нового мы ничего не скажем, если речь идет об индульгенциях… — Да, речь идет о них… — подтвердил Палеч. Гус молчал. Палеч нетерпеливо подошел к столу, на котором лежали исписанные листы. — Пишешь? — спросил он, желая выгадать время. — Готовлюсь к завтрашней проповеди, — ответил Гус. Палеч с жадностью пробежал несколько строчек. Они вызвали у него изумление и испуг. — Так ты… ты в самом деле выступаешь против индульгенций и сеешь смуту?.. — Сею смуту? — пожал плечами Гус. — Я хочу только сказать людям правду об этой торговле. — Ты… ты везде носишься со своей вечной правдой!.. — сказал Гусу Палеч, уже поставивший всё на карту. — В мире существуют и вечные истины. К примеру, грабеж всегда остается грабежом, независимо от того, кто грабит — жалкий карманник, крадущий золотой, или папа — грабящий всю страну, весь народ. Палеч едва не перекрестился: — Ты кощунствуешь! — А ты думаешь иначе? — спросил Гус. — Важно не то, что я думаю или не думаю. Речь идет о том, что я могу и чего не могу. При данных обстоятельствах я не могу идти по твоей гибельной стезе… — Палеч показался Гусу каким-то жалким и подавленным… — На что бы я стал жить? Ведь я сразу лишился бы своего прихода. — Потом виновато добавил: — Я до сих пор не вернул тебе свой долг. Потеряв пребенды, я не смог бы ни с кем рассчитаться. Гус отвернулся от Палеча. Он не хотел глядеть ему в лицо. Боже, каким духовно нищим может оказаться человек! — О долге не беспокойся! — равнодушно сказал Гус. Едва преодолев отвращение к Палечу, магистр повернулся к нему, положил руку на плечо посмотрел прямо в глаза: — Друг Штепан, опомнись! Неужели ты забыл смешную поговорку, которую когда-то сложили о нас? «Дьявол породил Виклефа, Виклеф — Станислава, Станислав — Палеча, а Палеч — Гуса!» Тогда ты был куда более горячим сторонником исправления церкви, чем я! Тогда ты негодовал, а теперь утратил всякое красноречие. Неужели ты не видишь, что изменяешь самому себе, порываешь со своим светлым прошлым? Как ты можешь беззастенчиво отказаться от славных обычаев наших предков, от чудесного и глубокого мира чистой и откровенной мысли, которая учила, обогащала и вела нас и тебя? Да, и тебя, Штепан! Ты отказываешься от университета, от наследия наших ученых и поэтов, от прекрасных идеалов, за которые они боролись испокон веков, не жалея живота своего. Неужели ты не чувствуешь, что отрекаешься от истины и порываешь с народом, цветом и плодом коего ты был сам? Разве тебе не известно, что каждый человек обязан честно отдать народу всё, что взял у него, помочь ему своим словом и делом? Эх, Штепан, Штепан! Не падай духом — выдержи испытание! — Ты — дьявол, дьявол, проклятый дьявол! — дрожа всем телом, закричал Палеч, освобождаясь от руки Гуса и отступая назад. — Дьявол? — грустно сказал Гус. — Я — твой друг, Штепан! Чувство сожаления неожиданно овладело и Палечем — он бросился к Гусу: — Ты думаешь, я не друг тебе? Я — твой друг, Ян! Друг! Такой, как прежде! Всё, что я сказал тебе, сказал как другу. Ты близок мне. Я хочу спасти тебя. Я говорю тебе это сейчас. Когда ты выступал против продажи индульгенций с университетской кафедры, твое мнение рассматривалось как речь на ученом диспуте — она ни к чему не обязывала тебя. Ты спорил тогда со мной и со Станиславом. Что ж, ладно, твое мнение осталось известным только нам, твоим друзьям. Помни: если ты выступишь завтра против индульгенций в Вифлееме, перед тысячами слушателей, тебя услышит вся Прага, весь мир! Потом ты не сможешь никуда сунуть носа — порвешь нити, связывающие тебя с нашей церковью. Тебе угрожают одиночество и кара. Не забывай это! Ведь и магистр Станислав, твой старый учитель, просил тебя хорошенько всё обдумать и взвесить, пока ты не решился на последний шаг. Он любит тебя. То же говорю тебе и я, твой старый друг. — Друг Палеч на одной стороне, а подруга Истина на другой. Говорите вы нечто несовместимое. Кого же мне предпочесть? Это был не вопрос, а ответ. Палеч понял его. Ему стало ясно: наступил конец. Конец… В душе Палеча мгновенно закипели горькая злоба и ненависть, — они едва не захлестнули его: — Что ж! Поступай как знаешь! Я предостерегал тебя! Теперь я умываю руки и не желаю иметь с тобой ничего общего. Ты сам разжигаешь под собой костер! Он резко повернулся и покинул комнату. Створки дверей перед глазами Гуса распахнулись и с шумом захлопнулись. Гус остался один. Как ни странно, он стал думать больше о самом Палече, чем о его последних словах. Одна картина за другой проходила перед глазами магистра: Палеч за кафедрой во время университетских диспутов — героических богословских турниров. Немецкие профессора нападали на учение Виклефа, а Палеч со Станиславом и Гусом горячо защищали его. Палеч был энергичнее и решительнее, чем он, Гус. Потом Палеч и Станислав побывали в болонской тюрьме. Станислав вернулся оттуда больным и сломленным, а Палеч не смирился. Гус не мог вспомнить ничего такого, что говорило бы о перемене, происшедшей в душе Палеча. Он оставался верным учеником и защитником «медового автора», — так Палеч называл Виклефа. Правда, Палеч стал осмотрительнее, — с тех пор он больше не выступал на крупных университетских диспутах… А сегодня в зале… Иероним всё-таки был прав: Палеч выступал против индульгенций до тех пор, пока король поддерживал университет. Причина такого поведения не только в боязни Палеча потерять приход в Коуржиме и кафедру в университете, хотя они имеют для него немаловажное значение. Гус никак не может забыть один случай, который хорошо характеризует Палеча. Гус спорил с Палечем, иначе объяснявшим какой-то абзац из сочинения святого Августина. Это был обычный спор между учеными. Гусу удалось разубедить Палеча. Тот шутливо признал свое поражение. Удачное истолкование цитаты успокоило его и полностью вернуло ему душевное спокойствие. Закрыв рукопись и выпрямившись, Палеч неожиданно заметил еще одного магистра, которой стоял в стороне, у читательского пульта, и был свидетелем их спора. Гус до сих пор не забыл, как переменилось лицо друга, — на нем появилась какая-то странная смесь оскорбленного самолюбия, злости и зависти. Разумеется, всё это выглядело очень странно. Сегодня Палеч старался возглавить ученый совет университета. Он не мог терпеть возражений ораторов и страшно побледнел, когда большинство магистров отвернулось от него и окружило Гуса. А сегодняшний вечер… Нет, Палеч никогда не простит Гусу этот вечер. Палеч спасовал тогда, когда Гус продолжал стоять на своем. Мы легко прощаем другу его грехи и промахи, зато с большим трудом прощаем ему, когда он заметит их у нас. Ударь его, оскорби — он, пожалуй, простит тебе, но никогда не показывай, что ты нашел у него уязвимое место, иначе он станет твоим врагом, врагом до самой смерти. То же произойдет и с Палечем: он перебежит к тем, против кого боролся, объединится с ними и окажется более католиком, чем сам папа. Испокон веков путь человека от малого колебания к большому, от большого к полной перемене неизменно одинаков: друг становится твоим врагом, другом твоих врагов! Так бывает всегда с теми, кто стоит на шаткой основе и кому не хватает мужества покориться велениям истины, ведущей его по своему пути. «Почему сегодня Палеч не говорил об этом? Ведь речь шла как раз об истине, а не о чем-нибудь другом. Для меня не имеют значения согласие или запрещение короля продавать индульгенции. Не важны и последствия, которые я навлеку на себя, если выступлю против индульгенции. Речь идет только об истине. Каждый, кто уклоняется от нее, сбивается с пути и бредет к пропасти». А Палеч твердил, что Гус, придерживаясь истины, мутит воду и идет на верную гибель. Гус улыбнулся. «Палеч прав: путь, на который я вступил, — думал о себе магистр, — может привести только на костер. Следовательно, по моему и по мнению Палеча, конец одинаков: смута, гибель. Так, или иначе — смерть. Остается один вопрос — какая хуже? Жизнь и смерть… О чем думать? О жизни! Что нужно делать, пока живешь? Познавать добро и зло, поддерживая всё доброе и преследуя всё злое. Вот что значит жить. Стало быть, я выбираю не между жизнью и смертью а между жизнью и жизнью — первой, когда влачишь ее в земной юдоли, забыв мечту о прекрасном будущем и потеряв самый смысл бытия, и второй — истинной, пусть даже рано прерванной, но посвященной борьбе за эту мечту». Гус поднялся. Прохаживаясь по комнате, он неожиданно почувствовал, как приятно ходить, то напрягая, та расслабляя мышцы ног, и глубоко вдыхать смолистое тепло, исходящее от очага. Всё его существо было полно жизни и радости. Им властно овладела горячая, непреклонная мысль: жить! жить! Но неистовый и страстный подъем чувств, угрожавших свести на нет все его рассуждения, неожиданно превратил очаг в костер, а кромешную тьму за окнами — в глухое, темное, немое и грозное ничто. В душе магистра завязалось единоборство между жизнью и смертью. Словно желая заслониться от каких-то призраков, магистр закрыл глаза руками. Он мысленно представил себе людей, перед которыми решил выступить в Вифлееме. Их сотни, тысячи… Все они спрашивают его: «Ян Гус, как ты поступишь в годину тяжелого испытания?» «То, что ты завтра выскажешь, решит твою судьбу!» — кажется, так сказал здесь несколько минут назад Палеч. «Хорошенько подумай и взвесь, прежде чем примешься за дело», — еще раньше посоветовал ему Станислав. Время не ждет, — пора принять решение, сказать «да» или «нет». Гус опустил руки. Подойдя к окну, он распахнул его настежь. Свежий ветер пахнýл ему в лицо. Глаза, привыкшие к свету, стали вглядываться в ночную тьму. На фоне ночного неба он разглядел черепичные крыши и белые стены. Взгляд Гуса скользнул по улице. Там, напротив его дома, темнели фигуры людей. Они сняли шапки и поклонились. — Добрый вечер, учитель! — тихо приветствовали они его. Гус поклонился им и спросил: — Вы ко мне? Нет, конечно нет. Они прогуливались по улице и, заметив свет в его окне, остановились. Люди молчали, но Гус понял их. Он сказал: — Раз вы пришли сюда, то поднимайтесь ко мне. Он не знал их, но догадывался, что они не случайно подошли к его дому и бог знает, как долго стояли здесь. Люди объяснили Гусу, что они не хотели мешать ему работать. Ему пришлось уговаривать их, — только после этого они приняли его приглашение. Они поднялись по лестнице. В комнату Гуса вошли дряхлый беззубый старик, плотник Йира и его друзья — подмастерья Мартин, Ян и Сташек. Гус не знал их имен. Тем не менее, эти люди были хорошо знакомы ему. Он видел их каждое воскресенье в своей часовне и узнал по доверчивым, искренним глазам. У Гуса не хватало стульев, чтобы усадить их, — юноши сели на пол у очага, и один стул остался свободным. — Вы — мои прихожане? — спросил их Гус. Мужчины кивнули ему в знак согласия. — Что привело вас к моему дому? Вы хотите что-нибудь узнать у меня? — Да, в Праге ходят разные слухи. Сюда прибыли монахи с индульгенциями — один срам. Мы шли, шли и добрели до твоего дома. — Хотите знать, что я скажу вам об этом? — спросил Гус. Гости засмеялись: подмастерья хохотали, обнажив белые зубы, Йира — только глазами, а старик — сжав губы над пустыми деснами и еще более сморщившись. После такого смеха ответ был уже вовсе не обязателен. Они безгранично верили ему, и сам Гус не мог не ответить им приветливой улыбкой. Между ними завязалась сердечная беседа. (обратно)Проповедь
Вешнее утреннее солнце заливало Вифлеемскую часовню и площадь перед ней яркими лучами. Оно сверкало на белых стенах часовни, но не могло коснуться камней площади. Толпа собралась у входа в часовню, как рой пчел, и заняла всю площадь. В самой часовне негде было упасть яблоку. Люди, одетые в полинялые и выгоревшие домотканые рубашки и кофты, ничем не выделялись, — издали их грубые одежды сливались в сплошное серое поле, на котором, словно ромашки, белели заботливо выстиранные полотняные платки женщин. Прихожане затаили дыхание. Они хотели слышать каждое слово, доносившееся к ним из часовни. Те, кто оказался слишком далеко от магистра, старались услышать хоть что-нибудь и терпеливо ждали, когда желанные слова дойдут к ним от счастливчиков, стоявших у самых стен часовни. Чем ближе к дверям часовни, тем отчетливее раздавались слова проповедника. Три тысячи пражан не только слушали, но и видели его. Эти люди устремили свои взоры в одном направлении — на кафедру, где стоял Ян Гус. — По учению Христа, священники — заботливые и добрые пастыри. Они должны пасти свое стадо на лугах добра, справедливости и познания. Однако пастыри обращаются со своими прихожанами, как с овцами, покорно идущими на заклание. Да, они хотят, чтобы вы были такими, — слепыми, глухими, послушными. Священники держат вас в невежестве, присвоили себе право толковать Священное писание и объявили себя единственными посредниками между богом и людьми. Того, кто осмеливается судить об их поступках согласно учению Христа, они объявляют еретиком, стараясь зажать ему рот на своих неправых судах и советах. Истинный христианин не должен бояться никого, кроме бога. Поднесите зерцало Христово к лицу этой алчной, лживой братии, и вы увидите в нем адских бестий. Вспомните, как маленькая ласка нападает на большое животное: она прыгает на него сзади и сосет кровь до тех пор, пока жертва не ослабеет. Церковь подобна этому зверьку: она веками сосет кровь народа. В поте лица своего человек обрабатывает землю и выращивает сладкие плоды, а хищные ласки набрасываются на плоды его труда и отнимают их. Церковь не только обдирает человека, как липку, но и беззастенчиво торгует самым дорогим в его жизни — спасением души! Хочешь окрестить ребенка? Плати! Хочешь исповедаться? Плати! Хочешь совершить последнее помазание или окропить покойника? Тоже плати! Всё, что Христос завещал священникам для блага верующих, дал им даром, они сделали источником своей наживы. Еще больше священников и фараров наживаются епископы, архиепископы и первый торгаш среди торгашей — папа! Этот продает приходы, епископства, архиепископства, аббатства, а теперь и то, что является лишь высшей милостью божьей, — отпущение грехов! Наконец прозвучали те слова, которых все ждали. Услышать их пришли люди из королевского замка, богатых домов и убогих хижин. Каждый, кто явился сюда, независимо от своего титула, положения и происхождения, становился равным — учеником магистра. Впереди сидела королева София в строгом темном платье без украшений. Ее бледное сосредоточенное лицо было обращено к кафедре. Рядом с нею — ближайшие советники короля — пан Лефль из Лажан, Ян из Хлума и Вацлав из Дубе. На каменном полу — здесь тоже надо было суметь найти свободное местечко — расположились трое подмастерьев — Ян, Сташек и камнерез Мартин с Йоганкой, а подальше, слева и справа, — плотники, каменщики и поденщики. За спиной королевы, опираясь подбородком на тяжелый меч, сидел статный мужчина. Он не сводил с кафедры своего единственного глаза, — другой был прикрыт черной повязкой. Рядом сидели на скамьях и стояли вдоль стен ремесленники, студенты, батраки, университетские профессора, — к магистру пришли все, кто ожидал от него ответа на свои вопросы. Позади, за колонной, стоял фарар Ян Протива. Враг магистра скрывал свое лицо под низко опущенным капюшоном и тайком записывал отдельные мысли проповеди. — Подобно стае воронов, продавцы индульгенций слетелись в нашу страну, чтобы выклевать в ней всё, что посеяно народом. Своими алчными клювами они раскрывают и полные лари богатых горожан и тощие кошельки бедняков. Надменные и коварные слуги папы очищают их с холодным расчетом. Подобно торгашам, они расставили свои сундуки возле божьих алтарей и заявили, что правомочны отпускать грехи за деньги. По Библии человек может найти свое спасение лишь в праведной жизни и в исполнении заповедей божьих. Говорит ли об этом папа Иоанн XXIII в своей булле? Побуждает ли она верующих к добродетели, благочестию и добрым деяниям? Об этом в ней не говорится ни слова. У священников и монахов чешутся руки при мысли, что они тоже заработают на продаже индульгенций. Простым и доверчивым людям святые отцы обещают за деньги царствие небесное. Согласно этой булле сам дьявол, имей он деньги, может купить себе отпущение грехов и попасть в рай. Мыслимо ли более омерзительное святотатство?.. Но, может быть, папа и его священники хотят использовать бессовестно выклянченные деньги на дело, угодное богу? Булла Иоанна XXIII отвечает и на этот вопрос: она требует от христиан денег для ведения войны против лжепап и неаполитанского короля. Христос учил любить ближнего и убеждать своих противников добрыми словами и милостивыми делами. А папа призывает одних христиан убивать других христиан; тот, кто не может убивать, пусть поддержит его войну деньгами… В своей булле папа не постеснялся назвать это кровопролитие священной войной. Иоанн XXIII поистине удостоился бы нимба святого, если бы оказалась священной его борьба за светскую власть, расширение владений и усиление его власти над всем христианским миром. Только об этом мечтает и только во имя этого воюет папа. Стало быть, ни объявление священной войны, ни ограбление верующих нашего королевства отнюдь не свидетельствуют о проявлении любви папы к нашему господу Иисусу Христу. Как только Гус сделал маленькую паузу, среди прихожан поднялся глухой гул. Они облегченно вздохнули. Теперь ни у кого не оставалось никаких сомнений. Подобно легкому вешнему ветерку, шуршащему сорванным им сухим листком, тихий шепот в часовне передавался из уст в уста, со скамьи на скамью и оттуда — на площадь. — Дьявольская золотая горячка захватила духовенство, — продолжал Гус, — начиная от папы и кончая последним клириком. Их обуяла ненасытная страсть к стяжательству, к выколачиванию денег изо всех христианских народов и стран, стремление к удовлетворению плотских потребностей и непомерная гордыня. Подумайте: для чего нужны священникам такие доходы? Взгляните на их пышное облачение, сверкающее золотом, пурпуром и бархатом, и вспомните, что сам Христос носил холщовое рубище и был бос. Посмотрите на их чудесные дворцы, замки и монастыри, где кладовые ломятся от сокровищ, яств и вин. У нашего же господа не было даже крыши, чтобы приклонить голову. А какие ожерелья носят их наложницы, — на один драгоценный камешек можно было бы прокормить сто семей в течение года! Разве они похожи на тех учеников и последователей Христа, которым господь сказал: «Оставь всё свое, если хочешь идти за мною»? Нет, священники — не добрые пастыри! Они только стригут овец и судят о них по длине и густоте шерсти. Поистине, к ним более всего подходят слова из Священного писания: «Кровожаден тот, кто отнимает хлеб у бедняка!» Но грешны не одни пастыри. Каждый христианин, который видит зло и мирится с ним, виновен. Ибо каждый христианин — божий воин, борец за правду, и его долг всяким добрым деянием бороться против зла, дьявола, антихриста. Разве священник не антихрист, если он служит не богу, а золоту и, стало быть, дьяволу?! Люди замерли, — не было заметно ни одного движения, ни шороха, ни вздоха. Но в глазах прихожан светились гнев и возмущение. Легкие дышали свободнее, в висках стучала кровь, ладони сжимались в кулаки. — Как же противиться злу, которое распространяется церковью во всем христианском мире? Как противостоять алчности священников и их стремлению к светской власти? Раз корень зла состоит в любви духовенства к деньгам, остается один-единственный путь его устранения: вырвать этот ядовитый корень, ибо он губит все дерево христианства. Надо лишить священников светской власти, а денег и имущества оставить ровно столько, сколько необходимо им для безбедного существования. Любой епископ за один присест не съест больше лесоруба и не наденет больше, чем нужно для прикрытия тела. Сделайте это, и прекратится склока между папами, грызня между священниками за доходные места, исчезнут подкупы и взятки. Отберите у собак кость — и им не из-за чего будет драться. Запретите священникам пользоваться вашими сокровищницами и кошельками, — они перестанут торговать святыми таинствами и начнут раздавать их даром, как получили сами. Таким путем церковь вернется в лоно истинного христианства, а ее священники станут бескорыстно служить богу. Вспомните, как первосвященники разыскивали по лесным скитам святого Григория, желая предложить ему сан епископа, а он отказывался от него и ставил под сомнение законность всякого духовного сана. Назовите мне хотя бы одного нашего священника, кандидата в епископы, который отказался бы от этого сана и скрылся бы в лесу! На лице Гуса появилась легкая улыбка. Прихожане тоже заулыбались. — Разумеется, сама церковь не откажется от власти. Надо заставить ее сделать это. Кто может лишить ее силы? Конечно, те, кому вверена светская власть на земле, — короли и князья. Подобно тому, как светский государь должен подчиняться священнику в духовных делах, последний обязан повиноваться государю в делах светских. Голос Гуса гремел, а глаза сверкали, как яркие звёзды: — Но если и они не возымеют действие на Христову общину, то это сделает сам народ. Ибо Христос передал свое учение прежде всего простым людям, — пусть они примут и оберегают его. Он обратился со своим учением не к королям и богачам, а к рыбарям, беднякам. Убогая старуха, исполняющая его заповеди, более достойна милостей божьих, чем самый справедливый король и самый справедливый священник. Ибо она следует божьим заповедям не по долгу и не по чьему-либо настоянию, а сама, от чистого сердца. Следовательно, если ученые и власть имущие отказываются от Христовых заветов, то народ обязан заставить отступников служить ему. Гус кончил. Одетый в черную мантию, он стоял у края кафедры. Ярко горевшие глаза на его светлом лице смотрели вниз, на прихожан. Все были восхищены проповедью, никто не трогался с места. Это безмолвие казалось только затишьем перед бурей. Не успел Гус повернуться к выходу, как люди стали громко вызывать магистра, кричать, обниматься, плакать и радостно пожимать друг другу руки. Мартин и его неразлучные друзья неожиданно почувствовали в себе прилив силы. Они хотели поскорее выйти на площадь, где шумели разгневанные люди. Не говоря ни слова, парни пробрались к выходу. Йоганка поспешила за Мартином. Когда Гус очутился у ризницы, прихожане опустились на колени и простерли к нему руки, а некоторые подняли кверху правую руку, сложив ее пальцы для присяги. Проходя мимо королевы, Гус поклонился. Она ответила ему таким же глубоким поклоном. Чешские паны пристально смотрели на Гуса. К нему подошел одноглазый Жижка. — Ты говорил нам, — начал он. — Мы поняли тебя. Если тебе придется бороться с сильными мира сего, помни: этот меч, — Жижка вскинул его кверху, — к твоим услугам. Меч — самый понятный для них язык. Гус прошел мимо Йиры. Их взгляды встретились. Это — приветствие, благодарность и мимолетная беседа одновременно. У дверей в ризницу Гуса ждали Иероним и Якоубек. Взволнованный Якоубек крепко, несколько раз, молча пожал Гусу руку. Иероним улыбался: — Если я когда-нибудь понадоблюсь тебе, то… — и он подал Гусу руку. За их спинами люди потихоньку выходили из часовни. Они не могли сразу покинуть то место, где им посчастливилось услышать речь мудрого проповедника. С площади доносился громкий шум. Потом послышалось пение. С каждой секундой оно становилось громче:Приди к нам, господи желанный,
Спаси наш край обетованный…
Хотим тебя душой познать,
Без страха будущего ждать…
* * *
Толпа, собравшаяся на площади, пришла в движение. Люди огромными ручьями текли по улицам и переулкам к центру города. Проклятия и угрозы по адресу торговцев индульгенциями вырывались из сотен и тысяч глоток: — Гоните мытарей из храмов! — Бейте их, как Христос, плетками! Над толпой, подобно громовому раскату, сначала пронесся гул, а потом зазвучала песня:От папы и короля
Стонет вся наша земля
Грабит пан и церковь, —
Людям разоренье.
Злой священник
Нам без денег
Не даст отпущенья.
Прибыл в Прагу к нам легат,
А попы мертвецки спят,
Приказал им быстро встать,
Подчистую обобрать
Короля с общиной.
Индульгенций целый воз
У попа в обмен на коз.
За корову и овцу
Он любому подлецу
Все грехи прощает.
* * *
Советники староместской ратуши не прерывали своих заседаний. Лица советников от бессонницы побледнели, крепко сжатые губы посинели, а руки беспомощно лежали на столе. Нетерпение советников росло. Рунтингер, крупный поставщик из Регенсбурга, отказался выслать им партию перца, уже обещанную городскому советнику Ганфштенгелю. Регенсбургский негоциант объяснял свой отказ тем, что в Чехию стало опасно доставлять товары. Доходившие издалека тревожные слухи о Праге вызывали у него опасения, и ему не хотелось рисковать редким дорогим товаром. Советнику Штумпфнагелю Регенсбург отказал и в кредите. Этот бойкий пекарь никогда бы не раздобрел на одних мошенничествах с булками; он переводил деньги за границу, закупал там целые караваны редких товаров и перепродавал их еще до поступления на склад. Если бы вифлеемский безумец понимал, что его ложное толкование Библии порвет нити всех старых торговых связей (а на деньги можно построить сотни вифлеемских часовен), то он никогда не предпринял бы такого необдуманного шага. Окажись Гус немного благоразумнее, он легко бы понял, что тут речь идет не о Библии и боге, а о пряностях, тканях, векселях и кредитах, короче — о деньгах! Советникам удалось выведать, где жил король. Он охотился в Точнике. Городское посольство добилось беседы с Вацлавом. По возвращении послов городской совет продолжал заседать. Бургомистр пригласил на заседание фарара Противу, который был посредником между советниками-патрициями и консисторией архиепископа. Послы доложили о беседе с королем. Их сообщение было кратким. Услыхав о волнениях в Праге, король возмутился. Он приказал совету поддерживать порядок в столице и возложил на него ответственность за исполнение. Вот и всё. Послы Ганфштенгель и Штумпфнагель просили короля выступить против Гуса, его прихожан и почитателей. Но Вацлав грубо оборвал их. Когда они сумели убедить короля в том, что выступление Гуса против индульгенций — истинная причина волнений в городе, он тоже стал проклинать Гуса. Но какой прок от ругани, если за нею не следует никакого дела? — Король назвал Гуса неблагодарным бунтарем, — добавил Штумпфнагель. — Он раскаивался в том, что прежде защищал Гуса. «Гус, — сказал Вацлав, — неблагодарный человек». Король поругал смутьяна и успокоился. — Мы знаем, что такое гнев короля, — вздохнул бургомистр. — Он пошумит и перестанет. — Странно, чем Гус сумел покорить короля, — сказал советник — сухощавый старик с живыми глазами, окруженными множеством морщинок. — Трудно найти людей, более непохожих по характеру, чем король и Гус. Первый — малодушен, слабоволен и непостоянен, а второй — прям и тверд, как сталь. Видимо, глядя на него, кум Вацлав вспоминает свои молодые годы, свои мечты. — Вздор! — грубо перебил его Протива. — Королю хотелось бы подчинить церковь своей власти, а то, что твердит в своих проповедях Гус, ему на руку. Бургомистр громко шлепнул толстой ладонью по столу: — Поговорим о деле. Мне кажется, что наше посольство действовало неудачно. Оно должно было задеть короля за живое: намекнуть, что папе достаточно объявить страну еретической, тогда прощай его императорская корона! Хотя он уже безвластен, однако вам следовало бы говорить с ним именно о короне. Недовольный Штумпфнагель надулся от злости, напоминая толстую жабу: — Мы пробовали говорить и похитрее! Но я не желал бы вам испытать то, что испытали мы! Король едва не спустил на посольство своих охотничьих собак. А про наше сообщение он сказал, что это жалкая клевета. Гетман Вокса, наверное, доложил королю, что в городе всё в порядке. Королю, мол, неизвестно, кто кого подстрекал больше. Он хорошо знает пражан, — продажа индульгенций успешно продолжается. Потом король обрушился на посольство, словно оно было виновником беспорядка. Он напомнил, что мы отвечаем за порядок в городе. Король обещал четвертовать нас, если в городе будет пролита хоть одна капля крови! — Так он и сказал? — спросил Штумпфнагеля Протива, вскочив со своего места. Священник побледнел. Советники удивленно поглядели на него. Лицо Противы разгладилось, и на нем появилась злая улыбка. — Э-эх вы, достойные отцы города, чего еще ждете? — сказал он и сел на свое место. Насладившись всеобщим изумлением, Протива важно добавил: — Его королевское величество безусловно подразумевал под своей угрозой нечто весьма серьезное. Согласно этому должны вести себя и мы. Что мы можем и должны сейчас сделать? Только одно… — И Протива начал обстоятельно излагать свой план. Слушая фарара, члены совета постепенно оживились, горячо одобряя его предложение.* * *
Пражане, заполнившие улицы, не расходились. Они чувствовали уверенность в своих силах. Священники больше не заикались об индульгенциях. Сознание этой победы радовало людей. Весенний воздух стал свежее и прозрачнее, — он сам лился в легкие. Каждый камень и каждый столб казались теперь ярче и красивее. Кто-то крикнул: — Идем к Вифлеемской часовне! Чьи это слова? Всё равно, куда идти. В Праге много костелов. Пусть священники трепещут перед народом! Они пошли по узенькой улочке к ослепительно белой Вифлеемской часовне. Напротив темнел костел святых Филиппа и Якуба. В ту сторону никто даже не взглянул. Они с любовью смотрели на двери часовни. Вдруг кто-то сзади крикнул: — Смотрите-ка, что делается в костеле святых Филиппа и Якуба. Приходским священником этого костела был патер Войтех, один из самых рьяных врагов Гуса и тайный союзник Яна Противы. До сих пор толпа не замечала этого костела. Каждый, кто приходил на Вифлеемскую площадь, думал только о часовне магистра Яна. Им казалось, что там, в часовне, — открыта она или заперта, — днем и ночью звучат слова их учителя. Толпа, хлынувшая в костел святых Филиппа и Якуба, очутилась в большом темпом помещении. После яркого солнечного света она показалась пещерой с колоннами. Только в главном алтаре ярко блестели драгоценные украшения, позолоченная дароносица, табернакул,[456] кресты и статуи. Мало-помалу во мраке затрепетали свечи, как блуждающие огоньки наболоте. Когда у порога послышались шаги, несколько молельщиков повернули головы к выходу. Большая же часть прихожан не оглянулась на вошедших людей. В это время патер Войтех заканчивал свою проповедь: — …следовательно, вы обязательно проявите любовь к нашему папе и должным образом окажете ему помощь в святой войне. Эта помощь будет самым лучшим ответом дерзким бунтовщикам-еретикам, выступающим против индульгенций. Отец Войтех заметил, как вошли непрошеные гости. От страха у него на лице выступил пот и перехватило горло. — Таким образом вы ответите и самому заядлому противнику святой церкви… — Патер хотел было произнести имя этого противника, но от страха оно застряло у него в глотке. Прихожане поняли его намек. Толкаясь, они стали пробираться вдоль стен костела. Прихожане освободили дорогу серой, неумолимо наступавшей толпе и начали торопливо выбираться из костела прочь, на площадь. По свободному проходу между скамьями безудержно сновали непрошеные гости. Патер с ужасом поглядывал на их суровые лица, на убогие плащи студентов, жалкую одежду поденщиков и подмастерьев, на руки, крепко сжатые в кулаки, и на ноги, которые своими шагами словно отмеряли его судьбу. Священник почувствовал слабость во всем теле, — он был готов убежать с кафедры. Но те, кто только что вошел в костел, стояли у ступенек подиума и ожидали. Зачем он послушался патера Противу и заговорил сегодня об индульгенциях? Как мог он позволить Противе убаюкать себя в такое опасное время и поверить, что его костел минуют бесчинства? Почему Протива настаивал на проповеди сегодня, а он, Войтех, не отказался? От страха у него зуб не попадал на зуб, а дрожавшие колени опустились на ступеньку лестницы. — Что… что вам угодно? Ему никто не ответил. Тогда он встал и крикнул: — Я неприкосновенен! Я — слуга божий!.. Фарар побелел, как мел, — нет, ему не следовало говорить этого. Так он может вызвать у них еще больший гнев. Но никто не выражал никакого негодования. Отозвался один, очень спокойный, насмешливый голос, и отец Войтех понял, что имеет дело не с темной толпой, которую можно запугать или обмануть: пришельцы хорошо знали, чего им надо. Таких не уведешь от цели. — Не поминай имя бога всуе, — сказал Мартин. — Мы не знаем, действительно ли ты слуга божий. Скорее ты сын и слуга дьявола. Мы поняли это по твоим словам. — Я ничего не сказал… Кроме того, что велела архиепископская консистория… — дрожа и заикаясь, объяснял священник. — А сейчас повелеваем тебе мы! — резко прервал его Мартин. — Клянись, что перестанешь читать на кафедре папскую буллу и предлагать индульгенции верующим! Патер Войтех, стоявший на ступеньках лестницы, съежился от страха, спрятал руки в складки сутаны, а голову — в плечи: — Я… я не могу. Мне приказали… — Это мы уже слышали. Кому собираешься подчиняться — нам или консистории? — Архиепископ далеко, а мы — рядом, — насмешливо заметил подмастерье Ян. — В следующее воскресенье мы еще разок послушаем тебя. Грозное кольцо вокруг священника продолжало суживаться. Патер Войтех упал на колени и поднял вверх руку: — Клянусь… Не буду… Не скажу ни слова. Исполню всё, что хотите… А теперь будьте со мной милосердны. Отпустите меня. Подмастерье Ян снова оборвал его: — Что ты собирался сказать о нашем магистре?.. Яна поддержали его друзья: — Это тоже тебе приказали?.. — Мы запихнем твои слова обратно в глотку! Охваченный ужасом, фарар снова начал клясться: — Я… друзья, даже не заикался о Гусе. — А кого ты подразумевал под самым заядлым противником церкви, отец?.. — не дал ему договорить Ян. Напуганный священник шевелил губами, но голос отказывался ему служить. Умоляюще сложив руки, он поворачивался в разные стороны, отыскивая человека, на чьем лице можно было бы заметить сочувствие. Его взгляд остановился на Сташеке. Священник обнял колени юноши и начал жалобно умолять о милости. Он поклялся никогда больше не хулить великого проповедника. Сташек с отвращением взглянул на человека, валявшегося у его ног. Вот он, помазанник божий! Парень сказал: — Повторяй за мной: «Магистр Ян Гус…» — Магистр Ян Гус… — ловил на лету и повторял слово за словом патер Войтех, — святой, человек незапятнанной совести. Никто не может его изобличить как проповедника еретического слова и дела. Тут священник заметил, что толпа брезгливо отступила от него. Двое подхватили патера сзади и поволокли к ризнице. Они особенно громко кричали и ругались. Вдруг полуживой от страха священник услышал, что один из них шепнул: — Приходи сегодня вечером к фарару Противе за наградой! Патер Войтех понял, что Протива всё предусмотрел, — фарар сделал два прыжка и вбежал в ризницу. Перед тем, как запереть двери, он обернулся к толпе и крикнул громким торжествующим голосом: — Гус — еретик… антихрист! Подобно вздыбившейся волне, люди обрушились на дубовые двери, окованные толстым железом и запертые изнутри на крепкий засов. Они тщетно колотили руками по дереву, барабанили в железо, шумели, проклинали, угрожали. — Он удерет от нас задним ходом! Бежим за костел! Те, кто раньше приглашал толпу в костел святых Филиппа и Якуба, снова звали ее вперед. Толпа быстро вернулась и помчалась к выходу. В одно мгновение костел опустел. Три подмастерья, Йоганка и несколько студентов остались охранять двери ризницы. Они не знали, что отряд городской стражи уже стоял в коридоре со сводчатыми потолками, между ризницей и боковым ходом. Едва толпа покинула костел, как под его сводами раздались тяжелые шаги. Склонив алебарды, в костел вошло около сорока латников. Они кого-то искали, заглядывая под скамьи. Потом по команде латники побежали к ризнице. Ян Протива, — его капюшон свалился с головы, обнажив бледное лицо с хищными чертами, — повелительным жестом указал на нескольких человек, стоявших возле ризницы: — Взять их! Стражники в один миг окружили молодых людей. Протива подошел к пленникам. — А, господа студиозы! — ухмыляясь, произнес он. И тут же накинулся на них: — Как вас зовут? Студенты гордо назвали свои имена. Священник старательно записал их. Повернувшись к стражникам, Протива сказал: — Этих отпустите, они — cives academici.[457] С ними мы разберемся в другом месте. А вы?.. — спросил он, глядя на подмастерьев. — Я — Мартин, — с достоинством ответил старший парень, шагнув вперед. — Меня не интересует твое имя, — грубо оборвал фарар Протива и пристально поглядел в его лицо. — Постой, я тебя уже где-то видел… А, припоминаю!.. Это ты издевался над священниками перед Тынским храмом! Ответишь за всё сразу. — Повернувшись к остальным и взглянув на их одежду, он спросил: — Подмастерья, да? — и подал знак латникам: — Связать и отвести в темницу при ратуше! Сташек позволил стражникам связать себе руки, а Ян и Мартин стали сопротивляться. Завязалась драка, Йоганка хотела что-то сказать Мартину, но ее грубо оттолкнули. Она снова бросилась к нему. На этот раз сильный удар древка алебарды свалил ее с ног. Студенты подбежали к ней. Мартин уже не видел этого: алебардщики прижали его к стенке. Избив подмастерьев, они связали и вытолкали их на площадь. Когда стражники окружили костел святых Филиппа и Якуба двойным кольцом, патер Протива повел арестованных узкими улочками к Староместской ратуше. (обратно)Пролитая кровь
Гус был встревожен. Перед ним стояла бледная Йоганка, на лбу которой алел глубокий шрам. Держась уверенно и прямо, девушка не спускала глаз с магистра; в ее ясном и открытом взгляде не было ни страха, ни боли. — Знаешь, куда отвели ребят? — спросил Гус. — В ратушу… — Их забрали городские стражники? — Да. Гус нахмурился: — Господа советники переусердствовали… — Затем лицо Гуса посветлело, а голос зазвучал уверенно, одобряюще и тепло: — Я постараюсь сделать всё, чтобы ребят как можно скорее освободили. Магистр слегка улыбнулся: — Наверное, один из этих ребят — твой возлюбленный?.. Да? Йоганка тоже улыбнулась: — Мартин… Я каждое воскресенье хожу с ним на твои проповеди. Гус снова посмотрел на нее. Взгляд магистра был полон боли и грусти. Да, никогда еще не бывало мечты без жертвы, любви без мýки, правды без борьбы. Йоганка стояла перед ним и ждала. Гус поднялся со стула и сказал: — Пойду исправлять ошибку; она произошла по моей вине. — По твоей?.. — спросила изумленная Йоганка и решительно добавила: — Я горжусь Мартином! Он прав. Что бы с ним ни случилось… Да, вот она, сила, и имя ей — человек. С такими людьми можно построить новый мир. Люди слушали его проповеди. Кто же другой может помочь, посоветовать им, если не проповедник? Эта девушка обрадовала магистра — помогла и укрепила его силы одной-единственной фразой! Гус взглянул на Йоганку и увидел в ней тех, кто не только слушал проповеди, но и готов был поддержать его самого в минуту сомнений. — Магистр — искренне сказала Йоганка, — ты учил нас отличать добро от зла, защищать благо, бороться за правду. Мы навсегда останемся у тебя в долгу. Искренняя признательность, прозвучавшая в словах юной Йоганки, взволновала магистра. Но он ничего не сказал девушке, только ласково коснулся ее плеча и направился к дверям. Мартина, Яна и Сташека бросили в подвал ратуши. Через толстые стены к ним не проникали ни свет, ни звук. Заключенные подмастерья сидели и лежали в кромешной тьме, потеряв всякое представление о времени… Сташеку стало казаться, что их посадили сюда давным-давно Парень, широко раскрыв глаза, глядел в непроницаемую тьму. Мрак душил его, подбирался к самому сердцу, — оно билось всё чаще и чаще. Сташек не слышал дыхания друзей. От этого его сердце билось еще быстрей. Только когда кто-нибудь из его товарищей шаркал по каменному полу или шевелился, Сташек немного успокаивался и дышал свободнее. Нет, это не трусость. Его угнетали неестественная слепота и вынужденная неподвижность. Там, на воле, — свет, голоса, краски, улицы, люди. Всем своим существом он рвался туда! Сташек вспомнил родной дом — деревянную халупу на каменном фундаменте, вкопанном в край лесистого холма, и седые сосны, шумевшие на ветру. Ему слышался тоненький голосок братишки и чудилась мать, выходившая из ворот. Нет, нет, он не должен ни думать, ни вспоминать об этом! — Мартин! — шепнул Сташек. — Что?.. — отозвался в темноте человек, лежавший справа от Сташека. Мучительный стыд внезапно охватил его: нет, он, Сташек, не признается своим товарищам, что немного струхнул. Ведь его минутное малодушие уже позади, и ослаблять их волю незачем. — Ты хотел что-то сказать? — снова спокойно спросил Мартин. — Я немного струхнул! — признался Сташек и почувствовал, что избавился от страха. — Не беда… — успокаивал его Мартин. — Не обращай на это внимания. Такое бывает с каждым. Но ты помни, что тот, кто не испугался один раз, не испугается и во второй… — Хотя нам не миновать петли, но, окажись мы сейчас на свободе, я сделал бы то же самое, — вставил Ян и добавил, смеясь: — Угораздило же нас попасть в этот капкан! Рассудительные слова Мартина и шутливое настроение Яна приободрили Сташека. — Попы и господа советники небось не ожидали от нас ничего подобного, — гордо сказал Ян. — Весь город поднялся на ноги. — Помнишь? — отвечал Мартин — «Если господа откажутся устранить дурные порядки, народ должен сам сделать это». Так говорил Гус. Тут они мысленно представили себя в Вифлеемской часовне. За кафедрой — Гус. Слова магистра зовут, манят и указывают путь. В этот момент вверху скрипнули двери. По лестнице кто-то спускался. Издалека донесся глухой гул. Он то усиливался, то ослабевал, как будто там, наверху, о стены ратуши ударяли волны. Когда к дверям подошел человек и открыл их, было нетрудно понять: сотни людей собрались у ратуши и кричат. Узники, увидев тюремщика с лучиной, быстро встали. Тюремщик принес им кувшин с водой и по ломтю хлеба. Подмастерья наблюдали за стражником. Тот вставил лучину в щель каменной стены и повернулся к дверям. Удивленный тем, что узники ни о чем не спросили его, тюремщик задержался на пороге и небрежно буркнул через плечо: — Гус пришел в ратушу. Двери снова захлопнулись. Он пришел… Сейчас магистр где-то над ними. Они невольно взглянули на потолок. Ян улыбнулся, Мартин слегка кивнул головой, словно поддакивая самому себе, а юный Сташек остался невозмутим, как ангел. Казалось, тьма, холод и тоска рассеялись, — так велика была их уверенность в правоте и искренна признательность тому, кто в этот трудный час не забыл о них.* * *
Гус не велел докладывать советникам о своем приходе. Взбежав по лестнице, он без стука вошел в зал заседаний. Бургомистр и советники были на месте. Они столпились у закрытых окон. В зал доходили крики людей, собравшихся на маленькой площади перед ратушей. Когда скрипнули двери, советники, бледные от страха, резко обернулись. Они готовы были поверить, что толпа уже ворвалась в ратушу. Но на пороге появился один-единственный человек. Первым обрел дар речи бургомистр. Он кинулся навстречу Гусу и растерянно спросил, чтó привело его сюда. — Правда ли, что вы держите в темнице трех юношей, взятых в костеле святых Филиппа и Якуба? — сразу заговорил Гус о деле, не теряя времени на церемонии, принятые в таких случаях. — К сожалению, да, — ответил бургомистр, огорченно разведя руками. — Они совершили серьезный проступок в божьем храме. — Что ожидает их? — строго спросил магистр. Бургомистр собрался было так же строго ответить на вопрос, но, услыхав новый гул толпы перед ратушей, опешил. Гус продолжал стоять у порога. Свободное пространство между непрошеным гостем и советниками бургомистру казалось бóльшим, чем расстояние между Гусом и толпой, — она как будто вошла сюда вместе с магистром. Бургомистр понял: ответ Гусу будет ответом толпе, которая стояла перед ратушей, крича и угрожая. Никто из советников не пришел бургомистру на помощь. Они охотно предоставили ему право первого слова. Все они были согласны с бургомистром, но никто не осмелился хоть как-нибудь поддержать его. — Глубокоуважаемый магистр! — заговорил бургомистр, стараясь казаться как можно более любезным. — Мы были вынуждены арестовать этих подмастерьев. Поддержание порядка в городе, особенно теперь, — высочайшая воля нашего короля. Трое арестованных юношей — безумцы… Несомненно, их вина смягчается тем, что они попались на удочку одного безрассудного подстрекателя… — Твои слова похожи на правду, — прервал Гус лицемерную болтовню бургомистра. — Я подстрекал этих юношей. Я проповедовал против индульгенций. Я рассказал людям, как торгуют ими, нарушая христианские заветы. Стало быть, если вы хотите наказать виновника — накажите меня. Я требую освободить подмастерьев из темницы. Если вам угодно, я охотно отбуду наказание вместо них. Штумпфнагель бросил беглый взгляд на Ганфштенгеля, — они мигом поняли друг друга. Эх, если бы можно было поймать Гуса на слове! Вместо трех пескаришек попалась бы щука! Щука, которая сама хочет забраться в сети. Черт побери, близок локоть, да не укусишь! Это хорошо понял и с досадой признал сам бургомистр. К сожалению положение еще более осложнилось. Скажи одно неосторожное словцо, и вспыхнет настоящий пожар. Бургомистр отрицательно махнул рукой и, тяжело вздохнув, сказал кисло-сладким голосом: — Что ты говоришь, магистр! Я понимаю: твое благородное сердце полно тревоги за этих трех молодых парней. Что ж, и мы думаем о людях, о тех, кто… — и он указал на окна. — Поверь мне: нам не доставляет никакого удовольствия управлять городом и поддерживать порядок в нем. Но коли ты пришел в ратушу, то помоги нам. Окажи услугу за услугу. Я и господа советники, присутствующие здесь, клянемся своими именами и даем честное слово, что заключенные не окажутся жертвами произвола. — Заметив, что брови Гyca удивленно поднялись, бургомистр поспешно добавил: — Их никто не обидит! А ты окажи нам любезность — сообщи об этом людям, которые стоят перед ратушей. — Было бы проще немедленно отпустить узников на волю, — отклонил Гус просьбу бургомистра. — Я сам хотел бы отпустить их, — ответил бургомистр, — но стóит ли это делать! Освобождение подмастерьев не успокоит тех, кто собрался перед ратушей. Надо полагать, арестованные озлоблены мерами, которые были применены против них. Если выпустить этих подмастерьев, они могут сболтнуть лишнее. А сейчас достаточно одного слова, чтобы вспыхнул пожар. Нет, магистр, нам следует действовать осторожнее. Надеюсь, люди успокоятся и разойдутся, если ты сообщишь им о нашем обещании. — Я прошу вас выразить свою просьбу пояснее. — Как я уже сказал, — бургомистр из последних сил старался сохранить спокойствие, — мы обещаем не обижать этих юношей. — Этого мало. Вы должны выпустить их. — Но мы не правомочны решить это! — Они — узники короля! — Неизвестно, что скажет суд! — начали поддакивать советники. — Хорошо, я пойду и расскажу это на площади, — коротко ответил Гус и повернулся к выходу. — Магистр! Магистр! — бургомистр бросился вперед и схватил Гуса за рукав. — Не будем спорить о словах! Как только успокоится город… — Вы слишком уклончивы, — сухо прервал его Гус. Бургомистр вытер пот с лица: — Ладно… Как только люди успокоятся и разойдутся, я клянусь своею честью и именем совета городской ратуши освободить подмастерьев. Вот тебе моя рука. Гус кивнул, но не взял протянутой руки: — Мне достаточно того, что вы пообещали от своего имени. Некоторое время бургомистр продолжал нерешительно держать руку в воздухе, а потом опомнился и провел ею по волосам. Веки его глаз опустились, почти целиком скрыв взгляд. Бургомистр указал Гусу на окно: — Итак, магистр, пожалуйста! Едва Гус открыл окно, как площадь утихла. Гус передал обещание бургомистра слово в слово. Тысячи людей начали выкрикивать имя Гуса и восторженно благодарить его. Гус отошел от окна, слегка кивнул бургомистру и советникам и покинул зал. Господа советники бросились к окнам и уже без боязни открыли их настежь. Толпа, стоявшая перед ратушей, потеснилась и образовала широкий проход для Гуса. — Люди расступились перед ним, как Красное море перед иудеями, — ухмыльнулся Ганфштенгель. Гус шел среди людей. Сняв шляпы, они приветствовали его. Толпа, освобождая дорогу, смыкалась сразу за спиной магистра. Люди отвернулись от ратуши и — чудо! — хлынули с площади. — Уф! — сказал Штумпфнагель, вытирая лоб. — Как приятно посмотреть на чистую мостовую. — Да, они скоро привыкли бы помыкать нами! — А этот… Пора бы уж заняться Гусом. Опасность миновала, и у советников развязались языки. Но бургомистр повелительным жестом указал им на стол совета: — Пора действовать без проволóчек. Я предлагаю…* * *
Подмастерья спали. После тревожного ожидания наступило утомление, а за ним — сон. Они спали сном праведников и не просыпались ни от скрипа дверей, ни от света факела стражника, который будил их. Стражник был на редкость внимательный, — он не толкал ребят ногами, а тряс их за плечи, и парни щурились от резкого света… Они нисколько не удивились, когда тюремщик велел им встать и идти наверх. При свете факела ребята увидели черный проем дверей. Тьма всё больше редела, когда они поднимались по каменной лестнице, — по-видимому, на улице было светло, солнечно. Юноши даже не заговорили с угрюмым тюремщиком. Зачем? Он ведет их на волю. Иначе не может быть… Недаром магистр приходил в ратушу. Когда парни, ослепленные внезапным потоком солнечного света, очутились в воротах ратуши, там стоял целый отряд городских стражников. Парней повели по площади на ближайшую улочку. В солнечных лучах ярко сверкали белые дома и пестрая одежда прохожих. Да, подмастерья вернулись в мир живых! Но почему трех человек сопровождает столько алебардщиков? Похоже, что эти алебардщики ведут их к ближайшим воротам «На мостике». Только любопытные люди, всё время подходившие на площадь, вызвали недоумение у подмастерьев. Эти люди останавливались и присоединялись к процессии, которая тянулась за отрядом конвоиров. Люди выпытывали стражников, куда ведут подмастерьев. В толпе поднимался недовольный ропот. Обступив подмастерьев плотной стеной, алебардщики начали ускорять шаг. Сташек тревожно посмотрел на Яна, но тот только пожал плечами. Побледневший Мартин шел рядом, высоко подняв голову и пристально глядя вперед. Процессия дошла до угла ближайшей улицы. Толпа прибывала. Лица людей становились суровыми, голоса сливались в гул. Нет-нет да раздавались отдельные выкрики: — Куда вы ведете подмастерьев? — Глядите-ка, они ведут их к новоместскому кату!.. — Отпустите!.. Что они вам сделали?.. — Эти ребята невинны!.. Сташек не мог понять, — нет, это невозможно!.. Почему?.. Что кричат люди? Ведь… Мартин и Ян глядели друг на друга. Ян еле заметно кивнул ему. Процессия остановилась, — она не могла войти в узкую улочку, толпа плотно забила вход в нее. Начальник отряда что-то крикнул передним, но из-за угла его слов не было слышно. Он обнажил меч и стал выкрикивать команды. Стражники повернули острые алебарды против толпы, образовали двойное кольцо вокруг узников и шаг за шагом начали теснить толпу, пока не появилось на мостовой небольшое свободное пространство. События разворачивались с молниеносной быстротой. Отбросив алебарды, к каждому узнику подошло по два стражника. Оки крепко связали узникам руки за спиной. Двое схватили Сташека, сбили с ног, а третий стражник, подбежавший с другой стороны, взял юношу за волосы и резким движением потянул их. Меч сверкнул в воздухе — голова Сташека свалилась на мостовую, а стражник, державший юношу за волосы, едва не упал на землю. В то время, как обезглавленное тело повалилось на булыжник, в лужу крови, другие стражники швырнули Яна к ногам палача, сжимавшего окровавленный меч. Всё произошло так быстро, что Ян едва успел крикнуть: — Вы… вы… собаки… убийцы! Теперь настала очередь Мартина. Смерть на его глазах молниеносно скосила друзей. Не смерть — палач! Жестокие, коварные и трусливые убийцы! Думы вихрем пронеслись в его голове, — перед ним неожиданно раскрылся истинный смысл его жизни. Перед мысленным взором юноши возникали лица товарищей, в ушах звучали знакомые голоса. Мартин вспомнил своих друзей по работе и нужде, звон резцов в мастерской камнереза и химеру, которую он устанавливал на карнизе Тынского храма. Но явственнее этих образов, лиц товарищей и воспоминаний был один голос, и этот голос говорил: «Не страшитесь тех, кто убивает тело, — они не могут убить душу». Голос звучал громче, отчетливее. Тысячи людей обращались к Мартину. Этим голосом говорили уста прекрасной Йоганки и уста плотника Йиры. Голос звенел всё громче и громче: «Во имя одной святой правды с радостью примите презрение, темницу и смерть. Не ради позора вашего, а ради позора и страха ваших врагов настанет страшный суд и будут судить их живые и мертвые. Вам уготована вечная жизнь. Правда победит!» Мартин не замечал гнетущей тишины, от которой цепенели люди, стоявшие на площади, — его окружал иной мир, мир голосов, ликования и радости. Он выпрямился, и его лицо озарилось веселой улыбкой. Палачи, заметив эту улыбку, даже опустили руки. Она вызвала у них смятение и ужас. Несколько латников набросились на парня. Они закололи его раньше, чем палач успел отрубить голову. Всё произошло так быстро, что никто не успел опомниться. Только некоторое время спустя люди подняли над головами кулаки и закричали. Волнение усилилось, когда стражники стали протискиваться вперед. Камни полетели в них один за другим и начали ударяться о шлемы, латы и древки алебард. Стражники собрались вместе и попятились к ратуше. Задние ряды двигались боком, выставив алебарды против толпы. Это отступление походило на бегство. Тела трех друзей остались лежать на небольшой круглой площади, две головы валялись в кровавой луже. Прохожие не могли оторвать глаз от ужасного зрелища. Казалось, время остановилось, чтобы запечатлеть это мгновение в глубине души каждого человека. Оцепенение прошло лишь тогда, когда зарыдали женщины. Их слёзы вызвали глубокую скорбь. Люди начали расступаться, освобождая дорогу Йоганке. Высокая и прямая, она шла к телам, лежавшим на мостовой. Движения девушки утратили гибкость, — горе сковывало ее члены, мешая ступать легко и свободно. Смертельно бледная, Йоганка остановилась перед обезглавленными телами, широко раскрыв глаза. Подобно Йоганке, люди не могли оторвать глаз от жертв кровавой расправы. Юноши пробудили любовь людей. Кровь невинных оросила почву, на ней взойдут семена вечного гнева. Йоганка пристально смотрела на спокойное и светлое лицо Мартина. Казалось, ее любимый только что заснул. Любовь смотрела на смерть и не видела в ней ничего, кроме любви, — только любовь, любовь без смерти, без предела и без забвения. Такая любовь неразрывно связана с жизнью, двуедина — если погибает один из любящих, она продолжает жить в другом, сохраняя всё и ничего не утрачивая. Пусть никого не пугают слёзы Йоганки, — ведь любовь и жизнь победили смерть!.. Возле Йоганки, опустившейся на колени и прижавшейся лицом к голове возлюбленного, собрались женщины. Они сняли со своих голов платки и прикрыли ими тела юношей. Мужчины обнажили головы. Края савана из белых платков обагрились кровью.* * *
К Вифлеемской часовне двигалась многолюдная процессия. Впереди шагал магистр Иероним с Якоубеком из Стршибра и Яном Жижкой по бокам. За ними шла большая группа студентов-певчих. Поденщики и подмастерья несли тела трех юношей, покрытые саванами. За носилками тянулась бесконечная толпа мужчин и женщин, — среди них были подмастерья, ремесленники, батраки, мещане, студенты и женщины с детьми. Процессия медленно двигалась мимо опустевших домов, люди мерно шагали по мостовой, бесконечный поток людей неудержимо стремился вперед. На улицах не было ни одного королевского стражника. Иероним запел сильным и чистым голосом: — Isti sunt sancti…[458] Громкое пение магистра, подобно грозному и торжественному звону колокола, неслось над толпой. Магистра поддержал хор студентов, — песня полетела дальше, пока ее не подхватила вся толпа. Ее пение звучало как гимн. В это время Гус находился в часовне. Проповедник Вифлеема стоял перед алтарем и ожидал тех, кто остался преданным магистру до последнего дыхания. Взглянув на портал, он увидел людей. Иероним со своими друзьями и студентами-певчими расступились шпалерами и предоставили право подмастерьям-мученикам первыми войти под крышу Вифлеема. Йира и его товарищи прошли с носилками вперед. Словно опасаясь разбудить мучеников, они осторожно сняли носилки с плеч и положили их на свободное место перед алтарем. Трое носилок с белыми саванами… Широкий, могучий поток залил сейчас всю часовню и площадь, принес жертвы к ногам Гуса; так река колышет на своих волнах белые розы, чтобы потом прибить их к берегу. Гус глядел на скромные катафалки, — под полотняными саванами вырисовывались очертания молодых тел, еще недавно полных сил и радости. — Дети мои… — с болью и скорбью шептал Гус. — Вы не пожалели живота своего, борясь за правду Христову и возлюбив бога; милостью своей он дарует вам вечную жизнь. Я говорил вам и о добре и о зле. Вы воплотили мои слова в подвиг. Этот подвиг оказался для вас гибельным. Голос Гуса постепенно креп и наконец зазвучал в полную силу: — Эти юноши первыми пали за божью правду. Они — наши первые мученики! А мы стоим сегодня перед ними, как перед своими судьями. Они спрашивают нас: «Неужели мы погибли напрасно?» Что мы ответим им? В глазах Гуса исчезла скорбь, он воодушевился: — Мы в ответе за телесную смерть вашу и за наследство ваше. Вы завещали нам свою веру, свою любовь к правде, свою борьбу. Мы принимаем ваше наследство — оно укрепит наши силы. С этими силами мы будем стоять за правду божию без страха, не щадя сил. Во времена великого упадка божья правда редкостна, как алмаз. Тот, кто служит ей, подобен человеку, несущему золотой сосуд через лес, кишащий разбойниками. Каждый, кто будет исполнять заповеди божьи, обречен на лишения, мучения и гонения. Ибо сталь в огне закаляется, а дерево сгорает. То же пишется и в Евангелии: «И будут предавать вас родители, братья, друзья, а некоторые из них даже убивать вас. И возненавидят вас за имя мое». Ибо настанет время, о котором господь сказал: «Не мир, но меч я несу вам!» Голос Гуса гремел под сводами часовни подобно раскатам грома. Вырвавшись на площадь, он потрясал небо и землю. (обратно)Король
Посередине рыцарской комнаты замка Жебрак, в кресле-носилках лежал больной король Вацлав. Казалось, что кресло безжалостно сжимало короля своими незримыми тисками: он побледнел, осунулся, тяжело дышал и то и дело хватался рукой за сердце. Ночью Вацлава мучили кошмары, а днем одолевала страшная духота: он то покрывался холодным пóтом, то сгорал от жары. Король провел в таких муках немало ночей, — каждая из них походила на предыдущую тем, что могла оказаться последней. Временами Вацлав даже чувствовал, как смерть приближалась к нему, — отогнать ее он не мог. Только на рассвете, когда ночная мгла рассеивалась, король обретал душевный покой. Тогда ему казалось, что он здоров и полон сил, как никогда прежде, — так он чувствовал себя неделю, месяц и более. Но недуги рано или поздно давали о себе знать, и король уже не верил в свое выздоровление. По мере того, как убывали силы короля, угасал и его дух. Еле придя в себя после очередного изнурительного приступа, Вацлав возвращался к печальным делам, от которых его могла избавить только смерть. Тяжелые недуги не только подорвали силы короля, но и безжалостно обнажили прежние неудачи. Жизнь посмеялась над смелыми планами Вацлава, рассеяла его сладкие мечты. Собственно, он уже не император, — надменные курфюрсты, князья и города сбросили его с императорского трона, как норовистый конь мальчишку. Корона императора еще находится у Вацлава, но хозяйничает в империи его братец Сигизмунд, который играет с ним как кошка с мышью. Когда Сигизмунд захотел убрать Вацлава со своей дороги, он похитил его и упрятал под замок. Сигизмунд освободил Вацлава за большой выкуп. У Вацлава не осталось ничего, кроме титулов. Вацлава называют повелителем чешских земель, а его рукой водят то благочестивые прелаты, диктующие ему волю Рима, то благородные и вельможные паны, чьи богатства далеко превосходят убогие доходы короля, то богатые купцы и ростовщики — постоянные королевские кредиторы. Все они держат короля на золотой цепочке и не позволяют опереться на тех, кто никогда не изменял ему, — на рыцарей и земанов.[459] Друзей у него остается всё меньше и меньше, — противники Вацлава убивают их. Когда же он совершил промах? Где начало бесконечной вереницы неудач и огорчений? Кто виноват во всем этом, — неужели только он, Вацлав? «И да, и нет, — покачивая головой, думал король. — И да, и нет». А ведь у него было много добрых намерений! Он горячо любил свою страну. Может быть, он недостаточно любил людей? Нет, причина была не в этом. Он сравнивал свои дела с деяниями отца и думал, как поступил бы тот на его месте. Владений у отца — императора Карла — было меньше, а отец был моложе, когда надел чешскую корону. В то время Чехию разрывали на части хищные руки кровожадных панов, — богатыри в латах набросились на слабого, юного принца. Города и шляхта уже тогда грызлись между собой, надменно вели себя курфюрсты. А церковь?.. Разве реформаторы не портили кровь императору? То ли Милич из Кромержижа, то ли Матей из Янова, — Вацлав уже не помнит, кто именно, — обрушился на отца-императора и в одной из своих проповедей назвал антихристом. Держа ухо востро, Карл всё время переписывался с милой ему Францией и очень сдержанно отвечал обвинителям Римской империи, бредовые планы которых исходили из Италии. Нет, это было нелегкое дело! В последний год жизни Карла раскололась церковь… Тогда старый, больной Карл отправился во Францию и взял с собой его, Вацлава. Франция… В голове Вацлава мелькнуло другое имя: Дениза!.. Нет, нет… Ему незачем вспоминать о ней. Да, всё более и более мерк ореол мировой империи, — она не могла удержать пробуждающиеся народы в своих границах. А церковь, папа? Наместник Христа, как и император, постепенно терял власть над всем христианством. Да, положение Вацлава мало чем отличалось от положения отца. Окажись Вацлав самым здоровым и сильным, он всё равно бы не удержал империю в своих руках. И король сдался. Из повелителя он превратился в кума Вацлава. Он сменил королевскую мантию на простую рубаху и отправился к беднякам. Но среди них он еще сильнее почувствовал свое одиночество. Король помогал беднякам, а те — ему. Люди понимали его. Почему бедняку не понять бедняка? Бедняки и нищие не лишены проницательности. Они догадывались, что перед ними — заблудший человек. Бедняки были рады отдать ему всё, но ничего не брали взамен. Они поняли, что от него нечего ждать. Бедный кум Вацлав! Он уже не может видеть новое в жизни! Стало быть, он — бедный кум Вацлав — сын своего века, сын оглохшего и ослепшего мира. По вечерам Вацлав приглашал к себе верных друзей. Гости радовали короля своим присутствием и вызывали у него зависть, — ведь они были сильнее, чем он. Сегодня к нему пришли королева София, Индржих Лефль из Лажан (Вацлав заметил, с каким снисхождением поглядел на него мудрый дипломат!), Вацлав из Дубе и Ян из Хлума. Кроме них, тут был и человек, готовивший королю лекарство (этот, как немой, всегда молчал), и шут Мизерере. Шут-урод королю был роднее брата. Вацлав решил отравить его перед своей смертью. Отменный знаток мирской суеты, старый Мизерере оказался единственным человеком, который понимал короля. Вацлав кивнул шуту, и тот уселся на полу. Не сводя глаз со своего повелителя, шут угадывал каждое его желание, кивал ему, и на дурацком колпаке слегка звякали бубенчики. Уже смеркалось. Лица и платья казались синевато-серыми. В тишине слышалось неровное дыхание короля. Возле Вацлава, у столика с лекарствами, сидела, склонив голову, София, а подальше, у стены, застыли трое шляхтичей. — Откройте окна! На голос короля из-за его кресла поднялась фигура в черной докторской мантии. Это — medicus curiae, придворный врач Адальберт. Через открытые окна в комнату хлынул свежий, влажный воздух. Сумерки слегка поредели. Чахлый свет уже не задерживали цветные стёкла окон. Казалось, свежий воздух и свет приободрили людей, — в комнате снова зазвучали человеческие голоса. — Ваше величество! — сказал пан Лефль из Лажан. — Магистр Иероним всё еще ждет аудиенции. Вацлав прикрыл веки. Ему нужен покой, а он никак не может избавиться от гостей. Как они не понимают, что лучшее благо для человека — покой и одиночество! — Я никого не хочу принимать, — вздохнул король. — Не хочу. Я уже сыт по горло. — Ты обещал принять магистра, — сказала, не выдержав, София. — Кроме того, Иероним уезжает. Он очень просил, чтобы ты выслушал его. — Да, Иероним очень просил!.. — проворчал раздраженный король. — Еще бы! Стóит только кому-нибудь коснуться мантии Гуса, как ты уже готова заступаться за него. Не обращая внимания на сердитый тон короля, королева продолжала: — Магистр — серьезный и уважаемый человек. Он не станет беспокоить тебя по пустякам. Прежде ты охотно выслушивал советы мудрых людей. — А теперь мне приходится выслушивать советы своей супруги! — усмехнулся король. — Довольно! Мне не нужны ваши проповеди! Я могу послушать их в Вифлееме. — Что же ответить Иерониму? — спокойно спросила София. Вацлав вздохнул: — Пусть войдет!.. Мизерере кивнул пажу, стоявшему у двери. Тот вышел и через минуту вернулся. Вслед за ним в комнату вошел статный человек с открытым мужественным лицом. Одетый в свободную темную мантию, он походил на живую статую. Иероним опустился на колени посреди комнаты и склонил голову, приветствуя короля и королеву. — Ты, говорят, уезжаешь?.. — спросил король, не проявляя никакого интереса к его поездке. — Встань, магистр! — сказала коленопреклоненному София. — Видишь, я забыл… — ухмыльнулся король. — К счастью, у меня есть королева… Она может подумать за меня… — Ваше величество! — сказал Иероним. — Я уезжаю в Польшу, Литву и на Русь. Великий князь Витольд обратился к университетам с просьбой выслать своих представителей для ознакомления с успехами распространения христианства на Востоке. — Что ж, дай бог тебе… — пробормотал король Вацлав. — Ты не утратил интереса к этому миру. А я уже… Ну, что у тебя еще на сердце?.. — Я уезжаю, но половину своего сердца оставляю здесь. Моя душа, милостивый король, полна тревоги! Над головой магистра Яна снова сгущаются тучи. Я пришел просить вас, ваше величество, не отказать ему в покровительстве. Подобно своему светлой памяти отцу, который брал под защиту великих реформаторов нравов и церкви Вальдгаузера и Милича, не откажите в покровительстве Гусу! В королевских покоях было произнесено вслух имя человека, тесно связанного с борьбой самого Вацлава. Сравнивая себя с вифлеемским проповедником, король ясно видел собственные пороки. Даже в юные годы, когда король еще верил в свои помыслы и стремления, он оказался неспособным постоять за них с таким упорством, как Гус. Вацлав то тянулся к магистру, то сторонился его. София нередко возмущала короля, когда с воодушевлением рассказывала о проповедях Гуса. Да, у короля были основания ненавидеть Гуса даже за его излишнюю преданность. Какой прок в ней для ослабевшего и нищего духом Вацлава? Да будет проклят этот Гус! — В союзе с магистром — не злая ли ирония судьбы — против всего мира! — засмеялся или скорее заплакал больной Вацлав. Да, королевство, в котором церковь служит государству и народу под крепким жезлом Вацлава… когда-то было вполне достижимо. А теперь — мечта!.. Не мечта, а безумие! Уже поздно, поздно. А сам Гус — рассадник зла. Он только огорчает королевское сердце. — Целыми днями я только и слышу: Гус, Гус! — гневно прервал Иеронима возмущенный король. — До меня дошли другие слухи… о коих ты почему-то молчишь. Тебя беспокоит буря, которая может разразиться над головой магистра, а меня — буря, которую хочет вызвать сам Гус. Вацлав протянул руку. София быстро взяла со столика и подала ему пузырек с ароматической эссенцией. Жадно вдыхая ее, Вацлав продолжал: — Я знаю: Гус — сама буря, сама борьба. За это я и любил его. Да, я любил его, пока у меня были силы, пока их не высосали враги… из тела и души. Теперь мне нужен покой. Покой, тишина!.. Понимаешь?.. — Когда буря застигает корабль в море, кормчий должен бороться с нею, как бы ни бушевали волны. Плох тот кормчий, который опускает руки и осуждает матросов, если они берутся за рулевое колесо и за канаты, чтобы отвести корабль в спокойную гавань. Хороший кормчий даже похвалит матросов, — спокойно и уверенно произнес Иероним. Вацлав, побагровев, наклонился к дерзкому собеседнику. Словно торопясь предупредить королевский гнев, Мизерере коснулся мантии Иеронима шутовским жезлом. — Кум Вацлав, ну не дерзок ли он, а? — и, ухмыльнувшись, спросил: — Догадываешься, почему? С него ничего не взыщешь. Магистр, бедняга, всё еще верит, что мир можно изменить. Как смешон он!.. Король невесело улыбнулся и снова откинулся на подушку: — Иероним, ты — достойный ученик своего учителя. У тебя есть Гусова прямота и Гусова смелость. Скажи, чем ты недоволен? Неужели я делаю мало для твоего Гуса, когда смотрю сквозь пальцы и молчу? — Теперь уже мало молчать, ваше величество! — сказал Иероним, глядя на Вацлава. — Враги Гуса не молчат. Они уже перешли от слов к делу: нападают на слушателей магистра, заточают в тюрьму. Но и этого им мало. Староместские советники решили… Иероним не успел закончить мысли, как в комнату внезапно ворвался камергер. Не обращая внимания на Иеронима, он взволнованно доложил: — Ваше величество, сюда прибыли послы Праги, представители города и университета. Они убедительно просят принять их. В Праге произошли кровавые события… Пузырек с лекарством выскользнул из руки Вацлава и, упав на каменный пол, разбился. Король оперся о кресло, силясь приподняться: — Что?.. Что ты сказал? Кровавые события?.. Тут в приоткрытые двери вошли староместский бургомистр, советник Штумпфнагель и профессор университета, доктор теологии Бор. Едва опустившись на колени, они встали, не дожидаясь королевского знака, а бургомистр, не спросив разрешения, начал взволнованно докладывать: — Ваше величество! С тревогой и печалью мы пришли к тебе и ходатайствуем о защите нашего многострадального города. Чернь захватила власть в свои руки. Она хозяйничает на улице, врывается в храмы и угрожает королевской и городской страже. В Праге настал судный день, и ее мостовые уже обагрились кровью! — Это… это — неправда!.. Мой город… — Король пошатнулся и, задыхаясь от ужаса и гнева, схватился за кресло. Он никак не мог поверить бургомистру. Неужели это правда? Может быть, он ослышался, бредил или грезил? Боже… Значит, рушится то последнее, что ему хотелось сохранить? Да, это — только маска, только видимость мира и покоя. Эта маска нравилась ему. Она скрывала от него ту бурю, которая надвигалась на него и была готова смести и короля и его королевство с лица земли. Ему хотелось закрыть глаза и уши, не обращать никакого внимания на то, что происходило вокруг. Сообщение бургомистра сразу лишило его покоя, — лихая молва раструбит на весь мир, какие страшные дела творятся в Чешском королевстве. На Чехию могут обрушиться все темные силы и сорвать корону с головы ее государя. — Я же запретил вам… Почему стреляли?.. Я не хотел кровопролития… Лекарь и Софияподбежали к королю и помогли ему сесть в кресло. Пан Лефль из Лажан набросился на посольство: — Вы обнаглели!.. Разве можно сообщать больному королю такие известия? Но Вацлав, махнув рукой, остановил его. — Как это произошло?.. — еле шевеля губами, спросил король. — В точности следуя приказу вашего величества, — торопливо заговорил бургомистр, — мы поддерживали порядок в городе и сохраняли его вплоть до тех пор, пока не начались первые волнения… — …вызванные проповедями Гуса в Вифлееме… — ловко вставил доктор Бор. — Мы арестовали трех опасных смутьянов: они подстрекали горожан к бунту против продажи индульгенций. Когда мы выводили этих бунтовщиков из староместской тюрьмы… — Куда?.. — смело спросил его Иероним. — Куда?.. — не сразу нашелся бургомистр. — Я не помню сейчас приказа. Так вот, когда стражники вывели бунтовщиков, то чернь пыталась освободить их. Латники оказались в опасности и были вынуждены обнажить оружие. Три трупа остались на мостовой. — Три стражника? — с самым невинным видом спросил Мизерере. — Нет, не стражники… — ответил бургомистр, с досадой взглянув на шута, и торопливо продолжал: — Чернь хотела силой вырвать узников из рук охраны, а стражники, разумеется, не могли допустить, чтобы виновные избежали наказания! — Значит, стражники предпочли казнить их!.. — резко оборвал его Иероним. — Довольно! Молчите! — гневно сказал король. — Что с вами? Неужели вы сошли с ума? Разве я разрешил кому-нибудь говорить?.. Все, как один, замолкли. Бургомистр почувствовал облегчение: теперь ему уже не угрожала опасность со стороны Иеронима. Магистр с трудом сдерживал негодование. Но в этот миг король заметался на подушках, ловя раскрытым ртом воздух и хватаясь за сердце. Придя в себя, Вацлав сказал: — Вот вам то, чего я боялся!.. Кровь и смута в моем королевстве! Королевство окровавлено, опозорено ересью и обесславлено перед всем миром! — Ваше величество, — заговорил доктор Бор, когда у короля прошел приступ удушья, — славный Карлов университет осквернен еретической заразой, насаждаемой в его стенах магистром нашего храма науки. От нас, как от зачумленных, отворачиваются иноземные университеты, духовные и светские властители. Штумпфнагель бесцеремонно подлил масла в огонь: — Важнее всего зарубежная торговля! А на ней теперь придется поставить крест. Иноземные купцы не желают ни продавать нам товар, ни закупать у нас. А мы всегда были самыми надежными кредиторами нашего короля. — Как ты посмел это сказать, жалкая, продажная душонка! — вмешался пан из Хлума. — Спаси Прагу, король! — вставил для вящей весомости бургомистр, желая поддержать советника-купца высокопарным заключением. — Спаси королевство, спаси свое имя и свою честь. Заставь Гуса молчать! Иероним собрался было дать отпор наглым заговорщикам, но София, заботливо следившая за больным королем, повелительно подала знак, чтобы Иероним молчал. Король приподнялся и крикнул: — Всё это натворил Гус! Вот как поступил он со мной! Вместо того, чтобы помалкивать, он не дает мне покоя! Из-за его безумия могут пострадать и королевство и моя корона… Да, моя корона!.. Мою страну уже объявили еретической!.. Я не хочу больше знать о нем… Не хочу слышать о нем… Не хочу… Гнев исчерпал силы Вацлава, и он, как подрубленный, рухнул в кресло. Король потерял сознание. Врач и София склонились над ним. Шут Мизерере поддерживал голову господина и горько плакал. По знаку пана Лефля сбежались пажи, — они осторожно подняли и понесли кресло-носилки. Врач, волнуясь, собирал пузырьки. В то время, как пажи и шут выносили короля, София дала знак городскому посольству, чтобы оно удалилось. Послы церемонно раскланялись и попятились к дверям. Когда послы вышли, королева осталась с тремя шляхтичами и магистром Иеронимом. — Я помешала тебе, магистр, высказаться перед больным королем, — грустно сказала она. Пан Лефль положил руку на плечо Иеронима: — Здесь уже бесполезно отстаивать дело Гуса. Ты заметил — мы теперь только посматриваем на короля и помалкиваем. Поверь нам, мы поступаем так не из трусости. — Мы долго верили, что король будет стоять вместе с нами до конца, как ты, всемилостивейшая королева, — сказал Иероним. — Благодарю тебя и тех, от чьего имени ты говоришь, — ответила София. — Я не знаю, стою ли таких слов. Ты прав: мы остались без короля… — Мы словно жертвы кораблекрушения, — вздохнул пан Лефль. — Но нам не следует отчаиваться, магистр. Если Гус не найдет защиты в замке короля, мы с паном из Дубе и паном из Хлума предоставим свои замки в его распоряжение. — В королевском замке есть немало людей, преданных нам, — заметил Вацлав из Дубе. — Не следует забывать о королевском гетмане Яне Жижке. — Уж он-то, — улыбнулся Ян из Хлума, — сам позаботится о том, чтобы его не забыли. — Вполне надежен и Вокса из Вальдштейна, — добавил пан Лефль. — Как видишь, у нас есть люди. Но я полагаю, что нам не удастся против воли короля удержать Гуса в Праге. — Было бы хорошо, если бы мы удержали его в Чехии, — заметил пан из Хлума. — У нас он нашел бы надежное убежище. — Поезжай с богом! — сказал Иерониму пан Лефль из Лажан. — И не бойся доверить заботу о магистре тем, кому он дорог, как тебе. Софию радовали ее верные советники. — Благослови вас бог, друзья… — сказала она и обратилась к Иерониму: — Прощай, магистр! Мне пора к больному. У тебя впереди — дальний путь. Может быть, братья-славяне как-нибудь помогут нашей несчастной стране. Иероним опустился на колено. София подала ему руку, и он поцеловал ее. (обратно)Проклятие
У пражского архиепископа собрались в узком кругу высшие консисториальные советники и члены капитула собора святого Вита. Они горели желанием услышать сообщение доктора Бора о беседе с королем. На это необычное собрание консистория пригласила фарара Яна Противу со всем запасом изречений Гуса, подслушанных и записанных фараром в Вифлеемской капелле, и Штепана Палеча. Нервный, непоседливый доктор Бор не сумел сохранить спокойствие во время своего доклада, — в самом конце он сорвался с места и стал быстро расхаживать между прелатами, жадно ловившими каждое его слово. — Король проклял Гуса! Да, он проклял его, отказался от него! — захлебываясь от восторга и размахивая в воздухе тощими руками, кричал Бор. — В присутствии короля больше никто не осмелится произнести имени архиеретика. Теперь Гус в наших руках, он в полной зависимости от нашей милости и от нашего гнева. Еретик потерял последнюю, самую сильную опору. — Вечная слава господу богу!.. — Гус просчитался. — Он сам попался в нашу ловушку!.. Восторженные возгласы, смех и рукоплескания неслись со всех сторон. — Ну а как вели себя друзья Гуса, чешские придворные шляхтичи? — спросил один из пражских каноников. Бор самоуверенно усмехнулся: — Когда они заметили, что король зол на Гуса, то словно воды в рот набрали. Не заикнулся и… Иероним! Старый тощий прелат, обрадованный шумным ликованием своих слушателей, ехидно ухмыльнулся: — Между прочим, за верность чешских панов Гусу я не дал бы даже нищенского прихода. Понятно, они сочувствуют тем смутьянам, которые зарятся на церковное имущество. Чешские шляхтичи были бы не прочь присоединить наши дворы, земельные наделы и деревни к своим имениям. — Отныне эта опасность миновала, — живо повернувшись к канонику, сказал Бор. — Скоро мы заткнем рот Гусу… Фарар Протива осмелел и, задыхаясь, сказал: — Преподобные отцы! Я снова записал уйму Гусовых изречений. У меня — доказательства. Доктор Бор махнул рукой: — Они никому не нужны! Если вообще понадобятся какие-нибудь доказательства, то у нас есть поважнее твоих. Я привел сюда живого свидетеля. Среди нас — Штепан Палеч, бывший друг и коллега Гуса. Палеч очутился в центре внимания всех высших духовных сановников, и его самообладание сразу исчезло. Бор бесцеремонно потревожил его прошлое, и Штепану Палечу пришлось, краснея, отказаться решительно от всего, что связывало его с магистром Гусом. — Преподобные отцы! — заговорил он глухим, дрожащим голосом. — Вспомните, пожалуйста, то место в Священном писании, где говорится: когда возвращается одна заблудшая душа, радость даже больше, чем от девяноста девяти благочестивых. Признаюсь, я ошибался и только теперь, как блудный сын, возвращаюсь к вам. Клянусь богом, что мое покаяние искренне. Я вырвал Гуса из своего сердца и буду преследовать его до самой смерти. Слушатели повернулись в сторону Палеча и холодно посмотрели на него, а старый тощий прелат язвительно заметил: — Ты, сын мой, должен хорошенько потрудиться, чтобы мы поверили тебе. Палеч опустил глаза. Архиепископ молча слушал выступления своих гостей и речь Палеча. Его острые глазки, потонувшие в старческих морщинах, внимательно поглядывали на лица взбудораженных и увлеченных слушателей. Он терпеливо ожидал, когда окончится интермедия. Уже приближалось его время. Скоро и архиепископ будет наслаждаться своим триумфом. Он ждал его с нетерпением. Архиепископ встал и мелкими шажками направился в угол комнаты, к дубовому секретеру. Дрожащими руками он вынул из него папскую буллу и уже не положил ее обратно. Все притихли и уставились на архиепископа. Он возвращался к своему креслу с каким-то важным документом. Архиепископ остановился возле кресла и торжествующе поглядел на гостей: — Дорогие братья во Христе! Настало время, коего с упованием ждали наши сердца, сердца верных христиан. Скоро со всех алтарей и кафедр прозвучат грозные слова буллы папы Иоанна XXIII о гибели самого опасного врага святой церкви — Яна Гуса. Выслушав вступительное слово архиепископа, прелаты невольно поднялись со своих кресел, а он, высоко подняв голову и не дождавшись, когда они сядут, стал читать слова анафемы и интердикта. Голос старого архиепископа с каждым новым словом становился более спокойным и торжественным. Он читал громко и звучно, как будто желая донести слова буллы христианам всего мира: — «Ego, Johannes, servus servorum Dei… — Я, Иоанн, Папа римский, слуга служителей божиих, предав тягчайшему церковному проклятию священника-отступника, заблудшего еретика Яна Гуса, навсегда отлучаю его от общины Христовой. Я заранее налагаю интердикт на те города, которые предоставят ему убежище. А посему тот, кто подаст ему кусок хлеба, напоит его водой и приютит под своим кровом, будет отлучен от церкви. Да не посмеет никто сшить ему платье и обувь. Всякий, кто окажет ему малейшую услугу: укажет дорогу, подвезет на лошади или заговорит с ним — подвергнется такому же наказанию. Этой буллой вышепоименованный Ян Гус, как отлученный от церкви, лишается всех церковных таинств и милостей. Когда он умрет, никто не должен хоронить его в освященной земле. Если Гуса похоронят в таком месте, где люди не будут знать об этой булле, то гроб с телом должен быть выкопан и выброшен из могилы…»* * *
— «Во всех городах, деревнях, зáмках и отшельнических приютах, везде, где когда-либо побывал Гус, закрыть врата храмов, костелов и монастырей — на срок, равный времени его пребывания в этих местах, вести богослужение при запертых дверях и прекратить совершение всяких таинств: крещения, венчания, помазания и погребения…» Фарар Войтех стоял перед алтарем костела святых Филиппа и Якуба и громко читал папскую буллу. Он прямо-таки захлебывался от восторга. Делая паузы, фарар довольно поглядывал на слушателей, сидевших в первых рядах: богатых горожан, купцов и лавочников. В их глазах светилась такая же алчная радость. Они жадно ловили грозные слова проклятия и сжимали кулаки. У пастыря и его паствы было одно настроение: грозные слова буллы воодушевили их и заставили дышать полной грудью. Между скамьями и у выхода из костела столпились люди, одетые в серые плащи с капюшонами. Плащи скрывали фигуры мужчин и вздувались там, где были спрятаны шляпы. Своими округлыми очертаниями эти шляпы напоминали шлемы. Когда кто-нибудь из мужчин переступал с ноги на ногу, под плащом звякало железо. — «Булла вступает в силу через двадцать дней после ее оглашения; этот срок дается заблудшему как последняя милость, дабы он образумился, смирился и явился на наш суд. В противном случае на еретика обрушится, как божий гнев, наше страшное проклятие». Как только фарар закончил чтение буллы, в костеле раздались гулкие звуки оргáна. Капелланы, прислуживавшие у алтаря, схватили трехсвечники и, опустившись на колени, подали их священнику. Выдергивая свечу за свечой, патер Войтех быстро размахивал ими, а язычки пламени чертили в воздухе одну огненную линию, изображавшую большой крест. Патер ломал над головой каждую свечу и швырял на пол. Свечей становилось всё меньше и меньше. Сияние золотого алтаря постепенно меркло и скоро исчезло в синеватом сумраке. Министранты[460] погасили свечи на колоннах костела, прикрыв язычки пламени маленькими колпачками. Только рубиновый вечный огонь, похожий на зловещую каплю крови, тускло горел над алтарем. Патер Войтех наклонился к клирику, тот подал ему три камня. Патер поднял над головой первый камень. Как только оргáн замолк, священник завопил громким голосом, полным гнева и ненависти: — Anathema sit![461] И он бросил камень в сторону Вифлеемской часовни. — Пусть наше проклятие подобно этому камню обрушится на тебя, Ян Гус, где бы ты ни был. Священник со злобой кинул три камня и трижды произнес формулу проклятия. Когда он бросал третий камень, у входа заорали люди в серых плащах: — Смерть Гусу! — В огонь еретика! — Сотрем Вифлеем с лица земли! Они угрожающе замахали руками. Из-под неожиданно распахнувшихся плащей блеснули латы и шлемы. Прихожане вскочили и со страхом уставились на крикунов. Но, заметив оружие, прихожане облегченно вздохнули, — то были городские стражники. Слава богу, в костеле оказались люди, которые получали жалованье от них и от ратуши, а не какая-то чернь. Теперь прихожане охотно присоединились к хору крикунов. Накричавшись вдоволь, прихожане и латники ринулись к выходу. Разъяренные молельщики слились с толпой, стоявшей возле костела, и живой лавиной устремились к Вифлеемской часовне.* * *
Гус только закончил проповедь. Сложив руки, он начал молиться. Под сводами часовни спокойно и четко раздавались простые слова молитвы: — «…не введи нас во искушение и избави нас от лукавого. Ибо твое есть царствие и сила и слава во веки веков. Аминь!..» Прихожане тихо повторяли слова молитвы, — шепот молельщиков напоминал отдаленное журчание потока. Пока звучала молитва, никто не повернул головы к выходу, не тронулся с места. Казалось, прихожане не замечали ни топота ног, ни гула толпы. И вдруг в часовню донеслись яростные крики: — Долой Вифлеем! Смерть еретикам! Прихожане повернулись к дверям. По-хозяйски оглядев свою часовню, мужчины направились к выходу. Они столпились в портале и около него. Все прихожане, кроме Яна Жижки, были безоружны. Но и меч Жижки покоился в ножнах. И вот на площади оказались лицом к лицу прихожане Вифлеема и разъяренные бюргеры, готовые сровнять с землей ненавистную часовню. Но вифлеемцы стояли против них с такой спокойной решимостью и с такой уверенностью в своей правоте, что ряды богатых прихожан дрогнули. Их обуял страх при виде безмолвных, грозных защитников Вифлеема, которые дружно двинулись им навстречу. Охваченные животным страхом, прихожане костела повернули назад, как трусливые волки от горящих головешек. В смятении они даже не заметили, что вифлеемцы сделали несколько шагов и остановились. Двое или трое молодых вифлеемцев бросились вслед прихожанам костела, но и они, пробежав только до середины площади, повернули к часовне, весело смеясь над беглецами. Защитники Вифлеема вошли в часовню. Старики и женщины молча расступились, освобождая им проход к кафедре Гуса, возле которой смельчаки остановились, как воины перед своим воеводой. Гус ласково кивнул, молча поблагодарив их за храбрость и верность общему делу. Хотя богослужение окончилось еще до нападения стражников, никто не хотел покидать вифлеемской святыни. Не уходил и Гус, — он стоял на ступеньках алтаря, лицом к лицу со своими прихожанами. — Братья во Христе! — с трудом начал магистр. — Сегодня я покидаю Вифлеемскую кафедру и хочу проститься с вами. Это сообщение поразило прихожан как гром среди ясного неба. — Я не хотел раньше времени огорчать ни вас, ни себя и собирался проститься с вами сразу после проповеди, — продолжал Гус. — К сожалению, нам помешали. Прежде чем расстаться с вами, я хочу объяснить вам, почему я принял такое решение, и спросить у вас, правильно ли оно. Магистр еще стоял рядом со своими прихожанами, но горечь разлуки уже затуманила их глаза. Теперь ничего не поделаешь, — они потеряли его… Да, прихожане еще видели его перед собой, но его образ начал как-то расплываться и таять… Они не могли примириться с тем, что он уходит от них. — Сегодня на Прагу был наложен интердикт, — продолжал Гус. — Интердикт долго готовился, и я знал об этом. Теперь он обнародован. Я рассудил так: если я не покину Прагу, в ней закроются все костелы, перестанут читать проповеди с кафедр, а прихожан лишат возможности принимать святые таинства. Так папа и его присные хотят заставить меня явиться на суд. Но искать правду в суде, где судья — истец, обвинитель и палач в одном лице, означало бы идти на неминуемую смерть. Тогда я обратился не к папе, а к последней инстанции — Христу. Однако Христа, отца, наставника и высшего судию любого христианина, не признают за судью ни кардиналы, ни папа. Они решили покарать меня несправедливым интердиктом. Хитрые, как змеи, и жестокие, как бестии, они придумали такое наказание, которое может повредить скорее вам, чем мне. Люди слушали Гуса, затаив дыхание. — Разве моя совесть может примириться с мыслью, что вас лишат из-за меня божьего слова? Если я останусь в Праге, вы не получите той пищи, которая более всего нужна вашим алчущим душам. Тем, кто появится на свет, будет отказано в таинстве крещения, а тем, кто собирается покинуть эту юдоль, — в последнем утешении. Если я останусь здесь, онемеют проповедники — а они должны дать вам духовное подкрепление в минуты ваших огорчений, мук и страданий. Останься я здесь, мне свяжут руки и заткнут рот. Я буду походить на человека в кандалах и с кляпом во рту. А теперь взвесьте, друзья: если я покину Прагу, у вас останутся все источники духовного подкрепления и утешения. Мои, ныне уже многочисленные, друзья будут читать вам проповеди и вести вас по стезе правды, как по мягким, благовонным лугам. Если я уеду из Праги, то смогу, как прежде, выполнять свой долг перед народом, ибо власть церкви проникает только туда, куда ей позволяет светская. Сельские миряне не отвернутся от меня: у них те же горести и страдания, заботы и помыслы, что и у вас. Хорошенько взвесьте мои слова и дайте совет. Как вы решите, так я и поступлю. Он умолк. Никто не осмеливался нарушить тишину. В душе каждого сознание правоты магистра боролось с желанием оставить его в Праге. Гус ждал ответа. Прихожане молчали. Молчание друзей — для него ответ. Но ему хотелось услышать его. Он окинул взглядом тех, кто стоял ближе к нему… — Что думаешь ты, земан из Троцнова? — обратился он к Жижке. Жижка выпрямился, наморщил лоб и смело взглянул в глаза магистру. Земан не привык уклоняться. Его спрашивали — он отвечал. Правда, прежде земану никогда еще не было так тяжело отвечать на вопрос, как сегодня. Но только в трудный час познаётся мужество человека. Оружие борца — меч или слово — лишь тогда достигнет цели, когда его направят прямо, как стрелу арбалета. — Мы могли бы постоять за тебя. Сегодня твои противники струсили и разбежались. Я понимаю, почему ты даже не упомянул о них. Твои враги больше не осмелятся напасть на тебя. Они теперь знают, что таким путем не добьются успеха. Враги не победят нас, даже если мы останемся здесь одни, без тебя. Ты, конечно, знаешь, что по своей воле мы ни за что не расстались бы с тобой. Твои слова — клянусь тебе честью — были просты и ясны, как удар меча. Я не в силах отразить его. Гус внимательно слушал земана, — он заметил, с какой болью и печалью звучал голос сурового воина. Гус кивнул Жижке и повернулся к плотнику Йире. Плотник посмотрел на магистра и, не колеблясь, сказал: — Магистр, ты разговаривал с нами на близком и понятном языке. Ты говорил то, что мы чувствовали и о чем думали сами. Мы понимаем тебя и теперь. — А ты, Йоганка? — обратился Гус к девушке, стоявшей рядом с плотником. Глаза Йоганки загорелись, она расцвела от одного взгляда Гуса. Девушка сказала: — Когда забрали Мартина, я дала себе слово, что буду верить тебе до самой смерти. Его убили, но моя вера жива. Ради чего же мне сегодня сомневаться в истинности твоих слов? Гус улыбнулся. — Благодарю вас, друзья! — сказал он. — Прошу вас: твердо держитесь истины, познанной вами, никогда не уклоняйтесь от нее, любите друг друга, преодолевайте все разногласия между собой. Не позволяйте никому ничем запугать себя. Да будут у вас решительный дух и бесстрашное сердце, крепкая надежда и совершенная любовь. Мы накануне тяжелых испытаний, ибо остаются в силе слова апостола Павла: «Каждый, кто захочет верно жить во Христе, будет подвергаться гонениям». Но столь же истинны слова Спасителя: «Благословенны будете, когда возненавидят вас и отвергнут имя ваше, как неугодное Сыну человеческому». Славная победа наступает только после великой борьбы, и победа окажется на той стороне, где правда. (обратно) (обратно)В ЮЖНОЙ ЧЕХИИ
Наступление
Лучи августовского солнца падали на квадры архиепископского дворца. Его белые толстые каменные стены с узкими окнами не пропускали летнего зноя, и во дворе сохранялась приятная прохлада. На полу архиепископского кабинета послеполуденное солнце начертило контуры окон — два четко обрисованных прямоугольника. Их рисунка ничто не нарушало, — камин, мебель и пюпитр для книг стояли у стен. Сгорбив плечи, архиепископ ходил по комнате беспокойными старческими шажками. Вначале он шел по освещенной части пола, потом возвращался по теневой стороне прямоугольника. Казалось, для архиепископа было важнее всего не сбиться с дорожки, нарисованной светом и тенью. Он ходил по кабинету со склоненной головой и осторожно вымеривал каждый шаг, ни разу не взглянув на кресло, — от него падала тень сегодняшнего гостя архиепископа. В кресле сидел легат кардинал Бранкаччи. Он говорил, не обращая внимания на беспокойное хождение хозяина. Бранкаччи заметил, что после каждого его слова у архиепископа, как у испуганного филина, нервно вздрагивали плечи, а голова беспокойно вертелась и всё больше и больше втягивалась в них. — Святой отец недоволен вами, — резко и сурово сказал легат, словно хлестнув его бичом. Пальцы старого священника нервно забегали по цепи из золотых монеток. Архиепископ отлично знал, чтó последует за словами легата. Он догадывался о намерениях кардинала и… боялся. Жесткие концы цепи врезались в крепко сжатые ладони архиепископа. Да, сейчас всё поставлено на карту: и эта цепь, и архиепископство, и спокойная старость… Жаль, что он, как обычно, не уехал на лето в Роудницу. Там он заперся бы на замок, отклонив обвинения папы или свалив всё на свою болезнь. Архиепископ неожиданно почувствовал слабость во всем теле и тяжело опустился в кресло. Они сидели друг против друга. Вояка-кардинал, здоровяк с громким голосом, снова поигрывал своим проклятым кинжалом. Архиепископу казалось, что легатский кинжал — не обычное драгоценное украшение, по воле судьбы принявшее форму оружия, а, наоборот, нож убийцы, случайно принявший форму украшения. Архиепископ очнулся в тот момент, когда прозвучал голос легата: — Гус всё еще на свободе и больше года бродит по южной Чехии. Он цел и невредим. Его приютили у себя чешские паны и земаны. Об интердикте там даже собака не пролаяла. Наконец-то! Что ответить?.. Отвечать придется во что бы то ни стало, даже если этот головорез сочтет его слова за отговорку. — Мы сделали всё, что могли, — начал дрожащим голосом архиепископ. — Мы добились большего, чем предполагали год тому назад. Нам удалось выгнать его из Праги — лишить кафедры в университете и кафедры в Вифлееме! Мы удалили его от двора и разлучили с влиятельными друзьями. Теперь все покинут его. Он — одинок!.. Что еще сказать? За половину этого король Вацлав выгнал архиепископа Збынека из страны, когда тот восстал против Гуса. Король даже отобрал имущество у Збынека, а до этого он, его преемник, боже упаси, не хочет дожить!.. Неожиданно приоткрылась дверь, и в комнату робко проскользнул тощий клирик в темной рясе. Заметив важного гостя, он учтиво поклонился. Архиепископ выпрямился и оказался лицом к лицу с клириком. В глазах архиепископа вспыхнула искра надежды — не сообщит ли тот что-нибудь. Это помогло бы прервать противную и мучительную беседу. Однако для виду он набросился на клирика: — Я велел не беспокоить меня! Оторопевший молодой священник смутился, но, преодолев страх, протянул руку. — Послание… от Парижского университета… — еле слышно прошептал он. Архиепископ нахмурился. Сначала тревожился Рим, теперь — Париж… Это не сулит ничего хорошего. Низко поклонившись, клирик положил письмо на столик и удалился. — От Жерсона… — произнес Бранкаччи подчеркнуто равнодушным голосом. Архиепископ изумился. Откуда легат знает это? Старик схватил письмо, — печать не сломана! Он быстро развернул письмо и посмотрел на подпись. Да, письмо от Жерсона. Побледневший архиепископ, ничего не понимая, повернулся к Бранкаччи. Еле заметная улыбка скользнула по лицу легата. — Читай вслух!.. — довольным голосом сказал Бранкаччи. Письмо, которого он добивался в Париже, пришло вовремя. Легат спокойно облокотился на кресло, прищурился и стал слушать. Архиепископ машинально выполнил приказ; — «Я, Жан Жерсон, канцлер Парижского университета, посылаю пражскому архиепископу мои поздравления. Мы с огорчением следим за тем, что ересь Гуса до сих пор отравляет воздух вашего королевства, и хотели бы знать, сознаёте ли вы истинное значение этой страшной опасности. Гус греховно истолковывает Священное писание, подстрекая людей против божественного и человеческого строя, держащего владык у власти, а подданных — в послушании. Этот смутьян покушается на наше имущество и стремится подорвать авторитет церкви. Посему мы особенно подчеркиваем, что Гус — не просто обличитель нравов, а опаснейший еретик-смутьян. Вам следует как можно скорее закрыть ему рот, стереть Гуса с лица земли. Пусть ни одно слово этого антихриста, ни малейшее воспоминание о нем не останется на этом свете». Легат заметил: — Надеюсь, тебе известно, что к советам Жерсона с вниманием прислушивается сам святой отец. Неожиданно придвинувшись к архиепископу, Бранкаччи пристально взглянул ему в глаза и, не давал уклониться от своего взгляда, сурово отчеканил: — Святая церковь зиждется на силе и авторитете. Сила — наши имения, деньги, власть. Авторитет — слепое и безоговорочное выполнение наших приказов. Ты прочел письмо Жерсона и теперь знаешь: Гус осмелился поколебать и подорвать оба эти принципа. Более адского оружия не выдумал бы сам дьявол! А вы… вы не сумели выбить его из Гусовых рук. Неужели ты думаешь, что мы будем терпеть это? Ради сохранения порядка этого еретика следовало бы давно сжечь на костре. Легат откинулся в кресле, и золотой крест звякнул о латы. Молча насладившись страхом архиепископа, легат язвительно сказал: — Тебе повезло, что здесь я. Если бы ты пробормотал всё это святому отцу, тебе досталось бы на орехи. Не забывай о миланских банкирах. Ты думаешь, им по душе, что ересь подрывает европейскую торговлю? Да и Сигизмунд заинтересован в спокойствии Европы. Легат поднес кинжал к глазам архиепископа: — Взгляни — прекрасная османская работа. Хотя на кинжале вычеканен стих из Корана, однако кинжал отлично служит христианину. Венецианский чеканщик прикрепил к рукоятке распятие. Кинжал остался кинжалом, золото — золотом и с Кораном и с крестом. Понял? Архиепископ беспомощно посмотрел на легата: — Я понимаю. Теперь мне всё понятно. Но что делать?.. Что делать?.. Легат встал и сухо ответил: — Выполнить приказ его святейшества. Выгнать Гуса вон из страны и отправить его в Констанц, на суд собора. — А король?.. Гус изгнан в южную Чехию с его согласия… Легат еле заметно улыбнулся: — Папа научит послушанию и королей. Об этом я позабочусь сам. Он подал знак архиепископу опуститься на колени и, благословив его небрежным жестом, направился к выходу.* * *
В дворцовый зал Пражского Града, предназначенный для небольших приемов, проникали бледные лучи заката. В их свете постепенно сливались черты лиц, тускнели краски платьев, а предметы становились темными силуэтами. В зал вошли слуги, — они расставили свечи в подсвечники и на железном круге, подвешенном цепями к потолку. Десятки желтоватых огоньков дрожали на концах свечей, разгоняя сумрак. Сразу же заблестели золотой крест мужчины, развалившегося в кресле, и оружие трех шляхтичей. Пурпурное облачение легата Бранкаччи отливало густым кровавым багрянцем, и от этого лицо легата казалось более худым и суровым. Когда последний слуга вышел из комнаты, пан Индржих Лефль из Лажан — он сидел между двумя другими шляхтичами — сказал: — Я прошу тебя, отец легат, не тревожить его величество. Мы непременно передадим ему твое послание. Я — одни из доверенных членов королевского коронного совета, а пан Вацлав из Дубе и пан Ян из Хлума — любимые советники короля. Говори нам всё, как королю. — Я не вижу здесь ни одного церковного члена королевского совета, — надменно возразил легат. — Впрочем, для меня не имеет никакого значения даже весь совет; мне велено вручить послание самому королю и не возвращаться от него без ответа. Этот ответ мне может дать только король. — Я понимаю тебя, отец легат, но войди в наше положение и ты: его величество тяжело болен, и многие важные дела ныне решаются коронным советом. — Господа! Я прибыл к вам с личным поручением святейшего отца. Наместник Христа, пославший меня, не привык выслушивать своих светских подданных, когда им самим заблагорассудится говорить! Это походило на пощечину. Пан Лефль из Лажан сдержанно ответил: — Отец, тебе нетрудно подавить волю человека, но тело самого благочестивого христианина может быть приковано к ложу по воле всевышнего, а перед его лицом ведь и ты безвластен. — Тогда я требую, чтобы вы провели меня к ложу больного. Священник имеет право войти даже к умирающему, — сказал, поднимаясь, легат. Возмущенные шляхтичи вскочили со своих мест. — Неважно, — вспыхнул Ян из Хлума, — когда ты посетишь короля — сейчас или позже. Мы обещаем тебе аудиенцию завтра. Каменно-неподвижное лицо легата оживилось усмешкой: — Уже завтра? Вы, должно быть, отличный врач, если к утру можете вылечить короля. — Он слегка пожал плечами. — Впрочем, и болезнь его величества, видимо, тоже особая. Мы кое-что слышали о ней в Риме. Последние слова больно укололи шляхтичей: — На что намекаешь?.. — Как ты смеешь?.. — Не забывайся, отец легат! В зале поднялся шум. Глаза мужчин сверкали злобой. Они не заметили, как в зал вошел человек. Только взгляд легата, внезапно устремленный на что-то находившееся за спинами шляхтичей, привлек внимание друзей короля. Они повернулись и застыли: — Королева… София стояла в дверях. Простое, без каких-либо украшений, темное платье королевы опускалось до самого пола, строгую печаль подчеркивала мертвенная бледность окаменевшего лица. Мужчины умолкли и низко поклонились. — Отец легат, — заговорила королева глухим, надтреснутым голосом, — действительно ли неотложно твое требование? Я не знаю, будет ли полезной для тебя аудиенция у короля, даже если ты ее сегодня добьешься. Легат ни на секунду не спускал глаз с королевы, ловя малейшее изменение в выражении ее лица, взвешивая каждое ее слово. Казалось, он разгадал тайный смысл слов королевы и причину ее глубокой печали. Легат Бранкаччи не мог ждать. Ему было выгодно воспользоваться нынешним состоянием короля, о недуге которого он хорошо знал. — Я искренне сожалею, ваше величество, что мне приходится настаивать на своей просьбе, — обратился легат к королеве. — Не высокомерие, не упрямство руководят мной. Речь идет о важном деле — быть или не быть Чешскому королевству. Глаза королевы широко раскрылись. В зале наступила тишина, — слышалось только дыхание присутствующих. София медленно направилась к легату — складки платья скрывали движение ее ног. Казалось, по залу скользила призрачная статуя, которую притягивала к себе красная фигура легата. Очутившись в трех шагах от Бранкаччи, королева остановилась и посмотрела на него. — Что, уже?.. — тихо спросила она. Легат слегка кивнул. Взгляд Софии тревожно скользнул с одного лица на другое. Склонив голову, она медленно, еле передвигая ноги, подошла к креслу и, опустившись в него, глубоко задумалась. Сердца чешских панов сжались от боли. — Приведите короля!.. — сказала она, нарушив гробовое молчание. Легат снова оживился: — Мне следовало бы самому пойти к его величеству… София снова встревожилась: — Нет, нет, туда нельзя. Я только что пришла от него. Пошлите за ним… — Врача? — с готовностью подсказал пан Лефль. — Врача!.. — горькая и жесткая улыбка пробежала по лицу королевы. — Нет, пошлите за ним шута, Мизерере, Пожалуй, только он сумеет привести короля сюда. Пан Вацлав из Дубе отправился за шутом. Бранкаччи то и дело поглядывал на своих молчаливых собеседников: мертвенно-бледная королева еле переводила дыхание, а пан Индржих и пан Ян сидели опустив головы и крепко сжав рукоятки своих мечей. Уже ни о чем не думая, Бранкаччи покачивал головой: да, да, вот каковы ваши дела и каков ваш король! Он почувствовал огромное удовлетворение, когда задержал свой взгляд на Софии, Королева знала, какой позор ожидал ее и гордых панов. Они тщетно пытались скрыть порок своего повелителя от глаз чужеземца. Чешские паны долго водили короля за нос и укрывали у себя Гуса. Они защищали проклятого вероотступника от нападок архиепископа, инквизитора и самого папы. — Так, так… — качал головою легат. — Доигрались… — Его величество король! — зычно произнес Вацлав из Дубе, раздвигая портьеры перед Вацлавом IV. Все встали и взглянули в сторону дверей. На пороге стоял король, держась за плечо горбатого шута Мизерере. Домашняя одежда Вацлава была смята, — очевидно, он валялся в ней на постели. Седые растрепанные волосы ниспадали ему на лоб, а тупые стеклянные глаза на одутловатом лице безразлично глядели по сторонам. Тело короля покачивалось на нетвердых ногах, — шуту пришлось потратить немало усилий, чтобы король стоял прямо и не повалился на пол. Паны оцепенели в низком поклоне. Казалось, они желали как можно дольше не смотреть на позорное зрелище. София тоже опустила глаза. Только легат не спускал своего взгляда с короля, стоявшего на пороге. Он медленно поднял правою руку и начертал перед собой в воздухе крест великого благословения. — Benedicat te, domine rex, Pater et Filius et Spiritus sanctus![462] Коpoль не пошевелился. Его глаза устремились на притихших гостей. Он потряс шута за плечо и указал на легата. Мизерере понял своего повелителя и с трудом подвел его к легату. Сделав несколько шагов, король споткнулся… маленький горбун тщетно пытался удержать его. Вацлав упал на колени. София закрыла лицо, а паны поспешили помочь Вацлаву. Король сердито замахал руками, отгоняя панов от себя: — Не троньте меня! Я не пьян… Я… я пал на колени… перед святым отцом, — ухмыльнулся он. В его глазах появилась насмешливая и злая искорка жизни. Мизерере, лукаво взглянув на легата, сказал: — Видишь, как чтит тебя император?! В это время король грузно сел на пол. — Что тебе надо от меня? — проворчал он. — Его святейшество папа Иоанн XXIII послал меня, чтобы я передал твоему королевскому величеству… — Императорскому величеству!.. — закричал Вацлав IV. — Я пока еще император. Да, я еще император! Легат равнодушно пожал плечами, но не исправил своей ошибки. — Мне поручено передать тебе письмо, — продолжал он и, вынув из складок своего облачения свернутый лист со свинцовой папской буллой, направился к королю. — Вы там, в Риме, больно торопитесь надуть меня, отобрать и продать другому мою императорскую корону. — Мысли короля не переставали вертеться вокруг обращения к нему легата. — Не волнуйся, кум Вацлав, — сказал ему Мизерере, — святейший отец загребает деньги везде, где только может… Король вспыхнул и мгновенно остыл, утратив всякий интерес к легату. — Дай мне подушку, Мизерере! Сюда, скотина, к ногам! — Король опустился на подушку, делая вид, что не замечает высокой красной фигуры, стоящей перед ним. — Все вы — мои враги, предатели, тюремщики! — пробормотал он. — Мизерере, дай-ка вина! Оно — мой последний друг. Шут с готовностью выполнил просьбу короля. — Ты прав, — добавил Мизерере. — Вино — твой лучший друг. Когда ты выпьешь, мир кажется тебе прекрасным. Легат наклонился к королю и подал ему папское послание. Шут взял письмо и развернул его перед глазами своего повелителя. Вацлав тупо глядел на строчки. Казалось, он не мог следить за стайкой фраз, плясавших перед глазами. Отшвырнув письмо в сторону, король пришел в себя и повернулся к легату: — Что пишет мне… святой отец?.. — Он напоминает тебе о твоем обязательстве, долге и послании… — выразительно делая паузу после каждого слова, отвечал легат отупевшему королю. — Ты обещал изгнать из своей страны всех еретиков. Он напоминал тебе об этом много раз. Последнее напоминание — наложение интердикта на твою страну. По ней всё еще бродит еретик Гус. Он до сих пор в твоей Чехии, король! Ты даже пальцем не пошевельнул, чтобы как-нибудь наказать Гуса и снять со своего королевства проклятие. Ересь опозорила тебя на весь мир! Вытянув шею в сторону легата, Вацлав оперся о пол руками и встал на колени. Его лицо налилось кровью, а глаза вылезли из орбит. Неожиданный приступ гнева придал ему силы. Король уже без посторонней помощи встал на ноги и хотел было что-то крикнуть. Легат прищурился и нанес ему удар в самое больное место: — А ты еще хочешь быть императором!.. — Моя страна — не еретическая!.. — прохрипел Вацлав, угрожающе подняв руку. Но легат даже не повел бровью и холодно возразил: — Еретическая… пока Гус жив и находится в Чехии. Вацлав подошел к легату: — Я знаю, почему Гус сидит у вас в печенках. В мирских делах он требует подчинения священников светским властям. Гус хочет, чтобы я стал настоящим королем — хозяином в своей стране и вашим повелителем… — Это — тоже ересь… — сухо вставил легат, не отказываясь от своих слов, — одна из многочисленных ересей осуждаемого нами Гуса. — Пока никто еще не уличил Гуса в проповеди какой-нибудь ереси, — спокойно сказала королева. — Он находится под нашим покровительством, как всякий подданный нашего королевства. Его дело до сих пор не закончено. — Ты… ты лучше помалкивай, когда говорят мужчины! — обернувшись к королеве, сердито закричал Вацлав. — Всюду суешь свой нос — хочешь быть умнее меня и давать мне советы! София посмотрела на короля с презрением, но оно постепенно уступило чувству глубокого огорчения. Вацлав не выдержал ее кроткого доброжелательного взгляда и опустил голову. Он понял королеву: она жалела его. Обиженная супругом, королева гордо выпрямилась и покинула зал. Легат равнодушно ждал окончания интермедии. Когда София оставила их, он не дал королю передохнуть и властным голосом продолжал: — Папа Иоанн XXIII и император Сигизмунд созывают в Констанце собор всего христианства. Заставь Гуса явиться на суд. Если ты не пошлешь его туда, святейший отец объявит крестовый поход против тебя и твоей страны. Против Чехии поднимется христианство всего мира — оно сотрет ее с лица земли! Вацлав выпучил глаза и покачнулся, — его словно громом поразило. Чешские паны собрались возле него. Возмущенные заявлением папского посла, они взяли короля под руки. — Что ты сказал? — почти шепотом спросил король. — Крестовый поход против моей страны? Так… Так… Далековато вы зашли… Что дальше? Набросится король на легата? Начнется новый припадок? Вдруг Вацлав с невероятной силой рванулся всем телом вперед, освободился из рук панов и закричал: — Слышали? Слышали? Крестовый поход!.. Они хотят изгнать меня… затравить… — Тут король неожиданно набросился на своих близких помощников: — Во всем виноваты вы! Вы! Вы хвастались, что защитите Гуса, с утра до вечера жужжали мне в уши, уговаривая помочь ему. А теперь нате-ка — заварили кашу. Расхлебывайте ее сами. Я не хочу иметь ничего общего с этим делом. Понимаете? Не хочу иметь никакого дела. Никакого, никакого!.. Король попятился к дверям; посреди зала он резко повернулся и, спотыкаясь, побежал к выходу. За его спиной тотчас опустились портьеры. Король ушел… Бранкаччи слегка наклонился к покинутому креслу, взял папское послание и изящным жестом подал его пану Индржиху Лефлю: — Простите, господа, моя миссия окончена. Легат прошагал мимо чешских панов и направился к дверям. В этот момент чехи услышали протяжный голос Вацлава: — Мизерере! Шут, притулившийся у ножек кресла, не спеша поднялся с пола. — У меня удивительно удачное имя, господа. Мизерере — «смилуйся надо мной!» — И его горбатая фигурка заковыляла к королю. Чешские паныдолго стояли молча. Наконец раздался звучный голос Яна из Хлума: — Бедный король! Как мало унаследовал он от своего отца!.. Что нужды нам в его добром сердце! Пан Лефль сухо ответил: — Как знать, лучше ли справлялся бы со своими делами ныне император Карл? — Я возьму Гуса к себе, — без связи с предшествующим разговором вставил Вацлав из Дубе. — Он будет жить в моем замке. Пусть они только попробуют сунуться ко мне. Я сумею защитить магистра от любого нападения! — На короля больше нечего надеяться, — заметил пан Лефль. — Я боюсь, что мы не сумеем отговорить Гуса от поездки в Констанц и спасти его. Не забывайте: Чехии угрожает крестовый поход. Нам не остается ничего другого, как обратиться за помощью к королю Сигизмунду. — К Сигизмунду?.. — изумленно приподнял брови пан Вацлав из Дубе. С не меньшим удивлением посмотрел на пана Лефля и пан Ян из Хлума: — Сигизмунд лжет даже во сне. Пан Индржих Лефль кивнул в знак согласия: — Конечно! Я не верю Сигизмунду, но могу вполне положиться на его корыстолюбие. К тому же… — он сделал паузу, словно взвешивая правильность своего решения —…Сигизмунд мечтает стать коронованным императором. Теперь, когда он и папа должны председательствовать на констанцском соборе, ему этот титул нужен больше, чем когда-либо прежде. Если нам удастся добиться от Вацлава согласия на коронацию Сигизмунда и доказать ему, что это не означает его отказа от титула императора, то, я полагаю, Сигизмунд заплатит нам за это чем угодно… — и пан Индржих Лефль ухмыльнулся —… только не золотом. Пусть он даст нам ручательство, что никто не тронет Гуса. Я имею в виду не обычную охранную грамоту, а такой документ, который обеспечил бы магистру полную неприкосновенность: право свободного проезда в Констанц и возвращения домой независимо от решения собора. Итак, господа, попытаемся сделать это!..Когда легат шел по коридору замка, из ниши вынырнул человек, одетый в плащ с капюшоном. Незнакомец откинул край капюшона, и удивленный Бранкаччи увидел перед своим носом лицо архиепископа. Не воздавая должных почестей его сану и ничего не сказав о себе, архиепископ произнес: — Ну что… король? Губы легата искривились в хищной усмешке: — Наконец-то, отец архиепископ, Гуса покинули все. Сегодня он действительно остался один!.. (обратно)
Козий Градек
На дне большой лощины, поросшей лесом, стоял, как в гнезде, прижавшись к невысокой скале, Козий Градек. Жилая башня замка и башенки крепостной стены не поднимались выше макушек сосен и елей, зеленевших на склонах, а ветер, проносившийся над лесом, не касался кровли. Прохожие не замечали замка, зато он был открыт небу. Над замком сверкало, согревая крышу и каменные стены, яркое солнце, бежали облака и кружили ястребы. В стенах этого замка Гус нашел надежное убежище. Уже несколько месяцев жил он под защитой гостеприимного земана Ондржея — хозяина Козьего Градека, вдали от суетного мира. Но так ли? Нет! Если человек без устали дерзает и борется, то не удалится ни он от мира, ни мир от него. То же произошло и с Гусом: ему никто не мог помешать обращаться к народу с проповедями. Здесь, как и в Праге, на его столе лежали книги, перья и рукописи. Каждое слово его сочинений было вырвано из самого сердца. Речи магистра не перестанут звучать даже тогда, когда замолкнут его уста. А Вифлеем? Не стены пражской часовни, а густые леса и рощи окружали поляны и луга, на которые стекалось гораздо больше людей, чем в его капеллу. Из лесных домишек, окрестных сёл, ближайших городков и далеких городов каждую неделю сходились сюда люди послушать своего магистра. Вначале он читал проповеди во дворе замка, а потом там стало тесно. Гусу пришлось выйти из стен замка и подняться на косогор, под сень могучей липы, перед которой открывались широкие луга и поля, заполнявшиеся в день проповеди тысячами паломников. Иногда он выезжал в сёла. Конь земана и вооруженная свита за один день или несколько дней пути доставляли его на юг, в родные места, до Прахатиц, или на север, до Раковника. Он везде находил таких же слушателей, как в Вифлееме. Нужда и заботы сельских батраков мало чем отличались от нужды и забот безработных пражских поденщиков и подмастерьев. И здесь и там верующие покидали приходские и монастырские костелы, — никто из проповедников не давал им духовной пищи. Сельские костелы, увы, были мало доходны и не могли удержать своих пастырей: те предпочитали оставаться у египетских горшков в городах, а в сёла посылали клириков — недоучек, которые за несколько галлеров соглашались пробубнить воскресную обедню. Везде духовные и светские власти заботились лишь о поборах — десятине и барщине. И там и здесь он видел одинаково страдающих людей, а когда люди страдают одинаково, им нужны одинаковые слова утешения. Гус сидел за дубовым столом в большой комнате, расположенной на самом верху жилой башни. Он писал. Его мысли свободно и легко ложились на бумагу. Через открытые окна в комнату проникал свежий воздух, согретый солнечными лучами и пропитанный запахом смолы. Вдали виднелась синевато-зеленая опушка леса, а у самых окон чуть слышно шуршали своими иглами сосны и только изредка раздавался резкий крик сойки или сороки. Солнце стояло в зените. Уже никто не шлепал башмаками по каменным плитам двора, не скрипели двери сарая и конюшни. Хозяин знал, когда магистр работал, и тщательно заботился о том, чтобы никто не мешал ему. Старая Гата бесшумно проникла в комнату, на цыпочках подошла к соседнему столу и осторожно поставила обед. Гус заметил женщину и ласково кивнул ей в знак благодарности. Когда она вышла, магистр поднялся и перенес миски на рабочий стол. За едой он просматривал всё, что написал сегодня. Магистр улыбался, — он был доволен своей работой. Отставив миску в сторону, он взял перо и быстро приписал несколько строк: «Таким образом облегчится чтение, а сама письменность уже не будет привилегией ученых и законников, ибо такую письменность поймет всякий, кто пожелает читать книги и искать в них правду». Так. Неожиданно открылись двери, и на пороге появился земан Ондржей из Козьего Градека: — Не помешаю, магистр? — Нет, нет!.. Я уже закончил. Пожалуйста, войди и садись. Мне будет приятнее поесть в твоем обществе. Хозяин замка остановился перед Гусом и с уважением посмотрел на столешницу, покрытую книгами и исписанными листочками. — Ты, магистр, работаешь не покладая рук, — с восторгом сказал он. Гус улыбнулся: — Тружусь; здесь легко работать. Очень спокойно у тебя. Вместе с Прагой остались позади бесконечные диспуты в университете и споры с прелатами. Теперь они не отвлекают меня, и я размышляю о более важных вещах. — Я очень рад, — сказал пан Ондржей. — Мне приятно сознавать, что ты пишешь под моей крышей. — Посмотри, — Гус прикоснулся к пачкам бумаги, его глаза заблестели, а в голосе послышалась радость: — вот Постила, сборник проповедей на все праздники и заново исправленный, точный текст Библии. Всё это — по-чешски! Латынь я тоже оставил в Праге… Впрочем, прочти хотя бы эти последние строки! Гус протянул земану только что дописанный лист. Ондржей из Козьего Градека бережно взял лист в руки и прочел заключение: — «…такую письменность поймет всякий, кто пожелает читать книги и искать в них правду…» — Хозяин вопросительно посмотрел на магистра. Гус встал и, прохаживаясь по комнате, начал объяснять: — Я попробовал упростить чешское правописание. Кажется, мне удалось это. Разве можно научиться читать и писать, если мы до сих пор очень сложно пишем? Посмотри, — Гус взял бумагу и склонился над столом: — раньше слово «крест» писали вот так: krzijzz. В этом написании много лишних букв, и они неудобно сочетаются. Стóит мне только поставить вместо них точку над согласной — и я смягчу ее, запятую над гласной — и я сделаю ее долгой. Тогда нам будет легко написать и прочесть это слово. Смотри: kříž. Земан, внимательно следивший за объяснением магистра, удивился: — Верно!.. — Если мы используем такие надстрочные значки, то сможем выкинуть из нашего письма уйму лишних букв — они только затрудняют написание и чтение слов. — Скажи мне, магистр, как ты, занимаясь очень важными делами, успеваешь думать о таких мелочах? — Это не мелочи, — серьезно сказал Гус. — Я хочу научить людей искать правду, — еще более уверенно продолжал он. — Видя греховную жизнь священников и пороки светских властителей, они ищут в Библии правильные ответы на свои вопросы. Поскольку проповедники лгут, необходимо сличать их слова со словами Христа. — Но твои слушатели верят тебе, магистр, и без чтения, — улыбнулся земан. — Верят… верят… Верить мне — мало! — вспылил Гус. — Если я хочу привлечь человека на свою сторону, мне недостаточно одной его веры. Я хочу, чтобы он сам, своим умом, проверил, пришел вместе со мной к правильному выводу и понял всё сам! Подумай-ка: мне, пожалуй, было бы легче поверить папе, — шутливо возразил земану Гус, — если бы я, разумеется, мог. Но я никогда и ни за что не поверю папе. Конечно, я рад, когда люди верят мне, но нужно, чтобы они верили в то, что я проповедую. Тогда они познают правду. Никто и никогда не заберет ее у них. Эта правда не будет зависеть от моей славы или моего позора. Она станет достоянием тысяч людей, только таким образом она устоит и победит!.. Пан Ондржей, увлеченный мыслями Гуса, сказал: — Дай бог, чтобы этот посев когда-нибудь взошел. Прежде чем тысячи людей научатся читать, пройдет немало времени. — Ты полагаешь, — прервал его Гус, — что в будущем понадобится меньше защитников правды и борцов за нее, чем сейчас? Борьба только началась. Гус остановился и посмотрел вперед. Перед его глазами зеленел лес. — Погляди-ка, — кивнул магистр земану, — люди уже сходятся… На пнях, поваленных деревьях и на земле сидели крестьяне и крестьянки в пестрых платьях. Земан подошел к Гусу и взглянул через его плечо. — Это собрались твои слушатели, магистр, — с удовлетворением сказал хозяин. — Сюда приходят уже не сотни, а тысячи. С каждым воскресеньем их становится всё больше и больше. Они идут к тебе издалека — из Собеслава, Бехини, а некоторые даже из Букова, Воднян и Писека. Твои враги думали, что ты окажешься одиноким, но здесь у тебя учеников больше, чем в Праге!..С западных холмов спускалась большая толпа празднично одетых мужчин и женщин. Эти люди пришли сюда из-под Сезимова Усти, из радимских монастырских владений, из Слап и Либейиц. — Я вижу липу, — показала немолодая стройная женщина. Окруженная четырьмя мужчинами, словно телохранителями, она шагала впереди со своим мужем — сезимовским суконщиком Пителем и тремя красивыми сыновьями. Суконщик приложил руку к глазам. — У тебя, мать, соколиные глаза, — улыбаясь, сказал он жене и обратился к девушке, шедшей рядом: — Ты напрасно беспокоишься — придем вовремя. — Я впервые в ваших краях, — заговорила девушка, — и не думала, что от Собеслава до Козьего Градека так близко. — А из других мест сюда много приходит? — спросил Питель. — О, теперь здесь много людей. Стóит только заикнуться, что магистр будет читать проповедь, как к нему бегут все, у кого есть ноги, — подтвердила девушка. — Больше всего здесь путников из тех мест, где хозяйничают святые отцы. — Бедняки знают, зачем идут сюда, — добавил суконщик. — Гусовы проповеди им как бальзам на раны. — Разве ты не здешняя? — спросил девушку один из сыновей Пителя. — Нет, я из Праги. — Из Праги? Зачем же ты пришла сюда? — удивился второй брат. — Что вы расспрашиваете ее? — добродушно одернула их мать. — Йоганка не на исповеди. У нее — нелегкая жизнь. Лучше и не вспоминать… — Но и забывать ничего не следует… — сказала Йоганка, и ее лицо стало строгим и печальным. — В Праге убили моего жениха. Он был учеником Гуса. Я дала себе обет: делать всё, что делал бы он, если бы жил. Он умер, но его дело никогда не умрет. Заметив на лужайке пеструю толпу, путники зашагали быстрее. Возле липы люди рассаживались прямо на земле. То с одной, то с другой стороны к ним подходили новые путники. У самой липы сели паломники, приведенные плотником Йирой из-под Быкова. Молодой парень Томаш, товарищ Киры по ремеслу, радостно поглядывал на друзей. Повернувшись к Йире, он восторженно крикнул: — Смотри-ка, собралось целое войско! Столько воинов не набрал бы даже король! — Наш Йира — настоящий гетман! — засмеялся старик, сидевший неподалеку от плотника. — Сколько людей привел он сюда только из-под одного Быкова!.. — Всех нас ведет сюда магистр Ян, — серьезно сказал Йира. — Так же он собирал нас к себе в Праге. — Йира ласково взглянул на жену и детей. — А как же иначе? В Праге у меня попы отняли топор, а вместе с ним и кусок хлеба. Они изгнали Гуса из Праги, ранили мою душу. После этого мне ничего не оставалось, как вместе с вами пойти к магистру. При этих словах все повернули головы в одну сторону. Шум смолк, и над равниной воцарилась тишина. Потом люди поднялись на ноги. Под липой стоял Гус. Сложив руки, он сказал чистым и звонким голосом: — Господи, благослови нас, собравшихся для того, чтобы задуматься над словом твоим и понять волю твою. Потом он подал знак и сказал: — Садитесь, друзья! Люди снова сели на траву. — Друзья мои! — начал Гус — Человек отличается от других животных своим разумом. Благодаря ему он возвышается над всеми живыми существами. Разум позволяет человеку взвешивать и оценивать жизнь, в согласии с ним распоряжаться и руководить ею. Провидение наделило человека разумом; разум способен познать добро и зло. А познав их, человек может служить добру, бороться во имя добра и искоренять зло. Я знаю, что вы постоянно жалуетесь на несправедливое устройство этого мира. Кто более всего обижает вас? Приходские священники! Они берут с вас десятину, плату за таинства, но не пекутся о ваших душах. Вы не нашли никакого милосердия и у аббатов монастырей. Очи оказались такими же черствыми, как и светские властители. Я не раз слышал, как вы роптали, что вас заставляют обрабатывать поле господина, обирают налогами и податями спесивые вельможи Рожмберки и другие господа, как бы они ни именовались. На это сетовали крестьяне, батраки, мещане, ремесленники и земаны. Все они говорили об одних и тех же несправедливых действиях людей, которые по своему положению должны были бы сами наставлять их, как добрые отцы и рачительные хозяева. Ибо того требует самая высокая власть над всеми властями — власть божья! Но мало жаловаться на несправедливость. Только тот добрый христианин, кто устраняет ее. Власть и сила еще никого не оправдывали и никому не спускали с рук. Наоборот! У того, кто обладает большей властью, больше обязанностей и перед богом и перед людьми. Тот, кто не использует свою власть в благородных целях, недостоин ее. Я говорил вам: кто несправедливо живет, кто несправедливо правит, тот несправедливо пользуется властью, силой и имуществом. Как называем мы того, кто присваивает вещь, которая ему не принадлежит? Вором! А у вора надо отнять кражу. Стало быть, папа и священник, если они живут во грехе и творят беззакония, не могут быть перед богом папой и священником, точно так же, как грешный пан — паном. Нельзя подчиняться грешникам, — их приказы не согласуются с заповедями Священного писания. Эти властители — рабы греха и дьявола. Они не могут быть господами над вещами и людьми, ибо жизнь людям дарована самим богом. Христос сказал о священниках грозные слова: «Вы, священники, вместе с законниками обирали бедноту при помощи лицемерия, лукавства и торговли таинствами, а вы, светские, — при помощи кабалы, несправедливых судов, наветов и подлогов». Братья и сёстры, откройте очи и уши для правды, — пусть она заполыхает в ваших сердцах, как факел! Да будет огонь ваших сердец страшным и немилосердым, как суровая правда, не терпящая ни лжи, ни лицемерия, ни лести. Да не устрашат вас никакие препоны, ни золото, ни бешеный разгул смерти, ни мор. Ибо обречен гибели антихристов Вавилон, где христианские добродетели отвергнуты в угоду властолюбию и алчности господ. Если ложь поддерживают такие могучие союзники, как насилие, порок и смерть, то союзники правды — красота, радость и любовь — сильнее их! Счастливо жить в мире, спокойно трудиться, любить друг друга, освободиться от печали, наслаждаться красотой божьего мира — цветами, облаками, звездами, восхищаться творениями рук человека, радоваться жизни — все это завещал Христос. Только этого хотим мы, и только к такой жизни мы стремимся. Аминь. Люди поднимались один за другим, вставали на цыпочки, вытягивали шеи, стараясь до последней минуты не терять из виду фигуру проповедника. Толпа запела, — песня охватила ее, как пожар созревшую пшеницу. Пламенная песня мощно гремела над лугом:
Папа и епископы.
Короли и герцоги
Меж собою сговорились
И на бога ополчились.
Бог над ними посмеется,
Он по ним кнутом пройдется,
Спесь, как старая посуда,
О гнев божий разобьется.
…Страшный суд не за горами,
И святая правда с нами.
Не мирись с лихой судьбою
И скорей готовься к бою!
Прощание
Последний вечер выдался на диво тихим и свежим. Над темной зубчатой стеной леса загорелся кровавый закат, верхушки сосен упирались прямо в багровое зарево. Этот вечер Гус провел за ужином с семьей Ондржея из Козьего Градека и паном Индржихом Лефлем из Лажан. На столе еще стояло вино, но уже никто не пил его. Друзья были удручены и сидели молча. Спокойным оставался один Гус. — Взгляните, друзья, как красиво! — сказал он. Все устремили свои взоры к окну. Как ни прекрасен был вечер, грусть расставания омрачала его. — Мы уже привыкли к тебе. Даже не верится, что ты уезжаешь, — признался Ондржей. Не удержалась и его жена. — Тебе обязательно надо уезжать, магистр? — спросила она, и ее голос задрожал, как ветка у окна. — Я должен, сестра… Но надо ли грустить, друзья? Мне предоставляется возможность совершить там большее благо, чем я могу здесь. — Разве тебе мало того, что ты делаешь у нас? — возразил желанному гостю хозяин Козьего Градека, пытаясь удержать его у себя. — Тут ты пророк, апостол! Тысячи паломников тянутся сюда к тебе. Ты открываешь им глаза, вселяешь веру в силы. Поверь мне: если бы ты начал путешествовать от крепости к крепости верных тебе панов, то в самое короткое время поднял бы на ноги всю страну. — Ты не представляешь себе, как я рад тому, что могу говорить с людьми, которые страдают и нуждаются в моих проповедях, — отвечал Гус. — Мне очень радостно беседовать с бедняками. Я особенно доволен тем, что мне удалось здесь поближе познакомиться с их заботами и нуждами. Эти бедняки многому научили меня. Ты прав — я мог бы еще долго проповедовать здесь тысячам слушателей. В Констанце же мне предоставят возможность обратиться со своей проповедью ко всему христианскому миру. — Бывают минуты, — вздохнул Индржих Лефль, — когда решает уже не человек, а судьба. — Судьба? — усмехнулся Гус. — Нет, братья, не судьба. Всё решают люди; они решили и на этот раз. Решили люди в Риме, в Констанце, в Праге, при дворе Сигизмунда, в Париже и бог весть где еще. Решали это и мои земляки — те, кто слушал меня. Это они вместе с прихожанами Вифлеема говорили мне: ты указываешь причину болезни — иди и исцеляй больных, пока хватит сил. Я не могу не внять этому призыву! Все молчали. — После проповеди ты убеждал меня, что тебе необходимо ехать в Констанц, — нарушил тишину пан Лефль из Лажан. — Не забывай: ты попадешь прямо во вражье логово. Я говорю тебе это, невзирая на ручательство, которого я добился сам. Никто не может сказать, как поступят с тобой. А вдруг ты не вернешься домой? Здесь ты можешь спокойно жить, действовать, проповедовать, пробуждать, учить, а там тебя могут лишить этого. Гус отрицательно покачал головой: — Я понимаю тебя. Но одного они не в силах запретить: сказать правду. Я обращусь ко всему христианству, ко всему миру. Что может быть важнее этого? Мне предоставляется редкая возможность. Я должен воспользоваться ею во что бы то ни стало. — Даже жертвуя собой? — осторожно спросил Ондржей. — Мне, друзья, следует думать не о самопожертвовании, а о великой цели! — ответил Гус. Вечерняя заря уже погасла, бледный багрянец растаял в холодных сумерках. На горизонте небо сначала позеленело, а потом стало холодно-серым. — В тебе столько любви, магистр! — сказала жена пана Ондржея. — В людях много любви, сестра, — сказал Гус. — Ее больше, чем мы думаем. Она должна быть и во мне. Да, я люблю человека. Люблю его за умение жить и наслаждаться красотой, за его богатые мечты, прекрасные чувства и горькие страдания. Люблю человека за его бренность и за то, что она не мешает ему стремиться к бессмертию. Моя любовь к человеку не остынет оттого, что ему, смертному, присущи пороки и недостатки. Но если меня не пугает бренность человека со всеми его печальными пороками, то разве может устрашить меня смерть? Я не боюсь умереть не потому, что мне постыла жизнь, а как раз потому, что она мила мне. — Но почему любовь часто требует высокой, иногда даже самой страшной платы? — отозвалась хозяйка. — Потому что сама любовь очень дорога. Она хочет от нас то смирения и отречения, то решимости и отваги. Она строга и неумолима. Любовь принимает то форму долга, то форму покорности. Она заставляет человека страдать, требует от него чистоты и ясности. Любовь должна целиком пропитать человека. Нам следует избегать всяких оговорок, мы должны избавиться от них, как от ненужной шелухи, — только при этом условии любовь доставит нам силу, красоту и радость. Мне чуждо понятие «жертва», я славлю торжество любви. Путь к истине не легок, но я смело пойду по нему.* * *
Над Козьим Градеком занималось ясное и безоблачное утро. Если бы не показались пожелтевшие молодые деревца на опушке соснового бора, можно было бы подумать, что разгорается летний день, который проспал свой рассвет. Во дворе замка всё пришло в движение. Слуги седлали и запрягали коней. Все суетились, стараясь ничего не упустить и как можно лучше оказать последнюю услугу гостю: она должна была быть проявлением особой любви и особого внимания. В комнате, где жил Гус, Ондржей с женой и паном Лефлем уложили вещи магистра. Весь его багаж состоял из рукописей, — одни он забирал с собой, а другие посылал в Прагу. Большую пачку рукописей Гус вручил пану Лефлю. — Передай эти рукописи магистру Якоубеку, — сказал Гус. — Он сообразит, как поступить с ними. Рукописи попадут в надежные руки — они не будут валяться у него мертвым грузом. Передай ему и мой искренний привет. Жена Ондржея заботливо уложила в дорожный мешок те рукописи, которые магистр брал с собой. — Передай, пожалуйста, мой особый наказ Иерониму, — напомнил Гус Лефлю. — Пусть Иероним, когда вернется из Литвы, не приезжает ко мне в Констанц. Ему незачем рисковать жизнью. Горячая преданность и вспыльчивость Иеронима могут подбить его на самый безрассудный шаг. Он только умножил бы мои заботы и огорчил бы меня. Путешествие в Констанц — это мой удел. Место Иеронима — в Чехии. Скажи ему, что это — мое искреннее желание. — Наконец, — добавил Гус, — передай привет всем моим друзьям-студентам, профессорам и вифлеемцам… Ты сам знаешь, кому… Пусть горожане помнят Вифлеем — не боятся угроз и не поддаются малодушию. Я напишу им; напишу, когда буду в пути и когда прибуду в Констанц. Пусть они не забывают, что даже после отъезда я остаюсь с ними: ведь только благодаря им появились у меня собственные проповеди. — Жижка просил передать тебе, — вспомнил пан Индржих Лефль, — чтобы ты не забывал его последних слов. — Я не забыл их, — кивнул Гус. — Он сам поймет, когда настанет время для его меча. Я верю руке Жижки, как его сердцу: они не изменят. В этот момент вошел один из слуг пана Ондржея. Он доложил о прибытии панов Вацлава из Дубе и Яна из Хлума. — Они прибыли вовремя, — радостно сказал пан Лефль. — Это твои спутники, магистр. Сигизмунд послал тебе твоих самых верных друзей в качестве живой охранной грамоты. Письменное ручательство в твоей неприкосновенности будет доставлено в Констанц до твоего прибытия. — Более желанных спутников не может быть, — согласился магистр. — Идем вниз, поздороваемся с ними, а потом и в путь. Пусть будет мое путешествие таким же радостным, как это утро! Перед выходом Гус сердечно пожал руку хозяину: — Спасибо вам, друзья, за всё! Да хранит вас бог! Ондржей опустил голову, желая скрыть свою грусть, а его жена заплакала. Пан Лефль ласково обнял хозяина. Магистр пожал им руки и вышел во двор.На дворе замка Гус простился со слугами, оруженосцами, крестьянами из соседних селений и отправился в путь. Ондржей из Козьего Градека проводил магистра до границ своих владений. По обеим сторонам дороги стояли тесные ряды крестьян, — они пришли проститься со своим учителем и другом. Мужчины стояли у дороги, сняв бараньи шапки, а женщины опустились на колени и, плача, махали ему платками. Он выехал на коне вперед и остановился перед огромной толпой людей, преградившей ему дорогу. Тотчас прекратилось скрипение колес, кони словно вросли копытами в мягкую землю. Никто из свиты Гуса не произнес ни слова, молчала и многотысячная толпа. Гус привстал на стременах и поднял руку. Он молча благословил людей, и они склонили перед ним свои головы. — Братья и сёстры! — заговорил он. — Благодарю бога за то, что он даровал мне свободу. — Я рад тому, что довольно долго жил у вас, проповедуя слово божие без ереси и заблуждения. Моим искренним желанием было и останется до самой смерти — ваше спасение. Не падайте духом и не верьте тому, кто назовет меня еретиком. Вы, конечно, сами понимаете, чего боятся мои судьи и почему они преследуют меня. Мне нечего пугаться их; я еду к ним, уповая только на Спасителя. Пусть он благословит меня и дарует мне мужество, дабы я остался верным правде даже перед лицом неминуемой смерти. Сам Христос принял смерть за нас, грешных, — можем ли мы страшиться ее? Я буду защищать божью правду на соборе всего христианства. Да услышит, рассудит и взвесит это весь мир! Пусть мерой его суда будет Священное писание. Оно решит, на чьей стороне право и правда. Я обещаю вам, что без колебаний соглашусь, покорно подчинюсь и поучусь у любого, если меня убедят словами Священного писания, что я заблуждаюсь. В противном случае я готов защищать правду, верно и твердо борясь за нее до самой смерти. Толпа зашумела. Ладони людей невольно сжались в кулаки, а глаза загорелись гневом. Перед магистром открывались широкие объятия верных друзей, — они хотели задержать, спасти своего родного сына. Сила этих объятий так велика и страшна, как велика и страшна сила искренней любви. Магистр бодро, прямо, с поднятой головой, сидел в седле. Его лицо пылало радостью. Уверенный в себе, он возвышался над тысячами людей, как провозвестник и воин великой битвы. Первыми начали умолкать ближайшие паломники, потом притихли дальние ряды и, наконец, присмирела вся толпа. Это молчание — согласие с тем решением, которое принял их друг. Только теперь Гус опустил голову и увидел тех, кто стоял рядом и кто должен был первым освободить дорогу: плотника Йиру, Йоганку, Цтибора из Гвоздна, плотника Томаша из Букова. Старец, стоявший в первом ряду, опустился на колени и, протянув молитвенно сжатые руки, сказал: — Магистр!.. Магистр!.. Я чувствую, что ты уже не вернешься! Гус долго глядел ему в лицо и кивал головой. Потом Магистр спросил: — Ну а теперь ответьте: правильно ли я решил за себя и за вас? Если вы считаете, что я решил правильно, дайте мне проехать… Толпа постепенно расступилась, освободив Гусу широкую и прямую дорогу. (обратно) (обратно) (обратно)
Факел Книга вторая

(обратно)
ОНИ ЕДУТ В КОНСТАНЦ
Папа
В тот день, когда папский караван достиг Альп, их подножие окутал холодный туман. Солнечная Ломбардская равнина, еле тронутая дыханием позднего октября и ласкавшая взоры путешественников своими ясными далями, осталась уже позади, за скалистым рубежом. От него дорога вела только в гору. Широкие просторы полей сменились узкими ущельями, седыми от сланца и порфира. Строгие ели, голые ольхи и буки, как часовые, молчаливо стояли по обеим сторонам дороги. Не касаясь земли, туман покрывал своим пологом вершины и склоны гор. Караван медленно приближался к этому пологу. Где-то в молочной мгле позвякивали колокольчики, но самого стада не было видно. Всё потонуло в тумане. Когда караван вошел в него, люди словно ослепли и потерялись между деревьями. Путешественники двигались мимо шалаша, стоявшего возле дороги, и не замечали его. Люди и звери перебегали дорогу, но путники не слышали и не видели их. Повозка Иоанна XXIII находилась в середине каравана, уже вступившего в ущелье. Впереди папы ехали всадники — кардиналы и прелаты. За папской двуколкой тянулась целая вереница телег, нагруженных фуражом, провиантом, вином (разве итальянец удовольствуется кислой немецкой виноградной лозой!) и подарками: сундучками, набитыми деньгами, драгоценностями, редкими тканями, инкрустированным оружием, восточными пряностями и бог весть, чем еще. Святой отец знал, кому что подарить. Большую часть этих вещей он взял с собой для непредвиденных оказий, чтобы потрафить вкусам разных людей. В его багаже тряслись и бренчали удивительные вещи! Среди них была даже статуя Венеры, — вернее, торс изумительной красоты! Его нашел во время раскопок секретарь папы Поджо Браччолини. Статуя очень понравилась Поджо. Он уговаривал папу взять языческую богиню с собой, в эту проклятую дорогу. Хотя статуя была велика и тяжела, папа уступил своему секретарю, — в конце концов, если Венера понадобится самому святейшему отцу, он заберет ее у Поджо в любую минуту. Ведь на свете есть немало людей, которые готовы продаться даже за мраморную бабу. Из ущелья пахнуло холодом. Он сменил осеннюю сырость долины По так же быстро, как тесные ущелья — просторы Ломбардии. Ну и дорожка! Проклятая зима! А ведь это — только начало! Сырость проникала сквозь кожаные стены повозки, войлок и мех. От нее заныли суставы и грудь. Ведь папа сидит целыми часами и днями неподвижно, как чурбан. А согреться можно только на каком-нибудь дурацком постоялом дворе или вином. Вино… именно это словцо вызвало у папы неприятные воспоминания. Ведь вино, а не что-либо другое впутало его в скандальную историю с собором и во всю эту дьявольщину. За вино Иоанн может поплатиться папской тиарой, если не больше. Однажды, в самую решающую минуту, из-за вина он даже потерял Рим. О, если бы можно было подсчитать, сколько раз он дрался за Рим, брал и отдавал его! Впервые ему пришлось осаждать Рим при ныне покойном Александре V. Он был тогда военачальником папы и носил еще свое собственное имя — Бальтазар Косса. Когда Александр умер (злые языки, разумеется, болтали, будто Бальтазар отравил Александра), — Коссу провозгласили папой. Ему сразу же пришлось бороться с теми, кто натравливал на него обоих антипап — Пьетро ди Луну и Анджело ди Корарио. Иоанн скорее проглотил бы свой собственный язык, чем назвал бы их папскими именами — Бенедиктом XIII и Григорием XII. Нечего сказать, выискались наместники Христовы! Первый окопался в своем пузатом Авиньоне и не осмеливается высунуть оттуда нос. Жалкий узник, он сидит под охраной французов… А второй?.. Черт знает, где второй. Наверное, околачивается где-нибудь возле Римини. Но и сам Иоанн XXIII, единственный законный наследник Александра V, оказался не в лучшем положении! А из-за чего? Из-за вина! Из-за окаянного вина!.. Сколько сил он потратил, защищая Рим, родной Рим, от посягательств своего милого соотечественника — неаполитанского короля Владислава. И всё-таки папа отстоял свой город. Если бы неаполитанец, испанцы и французы не тревожили Иоанна XXIII, он создал бы сильное, богатое, величественное церковное государство! Но угораздило же болванов, ведавших его казной, придумать налог на вино… Правда, папская казна тогда была пуста, как желудок дикого кабана ранней весной… Налоги — притом неслыханно высокие! — брали за всё. Черт побери! Уж лучше было пойти на риск и утроить налог на хлеб, чем трогать у итальянцев вино. Этот налог собирали недолго, зато именно он проторил дорожку Владиславу, и тот шутя занял Рим. Римляне возненавидели и папских сборщиков и самого папу. От него быстро отреклись даже те, кто еще неделю назад присягал ему на вечную верность. Ничего себе, хороша верность! После этого Иоанну XXIII пришлось подмазать пятки и бежать во Флоренцию. Он попортил себе немало крови, прежде чем попал туда. Темными ночами на горных и лесныхтропинках папа сталкивался с вражескими бандами, а им было наплевать, кто шел — солдат или кардинал. И тот и другой гниют одинаково, если их заколоть пикой. Когда наконец Иоанн XXIII добрался до Флоренции, ее жители побоялись публично признать папу и поселили его в грязном предместье. Святейшему отцу в то время даже не позволили въехать в город. Фу… Теперь было не до шуток. Иоанну XXIII пришлось вкусить горечь унижения — обратиться с посланиями ко всем дворам и жаловаться на свою судьбу, недостойную Христова наместника. В самом важном послании папа дошел до полного самоотречения: он умолял короля Сигизмунда исполнить свою миссию — защитить церковь и ее главу силой светской власти. Сигизмунд не заставил папу ждать. Этот плут за ответом в карман не лезет. Он, король Сигизмунд, как послушный сын церкви, готов не только выставить свое войско на защиту престола святого Петра, но и положить за него свой живот. Однако прежде подлинный пастырь церкви должен вернуть себе и Рим, и единство святой церкви, раздираемой схизмой на три части. От этих слов папа пришел в бешенство: кто просил Сигизмунда соваться не в свои дела? Пусть лучше он поможет Иоанну XXIII вернуться в Рим, а о церкви папа сам позаботится! Разумеется, король почуял, что может заработать на деле, которое его менее всего касается. Какой прекрасный повод сыграть роль спасителя христианской церкви! Иоанн насквозь видел этого хитреца. Конец Сигизмундова письма был гораздо хуже начала: по мнению римского короля, устранение церковного раскола возможно только на соборе всего христианства. Этот собор должен покончить с папской схизмой. Немеркнущий ореол славы будет наградой Сигизмунду! Имперская помощь на таком условии — бесстыдное вымогательство. Ведь на этом соборе Сигизмунд, как светский владыка, будет председательствовать вместе с папой! Разумеется, он с божественным спокойствием подставит папе ножку. Иоанну вряд ли удастся завоевать на свою сторону тех, кто приедет на собор. Папа отлично понимал расчет Сигизмунда. Римский король корчил из себя спасителя мира, желая удержать немецкую империю, которую он только что вырвал из рук собственного братца и которая трещала как весенний лед у него под ногами. Но Иоанну приходится закрывать на это глаза, — ему до зарезу нужна помощь Сигизмунда, без нее он погибнет. Ничего не поделаешь, — каждый занят своей игрой. Разумеется, было бы лучше, если бы Сигизмунд не лез в чужие дела! Иоганну не оставалось ничего другого, как проглотить горькую пилюлю. Теперь ему придется покрепче натянуть удила, иначе проклятое сборище может сбросить его с престола, как норовистый конь — седока. Ему повезет, если собор низложит обоих антипап и оставит тиару на его голове. Никто другой не имеет больше прав на нее, чем он. Лишь явные клеветники могли распустить гнусные слухи о том, что после смерти Александра Бальтазар Косса заставил кардиналов проголосовать за него. Боже, что за собор был тогда… Одно удовольствие!.. Сторонники Коссы под охраной его же латников собрались в Болонье и избрали Бальтазара папой. А потом начались пересуды, — надо же было людям почесать языки! Во всей истории с провозглашением его папой не было ни сучка, ни задоринки. А теперь? Констанц — не Болонья! Этот коронованный плут неспроста хочет созвать собор на своей, имперской земле. Когда папа вел переговоры с Сигизмундом, король лгал, соглашаясь с ним, что собор следует провести в одном из итальянских городов. Сигизмунд был достаточно хитер, — он не позволил папе воспользоваться этим преимуществом. Король не торопил папу. Пусть Иоанн поварится в собственном соку. Потом ему волей-неволей придется ехать в Констанц. Папа не мог забыть до тошноты приторных улыбок, которыми Сигизмунд подслащивал пилюлю во время их последней встречи. В Констанце папе придется драться со сторонниками Сигизмунда и со сторонниками собора. Туда съедутся люди, которых папа вряд ли пустил бы в Италию. Против этого у папы оставалось одно средство, и он целиком воспользовался им: Иоанн взял с собой верных кардиналов и прелатов, каких только сумел найти. А их было немало. Может быть, они обеспечат ему большинство в решающую минуту. Эти не обманут его. В противном случае они лишатся своих пребенд. Конечно, более всего пострадает папская казна. Если святые отцы поддержат Иоанна XXIII, единство церкви будет восстановлено и тиара, разумеется, останется на его голове. Истинные христиане окажутся благодарными и возместят ему убытки. Впрочем, они вряд ли смогут когда-нибудь рассчитаться с папой за такое счастье. Им придется как следует раскошелиться, если они захотят хоть немного приблизиться к той сумме, которая должна быть уплачена за это благо… Холод пронял Иоанна до костей. Черт возьми, куда девалось то счастливое время, когда он гарцевал впереди войска, в латах и с мечом в руке?.. Тогда он не колебался. Но что осталось у него от того времени? Ничего! Одни печальные воспоминания: кто ушел от преследования, кто угодил за решетку, а кто погиб. Тогда именем Александра Бальтазар Косса правил Болоньей и Римом. Впрочем, каждый клевещет на власть, если она заставляет его повиноваться и раскошеливаться. Попрекали его и женщинами… Он захватил с собой в дорогу мраморную Венеру. Ее-то уж никто не поставит ему в вину! А ну их всех к черту!.. То, что предчувствовал папа, целиком сбылось: дорога через Альпы оказалась нелегкой. Чем выше поднимался караван, тем холоднее становилось. Путешественникам еще повезло. В этом году снег выпал поздно, и они увидели его только на шестой день путешествия, возле Мерано. Там караван потерял всякую надежду на хороший отдых. Комнаты в горных ночлежках и в деревенских постоялых дворах — один срам! В них было холодно, и путешественники не расставались с шубами даже ночью. Повара напрасно суетились со своими припасами у деревенских очагов, — ничего путного у них не вышло. Удалось только поджарить мясо на вертеле. Иоанн XXIII бесился. Он проклинал жуткую ночь, которая наступила сразу же после полудня и никак не могла кончиться. Холод, кромешная тьма, закопченные комнаты, робкие и неуклюжие горцы, боль в суставах, однообразная пища — всё давало ему повод надеяться, что его муки будут зачтены на том свете. Страдания всегда мало спавшего папы обострились тем, что здесь он вообще не мог заснуть. Клеветники объясняли бессонницу папы привычкой, оставшейся у него от тех времен, когда он занимался разбоем под милосердным покровом ночи. Пусть отсохнут языки у тех, кто рассказывает о нем, что в молодости он был не только грозным пиратом, но и возмутителем альковного спокойствия. Разве ночная тишина и одиночество непременно влекут за собой бряцание холодным оружием или наслажденье теплым женским телом? Или в такое время нельзя размышлять, рассчитывать, мечтать? Папа любит писать по ночам, — он диктует своим секретарям до самого рассвета, и они ходят потом весь день с красными глазами. Частенько бодрствовали даже его кардиналы и советники. Папа вызывал их в полночь на совет или принимал у себя. Здесь же он не мог ни уснуть, ни работать. Папа не желал даже послушать своего чтеца, — так опостылели ему люди. Слишком много их он увидит в Констанце. Дома бóльшую часть суток папа находился наедине с самим собой — пил или играл в особую игру, выдуманную им в одну бессонную ночь. Папа мысленно заставлял обоих — Бальтазара Коссу и Иоанна XXIII рассказывать о своих делах. Он поочередно говорил то за одного, то за другого. Это очень забавляло его и давало возможность выражать самые сокровенные чувства и самые интимные намерения в такой форме, в какой их никогда не слышало и не услышит ухо простого смертного. Он пытался представить себе лицо Сигизмунда: чтó оно выражало бы, если бы тот услышал его слова. Дорого заплатили бы ему за эти слова король и те, кто мучительно ломал себе голову, выискивая, вынюхивая и собирая куцые намеки на улики против него, папы. Какой алчностью загорелись бы глаза на худом лице французского кардинала дʼАйи! Не заткнули бы своих ушей и друзья папы — итальянцы в кардинальской коллегии. Как бы, например, повел себя Забарелла, изнеженный поэт в кардинальской сутане? Ему ничто не ново в этом мире. Он смотрит на всё с высоты своего Олимпа, воспетого Вергилием и Горацием. О, мысли святейшего отца обязательно нарушили бы олимпийское спокойствие кардинала! Но эта забава неожиданно опротивела папе: он с ужасом подумал, что собор в Констанце может сыграть с ним такую же шутку! Папа перекрестился и запил дурную мысль глотком фалернского. Прибыв в Мерано и выйдя из своей передвижной клетки, папа сразу повеселел. Изнурительное путешествие и вынужденное безделье изрядно надоели ему. Всё это время у него не было иного дела, как тащить за собой многочисленное стадо своих сторонников. Здесь, в Мерано, ему следует заняться чем-нибудь другим. Город торжественно встретил папу. Все церкви звонили в колокола, на площади и улицах, примыкающих к замку, нельзя было ни проехать, ни пройти. Люди теснились, падали на колени. Когда кибитка папы проезжала дальше, они быстро вскакивали на ноги, желая получше рассмотреть лицо святого отца. Женщины истерически кричали, мужчины пялили глаза и судорожно глотали воздух. То, что для римлян было обычным, тут оказалось чудом. Шутка ли встретить папу в Альпах, среди простых людей, на расстоянии одного шага! Иоанн XXIII благословлял толпу, и его лицо виднелось в раскрытых дверцах повозки. Когда папская кибитка появилась во дворе замка, сам тирольский герцог Фридрих бухнулся на колени в только что выпавший снег и пригласил святого отца на торжественный пир в честь его прибытия. Папа, озабоченный иными делами, с трудом скрывал свое нетерпение. Не успели унести со стола последние миски, как ничуть не охмелевший старый морской волк и лихой наездник Иоанн XXIII быстро повел хозяина в альковную, расположенную рядом с тронным залом. Там они, как купцы, без лишних слов заключили сделку на основе известного правила: даю, чтоб и ты дал. Старый папа, храбро сражавшийся на поле боя, ведавший бухгалтерией и хозяйством, управлявший государством и городами, и молодой Фридрих, грубый и недалекий человек, легко нашли общий язык. Жестокий, вероломный, умудренный жизненным опытом старик и юный откормленный забияка с яркой, как его родовой герб, рожей одинаково бойко подсчитывали латников и дукаты, постоянно помня о выгодном для обоих правиле: я — тебе, ты — мне. Папа назначил Фридриха генеральным капитаном своих войск и пожаловал ему шесть тысяч дукатов в год, а тиролец обязался охранять папу по дороге в Констанц, во время пребывания там и на случай, если Иоанну XXIII придется покинуть собор. Никакое особое время и никакие особые обстоятельства в расчет не принимались. Фридрих отлично понимал, чтó означает эта оговорка, и папа был доволен тем, что герцог ни о чем его не расспрашивал. Толстый как боров, герцог оказался тонким дипломатом! Когда они договорились обо всем, Фридрих опустился на колени, покорно склонив большую белокурую голову, и Иоанн благословил своего нового военачальника, торжественно осенив его крестным знамением. Но мысли Фридриха были заняты другим: в тот день в его казне появилась кругленькая сумма — задаток в размере половины обещанного ему годового жалованья.Теперь папа чувствовал себя более уверенно. Его настроение стало бы даже устойчивее, если бы не произошла одна досадная оказия. Как ни странно, папу расстроило весьма приятное сообщение из Рима. Еще в Тироле караван настиг гонец с известием, что после упорных боев папские войска вошли в Рим и вернули святой город Иоанну. Папа страшно взбесился. Случись это на месяц раньше, он обошелся бы без помощи Сигизмунда и созыва собора… Фу, черт бы их побрал! Теперь об отмене собора нечего и думать. На самой границе Тироля, когда караван миновал горный перевал и стал спускаться по занесенной снегом дороге к Форарльбергу, папская двуколка съехала на лед и стремительно понеслась вниз. Возок налетел на камень, остановился и ударил передком лошаков. Животные рванулись в сторону, и двуколка оказалась поперек дороги. В этот момент кузов накренился, дверные створки распахнулись, и папа выкатился в снег. Кучер, сидевший на кóзлах, оцепенел от ужаса. Испуганные слуги, оказавшиеся рядом с возком, поспешили было к папе, но, страшась его гнева, только протянули руки, не решаясь подойти. Хуже всего было то, что папа вывалился из кузова перед пограничным постоялым двором, возле которого собрались горцы, желавшие хоть одним глазком посмотреть на святого отца. Увидев его на снегу, они замерли от страха. Им казалось смертным грехом быть свидетелями такого события. Беспомощно барахтаясь в снегу, высокочтимый Иоанн XXIII напрасно искал опоры и все время проваливался в сугроб. — Дьявол бы вас побрал! — крикнул он оробевшим слугам. — Я валяюсь в снегу, а вы пялите на меня глаза! Услыхав ругань папы, слуги тотчас пришли в себя, а крестьяне при упоминании дьявола быстро перекрестились и попятились. Через два дня караван начал спускаться с гор, и путешественники увидели перед собой широкую гладь Боденского озера, а за ним, на самом горизонте, Констанц. (обратно)
Куртизанка
Часовые Понтийских ворот Аахена неожиданно нарушили строгие предписания, введенные незадолго до прибытия в город его величества короля Сигизмунда. Им было приказано тщательно просматривать дорожные грамоты всех путешественников и прохожих. Когда в Понтийских воротах остановился крытый экипаж и из его окошечка выглянула донна Олимпия, часовые забыли о всякой предосторожности! Алебарды, минуту назад скрещенные перед мордами коней, поднялись в честь прекрасной женщины, сидевшей в карете. Правая рука начальника городской стражи, протянувшаяся к дверкам, повисла в воздухе. Донна Олимпия небрежно подала путевую грамоту через окно. Начальник стражи учтиво взял документ, развернул и тотчас сложил, даже не взглянув на него. Глаза начальника стражи не могли оторваться от очаровательной путешественницы. Он отвесил ей низкий поклон, и кучер хлестнул коней. Экипаж тронулся вдоль шпалер алебардщиков и лучников. Стражники на миг остолбенели, а потом повернули головы вслед за экипажем, как подсолнухи к солнцу.В придворной канцелярии, неразлучно путешествовавшей с Сигизмундом, никто уже не работал. Глаза и руки писарей более всего чувствовали приближение срока открытия собора. Сегодня на столе снова выросла огромная куча документов, на которых не хватало только подписей и печати. Адреса пестрели самыми различными титулами и местами назначения. За последнюю неделю были посланы письма светским и духовным лицам всех стран Европы: государям, начиная от императора и кончая герцогом, документы татарскому хану и африканским князькам, бессчетная уйма приглашений, советов, запросов. Здесь плелась огромная паутина, с помощью которой затягивали в Констанц представителей всего мира. Писари поднимались со своих скамеек, распрямляли одеревеневшие спины и терли покрасневшие веки. Они молчали. Да и о чем им было разговаривать? Отупевшие от переписывания избитых словесных оборотов, которыми начинались и заканчивались послания, они уже не могли ни думать, ни говорить. Вдруг в душном воздухе канцелярии раздался хриплый голос, — какой-то человек мычал что-то себе под нос. Напевая мелодию, он время от времени произносил звучные рифмы и охотно украшал ими игривые стихи:
С начинкой лопнет пирожок —
Его любой сожрет.
А лопнет брюхо — он, дружок,
Тотчас же нос зажмет!
Рыцарь Освальд фон Волькенштайн сидел напротив донны Олимпии в лучшем номере гостиницы «У зеленого венца». Стол ломился от яств: на нем стояли жаркое, соусники с пряной подливкой, рыба, паштеты, сладости и кубки с темно-красным бургундским. Ужинали молча. Гость не проявлял никакого интереса к хозяйке и был целиком занят своим желудком. Еще бы! Не каждый день случаются такие чудеса. Счастье надо ловить! Хозяйка внимательно рассматривала гостя. Очевидно, обе стороны были вполне довольны результатами своих занятий. Когда рыцарь наконец насытился, он и хозяйка благосклонно взглянули друг на друга и улыбнулись. Рыцарь оказался в более выгодном положении: ему не нужно было начинать разговор. Она поймала его, как рыбу на приманку, — пусть теперь сама скажет, что ей от него надо. Она дьявольски красива и, несомненно, шлюха, — в этом рыцарь нисколько не сомневался. Она очаровательна. Рыцарю стало как-то не по себе, — он так много съел и выпил. Прочь, прочь грешные мысли! Господин рыцарь вполне сознавал свои возможности, — не такой уж он красавец, чтобы девка купила его за ужин для своей постели. Он ломал себе голову, стараясь найти хоть мало-мальски правдоподобную причину этой странной любезности. — Вы, по-видимому, недоумеваете, почему я пригласила вас в гости? — нарушила молчание хозяйка. — Я выбрала вас после долгого размышления. Меня зовут Олимпия. Под этим именем я известна в Риме, Флоренции и Венеции. Нет нужды добавлять к этому еще что-нибудь. Теперь моя цель — Констанц. — Все знаменитости стремятся в этот город… — попытался польстить рыцарь. — Но почему вы едете в Констанц через Аахен, если вы итальянка? — Я еду из Парижа. Вы могли бы догадаться об этом по вину, французскому столу. В Италии мне рекомендовали вас… Господин фон Волькенштайн удивленно поднял брови. — …ваши друзья — Антонино Лоски и Бенедетто де Пилео. О, эти имена! После швабской капусты они таяли у него на языке подобно бургундскому. Друзья Волькенштайна — драматург Лоски и поэт-лирик де Пилео. Они помнят о нем! А вдруг он встретится с ними в Констанце? — Но это еще не всё. О вас рассказывали мне Паоло Верджерио, Бруни и секретарь папы Поджо. — Мадонна! — восторженно воскликнул рыцарь. — Да вы садовница итальянской поэзии! Упомянутые вами поэты — дивный букет благоухающих цветов, который вы поднесли к носу недостойного. Скажите, что пишут сейчас эти титаны? Стих… Один стих, мадонна, из ваших уст… — Эти поэты знают меня, но мне необязательно знать их стихи. Зачем они мне? Я берегу свою память для более важных дел. Впрочем, некоторые из этих поэтов довольно милые мальчики. Они помнят меня лучше, чем я их. — И донна Олимпия улыбнулась. — У них больше причин для воспоминаний. Но поэты сейчас ни при чем… Они лишь посоветовали мне обращаться к вам всякий раз, когда будет нужно. Вы — человек, умудренный жизнью. У вас достаточно возможностей познакомиться со двором Сигизмунда… Тьфу, под такой красивой личиной не оказалось ни грана поэзии! Она встречалась с замечательными поэтами, а не запомнила ни одного стиха, ни одного… Он, пожалуй, отдал бы полжизни за стихи — после ужасной канцелярской скуки! А эта девка… Эта девка, по-видимому, знает о поэтах столько, сколько… сколько можно узнать о любом мужчине, независимо от того, пишет он стихи или нет. В душе неблагодарного рыцаря закипела черная злоба. Он поспешил залить ее вином. Такой ужин! Но почему она беспокоится о рыцаре? Не потому ли, что он хорошо осведомлен о дворе Сигизмунда?.. «Да, я так хорошо изучил его, что мне стало тошно. Но чего она сует свой нос в чужие дела? Неужели она… Подожди-ка, девка, ты не коллега ли мне?.. Чья шпионка? Папы, Венеции или… Кому бы ты ни служила, Освальд фон Волькенштайн должен держать ухо востро. А это нелегко: бургундское дьявольски задурило голову. Надо бы кончить пить. Но когда еще посчастливится отведать такого нектара?» — Мадонна, я весьма тронут вашим вниманием к моей особе. Но, вполне сознавая свои возможности, — они, увы, весьма, весьма ограничены, — я никак не могу понять, что заинтересовало вас во мне? Донна Олимпия засмеялась: — Друг мой, будьте любезны — не вынуждайте меня быть с вами неискренней. Это не входит в обязанности хозяйки. Давайте перестанем ходить вокруг да около. Уверяю вас, мне хорошо или почти хорошо известна ваша особа. Я полагаю, что вы тоже уже познакомились со мной и узнали если не всё, то самое главное. — При этих словах донна Олимпия горько улыбнулась. — В таких случаях я полагаюсь на инстинкт художника. Только раз в жизни мне, когда я была юной девушкой, хотелось показать себя одному поэту лучшей, чем я была. Мне не удалось это. А теперь я даже не думаю об этом. Мы оба отлично умеем лицемерить. Поэтому давайте, друг, сразу перейдем к делу. Мне от вас нужны некоторые сведения. За любую цену. Я не скупа, — отказа не будет почти ни в чем… Вы, наверное, подумали, что меня кто-нибудь подослал к вам. Ошибаетесь. Эти сведения нужны мне самой и никому другому. Я хотела бы как можно больше знать об императоре. — О Сигизмунде?.. Он еще не император. — Римский король или император — это, в конце концов, одно и то же. В моих знаниях о Сигизмунде у меня есть кое-какие пробелы. О своих соотечественниках, — папе, его кардиналах и тех, кто мало-мальски значителен, — я отлично осведомлена. Мне нетрудно было бы кое-что рассказать вам о них. Но в моей коллекции не хватает римского короля. Я еду в Констанц — собираюсь сыграть там важную роль. Замечу вам, свою собственную роль. Мне нужна сила, нужны деньги; одно не бывает без другого. Я не хочу быть любовницей даже самого благородного негодяя, если он идет на поводу у более сильного человека. Мне нужно подняться как можно выше. Я должна точно знать, на кого следует делать ставку. Надеюсь, проще и откровеннее не скажешь. Боже мой, вот это хищница! Волькенштайн едва не перекрестился. Рыцарь не сомневался: она говорила правду. Эта продажная тварь не щадила ни себя, ни собеседника. Донна Олимпия разговаривала с ним, как мужчина с мужчиной. Подобные бестии чаще всего бывают бесполыми. Ее откровенность по крайней мере упрощала всё дело. — Как я понимаю, — буркнул немного разочарованный рыцарь, — речь идет о простой торговой сделке. Я мог бы наговорить вам целый короб. Но мне достаточно дать вам один совет: держитесь Сигизмунда! — Мне не нужны советы. Прежде чем держаться кого-либо, необходимо побольше узнать о нем. Как поступить — я решу сама. — Хорошо, тогда я начну по порядку. Вам, видимо, важнее всего знать его внешность, характер, склонности, отношение к супруге… — Porca Madonna,[463] рыцарь! Чтобы выслушать вас, человек должен запастись ангельским терпением. Мне совсем не важно, красив он или нет. О его характере и склонностях я узнаю за одну встречу, а вы будете рассказывать целый месяц. Альковные сплетни? Не старайтесь — они мне давно известны. В Париже о его похождениях знают больше, чем он сам. Скажите, пожалуйста, доверяете вы мне или нет? Если доверяете, то не тяните и продавайте свой товар!.. Освальд фон Волькенштайн отлично догадывался, что нужно этой женщине. Сбросив с себя личину, он приступил к делу, — для него настало самое подходящее время. Усевшись поглубже в кресле, рыцарь дал понять, что готов изложить самые важные сведения. Для храбрости он наполнил бокал вином и придвинул его поближе. Теперь рыцарь и с помощью бога и с помощью дьявола готов был согласиться на всё что угодно. Он уже было открыл рот, но донна Олимпия удержала его повелительным жестом: — Может быть, вначале вы назначите цену? Губы рыцаря невольно сомкнулись. Видит бог, это не баба, а мужик в юбке! И он сказал: — Вы спросили меня, доверяю ли я вам? Доверяю. Цену — назначите сами, когда получите мой товар… Донна Олимпия улыбнулась и стала снова обаятельной женщиной: — Не бойтесь, друг! Я вас не обману! Рыцарь Освальд фон Волькенштайн поднял бокал. Язычки свечей засверкали в кровавом бургундском рубиновыми огоньками. Его охватили сомнения. Это же игра с огнем! А что если он сгорит в нем?.. Нет, это бургундское, а в нем — лишь отражение пламени. Стоило только повернуть бокал к себе, и огненные язычки, уже не опасные, снова задрожали на кончиках свечей. Бокал опустел, вино разнесло тепло по всему телу. Донна улыбнулась и снова наполнила бокал. Ему не следует столько пить: его ждет удел, достойный поэта, — своими словами нарисовать сложный образ весьма великого… нет… опасного… пожалуй, необыкновенного человека во всей его противоречивости — жестокого и человечного. — Да, ему не чужда и человечность, — неожиданно произнес рыцарь. — Он гуманен в сравнении с диким зверем. Сигизмунд никогда не притворяется: он воплощенное лицемерие. Вы лучше всего узнаете его не по словам, а по делам: дела убедительнее меня покажут вам его в истинном свете. — Наконец-то вы подошли к тому, с чего следовало бы начать, — Одобрительно кивнула донна. — Вы ничего не пьете, мой друг. Рыцарь поднял бокал и взглянул на Олимпию. Она делала всё, чтобы он окончательно опьянел. Если Олимпия хочет устроить ему ловушку, то он уже попал в нее по самые уши, — следовательно, нет никакого смысла щадить бургундское. Он безудержно пил его. Скоро Освальд фон Волькенштайн почувствовал приятную легкость в голове. И не только в голове. Осторожность потеряла всякий смысл; ужас — сколько раз он овладевал человеком! — ослаб и уступил место наивной беспечности. Тонкий замысел поэта нарисовать портрет Сигизмунда рухнул. Когда вино затуманило сознание Волькенштайна, все понятия и суждения его стали соединяться весьма странным образом. Мысли поэта кружились хороводом и вырывались наружу вопреки желанию их хозяина. Бог знает, почему первой ему пришла на ум чалма: — Турки! Больше всего он боится этих чудовищ! Они — пугало Европы! Турки хотят забрать у Сигизмунда Венгрию, а потом покорить весь мир. Сигизмунд, видимо, не зря их побаивается. Мне этого не понять. Я сам довольно долго толкался среди азиатов и пришел к выводу, что мы бóльшие варвары, чем они. Только в одном азиаты уступают нам: им, глупцам, Коран запрещает пить вино. За ваше здоровье, мадонна! Охотнее всего он рассказал бы ей о Царьграде. Олимпию очень украсила бы вуаль, которая закрыла бы почти всё ее лицо, оставив лишь две продолговатые миндалины черных глаз. Чепуха! Чего он болтает? Да, он хотел рассказать о Царьграде. — Собственно говоря, вся Византийская империя уже съежилась, — в ней остался один город. Его душит петля полумесяца. Царьград не может даже передохнуть. Сейчас османиды дерутся между собой за власть. Царьградский император каждый день, просыпаясь и засыпая, смотрит с надеждой на запад. Не подумайте, что я пустословлю, уклоняюсь от сути дела. Это имеет прямое отношение к Сигизмунду. Король-ловкач неожиданно размечтался: «Почему бы мне не попробовать спасти мир от нашествия нехристей?» Дьявол вообразил себя великим мессией! Сигизмунд хотел бы слепить из европейских государств одну огромную империю и стать в ней полным хозяином. Такие планы вполне приличествовали бы Карлу Великому. Более того, Сигизмунд собирается объединить обе христианские церкви — римскую и византийскую. Он запугивает турками царьградца Мануэля, а маврами, смертельной занозой Испании, папу Римского и никак не может понять, почему христианский мир не желает признать его, Сигизмунда, своим единственным спасителем! Теперь и на Западе уже нет прочного порядка. Запад разъедает проклятая схизма! Вместо одного наместника Христова появились три. Все они враждуют между собой. Сигизмунд хочет навести порядок и в церкви. Удайся ему это, и у него появились бы новые заслуги. Да еще какие! Потом каждый нищенствующий монах денно и нощно молился бы за Сигизмунда. Он-то, конечно, плюет на эти молитвы, но зато для него открылись бы кладовые каждого государства, каждого сословия. Они отблагодарили бы его звонкой монетой. Сигизмунд уже пошел на риск с констанцским собором: созвал всех, кого смог, — государей, прелатов и магистров университетов. Сигизмунд загнал туда и Иоанна XXIII, точно корову на лед. Теперь папа никуда не денется от хитреца: попал в его руки, как свинья, откормленная на убой. Сигизмунд будет торговаться, кто больше даст ему за папу, — светские властители, кардиналы или собор. Боже, вот оно какое святое сборище! Выпью-ка я за его здоровье! Заботливая донна Олимпия налила ему еще вина. Сама она не пила, только слушала. — Разве можно в чем-нибудь упрекнуть Сигизмунда? Он хочет спасти христианство от нашествия османов и церковь от раскола! Его планы были бы достойны всяческого одобрения, если бы не… Тут ему следует прикусить язык. Ради чего рисковать жизнью? Болтнешь лишнее — и не доживешь до утра, пырнут тебя кинжалом между лопаток и бросят в канаву. То, что горько, да будет горьким, как полынь! Только бургундское остается бургундским: чем больше пьешь его, тем оно приятнее и вкуснее. — Да, если бы он делал это не ради себя! Он, моя красавица, всё делает только для себя, только для себя… Разумеется, он — император или почти император. Каждый трезво мыслящий человек согласится, что когда император старается о себе, то тем самым печется о благе империи. Даже презренному глупцу достаточно нескольких бокалов бургундского, чтобы раскусить Сигизмунда. Мне кажется, он рвется к власти с тех пор, как стал сосать материнское молоко. Еще младенцем он не сводил глаз с шеи кормилицы, высматривая, не висит ли у нее на цепочке золотая монетка. Начал он не очень бойко — с трона венгерского короля. Кáк он добился его — об этом можно рассказать особо. Довольно дикая история. Но не это важно. Он был одержим мечтой о римской короне. Для этого бешеного жеребца не было ничего приятнее колесницы, священной Римской империи. Как только это взбрело ему в голову, он уже не останавливался ни перед чем. Четырнадцать лет тому назад курфюрсты сбросили с трона его брата — чешского короля Вацлава. Сигизмунд кинулся к короне императора, словно собака к кости! Но об этой короне мечтали и другие… О, это были времена! Подобно тому, как теперь у нас три папы, так тогда появились три римских короля! Сигизмунд оказался самым ловким: недаром его избрали римским королем на кладбище. Рыцарь захохотал, но, заметив недоверчивое выражение на лице Олимпии, продолжал: — Да, на кладбище. Те курфюрсты, которых он купил, — на всех ему не хватило денег, — должны были собраться во Франкфурте и там избрать его королем. Франкфурт относился к Майнцскому архиепископству, а его главный пастырь состоял в союзе с третьим антикоролем. Чтобы помешать Сигизмунду, майнцский архиепископ наложил на Франкфурт интердикт и закрыл храм, где хотели собраться выборщики Сигизмунда. Тогда они собрались на кладбище и совершили церемонию избрания Сигизмунда римским королем прямо на могилах, — могилы нисколько не мешали им. Наоборот, смерть оказалась его союзницей и прибрала одного соперника. Теперь у него остался один соперник — его братец Вацлав IV. Этот никак не может примириться с тем, что имперские курфюрсты сбросили его с трона и не пожелали ему подчиняться. Справиться с Вацлавом Сигизмунду было нетрудно. Он уже дважды похищал Вацлава и сажал в тюрьму. Еще хуже пришлось братцу, когда Сигизмунд притворился смиренным и верным. Да, иногда он бывает и таким. Знали бы вы, скольких денег, потерь и уступок стоила чешскому королю любовь его брата. Впрочем, Вацлаву почти всё было безразлично. Это, собственно, такой человек… Ну, он не имеет отношения к нашему делу. Тогда Вацлав только пьянствовал. Но и вину он предавался без особого удовольствия. Мадонна, разве может вино заглушить чувство отчаяния и обреченности? Освальд фон Волькенштайн нежно посмотрел на струю вина, которая лилась из кувшина в его бокал. — На чем я остановился, мадонна? Да, я уже вспомнил. Сигизмунд стал наседать на Вацлава, надеясь, что тот уступит ему титул римского короля. Борьба между ними оказалась недолгой. Сигизмунд легко прижал Вацлава к стенке. Чешский король торжественно признал избрание Сигизмунда римским королем, и мой любезный повелитель стал подлинным хозяином империи. Она свалилась ему в руки, как спелое яблочко. Да только яблочко-то оказалось червивым: во-первых, Вацлав не пожелал расстаться со знаками императорской власти, — это не могло не взбесить Сигизмунда, желавшего как можно пышнее обставить свою власть, — и, во-вторых, Вацлав возражал против того, чтобы Сигизмунд домогался короны римского короля при его жизни. Сигизмунд, пока атрибуты власти были ему не очень нужны, смотрел на всё это сквозь пальцы. Теперь он хочет возглавить святой собор христианства в Констанце, и ему необходимо выступить там во всем блеске. Если на его голове будет корона, каждый поймет, с каким повелителем имеет дело. Мы едва не источили все перья на переписку с пражским двором, но она оказалась напрасной. Сигизмунду помог случай. Ничего не поделаешь, мадонна. Чем больше негодяй, тем больше ему везет. В один прекрасный день сюда, в Аахен, приплелся посланец Вацлава. Вы думаете, зачем? После обычных церемоний посланец передал согласие чешского короля на коронацию Сигизмунда при одном странном условии, — узнав его, пожалуй, только Сигизмунд смог удержаться от смеха. Действительно, это условие было очень курьезным: Сигизмунду точно подарили мешок дукатов, а взамен попросили два гроша на мессу. — Рыцарь захохотал. Донне Олимпии пришлось терпеливо ждать, пока он кончит смеяться. Придя в себя, Освальд фон Волькенштайн виновато поглядел по сторонам, отодвинул бокал и начал вспоминать, на чем остановился. — Представьте себе, мадонна: за титул императора Сигизмунд должен был обеспечить неприкосновенность какого-то чешского еретика, вызванного на констанцский собор. Вацлав писал, что если, мол, безбожник не вернется домой живым, в Чехии произойдут неприятности. Попробуй-ка разберись в этом деле. Я, по крайней мере, не сумею. Мне теперь даже не вспомнить имени того человечка, который нагнал столько страха на Чехию, — не то Гус, не то Гусь. Что-то в этом роде. Если мы, писари, долго ломали над этим голову, то Сигизмунд ни минуты не задумывался. Он чуть не захлебнулся собственной слюной, торопясь пообещать этому антихристу охранную грамоту! И что же? Аахен готовится к коронации Сигизмунда. Одним словом, мы выедем отсюда в Констанц в ореоле римской короны. Разве это не тонкая работа? Вот вам подтверждение того, что римский король родился в сорочке. Что еще добавить вам? Он — и мерзавец и император в одном лице. Кроме того… — Кроме того… — повторила женщина, поторапливая неожиданно умолкшего рыцаря. — Кроме того… Собственно, ради чего описывать короля иначе, чем своего повара? Правда, всякое сравнение хромает. У меня никогда не было своего повара, зато повелителей — хоть отбавляй… Да, на первый взгляд Сигизмунд может очаровать человека. После второго взгляда его чары слабеют. Третий взгляд всякий человек с маломальским умом бросает на дверь, стараясь как можно скорее унести ноги. О, Сигизмунд умеет очаровывать! Человек может отдать за него душу. Он быстро возненавидит Сигизмунда, но по-своему уже никогда не перестанет восхищаться им. Сигизмунд унаследовал это качество от Карла IV в большей степени, чем его братишка. Один черт разберет, как удивительно обернулось в нем каждое доброе качество отцовской натуры. Ему нужно одно: характер. Имей его, Сигизмунд сможет стать настоящим мессией. Этот человек недалеко ушел от дьявола. Несмотря на это, я повторяю: если вы хотите выбирать между папой, кем-нибудь еще и Сигизмундом, то держитесь последнего. Держитесь его: он не лучше других владык, но похитрее их. Донна Олимпия, внимательно слушавшая его, признательно кивнула: — Вы отлично справились со своим делом, друг… — Если вы пожелаете, — сказал рыцарь, — я изложу самые важные мысли письменно. Разумеется, сейчас я вряд ли смогу что-нибудь написать. Это — самый лучший комплимент вашему бургундскому столу. — Не утруждайте себя, — улыбнулась женщина, — я не умею читать. — Освальд Волькенштайн вытаращил глаза, но донна успокоила его: — Не волнуйтесь, я ничего не забуду. Своими сообщениями вы оказали мне неоценимую услугу. — Что вы! — поспешил рыцарь. — Я не считаю свою услугу настолько великой, чтобы ее нельзя было оценить. — Посмотрим, — многозначительно сказала Олимпия рыцарю, и ее лицо, полное дьявольских чар, стало еще соблазнительнее. — Я обещала уплатить вам столько, сколько вы пожелаете. У вас исключительно благоприятный случай. Я готова на всё. «Дешево она хочет рассчитаться со мной, — подумал рыцарь. — Не глупа, хоть и не умеет читать». Рыцарь Освальд фон Волькенштайн не мог не признать, что он никогда бы не добился согласия донны Олимпии на то, что она предложила ему сама, даже если бы у него в мошне было столько денег, сколько душа пожелает. Он с трудом разбирался в происходившем. Рыцарь вспомнил о своем пустом кошельке, нищенском завтраке, который ожидает его утром, о грязной комнате в постоялом дворе, — из нее он мог бы выбраться в роскошные покои, — о своем ветхом платье, о… многие блага оказались бы ему доступны, если бы она щедро рассчиталась с ним. Были бы у него и женщины. Но он никогда в жизни не нашел бы себе такой изумительной красавицы. Никогда. Лишь один-единственный раз подвернулся ему такой счастливый случай. Боже, боже! Как нелегко дается поэту благоразумие, если вино разливает свое тепло по жилам, а рядом — чудо красоты. Такая красавица, и так близко! Расстояние между ними даже уменьшилось, когда Олимпия поднялась. Тотчас встал и рыцарь. Она подошла и прильнула к нему. Почувствовав неровное дыхание донны, он взглянул ей в глаза. Они горели и жгли его сильнее, чем пламень вина. Сладкие судороги сковали тело рыцаря — его рука коснулась груди, слегкавыступавшей над самым вырезом корсажа. — Что ж, если вы решили… — сказала женщина, дотрагиваясь до шнуровки платья. В словах донны прозвучало нескрываемое равнодушие, а ее движения показались рыцарю слишком привычными. В последний миг Освальд фон Волькенштайн увидел всё в истинном свете. Он попятился к своему креслу, вытер пот со лба и сказал почти трезвым голосом: — Мадонна, я хочу ответить вам вашими же словами. Мы достаточно опытные люди, чтобы не делать глупостей. Кроме того, вы слишком красивы. Ради чего мне тревожить свой душевный покой? Вознаградите меня иначе. Нет-нет, я не имею в виду деньги. Если бы вы заплатили мне самую баснословную сумму, то через несколько дней у меня от нее всё равно ничего не осталось бы. Я мечтаю о более прочном вознаграждении — оно должно обеспечить мне прибыль. Мне хочется растянуть это вознаграждение на долгий срок. Я был бы счастлив, если бы в Констанце смог бы заходить к вам и дышать одним с вами воздухом. Обещайте, что вы позволите мне изредка навещать вас и что вы постепенно рассчитаетесь со мною: сообщите мне кое-какие сведения из своих источников. Тогда и вы поможете мне лучше разобраться в делах этого суетного мира. Донна Олимпия мгновение колебалась, но потом, взглянув из-под опущенных ресниц, подала ему руку: — Согласна. Ваше решение настолько мудро, что я отнюдь не чувствую себя задетой. А теперь примите мой подарок в знак восхищения вашим ответом. Донна Олимпия стукнула пальцами по бокалу, и перед рыцарем, как привидение, появился паж, который привел его сюда. До Освальда фон Волькенштайна донеслось еще несколько слов донны. Она приказывала мальчику отвести рыцаря домой и отнести ему кувшин бургундского. Потом ему в лицо пахнула свежая сырость, а перед глазами засверкали яркие звёзды. — О Олимпия!.. Только теперь рыцарь Освальд фон Волькенштайн почувствовал, как он опьянел… (обратно)
Кардинал
«Кардинал римской курии Франческо Забарелла — фра Ансельмо, монаху ордена святого Франциска.Дорогой друг! Вот уже вторую неделю я нахожусь в пути, и мне опротивело вынужденное общество ослов всевозможных мастей — как четвероногих, покрытых шерстью и несущих нас на своих спинах по крутым горным тропам, так и бритых двуногих, подобно мышам и лягушкам грызущихся между собой. В Риме хоть можно было пропускать заседания курии, — на них не услышишь ничего, кроме обычной чепухи, — и проводить время в уединенном уголке, где меня всегда ожидали мои любимые друзья — возвышенный Вергилий, благородный Гораций и страстный Овидий. Здесь же я, словно узник, нахожусь в тесном кругу своих сановных собратьев, — а он весьма жалок и числом и узостью своих интересов. Мне кажется, что духовный мир прелатов тем беднее, чем выше их сан. Мысли этих святых отцов, как водомерки, несутся по глади лужи и ограничиваются лишь заботами о своем желудке и личной карьере. Долгое пребывание в обществе таких людей поистине утомительно. Предчувствуя это, я захватил с собой любимые книги — „Пасторали“ Вергилия и „Метаморфозы“ Овидия. Они хранятся у меня в дорожном сундучке. Однако даже моя предусмотрительность мало чем облегчает путешествие в горах, где еще царит полная дикость. Чтец Верджерио здесь схватил альпийский насморк, необузданный, как жители этих гор. Ты, конечно, догадываешься, что Верджерио не доставляет мне никакого удовольствия своим чтением, — ведь Юпитер, соблазняющий смертных женщин, у него гнусавит. Мне кажется, скоро этот юноша сможет передавать одни причитания нимфы Эгерии, которая от вечного плача превратилась в воду. Но в „Метаморфозах“ не много эпизодов, рассчитанных на чтеца с альпийским насморком. Мне же читать при коптящей деревенской лучине не позволяют глаза. Я рад тому, что еще могу писать. В таких обстоятельствах жребий пал на тебя. Ты будешь моим молчаливым собеседником. Излагая тебе свои думы, я мысленно вижу перед собой самого дорогого и близкого друга, хотя в сию минуту ты находишься, пожалуй, значительно дальше от меня, чем когда-либо прежде. Мне стало известно, что ты покинул обитель своего ордена и отправился на поиски царства святого Иоанна. Ученые мужи предполагают, что оно находится где-то далеко от нас, в Азии, и его пределов скорее достигнет мысль, разбуженная мечтами и надеждами, чем нога человека. Тем легче создать обетованный край в воображении, наделив царство грез всеми чертами совершенства, каких нет на нашей грешной земле. Ты ищешь царство божие первых христиан, которого не нашел и не мог найти дома, а я, подобно тебе, еду в Констанц, на собор. Мы тоже стараемся утвердить власть божьего закона на земле. Я вижу тщетность твоего паломничества, устремленного в непостижимую неизвестность, но завидую тебе. Как много оно обещает! Как прекрасно твое паломничество в сравнении с моим странствием. Нас объединяет стремление к одной цели. Ты надеешься найти желанное царство святого Иоанна, которое зиждется на обычаях первых христиан. Констанцский собор также постарается путем проведения реформ вернуть церкви ее прежнее величие. Ты можешь обидеться, если я sub linea[464] напомню тебе, что ныне любой еретик, лоллард[465] и патарен[466] также взывают к церкви, дабы она вернулась к строю и нравам первоначального христианства. Но с какими бы усилиями и с какой поспешностью ни стремились бы они к этой цели, их взоры обращены назад! В таком случае нетрудно споткнуться. Не кажутся ли тебе эти „возвраты“ подозрительными? Разве смогу я, старик, на склоне лет вернуться к наивной простоте своей юности? Будь это возможно, я с бóльшим уважением отнесся бы к тем пророкам, которые исповедуют как учение Христа, так и учение антихриста. Я надеюсь, дорогой друг, ты не примешь всерьез мои слишком скептические экскурсы в прошлое. Со мной произошел один незначительный случай, который неожиданно испортил мое настроение, как зернышко перца в жарком, попавшее на зуб. Но этот случай не столь важен, чтобы на нем задерживаться. Лучше вернемся к нашей теме. В наши времена возможно лишь одно возвращение к прошлому, которое я признаю и которому я готов отдаться душой и телом. Это — возврат к идеалу античной красоты. Даже ты, осуждающий эти строки, не заставишь меня отречься от них. Мы живем в самом начале грядущего возрождения античного искусства. Это искусство восстает из земли и библиотечной пыли подобно тому, как божественная Венера родилась из морской пены. Ведь еще не прошло ста лет, как мы начали разыскивать и хранить произведения когда-то пышно расцветавшего искусства, а сколько сокровищ уже нашли и продолжаем находить! Плуг земледельца, мотыга садовника и кирка каменщика всё еще натыкаются на белоснежный мрамор. Исковерканный и разбитый, он открывает нам новый мир — мир удивительной красоты и подлинного совершенства. Вместе со своими единомышленниками ты считаешь недопустимым увлечение и тем более восхищение доброго сына церкви творениями древних язычников. Но что такое красота, если она — не торжество бога? Разве творец вселенной, и, стало быть, сам наивысшее совершенство, не славит в ней себя? Незадолго до отъезда из Рима мне удалось увидеть у папы мраморный торс Венеры, который где-то раздобыл его секретарь Поджо Браччолини. От статуи сохранилось только туловище. Но благодаря своему совершенству оно вызывает впечатление какой-то необыкновенной цельности. Ничто не мешает представить себе, как выглядела когда-то статуя Венеры, ибо даже в самом малейшем обломке не перестает существовать законченность прежней формы. Любуясь красотой торса языческой богини, я проникаюсь большей любовью к творцу вселенной, чем при виде тощих святых мучеников и мучениц, заполняющих наши храмы. Да, языческая идея, водившая рукой античного ваятеля, никоим образом не мешает мне благочестиво восторгаться красотой и совершенством, которые славят бога! Признаюсь, самые правоверные, но худые, как скелеты, статуи наших христианских мастеров никогда не вознесут мою мысль к небесам. В своей неумолимой строгости вы требуете, чтобы идеал красоты соответствовал идеалу христианского благочестия. Но вы путаете две вещи, которые в искусстве никак не связаны друг с другом: содержание и форму! Разве ты не знаешь, что у человека два органа: сердце, источник чувства, и голова, источник разума. Оба они самостоятельны. Наше сердце радуется при виде красоты, в чем бы она ни проявлялась: в женском теле, статуе, песне, стихе, картине, — независимо от содержания произведения, лишь бы форма была прекрасна. Точно так же наш разум повелевает нам неуклонно защищать церковь, ее строй и догматы, ибо мы хорошо знаем, что на них зиждется порядок всего мира, иерархия всех достоинств и санов, их вечная неизменность. Мы придерживаемся основ нашего вероучения, сознательно не замечая форм, в которых оно проявляется. Поверь мне, стóит один раз взглянуть на нашего нынешнего святого отца, чтобы больше никогда не восхищаться им. Тот, кто захотел бы судить о церкви по ее внешним формам и их проявлению (к чему иногда приходится прибегать во время святой борьбы за власть и признание), непременно разделил бы выводы презренных еретиков, которых мы не зря… сжигаем. Стало быть, наше художественное и эмоциональное восприятие ни в коем случае не следует связывать с нашей верностью церкви, как незачем связывать в искусстве форму с содержанием. Иначе — чем я могу объяснить свой восторг при взгляде на торс языческой статуи и глубокое отвращение к статуе мадонны с Христом, которую мне довелось недавно увидеть в церкви? Я с ужасом подумал о том, что если бы я не познакомился с тонко и изысканно воспитанными античными поэтами, то выругался бы, как язычник! Признаюсь, я до сих пор с отвращением вспоминаю эту христианскую статую, отлично сознавая, что такое убожество не стоит даже исписанных чернил. Сначала я не хотел упоминать об этой статуе, но мое преклонение перед формой вынудило меня описать тебе ее. Теперь я хочу вкратце рассказать об этом. Сегодня я добрался до какой-то тирольской деревушки, название которой не могу выговорить из-за дикого скопления согласных. Но дело не в этом. Как обычно, где только возможно, я стараюсь разыскать хотя бы намеки на прекрасное, которое встречается порой даже в самом глухом углу. Единственной приметной постройкой этой захолустной деревни оказалась ветхая церковка. Она, подобно всем церквам на севере, строгая, мрачная и неуклюжая. Я вошел в церковь и еще больше разочаровался: она была пуста, как хижина нищего. Лишь над алтарем возвышалось деревянное изображение девы Марии с телом Распятого. Я, пожалуй, за всю свою жизнь не видел ничего более отвратительного, чем эта статуя! Христос лежал на коленях матери в каком-то странном оцепенении. Казалось, что его живым вогнали в очень тесный саркофаг, переломали ему все члены и, уже скрюченного, вынули и положили на колени мадонны. Он беспомощно лежал, вытянув вдоль тела руки, тощие и прямые, как жерди. Из ладоней Христа выступала кровь: варвар-ваятель изобразил ее в виде крупных продолговатых капель. Казалось, отвратительные красные черви выползали из Христовых ран или, точнее, висели по их краям и сосали его кровь. Более ужасная рана, кишащая такой же тварью, зияла в боку Христа. Я еще не сказал тебе о том, что художник грубо раскрасил обе фигуры. Голова Спасителя оказалась запрокинутой назад, рот полуоткрыт, а глаза глубоко ввалились. Но отвратительнее всего было тело Спасителя, — когда глядишь на него, на ум приходит мысль о начинающемся разложении. Это было весьма точное изображение трупа человека, а не божьего сына. Признакам смерти мастер придал непомерно большое значение. Зато лицо Девы Марии казалось живым, так хорошо передавало ее черты дерево. Мадонна была лишена всякой божественности. Небрежно вырезанное лицо, измученное страданиями, опухшее от слёз, — две слезинки еще торчали у нее на щеке, — походило на лицо деревенской бабы. Оно было ужасно искривлено. Ее губы перекосились в жалкой гримасе. Грубыми натруженными руками богоматерь с трудом держала Христа на своих сильных коленях. Но эта деревянная фигура передавала не только страдания мадонны, — ее безысходное горе достигло отчаяния, обычно заканчивающегося протестом и бунтом. Я не могу припомнить, приходилось ли мне когда-нибудь раньше видеть подобное омерзительное произведение. Я отвернулся от этого чудовищного изваяния и заметил возле ступеней алтаря двух женщин, стоявших на коленях, — старуху, со слезами на глазах шептавшую какую-то молитву, и девушку, просившую мадонну как можно скорее послать ей жениха. Глаза обеих женщин пристально глядели на мадонну с Христом и светились глубокой надеждой. По-видимому, уродливые формы этих грубых фигур не мешали верующим считать их божественными. Мною овладели отвращение, сожаление и недоумение. Казалось, что я выбрался из грязного болота. До сих пор — уже минуло несколько часов — я не в силах забыть эту варварскую статую. Похоже на то, что я перестал быть хозяином своих мыслей: они упорно возвращают меня к тому, от чего я хочу поскорее избавиться. Мне до сих пор невдомек, как могло потрясти меня это жалкое искусство. Искусство прежде всего связано с понятием о красоте. Она передается стройностью форм. Мы наслаждаемся этой формой благодаря ее совершенству. Только прекрасное способно возвышать, облагораживать и вызывать у нас радость и восхищение. А тут один взгляд на топорную работу какого-то деревенского недотепы взволновал меня сильнее, чем прекрасное творение древнеримского мастера. Это смешно. Но это всё-таки естественно. Мое волнение связано только с ненавистью и отвращением к безобразному. В этом суть. Действительно, я не знаю, ради чего так напрасно раздражаться. Смотри-ка, какое спокойствие и какую уверенность дает нам истинное искусство! Я раскрываю „Метаморфозы“ Овидия и на первой же странице читаю:
Первым на свете был век золотой, чуждый любого возмездья.
Он испокон защищал, без судей, и правду и верность.
Вечно царила весна. Зефир своим легким дыханьем
Нежно лелеял цветы, прежде не знавшие сева.
Землю никто не пахал, но она урожай приносила.
Поле всегда золотилось нивой тяжелых колосьев,
Реки текли молока, струились потоки нектара,
Капал мед золотой, сочась из зеленого дуба.
Негоциант
Матиас Рунтингер стоял у окна своей конторы и смотрел во двор. Со второго этажа была хорошо видна просторная квадратная площадка. По ее краям теснились конюшни, сараи и склады. Хмурое ноябрьское утро вяло пробиралось сквозь холодную мглу. За ночь мороз успел посеребрить крыши сараев густым инеем. Кучера выводили из конюшен ломовых лошадей с широкими крупами и ногами, покрытыми густой шерстью, опускавшейся до самых копыт, — ноги лошадей походили на грубые колонны. Подковы глухо стучали по мерзлой земле. В морозном воздухе висели клубы пара, валившего из лошадиных ноздрей. Рунтингер хозяйским оком глядел на битюгов, на сплошную стену крепких, вместительных построек и следил за работой кучеров. Его взгляд задержался на пузатых телегах с парусиновыми верхами: две, три, шесть… Вчера эти телеги грузили до позднего вечера. Сегодня они выедут в Нюрнберг. Кажется, он уже всё объяснил им… Покинув Равенсбург, они сразу разделятся: три повозки направятся на Ульм и три — на Аугсбург. Осторожность не повредит. Если кто-нибудь позарится на один обоз, пройдет другой. Уже пора прибыть и Клотцфуссу, — он со своими ребятами будет охранять обозы… А что там копается Крюппельганнес? В самую последнюю минуту он собрался менять подковы. Нечего сказать, хорош! Ну, кажется, подковы у его коней в порядке. В углу парни разгружают ящики. Слава богу, ни один не пропал. Товар редкостный — кожаные обои из Испании. Рунтингер еще не решил, кому продать их: вюртембергскому герцогу или регенсбургскому оптовому купцу Онезоргу, — он продаст их тому, кто даст больше. Скорее прибежит к нему герцог, — хотя и Онезорг начал жить на широкую ногу! Негоциант относился к своему сопернику с завистью и презрением. Онезорг, видимо, идет в гору; неплохо бы посмотреть на его векселя и кредитные письма, — Онезорга следовало бы как-нибудь подсидеть. Перед тем как лопнуть, надувается и жаба… Нужно бы поскорее инкассировать, а тут, черт побери, пора уезжать! Именно теперь! Впрочем, более подходящего момента не представится и позже. Купец всегда должен находиться у своих товаров. Он сидит с ними, как паук в паутине, чувствуя малейшее подергивание нити в самом отдаленном уголке. К купцу стекаются такие сообщения и сигналы, которые понятны одному ему. Кто-нибудь выбросит на рынок большую партию товара, и он немедленно решает: воспользоваться этим или убраться восвояси, чтобы самому не попасть в ловушку! Купцу стóит только понюхать и пощупать товар, как он обязательно что-нибудь придумает. Разумеется, принимать решения на расстоянии совершенно невозможно. Но ничего не поделаешь. Придется ехать… и он поедет. Конечно, тут не обойтись и без убытков… Собственно, их не будет, — он получит только меньше прибыли. Правда, маленькая прибыль там, где она может быть большой, тоже убыток. Положение улучшат заработки в Констанце. Обязательно. Иначе зачем ехать туда? А другой голос внушал: ты поедешь, даже если весь мир перевернется вверх ногами. Кто пожелает упустить такой подходящий момент? В Констанце затапливается огромная печка, — в ней будут печь титулы, чины, государства с их границами, правительствами, союзами. Одним словом, там будет делаться высокая политика! На чем? На деньгах, известной старой подливке! Только дурак откажется от выгодного заработка. Такого промаха — Констанц прямо под носом! — не простишь себе до самой смерти. Если уж очень захочется побывать дома, то в любой момент можно вернуться. Впрочем, это было бы даже неразумно. Не нужно быть мелочным. У Боденского озера завязывается игра могучих сил. Ее нельзя терять из поля зрения, иначе утратишь ориентировку. Бог весть, как старому Матиасу удастся впутаться в эту игру… Ему бы только довести, начатое дело до конца. Отсюда не ускачешь на несколько деньков: иногда достаточно одного дня, чтобы всё пошло к черту. Старые связи легко рвутся, а новые завязываются медленно. Если тебя нет при деле, твое положение настолько шатко, что лучше начать всё сначала. Нет, он будет спокойно торчать на одном месте, наблюдая, прислушиваясь и мотая себе на ус. Только таким путем он выберет подходящий момент, разложит товар или подмажет пятки. Собственно, его душа уже больше в Констанце, чем в Равенсбурге. «А кто будет дома? Что ж… Дела придется передать Мельхиору. Бедняга мальчуган… Следовало бы раньше обратить на него внимание. Верно, следовало бы. Но когда? Дома у меня никогда не было свободной минутки. Да и часто ли я грелся у семейного очага? Вниз я спускаюсь только для того, чтобы поесть и поспать. За обедом никто не смеет тревожить меня болтовней. Даже за столом я не перестаю думать о деле. Собственно, с сыном я вижусь только в конторе. Да и там я немного разглядел в нем. Мельхиор приходит всегда точно, как все писари, усаживается за свой столик и не отрывает глаз от бумаг, пока соседи не пойдут на обед или не кончат работу. Сын никогда ни о чем не спрашивал у меня, а я никогда ничего не рассказывал ему. А теперь я должен доверить Мельхиору такое большое дело! Хоть бы он содержал его на нынешнем уровне! Правда, сын — добросовестный, старательный и аккуратный. Он никогда не промахнется, не пожалуется на свою усталость, хотя с виду тоненький, как былинка. Все эти достоинства хороши для прилежного писаря — и только! Он может оказаться совершенно неспособным, когда ему придется самостоятельно обдумывать коммерческие вопросы, вести дело самому. Тут же недостаточно уметь считать, — надо решать. Мне следовало бы пораньше поговорить с ним, — ведь я прекрасно знал, что поеду в Констанц и что мне понадобится замена. Всякий раз, когда я встречался с сыном, у меня пропадала охота говорить об отъезде. Откуда у парня взялись холодные рыбьи глаза? Его лицо — лицо старика, губы совершенно бесцветны… Торговля мне, слава богу, всегда удавалась, а вот сын почему-то не удался! Вчера я сообщил ему об отъезде. Черт возьми, я хорошо помню свою первую торговую сделку. Когда покойный батюшка позволил мне заключить ее, я был горд и от радости чуть не подпрыгнул до потолка. А Мельхиор? Он поднял свои безжизненные рыбьи глаза и еле выдавил: „Слушаюсь, батюшка“. И это всё, что он сказал. Казалось, сын воспринял это, как приказание, — точно я поручил ему купить бочку селедок. Откладывать поездку больше нельзя — наступает последний вечер. Нужно поговорить с сыном по душам и дать ему самые необходимые указания». …За спиной Матиаса Рунтингера скрипнула дверь. Осторожно передвигая ноги по дощатому полу, в комнату вошли писари. Рунтингер даже не повернувшись в их сторону, что-то пробурчал в ответ на их приветствия. Писари начали усаживаться за свои столики, скрипя стульями, шурша одеждой и шелестя бумагой. Что ж, он, пожалуй, попробует! Купец повернулся к писарям и сказал: — Убирайтесь отсюда к черту! Сейчас вам надо быть на складах и во дворе. Просмотрите товар и сверьте его по накладным. А ты, Мельхиор, останься… Все писари, кроме Мельхиора, сидевшего за своим столом, как воробьи выпорхнули во двор. Спокойный и невозмутимый, Мельхиор даже не взглянул на отца. Худыми костлявыми пальцами он приводил в порядок бумаги, перья и свинцовые палочки. Матиас Рунтингер хотел было крикнуть на сына и расшевелить его, но вовремя спохватился. Желая приободрить себя, купец принялся ходить по комнате. Только после третьего поворота он заговорил с сыном. Беседуя с Мельхиором, Матиас Рунтингер не испытывал никакого воодушевления. Купцу казалось, что он бросал горох в стену. Но когда Матиас начал передавать сыну свой опыт и свои знания, то неожиданно обрадовался. В его душе заговорил старый хищник, совершивший на своем веку немало удачных сделок. Он разбирал самые яркие операции, подчеркивая то одну, то другую, важную, но мало заметную на первый взгляд деталь, от которой зависел успех. Его походка становилась более уверенной, на скуластом лице заблестели, и ожили глаза. Он не сразу избавился от воспоминаний о своих старых удачных сделках. К черту! Сначала он даст Мельхиору несколько практических советов! — Главное, не бойся риска! Придерживайся правила: не рискуй всем сразу. Меня научили этому итальянцы. Фирмы никогда не отправляют крупную партию на одном корабле, — можно потерять весь товар. Только мелкие купчишки грузят весь товар на одно судно и отправляют его бог весть куда. Доберется оно до места — хорошо. Нападут на него, — это происходит в пятидесяти случаях из ста, — товар окажется в лапах у дьявола, турок или пиратов, а господин негоциант останется с носом. То же самое на суше. Ты, наверное, обратил внимание на обозы, которые отправляются сегодня в Нюрнберг. Мы посылаем либо половину партии, либо всю, но по двум разным дорогам. Если ты не сможешь отправить товар несколькими частями, пошли его с обозами других купцов. Даже тогда, когда крайне необходимо ехать самому, не езди по торговым дорогам. Если ты будешь часто сопровождать товар, то рано или поздно попадешь в руки какого-нибудь рыцаря-разбойника или целой банды с большой дороги. Выкуп они назначают с учетом состоятельности хозяина фирмы. За твою или мою голову нам придется рассчитаться ценой нашей фирмы. Лучше посылай поверенных, — с них нечего брать. Не остается ничего другого, как доверить продажу и закупку товаров за границей нашим агентам. Где их адреса, ты, наверное, знаешь. Правда, они бессовестно вымогают большие комиссионные, но исчисляют свой заработок в зависимости от полученной прибыли, а не от суммы, вырученной за весь товар. Излишняя осторожность столь же вредна, сколь опасен нелепый риск. Возьми к примеру наш провоз по Дунаю и представь себе, какие бессовестные пошлины дерут с нас на реке. Что будет с нами, когда мы объявим истинный вес наших грузов на судах? Подсчитав и взвесив весь наш товар, чиновники загребут такую пошлину, что нам придется лезть в петлю. Хотя они крепко урезают нашу прибыль, но нам выгоднее терпеть такой убыток, чем платить установленную пошлину за честно подсчитанные и взвешенные товары. Только за этот год через Регенсбургскую таможню прошло восемьдесят пять миллионов фунтов меди и шесть тысяч бочек меда. Попробуй-ка подсчитай всё это! Будь осторожен с чешским серебром: нечеканеного из королевства не вывози. Одним словом, никогда не покупай серебро на месте, подожди, когда его вывезут за пределы Чехии. Не забывай о наших менялах в Нюрнберге и Регенсбурге. Помни: Нюрнберг относится к области, где в ходу рейнский гульден, а Регенсбург — к области венгерского гульдена. При обмене в Нюрнберге дают меньше за венгерский гульден, а в Регенсбурге — за рейнский. Следи за тем, чтобы наш регенсбургский меняла копил рейнские гульдены, а нюрнбергский — венгерские. Регулярно переправляй рейнские гульдены в Нюрнберг, а венгерские — в Регенсбург. Обменяв их на гульдены с меньшей стоимостью, ты вернешь полную стоимость на месте. Никому не болтай, — до этого пока никто, кроме меня, не додумался. Обрати особое внимание на шафран. Прежде его вывозили с Востока. Теперь мы покупаем шафран в Испании и Нижней Австрии, — там его стало уже довольно много. У нас сохранилась тара из-под восточного шафрана. Переложи в нее испанский или австрийский шафран, и он превратится в восточную пряность. Продай его дороже, — рассчитывай все транспортные и таможенные расходы так, как будто товар прибыл с Востока. Я сообщу тебе, когда приостановить продажу шафрана оптом. В рознице он будет еще долгое время иметь успех. Шафран — золотая статья нашего импорта. На шафран очень падки мелкие купчишки, которым невдомек, почему он не дает им никакого заработка. На лице Рунтингера появилась и сразу исчезла довольная улыбка. О, он хотел бы поговорить со своим сыном, как равный с равным, а эта бледная немочь всегда серьезна и не понимает, над чем и ради чего ему улыбаться! Блеск в глазах Рунтингера погас, — негоциант привычным голосом спросил сына: — Догадываешься, почему мелкий купец не может разбогатеть на шафране? — Разумеется, батюшка, — ответил Мельхиор с совершенно невозмутимым спокойствием. — Мелкий купец может достать товар только от импортера, тогда как агенты нашей фирмы скупают весь урожай шафрана прямо у его производителя. Рунтингер остановился перед столиком и испытующе посмотрел на сына: — Постой! Тогда возьми другой товар — перец. Мы запасли его в приличных количествах, я сказал бы, даже больше, чем следует. Мне пришлось заплатить за него бешеные деньги. Цена на него вот-вот упадет. Не боишься этого? Какой выход придумал бы ты? Немедленно избавиться от перца, — в этом случае появилось бы неограниченное предложение, ты получил бы минимальную прибыль и вызвал бы дальнейшее падение цены на перец, — или дождаться нового повышения цены? Рано или поздно перец подорожает, но пока он лежит мертвым грузом. Как поступил бы ты с перцем? Только теперь на бледном лице юноши мелькнула слабая улыбка: — Я, если вы, батюшка, соблаговолите выслушать мое мнение, учел бы ваше совершенно справедливое указание, что цена на перец может снова подняться. Если вы окажетесь в Констанце, то узнаете об этом раньше кого-либо другого. Стало быть, я мог бы получить от вас такое сообщение. Часть перца я продал бы немедленно: при этом мы ничего не потеряли бы. Разумеется, лучше продать его в небольших количествах — ровно столько, сколько понадобится, чтобы вызвать к нему интерес. Я не стал бы опровергать слухи, что мы спешим продать перец. Если эти слухи вызовут падение цены, то оно нам на руку. Когда же цена понизится и снова устоится, я продам все запасы — без прибыли и без убытка. Я распродал бы этот перец мелким купцам, потребовав от них обязательство — продать мне позже тот же товар и за ту же цену, по которой они получили его у меня. Подобная торговая сделка ныне имеет довольно широкое распространение. В период между падением и повышением цены на перец у меня освободились бы деньги для закупки других товаров. Потом, после получения ваших надежных сведений, наступило бы время для нового повышения цен. Я потребовал бы от купцов весь перец и только тогда бы начал спокойно продавать его, но уже дороже. — Ты хочешь использовать действительное и искусственное падение цен для освобождения мертвых денег и для прочного обеспечения товарами в будущем, когда они могут окупиться? — Матиас Рунтингер подвинул табуретку поближе к сыну и сел рядом. — А теперь посмотрим на это с другой стороны: перец поступает к нам через Альпы, из итальянских портов, и проходит таможни тирольского герцога Фридриха. Мне сообщили, что герцог встал на сторону папы Иоанна XXIII, который дружит с королем Сигизмундом, как кошка с собакой. В Констанце они будут драться не из-за одной общей кости. Папа — старый забияка, а Сигизмунд — бесцеремонный негодяй. Эти петухи вцепятся друг другу в глотку и будут биться до тех пор, пока один из них не останется на мусорной куче. Если Сигизмунд победит Иоанна XXIII, то вместе с папой потерпит поражение и Фридрих. Тиролец может проиграть всё до нитки, бог знает, какая судьба постигнет тогда не только его герцогство — Тироль, но и его таможенные пошлины. Надо бы вовремя узнать, что станет с перечной дорогой, проходящей через Тирольские Альпы… — В голове Рунтингера мысли возникали быстрее, чем он мог их высказать. — Забавно то, как высокая политика может определять нашу прибыль на перце. Было бы куда приятнее, если бы перец определял высокую политику, — заметил Мельхиор. — Нам, купцам, достаточно знать, какую кашу заварят господа, — захохотал отец и уставился на безжизненное лицо Мельхиора. Старику казалось, что сегодня он впервые узнал своего сына. Так вот каков он! Кто бы мог подумать, что Мельхиор достаточно умен? Нет, он не подведет старого Матиаса. Рунтингер встал и не торопясь застегнул плащ. — Сначала я хотел, чтобы ты следовал во всем моим указаниям и каждую неделю отчитывался, — признался он сыну, уходя из конторы. — Я передумал; не посылай никаких отчетов. Мне будет достаточно того, что ты пришлешь сам. Я сообщу тебе всё, что смогу. Мельхиор Рунтингер, признательно кивнув Матиасу Рунтингеру, почти сонным голосом сказал: — Батюшка, пошлите мне сюда какого-нибудь писаря!.. (обратно)Гус
— Дьявол! За нами гонится дьявол! — кричал, поднявшись на стременах, всадник в алом плаще. Взмыленный злой конь, еле сдерживаемый поводьями, плясал под седоком, вздымая пыль. Люди, выбежавшие из домов, испуганно таращили глаза на крикуна и на отряд вооруженных всадников, скакавших за ним, и не сразу заметили роскошный паланкин, который несли два лошака, покрытые лиловыми попонами. — Скоро сюда прибудет архиеретик! Дверца паланкина приоткрылась, и из него выглянула большая бритая голова в лиловой шапочке. Крошечными глазками духовный сановник с любопытством обозрел площадь, — он хотел видеть, как подействовали на крестьян слова всадника. Женщины тряслись от страха, но попробуй что-нибудь прочесть на тупых лицах истуканов-мужчин. Недовольный священник кивнул первому всаднику, чтобы тот продолжал свою речь. — Дьявол оделся в рясу — так ему легче обмануть человека! — снова закричал всадник в алом плаще. — Под рясой священника скрывается коварный колдун! Посмотрев на вас, он тотчас угадает ваши сокровенные мысли. От одного его взгляда киснет молоко в груди матери, пропадает сила у мужчины. Остерегайтесь колдуна! Заприте двери своих домов и не выпускайте детей на улицу. За нами мчится дьявол, архисатана! Из окошка паланкина высунулась белая жирная рука с ярким перстнем и начертала в воздухе знамение креста. Женщины, стоявшие у дверей, опустились на колени, а мужчины перекрестились. Священник, позже всех выбежавший из фары,[467] упал на колени прямо в грязь. Через минуту караван тронулся. Священник поднялся и, стряхнув пыль со своей рясы, огляделся. Да, крестьяне смотрели на него, — женщины — с невыразимой тоской, мужчины — чего-то выжидая. Что мог он посоветовать им? Ему проще всего собрать их вместе, запереть в своей церквушке, — в ней они будут под его крылышком до тех пор, пока через их деревню не проедет этот… Но священник знал, что никто из крестьян не пожелает покинуть своего домишка. Да и сам он был беспомощен и напуган не менее их. Его, вероятно, испугала не столько весть глашатая, сколько неожиданная встреча с высоким духовным сановником, — сельскому священнику не приходилось бывать рядом с епископом. Не придумав ничего утешительного, он вернулся в фару — помолиться богу, чтобы тот заступился за его бедную паству. И тут и там неожиданно заплакали дети, — матери поспешно уносили их домой. Мужчины сгрудились посреди площади. С дьяволом шутки плохи. Каждого разбирало любопытство — возможна ли вообще такая чертовщина? Правда ли всё это? Кто-то захохотал. Что говорил этот всадник? Черт, мол, переоделся в рясу! В этом нет ничего удивительного: ряса — самый подходящий наряд для дьявола. И они вспомнили обрюзгшее лицо священника, развалившегося в роскошном паланкине. По-видимому, это была какая-то важная шишка. Чего только не навешано на его лошаках! Даже попоны расшиты золотом! Поговорив еще немного об этом богатом караване, крестьяне решили, что всадник-глашатай лгал. Он повторял всё, что подсказывал ему человек, сидевший в разукрашенном ящике. Эти всегда лгут. Да, лгут… «Но какой прок им запугивать нас? — думали крестьяне. — Какой прок? Чем больше мы боимся их, тем они сильнее. Взять нашего капеллана. У него душа ушла в пятки от одних слов всадника! Скажет капеллану тот лиловый: „Лезь на дерево!“ — и наш попик полезет! Еще бы! Если они будут так зазывать дьявола, то он, пожалуй, в самом деле припрется сюда!» В тот день крестьяне так ничего и не узнали. Вечером они тщательно осмотрели ближайшие подступы к деревне и закрыли ставни на крючки, а двери — на запоры. Склоны Чешского леса,[468] заросшие деревьями, выглядели зловеще и мрачно. В лучах угасавшего солнца чернели, как деготь, еще недавно синевшие ели. Казалось, этот мрак поднимался прямо из самого ада. Над деревней спустилась ночь. В домах никто не спал. Женщины до самого рассвета держали в дрожащих руках лучины, а на полатях старики и старухи не переставая крестились и шептали молитвы.Утром никто из мужчин на работу в поле не вышел: жёны плакали, умоляя их остаться дома. Разве могут они кинуть жен и детей на произвол судьбы в такое ужасное время! На всякий случай мужчины положили у дверей топоры, а женщины держали наготове кресты. Но он всё же прибыл… Его появлению не предшествовали никакие предзнаменования — ни молния, ни серный дым. Уже издалека можно было заметить две приближающиеся повозки и группу всадников. Когда путешественники появились в самой деревне, крестьяне увидели, что первый всадник в самом деле одет в свободное темное платье священника. Они стояли в дверях, широко расставив ноги и держась за косяки, как будто от соприкосновения с ними становились сильнее. Женщины испуганно выглядывали из-за спин мужей. Когда священник и всадники, одетые по-господски, двигались улицей, мужики обнажили головы, — а их руки по привычке хватались за шапки. И тут произошло совершенно неожиданное. Священник и его спутники ласково кивали крестьянам в ответ на их поклоны. Крестьяне отродясь не видели от господ ничего подобного. В этот момент можно было поверить ввозможность любого чуда — даже такого, о котором болтал вчера всадник. По-видимому, всё это затеяно неспроста. И священник, и его спутники — странные господа! Тут что-то не так. Грохоча по ухабам и засохшей грязи, обоз продолжал двигаться вперед, пока не добрался до площади. Там и повозки и всадники остановились. Крестьяне затаили дыхание. Почему обоз не едет дальше? Чего они не убираются из бедной, искушаемой дьяволом деревни?.. Один из всадников указал рукой на церквушку, и обоз снова тронулся. Добравшись до фары, вплотную пристроенной к церкви, обоз остановился. Всадники спрыгнули с коней и забарабанили в дверь. В сердцах крестьян этот стук отозвался болью. Бедняга капеллан! Он высоко поднял руку и, защищаясь от дьявола, осенил себя крестом. Сейчас… Сейчас из-под земли обязательно вырвется пламя, и дьявол исчезнет в нем! Но пламя так и не вспыхнуло. Теперь перекрестился спешившийся всадник в рясе. Капеллан попятился назад, освободив ему дорогу в фару. За священником направились туда и его спутники. Возницы сошли с козел, привязали к дышлам верховых коней и дали им сена. Крестьяне стали переглядываться. Страх и любопытство недолго боролись между собой. Напрасно упрашивали и умоляли их жёны, — один за другим они начали выходить на улицу. Робко распрямляя плечи и подталкивая друг друга, крестьяне направились к каравану. Они осторожно прошли по улице, обогнули повозки и незаметно подкрались к низким окнам фары. Окна были затянуты промасленным пузырем, и сквозь него нельзя было разглядеть ничего, кроме силуэтов. Из фары доносились голоса гостей. Кто-то там даже засмеялся! Крестьяне не могли сдержать своего любопытства. Они вошли в сени и столпились у дверей. Двери неожиданно распахнулись, и на пороге появился один из путешественников. Он улыбался. Струхнувшие крестьяне отступили, освободив проход. Двери остались открытыми, и крестьяне, сгрудившиеся у порога, увидели в комнате своего капеллана. Капеллан сидел за столом вместе с гостями, напротив проезжего священника. Человек, выходивший в сени, вернулся в комнату. Он положил на стол хлеб, копченое мясо и маленький бочонок. В бочонке что-то булькало. Этот человек уже собрался было закрыть за собой дверь, когда священник взглянул на нее и увидел на пороге людей. Они внимательно осмотрели его. У незнакомого священника были глубокие темные глаза. Его взгляд проникал в самое сердце, — страх и тревога тотчас покидали того, кого он удостаивал своим вниманием. Тебе хотелось, чтобы этот священник глядел только на тебя. Даже тогда, когда гость устремлял свой взор на твоего соседа, тебе казалось, что священник, как солнышко, пробивающееся через разорванные облака, всё еще ласково смотрит на тебя. Священник подал крестьянам знак войти. Осмелев, они переступили порог и стали вдоль стен, а двое из них по приглашению капеллана уселись на свободную скамейку. Человек, принесший еду, начал резать каравай хлеба ломоть за ломтем, а проезжий священник заговорил с крестьянами. — Хотите убедиться, действительно ли я дьявол? — спросил священник. И, улыбнувшись, добавил: — Что ж, осматривайте… Вам не найти у меня копыта на левой ноге. Крестьяне захохотали. Гус живо и не без любопытства поглядел на них: — Кому вы принадлежите? Крестьяне никак не понимали, почему так внимательно и так ласково расспрашивает их этот священник. К сожалению, здесь сидит их капеллан. Разумеется, они могли бы ответить проезжему священнику на все его вопросы, но каждый побаивался своего капеллана и отмалчивался. Не успел магистр дождаться ответа, как отозвался сам капеллан: — Вайденскому августинскому монастырю. — Стало быть, ваш господин — церковь! — сказал Гус. Его глаза еле заметно сузились. — Хорошо вам живется под властью церкви? Крестьяне молчали. Они не желали отвечать на этот вопрос. Кому захочется говорить правду в присутствии своего капеллана. Он не дурной человек, но всякий священник есть священник. Капеллан молчал, опустив голову. Наконец крестьянин, стоявший в углу комнаты, ответил: — А что?.. Власть как власть! Господа одним лыком шиты. С чего бы духовным господам быть лучше других?.. — Одним лыком? — удивился Гус, — Нет, монахи должны жить по заповедям божьим: любить своих ближних, помогать всем страждущим и заботиться о своих подданных, как о родных детях. Крестьяне с удивлением посмотрели на Гуса. Последние слова магистра заставили их насторожиться. Ишь, какой! «Если проезжий в рясе — не дьявол, — думали они, — то нисколько не лучше его. Так или иначе, он — из духовных. Их легко узнать по тому, как они врут». А Гус спокойно продолжал: — Во времена святых апостолов всё имущество, необходимое для жизни человека, было достоянием членов христианской общины. Кому же, как не монахам, следовать этому примеру? Ведь они дали обет вести скромную жизнь. Как должны поступать те, кто по воле рока получил в дар деревни, поля, леса и пруды? Прежде всего — разделить свое богатство с подданными, бедняками, не оскверняя свои благочестивые души мамоной. Так они скорее всего приблизились бы к святым апостолам. Коли вы находитесь под властью монастыря, то вам, стало быть, можно ловить рыбу в его прудах, охотиться в его лесах и кормиться из его закромов… Голос Гуса звучал по-прежнему серьезно, а глаза искрились легкой мужицкой хитрецой. Крестьяне без труда разгадали смысл его слов. Губы их начали судорожно подергиваться, они засмеялись. Мигом избавясь от робости, они стали кричать друг другу: — Эй, Ганес! Когда аббат приглашал тебя в последний раз поесть карпов?.. — Однажды я собирал в лесу хворост и налетел на лесника. Я, дурак, полдня бегал от него и не догадывался, что он хотел пригласить меня поохотиться на оленя! Все засмеялись. Засмеялся и Гус. Крестьяне понимающе хохотали, ударяли друг друга шапками по спинам. Только один капеллан втянул голову в плечи и со страхом глядел на развеселившихся прихожан. Мужчина, стоявший у стола, нарезал хлеб и подал ломти своим спутникам и крестьянам. По мозолистым рукам пошел копченый окорок. Крестьяне осторожно резали окорок и клали кусочки его на хлеб. Мясо приятно пахло. Господи, как давно им не выпадало такое счастье!.. Капеллан наполнил вином всю свою посуду — оловянный кубок и две глиняные кружки. Тогда Гус поднялся со своего места и, сложив руки, произнес: — Господи, благослови пищу, которую ты милостиво ниспослал нам. Аминь. Нет, он, конечно, не дьявол. Гус и капеллан выпили по глотку. Кубок и кружки обошли всю комнату. Как легко и уютно стало в доме капеллана! Вино разлило по жилам свое приятное тепло. Крестьяне нетерпеливо ждали, не скажет ли им что-нибудь гость. А Гус продолжал: — Однажды я зашел в какой-то монастырь. Мне подали там кусок черствого хлеба и кружку слабенького пива. Я подумал: как бедно живут здесь монахи! Тут — словно бес искушал меня — я возьми и скажи им, что я — из богатой семьи. Отец, мол, уже стал стар и выбирает монастырскую церковь, в склепе которой монахи могли бы похоронить его. В благодарность за это он обещал оставить монастырю свое имущество. Не успел я договорить, как хлеб и пиво исчезли со стола. На их месте, словно в сказке, появились жаркое и бокал с вином. Может быть, я, в самом деле, колдун, и глашатай епископа кричал не зря? — Это волшебство мы знаем по проделкам нашего монастыря. Его апостолы отлично поделили: нам барщину и оброк, а себе — мошны и кружки, — уже без страха заявили крестьяне. Тут капеллан не выдержал и сказал: — Достойный брат, не суди их строго. Миряне говорят всё, что взбредет им на ум. Они — взбалмошные, но добрые люди. — Да, разумеется, — кивнул Гус. — Мне кажется, мы уже нашли общий язык. Я спросил их: добры ли их власти? Не дожидаясь ответа крестьян, капеллан сказал: — Даже самая лучшая власть заставляет людей грудиться на нее и платить оброк… — А коли она церковная, то платить и десятину… — добавил Гус. — Разумеется, ведь у церкви свои расходы… на духовное правление… — объяснил капеллан. — Сколько она платит тебе, брат? Капеллан удивленно посмотрел на Гуса: — Мне? За что? — Ты заплатил за этот приход? Капеллан грустно улыбнулся: — От этого прихода отказался бы и сам нищий Лазарь. Я — лишь капеллан. Меня послал сюда здешний приходский священник, который отродясь не бывал в этом селе. Каждый кусок хлеба я добываю трудом своих собственных рук: возделываю небольшую полоску приходской земли. Иногда мне помогают миряне: приносят курочку или ягненка. — Но разве ты не берешь плату с прихожан за святые таинства — крещение, исповедь и последнее помазание? — продолжал расспрашивать Гус капеллана, с трудом переводившего дыхание. Капеллан только махнул рукой: — Разве я могу? Ведь прихожане сами горемыки. Мне известно, как они живут… — А почему аббат Вайденского монастыря не желает ничего знать о них? Почему он к ним относится иначе, чем ты? На лбу капеллана выступили капельки пота. — Видишь ли… — неуверенно начал капеллан, — у монастыря немало своих дел. Ему приходится заботиться о церкви, украшать ее к вящей славе божьей. Монастырю нужны люди для ведения хозяйства. Ему надо… — Господи, как некстати вылетели из головы все аргументы, которые приводили святые отцы, передавая ему этот приход. — Вспомни, брат, где написаны такие слова: «Человек, зачем ты печешься о дворце для царя? Царь твой, Христос, лежит в хлеве, в яслях. Зачем ты помышляешь о богатых, пышных одеждах? Царь твой завернут в полотняные пеленки. Зачем ты стараешься окружить его слугами? Спаситель твой лежит между волом и ослом. Если ты хочешь сделать благо своему царю, сделай его беднякам — так ты воздашь ему». Магистр умолк. Никто не шелохнулся. Слушатели словно оцепенели, — перед ними неожиданно открылся светлый, ясный, чудесный новый мир. Магистр заговорил опять, — сначала торжественно, потом гневно: — Посчитай-ка, сколько монахов живет в вашей обители, сколько у монастыря деревень со всеми их угодьями — землей, лесами, прудами и каковы их доходы. Прикинь, сколько благ приходится на одного брата! Уйма денег! Горы хлеба и рыбы! Каждый монах мог бы накормить сотни и тысячи бедняков. Монастыри загребают чужое добро. Те, кто трудится на них, мыкают горе. А ты говоришь, что они делают это во имя вящей славы божьей! Капеллану легче было бы провалиться сквозь землю, чем слушать это. Он заметил, каким огоньком загорелись глаза слушателей. «Господи, за какие грехи ты послал мне такое суровое испытание? — подумал капеллан. — Почему я, выслушав эти слова, не обрадовался им, как эти мужики? Разве я не мучаюсь на своей маленькой полоске, не работаю с ними в лесных угодьях, не делю горе и радость вместе со своими прихожанами? Почему же я не могу быть на их стороне? Нет, я должен защищать своих благодетелей». Капеллан тяжело вздохнул и сказал: — Не пристало нам, подданным, судить господ. — Почему? — спросил Гус. — Разве не было дурных королей, которых народ не только судил, но и свергал с трона? Разве не было таких пап, которые лишались своих тиар? Подобное совсем недавно произошло на соборе в Пизе. Стало быть, мы должны судить своих господ: нам нужно знать, стóит ли им повиноваться. Крестьяне вытянули шеи, — последние слова священника очень заинтересовали их. Капеллан отрицательно покачал головой: — Властям надо всегда подчиняться. Они нам даны от бога. — Послушай меня, брат! — продолжал Гус, словно касаясь ран капеллана и утешая его в минуту тревоги и сомнения. — Ты сказал, что наши власти — от бога. Верно. Однако до них и для них он оставил свои заповеди. Если власти не следуют им и требуют выполнения таких приказов, которые противоречат божьим заповедям, то кого следует слушать — людей или бога? Капеллан задумался. — Видишь ли, достойный брат, — отозвался он, уже нисколько не возражая Гусу, — мы люди неученые. Нам не дано видеть то, что видишь ты. Гус живо посмотрел на крестьян. Они одобрительно кивали ему. Магистр обратился к капеллану уже не с улыбкой, а с легким упреком: — Как мало ты веришь, брат, в этих людей. Разумеется, они не читали ученых книг. Откуда им быть грамотными? От зари до зари они потеют за плугом, рубят деревья. Но что получают они за свой каторжный труд? Гроши. Вспомни, что сказал Христос своему отцу: «Славлю тебя, отче, господи неба и земли, за то, что ты утаил правду от мудрых и осторожных и явил ее сим малым и отверженным». Это они, брат, хранители такой правды, которая рано или поздно восторжествует во всем мире. Последние слова сильно подействовали на капеллана, — он впервые с доверием взглянул на магистра. Душа капеллана наполнилась необыкновенным теплом, — оно согрело его сердце и подернуло глаза влагой. Но внезапный прилив нежности и благодарности вылился у него в опасение за жизнь магистра: — И это ты… ты, человек с такими мыслями, едешь в Констанц? Разве ты не знаешь их? Не боишься?.. Не боишься?.. Гус молчал. — На своей последней вечере, — заговорил наконец магистр, — Иисус Христос сказал апостолам: «Один из вас предаст меня». Его верные ученики, не зная за собой вины, испугались. Не испугался один Иуда: он предал Христа… Я надеюсь, что не окажусь Иудой. Он встал, попрощался и направился к двери. Вслед за Гусом вышли из фары и крестьяне. Они обступили его, когда он садился на коня. Обоз тронулся. Сняв шапки, крестьяне долго смотрели, ему вслед. Когда он исчез из виду, они надели шапки и молча побрели домой. Не сразу пришел в себя и капеллан. Опершись на стол своей мозолистой мужицкой ладонью, он не отрывая глаз смотрел на то место, где минуту назад сидел удивительный гость. «Мне надо… Мне надо помолиться за него…» Капеллан подошел к полке, взял с нее ветхую Библию и стал перелистывать Евангелие от Матфея. Сложив руки, он начал читать вслух, словно обращаясь к своим прихожанам (а они, в самом деле, стояли рядом, у окна): — «Я посылаю вас как овец в волчью стаю: будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут предавать вас судилищам и бичевать на площадях…» (обратно) (обратно)
КОНСТАНЦ, ИЛИ CONSTANTIA, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОСТОЯННОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ
Вавилон
Солнце стояло над головой, когда Матиас Рунтингер подъезжал к Констанцу. За милю до города Рунтингер заметил необычное оживление. По Рейну плыли лодки и плоты, груженные соломой и сеном. Казалось, весеннее половодье несло целые стога. Зеленые и желтые, они медленно скользили по течению. Рунтингер то и дело обгонял крестьян. Мужчины и женщины тащили корзины, набитые до краев овсом и соломой. Людей под ношами почти не было видно. Всаднику казалось, что он ехал между огромными копнами сена, которые двигались на тонких ножках. Под клочьями соломы всадник различал лицо, покрасневшее от натуги, и воспаленные, выпученные глаза. Женщины несли в город кур и цыплят. По дороге двигались телеги с дровами, бревнами, песком и кирпичом, а навстречу ехали порожние. Порою раздавались хриплые выкрики всадника, гарцевавшего перед экипажем своего господина и освобождавшего ему дорогу. Чем ближе было к городу, тем чаще негоциант съезжал с дороги, чтобы не налететь на встречную повозку и не задавить пешехода. Время от времени Рунтингер оборачивался назад, опасаясь потерять слугу. Скоро они очутились в густой толпе предместья Констанца. Вокруг раздавались ругательства, понукания и выкрики, — это вклинились в толпу трое всадников, по платью — дворяне. Пробираясь через нее, всадники хлестали плетками налево и направо. Женщины взвизгивали от боли, плакали и кричали. Несмотря на то, что Рунтингер ехал верхом, всадники оттеснили к домам и его. Тут какой-то парень схватил рунтингерова коня за узду: — Господин! Господин! Я знаю, где можно переночевать. Самому вам ничего не найти. Если вы дадите мне десять денариков…[469] Кто-то потянул его даже за ногу. Негоциант обернулся. За стремя уцепилась старуха, — она улыбнулась, обнажив беззубые дёсны: — Я жду вас. Вы — я уверена — заслуживаете особого внимания. У меня к вам поручение — вас ждет моя голубка. Идемте, сударь! Я отведу вас к ней. Она недорого возьмет. Вы даже не представляете себе, какая она красотка!.. Когда на улице стало посвободнее, Рунтингер пришпорил коня и избавился от назойливо пристававших людей. Самое трудное было впереди, — как прошмыгнуть через ворота в город? К счастью, стражники не придирались к приезжим. Они кое-как просматривали документы или требовали назвать свое имя и сказать, откуда приехал. На крестьян окрестных сёл стражники не обращали никакого внимания. Пробравшись в город, Рунтингер спешился. Он не узнал город: там, где раньше негоциант мог свободно пройти и не задеть ни одного прохожего, теперь беспрерывно двигались пешеходы, всадники и повозки. Улицы напоминали муравейник, развороченный палкой. Потоки людей перекрещивались, сталкивались и носились, как мутная пена на волнах, бьющихся у пристани. Каждый куда-нибудь спешил. Топот ног, цокот подков и крик людей сливались с грохотом молотов и топоров, обрушившихся на дерево и металл, — здесь строили, прибивали, строгали, собирали. Казалось, в чреве города неустанно трудились тысячи дятлов и жучков-точильщиков. Матиас Рунтингер повернул в ближайшую улочку, к трактиру «У золотого колеса», — его хозяин, старый Тюрли, обязательно поможет ему. Тюрли — давний знакомый. Трактирщик грубоват, но честен и добр, и вряд ли станет драть с него три шкуры. Однако на постоялом дворе Тюрли оказалось так же тесно, как в городе. Да и могло ли быть иначе? Двор был забит повозками и лошадьми, комнаты и коридор кишели постояльцами. Люди без конца сновали по двору, носили багаж, искали своих кучеров, коней, еду и питье. Трактирный зал был переполнен обедающими. Гости не только сидели за столами, но и густо стояли между ними, держа в одной руке ломоть хлеба и кусок мяса, а в другой — кружку с вином. Рунтингер с трудом нашел трактирщика в конце зала, у очага: хозяин с женой, дочерью и маленьким сыном орудовал у вертела, собирая капающий жир на сковороду. Оттуда Тюрли отдавал распоряжения слугам, приходившим узнать, куда помещать новые экипажи, и служанкам, разносившим кушанья и вино. В такой суматохе Рунтингеру не сразу удалось обратить на себя внимание трактирщика. Отдав несколько распоряжений слугам, Тюрли тупо посмотрел на негоцианта, а потом сунул вертел служанке и, шагая, словно аист, между сковородами и подносами с посудой, с трудом выбрался из толчеи. Здесь он потряс руку редкому гостю. — Сумасшедший дом, верно? — захохотал он. — С каждым днем все хуже. Ты тоже в Констанц, в яму для костей? Все там будем, говорит наш могильщик. Рунтингер знал Тюрли с тех пор, когда был еще мелким торговцем. Уже тогда они обращались друг к другу на «ты». — Я прибыл сюда, — начал негоциант, — надолго и надеюсь… Трактирщик почесал свою лысую голову толстыми, как у мясника, пальцами: — Понимаю, понимаю. Тебе нужно где-нибудь поместиться. Разумеется, придется устроить тебя, хотя сам видишь, чтó здесь творится. Я уж как-нибудь постараюсь. Есть у тебя кони? — Два. Мой и слуги. — Это еще ничего. Бывает куда хуже, когда приезжает гость на тридцати клячах. С ночлегом совсем плохо: осталась одна каморка с широкой двуспальной кроватью. Тебе придется спать со своим слугой. У нас теперь везде спят по двое на нарах. Что касается цен, то они немножко поднялись. Комната стóит два рейнских гульдена в месяц, а за постой коня без корма — три денара за ночь. Ты не разоришься, господин оптовый купец. Не подумай только, что я вздул цены. Они установлены городским советом: если мы берем дороже, то он сдирает, с нас больше налогов. Отцы нашего города отлично знают, чего хотят. Недаром они подкупили Сигизмунда: он согласился на проведение собора у нас. Другие города тоже пробовали подкупить Сигизмунда: они добивались такой же чести. Но мы-то знаем, какова бюргерская честь! Отцы города мечтают во время проведения собора перечеканить эту честь в золото и серебро. Трактирщик потянул носом и обернулся: — Черт возьми! Ты, девка, будь повнимательнее. Крайний поросенок уже изрядно пригорел. — Попробуй отвернуться на минутку… — тяжело вздохнув, сказал он купцу. — Ну, садись куда-нибудь и поешь. Лучше вон там, за хворостом. В углу есть стол — он не виден из зала. Этот стол у меня только для своих. За ним ты увидишь сейчас одного парня. Он поэт. Обещал сочинить мне стихи для трактирной вывески. В счет платы я кормлю его целую неделю. Поэт заявил, что на голодный желудок он не может рифмовать. Рунтингер вышел во двор, отдал слуге распоряжения и, важно прошагав по трактиру, добрался до указанного стола. Негоцианта уже ждали миска с жареным цыпленком, хлеб и вино. Сосед негоцианта только кивнул в ответ на его приветствие, — он был слишком поглощен своим обедом. Усердно обгладывая кость, поэт держал ее пальцами, вымазанными в жире. Перед парнем стояла огромная кружка, в которой уже почти не было вина. Когда негоциант разрезал цыпленка, зубы его соседа кончили трудиться над последней костью. Швырнув ее на стол, поэт принялся старательно облизывать и обтирать хлебом жир с пальцев, а потом проглотил и хлеб. В этот миг кто-то коснулся ноги Рунтингера. Это была собака, — она бродила под столом, подбирая объедки. — Кто вы?.. Здешний или откуда-нибудь издалека?.. — полюбопытствовал поэт, облизав пальцы. — Не издалека… — ответил Рунтингер. — Констанц — помойная яма… — рыгнул, выпив последние капли, поэт. — Большая помойная яма. В нее сливают всё. Если ты не удержишься на краю ямы, полетишь прямо в ее жижу. На дне этой ямы — дыра. Она, дружок, ведет… — тут он наклонился в сторону негоцианта и дохнул на него винным перегаром, — в бездну, в бездну. Помни об этом; сие сказал тебе здесь, в трактире, рыцарь Освальд фон Волькенштайн. А он, дружище, не только рыцарь, но и поэт! Да, поэт… «Прежде всего ты обжора, а потом рыцарь и поэт…» — подумал господин Матиас Рунтингер, не обращая никакого внимания на бесконечный монолог своего соседа. — А ты не поэт… Нет!.. — продолжал Освальд фон Волькенштайн, делая вид, что по ошибке притянул к себе вино купца. — Видно, у тебя деньжата водятся. Ты, наверное, знаешь: поэт богат звучными стихами, а не звонкой монетой. Ты, наверное… — Волькенштайн задумался. Воспользовавшись паузой, Рунтингер подвинул к себе свою кружку, а поэт нахмурился. — Ты купец или поп, переодевшийся в платье бюргера. Поп всегда боится, что ему набьют морду, когда он лезет к девке. Ты тоже опасаешься, как бы я не принял из твоей кружки обоих причастий. Рунтингер засмеялся: — Вы угадали, господин рыцарь. Я купец. Если изволите, я налью вам вина. Угрюмое лицо Волькенштайна повеселело. — Вы весьма великодушны! — ответил он, сразу же перестав обращаться к купцу на «ты». — В таком случае вы либо никудышный купец — так как излишне внимательны к человеческим слабостям, либо, наоборот, безжалостный, как дьявол, копитель гульденов, шныряющий за крупной рыбой и оставляющий крошки для всякой мелюзги. Разумеется, поэт может насытиться и крошками, если будет клевать их одну за другой. Мы, поэты, — девки, продажные девки! — сказал Волькенштайн жалобно дрожащим голосом. Ему хотелось как можно скорее залить тоску, подступившую к горлу. — Меня тоже купили. Если бы вам довелось узнать, на чью удочку я попался, вы нисколько не удивились бы! — На чью же? — спросил, подзадоривая умолкшего соседа, Рунтингер. — Нет, этого я не скажу. Не имею права. Я не скажу ни вам, ни кому-либо другому. Не скажу, даже если вы предложите мне еще одну кружку вашей собачьей бурды. Мимо них проходила служанка с вином, и Рунтингер кивнул ей. Служанка подала кружку рыцарю. Осушив ее в один миг, он снова насупил брови: — Нет, не скажу. Не выдам тайны даже за целый кувшин. Он рассердился бы на меня! — И рыцарь наклонился к самому лицу Рунтингера: — Он — римский король. Понимаете, я даже не пикну никому об этом. Никому. Никогда… Выслушав речь пьяного рыцаря, Рунтингер задумался. «Ради чего понадобился Сигизмунду этот молодец? Ради его стихов? Кто знает, не исключено и это. Но римский король прежде всего ловкий купец. Рифмованным строчкам он всегда предпочтет доходные товары. Этот поэт каким-то образом связан со двором. Такие люди мне нужны. Лишняя кружка вина может оказаться неплохим авансом: ведь мне частенько удавалось извлекать пользу для себя при самых непредвиденных обстоятельствах». Рыцарь Освальд фон Волькенштайн бормотал: — Следует быть поосторожнее с вином. Однажды оно дьявольски подвело меня. Правда, тогдашнее вино не имело ничего общего с констанцской бурдой. Там было его величество бургундское! Тогда я тоже говорил, говорил, а когда дошло до платы… Да, друг, у меня были сведения, которые ценились на вес золота! Я тоже купец. Я торгую даже самыми незначительными сведениями. Она хотела подарить мне целую ночь! А я, болван, отказался. В ту ночь я перестал быть поэтом. Теперь я всего-навсего дурачок торгаш. Мне хотелось получить товар за товар, за свои сообщения — ее сообщения. А теперь… я даже не могу найти ее. Ищу ее везде всё время, днем и ночью. Я знаю, что она здесь. Только попробуй — найди иголку в копне сена. Увы! Если даже я найду ее, она уже не подарит мне то, что могла прежде. На Востоке — я там много странствовал — говорят: человек всю свою жизнь проводит в поисках того, что на убогом языке смертных называется счастьем. В один прекрасный день оно идет навстречу человеку, а он, не зная об этом, глазеет по сторонам, и счастье проходит мимо. Это счастье покинуло меня навсегда, навсегда… Ее звали Олимпией. Олимпия! Олимпия! О боже, боже! Только тогда, когда мы расстались, я понял, что люблю ее, друг, до гроба… А она, — неожиданно добавил он, — шлюха… Рунтингер понял: этот парень — лазутчик Сигизмунда. Он собирает информацию и торгует ею. Стало быть, равенсбургской торговой фирме сегодня повезло. Надо только поближе сойтись с ним. Господин Рунтингер посмотрел на своего соседа. Голова рыцаря тяжело опустилась на грудь, щёки равномерно надувались и опадали, а толстые красные губы открывались и закрывались. Рыцарь Освальд фон Волькенштайн заснул. Рунтингер потряс его сначала легко, а потом посильнее. Но старания негоцианта были напрасны. Тогда он поднялся и пошел к Тюрли. Поэт никуда не денется: Тюрли не выпустит его, пока тот не напишет ему стихов; поэт должен, по крайней мере, рассчитаться за свои обеды. Рунтингер решил следить за дверью, ведущей в трактир. Пока не появится на лесенке художник, рисующий вывеску, негоцианту нечего беспокоиться: он найдет поэта — рыцаря в трактире, с кружкой вина. Довольный и сытый, негоциант вышел на улицу и зашагал в сторону ратуши. Рунтингер не спешил, — ему уже не нужно было думать о ночлеге. Он шел, поглядывая вокруг хитрыми, умными глазами. Ему казалось, что в этой суматохе и давке он даже помолодел. Прежнего Констанца не узнать. Еще недавно город был спокойным, красивым и благоустроенным. Богатые купцы и владелицы ткацких заведений жили в пышных домах-дворцах. Здесь кипела вся деловая жизнь Констанца. Город походил на жирного богача, лениво расположившегося на берегу Боденского озера и сыто потягивавшегося в лучах солнца и в блеске золота. А теперь? Казалось, город сходил с ума от всевозможных излишеств. Широкие улицы неожиданно сузились, просторные площади еле вмещали людей. Наблюдая за толкотней, он нимало не интересовался тем, какая сила вызвала ее. В Констанце затевается большое дело, и купцу в это время надо быть обязательно здесь! Довольный, он тепло подумал о Мельхиоре. О нем нечего беспокоиться: Мельхиор — молодчина. Он настоящий сын своего отца! Движение по улицам сковывалось не только бесконечными потоками людей, но и домами. Почти у каждой стены стояли либо ларьки, либо мастерские, либо столы с парусиновыми навесами, под которыми бродячие торгаши раскладывали свои товары. Попав в толпу зевак, господни Рунтингер решил покрепче держать руку на кошельке. На прилавках мясных ларьков были выставлены телятина, оленина и кабанина. Откуда-то доносился запах лекарственных снадобий и кореньев. Рядом стучали молоты, звенел металл, слышался хлест ремня. Все эти звуки вырывались из бессчетных мастерских и будочек сапожников, кузнецов, оружейников, плотников, кожевников и шорников. Мастеровые люди облепили улицу со всех сторон. В хаотическом шуме выделялись резкие голоса зазывал. Они расхваливали собственные изделия, восточные ткани, любовные напитки, мускусные духи, лекарства и прочее. В толпе не без труда пробирался торговец с тачкой, нагруженной горячими паштетами и печенкой. У порталов церквей толпились нищие. Обнажив свои гноящиеся раны, нарывы и увечья, они гнусавили, выклянчивая милостыню. Рунтингер недоумевал: куда деваются эти люди на ночь? Ведь должны же они где-нибудь спать! Даже если приезжие займут всё до последнего уголка в трактирах, домах, сараях, амбарах города с его окрестностями, то всё равно они не поместятся! Оглядевшись повнимательнее, Рунтингер легко нашел ответ на свой вопрос. В воротах, на мостовых, в нишах и в укрытиях, — везде, где только был какой-нибудь кров над головой, — виднелись соломенные постели. Вечером ночлежники приносили сюда мешковину, попоны, одеяла и не раздеваясь закутывались в них. Негоциант уже сейчас видел людей, которые спали прямо на земле. Первым, кого заметил Рунтингер, проходя мимо дома бюргера Иоганна Вида, был тот, кого он никак не предполагал увидеть здесь. В проезде, за большим широким столом, сидел человек. Перед ним были сложены в столбики монеты разного достоинства. Человек этот обменивал одному дворянину итальянские деньги на рейнские гульдены: свинцовой палочкой он нацарапал расчет на столе и проворными пальцами стал передавать монету за монетой. Меняла взглянул вперед, и его глаза встретились с глазами Рунтингера. Да, это, конечно, он, Аммеризи из Флоренции. Господин Матиас не беспокоил менялу до тех пор, пока тот не закончил свою операцию. — Чему тут удивляться? — весело сказал меняла изумленному негоцианту. — Сюда приехало немало таких итальянцев, как я. Аммеризи сказал правду. Возле дома «У елок» Рунтингер мог бы встретить Адиджерия Франчисса из Брешии. В Констанце очутился и Бартоломео де Бардис. С папой прибыл сюда самый богатый человек — флорентийский банкир Козимо де Медичи. — Без нас, — улыбался Аммеризи, — здесь замерла бы всякая жизнь, а собор зачах бы, не успев открыться. Только мы поддерживаем круговращение золотой крови в жилах этого города, а стало быть, и всего мира. Рунтингер задумчиво поглядел на стол менялы. В двух шагах от него на таком же столе продавали коренья. Но пять-шесть таких меняльных столиков, расставленных ростовщиками на улицах Констанца, действительно поддерживали круговращение золота в мире. Здесь всё обменивалось и поднималось, как на дрожжах, оказывая влияние на богатство, силу, власть и политику. Это были не простые менялы. Когда они обменивали одни золотые монеты на другие, часть золота не только проходила через руки, но и прилипала к их пальцам. Золото притягивало золото тогда, когда столик менялы незримыми узами связывался с сокровищами подземных кладовых банкиров. Даже Медичи счел необходимым переселиться на время в Констанц! Банкир Козимо… Рунтингер прищурил глаза. Ему показалось, что между пальцами менялы скользили не кружки монеток, а деревни, дома, дворцы, епископские митры, короны, мечи, воины, мужчины и очаровательные женщины. Здесь всё можно было купить, продать и обменять! — В наши дела начинают впутываться немцы, — сказал Аммеризи, вернув Рунтингера к действительности. — Из Базеля прибыл сюда Оффенбург; он собирается конкурировать с нами. Если папа привез в Констанц Медичи, то Сигизмунд — Виндэкке. Констанц может гордиться тем, что сюда прибыли сильнейшие мира сего. Сильнейшие мира сего… Рунтингер отлично понял: говоря так, Аммеризи не имел в виду ни папу, ни римского короля.В ратуше господину Рунтингеру повезло. Он застал там того, кого искал, — господина Ульриха Рихенталя. Констанцский богач и владелец солидного загородного поместья Рихенталь никогда не сидел без дела. Бойко хозяйничая и торгуя, он заключал сложные сделки для многих немецких князей и герцогов. Рихенталь был близким знакомым графа Эберхарда фон Нелленбурга. Саксонский герцог Рудольф тоже считал его своим другом. Он был на короткой ноге с Людвигом Баварским, имел свободный доступ ко двору тирольского герцога Фридриха. Рихенталь не колеблясь помогал отягощенному заботами городскому совету Констанца и своему личному другу бургомистру Генриху фон Ульму: он сам написал сто приглашений на собор и проехал на коне по всему Тургау, изыскивая провиант и фураж для Констанца. — Эх, знал бы ты, чем я сегодня занимался! — улыбнувшись, сказал Рихенталь равенсбургскому приятелю, — определял места для проституток. Ты даже не поверишь, что их в городе уже более семи сотен. А сколько еще прибудет, даже трудно представить! Кто-кто, а они наверняка постараются поддержать благочестие резиденции собора! Я дам голову на отсечение, если к концу собора число публичных проституток окажется меньше числа негласных. Проституция — весьма заманчивое и доходное ремесло. Оно не требует ни денежных вложений, ни накладных расходов, — смеялся он. — Мы отвели им Петерсхаузен, целое предместье за Рейнским мостом. Между прочим, такое размещение проституток наводит на игривые мысли: в петерсхаузенском монастыре мы помещаем его величество римского короля, пока не приведем в порядок специально для него предназначенный дом в городе. Я полагаю, что ему нисколько не помешают его веселые соседки. Наоборот, они будут ему по душе. Каждый раз, когда он прибывает в какой-нибудь имперский город, отцы города всегда предоставляют ему и его свите в свободное и бесплатное пользование самое лучшее публичное заведение. Вот и в Констанце проститутки окружат Сигизмунда со всех сторон! — Ты, наверное, не представляешь себе, — уже серьезно продолжал Рихенталь, — сколько неприятностей пришлось нам пережить с этим собором. Взять хотя бы мороку с устройством гостей. До собора в Констанце проживало около шести тысяч душ. Теперь одни гости заполняют Констанц. Их будет в одиннадцать раз больше, чем его граждан. Мы готовимся к собору уже полгода. Сначала сюда прибыли посредники, секретари и доверенные лица. Ну и возня же была с ними! Они выбрали себе лучшие дома. Каждый хотел занять дом на пару окон больше, чем у другого. Мы старались угодить им, ходили перед ними на задних лапках. Постепенно всё уладилось, и слуги прибили гербы своих господ. Но стоило только прибыть в Констанц трем лишним графам, — каждому со слугами и десятками коней, — и свистопляска возобновилась. К счастью, после большого пожара наши патриции построили себе домища больше прежних. Но я без ýстали болтаю о своих заботах. Как ты поживаешь? — У меня пока нет никаких важных хлопот; надеюсь, что скоро выдумаю себе какие-нибудь… — скромно ответил негоциант. — Ты говоришь о хлопотах, а думаешь о деньгах, — ухмыльнулся Рихенталь. — На эту приманку клюнули все крупные щуки, средние, вроде тебя, и даже мелкая рыбешка. С мелюзгой у нас было особенно много возни! — И он снова заговорил о своих делах: — Можешь себе представить, чтó происходило в наших цехах, когда в Констанц нахлынули ремесленники со всех концов света. Но мы справились с ними. На время проведения собора отменены всякие цеховые регламенты; теперь каждый может производить и продавать все, что угодно. Нам только пришлось установить твердые цены. Горожане успокоились, когда увидели, что такое нашествие на Констанц — сущая божья благодать. Нынче здесь каждый прилично заработает. Рунтингер взглянул на Рихенталя: — Ты сказал, что вы установили твердые цены. Сколько стóит у вас шафран? — Один фунт — четыре рейнских гульдена! — с готовностью ответил Рихенталь. — Здесь им хоть пруд пруди! Какой хочешь — с Востока, из Испании, из Австрии или из Южной Германии? Рунтингер кисло улыбнулся: — Значит, европейский шафран уже заполонил рынок? Рихенталь никак не мог расстаться с мыслями, которые целиком овладели им в последние дни. — Эх, друг, как мне надоели все эти заботы. Но я, пожалуй, не скоро от них избавлюсь! — Известно тебе, сколько месяцев продлится собор? — спросил Рунтингер. — Месяцев? — презрительно фыркнул Рихенталь. — Ты, вероятно, хотел сказать — сколько лет?.. — У нас говорят… — У нас говорят… — насмешливо прервал его Рихенталь. — В империи тоже говорят… Папа говорит… Я уверен, что святые отцы проговорят не меньше, чем полгода. Разве они могут быстрее? По-моему, их дела дьявольски запутались. Эх, если бы ты только знал то, что знаю я! Рунтингер, собственно, за этим и пришел к Рихенталю. — Разве собор не в руках папы?.. — осторожно спросил он. — Что ты! Скоро сам папа окажется в его руках. Папа — пешка. Главные фигуры в этой игре Сигизмунд и кардиналы. — Постой, постой… Я кое-что вспомнил, — сказал Рунтингер, желая прямым вопросом скрыть суть дела от собеседника. — Ждете вы Фридриха Тирольского? — Ты имеешь в виду нового гонфалоньера[470] папских войск? Не прикидывайся дурачком. Ты, я вижу, попал прямо в точку. Разумеемся, ждем. Больше других его ждет Иоанн XXIII: он никак не может дождаться, когда прибудут тирольские копейщики. Папа-то знает, зачем они нужны ему. На соборе может вспыхнуть настоящая заваруха. Наверное, ты кое-что уже слышал об этом? — Да, кое-что… — признался Рунтингер. — Но этого мало, да? Тебе хочется знать всё. Признавайся, что тебя интересует? — Меня?.. — засмеялся негоциант. — Меня интересует итальянский перец, который провозят через Тироль. — Иными словами, тебя волнуют тирольские пошлины. Об этом и спрашивал бы! Ты хочешь знать, что станет с Фридрихом, если папа и Сигизмунд подерутся? — Да… — кивнул ему Рунтингер. Рихенталь начал прохаживаться по залу: — Это предугадать пока трудно. Возможно, Сигизмунд и Иоанн XXIII договорятся между собой. Тогда все останется по-прежнему. Если такая сделка между ними не состоится — то папа проиграет. Бог знает, что придумает он в самую последнюю минуту. Желая спасти свое положение, папа, конечно, попытаемся опереться на этого тирольца. Не за красивые же глаза он заплатил ему шесть тысяч дукатов. Короче, — Рихенталь остановился перед Рунтингером, — если успех торговли перцем зависит от Тироля, то держи ухо востро, следи за папой. Как это сделать — подумай сам. Рунтингер понимающе кивнул ему. Он хотел было спросить еще кое о чем, но в этот момент вошел писарь и, учтиво поклонившись, стал ждать, искоса поглядывая на гостя. Негоциант понял, что мешает им. Что ж, пора идти… Самое главное он узнал. Гость простился с Рихенталем и вышел. Рунтингер остался доволен встречей с Рихенталем. Теперь он мог спокойно погулять по городу. Очутившись на улице, купец увидел перед собой пестрое зрелище: на каждом шагу то и дело мелькали люди в необыкновенных накидках и шляпах. Головы женщин были покрыты белыми платками или украшены гордо возвышавшимися модными французскими корноутами, с верхушек которых ниспадали вуали, а головы мужчин — конусообразными итальянскими шляпами, вечно мятыми на вид немецкими беретами, миниатюрными черными еврейскими шапочками, фесками, тюрбанами, шлемами, шишаками, лохматыми бараньими шапками на широкоскулых бородатых гостях Востока, разнообразными шапочками священников и капюшонами монахов. Пестрая, многоликая толпа людей, говоривших на разных языках и наречиях, напомнила Рунтингеру библейское смешение языков, Вавилон. На одном углу Рунтингер попал в хоровод людей, которые протискивались вперед под резкие звуки двух дудок. Впереди танцующей вереницы двигался человек в темном, облегавшем тело балахоне с глухим капюшоном. На балахоне и капюшоне был намалеван белой краской скелет — кости рук, ног, рёбра и череп. В капюшоне против рта была прорезана дыра. Человек-смерть то и дело отпускал руку танцора, двигавшегося сзади, и набрасывался на первую попавшуюся женщину или девушку. По строгим правилам этой маккавейской пляски,[471] никто не мог отказать в поцелуе человеку-смерти. Что касается выбора женщин, то тут он проявлял достаточную находчивость. Женщины кричали и визжали, когда он, целуя их, глубоко засовывал руку за корсаж. Рунтингер тоже попал в вихрь пляшущих. Неожиданно они расступились, и негоциант снова оказался на свободной мостовой. По ней цокали копыта коней. Рунтингер увидел человека в черной сутане и двух всадников, ехавших за ним, с виду — дворян. Негоциант с любопытством взглянул на священника. Его спокойные, ласковые глаза показались Рунтингеру необыкновенными. Во всей осанке священника сквозили уверенность и твердость. Люди решили, что это какой-то важный духовный сановник. Хотя на платье священника не было никаких украшений и знаков сана, его вид внушал невольное уважение. Когда всадники проехали, толпа снова сомкнулась и зашумела. Рядом с негоциантом кто-то громко захохотал. Рунтингер обернулся и увидел толстого монаха. Тот еле переводил дыхание и, заикаясь, орал: — Эх, вы, ду… дураки!.. Знаете ли вы, кому дали дорогу? Не знаете… Это проехал еретик, ужасный еретик, чешский антихрист! Рунтингер пожал плечами. В этом вавилонском столпотворении вряд ли отличишь дьявола от ангела. Негоциант направился прямо в трактир «У золотого колеса». Пора уже отдохнуть и написать Мельхиору. С перцем придется пока обождать, а на шафране не наживешься, — повсюду появился европейский. В целом денек прошел не без пользы. Хвала тебе, господи!.. (обратно)
Гроза
Констанцский магистрат предоставил жилище и чешскому посольству. Гуса поселили на улице святого Павла, в доме булочницы Фиды. Хозяйка дома отвела ему просторную, чистую комнату во втором этаже. Стол, покрытый белой скатертью, и заботливо убранная постель свидетельствовали о любви госпожи Фиды к порядку. Хозяйка, пожилая вдова, учтиво встретила гостя и спросила, чтóпоставить ему в комнату. Очевидно, ряса магистра внушала ей глубокое уважение. Как ни странно, в Констанце тревога чешских панов улеглась. По-видимому, здесь еще никто не слышал о процессе Гуса, а само его имя не вызывало ни у кого никакого интереса. Чешское посольство потерялось в этом Вавилоне, как иголка в сене. Пан Ян из Хлума вздохнул с облегчением. Теперь он один отвечал за Гуса, — пан Индржих Лацембок отправился ко двору Сигизмунда, а пан Вацлав из Дубе еще не вернулся из Аахена. Только тогда, когда сюда прибудет пан Вацлав из Дубе, последняя тяжесть свалится с плеч Яна из Хлума. Пан Вацлав из Дубе привезет в Констанц самый важный документ — охранную грамоту римского короля. Она обеспечит Г усу неприкосновенность. Казалось, в Констанце знали о Гусе одни только чехи: профессор Пражского университета Штепан Палеч и дошлый священник — юрист Михал де Каузис, заклятые враги магистра. Они приехали сюда задолго до Гуса и, когда он прибыл, тотчас расклеили на дверях констанцских церквей свои ядовитые обвинения. Ян из Хлума не верил, что враги Гуса будут иметь успех, — у людей было много других, более интересных развлечений, чем чтение каких-то мудреных, малопонятных объявлений. На всякий случай чешский пан решил добиться аудиенции у папы и только после нее принять какие-нибудь меры. Заручившись письмом римского короля, пан Ян из Хлума довольно легко попал на прием к святому отцу. Он добился у него неожиданного успеха: Иоанн XXIII заявил ему, что берёт магистра Яна под свою защиту. Если бы Гус убил родного брата папы, то последний и в этом случае не причинил бы ему никаких неприятностей. Иоанн XXIII снял с Гуса и тяжкое проклятие. Правда, папа сделал это по другой причине: не сними он этого проклятия, в Констанце пришлось бы прекратить всякое богослужение. По приказу папы городская стража сорвала с церковных дверей заявление Палеча и Каузиса. Несмотря на это, пан из Хлума убедил магистра пока не выходить на улицу, — он боялся, как бы Гус не попал в ловушку. В душе магистр не был согласен с Яном из Хлума, но не возражал ему. Он сидел дома и писал, — для прогулок у него было слишком мало времени. Магистру надо было как следует подготовиться к процессу: впереди еще изложение, защита своего учения и, разумеется, большая речь, которую ему предстоит произнести перед достойными отцами собора. Работа шла хорошо. Никто не нарушал его покоя. Пан Ян из Хлума каждый день приходил к Гусу и, убедившись, что с магистром всё в порядке, тотчас исчезал. Члены семьи хозяйки даже не осмеливались войти в комнату священника. Госпожа Фида незаметно ставила завтрак и ужин в нишу напротив дверей комнаты и уходила к себе. Обед хозяйка подавала ему на стол. Гус благодарил госпожу Фиду и заговаривал с ней. Хозяйка, покидая его, всякий раз поражалась тому, как легко избавлялась от страха перед важной особой. Она постепенно рассказала магистру, как на исповеди, о всех своих заботах и печалях. Госпожа Фида не знала, чем вызвал он ее на откровенные признания. Казалось, она была готова рассказать ему всё, что накопилось у нее в душе за годы вдовьего одиночества. После беседы с ним ей всегда становилось легче, — ее жизнь казалась теперь не только понятнее, но и сноснее. Однажды и сам Гус почувствовал пустоту одиночества. Желая скрасить свою жизнь, магистр начал приглядываться к людям. Он чаще спускался вниз, в пекарню, и беседовал с подмастерьями, подробно расспрашивая их о ремесле пекаря. Пекари научили его ловко, одним движением лопаты, сажать в печь булки. Как-то раз Гус до полусмерти напугал старую служанку, которая несла по лестнице воду, — он взял у нее из рук вёдра и отнес их наверх. Одиночество магистра частенько нарушалось его новыми друзьями. Но произошло это не сразу. В своем скромном констанцском прибежище Гус ежедневно служил раннюю мессу, — служил, не облачаясь в пышное одеяние священника и не имея для мессы никаких предметов, кроме стола, покрытого белой скатертью, оловянной чашечки и ломтя хлеба. Госпожа Фида уже в первые дни присутствовала на этих богослужениях. То ли из любопытства, то ли из желания угодить хозяйке, к ней присоединились пекари-подмастерья и служанки. Домашняя месса Гуса поражала их скромностью. Магистр служил мессу один. Он читал Священное писание и молитвы. В простом чтении молитв было значительно больше святости, чем в богатом церковном обряде. Постепенно среду домашних слушателей Гуса стали появляться новые и новые почитатели — соседи и соседки. Его комната до отказа заполнялась людьми, — кое-кто даже стоял в прихожей или слушал его через открытые двери. Всех привлекал к себе спокойный и уверенно звучавший голос священника. Низкая комнатка над пекарней в один миг превращалась в чудесный храм истинного благочестия. Когда Гус заканчивал свою короткую мессу, люди тихонько исчезали. Они выходили на цыпочках, стараясь не скрипеть половицами дощатого пола и ветхими ступеньками лестницы. Слушатели каждый день прибывали. Гус не сразу заметил это, — он давно привык к тому, что его всегда окружало много прихожан. Магистр нисколько не удивлялся этому и в Констанце. Поэтому вполне естественным показался ему случай, который произошел с ним однажды. После богослужения, когда люди стали расходиться, один слушатель подошел к Гусу и, немного смутившись, сказал: — Уважаемый магистр, я слышал, что тебя обвиняют в ереси. Мне посчастливилось прослушать несколько твоих проповедей, и я не нашел в них ничего еретического. Правда ли то, что говорят о тебе?.. Слушатели задержались и с надеждой смотрели на Гуса. Наступила глубокая тишина. Лишь там, где стояла госпожа Фида, кто-то тяжело вздохнул, выразив таким образом свое недовольство: как решился человек, искренне уважающий магистра, задать такой неуместный вопрос? Казалось, этот вопрос нисколько не огорчил Гуса, — наоборот, магистр увидел в нем проявление дружеского интереса к тому, о чем он говорил. — Каким ремеслом ты занимаешься, друг? — спросил Гус этого человека. — Я плотник, — ответил он. — Представь себе, что ты возводишь крышу над домом, а внизу проходит человек и смотрит на твое творение. Заметив, что балки крыши разъехались, он кричит тебе об этом. Если ты не укрепишь их, крыша рухнет и развалит весь дом. Что скажешь ты этому человеку? Станешь его бранить? Мужчина не колеблясь ответил: — За что мне бранить его? Я сказал бы ему спасибо. — Ну вот… Я сделал то же, что этот прохожий. Я заметил, как зашаталось здание церкви. Оно может рухнуть и похоронить под обломками всё христианство. Когда я сказал об этом святым отцам, они назвали меня еретиком и прокляли. В комнате воцарилась тишина. Люди стояли, не спуская глаз с Гуса. Он заметил тревогу слушателей и предугадал их вопросы. Теперь ему, пожалуй, придется ответить на них и кое-что рассказать о себе: — Уповаю на бога, что он сделал меня верным сыном церкви. Но позволительно ли считать правой такую церковь, которая выдает за божий закон то, чего сама хочет? Христос оставил всему христианству и, стало быть, его церкви свои заповеди. Разве может молчать слуга церкви, если она отказывается от этих заповедей? Может ли быть проповедником тот, кто мирится с пороками своей братии, пороками священников? Христос за это осуждал иудейских священников — и они выдали его на расправу, я осудил папу — и он вызвал меня на суд. Но если бы я не был священником, то всё равно не стал бы молчать. Мне даны глаза, чтобы видеть, а уши, чтобы слышать! Как мог бы я молчать и оставаться христианином, видя, что наша церковь отступает от Христова учения? Всех священников, начиная от папы и кончая последним фараром, обуяла золотая лихорадка. Она превратила человека в разбойника, вора и убийцу. К чему недавно призывал христианство папа Иоанн XXIII? К убийству, к войне против неаполитанского короля, наемника другого папы — Григория XII. Третий, авиньонский папа Бенедикт XIII утверждает, что только он законный папа. Каждый папа проклинает своих соперников-противников, называя их антихристами. Во имя чего дерутся между собой эти папы? Может, во имя спасения христианских душ? Ни в коем случае. Они борются за Рим, за земли, за доходы. Только из-за презренной мамоны папы раскололи единство христианской церкви. Они набросились на ее части, как собаки — на кости. Какая уйма золота понадобится папам для завоевания всего мира! Им нужны деньги на содержание войска, на плату союзникам, подкуп колеблющихся партнеров, королей и князей, архиепископов и епископов. Они раздают доходные должности и места — монастыри, церковные округа — своим приверженцам, даже не задумываясь, достойны ли те таких благ. Борясь за власть и поддерживая свой авторитет в глазах подданных, лжепапы не жалеют денег на содержание пышного двора с толпой слуг, на роскошные облачения и богатые дароносицы. Примеру пап следуют архиепископы, епископы, аббаты и простые священники. За ними гонятся миряне. Мы видим роскошь короля, драгоценности проститутки, золотые бляхи на уздечках, седлах и шпорах, сверкающие ярче алтарей. С тех пор, как христианской общиной стали управлять корыстные пастыри, ее поразили неслыханные пороки. Как же они пекутся о своей пастве? Они мерят достоинства своих овец по густоте их шерсти. Худые овцы, бедные шерстью, им не нужны… Уже много дней Гус доверял свои мысли одной бумаге, — вот почему его проповедь словно вылилась из сердца. Ему казалось, что он снова стоит за кафедрой. Не важно, что новые слушатели не говорили на языке его вифлеемских прихожан. Ему не мешало и то, что он не знал никого из них по имени. Они, как и пражане, жадно ловили каждое его слово, каждое движение, с нетерпением ожидая, что скажет он еще. Это чувство было хорошо знакомо Гусу. Люди поняли то, что минуту назад было неведомо им, нашли в его речи исчерпывающие ответы на вопросы, волновавшие их. Новые слушатели магистра мало чем отличались от вифлеемцев, его земляков, приходивших к нему каждое воскресенье послушать проповедь. — Один человек смотрит на мир своими глазами, — продолжал Гус, — а другой — через очки золотой лихорадки. Первого радует жизнь, второго — смерть. Папе приятна кончина каждого архиепископа: веди после нее он перепродаст освободившуюся должность. Претенденты на это место радуются смерти своего предшественника. Фарар радуется смерти своих прихожан: на похоронах и заупокойной мессе он зарабатывает. Золото мешает человеку ценить вещи по их достоинству, и он нередко поступает вопреки духу Священного писания. В Священном писании, например, говорится о чистилище. Что за прок от него, если богатый купит у папы индульгенцию, прощающую ему грехи, и избавится от кары? На какие деньги были построены все эти богатые монастыри, если не на пожертвования за упокой души и не за выкуп ее из чистилища? Стало быть, чистилище создано только для бедняков, которые не могут заплатить ни за упокой души, ни за индульгенцию. Но когда господь призовет людей на страшный суд, он не станет заглядывать в их кошельки и проверять, полны ли они… А вот церковь судит ныне о верующих по их кошелькам. Эту мерку церковь распространила даже на самый драгоценный дар, доверенный ей, — на святые таинства. Священники установили определенную плату за крещение, венчание, исповедание, помазание святым елеем и отпевание. За тридцать дней они берут тридцать грошей, — видимо, в память о тридцати серебрениках, за которые Иуда предал Спасителя. Если вы станете упрекать священников за торговлю святыми таинствами, они ответят вам, что ни духовные саны, ни пребенды не продаются: тот, кто получил пребенду или сан, сам кладет на алтарь деньги, а доброхотное даяние, мол, не означает никакой купчей сделки. Это, конечно, неверно. Придя в булочную, вы выбираете хлеб, платите за него наличными или берете в кредит. Разве церковная должность не напоминает вам булку, которую вы купили, а булочник продал? Священники, торгующие святыми таинствами и святыми реликвиями, скажут вам, что взимают деньги с верующих не за святые таинства, а за те физические усилия, которые приходится священнику затрачивать. Однако ваятель, создавший в поте лица статую для алтаря, получает меньшее вознаграждение, чем епископ за три взмаха кропильницей при ее освящении. Представьте себе, сколько лет понадобилось бы этому епископу трудиться в поле, чтобы своим горбом заработать то, что он получает за одно богослужение? Гус слегка прикрыл глаза. Перед умственным взором магистра четко вырисовалась толпа, собравшаяся накануне его отъезда в Констанц. Гус снова в поле у Козьего Градека. Магистр чувствовал, что он не только не оторвался от простых людей, но, наоборот, сблизился с ними, а они всегда возле него и в нем. Гус говорил вдохновенно, во весь голос: — С алчностью в церковь проникли ложь, надувательство и насилие. Это — исчадия одного греха. Здание христианской церкви покрылось плесенью высокомерия, а ее основание подтачивается индульгенциями, взятками и ростовщичеством. Эти язвы еще более обостряют схизму. И высшие и низшие церковные сановники обезумели: каждого, кто предлагает им целебное зелье, они объявляют еретиком. Под кровом здания, готового рухнуть, пасется забытое стадо верующих. Уже никто из пастырей не беспокоится о спасении душ — дочерей вечности. Они увлечены своими мелкими, преходящими делами, которые были прахом и прахом пребудут. Мы, христиане, не можем махнуть рукой на грехи этих людей, отложить наказание грешников на день страшного суда. Речь идет о зле, которое наносит большой вред нашему стаду. Надо немедленно устранять зло. Тот, кто закрывает глаза на него, является соучастником преступника, совершает грех. Вот почему мы не можем прощать грехи. Мы обязаны взывать к совести королей и князей. Ибо каждый из них получил власть от бога и не должен употреблять ее в ущерб истине и справедливости. Пусть короли наставят священников своей страны на путь истинный и покарают грешных! Если короли и князья не пожелают исполнить свой долг, — жажда золота и власти объединяет их со священниками, — то пусть это сделает сам народ. Такое право ему дал святой Петр, сказав священникам: «Будьте слугами каждого человека! Помогайте ему так, как сам царь царей, который спустился на землю не господствовать, а служить человеку во имя его спасения». Гус умолк. Никто не пошевелился, не вздохнул. От слов магистра в комнате как будто посветлело. Его проповедь прозвучала в ушах слушателей, как первая весенняя гроза. Эта гроза смела последние призраки зимы. После них появилась яркая и сочная зеленая поросль. Весенняя гроза пробудила людей к жизни и опьянила их своей свежестью. (обратно)Волк и лиса
Пока диспуты на соборе не достигли особой остроты, Иоанн XXIII оставался верным своей привычке: днем спал, а ночью работал. Благодаря такому режиму пребывание в Констанце для него было более или менее сносным. Он даже не замечал, как одна ночь сменяла другую: поленья в очаге и свечи в подсвечниках горели круглые сутки. Своей роскошью покои епископского дворца — временной резиденции папы — мало чем отличались от интерьеров небольших римских дворцов. Зато здешние морозные дни с угрюмо холодным солнцем заставляли папу с грустью вспоминать о теплом итальянском небе, под которым мимолетные холода дают знать о себе только тогда, когда начинает моросить. Странно, как люди живут здесь, в Альпах, без моря. Проснувшись, папа, как всегда, стал тешить себя игрой соображения: ему казалось, что вечерняя мгла за окнами скрывает мягкие склоны римских холмов, сады со стройными кипарисами и мраморные фонтаны, звонко журчащие под пение цикад. Разумеется, долго обольщаться такими наивными детскими грезами нельзя: густая, землисто-черная мгла за окнами мало походит на прозрачный воздух Италии, а ночная тишина постоянно нарушается ветром, который бьет по витражам и засыпает их густыми хлопьями снега. Подтянув одеяло к подбородку, Иоанн XXIII подумал, что сегодня обязательно настоит на своем и освободится от пут холодного суетного мира. Ему не хочется возвращаться в него… Это состояние было похоже на детство или, скорее, на старость. Иоанн XXIII хорошо понимал это. Он, конечно, постарел. А ведь ему, — свидетель тому бог, — никогда в голову не приходило, что он когда-нибудь постареет… Да, пока папа носил латы и гарцевал с мечом в руке, ему некогда было думать об этом. А сейчас его усталое, слабое тело нежится под пуховым одеялом, острый хищный нос и борода торчат над подушкой. Не погасли у него одни глаза, — они живо блестят, выступая над дряблыми мешочками, среди морщинок, ложащихся друг на друга. Он очень хотел бы еще разок посмотреть на родное небо, походить по лугам Кампаньи! Разумеется, Иоанн XXIII вернется в свой Рим, если… если всё закончится благополучно. Но когда это будет? Когда? Само собой, в его власти решить, когда ему удобнее покончить с этим собором. Но даже если собор примет сторону папы, ему всё равно придется остаться здесь на два-три месяца. Вопрос о схизме, собственно, уже решен, остается лишь заставить обоих антипап признать, что они низложены. А что еще? Реформа церкви! Этот важнейший вопрос необходимо решить на соборе, — у Иоанна XXIII есть свой готовый план, пусть собор выскажется за него. Остальное святые отцы узнают из его булл. Стало быть, ради чего долго задерживаться в Констанце? Впрочем, папа знает, что всё это — напрасный самообман. Собор может закончиться совсем не так, как ему хочется. Но как?.. Это известно только богу и дьяволу. Он должен попытать счастья. Ему нужно постараться удержать собор в своих руках. Пусть никто не осмеливается посягать на его миссию. — Сигизмунд не спутает ему карты, а коллегия кардиналов не посмеет провозгласить главенство собора над папой… Правда, непредвиденные неприятности обрушиваются на Иоанна XXIII со всех сторон, — каждый собирается сыграть здесь свою роль. Намерения многих уже известны папе. Но сюда съедутся новые, совершенно неизвестные ему люди, — они могут ухудшить положение папы. Эти люди, конечно, внесут большую путаницу в его игру, но он бессилен что-либо сделать с ними. Пока всё шло как по маслу. Иоанн XXIII чересчур хитер, чтобы позволить кому-нибудь подловить его. Сигизмунд клялся ему в верности, обещая помочь, власти Констанца восторженно встречали его как главу христианства, жители смотрели на него как на ангела мира. Если бы были искренними городские власти, вручившие ему подарки, и поэты, сочинившие в его честь торжественные оды, то Иоанн XXIII мог бы поверить, что он совершенно неуязвим. Собственно, ему еще нечего беспокоиться о своих делах, так как… сюда пока почти никто не приехал. В дороге и император и парижане, чьи головы напичканы мыслями о реформе церкви. У них слишком пусты карманы, французы хотят набить их золотом. Нет еще ни англичан, ни шотландцев, ни испанцев… А итальянские кардиналы? Эти, конечно, уже здесь. Они держат его сторону. Как же им не быть с папой, если их карьера и доходы зависят от него и если он пока еще обладает полнотой власти. Пока еще… Итальянские прелаты… В душе папа делит их на две группы: к первой относит всех кардиналов, кроме одного, ко второй — этого одного. Черт возьми, не сильнее ли всей первой группы один человек? Этот человек — кардинал Забарелла. Забарелла и французский кардинал дʼАйи — он тоже приедет сюда — рьяно требовали созыва собора всего христианства. Очумелые вдохновители собора не оставляли в покое ни папу, ни Сигизмунда, ни кардиналов, ни каких-либо других светских и церковных владык, пока не привлекли всех сановников на свою сторону. Иоанн отлично понимал обоих: они сами мечтали о папской тиаре и готовы были перегрызть ему горло! Пока Иоанн XXIII крепко сидит на своем троне, они идут с ним рука об руку, как самые верные его соратники. Но если, не приведи господи, его положение пошатнется, они тотчас покинут его. Их союз напоминает ему упряжку быка с жеребцом. Честолюбец дʼАйи тоже сильно постарел и устал, измученный многолетними интригами: только на пятом десятке он получил первую солидную пребенду — епископство в Камбрэ. После дʼАйи снова не повезло: он поставил не на ту карту, на авиньонского папу. Это, разумеется, повредило его карьере. Лишь три года тому назад он получил из рук Иоанна XXIII кардинальскую шапочку. Ему уже шестьдесят четыре года. Легко представить себе, как исходил желчью самый тонкий и хитроумный теолог Европы, когда видел, что его обгоняют молоденькие глупцы-выскочки! Теперь он будет безудержно рваться вперед, к власти и славе. Иоанн XXIII вспомнил церемонию посвящения дʼАйи в кардиналы. Тогда он, Иоанн, перед всей коллегией назвал этого француза «ненасытным драконом, чью пасть можно лишь на время заткнуть жирным куском». Все рассмеялись. Больше всех хохотал Забарелла. Нынче этот дракон разинул пасть прямо на папский престол! В сравнении с ним Забарелла невинный агнец. Но это, конечно, только маска. Такое впечатление он вызывает у отцов своими дьявольски утонченными манерами богатого патрицианского сынка. Его карьера? Всего лишь милая прогулка. В двадцать пять лет он стал доктором теологии и доктором права. Деньги так и сыпались ему в карман. Профессор флорентиец занимался адвокатской практикой, нес дипломатическую службу, получал пребенды. На пятьдесят втором году Забарелла стал кардиналом римской курии. Бог знает, как сумел он возвыситься за такое короткое время. Он только не удосужился стать настоящим священником. Разумеется, это мелочь для такого ценителя красоты, знатока поэзии и пламенного философа! Забарелла может доказать всё, что только ему заблагорассудится. А хитер он, чертов язычник, как лиса! Это делает Забареллу еще более опасным. Если бы он, Иоанн, был таким же изворотливым, как дʼАйи или Забарелла, то не знал бы теперь никаких забот. Впрочем, у него есть и кое-что общее с ними, только слишком мало. Грустно вспоминать, какой только грязью не обливали папу его противники. Правда, он ни с кем не нежничал, — кровь лилась то там, то здесь… Но он — неуклюжий мясник по сравнению с алчным хищником дʼАйи, неумолимым смерчем, готовым снести с лица земли всё, что попадется ему на пути. Да, любая жертва Бальтазара Коссы — пустяк, если вспомнить, сколько людей погубил этот дракон, не пролив ни капельки крови. А Забарелла?.. Иоанн XXIII — когда он был еще Коссой, — тоже сочинял стихи, пускал слезу во время чтения Вергилия и одерживал победы на философских диспутах. Однако он не выковал, как Забарелла, из своих идей никаких ножей, мечей и кинжалов, не избежал с их помощью шипов законов, придворных интриг, не проник в душу друзей и врагов, — не достиг той цели, к которой тот пришел с холодным благоразумием! Опасный соперник! И всё же папа пригласил к себе сегодня Забареллу. Папа не сразу решился на это, — он сознавал, что ему не привлечь волка в мантии и поклонника красоты на свою сторону. Но по натуре папа, прежде всего, вояка. Ему не к лицу завязывать мелкие стычки на флангах, когда он может ударить неприятелю в лоб. Папе некогда вынюхивать, выслеживать и дипломатично наблюдать за ходом событий. Он хочет любой ценой добиться определенности. Всякая неясность пусть поскорее останется позади. Если ему суждено пасть, он должен знать это! Папа не может ждать, — у него нет на это времени. Он слишком стар… Наконец, папа ничем не рискует. Абсолютно ничем. Разве его престиж пострадает, если Забарелла выскажет ему горькую правду? До сих пор кардинал был верен папе. Забарелла охотно давал советы, если они ничего ему не стоили, но щедро оплачивались папой. Если положение папы пошатнется, он за верность Забареллы не даст и одного сольдо. А теперь? Почему бы Забарелле не продаться папе! Да, продаться… Ведь приближенные Иоанна XXIII даром не говорят ему ни слова. Пусть он продаст папе такие сведения, которыми не дорожит и которые не скомпрометируют его. Взвесив всё это, папа пригласил к себе опасного соперника и заклятого врага в гости. Собравшись с духом, Иоанн XXIII вошел в маленькую приемную. Там уже сидел Забарелла, одетый в алую кардинальскую мантию. — Встань, сын мой! — сказал папа, когда тот опустился на колени, чтобы принять благословение. — Встань и садись сюда, напротив. Я просил тебя навестить меня. Мне хочется побеседовать с тобой, как беседует отец со своим самим умным сыном, когда старику предстоит сделать серьезный шаг. Благодарю тебя за то, что ты пришел ко мне. Я был бы счастлив, если бы нам удалось поговорить откровенно, ибо обоих нас соединяют одни и те же братские узы — узы святой церкви. Забарелла слегка поклонился в знак благодарности за лестный комплимент его уму. Потом он посмотрел на святого отца. Казалось, папа скинул с лица маску, которая соединяла тиару с мантией и создавала ореол святости. Иоанн XXIII без тиары и пышной мантии походил на простого смертного. «Это вторая маска папы. Она может ввести человека в еще большее заблуждение», — подумал Забарелла. — Бесконечные торжественные церемонии, — продолжал папа усталым голосом, — мешали нам спокойно побеседовать здесь, в Констанце. А я, милый сын, очень давно хотел обменяться с тобой мыслями. Меня утомили всевозможные хлопоты, впереди же их еще больше. Мне нечего говорить тебе об этом. Ты легко поймешь, что человеку, который хочет разрешить свои сомнения, нужен добрый советчик. В последнее время я особенно нуждаюсь в нем! Забарелла внимательно слушал папу. Казалось, старик в самом деле не притворялся и искренне беседовал с ним. — Вы, ваше святейшество, отлично знаете, что мое сердце и мой дух — сколь бы они ни были ничтожны — искренне верны вам! — ответил ему Забарелла ничего не значившими для обоих словами. «Говорить правду, — думал кардинал, — еще рано», — но всё-таки он делал вид, что хочет быть откровенным. Спешить некуда. Лучше подождать, пока папа не раскроет свои карты. Иоанн XXIII кивнул. «Лжешь, милый сын, лжешь, — думал папа. — Иначе ты и не можешь». В этот миг папе пришла на ум мысль, которая никогда не посещала его раньше: настоящий друг — верный помощник. Окажись такой друг у папы, и он впервые за всю свою жизнь мог бы довериться ему. Такой человек был бы искренним с ним. Но разве он, папа, стремился когда-нибудь к этому? Хорошо бы иметь такого умного друга, как этот хитрый волк в алой мантии. Правда, хитрость и дружба редко уживаются. «По сути дела, я одинок, — думал он, — одинок, как всякий, кто обладает неограниченной властью. Столь же одинок и Забарелла. Но между нами есть разница: кардинал чувствует себя отлично, а я стар. Это бесит меня. Мне надоело постоянно драться, воевать и жить настороже». Словно желая отогнать от себя невеселые мысли, папа махнул рукой. — Я хотел бы знать, что ты думаешь о соборе. Мне было бы приятно услышать от тебя только… правду, — сказал папа, сделав паузу перед последним словом. Поистине, очень странно звучит в этом разговоре слово «правда»! Кардинал задумался, стараясь понять папу: Иоанн XXIII хочет знать правду. Он обращается к нему с просьбой и… боится. Хотя святой отец отлично подготовился к собору, — одному богу известно, что папа держит про запас, — но у него уже нет прежней уверенности. Похоже на то, что он выдохся. Однако всякий загнанный хищник очень опасен, пока жив. Что ж, Забарелла готов сказать ему всё или почти всё, что он думает. Кардинал не будет говорить обиняками. Наоборот, он скажет папе прежде всего то, что огорчит его. Не вредно даже немного припугнуть старика, — ведь страх ослабляет человека. — Ваше святейшество! Перед церковным собором вы поставили три задачи. Тогда, святой отец, милостиво соизвольте разобрать их вместе со мной. Я, насколько позволит мне мой слабый ум, с радостью вспомню всё, что знаю, и позволю себе сказать то, что я думаю по каждому пункту. Папа тотчас ожил: — Важнейшая задача собора — искоренение ересей, угнездившихся в Англии и в Богемии… — О, по этому пункту будет меньше всего хлопот, — махнул рукой кардинал, бесцеремонно перебив папу. — Ереси — обычный привесок ко всем соборам и синодам. С ними расправляются в два счета. Против них применяются уже давно испытанные средства. Иоанн XXIII беспокойно задвигался. Не оставалось ничего другого, как заговорить по существу дела: — Затем вопрос о реформе церкви… — В последнее время это требование сформулировано как реформа церкви во главе и членах… — невинно добавил Забарелла, даже не взглянув на главу церкви. — Да, да, реформа церкви… Ах, сын мой, до чего ты злой, злой! Это поистине вопрос всех вопросов собора. Недаром он волнует ученые головы. — Не только ученые… — улыбнулся Забарелла. — В таких случаях римляне говорили: сколько голов, столько умов. Но у нас неоценимое преимущество: все мы глубоко убеждены в необходимости реформы. Я, ваше святейшество, горжусь тем, что еще задолго до созыва собора защищал такое направление, которое отстаивали Жерсон и дʼАйи. Мне удалось добиться этого. Ведь теперь все единодушны в вопросе «что» и пока не пришли к согласию в вопросе «как». Оставим в стороне шум и угрозы недальновидных мирян. Они слишком поверхностно смотрят на эти вещи. Осуждая продажу церковных приходов, аббатств и епископств, эти господа вообразили, что церковь якобы продалась сатане. Сейчас наивных бедняг более всего пугает продажа будущих мест и еще не освободившихся пребенд. В это впутывается и наше духовенство. Скопив немного денег, какой-нибудь мелкий фарар пыжится купить третье место в очереди на приобретение прихода и уже молится, чтобы те, кто стоит перед ним, поскорее отдали богу душу. Но фарару не везет: его обгоняет новый кандидат. Заплатив больше, он опередит трех прежних кандидатов и займет первое место. Те, кто уплатил раньше его, одним росчерком пера отодвинуты назад, а бедняга фарар снова выходит из игры… Слушая кардинала, Иоанн XXIII сидел как на иголках. — Напрасный шум вызвало и объявление продажи индульгенций оптом. Все говорят: преступно и безнравственно продавать отпущение грехов, искупление чистилищных страданий и адских мучений. — (Это было выгодным предприятием Иоанна XXIII!) — Но оставим в покое смятенные голоса черни. Для нас гораздо важнее то, что даже высшее духовенство требует полной реформы, а не полумер. Наши знаменитые теологи отлично понимают, что нужно перестроить основы, на которых зиждется церковь, а не латать дыры. Разумеется, проводить реформу нужно очень осторожно; возводя леса вокруг здания нашей святой церкви, легко развалить его. — Да, да… — живо согласился Иоанн XXIII, нисколько не скрывая своего страха перед будущими переменами. — Взять хотя бы наших французов, — с еще большим воодушевлением продолжал Забарелла, видя, что папа прикрыл глаза, словно ожидая удара. — Ректор Сорбонны Жерсон придерживается мнения, что за состояние церкви должен отвечать ее глава. Это правильная мысль. Но можно ли, замечает Жерсон, требовать, чтобы за все дела отвечал один человек? Разумеется, высшие церковные представители, образующие святой собор, должны помогать ему советами, вместе с ним решать и вместе с ним отвечать за исполнение своих постановлений. Жерсон опирается на Священное писание и на Деяния святых апостолов. Он утверждает, что первые четыре собора проводились даже без участия святого Петра. — Не перенесу. Не перенесу… — задыхаясь от гнева, сказал папа. — Я полагаю, — продолжал Забарелла, — Жерсон не приедет в Констанц. — И, сделав паузу, чтобы папа немного передохнул, добавил: — Вместо него сюда прибудет дʼАйи. Это двойник Жерсона. Он придерживается тех же взглядов. Только дʼАйи отличается от Жерсона большей хищностью. — Я не допущу! — гневно сказал папа, выпучив горящие глаза. — Я не допущу главенства собора над папой. Ишь, чего они захотели!.. Против этого выступят мои соотечественники, — немного поостыл он после внезапной вспышки гнева. — На своих-то кардиналов я могу положиться… Впрочем, один из них сейчас сидит перед ним, — он-то лет пять-шесть тому назад и состряпал свою «галликанскую доктрину»… Это Забарелла выдвинул требование подчинения папы вселенскому церковному собору. Правда, позже Забарелла не настаивал на своем требовании. Более того, он, как лиса, даже заметал свои следы. Боже мой, вот на кого приходится теперь опираться папе. Но нет, он ни за что не поддастся им. Его поддержит большинство. — Конечно, не исключено и такое нелепое постановление, — прохрипел папа. — Всё решит голосование. Большинство голосов! Я подумал и об этом, милый сын. Здесь моих прелатов не сосчитать. Тьма-тьмущая! У меня их больше, чем у других… Забарелла отрицательно покачал головой: — Это не важно. Говорят, французы сократили состав своей делегации до минимума. Они считают, что управление церковью очень ослабнет, если высшие духовные сановники покинут свои страны и приедут сюда. Кроме того, французы не хотят тратить много денег на содержание большого представительства. Они даже установили расходы на своих представителей: архиепископу — десять франков в день, епископу — восемь и доктору, кажется, три. «Что он болтает?.. — думал папа. — Какое мне дело до этого! Я узнал от него немаловажную новость: на соборе будет мало французов! Да, французов!» Кардинал всё еще что-то рассказывал, но Иоанн XXIII уже не слушал его. Забарелла поднял голову и пристально посмотрел на папу: — Не следует думать, что французы глупы и из экономии станут рисковать потерей голосов на соборе. Папа помрачнел. Почему бы им не быть глупыми? Они и глупцы и скряги! — Они, по-видимому, учли одно обстоятельство… — продолжал Забарелла, не спуская глаз с Иоанна XXIII. — Какое? — При голосовании численность делегатов не будет иметь никакого значения. Каждая национальность — итальянская, французская, немецкая и английская — получит по одному голосу. У нас, итальянцев, окажется только один голос, хотя сюда прибыло более трехсот прелатов. От ужаса глаза папы широко раскрылись: — Они могут добиться… — Не исключена возможность… — пожал плечами Забарелла. — Иначе нельзя объяснить, почему их нисколько не беспокоит количество делегатов. Их не упрекнешь в наивности. Папе стало душно. Иоанн XXIII расстегнул ворот своего платья. Он пригнал сюда столько своих сторонников! Столько людей! Не пожалел на них денег! — Мы всё еще говорим о реформе, — с невозмутимым спокойствием переключился Забарелла на другую тему. — Но дело не только в ней. Собор сначала должен решить более важный вопрос: покончить со схизмой. Вот они, чертовы рожки! Иоанн XXIII судорожно схватился за край стола: — Но ведь со схизмой уже покончено! Давным-давно! Я единственный папа. Коррер и Луна не имеют никаких прав… Забарелла прервал его, резко махнув рукой, как мечом: — Возможно… Но оба они, Бенедикт и Григорий, претендуют на папскую тиару — вернее, упрямятся и не желают отказаться от нее. Пора уже покончить с этим. Вечные раздоры между тремя папами оказывают пагубное влияние на их подчиненных, затрудняют получение церковных должностей и становятся известными каждому мирянину. Мне незачем говорить вам о том, какой вред причиняет церкви вражда между папами, когда они предают друг друга анафеме и, воюя между собой, заставляют одних христиан убивать других, вымогая на это уйму денег путем продажи индульгенций. — Всё это… всё это меня не касается… Виноваты те двое. Оба они прокляты мною. Я — единственный законный преемник Александра V, избранного святым собором в Пизе. — Никто из нас не сомневается в этом. Но те паны имеют много приверженцев. — Я предал анафеме и их приверженцев! — сказал, захлебываясь от гнева, папа. Но Забарелла не обращал на это никакого внимания: — Не следует забывать и о другом: если Бенедикт и Григорий не откажутся добровольно от сана папы — а проклятие святого отца пока не заставило их пойти на этот шаг! — собору придется провозгласить себя единственным правомочным главой и решить вопрос о папе: низложить всех трех пап сразу и избрать нового. Папа хотел было что-то сказать, но не мог. — Это легко понять, — объяснял кардинал. — Папы довольно долго правили. Светские владыки в своих политических планах делали ставку на какого-нибудь папу. Окажись только один из трех пап на престоле святого Петра, и союзники двух других подымутся на него! Разве дело собора разжигать войну в Европе? Не лучше ли проявить терпимость и освободить папское место, никому не повредив? Не оказав никому предпочтения, собор выдвинет нового, еще не обремененного никакими обязательствами. Я буду весьма польщен, если вы, ваше святейшество, наберетесь терпения и вместе со мной проследите хотя бы в самых общих чертах совокупность тех сил и интересов, которые могут столкнуться здесь, в Констанце. Я имею в виду только одних светских властителей. Они явятся сюда сводить свои счеты, искать союзников и их поддержки, будут добиваться решений в свою пользу, навязывать свою волю, вымогать, сговариваться и предавать. Это не минует ни одного выдающегося деятеля — как светского, так и духовного. Разве такие люди останутся безразличными, если их интересы связаны с основным вопросом собора — кому быть главой всего христианского мира? Вместе с Сигизмундом в Констанц приедут князья, наместники имперских городов, делегаты всех земель Германии. Сама Германия напоминает ныне лед на озере, готовый рухнуть под напором весенних вод. Немцы воюют друг против друга: дворянство борется против городов, а города и дворянство дерутся с римским королем, как только он осмеливается предъявить им свои права. У самого Сигизмунда рот полон хлопот с турками. Они уже стоят у него поперек горла в Венгрии. Как ни странно, но до сих пор ни одно европейское государство не желает видеть надвигающейся угрозы со стороны турок. Каждый государь ждет, пока они не доберутся до границ его владений. На севере поляки и литовцы воюют с немецкими рыцарями-крестоносцами. Они пришлют сюда своих послов. Сигизмунду и собору придется немало повозиться с ними! А что творится в его будущих наследных владениях в Чехии? Там паны водят его братца Вацлава на поводке, а когда захотят, запирают его в хлев, как кролика! Об Италии и говорить не приходится: ее земли напоминают сотни осколков с острыми гранями, между которыми не перестает течь итальянская кровь. В Англии идет война за королевский престол: шотландский король попал в плен к англичанам. Хотя бесноватый французский король крепко держится за свой трон, в стране нет покоя: до сих пор не прекращается война между орлеанистами и бургундцами. Жан Бургундский, убийца вождя орлеанистов, — союзник вашего святейшества. Орлеанисты, разумеется, поддержат собор и выступят против вашего святейшества. Они будут искать себе союзников в Кастилии и Арагонии, владыки которых дерутся между собой из-за господства в Испании. Я мог бы упомянуть и о других ваших противниках. Вряд ли найдется такой чародей, который сумеет навести порядок в хаосе совершенно противоположных — светских и церковных — сил. Может ли быть что-нибудь желаннее, чем подарить этому смятенному миру еще одного спасителя, найденного в яслях, — нового папу, прошлое которого бело как снег и не обременено печальным грузом смертных грехов. — Боже!.. Боже мой!.. Ведь всё это — правда! Так… И всё же… Что мне делать? Господи, что мне делать? — Папа скрестил руки на груди, растерянно блуждая глазами по комнате. Потом он снова уставился на Забареллу — единственное живое существо, за спиной которого находился мир мрака и ужаса. — А ты, сын мой… — начал он совсем тихо, — ты не боишься этого? Да… Я знаю, знаю, ты хочешь… Ты тоже мечтаешь о тиаре!.. Кардинал поднял глаза. Как ни странно, они не светились ни злорадством, ни триумфом: — Святой отец! Я надеюсь, что в моих словах вы не найдете ничего личного. Только так можно достигнуть взаимопонимания. Оба замолкли. В комнате как будто прожужжала муха… Откуда ей быть зимой?.. И снова прозвучал усталый голос Забареллы. — Святой отец, — сказал кардинал, — мне нужно отпущение грехов. Моя душа полна сомнений и неверия. По крайней мере, я таков сейчас. Мне кажется, что наступает конец света. Конец нашего мира… Папа не знал, долго ли тянулось время — часы или минуты. Но Забарелла, уже спокойный и уверенный в себе, сидел перед ним и слегка улыбался: — Наша беседа, ваше святейшество, сильно затянулась! Та помощь, которую вы могли от меня получить, слишком незначительна в сравнении с потерянным временем. Вы, ваше святейшество, пригласили меня к себе, чтобы я посоветовал вам… — Ну и что же?.. — еле выдавил Иоанн XXIII. — Я могу дать вам только один совет: подождать Сигизмунда и вцепиться в него мертвой хваткой. Он был и остается одним из важнейших участников будущего констанцского турнира. Это совершенно очевидно. Папа понял, что ему придется проглотить не одну горькую пилюлю. Кто знает, не окажется ли какая-нибудь из них отравленной? Так или иначе, конец и смерть, смерть и конец подкарауливают его со всех сторон! Голова Иоанна XXIII по-стариковски затряслась. — Согласен… Держаться Сигизмунда во что бы то ни стало! Любой, черт бы его побрал, ценой! Кардиналы всё равно будут зариться… боже мой, на мою тиару… — горько зарыдал, не закончив мысль, папа. — Милый сын, у меня есть к тебе еще одна просьба. Как знать, может, она важнее всех прочих. Открой, пожалуйста, окно — я задыхаюсь. Откинь проклятые занавески. Мне душно… Забарелла открыл окно. В комнату ворвался свежий воздух. Снег уже не падал. На небе сверкали звёзды. Вечные и недосягаемые, они ярко горели над миром, над Констанцем. Забарелла откинул занавес с ниши и остолбенел, словно пораженный молнией. Перед ним блеснул мраморный торс чудесной античной статуи, ослепив его необыкновенной белизной. Господи, в нише стояла та Венера, которую он видел у папы в Риме! Стало быть, Иоанн XXIII привез ее с собой! «Непонятно… Разве старый Бальтазар способен разбираться в мраморных женщинах? Вряд ли!.. Нет, нет… Тут кроется что-то другое. Да, дивная богиня! Старый хрыч, чей взгляд недостоин тебя коснуться, будет торговать тобой! Он купит кого-нибудь за тебя, богиня Олимпа! Он купит кого-нибудь…» Забарелла нахмурил брови и задумался. Сохраняя спокойствие духа и не отрывая глаз от статуи, кардинал сказал: — Святой отец, я могу дать вам еще один совет. Он может оказаться полезным. Но… я дорого возьму за него!.. — Чего ты хочешь?.. — вдруг ожил папа. — Всего-навсего эту Венеру… Папа захохотал, и Забарелла повернулся в его сторону. Отвратителен, даже более — оскорбителен, смехэтого старика… в присутствии богини! — Ты получишь Венеру. Правда, она не моя… Но это не беда. Выкладывай свой совет!.. — Когда надвигается неминуемая опасность, человек всё-таки надеется… уменьшить, отдалить ее от себя. Он ждет какой-нибудь отдушины, которая может изменить положение дел в его пользу. В настоящее время самое уязвимое место у вашего святейшества — схизма. Как отсрочить решение этого вопроса? Необходимо уже на первом заседании отвлечь внимание собора от схизмы чем-нибудь другим. Остается только найти это другое. Вы, ваше святейшество, в начале нашей беседы коснулись вопроса о ереси. Я тогда заметил, что этот пустяковый вопрос можно решить в два счета. Кроме него, в нашем распоряжении ничего нет. Нужно — хотя бы ненадолго — придать этому вопросу непомерно важное значение, и оттянуть время. Сейчас есть два очага ереси — в Англии и в Чехии. Возиться с покойным Виклефом и отдельными английскими еретиками не имеет никакого смысла. Это будут одни разговоры, — они не привлекут к себе должного внимания. Иное дело — Чехия. В Констанц прибыл один чех — еретик. Это — Гус, ваше святейшество. С его историей я познакомился давным-давно, еще в Риме. Она слишком затянулась; с ней следовало бы покончить здесь. Вашему святейшеству, видимо, известно, что святая церковь не оставляла этого зверя-еретика в покое и наконец загнала его в западню. Процесс прошел по всем инстанциям, были использованы все средства. Как вам, святой отец, так и мне ясно, что этот чех — обычный еретик. Мы легко бы справились с ним за полдня. Незачем доказывать, что нас ничто не остановило бы в выборе наказания. Дело вовсе не в том, что Гус — очень опасная фигура. Нет, нет, необходимо в зародыше убивать всякую ересь, как стремление нанести ущерб нашему авторитету. Вот теперь вашему святейшеству следовало бы убедить мудрейших и опытнейших отцов собора в том, что Гус представляет собой особую опасность и им необходимо заняться раньше, чем вопросом о схизме. — Мы должны широко раздуть дело Гуса — всё время говорить о нем и держать его под носом у собора. Только в этом случае им заинтересуются и достойные отцы. Может быть, тогда они зашевелятся. Может быть… Всё остальное зависит от вашего святейшества. Таков мой совет. Папа внимательно прослушал Забареллу, взвесив каждое слово. Он строил догадки и не переставая комбинировал. У него имеется надежда, надежда на выход из трудного положения. Она единственная, жалкая, почти несбыточная, но все же надежда. Ему не остается ничего другого, как бросить незаметную песчинку — Гуса — под огромный жернов констанцской мельницы. Но одному богу известно, удастся ли остановить жернов… В этот момент Иоанн XXIII вспомнил еще кое о чем: — Да… В деле Гуса есть уязвимое место; его-то и нужно раздуть. Я мог бы радоваться этому, но боюсь, как бы оно не причинило мне больше зла. С делом Гуса связан Сигизмунд. Римский король взял этого человека под свою защиту. Очевидно, Сигизмунд проявляет интерес к Гусу из-за Чехии… Черт знает, в чем тут дело. Ясно одно: король дал ему охранную грамоту. Забарелла улыбнулся: — Вам, ваше святейшество, не стоит над этим ломать голову. Речь идет лишь о том, чтобы передать Гуса в руки достойных отцов собора и привлечь их внимание к еретику. Когда страсти уймутся, по требованию вашего святейшества или Сигизмунда мы сможем беднягу освободить. Сделать это никогда не поздно. Кардиналу становилось не по себе, — неужели он должен думать за папу?.. — Я сам согласился обеспечить неприкосновенность Гуса. То же обещал и Сигизмунд. Как только Гус прибыл в Констанц, меня посетили два каких-то чешских шляхтича с поручением Сигизмунда. Мне пришлось пообещать неприкосновенность Гусу, и я сказал: если бы Гус оказался убийцей моего родного брата, я и тогда взял бы его под защиту. Кардинал еле скрыл улыбку. Он вспомнил, что в свое время папа обвинялся в совращении и обольщении невестки. Стало быть, легко представить себе, какие нежные чувства питал папа к своему брату. Забарелла сыт по горло этой беседой. Близится утро. Пора спать… — Вам, ваше святейшество, до предъявления какого-либо обвинения Гусу следовало бы сначала договориться с Сигизмундом. Я хочу заметить, что одно обвинение Гуса в ереси не сможет отвлечь внимание собора. Гуса надо арестовать, посадить в тюрьму, предъявить обвинение и сунуть под нос отцам собора как неисправимого, важного еретика, опасного для всей церкви и привлекающего всеобщее внимание. Словом, что-нибудь в этом роде. Впрочем, я не знаю, удастся ли сделать этого безумного реформатора страшным чудовищем. А теперь я осмеливаюсь попрощаться с вами. Кардинал опустился на колени. Папа, погруженный в свои думы, никак не мог отрешиться от странного предложения Забареллы. Утомленный беседой, он кое-как благословил его, совершенно не подумав о более приличном окончании их свидания. Беседа между ними обнажила все уязвимые места папы и привела в смятение его мысли. Правда, у него еще теплится искорка надежды, но она слаба, очень слаба… Папе не остается ничего другого, как мечтать о невозможном. Утром он отправит посла к Сигизмунду и попросит его не поднимать никакого шума, если Гуса арестуют… Кардинал направился к выходу. У самого порога он еще раз взглянул в сторону папы и сухим голосом напомнил: — С позволения вашего святейшества утром я пришлю людей за статуей… (обратно)Агнец божий
Пан Ян из Хлума ждал Гуса в его комнате. Сегодня он впервые не застал магистра дома. Магистр не мог отлучиться далеко: его плащ висит на стене, а Библия, перья и бумага не убраны со стола. Ян из Хлума заглянул во двор. Но и там никто не видел Гуса, — все говорили, что магистр не выходил из дому. Пан Ян из Хлума не мог допустить мысли, что Гус не сдержал своего слова и отправился в город. Не оставалось ничего другого, как ждать возвращения магистра. Ян из Хлума посмотрел вокруг. Чисто выбеленная комната была полна света. Магистр — как ни странно — обрел здесь покой и в течение трех недель, проведенных в Констанце, не переставая работал. Все визиты к официальным лицам нанес пан Ян из Хлума, а сегодня благополучно дошла сюда и охранная грамота Сигизмунда. Между прочим, она не подняла, а испортила настроение у Яна из Хлума. Он ее представлял себе не такой. О другой они договаривались и с Сигизмундом. То, что пан Вацлав привез из Аахена, — всего-навсего охранная грамота путешественника. Такой документ не освободит магистра от суда и не спасет его от расправы. Если бы он, Ян из Хлума, не добился настоящей, солидной охранной грамоты, то ни за что бы не поехал сюда с магистром. Вероятно, их убаюкало спокойное путешествие по Германии. Этому немало удивлялись все друзья Гуса. Они полагали, что на них нападут сразу же за границами Чехии: забросают камнями, свяжут, отвезут в тюрьму, а потом… Но по дороге им попадались одни любопытствовавшие зеваки. Священники, советники, монахи и важные прелаты Нюрнберга осторожно выспрашивали Гуса и приглашали его на диспуты. Магистр не отказывался от них и легко одерживал верх над своими противниками. Никто не мог сравниться с ним. Еще бóльшим успехом он пользовался у людей, проживавших в небольших городках и деревнях. Именно поэтому путешественники решили не делать крюка в несколько десятков миль — не заезжать в Аахен, — а двигаться прямо в Констанц. Друзья считали такой маршрут вполне разумным. Когда Ян из Хлума сказал Гусу, что у них нет еще охранной грамоты, магистр ответил, что она не имеет для него большого значения. Пожалуй, это верно. Ведь Гуса никто не вызывал на суд. Магистр ехал сюда по доброй воле. Он не обвиняемый, а участник диспута. Собственно, Гус и собор — две стороны, равные перед законом. Так рассуждал пан Ян из Хлума, когда оказывался наедине с самим собой. Хотя ничто не вызывало опасений, однако в глубине души он не верил в благополучное завершение дела Гуса. Да, не верил! Его, видимо, чересчур испортила дипломатическая служба. Основное во всех его помыслах — недоверие. Такую закалку очень легко было получить на службе при дворе Сигизмунда. А сейчас пан Ян особенно недоверчив, — ведь здесь, в Констанце, он выполняет роль живой охранной грамоты Гуса. Его и пана Вацлава из Дубе римский король обязал охранять магистра. Но это еще не всё. Целый ряд сомнений, более важных, чем доводы разума и служебного долга, не давал ему покоя, и он, подобно всякому, кто искренне любил магистра, сильно опасался за судьбу своего друга. Пан Ян из Хлума успокаивался только тогда, когда видел Гуса живым и свободным. Где же всё-таки задержался магистр? Пан Ян встал, открыл дверь на лестницу, ведшую в первый этаж. Снизу, из пекарни, доносились треск горевшего хвороста и дух только что испеченных караваев. Гостю не сиделось, — он стал нервно ходить из угла в угол. Вдруг во дворе послышался стук топора, — кто-то колол дрова. Тут, в полном уединении, пану Яну из Хлума неожиданно пришла на ум мысль: под крышей этого дома царит благословенный покой, а что только не творится за его пределами, в городе! Пан Ян словно очнулся от долгого сна. Как мог он, опытный дипломат, сбить себя с толку первыми успехами? Спору нет, Гус легко доказал свою правоту всем, кто желал с ним спорить во время его путешествия. На диспутах Гус излагал взгляды, которые одобрялись всеми его слушателями. Почему же Гусу не удалось сделать это в Праге? Ведь он проповедовал там то же самое. Университет, архиепископ и король признавали его правоту. Теперь они отвернулись от него, — ему пришлось покинуть Прагу, а затем выехать в Констанц. Почему? Потому, что они уже не задумывались над тем, прав он или не прав. Истина теперь их вообще не интересовала. Профессора университета беспокоились о том, как бы не распрощаться со своими пребендами, приходами, бенефициями. Если же на сторону Гуса станет архиепископ, папа отзовет его и лишит доходов… А король? Взяв магистра под защиту, Вацлав IV быстро восстановил бы против себя Рим со всеми его приспешниками и перестал бы мечтать о прежнем могуществе. Войска папы немедленно вторглись бы в Чешское королевство. Ян из Хлума мог легко представить себе, что ждет Гуса в Констанце. Но кто будет его судьями? Разумеется, не нищие приходские священники Баварии и Швабии, которые кивали в знак согласия какому-то проезжему диспутанту. Его будут судить папа и представители высшей церковной иерархии! О какой же истине могут говорить эти судьи в Констанце? Разве они станут спорить с магистром по тезисам Виклефа и вникать в сущность понятий: что такое церковь и что следует принимать во время богослужения — хлеб или вино? Впрочем, всё это разбирают в своих сочинениях его противники. Эти ученые мужи будут выступать и на диспуте. Но разве речь идет об этом? Перед глазами Яна из Хлума начинает четко вырисовываться всё, что предшествовало отъезду Гуса в Констанц. Теперь… Да, теперь Ян из Хлума ясно представляет себе, как это началось много лет назад. Гуса всё время травили, окружая, тесня и лишая его то одной, то другой позиции, пока не загнали в констанцскую ловушку. Здесь магистр оказался во власти своих врагов. Когда пан Ян трезво взглянул на прошлое, оно бесстыдно раскрыло перед ним свою подлинную сущность. Всё походило на безжалостную игру в шахматы: угроза, шах, второй шах и третий — с другой стороны. Всякого, кто когда-нибудь защищал Гуса, немедленно выкидывали из игры, как опасную фигуру. На шахматной доске у белых остался один король. Не давая передышки, его загоняли в угол. Магистр уже не мог сделать ни одного хода, и противник приготовился сделать в Констанце последний ход — мат! Как это ясно и неотвратимо! В начале борьбы сильнее был Гус: на его стороне стояли все важнейшие фигуры — король, двор, архиепископ и университет. Гус начал успешную атаку: выступал и проповедовал всё, что было содержанием его чувств, мыслей и желаний. Жалобы на него и угрозы по его адресу легко отвергались даже в то время, когда папа предал его анафеме. Пражский архиепископ побаивался обнародовать папскую буллу. Какой негодяй осмелился бы признать еретиком славного ректора знаменитого Карлова университета? Когда Гус передал обязанности ректора своему преемнику, Рим подал сигнал для первой атаки. Он избрал самое слабое звено в веренице защитников Гуса — архиепископа. Папа предложил архиепископу обрушиться на магистра. Архиепископ побоялся ослушаться папу и выступил против Гуса. Но в тот раз за него заступился Вацлав IV. Король наказал архиепископа, конфисковав его имущество. Архипастырь крепко струхнул, — он убежал из Праги и умер в изгнании. Как радовались этой победе друзья Гуса! Но всё-таки одной фигуры на шахматной доске не стало: преемник архиепископа уже никогда не выступал в защиту Гуса. Тогда папа направил свой удар против другой фигуры — короля Вацлава. Именно в это время король получил от папы буллу о продаже индульгенций. Папе понадобились деньги для ведения войны со своими противниками — антипапой и неаполитанским королем. Пусть христиане убивают друг друга, но дают папе деньги, — и они, в зависимости от того, сколько заплатят, будут освобождены от адских мук на пять, десять, сто лет! Разве мог молчать Гус в такое время?! Разумеется, не мог и не молчал. Часть дохода от продажи индульгенций папа передавал королевской казне: «Смотри-ка, король, Гус метит залезть в твой карман!» А вслед за этим раздался новый крик: «Гус восстал против авторитета церкви! Он — еретик!..» Эх ты, король! Как же ты стараешься снова стать императором, если мерзкий еретический смрад не только охватил твое королевство, но и ударил в нос всему христианскому миру!.. Король и двор испугались. Кум Вацлав не желал иметь лишних хлопот и принимать какие-либо решения. Король, изнуренный тяжелым недугом, свое единственное утешение находил в вине. Он уже не мог взять магистра под свою защиту и удержать его в Праге. Столице угрожал интердикт. Наложи его папе — и королевство попадет в тяжелое положение. Гус покинул Прагу. Король притворился, что ничего не знает об отъезде магистра. Гус был обязан этим Иерониму: Иероним заявил королю, что тот, кто после воззвания папы обратился к высшей инстанции, Иисусу Христу, имеет право жить среди простых людей где-нибудь далеко от Праги. Теперь Гус — покинутый король на опустевшей шахматной доске. Он уже совершенно одинок. На него обрушились Сигизмунд, папа и Париж. Сигизмунд добился созыва собора всего христианства в Констанце. Разве не за это ратовал сам Гус? Магистр желал опровергнуть все злые наветы на Чешское королевство и снять с него обвинение в ереси. Знаменитый французский теолог, ректор Парижского университета Жерсон прислал новому пражскому архиепископу послание, в котором призывал его выжечь каленым железом Гусову ересь и расправиться с самим еретиком. Непослушание, заявил он, равносильно измене церкви. Папа послал королю Вацлаву свое послание. «Если ты не выдашь Гуса, — писал он ему, — я объявлю крестовый поход против твоего королевства!» Прочел это послание и Гус. Прочел… и уехал. Яну из Хлума казалось, что он никогда еще не видел более запутанной и более опасной шахматной партии, чем эта. Чего только не выдумывали враги, заманивая магистра в Констанц, в свое логово! И вот он теперь… здесь! Удар следовал за ударом. Всё это напоминало удары проклятого топора, который стучит сейчас во дворе. Пану Яну из Хлума казалось, что кто-то бьет его обухом прямо по голове, и он подошел к окну. На маленьком дворе какой-то мужчина колол дрова. Ян из Хлума собрался было окликнуть его, но остолбенел от изумления: это был Гус. У Яна из Хлума словно гора свалилась с плеч. Он чуть не расхохотался: ты здесь сходишь с ума, а твой магистр, как ни в чем не бывало, спокойно колет дрова. Ян из Хлума спустился вниз и поздоровался с магистром. Гус заметил его удивление и улыбнулся. — Я каждое утро колю дрова. После долгого сидения мне всегда хочется размять косточки, — сказал Гус. — Когда соседи увидели меня впервые с топором в руках, то начали креститься. Они подумали: а вдруг он и в самом деле еретик?.. Пану Яну из Хлума было уже не до смеха. Он рассказал Гусу о том, как враги злопыхательствуют против него в Констанце. Их ряды всё время пополняются. Пражское архиепископство щедро платит им за клевету. Каждый доносчик, борясь против Гуса, старается свести с ним личные счеты. Уроженец Микулова доктор Тим, ныне епископ Пассау, прибыл в Констанц, чтобы отомстить магистру, — Гус мешал ему вести выгодную торговлю индульгенциями в Праге. Приехали сюда фарар костела святых Филиппа и Якуба Николас Цайзельмайстер и фарар костела святого Климента Ян из Бероуна. Их прихожане перебегали к Гусу, в Вифлеемскую часовню. Не поленились приехать сюда и Иоганн Мюнстерберг и Петер Шторх — ныне преподаватели Лейпцигского, а ранее магистры Карлова университета. Эти никогда не простят Гусу его участия в подготовке Кутногорского декрета. Им, их коллегам и нескольким сотням студентов, пришлось покинуть Прагу. Попав в захолустный Лейпциг, они никак не могли забыть сытную жизнь в Праге. Бог весть, кто только не приехал и кто не приедет еще сюда! Во главе всей этой братии стоит самый опасный противниц — литомышльский епископ Ян Железный. Гус кивнул: — …но самый деятельный среди них, надо полагать, Палеч? Верно?.. — …и Михал де Каузис, — добавил Ян из Хлума. О них нечего было и говорить. Магистр Ян и пан Ян отлично знали обоих, упоминание этих имен способно было возмутить даже таких спокойных людей, как опытный дипломат — пан Ян из Хлума. Да, он не мог думать о них без отвращения… Уже в молодые годы клирик Михал де Каузис был обладателем пяти бенефициев. Забияка и сутяга, он изворачивался как уж, ловко обходя законы. Когда Михалу де Каузису удалось втереться в доверие короля, клирик предложил Вацлаву восстановить рудники в Илове и начать там добывать золото. Получив на это согласие и деньги, он помчался в Рим. За чужие деньги Михал де Каузис приобрел в римской курии должность прокуратора. В роли защитника веры он снова появился в Чехии. Михал де Каузис прикладывал свою руку ко всему, где мог: в доносах на Гуса, в подготовке процесса и в обвинительном заключении, поданном суду. Одним словом, если этот негодяй походил на нахальную крысу, то второй… Второй оказался человеком с удивительно непостоянной натурой! Уж лучше бы он скрывал свою истинную сущность, чем позволял ей проявлять свое убожество. Когда-то Палеча называли отцом Гуса. Иногда он бывал даже более неистовым, чем Гус. Как рьяно защищал он учение Виклефа! Палеч всегда забегал вперед; его страстность частенько увлекала Гуса. На стороне магистра стоял Палеч и во время спора с пражским архиепископом. Палеч поддерживал Гуса даже после возвращения из болонской тюрьмы, куда Палеч был заключен папой, вплоть до… до продажи индульгенций. Палеч резко осуждал мошенника Тима за торговлю индульгенциями и отказался читать папскую буллу об отпущении грехов у себя в коуржимском приходе. Когда же королевский двор одобрил торговлю индульгенциями, Палеч испугался, поджал хвост. Противиться папе он уже не хотел, — ради чего ему рисковать своим приходом и университетской кафедрой? Да, Палеч предупреждал магистра, по-товарищески советуя ему не впутываться в это дело. Но теперь, переметнувшись в стан врагов Гуса и желая выслужиться перед ними, Палеч старался как можно скорее зачеркнуть свое прошлое. Поистине, отуреченный хуже турка! Стóит ли бередить старые раны? Нет никакого смысла вспоминать об этом. Ян из Хлума смотрел на магистра. Тот склонился над поленом, лежавшим на чурбане, и ощупывал пальцами узловатый корень. Лицо магистра было сосредоточенным и напряженным. Он поднял голову и взглянул на Яна из Хлума: — Вожусь с ним и не могу ничего придумать. Надо вогнать клинышек. Тогда полено быстрее расколется. — Окинув взглядом большой двор, магистр заметил в углу какой-то кусок железа. Он поднял его и стал вертеть в руках. Вставив клин между бугроватыми корнями, Гус ударил по нему обухом. Пень разлетелся, как ореховая скорлупа. Гус выпрямился и с видом победителя взглянул на Яна из Хлума. Тот только хмурился. Сегодня Ян из Хлума снова не знал, как вести себя — смеяться или сердиться. Он пожал плечами и, не тратя времени на разговоры, простился. Гус продолжал колоть дрова. Взмахи и удары топора опять стали мерными. Пусть так же весомо, слово за словом, аргумент за аргументом, цитата за цитатой, прозвучит на соборе его речь. Гус посмотрел на щепки, лежавшие возле поленьев, и, вонзив топор в чурбан, быстро взбежал по лестнице в свою комнату. Усевшись за стол, он отодвинул незаконченную работу, положил перед собой чистый лист бумаги и начал писать. Ему нужно было определить главные пункты большой речи о церковной реформе. «Главная причина упадка церкви, — писал он, — ее стремление к господству над всем миром. Для достижения своей цели церковь пользуется светскими средствами. Ей прежде всего нужны деньги. Она ищет их везде, где только может. Второй причиной является чрезмерное усиление духовной власти. Третья причина — неограниченный авторитет церкви. Из этого принципа вытекает отрицание малейшей критики. Последняя всегда принимается за ересь. Наместник Петра стал крупнейшим светским владыкой. Но и этого ему мало: он стремится возвыситься над всеми владыками — над королями и императорами. Он хочет стать во главе всей мировой политики».Перо выводило на бумаге слово за словом, из предпосылок сами собой вытекали заключения. Разумеется, каждый отдельный пункт нуждается в более подробном анализе и, боясь что-нибудь упустить, магистр делал пометки для изложения новых пунктов.
«Светское государство, — дар, принятый папой из рук императора Константина, — отравило церковный организм. Папа желает господствовать над народом, а Христос служил ему всю свою жизнь и умер за него. У наместника Христа — целое светское государство, а сыну божьему негде было приклонить голову. Для поддержания и укрепления своей светской власти церковь нуждается в светских средствах — деньгах. Папская курия создала самую совершенную денежную систему, — она тащит в Рим мешки денег, обирая весь мир. Ей уже давно не хватает доходов от церковных десятин… Папа торгует теперь церковными должностями и духовными санами — начиная от архиепископа, епископа, аббата и кончая саном нищего приходского священника. Священники торгуют святыми таинствами — таинствами крещения, освящения, исповеди и даже последнего помазания. Их духовные деяния ничем не отличаются от деяний мирян. То, что священники приняли в дар от бога, они продают верующим за деньги. Всё это — не что иное, как торговля святыми таинствами и реликвиями, которая подобно заразе проникла в церковь, и поразила всех — начиная от ее главы, папы, и кончая последним клириком».
К этому тезису магистр добавил:
«Какой удивительный смысл придала церковь значению вещей, когда она бренное земное богатство поставила выше спасения души. Как превратно она судит о мире, и как она губит его! Церковь раздает священникам должности, принимая во внимание не их добродетели и заслуги, а кошельки и раболепие. Несовершеннолетний дворянский сынок, повар или привратник папы без особого труда получают церковную должность даже в такой стране, языка которой не знают. Таково же отношение церкви к мирянам: за деньги она отпускает им грехи, а без денег отказывается хоронить. Возвышение духовенства. Священник не может произвести на свет божий даже мухи, но ставит себя выше самой богоматери. Он хвастается: она родила господа бога один раз, а мы воскрешаем его ежедневно, во время каждой мессы. Все папы твердят, что апостол Петр вручил им ключи от этого мира. Они ослепляют верующих блеском своего ореола, дабы те не видели, как папы вверенными им ключами открывают сундуки и кошельки, а не души их… Весьма пагубна страсть священников к роскоши. Ядом роскоши церковь отравила людей, особенно власть имущих. Расточительные богачи приносят в дар церкви всякие диковинные мелочи, полагая, что таким путем они служат богу лучше, чем когда помогают беднякам. Они приняли блеск за благо: носят богатые платья и роскошные ожерелья. Сами же погрязли в пороках… Ремесленник старается догнать бюргера, бюргер — рыцаря, рыцарь — пана, а пан — высокого прелата. Они запускают свое хозяйство, охотно залезают в долги и не заботятся о бедняках. Авторитет — средство возвышения. Можно ли скрыть свои грехи и преступления, если позволить верующим думать о них? Папа утверждает, что он непогрешим, а его воля — закон. Стало быть, его святость не следует ставить под сомнение, — его буллы должны безоговорочно выполняться. Тот, кто не повинуется, — грешит и попадает в ад. Беспрекословное повиновение — высшая добродетель. Повиновение необходимо для сохранения и поддержания власти иерархии сильных, более сильных и самых сильных. Тот, кто заметит малейшую трещинку в церковном здании, — предается проклятию как еретик. Этот человек поистине заслуживает их анафемы: ведь он старается раскрыть глаза ослепленных. Священники боятся, как бы люди не сделали из трещины, появившейся в церковном здании, опасную для них дыру».
Гус перестал писать… Люди должны прозреть… Как можно спокойно глядеть на такой порядок и… и молчать? Нет, ты, не должен молчать. Не имеешь права — даже если хочешь… Невозможно надолго затаить дыхание, — сами легкие заставят тебя открыть рот. Стóит тебе искусственно приостановить дыхание, и ты погиб. Нельзя молчать, когда необходимость исправления очевидна и неизбежна. Гус снова склонился над бумагой:
«Тот, кто с добрым умыслом карает за проступки своего ближнего, — любит его и желает ему добра. Если ты по-настоящему любишь человека, — пожелаешь видеть его более совершенным. А меня упрекают в том, что я возмущаю народ, указывая на пороки духовенства. Но ведь так в свое время обвиняли Христа: он, мол, вызвал волнения во всей Иудее. Как прост путь исправлений! Возьмите у церкви светскую власть и золото, — они никогда не принадлежали и не должны принадлежать ей. Истинный корень зла — страсть духовенства к деньгам. Подруби его, и в один миг исчезнут торговля таинствами, взяточничество, драка за теплые места. Пастырями останутся только те священники, которые хотят служить богу, а не стричь своих доверчивых овечек. Тогда церковь сможет опереться на две крепких скалы: истину и справедливость».
Гус отложил перо в сторону и задумался: да, это самое простое средство оздоровления церкви, оно неизбежно, как утро после ночи. На земле уже побывал тот, кто сказал самые мудрые слова. Бедняки любили его, а богачи распяли на кресте. Вот и сюда, в Констанц, съезжаются Анны и Каиафы,[472] судьи и фарисеи…
В этот момент открылись двери и в комнату магистра без стука вошел пан Ян из Хлума. Его лицо казалось багровым. Под нахмуренными бровями озабоченно светились глаза. — К тебе идут странные гости, магистр: бургомистр, два епископа и еще кто-то. Мне кажется, эти господа оказывают нам слишком много чести. Они спрашивали о тебе внизу. Гус нахмурился. Гости могут помешать ему: оторвут от работы, в которую он погрузился. На лестнице послышались шаги. Кто-то постучал. В комнату вошло семеро гостей. Впереди них был бургомистр Констанца Генрих фон Ульм; он представил магистру и Яну из Хлума тридентского епископа, аугсбургского епископа, папского аудитора Оттобони и рыцаря Ганса Бодманна. Имен остальных двух человек он не назвал. Бодманн был вооружен до зубов. Первым заговорил тридентский епископ. Поклонившись Гусу, он передал ему приглашение нескольких кардиналов посетить их и побеседовать с ними. Ян из Хлума не спускал глаз с Бодманна. Он стоял у окна, делая вид, что не желает мешать вести разговор. Осторожно взглянув на улицу святого Павла, Ян из Хлума заметил, как вооруженные всадники отгоняли толпу от дома. Так вот оно в чем дело!.. Ян быстро повернулся. Дипломатическая выдержка и спокойствие мгновенно покинули его: — Господа, сознаёте ли вы, на кого посягаете? Магистр находится под защитой самого императора. У нас есть охранная грамота Сигизмунда. Она гарантирует магистру личную неприкосновенность. Кто поднимает на него руку, тот замахивается и на его императорское величество! Подумайте об этом! Магистр прибыл на диспут, и вы должны выслушать его. Двор желает, чтобы по делу магистра ничего не предпринималось до прибытия его императорского величества. Гнев пана Яна немало удивил Гуса. Магистр не понимал, почему рассердился его друг и заговорил с гостями дерзким тоном. Спокойные и невозмутимые господа пропустили мимо ушей заявление чешского шляхтича. На их лицах не дрогнула ни одна жилка. Тридентский епископ немного подождал. Когда Ян из Хлума успокоился, он с таким же хладнокровием, с каким передал приглашение Гусу, продолжал: — Мое сообщение следует рассматривать как приглашение на беседу. Я повторяю: кардиналы желают встретиться с чешским магистром. В этой настоятельной просьбе нет ничего такого, что могло бы возмутить благородного пана; вы напрасно бросили нам вызов, подозревая нас в сомнительных намерениях. — Для чего же вам понадобилось столько солдат? — вспылил Ян, показав рукой на окно. — Ведь вы не будете отрицать, что господин Бодам или Бодманн — их начальник! Гость в латах переминался с ноги на ногу и, опустив глаза, молчал. На выручку рыцарю подоспел бургомистр: — Вооруженная свита нужна для охраны магистра. — Мы проехали по всей империи и не нуждались ни в какой охране, — возразил ему Ян из Хлума. — Мы отвечаем за порядок в городе, — пожав плечами, сказал бургомистр. — Нам незачем рисковать. В настоящее время в Констанце больше иностранцев, чем местных граждан. Мы не знаем, что это за люди и как они будут вести себя. В разговор вмешался Гус. Гости насторожились. — Я понимаю — начал магистр: — благородные господа пришли пригласить меня на беседу с достойными кардиналами. Я прибыл в ваш город на диспут и выступлю перед всем собором. Если господа кардиналы желают побеседовать со мной раньше, то почему бы мне не пойти им навстречу! Так я поступал даже во время своего путешествия. — При этих словах Гус слегка повернулся в сторону Яна из Хлума. — Я всегда готов отвечать тем, кто задает мне вопросы. Ян склонил голову и закусил опустившийся ус. Гости еле заметно переглянулись. — Идемте, господа, — сказал Гус, и люди расступились, освободив ему дорогу. Вслед за ним вышел на улицу и Ян из Хлума. Когда Гус спускался по лестнице, госпожа Фида остановила его. Из ее глаз неожиданно брызнули слёзы. Расстроенная Фида хотела что-то сказать на прощание, но рыцарь Бодманн грубо оттолкнул ее. Магистр заметил тревогу хозяйки и благословил Фиду. На улице — уже свободной от людей — их ждали оседланные кони. Как только магистр Ян и пан Ян из Хлума вскочили на коней, кавалькада тронулась. К ней примкнули конные стражники. Путь был недолог. Всадники остановились возле епископского дворца, резиденции папы. Гуса повели в большой зал, расположенный на первом этаже. С ними пошел и Ян из Хлума: Сигизмунд приказал ему сопровождать магистра, ни на минуту не покидая его. Сначала их оставили в зале. У трех дверей зала стояло по два оруженосца с мечами и алебардами. В самой дальней нише сидел какой-то лысый старец с тупым взглядом, судя по одеянию — монах-францисканец. На вошедших людей он не обратил никакого внимания. Спустя некоторое время в зал вошли два кардинала: один старый, он уже с трудом дышал и двигался, другой — помоложе, но тучнее первого. Ян из Хлума за время своего пребывания в Констанце познакомился со многими выдающимися особами. Этих прелатов он не знал. По-видимому, они принадлежали к людям не первого и даже не второго ранга. И в самом деле, разговор, который завязался между ними и Гусом, оказался на редкость пустым. Беседа возмутила Яна и вызвала у него новые подозрения. Старик спросил Гуса, зачем он прибыл на собор, а его коллега полюбопытствовал: «Правда ли, что ты защищал и распространял лжеучение?» Этот спрашивал равнодушно, как духовник, который устал выслушивать грехи кающихся. Вопросы, заданные Гусу, были очень поверхностны. Магистр отвечал на них лаконично: на собор прибыл по доброй воле, никаких ересей не защищал и не проповедовал. Оба кардинала недолго интересовались магистром. Перемигнувшись между собой, они попрощались с ним и вышли. Удивительно невразумительная интермедия расшевелила ветхого францисканца, дремавшего в нише. Теперь и он подошел к магистру. Мигая глазками, потерявшимися в морщинках, францисканец тоже стал задавать Гусу вопросы. Старец вел себя бесцеремонно, как ребенок, и не в меру любопытствовал. Гус улыбался, терпеливо отвечая ему. Монах спросил магистра, не утверждает ли он, что хлеб остается хлебом и после освящения… — Разумеется, не утверждаю и никогда не утверждал. — Говорят, — кивал головой францисканец, — что в Богемии отрицают превращение хлеба путем освящения в тело господне… — Это, конечно, неправда. Монах провел рукой по своему черепу: — А вы, ученый магистр, верите, что во время мессы сущность хлеба меняется? Пан Ян из Хлума не выдержал: — Ты спрашиваешь одно и то же третий раз. Магистр уже дал тебе ясный ответ… Тусклый взгляд монаха испуганно скользнул по могучей фигуре пана Яна: — Простите, благородный рыцарь. Не обижайтесь на глупого старца. Simplex est senectus…[473] А что вы думаете о божественной и человеческой сущности особы Христа? — снова спросил францисканец Гуса. — Как можно объяснить соединение двух начал в одном? Гус пристально посмотрел на холодное и невыразительное лицо монаха. Это, поистине, одна из наиболее запутанных задач. Но он спокойно ответил ему и на этот вопрос. Францисканец то и дело кивал головой. Когда Гус закончил свои объяснения, монах поднялся и направился уже не в свою нишу, а к дверям, в которых показался начальник папской стражи Ганс Бодманн. Это очень удивило магистра и его друга. — Достойные кардиналы ждут магистра. Второго господина просили остаться здесь. Подозрения Яна усилились. — Кто этот монах, который только что вышел из зала? — спросил он рыцаря. — Кто? Фра Дидакус де Мохена, самый образованный теолог Испании, а может быть, и всего христианского мира. Его послал сюда, на собор, сам Фердинанд, король Арагонский. Ян из Хлума мысленно выругался. Каким невинным прикинулся старый дьявол-искуситель! Пан Ян подумал, что в этом лисьем логове, со всеми его ловушками и капканами, следует еще бдительнее охранять любимого магистра. А Гус уже вышел с начальником стражи из зала. Ему, пану из Хлума, приказали ждать магистра? Но здесь ему нечего делать. Он решительно направился к дверям, закрывшимся за Гусом. У порога стражники скрестили алебарды и преградили путь пану Яну. Еле сдерживая гнев, Ян из Хлума попробовал отбросить алебарды, но к нему подбежали другие стражники и ощетинили против него острые железные копья. Пан Ян понял, что теперь он сам беспомощен и беззащитен…
Косые лучи чахлого зимнего солнца еле проникали в зал. Было уже далеко за полдень, а Ян из Хлума продолжал сидеть на каменной скамье возле стражи, вооруженной алебардами. Черт побери, как горько сознавать, что ты слабее и беспомощнее ребенка! Ян уже не замечал ни течения времени, ни пустоты одиночества, ни остроты голода. Теперь он думал только о магистре, — магистр где-то рядом, за дверями, а он не может ему помочь. Они же… Они ни за что не отпустят его… Да, им удалось поймать магистра. Теперь он в их руках. Гус. Наш Гус. Агнец в логове волков, лис, антихристов! В этот момент открылись двери. Пан Ян из Хлума вскочил с места. Может быть… Но нет, по ту сторону порога, под защитой алебард остановился какой-то писарек. — Благородному пану незачем ждать Яна Гуса, — сказал он. — Магистр задержится. — Едва писарь пробормотал эти слова, как двери снова захлопнулись.
Выбежав из зала, пан Ян очутился на лестнице. Он немного постоял, раздумывая, а потом поспешил вниз, гулко стуча по каменным плитам тяжелыми кавалерийскими сапогами. Здесь пахнýло на него свежим воздухом. Пан Ян очутился в лоджии. Миновав ее, он попал в коридор с уймой дверей по обеим сторонам. Ян обнажил меч и стал бить им плашмя то влево, то вправо, по створкам дверей. Люди высовывали носы в коридор и тотчас прятались обратно. Ян из Хлума ворвался в одну из комнат, подошел к священнику, направил на него меч и заорал, требуя немедленно отвести его к папе. Священник побледнел от испуга и попятился назад. Пан Ян из Хлума держал острие меча у лопаток священника. Клирику не оставалось ничего другого, как повиноваться и отвести его к дверям маленькой комнаты. Впустив пана Яна в эту комнату, клирик сразу же исчез. Ян из Хлума заметил в глубине еще одни, полуоткрытые двери. Войдя в них, он опешил и опустил меч. Напротив, в кресле, придвинутом к ложу с пышным балдахином, сидел его святейшество папа Иоанн XXIII, а возле него стоял какой-то юноша в темном платье. Яну казалось, что он во сне видит архипастыря. Ян из Хлума опустился на колени и склонил голову, — поза, предписанная этикетом, дала ему возможность отдышаться и снова обрести дар речи. Услышав привычное «Рах tecum, ini fili!»[474] — пан Ян из Хлума поднялся и объяснил, что заставило его так бесцеремонно войти в покои папы. Святой отец внимательно слушал пана. Ян напомнил папе, что тот клялся обеспечить магистру личную неприкосновенность и что Сигизмунд взял магистра под личную защиту. Выражая протест против незаконного ареста, Ян из Хлума просил папу помочь Гусу… Ян замолк. Казалось, папа не только не разгневался, но даже преисполнился печалью и сочувствием. — Эх, сын мой, сын мой!.. — начал папа. — За что ты винишь меня? Разве я взял под стражу твоего магистра? Он прибыл сюда, по приглашению кардиналов. Они и арестовали его. Ты, наверное, думаешь, что я, папа, всесилен, как глава христианства… Нет, я ни больше ни меньше как игрушка в руках этих кардиналов и мало чем отличаюсь от твоего магистра. Милый сын, ступай себе с миром. Я сделаю всё, что будет в моих силах. Только учти; у меня их слишком мало. Лучше уповай на императора Сигизмунда. Когда он прибудет сюда, я обращусь к нему с просьбой. Бог даст, мы вернем твоего любимого магистра в твои руки, под твою охрану. Шатаясь, как пьяный, Ян направился к дверям. Сигизмунд… Сигизмунд — единственная надежда. Спасение магистра зависит теперь только от него…
Когда Ян из Хлума покинул спальню папы, Иоанн XXIII плутовато подмигнул юноше, стоявшему неподалеку от него, и сказал: — Удивительный сумасброд, не правда ли? Такой, пожалуй, способен на всё… Хорошо, что я вовремя сообразил отослать его к Сигизмунду!.. Юноша улыбнулся: — Вы дали совет, достойный вашего святейшества. Сегодня я зарегистрировал письмо императора. В нем Сигизмунд сообщает, что он не станет возражать против ареста этого еретика. Иоанн XXIII слегка улыбнулся: — О, сын мой, люди очень странны. Каждый думает, будто его судьба зависит от того, что он сказал, сделал и на что решился. Безумцы, безумцы! Об этом письме, милый Поджо, я знаю. Не приди оно вовремя, мы не арестовали бы сегодня Гуса. Я открою тебе тайну: мы не должны мешать поэтам постигать сущность вещей и заглядывать туда, куда не сразу проникает наш взор, — в политику, историю, судьбу. Наблюдай и поймешь! Сигизмунд мечтает надеть на свою голову корону императора, чтобы иметь больший вес среди государей на Констанцском соборе. Вацлав IV имеет больше прав на корону императора и не желает уступать ее своему брату. Он позволил Сигизмунду короноваться императором при условии, если тот отстоит Гуса перед кардиналами и восстановит доброе имя Чешского королевства. Я же, наоборот, хочу превратить этот собор в процесс над Гусом. Мне нужно отвлечь внимание собора от моей особы. Ну… а что будет? Сейчас посмотрим по календарю. Четвертого ноября я писал Сигизмунду о том, что мне надо арестовать Гуса. Восьмою ноября Сигизмунд короновался в Аахене. Через неделю после коронации до него дошло письмо с моим прошением. Сигизмунд добился своего. Он развязал себе руки и собирается заключить новую сделку. Оказав мне услугу, он хочет теперь купить меня. Сегодня, двадцать восьмого ноября, я получил его согласие на арест Гуса, и еретик уже арестован. Как слабо чувствует подёнка приближение урагана, предопределяющего ее полет, жизнь и… смерть! Милый Поджо Браччолини, poeto laureate,[475] неужели ты не поблагодаришь меня за то, что я открываю тебе тайны человеческого бытия? Они ведомы только богам. Вы, поэты, — их родные братья. Вы, подобно богам, создаете божественное из… ничего, — папа сухо засмеялся. — И люди платят вам за это. Как я… тебе! Эта шутка не произвела на поэта никакого впечатления. — Святой отец! Если бы я действительно приближался к божеству, как вы изволили выразиться, то осмелился бы заявить, что… — …что ты, разумеется, не заявишь, — спокойно заметил папа. — Ты ведь не бог, а человек. Человек очень легко может проститься со своей головой. Между прочим, я вряд ли дал бы согласие обезглавить поэта, особенно если он может быть замечательным секретарем. Я знаю, ты сердишься на меня, милый Поджо, — продолжал папа, слегка похлопав секретаря по плечу. — Тебе жаль мраморную статую. Да? К сожалению, ничего нельзя было поделать. Из-за этой Венеры завязалась почти такая же сложная борьба, как вокруг Гуса. Но я вознагражу тебя за нее, щедро вознагражу. А сейчас оставь меня и запиши всё как следует. Благослови тебя господь! Когда двери захлопнулись, в спальне слегка раздвинулись портьеры балдахина и между ними показалась полуобнаженная донна Олимпия. Папа улыбнулся и живо поднялся с кресла. — Надеюсь, — сказал он, — вы слышали сейчас о таких деяниях, которые волнуют весь мир. Как ни жалки эти деяния, они мешают нам заняться другими, более важными и приятными делами. Им-то, мадонна, мы сейчас и предадимся… (обратно)
Imperator augustus[476]
До Констанца оставалось всего три часа пути. Император решил остановиться в Юберлингене, городке,расположенном вдоль узкого хоботка Боденского озера. Сигизмунду захотелось пообедать. В Юберлингене поднялся переполох. Городской совет сбился с ног, не зная, где разместить и как накормить свыше тысячи придворных. Еще хуже было то, что император не сможет добраться до Констанца засветло. Гофмаршал пришел в отчаяние, — он-то отлично знал, чтó представлял собой обед Сигизмунда. Император и императрица со своими ближайшими придворными заняли единственное хорошее помещение города — зал заседаний совета ратуши. В зале, облицованном деревом, выделялись резные карнизы и ярко окрашенные потолочные балки. Жёны богатых бюргеров вытащили из своих сундуков самые красивые платья, покрывала, серебряную и оловянную посуду, а жёны городских советников спешно наняли поваров и разыскали для императорского стола яства и вина. Не спешил один Сигизмунд, — он не торопился даже… с обедом. Несмотря на большие неудобства, ему приготовили обычный обед из пятнадцати блюд. Гофмаршал с ужасом смотрел, как быстро закатывалось солнце, и распорядился зажечь факелы. А какая суматоха поднимется в Констанце! Ведь там придется готовиться к ночной рождественской мессе, на которой папа будет служить в присутствии императора. Сигизмунду надо успеть переодеться и поужинать. Одно утешение: в эту ночь никто не будет спать, и гофмаршал сумеет проверить до утра, где и как устроилась на ночлег свита. Разместить же ее — нелегкое дело: каждый десятый претендует чуть ли не на отдельный дворец. Констанцские лодки, высланные для императора, давно причалили к юберлингенскому берегу. Уже готовы были к отплытию лодки с двадцатью четырьмя веслами, маленькие лодки, крытые челны и паромы для повозок. Лучи заходящего солнца играли на бронзовых фигурках святого Христофора, Георгия Победоносца и морских дев, украшавших носовую часть лодок. Гребцы забрались на сеновалы, — трактиры были забиты императорскими латниками и слугами. Наконец Сигизмунд вызвал к себе гофмаршала и сообщил, что задержится здесь и после ужина. Время отправления — за час до полуночи. А как же полуночная месса? Успеем… Успеем. Пусть папа подождет его. Весь Констанц, все гости должны ждать императора! Чем больше будут ждать его, тем большее впечатление он произведет. О въезде в Констанц отцам города сообщит гофмаршал. Процессия — строго в соответствии с установленным порядком — с необходимыми интервалами, герольдами и факельщиками по обеим сторонам. Багровое солнце постепенно опускалось за холмы. Снег на глазах менял свои оттенки, переходя из розового в холодно-зеленый, из холодно-зеленого — в серовато-синий. Тонкий лед, разрезанный лодками, снова срастался, образуя сплошную корку. Перед отправлением в путь гофмаршал решил отдохнув. Выгнав секретаря и писаря из комнаты, он растянулся на жесткой скамье и уснул. Выехали точно в назначенный срок. Вёсла с шумом врезались в холодную воду. Маленькие волны, дробя отблески факелов, плескались у бортов лодок. Озеро дышало стужей. От нее не спасали ни палатки, ни меха. На самых больших лодках гребцы развели огонь в железных жаровнях. Берега исчезли в темноте, а огни Констанца еще не показывались. Хуже всех переносила холод жена Сигизмунда. Она тосковала по теплу родного Цельского края. Барбора, постоянно ездившая с Сигизмундом по холодным северным Альпам, мечтала побывать в родных краях Каринтии. Она не любила своего супруга. Бесконечные путешествия с ним не доставляли ей никакой радости, — они мешали императрице пользоваться своим высоким положением. Ей было бы куда приятнее окружить себя сейчас придворными. Она-то уж постаралась бы подобрать себе кого надо! А на примете — венгерские кавалеры и молодые горцы. Они здоровы, как бычки! У одних в крови — зной солнечных степей, у других — сок виноградных лоз Каринтии. В их глазах светится дьявольский огонь!.. Барборе вдруг показалось, что так могут думать только стареющие женщины. Фи! Ерунда! Ей всего двадцать три года! Но адский холод, поднимающийся от воды, пронизывает императрицу до самых костей. Кроме жалких угольков, тлеющих в жаровне, горят, зло сверкая, глаза Барборы. Впереди, в своей лодке, плывет Сигизмунд. Он везет Барбору, как неодушевленный предмет, покрыв мехами и одеялами. Разумеется, ее супруга забавляет этот балаган. Но сколько труда она тратит на то, чтобы хоть немного развлечься в бесконечной суматохе! Любоваться своим государем-супругом ей не доставляет никакого удовольствия. Барборе уже давно опостылело его лицедейство. Сигизмунд, как тетерев на току, исполняет один и тот же танец обольстителя и обманщика, — думает ли он о какой-нибудь девке или о короне императора. Наконец вдали показались огни Констанца. Кормчий, подававший сигналы, ускорил темп. Гребцы налегли на вёсла. С берега доносился отдаленный гул толпы. Лодки одна за другой начали причаливать у моста святого Конрада. На ступенях пристани хозяева города расстелили ковры, а по их краям поставили часовых. Римского короля ожидали посланцы папы, собора и города. Как только Сигизмунд ступил на землю Констанца, зазвучали фанфары и загудели колокола. К Сигизмунду подходило то одно, то другое посольство. Послы сильно замерзли, — их посиневшие губы с трудом произносили латинские слова. Позади послов, тесно сгрудившись, стояли зеваки. Когда прозвучало последнее приветствие, гофмаршал и церемониймейстер построили процессию. Скоро сна тронулась. Впереди — герольды и конные трубачи, затем — венгерские всадники в леопардовых шкурах. Вслед за ними двигались Сигизмунд на белом жеребце, Барбора в носилках между двумя лошаками, покрытыми алыми, шитыми золотом, попонами, а за ней — тоже в носилках — Елизавета, королева Боснии, и Анна, герцогиня вюртембергская. За носилками тянулись титулованные всадники, саксонский курфюрст Людвиг со своим герольдом и бесконечное множество графов, баронов, рыцарей, телохранителей, придворных дам, пажей, имперских чиновников, писарей и слуг. Факельщики освещали дорогу, держа факелы высоко над головой. Городские флаги были опущены к земле. Трубачи поднесли к губам фанфары, а барабанщики ударили палочками по барабанам. Процессия вступила в город, пересекла площадь и повернула за угол. Длинная, с двумя тесными рядами факелов по обеим сторонам, она походила на огромную светящуюся гусеницу. Факелы мигали, сыпали искры и чадили красным пламенем, — всюду блестели позолота, королевские облачения, меховые плащи и оружие, вынутое из ножен. Сигизмунд ехал на своем любимом жеребце. Свет факелов придавал его рыжим усам бронзовый оттенок. Император наклонял голову то влево, то вправо, улыбался и приветствовал толпу движением руки, затянутой в белую перчатку. Поверх перчатки виднелся перстень с большим камнем. Собственно, это было всего-навсего цветное стекло. Драгоценные камни его императорскому величеству пришлось заложить. Разумеется, никто из зевак не знал этого и не мог знать. Не думал об этом и сам Сигизмунд. Казалось, что его глаза вглядывались в каждого человека, хотя он только скользил ими по лицам некоторых людей. Император воображал себя центральной фигурой, вокруг которой будет вращаться весь собор, и рассчитывал, что с божьей помощью повернет дело так, как ему хочется. Барбора скрылась в глубине носилок и, погрузившись в подушки, опустила занавески. Ей ужасно надоело выглядывать из своего гнезда. К сожалению, ей придется сидеть в нем, как узнице, целые недели. Лошак впереди, лошак позади, а прямо перед ее носом — Сигизмунд. Проклятая судьба, ужасная тоска. Умрешь от скуки…Сигизмунд остановился в ратуше. Раздевшись у горящего очага, он приказал слугам покинуть его и позвать Освальда фон Волькенштайна. — Ну, выкладывай свои новости… — сказал Сигизмунд, приветствуя вошедшего к нему поэта и шпиона. Церемонно поклонившись императору и не дождавшись позволения, Освальд фон Волькенштайн плюхнулся в одно из кресел. Усевшись поудобнее, он с изумлением посмотрел на обнаженное мускулистое тело римского короля, полное сил и жизни. «Пока ты крепок, — думал рыцарь, — но скоро начнешь толстеть. Тогда вся твоя мужская красота полетит к чертям. Впрочем, твоей милости давно бы пора туда. Стоило тебе на минуту раздеться, как ты потерял свое величие, — и уже никто не догадается, что ты, голый человек, — римский король. Тебя легко принять и за батрака-мукомола…» Сигизмунд растопырил пальцы над огнем, который освещал его руки, покрытые рыжеватым пушком, и спросил: — Ну как? — Новостей немало, ваше величество, — ответил ему рыцарь. — Взять хотя бы вашего приятеля — святого отца. Ему, бедняге, не везет. Он пригнал сюда целое стадо прелатов, чтобы обеспечить себе большинство при голосовании, а мерзавцы кардиналы перехитрили его. Они заявили: в голосовании примут участие не все собравшиеся, а только представители народов. Каждый народ имеет право на один голос. Стало быть, Иоанну XXIII нечего надеяться на большинство голосов. Он заранее бесится! Французы прислали сюда самых рьяных прелатов — упрямого осла дʼАйи и благочестивую вяленую треску Жерсона. «Хоть бы этот остался дома», — думал о нем папа. Но Жерсон всё-таки прибыл сюда. Вашей милости знаком припев песни дʼАйи и Жерсона: «Собор выше папы!» Они, подобно старому Катону, то и дело твердят: «Карфаген должен быть разрушен». Так хотят они свергнуть папу. У Жерсона есть какое-то сочинение. Он пишет, что недостойного папу можно даже посадить в тюрьму и казнить… Говорят, он прилагает к своему сочинению целый список грехов и преступлений Иоанна XXIII. Таково главное обвинение. Если оно справедливо, то для составления подобного документа не хватит шкуры самого большого барана. Что касается нашего милого Констанца, то он из захолустной Абдеры, [477] слава богу, превращается в столицу мира. Он так растолстел, что легко мог бы родить тройню. Но я не стану утомлять вас, ваше величество, пустяками. Я составил список важнейших главарей, съехавшихся сюда. Против каждого я пометил, где он расположился. Вы, ваше величество, будете жить в Петерсхаузенском монастыре, пока вам не подготовят дворец в городе. — А как наш землячок? — прервал Сигизмунд рассказчика. — Ваш землячок?.. А… этот — Гус! Он уже за решеткой. Папа боялся держать его у себя. Сначала Гуса заперли у… одного кантора, а потом перевели в особое помещение доминиканского монастыря, расположенного у озера. Монахам пришлось обить двери железом и забрать окно решеткой. В самом помещении построили клетку. Она похожа на курятник, сбитый из толстых бревен. В эту клетку Гуса запирают на ночь. Короче, теперь его охраняют как зеницу ока. Чех, который приехал сюда с попом, поднял страшный скандал: перед самым приездом вашего величества он опубликовал воззвание и расклеил его по всему городу. Это очень беспокойный человек. Завтра он собирается попасть на прием к вашему величеству. Ответственность за арест Гуса папа сваливает на кардиналов, а кардиналы — на папу. Все они боятся вашего величества. Папа ссылается прямо на ваше величество, — он, мол, получил согласие на арест Гуса от римского короля. Сигизмунд улыбнулся: — Я что-то писал ему… Разве это… прямое согласие? Пожалуй, его можно истолковать и так. Но я писал очень осторожно. Мне нужно, на всякий случай, обеспечить обратный ход. Я должен быть осмотрительным, особенно с Чехией. Мне незачем отказываться от своего дорогого наследства. Рыцарь Освальд фон Волькенштайн ворчливо закончил: — Это, пожалуй, и всё… Сигизмунд начал одеваться и попросил поэта позвать слуг. — Почему ты печален, рыцарь лиры и кошелька? — спросил он, улыбаясь. — Рыцарь лиры — еще куда ни шло, а кошелек уже давно пуст. Здесь всё очень дорого, ваше величество. — У тебя, бедняга, одна песенка. Я подумаю, как обеспечить твое положение. Эти зернышки тебе нужны для твоей голубки, да? Волькенштайн нахмурился и отрицательно покачал головой: — Нет, себе. Здесь купцы дерут за вино втридорога. Император захохотал: — Так вот оно что! Девка натянула тебе нос, и ты заливаешь свое горе. Кто она? Скажи, я куплю ее тебе. — Опоздали. Ее уже купили. — Ерунда. Заплачу побольше — для тебя мне ничего не жаль. Кому же она досталась? Рыцарь Освальд фон Волькенштайн огорченно вздохнул: — Святому отцу!
Император покинул ратушу. На улице его ожидали дары города Констанца — два великолепных балдахина из плотной, шитой золотом, ткани. Носильщики, одетые в платья цветов города, быстро подняли балдахины над носилками Сигизмунда и Барборы. Когда процессия подошла к храму, было уже около трех часов ночи. Пышная рождественская полуночная месса началась в три часа. Мелкие дворяне и чиновники не могли попасть в храм. Под его сводами оказалось много людей — на скамьях, между ними, в боковых нефах и даже у входа. В храме было душно — пахло пóтом, мехами, ладаном и свечами, горевшими в подсвечниках колонн, стен и в огромных круглых люстрах. Перед самым пресвитерием[478] находились иноземные послы со свитами, а позади них — дворяне, духовные сановники и представители университетов. Троны императора и императрицы стояли по обеим сторонам алтаря, а неподалеку от королевской четы сидели архиепископ и высокие представители собора. Трон императора пустовал. Сигизмунд вместе с папой служил мессу, выполняя обязанности дьякона. В бело-золотой ризе и с короной императора на голове, он ходил перед алтарем, то и дело подавая Евангелие и накладывая паллиум[479] на плечи папы. Сигизмунд то опускался на колени, то поднимался, стараясь обратить внимание людей на свою статную и ловкую фигуру. Прислуживая папе, он заметил, что все смотрят только на него. Сегодня император, а не одряхлевший и неуклюжий архипастырь в тиаре — главный лицедей этого обряда. Во время церемонии, когда они оказались рядом, могучая и стройная фигура великана заслонила невзрачного старца. Сигизмунд явно старался привлечь к себе внимание, — он не только принимал красивые позы, но и пел низким голосом, исходившим из широкой, крепкой груди. Он вторил слабому, охрипшему голосу Иоанна XXIII, который напоминал звон надтреснутого горшка. Папа великолепно понимал смысл проделок Сигизмунда, но служил мессу с привычным спокойствием. Когда Сигизмунд опустился на колени, папа окинул его взглядом, слегка прищурив набрякшие морщинистые веки, и подумал: всё-таки очень приятно поставить императора на колени. Но Сигизмунд стоял на коленях недолго. Произнеся слова Евангелия, он громко запел: «Пришел приказ от царя…» Звонкие слова били, как набат. Услыхав их, Иоанн XXIII помрачнел и съежился. Теперь ему нужно было вложить меч в руку Сигизмунда и благословить его. Император держал обнаженное оружие прямо перед собой. В ярком потоке света меч засверкал, как продолговатое пламя. После полуночной мессы хор пел «Слава…», «Свет воссияет» и «У нас родился сын». В течение девяти часов люди томились, дремали, стояли, переминаясь с ноги на ногу. Когда богослужение закончилось, измученный папа осенил всех благословением святого апостола Петра и побрел в сакристию.[480] Сигизмунд, довольный своим лицедейством, легко прошагал под сводами собора. Казалось, эта ночь никогда не кончится. После мессы придворная свита Сигизмунда направилась за городские стены: Иоанн XXIII, несмотря на смертельную усталость, пригласил императора навестить его сразу после мессы. Сигизмунд отлично понимал, что папа придает этой встрече большое значение. Как ни странно, император не пожелал использовать это в своих интересах, не стал набивать себе цену и не замедлил прибыть в епископский дворец. Папа принял его не в аудиенц-зале, а в небольшой комнате. Эта комната примыкала прямо к спальне папы. Здесь он принимал женщин и гостей, с которыми вел самые интимные беседы. В то время как Иоанн XXIII сидел в кресле на пуховых подушках и отдыхал, Сигизмунд легко прохаживался по комнате, не чувствуя никакой усталости. Во время беседы, начавшейся со взаимных изъявлений вежливости, глаза папы не переставали следить за римским королем, который двигался как маятник, то туда, то сюда. Папа еле удержался от смеха, когда заметил, что Сигизмунд, показывая свою силу, в то же время потихоньку трогал гобелены и занавески, висевшие на стене и закрывавшие окна. Убедившись, что ему нечего бояться, римский король подошел к папе и уселся в кресло. Главы христианского мира были разделены только маленьким столиком, на котором лежали с нарочитой небрежностью брошенные документы, а под ними вырисовывались контуры какого-то предмета. Сигизмунд считал, что пора для делового разговора уже наступила, и ждал, когда папа начнет его. Пусть святой отец скажет, чего он хочет… Да, у Иоанна XXIII есть одно желание; оно не дает ему покоя. Может ли Сигизмунд заверить папу, что всегда, при любых обстоятельствах, будет считать Иоанна XXIII единственным законным наместником святого апостола Петра? Иными словами: собирается ли он поддерживать папу? Признаёт ли Сигизмунд его право на полную свободу выбора — оставаться в Констанце или покинуть собор, когда он, Иоанн XXIII, сочтет это необходимым? Сигизмунд недолго ломал голову над ответом. Недаром многие люди принимали его поспешные ответы за легкомыслие. Сигизмунд говорил без умолку. Он развесил перед папой целые гирлянды уверений, клятв и доказательств своей глубокой преданности Иоанну XXIII как законно избранному и единственному преемнику бессмертного Александра V и отверг Бенедикта и Григория как самозванцев, низложенных пизанским собором. Сигизмунд заявил, что права папы Иоанна XXIII никто не оспаривает и, следовательно, он, римский король, обязан охранять его всеми своими силами. Его силы — пусть это знает Иоанн XXIII — очень велики. Он гораздо сильнее, чем думает папа. Но разве могли утешить папу такие заверения, которые подкреплялись грозным мечом, готовым обрушиться и на него?.. Папа старался сохранять спокойствие, когда Сигизмунд начал запугивать его. Ну, а дальше? Что еще скажет ему Сигизмунд?.. Но Сигизмунд молчал, — он уже всё высказал. Папе ничего не оставалось делать, — он вернулся к тому, с чего начал. Как пойдут дела на соборе? Не придется ли уехать из Констанца? — Вы, ваше святейшество, не исключаете возможности по своему усмотрению покинуть собор, даже если он будет в полном разгаре? — спокойно спросил император, наклонившись над столом и внимательно глядя на собеседника. Папа невольно опустил глаза: — Да, такая возможность не исключена… — Но это означало бы конец собора, роспуск… — Да. Иной раз полезнее и благочестивее распустить собор, чем позволить ему принять пагубное решение… — …решение сместить святого отца с папского престола?.. Да? — спокойно, как о самом обычном деле, спросил Сигизмунд, удобно усевшись в кресле. — Видимо, при определенных обстоятельствах роспуск собора желателен более богу, чем мне. Я, конечно, не питаю никакой любви к сборищу христиан. Их было уже немало! Папа задумался. Не возразить ли ему на столь непочтительные слова теологическими доводами? Но он отказался от этого намерения. Никакие теологические объяснения не помогут. Он собрался с силами и воспользовался более вескими и разумными доводами: — Речь идет не обо мне. Мое отношение к собору известно. Я никогда не признаю его власть над папой. Уже то, что собор созван при жизни законного папы, — отвратительно и неестественно… — Его созвали мы оба, — улыбнулся Сигизмунд. — Созыва собора во время схизмы должен требовать каждый христианин. — Это — требование Жерсона! — сердито сказал папа. — Так говорят французы. — И, сделав короткую паузу, добавил: — Церковь всегда в опасности, когда собор переоценивает свои возможности и становится высокомерным. Он может обрушиться не только на меня! Дело даже не во мне. Я уже изрядное время покорно носил тиару. Речь идет о принципе — об основах церковного авторитета. Этот яд — яд протеста — может отравить всё. Он может оказаться опасным и для высшего светского авторитета… Папа весь переменился, — лицо побагровело, жилы на висках набухли, глаза тревожно моргали. Сигизмунду стало жаль старца: напрасно он запугивал папу. Но римский король быстро подавил в себе жалость. — Ваше святейшество, — спокойно, но холодно сказал Сигизмунд, — я тут ни при чем. Собор занимается и будет заниматься церковными делами. Что касается меня… я озабочен своими, светскими делами. В учении о главенстве собора над папой содержится одна недурная мысль. Если вы, ваше святейшество, окажетесь непроницательным и покинете собор в самом разгаре, высокие прелаты могут воспользоваться этим и спокойно продолжать свои заседания. Короче, собор решит все вопросы уже не только без папы, но и против него. Собор будет действовать тем решительнее, чем сильнее поддержит его светский глава христианства — в данном случае… моя недостойная особа. Вот почему подобный случай — пусть даже он вызван простым стечением обстоятельств — чреват опасностью. Я не люблю никаких осложнений: для наблюдения за ними у меня нет ни времени, ни желания. Меня вполне устроят спокойные заседания собора и их полезные результаты. Я не допущу ничего такого, что могло бы поставить собор под угрозу или как-нибудь помешать ему. Казалось, папа на глазах Сигизмунда превратился в дряхлого старца. Он отлично сознавал, что Сигизмунд не покинет кресло и будет слушать его. И он решил использовать всё до конца. Как знать, представится ли еще когда-нибудь такой счастливый случай. Ради чего унижаться, если знаешь, что его ничем не обольстишь? Какой смысл выпытывать, хитрить и притворяться? Так по крайней мере проще. — Что же, откровенность за откровенность! Милый сын, у вас есть свои трудности. Взять хотя бы вашу историю с чешским еретиком. Вы ему дали охранную грамоту, а собор арестовал его! — Собор?.. — снова улыбнулся Сигизмунд. — Не важно, кто и как арестовал его… Я знаю, что мы договорились с вами об этом… — Я не вполне уверен, правильно ли вы поняли мое письмо, — прервал Сигизмунд папу. Иоанн XXIII вздохнул. Что кроется тут? Немного подумав, папа махнул рукой. Чего молчать?! — По-видимому, вы, милый сын, стараетесь сохранить собственный престиж и придать своему обещанию особое значение. Я имею в виду охранную грамоту, которую вы дали Гусу. Но до меня дошли вести, что ваша грамота никого не обрадовала в Чехии, а Чехия — ваше будущее наследство. Мне хотелось бы сказать по этому вопросу… — Если порядок должен быть в империи и в церкви, — прервал Сигизмунд папу, — то он обязателен и для Чехии. Ни один безумец не смеет нарушить его — ни Гус, ни какой-либо другой фанатик. Я наведу там порядок. Чтó будет с Гусом — меня мало интересует. Он не стóит того, чтобы мы теряли на него наше драгоценное время. Не собираетесь ли вы использовать его дело? Не желаете ли вы, ваше святейшество, сказать что-нибудь еще, положа руку на сердце? У папы задрожали руки. Он разгреб кучу документов, лежавших на столе, и достал спрятанную под ними маленькую плоскую серебряную шкатулку. Папа раскрыл ее и подвинул к Сигизмунду дрожащими пальцами. В шкатулке лежал вексель на двести тысяч дукатов, — Сигизмунд может получить их из папской казны. — Я хочу помочь тому, кто должен охранять меня, — сказал папа. Король нагнулся к векселю и опустил глаза. — Я вижу, вы, ваше святейшество, устали, — сказал он. — Совесть не позволяет мне больше задерживаться и лишать вас благодатного отдыха. Наша встреча оказалась весьма полезной. Она помогла нам лучше понять друг друга. Что может более укрепить нашу дружбу? В заключение я хотел бы сказать главное. Для меня собор только счастливый случай. Рок милостиво подготовил мне арену, к которой устремлены ныне взоры людей всего мира. Он определил и мою роль на ней. От этой роли я уже ни за что не откажусь. Рухни церковь, и падет моя власть в империи. Тот, кто восстановит прежнее единство христианской церкви, будет увенчан немеркнущим ореолом спасителя мира. И тогда не найдется ни человека, который воспротивится благословенному богом защитнику, ни сокровищницы, которая не откроется перед ним. Не меньше, чем успех, слава и ореол спасителя мира, мне нужны деньги. Короче, мне нужен весь мир — мир, объединенный в одну могучую империю. Мне нужна империя! Объединенная Европа! Я объявлю войну туркам. Я объединю христиан, обе церкви — в одну, устраню раскол и смуты в ней. В этом я вижу свою миссию, и за это я жду достойного вознаграждения. Уповая на эту награду, я защищаю собор… от чьих бы то ни было притязаний! Легким движением руки Сигизмунд вернул вексель папе и опустился на колени. Иоанн XXIII благословил Сигизмунда, и тот вышел. Папа никак не мог опомниться. Он и удивился, и испугался. Сигизмунд… Сигизмунд не взял денег! И папа в страхе перекрестился… (обратно)
Узник
Гус долго не мог освободиться от мучительного бреда. Перед глазами магистра кружились высокие белые стены со стрельчатыми окнами. «Да, это стены моей часовни, моего Вифлеема. Но почему они белы? Где те надписи, которые были сделаны на них по моей просьбе? Ведь возле кафедры было написано: „Прежде всего выполняй заповеди божьи, а потом — приказания человека“, а напротив кафедры: „Ищи правду, люби правду, стой за правду до самой смерти“. А сейчас… На белые стены падают черные тени. Они от сутан… и больших кистей. Люди в сутанах белят стены известкой. Они мажут, закрашивают мои надписи… Потом сутаны исчезают… Появляются маляры. Они на земле, на лесенках… Пишут, пишут и пишут. На стенах снова виднеются мои надписи, мои слова, — их все больше и больше. Надписями покрыты все стены. Вифлеем полон слушателей. Они кричат и смеются… Что это они кричат? Ах, какой шум в голове! Пусть придут епископы и священники. Эти слова они никогда не уничтожат. А сколько здесь людей! Все кричат и, простирая руки, приветствуют меня!» Тысячи рук, лес рук. В их руках мечи — лес мечей! Часовня уже не вмещает людей. Они стоят на площади. Магистр смотрит вдаль, видит их, но не может охватить взглядом. Они поднимаются точно из земли… Гус проснулся. Сон как рукой сняло. С губ магистра еще не сбежала улыбка, — она пробилась сквозь сон. Вокруг — тьма. Через окошечко в дверях проникает тонкий и тусклый луч света. При малейшем движении ног то и дело звенят железные кандалы, надетые на стертые щиколотки. Сознание вернуло узника в мир, ограниченный клеткой тюремного застенка. С утра лихорадка сушила глаза и губы. Адские боли в животе еще более обострились. Они щемили сердце и захватывали дыхание. Судороги сводили ноги. Желая преодолеть мучения, магистр крепился изо всех сил. «Муки, муки, вы хотите сломить меня, а я сильнее вас, не поддамся… Я здоров, непреклонен, цел — вы не одолеете меня. Да, я жив, я еще не скоро умру…» В темницу вошел тюремщик Роберт с миской в руках и поздоровался с магистром. Роберт не заметил никакой перемены в голосе узника; попросил его выйти из клетки в камеру. Только теперь тюремщик увидел, что магистр с трудом стоит на ногах. Уже при первом шаге Гус пошатнулся. Роберт в самый последний миг поставил миску с едой на пол и ловко подхватил ослабевшего магистра. Держа его под руку, тюремщик заметил, как сильно дрожит узник. Когда Гус вышел из клетки в камеру, свет упал на его лицо, — желтая кожа с красными пятнами на обрюзгших скулах и около глаз сильно испугала Роберта. Гус опустился на грубую скамью и спросил: — Ну, Роберт, когда у тебя свадьба? Тюремщик широко улыбнулся, — его лицо стало круглым, как луна. Но он быстро опомнился. Ему стало стыдно за себя: не смог скрыть своей радости перед узником. — Недели через две, магистр… — ответил он. — Я обещал тебе, дружок, написать маленький трактат о браке, — сказал хриплым голосом Гус. — Я обязательно напишу его. Только… как только смогу… А эту еду — будь любезен — унеси. На глазах тюремщика выступили слёзы: «Боже мой, вот это человек! Сам дышит на ладан, а думает о других!» Он хотел было спросить узника, не надо ли ему чего-нибудь, но не решился. Взял миску и пошел. На пороге он обернулся и еще раз посмотрел на узника. Гус сидел неподвижно, прислонившись спиной к холодной стене и закрыв глаза. «Магистр уже не жилец на этом свете. Господи, смилуйся над ним!» — перекрестился тюремщик. Гус очнулся не сразу. Хотя боли сильно отвлекали его внимание, он не переставал думать о том, что волновало его с первого дня ареста. Когда воюешь, постоянно смотри вперед. Напрасно оглядываться и рассуждать, что и зачем привело тебя сюда. Он всё учел и взвесил уже тогда, когда выступил против индульгенций. Остальное только следствие или следствие следствия. Это хлам прошлого. Всё, что сохранилось, находится здесь, вокруг него, внутри этих стен, за дверями с тяжелыми запорами, в кандалах. А впереди? Вот уже около месяца, как он арестован. Скоро Сигизмунд прибудет в Констанц. Может быть, он уже приехал. Пан Ян из Хлума и другие не преминут обратиться к нему. Здесь — его охранная грамота. Впрочем, какая она там охранная, — жалкий клочок пергамента. Сигизмунд должен обеспечить магистру возможность выступить на соборе. Друзья передали Гусу, что уже послали сообщение в Чехию. Оттуда тоже будут наседать на Сигизмунда. А король Вацлав? На него нечего надеяться. Может помочь королева София, слушательница проповедей Гуса в Вифлееме. Помогут магистру пражане, паны Чехии и Моравии. Только бы они напрасно не распыляли свои силы из-за его освобождения! Пусть друзья настаивают на одном-единственном, главном требовании: свободно выступать на заседаниях собора. То, что он хочет сказать там, значительнее его жизни! Наверное, они понимают это. Опасения за его жизнь не должны никого сбить с толку. Он писал об этом почти во всех письмах, — тюремщик Роберт передавал их тайком его друзьям, а те отправляли на родину. В этот момент послышались какие-то шаги. Гус открыл глаза и увидел перед собой нескольких мужчин. Все они были одеты в платье священников. Он сумел разглядеть только тех, кто стоял впереди. Через оконную решетку проникало очень мало света, его не хватало даже для этой камеры. Насколько можно было судить, и, нему вошли посторонние люди. Гус сдвинул брови, силясь понять, кто они и как попали сюда. По-видимому, они вошли в камеру тогда, когда адские боли во всем теле помутили его сознание. Может быть, эти люди пришли сообщить ответ на его прошение. Но почему их так много? Перед одним из них, у окна, стражник поставил небольшой столик. Священник разложил на нем бумагу и отточил гусиное перо. Гус следил за каждым движением… Если бы не шум в голове, он, наверное, сообразил бы, в чем дело. Почему они молчат? Медленно, с трудом, узник избавлялся от гнетущего горячечного бреда. Фигуры стали более отчетливыми. Лучше других он видел ближайшую — высокого, тощего старика. Кожа на лице этого человека, обтягивавшая скулы, походила на старый пергамент. Поверх платья священника старик накинул длинный, свободный плащ, — так духовные лица скрывают от мирян свой сан. Все остальные стояли на почтительном расстоянии от него и молчали. Вдруг пергаментное лицо зашевелилось, и под орлиным носом раскрылась щель рта: — Наши весьма снисходительные прелаты уже дважды присылали тебе формулу отречения. По ней ты должен был отказаться от своей ереси. Ты же оба раза не пожелал сделать это. Сегодня мы предлагаем тебе третий и последний раз. Отвечай: отрекаешься? На Гуса подействовали не столько слова старца, сколько его голос. Этот голос напомнил ему чем-то острую боль в боку. Гус плохо понимал старика, говорившего что-то повелительным голосом. О смысле его слов магистр догадывался по тому, как шевелились тонкие губы. Губы старика то сближались, то расходились, как лезвия двух ножей, над губами висел узкий орлиный нос, а от его верхней части бежали в обе стороны седые пучки бровей, образуя углы, как у филина. Под ними прятались блеклые ледяные глаза. Этот человек с тощим лицом казался магистру хищником, готовым растерзать свою жертву. Его глаза стремились проникнуть в самое сердце. От их взгляда нужно избавляться так же, как от болей, которые мучили магистра утром. Глаза Гуса спокойно встретили уставившиеся на него злые глаза, — взгляд священника ослабел где-то на полпути. Теперь он уже не проникнет и не овладеет его существом. Магистр спокойно ответил: — Я прибыл сюда не отрекаться. Если я заблуждаюсь, покажите мои ошибки и разубедите меня. Старик сухо сказал: — Тогда ты ответишь нам на все вопросы, которые мы сейчас зададим тебе. Допрос! Гус напряг все силы, стремясь преодолеть шум в ушах и полуобморочное состояние. Магистр хотел понять, что происходит вокруг него. Если он согласится на допрос, то признает законность их желания судить его и подчинится ему. А этого допускать нельзя. — Вы не имеете права судить меня! — ответил магистр. Хотя эти слова были произнесены слабым, еле слышным голосом, однако они подействовали на слушателей сильнее, чем любой крик. Прелаты задвигались и зашумели. Они сгрудились вокруг магистра. Широкие, одутловатые, тощие и хищные лица прелатов в монашеских капюшонах и шапочках смешались в один большой клубок — клубок злобно шипящих голов со слюнявыми, бледными, тонкими губами, ярко сверкающими и грозно открывающимися глазами. Прелаты ждали ответа Гуса. Магистр сказал: — Допрашивают обвиняемых на суде. Я же прибыл в Констанц по доброй воле и собираюсь изложить свои взгляды, свое учение собору. Собору и никому другому. Прелаты чуть было снова не заорали на магистра. Старец подал им знак, чтобы они молчали. Прелаты повиновались, но глаза их горели ненавистью. — После твоего ареста тебе вручили смертный приговор. Если ты откажешься отвечать, мы немедленно приведем его в исполнение. Тебе незачем ссылаться на охранную грамоту римского короля. Мы можем покончить с тобой раньше, чем об этом узнает Сигизмунд! В глазах старца появилась еле заметная усмешка. О, он прекрасно знает, чтó важнее всего для Гуса. Старец угрожает магистру не смертью, а гораздо бóльшим — замалчиванием. Гус больше уже не колебался и высказал то, что он думал: — Вы собираетесь судить меня, не предъявляя мне никакого обвинения. Вы не имеете права допрашивать человека, которого не вызывали в суд. — Довольно и того, что тебя дважды вызывали на суд — к пражскому епископу и к папе в Рим, — холодно ответил старец. — Тогда судьи не могли разобраться в твоем деле по твоей же вине: ты не являлся в суд. Поскольку ты прибыл на собор, мы можем довести твое дело до конца… — (Сзади кто-то хихикнул.) — Будешь отвечать на наши вопросы? Гус поднял голову: — Буду… Я должен дожить до суда. Спрашивайте! Старик облегченно вздохнул, отвел взгляд от узника и движением руки подал знак своим спутникам. Те быстро заняли места, а он опустился на скамью. Священник, присевший к столику, сообщил, что он готов записывать. Допрос начался. Придвинувшись к узнику, прелаты попеременно задавали ему вопросы, часто переспрашивая, желая подловить его, когда он уклонится от ответа. Один допрашивающий помогал своим вопросом другому, загоняя магистра в ловушку нового мучителя. Гус вслушивался, — он слышал слова, свои собственные, хорошо знакомые ему слова. Но порой звучали и такие, которых он никогда не произносил и которых не могло быть ни в сочинениях его, ни в проповедях, ни в лекциях. Эти слова удивляли его своей несуразностью и лживостью. О, в чем только не обвиняли магистра! Сколько раз приходилось ему, несмотря на запрет прелатов, опровергать заведомую клевету! — Ты называл папу антихристом!.. — Ложь. Я утверждал, что всякий грешный и высокомерный папа, который торгует церковными должностями и тем самым нарушает заветы Христа, — антихрист. — Как же ты посмел произнести это проклятое имя рядом с именем святого отца? — Даже святому Петру Христос сказал однажды: «Сатана, ты возмутил меня, когда…» — Ты не Христос, богохульник этакий!.. Чтоб у тебя язык отсох! — Ты порочил святого отца и учил людей не повиноваться ему! — Наоборот, я утверждал, что папе нужно повиноваться, если его… — Послушайте-ка еретика! У него появились оговорки! — …если его приказания не противоречат заветам Христа. — Стало быть, каждый сапожник может судить, правильно или неправильно приказание святого отца? — Каждый сапожник, если он заглянет в Священное писание, сам разберется во всем, ибо… — Даже самый мудрый богослов не оспаривал авторитет папы! — …ибо каждый подданный имеет святое право сам, своим умом, судить о поступках своего господина. — Умом? Вы слышали? Человеческим умом! — Следовательно, каждый нищий и каждый батрак могут решать, выполнять им приказ или нет? — Ради бедняков и явился Христос на землю. В Священном писании ясно говорится: «Вы узнаете господ по их деяниям». — Это бунт! Ты издеваешься над всеми эдиктами и декретами церкви и пап! А светская власть? Она тоже не должна подчиняться папе? — Должна, но только тем приказам, которые… — Довольно! Мы уже слышали это! Такое толкование послушания по душе бунтарям. Почему ты, мятежник, не выполнил распоряжения папы, запретившего тебе проповедовать это в часовне? — В Библии нет такого запрета. Напротив, Спаситель сказал апостолам: «Ступайте по всему свету…» — И ты пошел проповедовать за гумна, за сараи, на пашни южной Чехии. Пошел, несмотря на то, что тебя предали анафеме!.. — По словам пророка, несправедливая анафема — та же хвала: «Будут хулить тебя, а ты…» — Глядите-ка, он даже гордится своим проклятием! А твои проповеди? Ты подстрекал народ к мятежу! — Лучше мятеж во имя правды, чем отказ от нее. — Значит, все священники — дьяволы, один ты — святой. — Мне известны такие священники, которым я недостоин завязать ремни на их башмаках! — Кайся! Назови хотя бы одного такого! — Якоубек из Стршибра и… — Отлично! Вы слышали? Этот антихрист по твоему наущению ввел причащение из чаши! Ересь, архиересь!.. — Не по моему… — Молчи! Мы перехватили твое письмо этому еретику. В этом письме ты выражаешь свое согласие с ним! — Ты подстрекал народ к мятежу против немцев — верных сынов королевства. Ты ненавидишь их! — Честный немец мне милее недостойного брата. — Но ты выгнал немцев из университета… — Согласно уставной грамоте Карлова университета… — А Виклеф, твой искуситель, этот дьявол, подал тебе пример! Ты хочешь, чтобы твоя душа оказалась там же, где и его? Ты говорил это? — Я говорил, веря ему, как доброму христианину. — Твое желание исполнится с лихвой! Мы постараемся об этом! Ваши души встретятся в аду. — Весь свой бред ты недавно изложил в памфлете против верного сына церкви, своего земляка Штепана Палеча! — Я прошу представить это сочинение на обсуждение собора. Оно сослужит мне хорошую службу! Наступила тишина. Магистр сразу почувствовал, как горит его тело и как мучителен новый приступ лихорадки. Гус судорожно вцепился руками в скамью и попытался глубоко вздохнуть. Его глаза затуманились. Он не сразу заметил, как люди расступились, освободив дорогу какому-то новому человеку. Желая увидеть лицо пришельца, Гус подался вперед… и узнал его… Палеч! Друг Штепан? Друг Штепан? Палеч остановился и, не поднимая глаз, хрипло произнес: — Я не знаю более опасного еретика, после Виклефа, чем этот! Как странно прозвучали слова осуждения из уст человека, который когда-то сам горячо защищал английского доктора! Теперь о Палече говорят, что он — верный сын церкви. К Палечу подошел еще один человек — Михал де Каузис. Этот злобно уставился прямо в лицо Гусу: — Он упрямый, неисправимый еретик. Мы с Палечем поняли это только тогда, когда на основе его изречений составляли обвинение. Не верьте ему, даже если он отречется. Еще до отъезда в Констанц он написал письмо чехам, в котором говорит: «А если мне придется отречься от своего учения, то знайте: я сделаю это по принуждению, на словах, а в душе и сердце я никогда от него не отрекусь». Собору нечего медлить, — пусть он осудит Гуса на казнь. Иначе собор опозорит себя на веки вечные… Крики и проклятия прелатов потрясли воздух камеры. Глаза старика, сидевшего в кресле, медленно открылись, рука на подлокотнике еле заметно подвинулась, и шум тотчас прекратился. В этот момент раздался сухой холодный голос старика: — Ты возмущал народ против индульгенций, которые продавались во время войны Иоанна XXIII с Владиславом Неаполитанским, союзником антипапы Григория. Что ты скажешь об этом? Гус попытался ответить. Его губы и горло напрягались изо всех сил, но голоса не было. Магистр должен говорить именно сейчас, не обращая внимания на шум. Он чуть слышно прохрипел: — Иоанн XXIII готовил крестовый поход ради корыстных интересов. Он объявил своих противников еретиками, хотя никогда не уличал их в ереси и не осуждал за нее ни неаполитанского короля, ни его подданных. Чтобы приобрести деньги на убийство христиан, этот наместник Христа начал продавать индульгенции. Каждый, кто платил деньги, получал от продавцов отпущение грехов. Тому, кто давал больше, прощалось больше грехов. Богачи выкупали свои грехи на сотни лет адских мук, а бедняки — на пару дней. — Довольно, — оборвал его сухой голос старика. — Всё записал? — спросил он у писаря и снова повернулся к Гусу. — И еще один, последний вопрос: ты утверждал, что светские власти правомочны отбирать имущество у согрешивших священников? — Если священник ведет дурной образ жизни и совершает тяжкие грехи, светская власть может наказать его… — Довольно! Запиши! — священник подал знак писарю. — Приведите свидетелей! Через минуту сюда вошли священник и человек в светском платье. Гус почувствовал смертельную усталость, он уже не глядел на новых свидетелей. Шум в ушах усилился, и магистр улавливал теперь только отдельные слова и фразы. — Ты клянешься, что ничего не знаешь… А я дал бы показания даже против родного отца!.. — кричал Михал де Каузис какому-то свидетелю. Прислонившись спиной к стене, Гус сидел на скамье. Ему казалось, что она движется вместе с полом… Магистр широко раскрыл глаза. В камере снова воцарилась тишина, иГус мог уловить глухой голос старца. Старец о чем-то переспрашивал магистра. Но о чем? Чтобы ответить, магистр должен расслышать вопрос. Пусть они спрашивают о чем угодно! Он скажет одно-единственное слово. Это слово: нет! Собрав последние силы, Гус отрицательно закачал головой: нет, нет, нет!.. Кто-то склонился над Гусом и положил ему мокрую тряпку на лоб. Магистр очнулся. — Он не должен умереть, пока не отречется… — донеслось до него. Магистру показалось, что над его головой сияет лазурное небо, а перед глазами открылись свободные, бесконечные дали. Он увидел старых знакомых — прихожан Вифлеемской часовни, молодого земана с черной повязкой на глазу… «Здесь и ты — моя мать!.. А за тобой — сотни, тысячи, десятки тысяч людей. Люди обступили меня со всех сторон, заполнили все поля и луга, всю дорогу к Козьему Градеку. Они бодро и радостно смотрят на меня. Как только исчезли зловещие призраки священников, я снова увидел друзей. Я верю, что вы, люди были со мной, никогда не покидали меня, не отворачивали своих глаз и не затыкали, своих ушей, оставались верными мне, укрепляли мой дух…» Гус улыбнулся и потерял сознание. (обратно)Беседа
Холодная утренняя мгла, не покидавшая Констанц несколько недель, рассеялась, и над городом, в безоблачном голубом небе, снова засияло солнце. Когда Забарелла проснулся, ему показалось, что он вернулся домой, в Италию. Кардинал залез в ванну и стал читать «Метаморфозы» Овидия. Теплая вода и приятное чтение доставили ему истинное наслаждение. Забарелла не без грусти вздохнул, расставаясь с ним. Впрочем, трудно сказать, чтó предпочел бы Забарелла, если бы ему пришлось выбирать, — возвращение в Италию, в свою римскую виллу с любимыми книгами, друзьями и женщинами, или жизнь в бурном, смятенном городе, где у него нет ни спокойной минуты, ни уединенного уголка. Более того, с кем бы здесь Забарелла ни встречался и с кем бы ни разговаривал, каждый оказывался коварным, непримиримым врагом!.. Каждый, кто прибыл в Констанц, — папа, Сигизмунд, князья, кардиналы, — стремился урвать себе кусочек пожирнее… «Ныне Констанц похож на огромный зал для фехтования. При встрече со своим противником каждый хочет обезвредить его или убрать с дороги». Как бы то ни было, если говорить правду, Забарелле не хочется уезжать отсюда! Именно здесь он, внимательный наблюдатель, может проникнуть в души тех, кто прежде был совершенно недоступным для глубокого изучения. В неукротимой борьбе за собственное благополучие никто не может надолго сохранить свою маску. Противник стремится сорвать ее и увидеть твое истинное лицо! Это любопытное занятие — удел ученого и поэта. А Забарелла считал себя наполовину тем, наполовину другим. Но кое-чего ему не хватало и как ученому и как поэту, — он не любил делиться знаниями и впечатлениями с людьми, своими слушателями. Открывать что-либо для себя одного кардинал почитал истинным удовольствием. Еще более, чем открытие, Забареллу радовало само дерзание. Творческая деятельность мозга увлекала кардинала до тех пор, пока он в один прекрасный день не понял, что эта радость больше не заполняет его душу и что в нее уже вкралось ощущение невыносимой пустоты. Заметив приближение старости, он решил дать работе мозга и чувств новое направление — земное, ощутимое. Оно не должно иметь ничего общего с мимолетной идеей. Забарелла решил писать мемуары. Кардинал делал вид, что не придает большого значения своему сочинению, — ему только жаль растерять мысли и выводы, к коим мало кто приходил, а если и приходил, то не достигал подобной обширности и глубины. Писать «Воспоминания» — так скромно Забарелла назвал свое сочинение — кардинал начал в Риме, когда у него появилась для этого счастливая возможность. Он нашел себе — вернее, сам подготовил — дельного секретаря, который мог записывать его мысли. Лодовико было всего двенадцать лет, когда Забарелла увидел его в библиотеке. Мальчик весь сиял, наблюдая за тем, как отец его изображал на пергаменте пестрые фигурки святых, великомучеников и великомучениц, листья аканфа и яркие узоры из вьющихся стеблей повилики. В малюсеньких рисунках, разбросанных по тексту, перед глазами мальчика открывались оконца в красочный мир. Когда работа кистью заканчивалась, наступало чудо: вокруг головок святых отец наклеивал блестящие нимбы, вырезанные из тонких золотых пластинок. Естественный интерес Лодовико к фигуркам и краскам скоро перерос в необыкновенную любовь ко всему прекрасному. Забарелла заметил и увлечение Лодовико поэзией, — пока оно проявлялось в запоминании им многих народных песенок. Любовь к ним он мог унаследовать и от отца. Иллюминатор[481] Забареллы был весьма странным человеком: недооценивая свои способности к живописи, он совершенно серьезно воображал себя поэтом, il gran’ poeta,[482] Кардинал называл его: il grand’ impotente.[483] Он не раз пользовался услугами художника, — тот рыскал по библиотекам, выискивая редкие рукописи и переписывая их. Этот grand’ impotente оказался способным не только создать маленького Лодовико, но и передать ему задатки своих склонностей и интересов. Забарелла решил заняться воспитанием Лодовико. В свободные минуты кардинал экспериментировал, желая узнать, чтó будет, если он хоть немного приоткроет мальчику глаза на мир, которого тот никогда не увидит в своей бедной лачуге. Забарелла брал Лодовико в резиденцию папы, водил его по залам, полным статуй, картин и гобеленов, или оставлял его в садах своей римской виллы. Кардинал подарил ему лютню и нанял учителя. Мальчик оказался весьма усердным и смышленым. Иногда Забарелле хотелось отвлечься от своих дел и познакомить Лодовико с сокровищницей античной поэзии. Мальчик легко усваивал стихи римских поэтов. Кардинал сделал его своим чтецом. Слышать стихи мудрых певцов жизни из уст невинного ребенка было настоящим наслаждением. Забарелла не без удовольствия наблюдал, с каким благоговением Лодовико ловил каждое его слово. Следовательно, не было ничего удивительного в том, что после смерти несчастного grand’ impotente юный Лодовико перебрался к Забарелле и стал сначала писарем, а потом секретарем. Забарелла воспитал Лодовико по своему образу и подобию. Он передал ему всё, что считал прекрасным и полезным. Подчинив его волю своей, кардинал сделался духовным отцом Лодовико, даже большим отцом, чем покойный родитель. Разумеется, Забарелла гордился своим духовным отцовством: ведь в пытливом уме юноши он видел живое отражение, не увядшей свежести своего собственного ума. Кардинал-пестун быстро нашел хрупкому юноше дело: стал диктовать ему свои «Воспоминания». Забарелла не питал ни к кому такого доверия, как к своему духовному сыну. Диктуя Лодовико, он делился с ним самыми сокровенными мыслями и показывал себя таким, каким был в жизни. Тот, кто не заметил бы у кардинала холодного авторского резонерства, нашел бы много других зол. Забарелла сообщил мальчику о многочисленных событиях и своих поступках, безжалостно раскрывая их подлинные причины. Проницательный ум и наблюдательность Забареллы позволяли ему обрисовывать характеры папы, Сигизмунда, кардиналов и светских владык с такой потрясающей правдивостью, что он легко мог бы угодить на виселицу, если бы его мемуары прочли те, о ком он писал. Более того, Забарелла хорошо сознавал, что его сочинение будет долго лежать под замком. Оно может выйти в свет только тогда, когда владыки мира, изображенные в этой книге, будут лежать в земле. Это одна из причин, почему Забарелла привлек к себе мальчика и воспитывал его в своем духе. Лодовико будет хранителем его «Воспоминаний». После смерти кардинала он вручит их представителям образованного мира. Диктуя юноше, кардинал радовался вдвойне: как творец сочинения и как творец своего духовного подобия в лице Лодовико… Позавтракав, Забарелла вошел в рабочий кабинет. У окна стоял стройный светловолосый юноша. Солнечные лучи играли на его кудрях, ниспадавших на плечи. Забарелла с любовью посмотрел на него и, ответив на приветствие Лодовико, подал знак сесть к пюпитру, а сам начал ходить по комнате. — Насколько я помню, — обратился Забарелла к Лодовико, — вчера мы описали приезд Сигизмунда в Констанц. Теперь пиши:«28 декабря состоялось торжественное заседание собора. Его открыл кардинал дʼАйи, архиепископ Камбрэ. Свою речь он начал цитатой из двадцать пятой главы Евангелия от Луки: „Появятся знамения на солнце, месяце и звездах, на земле настанет страшный суд и народы не будут знать, куда им скрыться“. Видел бы ты, какой страх нагнали эти слова на прелатов! У каждого из них душа готова уйти в пятки и без таких слов. К счастью, дʼАйи, как истый француз, не изменил привычному красноречию. Он упомянул о конце мира лишь для того, чтобы на этом мрачном фоне показать величие людей, сравнить их с небесными светилами. Папу он назвал солнцем, римского короля — месяцем, а всех достойных отцов-прелатов, прибывших на собор, яркими звездами. О себе — себя он считал грозной кометой, которая как метла должна расчистить вселенную, — дʼАйи скромно умолчал. Он ловко жонглировал пустыми словами, — эти слова успокаивала папу: стало быть, он, папа, до сих пор солнце, центр вселенной. Но успокаивался архипастырь преждевременно. Скоро папа поймет, что самому солнышку становится жарко. Два дня спустя на соборе выступил немец Редер, профессор Наваррского коллежа в Париже. Он первый без обиняков предложил избрать нового папу. В это время приехали на собор посланцы английского короля, послы короля Шотландии с двумя архиепископами и семью епископами, дворяне во главе с графом Варвиком, магистр ордена иоаннитов с острова Родос, поляки, литвины, греки, послы византийского императора. Наконец в стенах Констанца появились те, кого с нетерпением ждал святой отец, — тирольский герцог и баденский маркграф с большими отрядами латников, вооруженных до зубов, и самый верный приверженец папы — майнцский архиепископ Иоганн. Этого прелата в латах повсюду сопровождали воины. Необычная свита архиепископа возмутила святых отцов, — ведь на церковных соборах не принято голосовать поднятием мечей и копий. Чаша весов клонилась не в пользу Иоанна XXIII. Но он вполне отдавал себе отчет в том, что делал. Его неприятности начались еще во время переговоров с Бенедиктом XIII и Григорием XII об их отречении. Иоанн XXIII бесился от ярости и твердил, что антипапы были низложены на соборе в Пизе, а констанцский собор — только продолжение пизанского! Святые отцы не поддались на удочку папы: Пиза — это Пиза, а Констанц — это Констанц. Послы Бенедикта и Григория стояли у ворот города. Сигизмунд перемигнулся с отцами собора, и посланники торжественно въехали в Констанц. Они готовы были немедленно передать собору согласие на отречение своих пап, если от тиары откажется Иоанн XXIII. Дело приняло серьезный оборот. Папа понимал, что ему не справиться с прелатами. Он мог повлиять лишь на итальянцев. Но перевес итальянцев не даст ему никакого преимущества: ведь на соборе будут голосовать представители народов. Французы готовы были съесть папу: он ущемлял их самолюбие. Они привыкли к собственному, авиньонскому папе. Немцы будут держаться Сигизмунда. Подкупить англичан никому не удастся, — они не зависят от Рима». — Между прочим, — улыбнулся Забарелла, — папа не может вполне положиться и на итальянцев. Пиши:
«В самую последнюю минуту бешеный дʼАйи нанес папе новый удар, заявив, что голосовать на соборе могут не только духовные, но и светские особы: так твердили ученые богословы, а они разбираются в этом куда лучше духовных сановников, обладателей богатых пребенд. Новое предложение дʼАйи свидетельствовало об ослаблении могущества прелатов и вмешательстве светских владык в церковные дела. Защищая свои позиции, папа заявил, что эти предложения противоречат постановлениям прежних соборов. ДʼАйи ловко вывернулся: он заявил, что прежде не было университетов и, следовательно, профессоров. ДʼАйи требовал права голоса для короля, герцогов, принцев и их послов. Легко представить себе радость Сигизмунда и дворян. Разумеется, это предложение было принято. Бедняга Иоанн! Он походил на дикого кабана, загнанного в чащу сворой гончих собак. Они скалили зубы и готовы были растерзать его. Главные участники собора составили проект обвинительного заключения. В его семидесяти четырех параграфах они изложили все грехи и злодеяния папы. Суди сам по первому параграфу обвинения, насколько мил этот перечень: „Иоанн XXIII, ранее Бальтазар Косса, с юных лет был лжецом, распутником и смутьяном“. В другом параграфе сообщалось о том, что Бальтазар Косса был кровожадным и жестоким правителем Болоньи. Он разорял ее непомерно большими налогами и держал ее жителей в постоянном страхе. Всех непокорных Косса заковывал в кандалы и отправлял на плаху. Он отравил своего предшественника Александра V. Повинуясь воле убийцы, конклав провозгласил Бальтазара Коссу папой. Ни для кого не секрет, что он небрежно относился к богослужению, часам, молитве, — всё это делал наспех, словно торопился на пожар. Один из параграфов обвинения изображал его притеснителем бедняков, поборником зла, хулителем чести и справедливости, алчным стяжателем и торговцем бенефициями и пребендами. Короче — он сосуд всех грехов и пороков. Иоанн XXIII допустил кровосмесительство со своей невесткой. На его совести более двухсот соблазненных и изнасилованных девиц, вдов и монахинь. Он продал должность магистра ордена иоаннитов пятилетнему ребенку — внебрачному сыну короля Кипра. За шестьсот дукатов он позволил епископу жениться. Иоанн XXIII забрал в женском монастыре святого Сильвестра голову Иоанна Крестителя и продал ее флорентийцам за пятьдесят тысяч дукатов. Он был бы уже великим грешником, если бы только сотая доля перечисленного была правдой. Что касается самого святого отца, то он счел бы себя праведником, если бы правды здесь было не более сотой доли. Разумеется, огласить такое обвинение на соборе никто не осмелился: Иоанн XXIII четыре года сидел на папском престоле. Папа есть папа, какой бы он ни был. Нельзя подрывать веру христиан в святость папы, — эта вера и без того невелика. Папа оказался в затруднительном положении. Тут он решил (а может быть, кто-нибудь посоветовал ему) отвлечь внимание отцов-прелатов от своей особы. И он выдвинул на первый план дело Гуса».
Улыбка тронула губы Забареллы, но он, как и в первый раз, подавил ее. Кардинал невольно задержался возле статуи Венеры. — Вчера я рассказывал тебе о надувательской сделке Сигизмунда с чешским королем Вацлавом, — взглянув на статую, сказал кардинал. — Сейчас пиши:
«Первый выманил у второго корону римского короля, пообещав охранную грамоту магистру Гусу. Гус становится козлом отпущения. С его помощью папа хочет оттянуть решение вопроса о схизме. Если это не удастся, чех окажется предметом нового сговора — сговора между святыми отцами и Сигизмундом. Теперь они перекидывают его, беднягу, как мяч, из рук в руки. Гус летает от одного игрока к другому и не может понять, в чем дело. Собору же он нужен не более, чем этот мяч. Вот какой опасный еретик этот Гус! Еретик он или не еретик — не важно, он пригодился тем, кто вздумал помериться силами. А теперь я тебя повеселю! Ловкач Сигизмунд сначала позволил Иоанну XXIII арестовать Гуса, а потом притворился оскорбленным; согласием на арест Гуса он хотел привлечь папу на свою сторону, а когда его союз со святым отцом потерял всякую цену, решил использовать Гуса сам. Сигизмунд хитер, как дьявол. Охранную грамоту он написал так, что ничего нельзя понять, — то ли Сигизмунд защищает Гуса, то ли выдает на милость церкви. Он даже поднял шум: как это, мол, собор осмелился арестовать человека, которому он, Сигизмунд, дал охранную грамоту. Собор оскорбляет его величество короля римского! Всё это, конечно, пустая комедия. С тех пор как папа вышел из игры, на мусорной свалке истории остались два петуха: Сигизмунд и собор. Сигизмунд мечтает взять бразды правления в свои руки, а собор, едва избавившийся от Иоанна XXIII, не желает посадить себе на шею нового опекуна. Собор хочет решать свои дела сам. Они набросились друг на друга. Святые отцы были тверды, как скалы. Особенно Пьер дʼАйи. Он воображал себя чуть ли не в роли святого апостола Петра,[484] а о нем говорится в Библии: „Ты — Петр, что значит камень“. Старичку Пьеру дʼАйи очень хотелось стать наместником святого Петра. Боже спаси нас от такого папы! Сигизмунд вел себя как дьявол. Пожалуй, он даже коварнее самого дьявола. Ворвавшись на заседание коллегии кардиналов, Сигизмунд забегал, топая ногами и крича: „Кардиналы подвели меня!“ Это правда. Своим пренебрежением к охранной грамоте они выставили его в смешном виде и перед чехами и перед всем христианским миром. Как встретят его в Чешском королевстве, если он не сумел отстоять своего подданного? Он угрожал коллегии отъездом из Констанца. Кардиналы только пожали плечами. Сигизмунд рассвирепел: „Я не стану никого спрашивать — прикажу своим стражникам открыть тюрьму и освободить Гуса!“ Кардиналы не испугались угроз и сами припугнули его. Если он сделает это, сказали святые отцы Сигизмунду, они сами уедут и собор распадется по его вине. Одним словом, обе стороны точили зубы друг против друга на бедняге Гусе. Сигизмунд хлопнул дверью, поднял дворян на ноги и выехал из Констанца. Но отъехал он недалеко — в Радольфсцель, — там располагался двор его супруги. В объятиях Барборы он быстро утратил свою воинственность. Далила обрезала волосы нашему Самсону. Он пришел в себя и трезво взвесил сложившееся положение. На следующий день Сигизмунд вернулся в город и легко договорился с кардиналами, словно между ними ничего не было. Он оставил Гуса в тюрьме, но добился у кардиналов уступок по двум пунктам: Сигизмунду обещали улучшить условия заключения узника и согласились на проведение публичного процесса. Этого требовали Гус и его друзья. Чешские шляхтичи, как оводы, кружились возле Сигизмунда. Они забросали собор письменными протестами, а их представители, прибывшие в Констанц, без конца бегали на аудиенции к своему будущему королю. Ему пришлось кое в чем уступить им. Но, разумеется, он не собирался разгонять собор из-за какого-то еретика. Наконец все более или менее успокоились, — каждый чего-нибудь добился. Настоящей же победительницей оказалась коллегия кардиналов. Подумать только, что весь этот шум поднялся — так объясняли святые отцы — из-за какого-то чешского священника! Ну не смешно ли, не забавно ли это? Я не знаю Гуса, никогда не видел его, но мне ясно его дело. Оно — обычное, а сам он не представляет никакой опасности. Если Гус еретик, то с ним можно было легко разделаться и без собора. С именем Гуса я впервые встретился два или три года назад. Уже тогда его дело находилось на рассмотрении в римской курии. Подробности я не помню. Знаю только, что там говорилось о пражском архиепископе, который приказал Гусу сжечь какие-то книги. Я не люблю тех, кто сжигает книги. Это дурные люди. Я обнаружил в этом скандале кое-какие юридические огрехи и поддержал точку зрения Гуса. Немного спустя Иоанн XXIII освободил меня от обязанностей следователя и подобрал более строгого. Сам Гус тогда был похитрее и не явился в Рим. Теперь Гус попался в руки судей. Папа немедленно (он еще думал, что ему удастся раздуть дело Гуса) поспешил с допросом. В камеру к Гусу послали следственную комиссию и свидетелей. Мне представился случай заглянуть в протокол показаний. Бóльшая часть их — скверная, особенно доносы его соотечественников. Были там и некоторые курьезные показания. Я помню одного такого свидетеля. Это был какой-то чех. Свидетель заявил, что никогда не слышал проповедей Гуса, но поскольку Гус — еретик, он, свидетель, готов дать о нем любые показания. Тогда я попробовал еще раз помочь Гусу: через одного комиссара передал ему, чтобы он не настаивал на публичном процессе. Этот спор мы могли бы провести в узком кругу богословов и юристов. Признаюсь тебе, Лодовико, — я привык быть искренним с тобой даже в мелочах, — что попутно мне хотелось позлить папу. Иоанн XXIII на стаивал на проведении публичного процесса, а я хотел помешать ему. К сожалению, Гус попался на удочку папы и заявил, что во что бы то ни стало будет добиваться публичного диспута на соборе. Таково обычное безумство одержимых. Каждый из них воображает, что именно он должен спасти мир от гибели. Безумец обращается к этому миру со своей проповедью. Став главой следственной комиссии, бешеный дʼАйи очень круто повернул дело Гуса. Еще до суда эта комиссия вынесла приговор, по которому Гус осуждался на смертную казнь. Но комиссии не удалось сломить волю магистра таким приговором. Он продолжал настаивать на своем. Веря в помощь друзей-соотечественников, выхлопотавших ему охранную грамоту у Сигизмунда, он стал требовать публичного диспута. Что ж, кто в петлю лезет сам, тот непременно будет там! Бог весть, о чем он тогда думал. Вероятно, еретик рассчитывал на то, что ему позволят здесь проповедовать свое учение».
Забарелла приблизился к Лодовико и положил руку на его плечо: — В детстве я любил играть на солнечной полянке. От солнечного тепла земля и жизнь на ней казались мне более приятными. Однажды я подошел к плоскому камню и отодвинул его, — там зашипел клубок змей. Почувствовав тепло и свет, они заметались, стали переплетаться, свиваться и сжиматься. Констанц напоминает теперь этот клубок змей. Разница в одном: там был простой клубок змей, а здесь они готовы сожрать друг друга. Горе бедняге-мышонку, который запутался в этом клубке! Но проглотив его, они снова набросятся друг на друга. В кабинет вошел слуга и сообщил о прибытии гостя — достойного отца, кардинала дʼАйи. Забарелла сразу забыл про дневник и Лодовико. Приветствуя дʼАйи, он силился понять, что привело к нему француза. Усаживаясь, дʼАйи заметил у окна юношу. Забарелла махнул рукой, — он не желал задерживать внимание дʼАйи на Лодовико, представлять и объяснять, кто этот юноша. В голове Забареллы мелькнула игривая мысль, и он, слегка улыбнувшись, сказал: — Достойный брат, вы можете спокойно говорить, — юноша не знает латыни. Забарелла не сомневался, что Лодовико поймет его и, оставшись с ними, обязательно извлечет из их беседы пользу. ДʼАйи, небрежно пожав плечами, тотчас заговорил о деле: — Достойный брат, я прибыл к вам как председатель комиссии по вероисповеданию и хотел бы поговорить о процессе, которым вы занимались до меня. Я имею в виду дело еретика Гуса. Голос дʼАйи звучал старчески сухо и резко. Забарелла заметил, как его собеседник легко заменил слово «процесс» словом «дело». — Вы занимались им в тысяча четыреста одиннадцатом году, в Риме, и интересовались материалами следственной комиссии здесь, в Констанце, — сказал дʼАйи таким тоном, как будто обвинял Забареллу. Забарелла, кивая головой, дал понять, что разговор о деле Гуса — мелочь, вроде разговора о погоде. — По этому вопросу для меня будет иметь большое значение единое мнение братьев коллегии. Единомыслие не только желательно, но и необходимо. Хотя нам не удалось избежать вмешательства светских властей в дело Гуса, но мы благополучно завершим процесс. Дело будет доведено до конца, даже если Гус вызовет у кого-нибудь мимолетную симпатию, — сказал дʼАйи. Забарелла понял очередную колкость дʼАйи. Только «симпатия» в устах француза — чересчур громкое слово. — Дело вполне созрело для инквизиции, — сурово закончил дʼАйи. Забарелла мучительно думал, почему дʼАйи заинтересовался процессом Гуса. — Вероятно, нет никого, кто был бы больше убежден в необходимости искоренения ересей, чем я, — сказал Забарелла. — Их следует уничтожать в зародыше. Совсем недавно произошел такой случай, который, я полагаю, мог бы послужить вам, брат, образцом того, как легко и просто можно покончить с еретиком. Хозяин намекал на случай, который произошел с дʼАйи по дороге в Констанц: недолго думая, бешеный кардинал приказал сжечь двух францисканцев на основании какого-то гнусного доноса. ДʼАйи раздраженно махнул рукой: — Вы, достойный брат, недооцениваете Гуса. Его ересь — необычная. Она опасна не только для святой церкви, но и для мирян. Поверьте, я не преувеличиваю это. Однажды я допрашивал Гуса сам. Меня охватил ужас от его слов. Забарелла заметил, как побагровела пергаментная кожа на висках и щеках собеседника. Черт знает, что кроется тут? Старику нечего разыгрывать комедии. Он в самом деле чем-то одержим. Тонкие губы дʼАйи без передышки изрыгали хулу. Забарелла утомился, слушая его, и не мог понять, почему один из самых сильных кардиналов набросился на чешского еретика. «Да, — рассуждал Забарелла, — Гус опасен. Однако он не заслуживает того, чтобы им занимались кардиналы. Для него достаточно инквизиторов». Забарелла увидел в дʼАйи человека, который пожелал сделать из мухи слона. Но какой прок от этого кардиналу дʼАйи? Известен старый принцип: интересуйся не столько тем, что человек делает, сколько — почему он это делает? Забарелла подумал, почему беспокоится дʼАйи… и сразу понял: после папы, Сигизмунда и собора дʼАйи тоже не прочь сделать карьеру за счет Гуса. Ясно, как божий день. Не случайно дʼАйи повсюду носился с пугалом давно известного еретика и пытался внушить, что он, дʼАйи, — спаситель церкви от еретической заразы, угрожающей, мол, всему миру. Ему хотелось сыграть роль святого Георгия, победившего дракона. Идею спасителя церкви он позаимствовал у Сигизмунда. Навязывая свой порядок заседаний, дʼАйи задумал начать работу собора шумным процессом. Идею эффектного начала собора он позаимствовал у папы и коллегии кардиналов. ДʼАйи собрался воспользоваться соперничеством кардиналов и приблизиться к тиаре. Когда стало ясно, что Иоанн XXIII не удержится на престоле, дʼАйи начал пыжиться, набивать себе цену. Всё это до тошноты старо… Голос гостя вернул Забареллу к действительности. Слава богу, он хорошо расслышал конец вопроса, — дʼАйи спрашивал, каково его мнение. Но о чем он говорил до этого? Забарелле, не слушавшему кардинала, необходимо было наспех придумать ответ. Коснувшись процесса Гуса, он должен умолчать о существе дела и не показать дʼАйи, что был занят своими мыслями. — Достойный брат! — медленно начал Забарелла, желая показать себя рассудительным. — Всякую ересь надо безоговорочно осуждать. Не важно, велико или мало заблуждение. Оно может стать опасным. Я вижу только одно окончание этого дела: осуждение! Забарелла умолк и с недоумением посмотрел на злую старческую маску дʼАйи. Она ухмылялась! Череп дʼАйи с туго натянутой кожей еще так-сяк, но улыбка… — Amice,[485] — нарушил тишину дʼАйи тихим и спокойным голосом. Забарелла тотчас пришел в себя: дʼАйи неспроста называет его другом. — Прежде всего, позвольте мне заметить, что вы не слушали меня и думали о чем-то другом. Я верю, что ваши мысли были не менее важны — иначе и не может быть. Вы, вероятно, думали о том, что привело меня к вам? Вам хотелось бы знать, какие причины побудили меня прийти сюда и беседовать с вами? Вы заметили в моих действиях — скажем прямо — весьма мелкие и эгоистичные намерения, не так ли? Забарелла весь похолодел: его гость — сущий дьявол! А дʼАйи продолжал: — Я тоже сужу о других людях — да не осудит меня за это достойный брат — по себе. — Быстрым движением руки дʼАйи дал понять, что он не желает слышать возражений по этому поводу. — Обо мне говорят, что я честолюбив и алчен. Святой отец однажды назвал меня ненасытным драконом. Мне нетрудно опровергнуть такое мнение. Я был бы признателен вам, достойный брат, если бы вы не усомнились в моей искренности. У меня нет никаких эгоистических расчетов. Я хочу и обязан, достойный брат, убедить и предостеречь вас, ибо сие касается всей церкви, даже больше — всего мира! Забарелле стало очень скучно. Они вплотную подошли к неприятному делу. Оно очень мало волнует его. Однако этот старый стервятник успел втащить сюда свою тухлую добычу и отравляет ею воздух. Ничего не поделаешь. Теперь от него уже не избавиться. Кардинал снова отгадал мысли хозяина: — Летом в Риме начала пересыхать река Арно. Спасаясь от ее вони, мы перебрались в свои загородные виллы. В данном случае этого недостаточно. Ересь не только смрадна, но и ядовита. Святая церковь уже давно и точно определила опасность ереси Гуса. Всеми средствами и на всех инстанциях церковного суда мы загоняли его в западню. Ею оказался Констанц. Тут приложили руку папа, я, Сорбоннский университет, Жерсон. Помог нам и Сигизмунд. Теперь, когда мы загнали еретика в ловушку и можем быстро разделаться с ним, папа, король и коллегия кардиналов решили использовать его в своей борьбе за власть и подчинение себе собора. Близорукие эгоисты! ДʼАйи провел бледным языком по тонким губам. Казалось, их высушил пламень, бушевавший внутри этой костлявой, злой головы. Забарелла уставился на нее. — Вы достаточно мудры, — продолжал дʼАйи, — и легко заметите сходство Гуса с Виклефом и Пти. Знаете, к чему привела их ересь? В Англии — к восстанию деревенских хамов, поджогам замков и убийствам, а в Париже — к террору черни, расправе с дворянами и захвату Бастилии.[486] Нет-нет да и появится какой-нибудь недалекий священник-фанатик. Не разобравшись в сути дела, он начинает толковать Библию вкривь и вкось: сопоставляет христианские идеалы с нашими порядками, сравнивает нищету евангельских апостолов с роскошью нашего духовенства, совершенно не понимая предназначения нашей власти и исторически осуждая нас. По моему мнению, церковь совершила непростительную ошибку. Она легкомысленно отнеслась к Виклефу. Мы выгнали его из университета, выселили из Оксфорда и на этом успокоились. Ему очень повезло: он вовремя умер. Тогда у нас были руки коротки — мы не могли повлиять на англичан. В Констанце нам надо наверстать упущенное. Всё, что проповедуют эти безумцы, подхватила жадная, ненасытная, завистливая и тупая чернь. Прослушав проповеди сумасбродных реформаторов, она сжимает кулаки и вытаскивает ножи из-за поясов. Глаза дʼАйи горели. Злобная усмешка искривила его губы: — Еретики зашли так далеко, что нам остается осудить Библию как самую еретическую книгу. Откровение божие на пагубу христианства попало в руки дьявола. Чем подкрепляет свои доводы Гус? Ссылками на Священное писание! Он невинным голосом спрашивает: ездит ли наместник Христа на ослике, босой и в рубище? Люди слушают его и потом с ненавистью смотрят на богатые облачения епископов и священников, на золотые украшения храма. Те, кому ненавистны пышные кафедральные соборы и церковные приходы, восхищаются Спасителем, который родился в хлеве. Наши священники кутят и забавляются с любовницами, а Христос проповедует на горе и благословляет бедняков. Гус рассказывает мирянам притчу о бедном отверженном Лазаре, который валялся в грязи у дома богача. О, с какой жадностью слушают Гуса тысячи бедных Лазарей! Более того, Гус вопил с кафедры: папа, который не исполняет заповедей Христа, не может быть его наместником. Верующие во Христа не должны повиноваться такому папе. По дурным поступкам вы познаете недостойного священника и недостойного господина. Тот, кто повинуется недостойному, повинуется дьяволу! Каким адским зельем отравлял этот архиеретик души своих слушателей! «Кому явился Христос, — спрашивает он, — прелатам или простым людям? Разумеется, простым людям, ибо он сам был беден. Христос поучал прежде всего чернь — она, мол, должна судить господ». А теперь я дословно прочту то, что писал Гус: «Простая старушка, которая исполняет божьи заповеди, — благочестивее короле и священников, ибо делает это не по обязанности, а по святости жизни». Это, конечно, слова Библии и речь богослова. Но какой протест звучит в устах проповедника-бунтаря! — дʼАйи говорил тихо, не повышая голоса, но Забарелле казалось, что его собеседник кричит. — Так проповедовал Гус по воскресеньям в Праге, в Вифлеемской часовне, — продолжал дʼАйи. — Каждую его проповедь слушало около трех тысяч прихожан. То была не безропотная община верующих, а огромная толпа черни. Слова Гуса падали в души тысяч людей, как зёрна в мягкую землю. Мы призваны уничтожить эти пагубные зёрна, иначе они взойдут плевелами. Нам нужно засунуть проклятые слова обратно в глотку Гуса, заставить его отречься. Вместо этих слов он должен во весь голос заявить: «Не верьте мне! Я заблуждался! Всё, что я говорил, — ложь, ересь». Только Гусу поверят те, кого он заразил. ДʼАйи неожиданно наклонился к собеседнику. Забарелла невольно отодвинулся от его сухого, искаженного злобой лица. — Помогите мне доказать, что поведение владык по меньшей мере легкомысленно. Они борются за короны и тиары, забывая о той опасности, которая угрожает и авторитету святой церкви и устоям светской власти. Только сумасшедший подожжет дом, чтобы разыскать в пепле потерянный дукат. Вы должны помочь мне одернуть узколобых инквизиторов, которые готовят расправу и никак не могут дождаться, когда Гус окажется на костре. Я полагаю, мне незачем доказывать вам нелепость такого мнения. Мы совершим непоправимую ошибку, если создадим Гусу ореол мученика. Нам нужен не Гус-мученик, а Гус-обманщик, обманщик, который ввел в заблуждение своих прихожан. ДʼАйи поднялся. — Если мы не заглушим Гусовы проповеди, — и он указал костлявым пальцем в угол, где стоял Лодовико, — разъяренная чернь зарежет юношу и разобьет статую. Забарелла не встал, когда дʼАйи направился к дверям. Он не сказал французу ни слова на прощание. Старый кардинал показался Забарелле зловещим образом будущего, неизбежным предначертанием рока. ДʼАйи уйдет, а то, что он сказал, как кошмар будет преследовать Забареллу. Когда двери захлопнулись, Забарелла вскочил и заметался по комнате, словно желая избавиться от чего-то навязчивого и жуткого. ДʼАйи — стар. У него скверное пищеварение. Он изливает свою желчь на всех. Старик запугивает. Ему доставляют большую радость покойницкие и кладбища. Забарелле следует полагаться на свое собственное мнение, если он не желает попасть впросак. Тощий дракон не околдует его, как змея птичку. С большим трудом Забарелла освободился от гнетущего впечатления, навеянного рассуждениями дʼАйи. Ом только не мог избавиться от мысли, что теперь ему уже не удастся сохранить свое почти безразличное отношение к еретику и придется заняться делом Гуса. С каким презрением он смотрел на многие несуразности. А тут… Гус, жалкий священничек, живет среди бедняков, изъясняется на языке черни, говорит ее голосом… Поскольку его окружает мир, бедный чувствами, то они находят столь же бедное выражение в его грубых словах. Совсем недавно кардинал где-то встречал нечто подобное этому… Да, он вспомнил. По дороге в Констанц, в одной тирольской деревушке, он видел отвратительную деревянную статую… Только теперь Забарелла взглянул на Лодовико. Тот что-то писал. Кардинал, раздраженный появлением дʼАйи, неожиданно забеспокоился: Лодовико, по-видимому, записал речь отвратительного старика. Забарелла невольно нахмурился. Юноша должен интересоваться только тем, что ему говорил он, Забарелла! Постепенно кардинал успокоился и, улыбнувшись, спросил: — Что ты скажешь о беседе?.. Юноша поднял глаза. Казалось, они стали больше, глубже и ярче. — Достойный отец, который был у нас в гостях, полон яда. Ядом было отравлено всё, что он говорил. Мне хотелось бы услышать об этом… об этом Гусе из ваших уст. Чего он всё-таки хочет? Я не верю, что желания Гуса низменны: ведь во имя их он готов умереть. Ваш гость видит в них только зло: всё у Гуса плохо и ужасно. Но я так не думаю… Согласитесь, преступники всегда боятся смерти. Тот, кто спокойно принимает ее… Я не знаю… Но мне хочется знать об этом больше и подумать… Забарелла со страхом слушал Лодовико. Сейчас кардинал почувствовал куда более сильную тревогу, чем во время беседы с дʼАйи. По спине Забареллы пробежали мурашки. Между ним и Лодовико вклинилось что-то чужое, похожее на чувство неожиданного охлаждения. А может, он неправ? Ведь Лодовико говорит о том, что ему, Забарелле, ближе всего и чего он боится. Разве появление дʼАйи застигло его врасплох? Забарелла ничего не понимал. Неужели старик стал хитрее? Разве Забарелла не знал его? Забарелла задумался. У него не хватало мужества признать правду. Она задевала кардинала за живое. Казалось, Забарелла сорвал с себя маску и заглянул в свою душу. Да, так оно и было: он видел — и не хотел видеть, он знал — и не хотел знать! Как омерзительны судороги страждущего мира, в котором клокочут грязь и кровь, до чего же безумны и наивны пророки, готовые, подобно свиньям, кинуться на его отбросы. Как он ненавидит всё это! Забарелла звонко и зло захохотал. (обратно)
Поэт и негоциант
На боденских берегах
Голь гуляет в кабаках,
Нет от жуликов спасенья —
Вешай их без промедленья! —
Эй, монах, монашек,
Пей, не унывай!
Тебе, другу чаши,
Уготован рай!
Как король одет милёнок,
Ненаглядный писарёнок.
Если дашь ему дукат —
Пересплю с тобою, брат!
Постоянность, надежность, верность
Генеральное заседание святых пастырей началось в констанцском кафедральном соборе под благовест колоколов. Председательствовал антиохийский патриарх Жан Мору, который сидел в кресле, находившемся немного ниже тронов папы и императора. Кардиналы и прелаты расположились в креслах, расставленных тремя ярусами, университетские профессора, доктора, рядовые священники и малоименитые светские особы — на поперечных скамьях, а князья и герцоги — вокруг короля. Месса уже закончилась, но святые отцы не покидали своих мест. Все знали, что Иоанн XXIII принял из рук Жана Мору проект отречения, составленного коллегией кардиналов. Когда напряжение достигло наивысшего предела, Иоанн XXIII поднял голову и окинул взглядом собравшихся. На лице папы не дрогнул ни один мускул. Держа обеими руками большой пергамент, Иоанн XXIII поднес его к глазам. — Ego Johannes papa XXIII, servus servorum Dei quietem totius populi christiani… — начал читать он спокойным, холодным голосом. — Я, Иоанн XXIII, папа, слуга служителей божиих, во имя спасения и сохранения мира среди христиан торжественно клянусь перед богом, церковью и сим святым собором в том, что добровольно, свободно и без какого-либо давления откажусь от тиары и передам ключи Петра в руки святых отцов сего собора — (при этих словах поднялся шум) — если Пьетро ди Луна, присвоивший себе имя Бенедикта XIII, и Анджело ди Корарио, именующий себя Григорием XII, откажутся от мнимых титулов лично или через своих полномочных представителей. Я предпринимаю такой шаг во имя блага церкви, дабы она обрела утраченное ею единство. Люди встали со своих мест и начали креститься. Некоторые молились вслух и благословляли папу. Сигизмунд тоже не мог скрыть своего волнения, — до цели было уже рукой подать! Римский король поднялся, положил корону на трон и быстро подошел к трону папы. Опустившись на колени, он склонил голову к ногам святого отца и коснулся губами его туфли. Вернувшись в епископский дворец, Иоанн XXIII заперся в спальне и дал волю своему гневу. Он топал ногами, колотил кулаками по столу, бешено рычал, проклиная кардиналов, Сигизмунда, собор… Когда приступ бешенства исчерпал его силы, папа почувствовал себя слабым, вялым и жалким. Тоска и страх терзали его душу! Нет! Нет! Он должен взять себя в руки. Так недолго и расстаться с тиарой… А он не собирается никому уступать свое место! Сегодняшнее отречение? Да, собору удалось подогнать его прямо к западне! Это отречение — условное! Условное! Хотя оба лжепапы обещают подчиниться собору, собор один должен принять официальное решение по этому вопросу. Можно, конечно, оспаривать законность действий этих лжепап, поставить под сомнение правомочия их представителей. О, есть еще немало и других средств… Они помогут выиграть время. А время иногда решает все! Он крикнул камердинера и велел ему вызвать секретаря Поджо. Завтра… завтра юристы должны подробно разработать всё, что он набросает сегодня. — Немедленно сбегай за донной Олимпией! — сказал папа слуге. Когда Поджо явился к Иоанну XXIII, тот уже успокоился. — Прежде всего, необходимо заручиться свидетельством пресловутого Бенедикта XIII, в котором бы он лично отрекался от своих домогательств на папский престол. Он заявил, что не назначает никаких полномочных лиц и предлагает встретиться в Ницце с представителем собора: ему он передаст свои полномочия. На это я отвечаю: нельзя одному папе отрекаться лично, а другому — через прокураторов.[489] Я заявлю им, что поеду в Ниццу. Тут у меня будут две возможности. Если Сигизмунд пустит меня туда, то… — папа впервые за весь день улыбнулся. — Нет, больше пока ничего. Сигизмунд не пустит меня. Здесь — два решения. Я внесу предложение перевести собор в Ниццу. Собор вряд ли пойдет на это. Если он откажется, я буду упрямиться до тех пор, пока святые отцы не заставят Бенедикта выслать своих прокураторов. Взаимные препирательства надолго затянут дело. Поджо перестал записывать и задумчиво посмотрел на папу. — Что случилось с тобой? О чем ты задумался? — ворчливо спросил Иоанн XXIII. — Вы, ваше святейшество, сейчас продиктовали мне свои очень ловкие, тонко продуманные планы. Они напоминают мне паутину, натянутую между двумя деревьями. Каждая ее нить прикрепляется к стволам в разных местах. Вся эта паутина в узловых точках сделана из двух или трех крепких ниток. Я вижу и того, для кого она сплетена. Это — сильный, грубый рыжий великан. Он неуклонно движется к своей цели и, не замечая вашей паутины, идет прямо сквозь нее. Ужас сдавил папе горло. В этот миг папа готов был ударить Поджо. Но это всё равно не помогло бы папе. Секретарь прав. Надо считаться с этим суровым и беспощадным путником. В таком случае… Да, в таком случае… ему придется любыми средствами добраться до Франции, до Бенедиктовой Франции. Там у него не одни враги. Теперь бургундский герцог может и должен помочь ему. Когда тот убил вождя орлеанистов, Иоанн XXIII взял его под защиту. За смерть — жизнь. Да, Бургундия может стать последним оплотом папы. Папа теряет время… А может быть, и… Уф! Беды обрушились на него со всех сторон! Иоанн XXIII устало повалился в кресло. Нет, он не должен унывать. Ему придется использовать все средства, идти шаг за шагом, как по ломающемуся льду. Сегодня папа уяснил себе по крайней мере обстановку. Пора и отдохнуть. А завтра… Да, завтра всё уточнят и разработают юристы. Вот так. Махнув рукой, папа отпустил Поджо. Хоть бы скорее пришла Олимпия! Он позвонил слуге: — Не вернулся ли Фелипелло? Младший паж Фелипелло был очень предан своему хозяину. Папа чувствовал это и частенько посылал его по самым интимным делам. Слуга впустил мальчика. — Ну?.. — подался вперед папа, недоумевая, почему Фелипелло прибыл один. Паж учтиво опустился на колени. — Ваше святейшество! Прекрасной дамы, которая желала тайно исповедаться у вас, не оказалось дома, — сказал мальчик и, заметив, как папа покраснел от гнева, добавил: — Я, святой отец, тут ни при чем. Эта дама уже не живет там. Сегодня она выехала оттуда и не сказала, куда… Папа рассвирепел и швырнул в Фелипелло молитвенник, лежавший на ночном столике. Не успей мальчик в последний миг закрыться руками, молитвенник попал бы ему прямо в лицо.Сегодня вечером, как обычно, Матиас Рунтингер записывал свои расходы. Он потратил немало денег, но не жалел их. Негоциант дал один рейнский гульден жене слуги из трактира «У трех гроздьев» за новый адрес донны Олимпии, два дуката — горничной Олимпии за то, что она устроила ему свидание со своей госпожой, сто дукатов — за одно слово донны! Рунтингер сопел. Да, последний расход всё-таки велик. Олимпия, мерзавка, была очень осторожна! Он шел на всякие уловки: расспрашивал, обещал, угрожал и даже намекнул, что прекратит с нею всякие разговоры. Ничто не помогало. Она только смеялась. В конце разговора донна согласилась за десять столбиков — каждый по десяти золотых дукатов — назвать ему имя человека, который в последнее время чаще других бывал у папы. Рунтингер кружился около нее, как шмель над цветком, и наконец услыхал: — Фридрих! — Ах, Фридрих! — Вместо радости Рунтингер почувствовал легкую досаду. Он тоже имел его в виду. Впрочем, не беда. Олимпия подтвердила, что он шел по верному пути. — Вам следовало бы последить за пажом папы. Как его, бишь? Да, Фелипелло, — уже бесплатно добавила она. Рунтингеру пришлось израсходовать еще два дуката — слуге из папских конюшен, пять дукатов — подконюшему тех же конюшен, десять дукатов — конюшенному за то, что он принял его слугу Кристофа в папские конюшни, и пять дукатов — Кристофу, — половину того вознаграждения, которое он получит, если подружится с Фелипелло и вотрется к нему в доверие. Кристоф — парень не промах. Он не зря пятнадцать лет служит в равенсбургской торговой фирме. Рунтингер с удовлетворением пробежал листок записей. Он славно поработал сегодня. Это, дорогой поэт с башни, такие дела, которые вынуждают купца раскошеливаться. Твои речи были очень милы. Они сладко звучали там, под облаками… Но жить… жить и прочно стоять на ногах можно только на земле. Перед тобой — масса дорог и дорожек. Надо держать нос по ветру и не сбиваться с пути. На этот путь он и напал сегодня. В начале этого пути — папа, а в конце — перец… Рунтингер глубоко задумался. По всему видно, песенка папы спета. Дело клонится к потере не только тиары, но и головы. Если папа собирается что-либо предпринять, то он должен найти себе опору. Этой опорой ему послужит тот, за чье имя негоциант уплатил сто дукатов, — Фридрих Тирольский. Кто старается прижать папу к стенке? Собор, и еще больше него — Сигизмунд. Стало быть, надо подсказать Сигизмунду, — пусть римский король займется Фридрихом! Если тиролец поможет святому отцу, Сигизмунд не оставит в покое ни Фридриха, ни Тироль, Всякий захватчик доит из завоеванной страны деньги главным образом путем повышения налогов и таможенных пошлин. «Если возрастет таможенная пошлина, дорогой мой Мельхиорик, повысится и цена на перец. Ты откроешь наши запасы, прибавишь к цене нынешнюю таможенную плату и начнешь продавать их по новым, повышенным ценам». Вот она, благословенная, тучная, пышная жизнь! Всего израсходовано… сто двадцать четыре дуката и один рейнский гульден. Встретив рыцаря Освальда фон Волькенштайна за ужином, Рунтингер ввел его в курс своих последних наблюдений. К счастью, на этот раз рыцарь был трезв и жадно ловил каждое слово негоцианта. Рыцарь сидел как на иголках. Ему хотелось как можно скорее сообщить Сигизмунду о делах, которые пахли золотом. Только одного Волькенштайн никак не мог уразуметь: почему Рунтингер выбалтывал ценные сведения, не требуя за них ничего взамен?.. Догадавшись о мыслях поэта по его лицу, Рунтингер улыбнулся: — Господин рыцарь, вы, очевидно, не можете понять, почему купец служит своему королю бескорыстно, без малейшего вознаграждения. Я рад, что сегодня могу передать свой заработок… поэту. В тот же вечер Эбергард Виндэкке, оптовый торговец и банкир римского короля, отправился к меняле Аммеризи, официальному представителю флорентийских банкиров и неофициальному посреднику Генуи, Равенны, Болоньи, Ломбардии и Венеции, с которой остальные города были на ножах. Виндэкке надеялся, что сумеет быстро договориться с Аммеризи: немецкие купцы должны понять итальянских купцов. Банкиры были осведомлены о коммерческих интересах и положении дел друг друга. Аммеризи знал о Виндэкке, а Виндэкке — об Аммеризи всё, что касалось их банков, рудников, хранилищ, гаваней, кораблей, ткацких мастерских и рынков. Даже родные братья не могли бы знать друг друга лучше. Цель у них — общая. Правда, каждый из них хочет свалить на плечи другого большую часть ноши. Виндэкке — в более выгодном положении. Как банкир Сигизмунда, он может выступать от его имени и от имени империи. Желая подчеркнуть свою важность, Виндэкке надел роскошное парчовое платье, опушенное соболем, на пальцы нанизал большие перстни с самыми дорогими камнями, на шею повесил тяжелую золотую цепь с имперским орлом, даром Сигизмунда. Римскому королю легче было подарить этого орла, чем уплатить свои долги. Знаменитый богач поднимался по лестнице, как истукан, облаченный в жесткое платье. Слуга распахнул двери в столовую в тот момент, когда навстречу Виндэкке вышел хозяин. Аммеризи не шел, а скорее плыл. Он был одет в свободное платье из тонкой, мягкой пурпурной ткани, напоминавшей кардинальскую мантию. Легкие складки одеяния итальянца живо переливались, не стесняя свободы движения. Хотя платье Аммеризи казалось скромным, однако опытный глаз Виндэкке определил, из какой редкой материи оно сшито. Аммеризи провел гостя к столу, у которого Виндэкке осторожно опустился в мягкое кресло. Жесткая парча кафтана поднялась и неловко подперла ему бороду. Итальянец проворно придвигал к гостю миски и мисочки с холодными закусками, рыбным желе, майонезами и какими-то пестрыми салатами. Хозяин потчевал гостя и развлекал его. Разумеется, Аммеризи рассказывал ему только то, что интересовало гостя — мелкие торговые сплетни о своих коллегах — ломбардских менялах, — не переставая следить за тем, чтобы тарелка Виндэкке была полной, а закуски сменялись птицей, жарким, мучными блюдами и огненно-красным вином, которое с особым изяществом доливалось в чеканный кубок. Сам Аммеризи почти не касался яств, — только тогда, когда слуга принес вареные фрукты, обложенные льдом, он начал вылавливать разноцветные ягодины трезубцем из слоновой кости и по-гурмански сосать холодные сочные сливы. Виндэкке ел не спеша, — только основательное заполнение желудка делает человека спокойным и уверенным в себе. Украдкой Виндэкке наблюдал за итальянцем, пытаясь разгадать его нынешние возможности. Нет, Виндэкке не обманешь легкостью порхающего мотылька. Сам Аммеризи уже при входе окинул гостя с ног до головы быстрым взглядом, и теперь притворялся, что не замечает, как раздражает Виндэкке неудобное платье. Унизанные перстнями пальцы немца не могли справиться с крошечными трезубцами, ножичками и ложечками. Виндэкке был несловоохотлив в беседе с итальянским шутом. Он больше слушал. К нему подошли слуги — первый омыл его пальцы в миске, а второй вытер их батистовым полотенцем. — Я думаю, вы разделяете мое мнение, что собор вот-вот распадется? — словно невзначай спросил Виндэкке хозяина. Аммеризи улыбнулся и ответил словами флорентийской прибаутки: — Так осенью твердил пророк всерьез: сначала листопад, потом — мороз! — Разумеется, — невозмутимо продолжал Виндэкке, — мы не можем допустить этого. В наших и ваших интересах не только продолжить заседания собора, но и постараться, чтобы он достиг своей цели — объединил Европу и восстановил в ней порядок. Если святые отцы разъедутся ни с чем, то споры по нерешенным вопросам будут продолжаться во всех странах. Склока, грызня и драка из-за границ будут, как ранее, помехой для торговли… Я полагаю, мне незачем убеждать вас в этом. На это жаль времени. — Но не жаль его на то, чтобы отведать эти маринованные оливки, — перебил Аммеризи, подвигов гостю миску с зелеными ягодами в масле. — И запить их французским вином… — Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду, — продолжал немец и взял из вежливости одну оливку, которая показалась ему невкусной. — Всё, что творится сейчас, просто невыносимо. Товар, который мы везем по Рейну, облагается пошлинами шестьдесят четыре раза! Что касается Дуная, то там положение еще хуже. В этом отношении я вижу много заманчивого в политике Сигизмунда: он мог бы раз и навсегда порвать многие путы… — Не бойтесь называть великие дела великими словами, — приободрил хозяин гостя. — Я всё же потомок древних римлян и пойму вас. Разумеется, было бы прекрасно, — а для нас выгодно, — если бы на месте европейских государств возникла великая мировая империя. Я не знаю, может ли быть что-нибудь прекраснее возвращения к старому, вечно живому призраку Рима. Однако… однако у грез есть одно неприятное свойство: когда человек пробуждается, они покидают его. К сожалению, европейские народы уже избавились — и я боюсь, уже окончательно — от мечты основать империю, — весело усмехнулся итальянец. — Догадываетесь ли вы, кто освободил их от подобных грез? Заметив, что Аммеризи снова уклонился от делового разговора, Виндэкке нахмурился. — Мы, мы! — воскликнул Аммеризи, поднося смарагд к левому глазу и зажмуривая правый, словно желая походить на злого одноглазого василиска. — Мы, купцы, нарушили волшебный сон народов. Теперь нам более всего нужна такая единая империя. Городской купец и банкир в любой, даже самой маленькой, стране говорят: «Здесь я зарабатываю, устанавливаю цены, регулирую ввоз и вывоз. Никто не имеет права ограничивать меня». Народы больше не желают сидеть за одним столом и повиноваться главе семьи. Деньги пробудили у них чувство самостоятельности и независимости. Народы выросли, друг, с нашей помощью. Они хотят жить по-своему. Разве мыслима теперь мировая империя? Такое огромное целое должно тяготеть к одному центру. Взгляните-ка на Европу. Деньги текут не в центр империи, а к границам и за ее границы — в порты Антверпен, Брюгге, Гамбург, Геную, Венецию. Золото разрывает империю на сотни клочков. Империя трещит по швам. Нет, нам незачем мечтать о невозможном. Мы будем радоваться, если нам удастся приостановить хаос неудержимого развития. Следовательно, то, что мы можем сделать, — это умерить беснование узких великодержавных интересов, поскольку они вторгаются в наши дела и расчеты. Разумеется, мы сильно продвинулись бы вперед, если бы собор восстановил в церкви мир и порядок. — Мы оба сходимся на том, что собор должен крепить единство и продолжать заседать… — осторожно направлял разговор Виндэкке в нужное ему русло. — Кто может помешать тут? Папа! А кто может восстановить единство церкви? Римский король, Я утверждаю это не потому, что являюсь его банкиром. Аммеризи согласился: — Охотно верю. Ведь мы — и вы, и я — говорим менее всего от своего имени. Если бы вы защищали интересы одного римского короля, то я посадил бы к вам за стол папского банкира Медичи. Я говорю сейчас скорее от имени всех итальянских купцов, а вы — от имени немецких, не правда ли? Но если это так, то следует признать, что один Сигизмунд способен поддержать единство собора. — Разумеется, на это понадобятся деньги, а у Сигизмунда их нет, — сказал Виндэкке. — Зато они есть у вас, — спокойно заявил Аммеризи. — Конечно, мы кое-что имеем… Но одна немецкая торговля не сможет оплачивать такое предприятие, которое принесет пользу и другим. — Это напоминает мне веселую историю о супруге, который требовал от любовников своей жены денег, чтобы сделать для нее новый, более удобный альков. — У меня есть проект, — продолжал Виндэкке, твердо решив, что теперь его уже ничто не собьет с избранного пути. — Мы можем вместе разобрать все его основные положения. Во-первых, папа предложил Сигизмунду взятку в двести тысяч дукатов. Король отверг ее. — Ну и что? — спросил Аммеризи, уже догадываясь, что последует за этими словами. — Итальянские деньги, которые Сигизмунд не взял, — всё-таки несомненная потеря. Иметь только двести тысяч — не иметь четырехсот тысяч! — Простите, не понимаю… — удивленно посмотрел на него итальянец. Виндэкке захохотал: — У нас говорят: теряя дукат, вы теряете возможность заработать второй. — Я всё-таки предпочел бы, — усмехнулся флорентиец, — отказаться от народных поговорок и высказать свое мнение только о двухстах тысячах дукатов. — Вы, наверное, поняли, что я довольно ясно говорил о них как об итальянских деньгах, которые мы хотели бы получить. — Вы знали, почему отказываетесь от них, — пожал плечами Аммеризи. — Они давались не даром. — Вы советовали, — упрямо продолжал Виндэкке, — называть вещи своими именами. Ну вот… это были итальянские деньги. — Хорошо. Это условие принимается. Что же далее? — Далее — речь идет о баденском маркграфе, тирольском герцоге Фридрихе и майнцском архиепископе. Все они — сторонники Иоанна XXIII и прибыли в Констанц с вооруженными отрядами. У Сигизмунда должно быть, по крайней мере, такое же войско. Иначе ему не одолеть их. — На это пусть тратят деньги немцы, — сухо заметил Аммеризи. — Только немцы… — Есть тут масса и других статей расхода, например взятки участникам собора… — Таких расходов у самих итальянцев немало… Виндэкке вздохнул. Адская жарища! Свечи накаляют воздух, вино греет желудок, а тут еще эта проклятая одежда! Виндэкке сидит как в парильне, а его хозяин свеж, словно огурчик. — Наконец, остается еще одно дело — мы можем коснуться его лишь теоретически. Можно ли вообще предугадать, на что решится Иоанн XXIII? Издыхая, хищник бьет и кусает каждого, кто попадается ему на глаза. Не исключена возможность, что римский король прибегнет к силе. Разумеется, для Сигизмунда наших денег не хватит. В этом случае мы должны побеспокоиться об интересах целого. — Я поддерживаю вас, — согласился Аммеризи. — Половину расходов мы возьмем на себя. — Мне кажется, половины мало, — сказал Виндэкке. — Учтите: самую тяжелую работу придется выполнять нашим людям. Они могут легко потерять свои головы. Поэтому мы, просим вас взять на себя две трети. Аммеризи задумался: — Я вряд ли смогу дать вам немедленный ответ. Мне надо посоветоваться с другими. Виндэкке настаивал на своем: — Вы должны решить это сейчас. У нас нет в запасе ни дня, ни часа. Возьмем хотя бы сегодняшнее отречение. Я не верю в него. Черт знает, чтó кроется за этим отречением. Казалось, Аммеризи был занят игрой света на гранях своего смарагда, который он покачивал перед свечой. Потом Аммеризи слегка подкинул его, поймал и крепко сжал в ладони: — Ладно. Рискую. Принимаю ваше условие от имени остальных. Однако у нас тоже есть одно условие. Виндэкке поднял брови: что нужно от него этому живодеру? — Обещайте, что вы любыми средствами уничтожите чешского еретика! Виндэкке едва не поперхнулся от удивления. Может быть, Аммеризи не меняла, а кардинал? Как бы то ни было — надо прежде всего наброситься на этого чеха. Условие удивительно выгодное. Сейчас не время для размышлений. — Разумеется, я принимаю это условие и обещаю полную поддержку со стороны римского короля. Теперь договорились обо всем? — спросил он и нетерпеливо протянул итальянцу руку. Пожав руку Аммеризи, Виндэкке вернулся к прежней мысли: — Простите, может быть теперь вы объясните мне, почему вас беспокоит Гус? Давно ли вы стали интересоваться церковью и ее спорами? — Церковью? — улыбнулся Аммеризи. — Вы ошибаетесь, друг. Мы интересуемся только торговлей и ее будущим! — В таком случае я не понимаю, какая здесь связь… — Более серьезная, чем вы думаете, — прервал его Аммеризи. — В наше время хороший купец должен отлично разбираться во всем, в том числе и в богословии. Можете представить себе, какой удар нанесли бы турки венецианской торговле, если бы они в один прекрасный день приняли христианство и перестали бы брать в плен наших набожных паломников? Ведь венецианцы выкупают их из плена и продают родным. Впрочем, чтó это я говорю — «продают»? Освобождая, они посредничают между неверными и родственниками пленников. В этой сделке принимают любезное участие и особо радетельные монахи. Виндэкке не позволил велеречивому итальянцу уклониться от ответа на вопрос, который всё еще не выходил у него из головы: — Нет, позвольте! Какое отношение имеет Гус к вашей оптовой торговле? — Никакого. Но оптовая торговля имеет прямое отношение ко всему миру. От вас требуется немногое: исполнить обещание относительно Гуса. Аммеризи сжал руку в кулак и опустил большой палец вниз, — таким жестом древние римляне разрешали гладиатору-победителю убить своего противника: — Вы, кажется, так и не отведали моего греческого вина?
* * *
Ночью небо над Констанцем затянулось тучами. Не было видно ни звездочки. Со стороны озера дул легкий, теплый весенний ветер. Черт возьми, отчаяние, сожаление, злость и тоска одиночества прямо-таки распирали грудь господина Волькенштайна. Разве его участь могут облегчить золотые монеты, которые звенят у него в кармане? Нет, на этот раз за свои сообщения ему хотелось совсем другого. Он желал, чтобы Сигизмунд купил ему… Олимпию. Римский король пообещал ее рыцарю, но Олимпия была занята. Когда Волькенштайн заикнулся об этом, король высыпал на стол все дукаты, какие были у него в кошельке, и, задыхаясь от смеха, начал… утешать его! Как это угораздило Волькенштайна позариться на товар, который уже попал в чужие руки! Раньше она была в сильных руках, а теперь… теперь в еще более сильных! Сигизмунд, рыжий мерзавец, хохотал, как дьявол. Теперь она у него, бабника и ненасытного жеребца! Волькенштайн неистовствовал. Бешеная злоба ускоряла его шаги. Резкий ветер дул в лицо. Рыцарь уже поднялся на мост, который вел в предместье Петерсхаузен. Он оперся на перила и тяжело вздохнул. Озеро было черное, как деготь, — его воды незаметно сливались с темными берегами. Было слышно, как ветер гнал волны к мосту и колесам водяных мельниц. Рыцарь стоял и чувствовал, как ночная мгла окутывает его. Только глубоко в душе еще теплился маленький уголек. Он почувствовал себя беспомощным, как обманутый ребенок. Слов нет, было от чего беситься и сходить с ума. Черт побери! Это выше человеческих сил и понимания. Упустить такую девку! Такую девку! Рыцарь тосковал по ней. Он знал столько женщин, а тут… Слишком необычно было у него на душе. И это чувство вызвала в нем, человеке, не раз обрызганном грязью, шлюха! Но если бы всё дело было только в этом! Любви безразлично, кого выбирать и чем опьяняться. Любви… Это слово почему-то смутило Волькенштайна. Впрочем, стóит ли думать об этом? Разве есть кому-нибудь дело до того, что он неожиданно открыл в себе столько красоты, столько богатства! О, если бы Олимпия понимала, что настоящая любовь гораздо ценнее того золота, которое она получила и получит от этих скотов! Рыцарь засмеялся, подумав, что он мог бы теперь предложить ей вместо денег свою любовь. Чем больше он хохотал, тем злее становился его смех. В этот момент он почувствовал, как чья-то рука юркнула под его локоть и дешевые духи пахнули ему в лицо. — Идем со мной! — сказала женщина молодым, но хрипловатым голосом. — Я развеселю тебя. Иди, не пожалеешь. Да, господин Освальд фон Волькенштайн не пожалеет, ему нечего больше жалеть. Свет — полон свинства и грязи. Эта баба не хуже той… Да и сам он такой же негодяй. — Что ж, идем!.. — И рыцарь одной рукой подхватил проститутку, а другойосторожно прикрыл карман.* * *
В ту ночь, как до нее, так и бог весть сколько ночей после, узник доминиканского монастыря прохаживался по своей камере. Он то спал, то смутно грезил, то бодрствовал, то погружался в глубокое размышление. Узник готовился к своей последней схватке, когда ему придется защищать свои мысли. Такая схватка неизмеримо труднее, чем борьба за жизнь и за свободу. Он не имеет права отказаться от выступления на соборе. Это было единственное, что еще сознавал Гус. Магистр постепенно привык к этой мысли и всё свое время уделял речи, которую должен произнести на соборе. Слова уже давно сложились в фразы, а фразы — в суждения и заключения. Эти слова, фразы и суждения магистр услышал из уст тысяч людей, которые собирались вокруг нею под крышей Вифлеемской часовни и под небом южной Чехии. Его идеи должны разбудить совесть мира… Магистр сидит в каземате, в кандалах, но его свободный, неукротимый дух борется денно и нощно, в бдении и во сне… (обратно) (обратно)Роза и перец
Город охватила тревога. Ее принес мартовский ветер, насыщенный ароматами пробуждающихся полей и лугов. Пряный воздух заставлял каждого глубже дышать, ускорял кровообращение, обострял зрение, а влюбленных делал развязными. Улицы и площади заполнились торговками. Многие из них продавали любовные зелья. В темных уголках, прячась от глаз городского надзирателя, сидели мудрые старцы, всегда готовые извлечь из своих тиглей философский камень. По таинственному сигналу потайными дверями к ним впускались те, кто желал за свои дукаты узнать секрет превращения обычного металла в золото. По ночам затевались драки на улицах и в трактирах. Рыбаки Боденского озера вылавливали сетями утопленников — убитых или самоубийц. Часть констанцского кладбища, отведенная для грешников, наложивших на себя руки, покрылась свежими буграми. Весеннее волнение охватило не только гуляк, карманных воров и уличных бродяг. Оно проникло во дворцы, людские, мастерские, винные погребки, канцелярии и оттуда — в трапезные и альковы знатных особ. Люди подходили друг к другу, склоняли головы, таинственно шепча что-то, но тотчас умолкали, когда мимо них кто-нибудь проходил. Шпионы Сигизмунда не спускали глаз с дома, где жил Фридрих Тирольский. Герцог почти никуда не выходил. Он развлекался, принимая гостей, и без просыпу пьянствовал. Его забавы не вызывали никаких подозрений. Сигизмунд от души веселился, выслушивая отчет о скудных по изобретательности радостях этого по-мясницки грубого герцога. Его фантазия вполне удовлетворялась тем, что могли предложить ему публичные дома Петерсхаузена. Визиты Фридриха к папе скоро прекратились. Как ни странно, Иоанн XXIII углубился в себя и уединился в своем дворце, — поведение папы казалось очень подозрительным. По городу, точно пчёлы, летели слухи о том, что повар Сигизмунда попался, когда по наущению папы сыпал яд в кушанья своего господина; что в Констанц понаехала уйма переодетых чехов, которые хотят освободить из тюрьмы своего земляка-еретика; что сегодня ночью сбежал папа; что готовится избиение всех его сторонников; что стража Сигизмунда зарубила палашами молодого эфиопского посла, схваченного в постели королевы Барборы; что на доминиканский монастырь слетелось множество сычей и сов, которые своими криками разбудили монахов. Особенно широко распространялись слухи, которые порочили папу и его кардиналов. Это привело к тому, что часть приверженцев папы собрала вещи и покинула город. Слухи разносили всякие ловкачи, которые ничего не брали за свой товар с его любителей. Сигизмунд решил спутать карты. Он посетил Иоанна XXIII и герцога Фридриха и заговорил с ними об этих слухах. Сигизмунд назвал их бессмысленной болтовней. Сплетники — близорукие люди. Они низко ценят мудрость папы! Святой отец никогда не поступит безрассудно, не станет мешать собору. Тот, кто совершит нечто подобное, навлечет на себя гнев христианского мира и грозный отпор римского короля. А тому, кто окажет помощь такому человеку, придется проститься с головой. Иоанн XXIII и Фридрих Тирольский с невинными лицами выслушали угрозы римского короля, словно он говорил о вещах, которые их не касались. После этой встречи папа решил показать, что он продолжает оставаться полновластным главой церкви и что его отношение к римскому королю нисколько не изменилось. В середине поста, во время воскресной мессы «Laetare»,[490] папа заявил о своем желании вручить золотую розу тому, кто обладает нравственной чистотой и непорочностью. На торжественный обряд папа пригласил римского короля со всем двором, духовных сановников и светских послов. Мартовское солнце выманило людей на улицы. Шумная, пестрая толпа заполнила их. Людские потоки и ручейки двигались к кафедральному собору. Там ожидалось интересное зрелище. Всё пространство перед храмом было свободным. Городская стража не позволяла занимать его. По нему двигались пешеходы, всадники на конях и мулах, носилки со знатными особами. За кордоном стражи толпились любопытные. Перед ними шагали кардиналы, архиепископы, епископы и аббаты, одетые в пурпурные сутаны, бело-золотые ризы, с кардинальскими шапочками на голове, завязанными у подбородков бахромчатыми шнурами, в остроконечных митрах, профессорских беретах, с золотыми цепями вокруг шеи, и дворяне — в вязаных, тесно облегающих ноги штанах, в башмаках с носами-клювами. Рукава у кафтанов были с прорезами и вздувались. На рукавах, окаймленных мехом, блестели вышитые гербы. Дворяне, особенно имперские, были в латах. Французские латники заменили свои шлемы беретами из ткани или мягкими шляпами с козырьками и страусовыми перьями. Еще пестрее выглядели иноземные послы. Могучие фигуры русских привлекали внимание своими долгополыми выдровыми шубами с серебряными застежками на груди и собольими шапками, расширявшимися кверху. Металлические прутья, украшенные птичьими перьями, делали польских рыцарей похожими на огромных хищных птиц. Строгих светловолосых шведов легко было заметить по их меховым шапкам с несколькими остриями. Члены Тевтонского ордена, одетые в броню с головы до пят, в гладких шлемах, похожих на вёдра с отверстиями для глаз, напоминали ожившие металлические статуи, наряженные в белые плащи с огромными крестами. Любопытная толпа заволновалась, когда появился эфиопский посол в белоснежном тюрбане, украшенном хвостом райской птицы. Глаза посла лениво щурились, а в самых уголках их ярко поблескивали белки. У женщин захватывало дыхание, когда знатный дикарь глядел в их сторону. Он что-то не походил на человека, зарубленного палашами! За эфиопами двигалось посольство великого султана Марокко. Гляди-ка, настоящие мавры! А кто эти усачи с орлиными носами и кожей желто-воскового цвета? Говорят, они из далекой Сирии. Где она? Сколько золота на сирийцах, оно даже в их ушах! Герцоги и воеводы приехали со своими свитами. Последними прибыли папа и Сигизмунд с Барборой. Люди, — по крайней мере те, что стояли впереди и имели достаточно места, — опустились на колени и начали кричать: «Слава!» Святой отец и римский король вошли в храм. На башне зазвонили колокола, а с хоров раздались протяжные, торжественные звуки оргáна. Когда главы христианства сели на свои троны, оргáн замолк и с хоров зазвучала чудесная музыка. Те, кто разбирался в ней, навострили слух. Большой оркестр! Да, большой оркестр в церкви. Видно, Иоанн XXIII не поскупился! Основную мелодию вели струнные инструменты — тимпанон,[491] цитра, крыло алла богемика[492] с двойными скрещенными струнами и пять лютен. К ним мягкими голосами присоединились скрипичные фидулы,[493] роты[494] и басовитая тромба марина.[495] Сверху лилась легкая, нежная мелодия, в которую лишь изредка вступали более звонкими голосами тромбоны, серебряными звуками — рожки и мягкими тоскливыми звуками — рога. Потом хор спокойно запел торжественный фобурдон,[496] в котором особенно выделялись могучие басы. Под сводами храма звенела чудесная гармония звуков. Она вполне соответствовала пышному убранству церкви и навевала высокие, неземные мысли. Потом мелодия замерла. Иоанн XXIII встал с кресла и направился к алтарю. Высокая белоснежная тройная тиара с блестящим золотым конусом плавно покачивалась в такт шагам папы. Он взошел по ступеням на алтарь, окинул взглядом присутствующих и поднял правую руку. В блеске свеч засверкала большая золотая роза с вычеканенной чашей цветка, стебельком и листьями. Неожиданно зазвенели гроздья маленьких серебряных колокольчиков, укрепленных на шестах. Ими покачивали в воздухе министранты. Все опустились на колени, как при возношении святых даров. Папе подали кропильницу, и он, сотворив крестное знамение, окропил золотую розу святой водой. Освященная роза должна была достаться тому, кто обладал добродетелями, знатным происхождением и властью. Искры надежды загорелись в глазах многих герцогов и кардиналов. Взгляд папы задержался на одной точке. Все повернулись туда, куда смотрел Иоанн XXIII. Он еле заметно кивнул, — и римский король, оставив трон, направился к алтарю. Сигизмунд подошел к святому отцу и опустился перед ним на колени. — Прими, сын, — зазвучал голос папы в замершем храме, — этот символ чистоты и непорочности, как знак того, что именно ты признан нами лучшим христианином. Ты более других заслуживаешь этого звания. Твоя мысль и твое сердце чисты, как чисто золото этой розы. Ты заслужил ее всей своей прожитой жизнью. Стань ее достойным обладателем! Благословляю тебя во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Король опустил голову к самому полу, поцеловал туфлю папы и вернулся на свой трон, держа розу как святыню. Под сводами собора зазвонили колокола, и храм огласился пением. Началось пышное богослужение. Папе хотелось знать, что думает сейчас римский король. Сигизмунд всё время глядел на золотую чашу освященного цветка. На его спокойном лице не светилось никакой мысли. Некоторое время спустя слегка вздрогнули его веки, — Сигизмунда жег чей-то пристальный взгляд. Римский король поднял глаза и увидел Барбору. Она смотрела на него своими большими яркими глазами. В глубине их горели насмешливые, ехидные огоньки. Сигизмунд еле заметно улыбнулся и наклонил розу в ее сторону. Да, для Барборы этот символ чистоты и непорочности в руке мужа — поистине забавное зрелище! Сигизмунд ответил ей не менее зло: притворившись сосредоточенным, он показал глазами в сторону алтаря, где сидел эфиопский посол в белоснежном тюрбане, и поглядел на Барбору смеющимся взглядом.После мессы все вышли из храма и образовали большую процессию. Папа отправился в свой дворец, чтобы принять там Сигизмунда. Римский король не спешил, — он решил проехать по городу и показаться своим подданным с золотой розой. Во главе процессии двигались верхом на конях двадцать три тромбониста и сорок трубачей. За ними ехал римский король на белом жеребце. В руке он держал розу, стебель которой был завернут в золотую ткань. Потом следовали носилки Барборы и знатные всадники со своими свитами. Процессия людей в пышной одежде и с оружием, в блеске золота и в перьях, ползла, как змея, по улицам и площадям, заполненным народом. Люди снимали шапки и показывали на процессию пальцами. Чтобы каждый мог разглядеть дар церкви, Сигизмунд держал розу в слегка приподнятой руке. Не так-то уж плохо ехать по улицам с новым знаком величия! Сигизмунд милостиво улыбался, войдя в свою роль ласкового государя. Золотой цветок, думал Сигизмунд, — новая форма взятки. Папа вручил ему розу после того, как он, Сигизмунд, отверг взятку в двести тысяч дукатов. На этот раз папе повезло: он подловил Сигизмунда, и римскому королю волей-неволей пришлось принять его дар. Иоанну XXIII удалось показать всему миру трогательное согласие между римским королем и папой. Наконец процессия добралась до папской резиденции. Довольный и надменный, Сигизмунд спешился и быстро поднялся на балюстраду. В этот момент открылись двери, ведущие на балкон, и в них вошли епископ в высокой позолоченной митре на голове, с большим крестом в руке, два епископа с горящими свечами и шесть кардиналов в алых плащах. Все они остановились под арками балюстрады и расступились, чтобы освободить место для папы. Иоанн XXIII медленно подошел к перилам балкона. Он опустил руки на протянутую ему вытканную золотом подушечку, и большой драгоценный камень, украшавший средний палец его правой руки, ярко заблестел. В сгущающихся сумерках папские певчие зажгли десятки факелов, и балкон превратился в огненный грот. Папа запел: — Sit nomen Domini benedictum![497] Могучий хор не замедлил ответить: — Еx, hoc, nunc et usque in saeculum![498] Казалось, перед толпой стоял не Иоанн XXIII, а папа — пастырь, властитель душ, наместник Христа, царь царей, живое божество, бессмертный человек с ореолом святого. Люди опустились на колени и начали креститься. Их глаза увлажнились от изумления и восторга. Все, кто еще минуту назад передавал из уст в уста слухи и сплетни о папе, кто всю жизнь ругал его за взимание десятины, кто возмущался ненасытностью своего декана или распутством приходского священника, кто отлично представлял алчность, хищность и жестокость служителей божиих, в один миг затаили дыхание. Люди были поражены блеском золота, который искони ослеплял и подавлял их. Папа высоко поднял левую руку и начертал ею в воздухе три больших креста: — Benedicat vos Pater et Filius et Spiritus sanctus![499] Хор громко ответил: — Amen! [500] В левой стороне балюстрады стоял Забарелла. Отсюда ему были видны и лицедеи, стоявшие на балконе, и зрители, собравшиеся перед дворцом. Кардинал был восхищен великолепием зрелища, протекавшего в духе традиции. Как же ошеломляет и подавляет пышность обрядов бедняков, собравшихся внизу! Разве не ослепит их мысль об исконности власти и величии божественного предназначения? Эти два великих притворщика неплохо играют свои роли! Забарелла взглянул на папу. Ему пришлось признать, что старый Бальтазар Косса умеет перевоплощаться. Сегодня папе не мешало даже присутствие Сигизмунда. Когда огни на балюстраде погасли, волшебные чары распались. Забарелла усмехнулся. Благодаря своему цинизму он устоял перед волшебством этого обряда. Великолепие обоих величеств, как блеск золотых истуканов, выставленных напоказ, потускнело. Эти истуканы ожили и направились к выходу. Сигизмунд задумался. Час назад, проезжая по улицам Констанца, он и впрямь чувствовал себя повелителем мира, настоящим императором. А сейчас перед Сигизмундом маячила сгорбленная спина старого плута, который почти весь день пользовался им в своих интересах. Встретившись взглядом с папой, Сигизмунд прочел на его лице откровенное удовлетворение и злорадство. Римский король перевел глаза на розу и задумался, — ему было жаль расставаться с нею. Прикинув на глазок, сколько можно получить за этот цветок, он вздохнул. Человеку не часто попадает в руки вещь, которую он может выгодно заложить! Но… Ничего не поделаешь… Сигизмунд осмотрелся и подозвал прелата, который стоял к нему ближе других. Он спросил, как его зовут. Этот прелат оказался деканом констанцского кафедрального собора. Сигизмунд улыбнулся и нарочито небрежно вручил ему золотую розу как дар римского короля на главный алтарь девы Марии. От изумления у декана опустилась нижняя челюсть. Сигизмунд посмотрел на Иоанна XXIII. Папа побледнел и до боли закусил губы.
В воскресенье после обеда улицы Констанца необычно оживились. В этот раз основной поток людей двигался через Тургаусские ворота на Райские луга, расположенные за крепостной стеной. Да, Констанц уже сыт по горло праздниками. Но сегодня ожидается удивительное зрелище. Фридрих, герцог Тирольский, созвал сюда всех прославленных рыцарей. На турнир прибудет император со своим двором. Целую неделю плотники сколачивали трибуны для благородных зрителей, а в субботу на лужайке за трибунами начали натягивать громоздкие длинные палатки для рыцарей, — после состязаний они смогут сразу же усесться за стол. Господи, сколько вчера было убито скота! Почти всю ночь потели повара у своих печей и жаровен. Поваренок Фрицль, — он попал на кухню герцога по особому благоволению господина Венедиша, управляющего оптовыми складами полотняных товаров купца Мундпрата, — принес в субботу вечером перечень блюд, которые будут подаваться на пиршестве. Все соседи сбежались к Фрицлю и стали слушать его с благоговейным трепетом. Первая перемена: яичный суп с шафраном, перцем и медом, гречневая каша, баранина с луком, жареная курица с тушеными яблоками. Вторая перемена: сардинки в масле с изюмом, жареный гусь со свеклой, тушеный угорь в перечном соусе, жареная сельдь с горчицей. Третья перемена… — Фрицль, перестань шутить… — пугались слушатели. А поваренок спокойно продолжал: — …маринованная рыба с яичным салатом и петрушкой, запеканка из дичи в сале, пармская селедка, свиной окорок с огурцами, студень с миндалем, омлет с медом. Все расхохотались. Боже, ну и желудки у господ! Как только эти кушанья не лезут обратно через уши! — Я хотел бы посмотреть, — сказал один шутник, — с какой порцией не справятся папа и император Сигизмунд! Они готовы за один присест слопать весь мир.
* * *
Люди, хлынувшие после обеда за городские ворота, думали только о развлечениях. Ходили слухи, что герцог Фридрих приказал привезти тирольское вино, которое будет разливаться бесплатно. Это вино ускорило шаги многих людей. В воротах была давка. За воротами толпа веерообразно расходилась к палаткам, поставленным на лужайке. Люди рыскали, выискивая бочки с вином. Хотя лужайка была уже заполнена, новые люди не переставали подходить. Они обступили наскоро сбитые ларьки и столы с кушаньями. В праздник нет ничего приятнее, как хорошо поесть. Настроение сильно поднялось, когда слух о дармовом вине подтвердился. Лужайка мигом поредела и посветлела, — на ней запестрели яркие и светлые женские платья. Мужчины, как мухи, облепили шинкаря. Зато у их подруг, невест и жен теперь появилось время поглазеть на товары, выставленные в палатках. В ловких пальцах зазывал переливались венецианский шелк, луккский бархат, ниспадала пышными складками тяжелая сребротканая парча. От соседнего прилавка доносился запах розового масла, а немного подальше коричневый язычник разложил пряжки чудесной чеканки! А еще… Что и говорить! Здесь продавались настоящие бургундские корноуты. Женщины с досадой поглядывали на рощицу. Там их мужья очищали свои карманы и кошельки, покупая к вину закуску, которую никто не давал даром. На лужайке зазвучала музыка, приглашая к танцу. Волынщики и барабанщики выбрали такую минуту, когда молодые люди уже успели утолить жажду. Юноши и девушки встали в круг. Положив друг другу руки на плечи или обняв за талию, они двигались то вперед, то в сторону.Ты, милашка, словно пташка, —
От меня лететь не смей!
Будь женою — мы с тобою
Кучу вырастим детей!.. —
В моей клетке — прутья редки.
Ключ потерян золотой —
Мой милочек-голубочек,
Не останусь я с тобой! —
Заходящее солнце уже бросило свои косые лучи на расшитый золотом балдахин папской спальни. Сегодня Иоанн XXIII, против обыкновения, бодрствовал днем. Папа сидел в кресле. Фелипелло разложил перед ним кучу грязного тряпья. Папа нашел в ней длинную грубую куртку с серым капюшоном, залатанные штаны, широкий пояс из толстой кожи и запыленные грубые сапоги с отворотами. Пажу достался такой же, меньший размером, костюм. Он нашел в тряпье тяжелый арбалет. Мальчик с недоумением и испугом поглядывал то на странную одежду, то на папу. Иоанн XXIII наклонился и брезгливо, кончиками пальцев, потрогал край куртки. Она пахла потом и грязью. Фу!.. Лицо папы искривила гримаса отвращения. Он быстро встал: — Одень меня!.. Фелипелло принялся одевать своего господина. Папа спросил: — Надежен ли этот человек? Еле сдерживая слёзы, мальчик ответил: — Видит бог, ваше святейшество! — Кто он? — Его имя Кристоф. Он конюх, достойный и набожный человек, преданный вашему святейшеству. Я долго наблюдал за ним. Своим поведением он снискал мое доверие. Сбросив с себя белоснежную одежду, папа, как старый вояка, переоделся в серую потрепанную куртку и прицепил к ремню арбалет. Лицо Иоанна XXIII скрылось в тени капюшона. Фелипелло взглянул на папу и заплакал. Святой отец грубо оборвал его: — Переоденься и ты. Живо!..
Толпа на лужайке пришла в движение. Фанфары возвестили о начале турнира. Люди придвинулись к низким загородкам, окружавшим турнирную площадку с трех сторон. На четвертой виднелись ступенчатые трибуны, установленные для королевского двора и знати. Люди показывали на Сигизмунда, Барбору и Фридриха Тирольского. Последний, как устроитель и распорядитель торжества, сидел слева от Барборы. Фридрих был явно в ударе. — Окажись на его месте, я бы с ума спятил! — смеялся крестьянин Фюссли. — После сегодняшнего турнира у Фридриха в кармане будет пусто, как у меня в амбаре весной. Ну а те, что сидели на трибуне? Обычные расфуфыренные чучела в латах и нарядных женских платьях! Боже, сколько понаехало сюда дармоедов! — Во всей империи нет столько денег, сколько у них в карманах. В это время за ограду въехали первые всадники. Герольд прокричал их имена и титулы. Всадники держали турнирные копья, обвязанные паклей. Ну да, эти голубчики боятся поколоться! Стало быть, будет одна толкучка. Копья ударили по щитам и нагрудным пластинам… — Один готов! — воскликнул молодой подмастерье, радостно разведя руки. Слуги окружили побежденного рыцаря в латах, беспомощно лежавшего на земле, и помогли ему подняться. К ногам рыцаря-победителя посыпались цветы и платки, а одна дама бросила ему свою перчатку. Интерес зрителей к турниру постепенно слабел. Какой в нем прок, если у рыцарей нет ни острых мечей, ни острых копий! Турнир проходил с оглядкой на собор. Церковь не любит настоящих поединков. Бог весть, почему они так коробят ее. Людей больше забавляло то, как слуги и конюхи поднимают на коней господ, закованных в латы. Неподалеку от площадки, на которой рыцари готовились к выезду, стоял высокий бревенчатый треножник с блоком. Через этот блок был пропущен канат. Рыцаря в лагах поднимали крюком, привязанным к канату, и, пока слуги подводили коня, их господин беспомощно висел на веревке, напоминая большую колбасу. — Пусть он там поболтается! Во второй половине дня, когда жара спала, наступил черед для нового состязания. На ездовой дорожке была установлена виселица, а с ее перекладины свисала веревка с венком. Всаднику нужно было проскакать галопом под виселицей и уколоть венок копьем. Победителем окажется тот, кто больше проколет венок. Первым решился попытать свое счастье устроитель турнира, Фридрих Тирольский. Он вызвал на состязание молодого шурина римского короля, графа Цельского. Юный рыцарь легко одержал победу. Люди стали смеяться над герцогом. Он подошел к королевской чете, что-то сказал ей и, простившись, уехал. — Пошел готовить ужин. Он будет помогать твоему Фрицлю, — хихикнул сосед матери маленького поваренка. Люди начали отходить от барьеров. Трубачи весело заиграли. Возле бочек скопилась уйма людей. Натанцевавшись вволю, парни подводили к бочкам своих подружек и угощали их вином. Сумерки сгущались. Воздух казался более теплым, а может быть, люди согрелись от вина, толкотни и танцев. Рощица была забита людьми. В тени деревьев то и дело появлялись парочки. Не найдя уединенных уголков, они усаживались рядом с незнакомыми людьми. Перед влюбленными была тьма, позади — тьма, и в этой тьме они — одни… Легко и свободно ехалось в этот вечер по улицам Констанца. Кристоф, слуга Рунтингера, сегодня нуждался в этом больше, чем когда-либо. Он то и дело пришпоривал коня, бойкого рысака из папской конюшни, и остановил его только перед самым трактиром «У золотого колеса». Господина Рунтингера на месте не оказалось, а двое слуг, которые остались с Тюрли и не пошли пьянствовать на Райские луга, не знали, где их постоялец. Кристоф оставил папского коня в конюшне трактира, а сам почти бегом отправился на Райские луга. Спешное сообщение, которое нужно было передать Рунтингеру, прямо-таки подгоняло Кристофа. Если он передаст сообщение с опозданием — прощай его заработок, тогда Кристоф не получит пяти дукатов. У торговых палаток ему незачем искать своего господина. Что стал бы делать там негоциант? Только бы он не затерялся в этой толпе с кем-нибудь из знакомых! Тогда Кристофу — боже упаси! — придется гоняться за Рунтингером до самого утра! У опушки рощицы Кристоф увидел людей. Он подошел к ним. Кристоф всматривался в лица пьяниц, а те грубо кричали на него или приглашали чокнуться с ними. Он пил вино на голодный желудок до тех пор, пока не охмелел. Огоньки двоились в его глазах. Люди казались парню похожими на Рунтингера. Кристоф споткнулся о чужие ноги и упал. До его слуха донеслись грубые ругательства и женский визг. — Еще один нализался, — сказал кто-то рядом. Кристоф изо всех сил старался прийти в себя. Он кряхтел, вздыхал и бессмысленно пялил глаза. Сосед добродушно хлопнул его по спине: — Ничего, браток, всё пройдет! Еще до свадьбы!.. Больше им никто уже не интересовался. Мужчины продолжали свою беседу. Кристоф старался не заснуть. Он дремал. До его слуха доходили какие-то бессвязные слова: — …возил я камень всю неделю, а ничего не заработал. Наверно, пойду с детьми по миру. — …а я однажды уронил топор в колодец. Потом весь год копил деньги на новый. Даже жрать боялся. Вот с тех пор я и батрачу. — …как только окончится это светопреставление, мы будем делать то же, что делали. — Ну, нет, топора-то у меня уже не будет. — Надо каждому иметь по топору. Знаешь, для чего? — Потише, а то услышат… — …когда он благословлял нас, я сосчитал перстни у него на пальцах. — …да, да, если хорошо пропарить, можно слопать… Я вот однажды выкопал дохлую собаку, с нее уже шерсть слезла. А моя старуха говорит… — …да, легко сказать — заявить о своих правах. Пока не принесешь две копы грошей, свидетеля не допустят на суд. Справедливость существует только для богачей. — …видишь ли, я могу дать ему по носу, притопнуть ногой и сказать: «Эй, господин меняла, разменяй мне это серебром!» Кристоф вздрогнул от одного слова! Господи, как он не догадался сам! Где же еще искать ему своего господина, как не у менялы! Он схватился за траву, потянул ее, встал на колени, а потом во весь рост: — Друзья, где здесь… где можно увидеть менялу?.. Люди с удивлением посмотрели на него. — Я ищу господ… ну, господ менял, — объяснил Кристоф, — вы только что упоминали о них. Соседи засмеялись: — Среди нас ты таких не найдешь. Все шишки вон там, в белых шатрах. Передохнув и отрезвившись, Кристоф побежал к шатрам.
Матиас Рунтингер сидел на краю лужайки, в небольшом шатре, дружески беседуя с Аммеризи и Бартоломео де Барди. Они говорили о ломбардской системе кредитов и займов, когда слуга сообщил Рунтингеру о прибытии неизвестного человека. Заметив у входа Кристофа, Рунтингер быстро подошел к нему, поспешно отвел его в сторону и недовольно буркнул: — Ну?.. — Папа переоделся и уехал со своим пажом. — Знаешь, куда? — Пальцы Рунтингера впились в плечо Кристофа. — Я сам вывел его на дорогу в Шаффгаузен. Господин Рунтингер потребовал коня и попрощался с собеседниками. Вскочив в седло, он помчался лугом. Животное лучше хозяина видело в темноте и легко скакало через тела любовников и пьяниц, лежавших на траве, через рвы и канавы. Кристоф, сидя позади Рунтингера и охватив его руками, молился за упокой своей души и мысленно прощался с женой и детьми. В трактире «У золотого колеса» поднялась паника. Куда-то исчез рыцарь Освальд фон Волькенштайн. Его уже не было ни в трактире, ни в городе. Рыцарь сказал… Рунтингер резко повернул коня, чуть не сбросив слугу, и поскакал назад. В кромешной тьме он не заметил надписи, только что намалеванной над дверями трактира и напрасно взывавшей к его гостям:
Да, господин фон Волькенштайн выполнил обещание, которое дал Тюрли. Поэт уехал из города со спокойной совестью, оставив в нем уйму денег и частичку своего сердца. Рунтингеру не повезло. Что делить? Он знал только одного из тех, кто был вхож к Сигизмунду, — Волькенштайна. Конечно, такую новость достаточно передать самому последнему писаришке короля… От усердия он сломает себе шею, а к Сигизмунду проберется. Впрочем, ему, Рунтингеру, незачем доказывать, что он первый узнал о бегстве папы и первым передал королю это известие. Купец не нуждается ни в королевском похлопывании по плечу, ни в какой-либо его награде. Он постарается вознаградить себя сам. Рунтингер вспомнил банкира Сигизмунда, Виндэкке, с которым его познакомил сегодня Аммеризи. Да, он пойдет к нему! Рунтингер искал Виндэкке недолго. Банкир нисколько не обрадовался тому, что его потревожили. — Не скажете ли вы, где сейчас тирольский герцог? — спросил Рунтингер банкира. Наморщив лоб, Виндэкке пристально взглянул на негоцианта и ответил: — Герцог был на турнире. Ему нездоровилось, он извинился, вышел и… гм… и больше не показывался. После этого им уже никто не интересовался… Рунтингер не дал банкиру договорить. Он коротко и ясно изложил всё, что сообщил ему Кристоф. Виндэкке тотчас помчался в шатер Сигизмунда. Наконец-то! Господин Рунтингер отправился домой. Негоциант шагал не спеша, с удовольствием вдыхая воздух, который к утру стал прохладнее. Рунтингер был доволен, как всякий хороший хозяин, который сделал всё, что мог. Кристоф следовал чуть позади. У слуги тоже было хорошее настроение. Его господин оказался благодарным: вместо обещанных пяти дукатов он дал десять! Рунтингер уже мало интересовался своим делом. Он отлично знал, чего хотел. Все остальное для него — пустяки. Почти у самых городских ворот мимо Рунтингера проскакала кавалькада. В свете факела, поднятого первым всадником, господин негоциант увидел римского короля. (обратно) (обратно)Красотки и деньги мелькнут, как во сне,А радость найдешь ты лишь в добром вине.
Западня
Как только забрезжил рассвет, венгерские латники грубо отогнали городскую стражу от ворот Констанца и заперли их. Город походил на потревоженное осиное гнездо. Уже рано утром все знали, что ночью несколько итальянских кардиналов и бóльшая часть папских военачальников, предъявив стражникам пропуска святого отца, покинула Констанц. Скоро стало известно и о бегстве самого Иоанна XXIII. Лавочники прятали свои товары поглубже в подвалы и запирали их на замки. Подальше от греха! Собор распался. Чернь стала точить ножи на горожан. Спасайся, кто может! На улицах, у запертых ворот теснились люди, готовые удрать из города куда-нибудь подальше. Сигизмунд решил как можно скорее восстановить порядок. Он вскочил на коня и, сопровождаемый пфальцграфом Людвигом, венгерскими всадниками и верховыми трубачами, появился в городе. Римский король останавливался везде, где скапливались люди, и объявлял, что собор не распался и продолжит свои заседания. Тому, кто выполняет предписания властей, нечего опасаться ни за свою жизнь, ни за свое имущество. А бунтовщики и распространители опасных слухов будут беспощадно наказываться. Виселица угрожает каждому, кто попытается покинуть город без разрешения властей. Торговцы, которые не откроют лавки и не выложат товары, будут лишены их. Угрозами, просьбами, а порой и острым словцом Сигизмунд успокаивал всполошившихся горожан. Рунтингер вышел из постоялого двора и с любопытством огляделся. В этот момент к воротам подскакал большой отряд королевских всадников, вооруженных до зубов. Рунтингер подошел к одному из них: — Куда вы, приятель? Латник оскалил зубы: — Вдогонку за глупым папой и тирольским озорником. Мы должны притащить их сюда за уши, как зайцев! Негоциант понимающе кивнул головой. Вернувшись домой, он сел писать письмо. Как только откроют городские ворота, Кристоф повезет его домой. «Дорогой сын! — писал Рунтингер-старший. — Побыстрее потребуй от купцов-клиентов тот перец, который мы выдали им на ограниченный срок. Жди моего нового распоряжения, когда и по какой цене продавать перец». Что добавить к этому? Ничего не надо. Купец с удовлетворением прочел свое коротенькое сообщение. Всего три строчки, а сколько в них смысла! Месяцы выжидания, напряжения, маленьких, еле заметных столкновений — всегда в нужное время! — крохотные семена, посеянные в пору. Теперь они, эти семена, взойдут и — слава богу — дадут богатый урожай. Господин Рунтингер улыбнулся, — он вспомнил разговор с Мельхиором. Сыну не нравится, когда цены на перец зависят от политики. Он предпочел бы как раз противоположное — зависимость политики от перца. «Вот видишь, сынок, мы дождались этого!»Сигизмунд вернулся во дворец усталым и охрипшим. Он не зря просидел на коне всю ночь и утро: горожане снова притихли. Бегство папы сильно взволновало чешских шляхтичей. В Констанц вслед за паном Вацлавом из Дубе приехали пан Лацембок, магистр Ян Кардинал — ученик Гуса и его университетский коллега, а также несколько чешских и моравских шляхтичей со своими свитами. Больше всех знал о Гусе пан Ян из Хлума. Он дольше всех прожил в Констанце и приложил много усилий, чтобы облегчить участь Гуса. Как только город успокоился, Ян из Хлума направился по делу магистра к констанцскому епископу. Тот только пожал плечами: Гус — узник папы, и его, епископа, это не касается. Узнав о бегстве Иоанна XXIII, начальник тюрьмы приходил сюда, чтобы передать ему ключи. Но для чего они епископу? Не пошлет же он своих слуг охранять Гуса?! Епископ передал ключи отцам собора. Те вернули их ему, — никто не знал, соберутся ли святые отцы теперь вообще: они заявили, что не желают иметь никаких дел с Гусом. Бывали такие дни, когда о тюрьме никто не беспокоился. Иногда в ней появлялись латники, присланные неизвестно каким кардиналом. Этих латников подменяли городские. Сейчас в доминиканском монастыре околачиваются наемные стражники. Епископ клялся, что не знает, кто они и откуда. Он принял единственно разумное решение: отправил ключи римскому королю. Пан Ян из Хлума не верил своим ушам. Что могло быть лучше такого сообщения? Стало быть, теперь Гус — да, это он ясно слышал — узник Сигизмунда, узник того, кто дал ему охранную грамоту и требовал, чтобы папа и кардиналы освободили Гуса. Противники магистра потерпели поражение: Иоанн XXIII удрал, а кардиналы растерялись. Чешские шляхтичи решили встретиться с Сигизмундом. Просители, стремившиеся попасть к нему на прием, беспрерывно осаждали секретаря имперской канцелярии. Одни приходили, другие уходили. Между ними сновали посыльные, начальники страж, отъезжавшие и только что прибывшие послы. Чешские и моравские шляхтичи тоже пробились к королевскому канцлеру, окруженному назойливыми просителями. Когда пан Ян из Хлума попросил аудиенции у короля, канцлер схватился за голову. Казалось, просители замучили его. К сожалению, нет ни малейшей надежды на то, что римский король примет их. Надо войти в его положение. Может ли он принимать просителей после того, что произошло сегодня! Ключи?.. Какие? Ах, от тюрьмы доминиканского монастыря? Да, их принесли и передали… Кому? Разумеется, передали тому, кому следует. Они, кажется, у начальника венгерской стражи. Его величеству это известно. Гус — в надежных руках. Канцлер даже помнит, что его величество приказал своим людям сегодня отправиться в монастырь. Достаточно ли это панам? Всё, что он сообщил им, — самые достоверные сведения… Ян из Хлума и его спутники с трудом выбрались из дворца. Сообщение канцлера, думали они, только подтверждает их законные надежды. Наконец-то, после более чем трехмесячного тюремного заключения, магистр выйдет на свободу. Да, он снова будет с ними, хотя это кажется невероятным. И всё же тревога за магистра не покидала их. Не помешает ли и не отдалит ли что-нибудь это неожиданное счастье? Шляхтичи повернули на улицу святого Павла. Магистру удобнее всего снова поселиться у госпожи Фиды. Надо поскорее приготовить ему жилье, — вечером они встретятся с магистром. Беспокойство чувствовалось и под крышей доминиканского монастыря. Оно проникало в келью Гуса. Обращение с узником неожиданно изменилось. Из подвала, отравленного запахами отхожего места, магистра перевели в просторное помещение и стали лучше кормить. Друзья сообщили ему, что это сделано не без вмешательства Сигизмунда. Узник начал быстро поправляться: боли в животе почти прекратились, и только по вечерам еще немного знобило. Гусу разрешили писать. Тюремщики аккуратно передавали ему письма друзей, и магистр был хорошо осведомлен о деятельности собора. До него дошли известия об отречении Иоанна XXIII и слухи, бродившие в городе. Последние три дня его немало беспокоило непонятное движение в монастыре и в тюрьме. Старые латники в одно мгновение покинули тюрьму, даже не успев проститься с ним, а новые, сменившие их, с такой же быстротой были заменены третьими. Хотя смена тюремщиков — с ними ему удалось сблизиться — огорчила его, она, несомненно, свидетельствовала о какой-то серьезной перемене к лучшему. Днем кто-то подсунул ему под двери маленькую записочку от Яна из Хлума. Он сообщал магистру о бегстве папы. В конце была приписка: «Дай бог нам встретиться сегодня на свободе. Римский король пошлет за тобой своих людей». Гус следил за тенью, как она удлинялась к вечеру. Магистр не думал сейчас ни о тюрьме, ни о сегодняшнем освобождении, ни о встрече с друзьями. Он был целиком занят мыслями о своей речи. Теперь магистр напишет ее лучше — логичнее и острее. Ему разрешили набросать тезисы и примечания. Даже тогда, когда его мучили лихорадка и острые боли, он писал письма друзьям — в город и на родину. Заковать его мысли в кандалы никому не удалось… Магистру хотелось знать, как строить выступление — в форме ученого диспута, принятого в университете, или в форме свободного изложения своих взглядов, — последняя для него была бы удобнее. Но он не видит никакой беды и в диспуте. Ему только следовало бы достать кое-какие книги, например свой перевод Библии и записи, оставшиеся в комнате у Фиды. Сохранились ли они у нее? Об этом ему надо узнать еще сегодня вечером. Лучи заходящего солнца постепенно угасали. В камере сгущались семерки. Но это не беда. Сегодня вечером он будет ужинать с друзьями. Уже совсем стемнело, когда возле камеры магистра послышались шаги. Гус быстро поднялся, собрал со стола свои записи и бумагу. Держа сверток в руке, он стал возле двери. Кто-то с той стороны открывал ее большим железным ключом. Двери распахнулись, и на пороге появилась могучая фигура венгерского гетмана. За его широкими плечами стояло, несколько латников. Гус облегченно вздохнул, — по одежде он узнал в них королевских стражников. Гетман подал знак, и Гус вышел на лестницу. За стенами монастыря он почувствовал холод приближающейся ночи. В городе то здесь, то там мигали факелы. Их пламя ярко сверкало на железных пластинах и шлемах латников. Гус шел в середине. Боясь подняться в седло из-за одолевавшей его слабости, магистр отказался от коня. Только сейчас он заметил, что стражники даже не потрудились снять с него кандалы. Ему пришлось взять цепь в руки, — она мешала ему идти. Магистр не мог понять, куда вели его латники. Скорее всего, к римскому королю. Вдали блестела вода. Боденское озеро? Нет, на темном горизонте вырисовывается мост… Тогда это — Рейн… Его вели к лодке. Сесть в нее Гусу помог гетман-венгр. Разве резиденция римского короля всё еще в Петерсхаузене? Гус попробовал заговорить с гетманом сначала по-немецки, а потом по-латыни. Мадьяр только пожал плечами. Он не понимал Гуса. Может быть, Сигизмунд поселился в каком-нибудь летнем дворце? Высоко над лодкой сияли яркие звёзды, излучая серебряный свет на широкую гладь воды. Долго ли они плыли, Гус не знал. Магистр думал о том, чтó он скажет Сигизмунду. Было бы хорошо, если бы римский король помог ему. Тогда никто не помешал бы ему — ни папа, ни кардиналы. Сейчас магистр целиком во власти Сигизмунда. Лодки одна за другой подошли к берегу. Причалили. Гус заметил на горизонте контуры какого-то большого замка. Над его крышами торчали большие башни. Гетман слегка коснулся руки магистра и произнес: — Готлибен… На берегу Гус снова оказался в окружении латников. Они повели его к воротам замка, а оттуда — в каменный коридор и на лестницу, до пятого этажа широкую и пологую, а затем узкую, винтовую. Спираль последней лестницы вела куда-то выше. Они забрались на самый верх и остановились. Перед магистром открылись двери большой круглой башенной камеры. Латник посветилфакелом. В камере стояли стол, стул и топчан с соломенным матрацем. Над постелью было прикреплено к стене большое железное кольцо с цепью. Латники подвели Гуса к топчану и надели на запястье правой руки железный наручник. После этого латники вышли, и за дверями щелкнул замок.
Уже два с половиной месяца Гус сидел в Готлибене, — два с половиной месяца к нему никого не впускали. Разрешалось входить в камеру только тем, кто продолжал допрашивать его. Ему снова запретили писать. Поскольку магистр оказался под охраной мадьяр, то он ни о чем не мог договориться с ними и всякая связь с внешним миром прекратилась. За окном неудержимо летело время, а в камере магистра оно остановилось. Два с половиной месяца Гус был слепцом со зрячими глазами и глухим со слышащими ушами. Он не знал, что наемные латники Сигизмунда задержали Иоанна XXIII и привезли в Констанц. Папа добрался до Брайзаха. В последнюю минуту, когда он собрался перебраться на французский берег Рейна, его схватил тирольский герцог. Желая спасти свои земли от нашествия войск Сигизмунда, бывший союзник Иоанна XXIII решил искупить вину перед римским королем и предать папу. Тиролец просчитался: римский король отнял у него все владения и присоединил их к своим. Гус ничего не знал об этом и не мог даже подумать, что вместе с ним, под одной крышей, сидел и папа. Магистр ничего не знал о своем деле. Ему никто не сообщил о том, что сюда прибыл умный, ловкий и отважный человек, его самый верный друг — Иероним. Богослов, юрист и дипломат, магистр Иероним объездил за свою жизнь полсвета. Он не боялся ни прелатов, ни королей: спорил с архиепископом, учеными Сорбоннского и Венского университетов, с самим Римом. Прибыв в Констанц, Иероним сразу сообразил, что ему не удастся помочь Гусу. Он решил вернуться в Чехию и действовать оттуда. Переодевшись в платье путешественника, Иероним отправился домой, но у границ Чехии был опознан стражником. Гус не знал, что его друг теперь такой же узник, как он сам. Магистр Ян не знал и того, что собор торжественно осудил сочинения английского доктора Джона Виклефа. Осуждение учения Виклефа было равносильно приговору самому Гусу. Гус ничего не знал о том, что в Чехии всё больше и больше людей причащались из чаши.[501] Его земляки проклинали Сигизмунда. Шляхтичи и земские чиновники Чехии и Моравии писали петиции и протесты, ставили на них свои печати и отправляли в Констанц. Это не могло не беспокоить Сигизмунда. Ему пришлось сделать уступку чехам и объявить, что процесс Гуса будет публичным. Магистр считал дни и недели. Он думал и ждал, ждал и думал только о… процессе. С утра до ночи — даже во сне — его мысли были заняты диспутом. К счастью, магистр не знал, что дʼАйи и Жерсон уже договорились о порядке ведения процесса. Магистр не знал основного тезиса Жерсона: в споре с еретиком нельзя принимать во внимание никакие доводы разума, ибо еретик ложно обосновывает свои взгляды. «Говорить будет не он, — заявил дʼАйи, — а мы. Мир должен услышать из уст Гуса только одно слово: „Отрекаюсь!“». Тюремщики опять стали более мягкими, — они позволили магистру больше двигаться. Он мог гулять по коридорам нижних этажей замка. Несколько раз магистра навестил лекарь, расспрашивал его о здоровье и предложил ему пустить кровь. Гус не мог понять, почему тюремщики снова стали заботиться о нем. Он быстро поправлялся, и на его щеках исчезли глубокие впадины. Скоро Гуса перевели в город и поместили во францисканском монастыре, где происходили заседания генерального совета собора. Здесь предполагалось публичное слушание дела Гуса. Магистр оставался под зорким присмотром. Ему отвели просторную светлую келью с мягким ложем. Сохранялось лишь полное одиночество. Во имя правды магистр готов был пожертвовать всем, даже жизнью. Его выступление на святом соборе не за горами! (обратно) (обратно)
СУД
(обратно)
Процесс
Просторный рефекторий[502] францисканского монастыря был заставлен скамьями и стульями, собранными из всех помещений. Кресло аббата, предназначенное для римского короля, привлекало всеобщее внимание. На правой стороне, в центре, было отведено место для председателя комиссии по делам вероисповедания и руководителя заседаний кардинала дʼАйи. Рядом стояло кресло Забареллы, — он со своими писарями будет вести протокол заседания. Высокие окна, пробитые в обеих продольных стенах рефектория, впускали много солнечного света. Золотистые лучи играли на плащах, мантиях, рясах, сутанах прелатов и пышной одежде дворян. Одни усаживались на скамьи, другие прогуливались, третьи собирались группами и беседовали. В рефектории было шумно. Гул голосов умолкал только тогда, когда входил какой-нибудь важный прелат — архиепископ или кардинал. Вдруг солнечные лучи исчезли. Все с недоумением и страхом уставились на окна, и вскоре наступила полная тишина. Люди оцепенели. Яркий свет пожелтел, а потом стал сумеречным. Затмение солнца!.. Кое-кто начал креститься. Зал рефектория погрузился во мрак. Неожиданно открылись двери, и в рефекторий вошел дʼАйи в сопровождении Забареллы. ДʼАйи спокойно и равнодушно уселся в свое кресло и занялся бумагами, лежавшими на низком пюпитре. Лениво подняв голову, дʼАйи взглянул на людей, сидевших у противоположной стены, заметил там Жерсона и обменялся с ним поклоном. Мрак начал постепенно рассеиваться. Заметив спокойствие кардинала, люди осмелели. Прелаты закричали: — Знамение господне! Господь гневается на нас за то, что до сих пор не покарали еретика… В зал вошел римский король. На нем не было никаких знаков его сана. С королем явились придворные и дворяне; среди них были пан Ян из Хлума, пан Вацлав из Дубе, магистр Ян Кардинал и другие. Как только король занял свое место, дʼАйи, соблюдая все формальности, открыл заседание. Потом он подал знак, чтобы привели в зал обвиняемого. Вытянув шеи, люди повернулись к дверям. Да, его вели сюда!.. Сопровождаемый двумя латниками, Гус подошел к свободной площадке, находившейся посреди зала. Оставив обвиняемого, латники вышли. Сотни глаз пристально уставились на Гуса. Они рассматривали его с ног до головы. Внешний вид магистра оказался вполне приличным для узника, приведенного прямо из тюрьмы. Он даже разочаровал их. Перед ними был не жалкий отщепенец, еле стоящий на ногах и согбенный бременем грехов, а обыкновенный человек. Их разочарование постепенно перешло в гнев. Проклятый еретик! Разве не строптив и не дерзок он, если держится так независимо! Его давно пора поджарить на костре. Сегодня, слава богу, они покончат с ним. Гус огляделся. Он заметил короля и своих друзей-земляков. Лицо дʼАйи показалось ему знакомым: кардинал походил на того старика, который допрашивал его, совсем больного, в тюрьме. Взгляд магистра скользнул по лицам святых отцов. Их глаза сверкали злобой и ненавистью. Другого Гус и не ждал от прелатов. У него нет ничего общего с ними, кроме диспута, на котором прозвучат аргументы, цитаты, положения Священного писания — основы христианского вероучения и, следовательно, основы его и их заключений. Если они разубедят магистра своими доказательствами, он не только покорится им, но и поблагодарит их за науку. Оставаясь при своем мнении, прелаты могут извлечь пользу: они познакомятся с его точкой зрения не по пересказам жалких доносчиков, а прямо по его объяснениям. Слово, произнесенное вслух, в известной степени само становится вещественным. Оно не исчезает — живет своей собственной жизнью. Да, живет!.. В этот момент с кресла поднялся кардинал дʼАйи. Держа текст генерального обвинения в вытянутой руке, дальнозоркий старец стал читать: — Перед нами — магистр Ян Гус, доктор свободных искусств и бакалавр богословия Карлова университета в Праге. Он обоснованно обвиняется в вероотступничестве. Свое еретичество Гус проявил тремя способами: во-первых, проповедью бредовых мыслей, во-вторых, неповиновением церковным властям и, в-третьих, бунтом против своей матери — пресвятой церкви, недостойным сыном которой он оказался по всем упомянутым трем пунктам. К пункту первому. Доказательства еретического характера учения Гуса содержатся в выписках из его сочинений и в записях, представленных свидетелями. Эти свидетельства не вызывают никакого сомнения. Самой опасной из его ересей является утверждение, будто церковь может легко обойтись без папы. Да, он даже осмелился сослаться на то, что церковь спокойно существует и без Бальтазара Коссы, Иоанна XXIII, только что свергнутого с престола нашим собором. Разве это не ясное доказательство того, что он полностью расходится с нами в понимании миссии святой церкви? К пункту второму. Неповиновение церкви проявляется во всем поведении магистра. Отказавшись повиноваться приказам высшей инстанции, Гус продолжал читать свои проповеди в Праге, с кафедры Вифлеемской часовни, не обращая никакого внимания на церковные кары — анафему и интердикт, объявленные сначала пражским архиепископом, а потом и римской курией. Он проявил чудовищное кощунство — обратился к Христу, к инстанции, не имеющей никакого отношения к церковному праву. Разве это не насмешка над правовыми основами, на которых зиждется могущество нашей церкви? К пункту третьему. Свой бунт против церкви Ян Гус проявил во всей совокупности деяний и слов, которые он уже много лет обращал против церковной иерархии — против папы, кардиналов и других прелатов. Своими проповедями вероотступник подстрекал к мятежу темных, невежественных людей, рассчитывая на их низменные страсти и побуждения. Бунт, подготавливаемый им, опасен. Он может подорвать силу духовного сословия путем изъятия у него имущества и изгнания тех, кто стал бы противиться этому. Всё христианство, представленное на святом соборе в Констанце, моими устами обвиняет Яна Гуса, как упрямого и неисправимого вероотступника, в проповеди ереси… Ян Гус, признаёшь ли ты себя виновным по всем трем пунктам? В тишине, наступившей после чтения обвинения, раздался спокойный, ясный голос: — Я хотел бы ответить на это обвинение пункт за пунктом, ибо… — Отвечай на вопрос, который я задал! — резко оборвал его дʼАйи. — Ты признаёшь себя виновным? — Я могу доказать, что… Кардинал снова прервал его: — Мы вызвали тебя не на диспут, а на суд. Отвечай как положено: да, нет; нет, да. Я снова спрашиваю тебя: признаёшь себя виновным в преступлениях, изложенных в обвинении? Да, Гус во многом не соглашался со святыми отцами, но признать себя виновным… В чем? В своем учении и в своих поступках он не видел ничего такого, что можно было бы назвать преступным, и ответил так, как от него требовали, одним словом: — Нет! Зал зашумел. Святые отцы осыпали магистра проклятиями. Порядок в рефектории не сумел восстановить даже дʼАйи. Шум начал стихать только тогда, когда поднял руку Сигизмунд. — Теперь прослушаем выдержки из сочинений обвиняемого и показания свидетелей, — сказал, кивнув молодому священнику, дʼАйи. Священник встал, взял в руки большую пачку документов и начал читать монотонным, гнусавым голосом, как проповедник во время литургии, длинный реестр выдержек из сочинений магистра. Со скамей то и дело раздавались возмущенные возгласы и реплики: — О чем тут разговаривать? — Неисправимый еретик! — Дьявол! Гус внимательно слушал чтеца. В реестре было собрано всё, начиная с первого обвинения, предъявленного Гусу архиепископской консисторией. Здесь были выдержки из проповедей в Вифлеемской часовне, записанные шпионами пражского капитула, многочисленные цитаты из его сочинений, краткое изложение учения магистра и обстоятельное свидетельское показание Палеча. Хотя по церковному праву имя свидетеля не оглашалось, магистр легко узнал слог и формулировки этого показания. Сколько раз он уже отвечал на подобные вопросы! И в Пражском университете, и перед консисторией, и здесь, в тюрьме, когда его посещали прелаты и комиссия по вероисповеданию. Сколько раз он объяснял, защищался, доказывал, ссылался на Священное писание и трактаты святых отцов. А теперь… Не спрашивая, они требуют, чтобы он отвечал на все вопросы обвинения одним словом. Стало быть, здесь невозможно опровергнуть ни заведомо ложные факты, ни цитаты, произвольно выхваченные из текста и не имеющие ничего общего с тем, что магистр проповедовал. Чтение показаний сильно затянулось. Гус перестал слушать их. Перед ним сидели люди в пышных облачениях — владыки мира, дворяне, высшие прелаты, профессора, священники. В их холодных глазах он читал одну только злобу. Души этих людей давно очерствели. Разве они могут реформировать церковь, обновить мир и восстановить в нем прежний христианский порядок! Вот они, добрые христиане, лучшие из лучших! О, как подходят к ним слова пророка Иеремии: «Души их тверже скал!» Надменные сыны Христовой церкви даже не позволяют ему сказать то, что он думает, а царь царей всегда снисходил к любому несчастному в минуту его страданий. Святые отцы лицемерно утверждают, что они стремятся реформировать церковь, а сами зажимают рот тому, кто находит путь к этой цели. Магистр всё отчетливее видел безвыходность своего положения. Так вот каков этот процесс! И ради него магистр покинул безопасное убежище в родном краю, томился несколько месяцев в тюрьме!.. Чтец умолк. ДʼАйи снова обратился к Гусу. Магистр повернул голову в его сторону. — Можешь опровергнуть эти документы? — спросил кардинал магистра. Гус знал, что ему не позволят обстоятельно опровергнуть эти показания. Он ограничился общим ответом: — Многое из того, что было прочитано, — правда. Остальное — наполовину правда или заведомая ложь пристрастных свидетелей. Первое я готов объяснить, а второе — отвергаю. Будете ли вы меня слушать?.. Зал снова загудел. Какой-то прелат вскочил и закричал: — Как это так? Разве это не процесс? Ты говоришь, а мы слушаем тебя! Гус ответил: — На процессе обвиняемому предоставляется время, необходимое для того, чтобы дать исчерпывающие ответы судьям. После этих слов крик в рефектории еще более усилился. Гвалт прелатов был заглушён более гневным криком чешских панов, стоявших неподалеку от королевского трона. — Приведенные здесь документы, — сказал дʼАйи, — мы тщательно изучили и признаём их достоверными. Я хочу заметить, что в целях соблюдения беспристрастного судебного разбирательства мы выбросили те материалы, которые не внушали доверия. Поскольку никто из нас не сомневается в справедливости обвинения, нам остается установить меру наказания виновного. Обвиняемый Ян Гус — это вам еще один пример его заблуждений — отказывает нашему суду в праве вынести ему, еретику, высшую меру наказания и передать его в распоряжение светских властей… Ян Гус, я прошу тебя во всеуслышание подтвердить перед торжественным собранием свои возражения. Гус выполнил его просьбу: — Заповеди Евангелия в одинаковой мере обязательны для всех христиан, а следовательно и для папы и его наместников. Эти заповеди предписывают покарать, заблуждающегося и, если он будет упорствовать, изгнать его из своей общины. Но они ни в коем случае не отменяют главной заповеди, а она гласит: «Не убий!» Прелаты захохотали и закричали: — Трусишь! Бросаешь камень в святую инквизицию! Когда ты почувствовал, что твоя шкура в опасности, начал отвечать! Гус ответил: — Мне хотелось показать вам еще одну вашу ошибку… А смерти я не боюсь! — Каждым своим новым словом ты подписываешь себе смертный приговор. С ума спятил?.. — раздался резкий, язвительный голос Жерсона. — Я прибыл в Констанц по доброй воле… Мне незачем молчать… — Лжешь! — закричали прелаты. — По какой это доброй воле? Ты был обязан явиться на суд!.. Не успел магистр возразить, как неподалеку от королевского кресла поднялся пан из Хлума и гневно крикнул: — Нет, лжете вы! Самый могущественный человек не привел бы сюда магистра Яна против его воли. В моем замке он мог бы жить, ни о чем не беспокоясь. Я сумел бы защитить его как от короля чешского, так и от короля римского! — Освободите его! — крикнул Вацлав из Дубе. Все чешские паны поддержали Яна из Хлума и Вацлава из Дубе. Они начали угрожать прелатам. Зал онемел. Никто не ожидал протеста светских господ. Как они осмелились орать на церковном соборе?! Да еще такие вещи!.. Сигизмунд еле сдерживал себя. Руки римского короля впились в подлокотники кресла с такой силой, что побелели суставы пальцев. Святые отцы вскакивали и размахивали кулаками. Прелаты засыпали Гуса новыми проклятиями, обвинениями и вопросами. Теперь уже никто не мог успокоить возмущенных прелатов — ни король, ни кардинал дʼАйи. Магистр молчал. Отвечать прелатам не имело никакого смысла. Цель этого процесса, по-видимому, была одна: запугать его, заставить сдаться. Сигизмунд собрался было удалить из зала нарушителей порядка. Но они неожиданно притихли. Желая добиться более четкого хода заседания, дʼАйи обратился к присутствовавшим с просьбой задавать вопросы по очереди. Но, едва сказав это, он испугался своих слов. Его опасение оправдалось. Со скамьи поднялся какой-то французский епископ и, захлебываясь от любопытства, попросил обвиняемого объяснить, что он подразумевает под изъятием церковного имущества. ДʼАйи сжал губы и строго поглядел на епископа. Проклятый болван! Именно от этого вопроса следовало бы воздержаться. Неужели епископ не соображает, что ответ Гуса на этот вопрос наверняка станет известным всему миру? ДʼАйи взглянул на Жерсона. Тот только пожал плечами. Конечно, куда легче одернуть Гуса, чем епископа. Гус ответил: — Земные блага созданы для того, чтобы все люди одинаково могли пользоваться ими. Стало быть, господа — не столько собственники, сколько управляющие имуществом. Если они плохие управляющие, надо отобрать у них имущество. Такие господа не лучше воров. Следовательно, если власть, особенно церковная… — Это не имеет никакого отношения ни к процессу, ни к вопросу о вере! — прервал дʼАйи Гуса. — Время, предоставленное для выслушивания обвиняемого, — продолжал кардинал нарочито спокойным голосом, — уже давно перешагнуло за пределы человеческого терпения. Я хотел бы задать тебе, Ян Гус, последний вопрос. Ты не раз утверждал, что порочный папа, порочный епископ или порочный священник недостойны и не имеют права выполнять свои обязанности. Придерживаешься ли ты такого мнения о светских владыках? Что ты скажешь о короле? — Если король погряз в грехах, то он — не король перед богом… ДʼАйи наклонился, стараясь услышать всё, что говорил Гус. Получив ответ, кардинал быстро поднял голову и повернулся в сторону королевского кресла. Но оно было пусто! Сигизмунду надоели пустые разговоры, — он стоял у окна, весело болтая с двумя придворными. Волей-неволей кардинал дал знак одному прелату, чтобы тот попросил короля вернуться в свое кресло. Когда Сигизмунд пришел, дʼАйи попросил Гуса громко повторить последнюю фразу. Гус разгадал уловку кардинала и снова, не колеблясь, повторил свои слова. Все с любопытством поглядели на короля. Сначала король задумался, а потом захохотал, ощерив свои хищные белые зубы: — Милый сын, кто из нас без греха! ДʼАйи набросился на Гуса: — Мало тебе поносить и подрывать духовное сословие! Ты подымаешь руку и на римского короля! ДʼАйи уже не мешал прелатам изливать свои чувства, и в зале опять поднялся крик. Объявив о перерыве, дʼАйи встал и направился к Сигизмунду.Когда Гуса снова привели в рефекторий, дʼАйи обратился к нему со следующими словами: — Ян Гус, у тебя есть выбор: либо ты полностью сдаешься на милость собора, принимаешь его предложения, — в этом случае святые отцы обойдутся с тобой ласково и гуманно; либо остаешься в плену своих заблуждений, и тогда ты испытаешь новые огорчения. Смирением и отречением ты восстановишь наше доверие к тебе и завоюешь наши сердца. Отказом принять предложения собора ты проявишь закоренелое упрямство. Тогда оставь все свои надежды: нам не останется ничего другого, как сжечь тебя на костре. Прелаты больше не шумели. Ведь остались одни формальности: приговор, разумеется, уже подписан. Судьи полагали, что еретик образумится и не пожелает пойти на костер. ДʼАйи был разочарован. Внешне он оставался спокойным, но глаза его не отрывались от губ Гуса. Он всё еще надеялся, что ему удастся вырвать у Гуса слово «отрекаюсь!». Этого слова ждал и Жерсон. Но у него не было такой веры, как у дʼАйи. Парижанин знал, что для богослова-фанатика достаточно еле теплящейся в душе искры, чтобы она разгорелась в пожар, способный охватить дворцы и замки, задушить в нем и господ и слуг. Жерсону было известно и то, что мечом можно восстановить порядок на более или менее длительный срок. Сам Жерсон верил только огню и мечу. Сигизмунду тоже было не по себе. Если бы сумасброд Гус перестал упрямиться, у римского короля свалилась бы гора с плеч. А пока это дело сулит одни неприятности. Чешские паны не простят ему, Сигизмунду, — уже сейчас они мрачнее тучи. «Проклятый Гус! Разве можно быть одержимым такой идеей, которая приносит тебе один вред? Ты жертвуешь собой в угоду бредовым фантазиям. Чего ты добьешься, настаивая на своем? Ничего, кроме смерти. Что ж, если хочешь, умирай. Но кто будет расхлебывать ту кашу, которая заварится после твоей смерти? Никто, кроме меня! У, черт бы тебя побрал!..» Кардинал дʼАйи напрасно наседал на Гуса, — еретик не сдастся. Забарелле хотелось видеть, как будет неистовствовать оскандалившаяся старая лиса. Ведь дʼАйи проигрывает папскую тиару, а после низложения Иоанна XXIII он приблизился к ней! Заставив Гуса отречься, дʼАйи оказал бы безмерную услугу церкви и поднялся бы в глазах прелатов. Все волнения черни, — о них поступают сюда вести не только из Чешского королевства, но и из других стран, — сразу бы кончились, если бы ее «святой» — еретик и подстрекатель — отрекся. Неудача дʼАйи в немалой степени содействовала личному успеху Забареллы — самого опасного соперника дʼАйи при избрании нового папы… А Гус? Разве он менее опасен? Невзирая на это, Забарелла в душе признавал, что сам он скорее наблюдатель, чем судья. Забарелла улыбнулся. Дождется ли он такого дня, когда что-нибудь потрясет его до глубины души? Не важно, чтó — зло или добро, любовь или ненависть… Ему, конечно, хотелось бы поверить во что-нибудь по-настоящему — так, как верит обвиняемый. А он, действительно, верит и готов умереть во имя этой веры. Умереть… Обвиняемый, кажется, собирается что-то сказать… — Достойные отцы! — начал Гус. — Я прибыл в Констанц по собственной воле. Приехал к вам не для того, чтобы показать свое упрямство — любыми средствами отстаивать свои взгляды и свое учение. Нет, я хотел бы выступить на диспуте. Вы могли бы рассказать мне, что ложно в моих суждениях. Прежде всего я должен иметь возможность изложить свои взгляды. Если мои доводы будут признаны слабыми и опровергнуты аргументами, основанными на Священном писании, я покорно подчинюсь собору. Если вы наставите меня на истинный путь, я отрекусь от своих взглядов! ДʼАйи побледнел. Крепко сжав челюсти, он произнес: — Ян Гус, ты не понимаешь нас или — храни тебя бог! — не хочешь понять. Мы предъявили тебе категорическое требование. А ты всё еще ждешь наставлений. Опомнись, магистр Ян, ты сам ученый! Тебя наставляют более шестидесяти докторов теологии. Они познакомились с твоими сочинениями. Прелаты пришли к одному выводу, — он изложен в обвинительном заключении по твоему делу. Все единодушно говорят тебе: «Отрекись! Отрекись, Ян Гус! Отрекись!» Гус молчал. — Выбирай: отречение и жизнь или бунт и костер!.. Гус не знал, что эти слова сказал Жерсон. — Я выбираю не между жизнью и смертью, а между правдой и ложью! — ответил магистр, повернувшись на голос. — Мне незачем отрекаться, я никогда не проповедовал ересь! Сигизмунд попробовал помочь святым отцам: — Магистр Гус! Тебе надо образумиться. Ты возомнил себя умнее мудрейших отцов собора. Я советую тебе прислушаться к тому, что предлагает достопочтенный кардинал. Почему ты не хочешь отречься от еретических мыслей, которые — мы можем поверить тебе — не проповедовал? На твоем месте я бы легко отрекся от них! Подумай-ка: отречение от каких-либо мыслей вовсе не означает, что ты исповедовал их. Магистр улыбнулся: — Ваше величество, человек может отречься только от того, что он проповедовал. Я весьма тронут заботой вашего величества обо мне. Вы, ваше величество, ее однажды уже проявили, когда дали мне охранную грамоту. Сигизмунд настороженно посмотрел на Гуса: «Что он хочет этим сказать?» А Гус, не обращая внимания на короля, продолжал: — Что касается меня, то я не могу отречься от тех мыслей, которые вы принимаете за ересь. Мои мысли вытекают из Христовых заповедей. Я всегда с радостью выслушивал мудрые поучения. Но я не могу повиноваться приказам человека, если они противоречат божьим заповедям… Святые отцы негодовали, — они готовы были растерзать магистра. Прелаты не сразу успокоились и тогда, когда председательствующий кардинал дʼАйи дал знак им замолчать. Он обратился к присутствующим с просьбой помолиться за душу заблудшего сына церкви. Прелаты примолкли, но уже с первым словом молитвы догадались о намерении дʼАйи: из его уст зазвучала заупокойная молитва. После молитвы наступила гнетущая тишина. Председательствующий уже не задавал никаких вопросов и молча сидел в кресле. Все ждали, что будет дальше. Ведь дело уже заслушано, и приговор вынесен. Только один Забарелла видел, какая отчаянная борьба происходила в душе дʼАйи: он, наверное, уже осознал свое поражение. С задней скамейки встал человек, одетый в профессорскую мантию. Он спешил воспользоваться паузой для публичного заявления. Заверяя всех в своем беспристрастии, профессор сказал, что хочет поклясться в правдивости показаний, которые дал по делу магистра Яна Гуса, не испытывая к нему личной неприязни. Он делает это как верный сын святой церкви, споспешествующий ее вящей славе. Гус поднял глаза. Да, он не ошибся. Это был его бывший друг Палеч!.. Когда Палеч закончил свое заявление, дʼАйи небрежно кивнул ему, и тот сел. Кардинал вызвал стражу. Услышав за собой шаги латников, Гус окинул взглядом короля, кардиналов, прелатов и сказал: — Я готов предстать перед божьим судом: он будет судить как меня, так и вас!.. Чешские паны тесно сгрудились; никто из них не решался покинуть место чудовищной расправы. Последние слова магистра заставили их забыть даже о воплях его противников. Чехи стояли молча, глядя в землю, сознавая свое бессилие. Рефекторий постепенно пустел. Позади раздался знакомый голос. Чешские паны легко узнали его. — …даже, если он отречется, — говорил римский король, — не верьте ему. Вернувшись в Чехию, он перевернет вверх дном всё королевство. Заставьте его отречься и упрячьте куда-нибудь подальше, в безопасное место! — В таком случае выносят приговор о пожизненном заключении, — ответил Сигизмунду собеседник. Затем кто-то спросил: — А как быть с Иеронимом? Король захохотал: — Для этого хватит одного дня. Он только ученик Гуса.
Забарелла не мог не проводить дʼАйи: он желал насладиться неудачей своего противника. Забарелла не поскупился на лесть и выразил свое восхищение тем, как кардинал ловко вел процесс и умело держал прелатов в своих руках: — Вы достигли значительного успеха, достойный брат. Вам удалось заткнуть глотку Гусу. А ведь вы более всего боялись его речи!.. У дʼАйи не было ни сил, ни желания скрывать свое поражение: — Речь Гуса? Она звучала вопреки нашему желанию! Во всех показаниях то и дело цитировались его сочинения. Вопрос глупого епископа дополнил остальное. Речь Гуса была бы забыта, если бы нам удалось заставить его отречься! А теперь после мученической смерти Гуса она прозвучит в тысячу раз сильнее. — Мне не хотелось бы ставить под сомнение мудрость достойного брата и святых отцов, — невинно заметил Забарелла, — однако я думаю, что ваш изумительно ловкий допрос мог вызвать и вызвал со стороны упрямца только противодействие. Кто знает, может быть иным способом… ДʼАйи неожиданно остановился: — Тот, кто является истинным сыном воинствующей церкви, знает только один способ обращения с еретиком. Очевидно, вам по душе какой-нибудь другой метод. Вы бы, конечно, с удовольствием убеждали этого варвара-еретика разумными доводами, без азарта, — он слегка усмехнулся, — которого у вас, между прочим, никогда не было. Вы, пожалуй, нашли бы беседу с еретиком даже забавной. Но с таким пылким человеком, как Гус, нельзя вести себя холодно и рассудочно. Если вам кажется, что еще не потеряна надежда вырвать из уст Гуса отречение, то ваш святой долг попытаться сделать это!.. (обратно)
Искуситель
Спустя несколько дней после процесса Забарелла посетил францисканский монастырь, где был заточен Ян Гус. Кардинал нашел магистра побледневшим и осунувшимся, но не заметил никаких изменений в его взгляде. Магистр смотрел спокойно и уверенно. Телесные страдания не сломили его духа. Усевшись в камере поудобнее, Забарелла задушевно обратился к осужденному, стараясь вызвать его расположение. Кардиналу хотелось, чтобы Гус забыл о своей камере, решетке, запорах и суде. Поставив Гуса в такие условия, кардинал мог бы выбить из рук упрямца его оружие и поговорить с ним как равный с равным. — Процесс… вернее, то, что было, многих разочаровал, — начал Забарелла. — Разочаровал он и меня. Не скрою: я очень заинтересовался тобой. Отчасти поэтому я и пришел сюда. Жалею, что нам не удалось побеседовать раньше, когда тебя перевели к францисканцам… Забарелла сделал паузу, ожидая ответа. Но Гус молчал. — Я думаю, — продолжал кардинал, — тебе лучше других удалось бы договориться с дʼАйи. Эта старая лиса уже давно слывет среди нас завзятым реформатором. Именно ему мы обязаны низложением Бальтазара Коссы. Больше всего он увлекается астрономией. Это занятие привело его к изучению географии. Он написал весьма достопримечательное сочинение «Compendium cosmographiae».[503] Я вынужден признать, хоть и недолюбливаю его, что дʼАйи — один из выдающихся умов нашего образованного мира. Вы оба — реформаторы. Правда, между вами есть кое-какое различие, — улыбнулся кардинал и немного подождал: теперь-то Гус не промолчит. Но Гус глядел на кардинала и молчал. Волей-неволей Забарелле пришлось продолжить свой монолог: — Я думаю, тебя нисколько не удивило то, как всполошились святые отцы? Если бы ты всего-навсего провозгласил право изъятия имущества у недостойных священников и на суде апеллировал к высшей инстанции, Христу, то и этого было бы вполне достаточно для того, чтобы ты угодил сюда! Сознаёшь ли ты, какие последствия вытекают из твоего учения?.. Тебе не следовало бы утверждать, что Христос — высший судья для всех нас. Подобным образом незадолго до тебя обращались к Христу флорентийцы. Земные судьи считают неудобным пребывание высшей инстанции на небесах. Каждый, кто проигрывает процесс на этом свете, может без особого труда апеллировать к небесной инстанции, — и тогда нам не останется ничего другого, как весь наш правовой строй, на коем зиждется церковь, выбросить в помойную яму. Твое заявление, естественно, огорчило святых отцов. Что же оставалось им делать?.. — А что должен был делать я? — спросил Гус. — Или возьмем другой вопрос… — продолжал Забарелла, словно не расслышав вопроса магистра. — Если я не ошибаюсь, в своих показаниях ты утверждаешь, что священник, который не выполняет своего долга и постоянно нарушает божьи заповеди, не является священником… — …является недостойным священником в глазах бога, — поправил Гус. Но Забарелла не позволил Гусу прервать себя: — …и у него можно и дóлжно изъять имущество. Скажи, пожалуйста, кто должен сделать это? — Светская власть. — Светская?.. Мм… А в каком титуле? — Подобно тому, как светский господин подчинен священнику в духовных делах, священник должен подчиняться в мирских делах своему светскому господину, королю… Забарелла улыбнулся: — Я что-то сомневаюсь… Светские господа вряд ли станут наказывать духовных… — Если они не станут наказывать священников, это сделают другие… — Ты, вероятно, имеешь в виду ученых? — Крестьяне одной баварской деревни задали мне такой же вопрос. Я ответил им: бог утаил правду от мудрых и осторожных и явил ее простым смертным и отверженным. Первыми, кто принял заповеди Иисуса Христа, чтобы улучшать мир, были бедные рыбари. Забарелла невольно отшатнулся. Только сейчас он почувствовал, как опасен этот измученный человек. Ему ничего не стоит произнести вслух такие слова! Забарелла опустил глаза. — Изобличая церковную власть, ты слишком увлекся, — снова нарушил молчание кардинал. — Ведь у светской власти тоже немало грехов… — Я осуждал пороки и светской власти, достойный отец! Однако священники являются, или по крайней мере должны являться, наставниками мирян. Ошибки учителей могут вызвать куда больше зла, чем грехи учеников. Вот почему на ошибки учителей нужно обращать особое внимание. — Ты выступил один против церковной власти, а она единственно непогрешимая власть. Мы хранители и носители вековой традиции, на которой зиждется христианство. Подумай: ты пошел один против всех святых отцов. — Дело не в том, что церковь обладает самой сильной властью, — возразил Гус. — Важно совсем другое: на нее возложена самая большая ответственность и ей предоставлены неограниченные возможности. Благодатные возможности! Наконец, один ли я иду против нее? Нет, я не один, достойный отец… — Согласен. Есть другие реформаторы… — Я имею в виду не реформаторов, — сказал Гус. — Я думаю о своем народе. У меня на родине, достойный отец, таких людей, как я, много. Их — тысячи!.. Забарелла сморщил лоб. Снова вылезли чертовы рожки! Кардинал раздраженно возразил: — Ты хочешь перевернуть мир одним мановением руки? Нет, милый сын, мир развивается постепенно. Постепенно устраняются и его недостатки. Против всяких перемен исконный и испытанный неприятель — обычай! Гус покачал головой: — Обычай ничего не освящает и не оправдывает. Проститутки объясняют свое распутство привычкой. От обычая, если он дурной, люди должны отказываться. Это дерзкое утверждение снова подняло настроение кардинала. — Сейчас ты обнаружил один из своих изъянов. Прости, я хочу сказать тебе прямо: этот изъян коренится и в твоем мышлении и в твоем поведении. Ты слишком прямолинеен! Этим ты принципиально отличаешься, — улыбнулся кардинал, — от святых отцов. Тебе не удалось обогатить себя многовековым опытом церкви. Друг мой, чтó стало бы с нами, если б мы поступали по-твоему? Мы достаточно образованы и легко поймем, что церковные принципы намеренно туманны и неясны, даже несколько чужды примитивной наивности Евангелия. Но разве простой верующий стремится к пониманию? Нет: он хочет ослепления! Возьмем хотя бы наши сложные обряды. Из скромного богослужения они превратились в великолепные театральные зрелища. Всё, разумеется, делается к вящей славе божьей! Гус тихо заметил: — Незадолго до отъезда в Констанц я проповедовал в поле, на гумнах, под липой. Ко мне приходили сотни верующих крестьян, батраков, земанов, мужчин и женщин. Они были полны восторга; подобного я никогда не видел в самых пышных храмах. Забарелла нахмурил брови: — Я имею в виду не внешние проявления. Есть много такого, что нам приходится, в конце концов, делать средствами, которые потом освящаются или хотя бы легко объясняются и оправдываются, если не противоречат святому смыслу и святой цели. Для нас, разумеется, важнее всего, цель, а не средства. Разве тебе не ясно, что порой ложь, — да, я не боюсь признать это, — ложь, порождающая добро, становится спасительной и благословенной? Если бы ты понимал это, то был бы снисходительнее к нам. Твоя излишняя прямолинейность наносит большой вред церкви. Гус покачал головой: — Я не могу согласиться с подобной аргументацией, достойный отец. По-моему, прав святой Павел, который писал в своем послании к римлянам: «Никогда не творите злых дел ради добрых». Не следует лгать даже во имя спасения мира, иначе люди поверят в спасительность лжи. О греховности лжи говорится в псалмах: «Господу противен льстивый человек» и «Солжешь — погибнешь!» Забарелла вздохнул. — Милый сын, мне трудно говорить с тобой; ты слишком буквально понимаешь слова Священного писания. В Евангелии приводятся примеры праведной жизни. Ты мог бы легко сшить из них строгий свод законов. Но не забывай, что у жизни, которая значительно древнее нашего вероучения, есть свои законы. Сила нашей церкви состоит в умении мудро и благосклонно предъявлять требования к смертным. Жаль, что ты столько лет провел над пергаментом и бумагой. Тебе куда полезнее было бы учиться у самой жизни. Гус улыбнулся. Заметив улыбку магистра, кардинал спохватился: — Прости, я забыл. Разумеется, ты учился у жизни, учился… «ДʼАйи был прав: с таким еретиком интересно беседовать», — подумал Забарелла. — Да, я много учился, — сказал Гус. — Мое детство прошло в господской деревне. Здесь были крестьяне-барщинники и батраки. Мой отец занимался извозом и часто брал меня с собой в Прахатицы. В сравнении с нашей бедной деревней этот город был царством роскоши. Позднее, в Праге, я увидел те же два мира. Где бы я ни оказывался потом, я всюду видел мир бедняков и мир богачей… Гус замолк и погрузился в свои мысли. Забарелла почувствовал неловкость: разговор с этим еретиком никак не клеился. Кардинал не мог понять, почему Гус то слишком мягок, то чересчур упрям. Забарелла сравнил себя с этим фанатиком, и ему стало не по себе. Но он не терял надежды договориться, найти общий язык. — Магистр… Скажи мне, пожалуйста, прямо и честно, так, как проповедуешь среди крестьян: во имя чего ты начал эту неравную борьбу? Гус поглядел на кардинала: — Во имя чего? Во имя любви, достойный отец! — Во имя любви?.. — Во имя любви к богу — а тем самым и во имя любви к людям. Я люблю людей. Остальное пришло само собой. Любовь — не сострадание. Она всегда что-нибудь творит, созидает, побеждает. Любовь доставляет человеку большую радость. Кардинал старался не поддаваться обаянию слов магистра. Собственно, они слишком наивны. — Эта любовь делает тебя таким сильным, что ты даже не боишься смерти?.. Гус слегка кивнул ему, а потом задумчиво добавил: — Разумеется, иногда меня охватывает страх. Даже очень сильный. Это во мне борется жизнь. Жизнь никогда не желает умирать. Но смерть оказывается сильнее ее. Впрочем:У каждого есть день последний, каждому срок свой назначен,
Но добрым деяньем прославься — вот что достойно почета.
Вернувшись домой, Забарелла тяжело опустился в кресло, стоявшее у его письменного стола. В душе кардинала было холодно и пусто. Он не сразу заметил лист бумаги, почему-то лежавший на стопке документов, потом, без всякого интереса, взял его. О, это письмо Лодовико ему, Забарелле. Не задерживаясь на первой строке, кардинал жадно пробежал его глазами: «Когда вы, ваше преосвященство, вернетесь домой, то уже не застанете меня. Я не осмелился дождаться возвращения вашего преосвященства и заявить вам о том, что я решился на такой шаг, который является для меня и печальным и необходимым. Короче, я покидаю вас, покидаю навсегда. Прежде чем объяснить вам, ваше преосвященство, почему я расстаюсь с вами, мне хотелось бы поблагодарить вас. Всё, что я ныне могу, умею, понимаю, знаю и объясняю другим, — дали мне вы. Без вашей помощи и ваших наставлений я никогда бы не смог приобрести столько знаний об этом мире. Вы показали мне жизнь во всей ее красоте и научили меня смотреть на нее открытыми глазами. Признаюсь, я целиком находился под вашим влиянием. Для меня оно было поистине великим благом вплоть до одного рокового дня. В тот день вас посетил кардинал дʼАйи, и вы беседовали о чешском еретике Гусе. Я никогда не забуду этой беседы. Я прошу у вас прощения за свою откровенность. Тогда я отлично понял, чтó испортило вам расположение духа. Мне стало ясно, что вы сводите счеты со своей собственной совестью. Вы недовольны жизнью. Она опрокидывает ваши мечты; ваши мечты никуда не ведут, ибо вы сами идете по ложному пути. Ваш путь был уставлен манящими вехами, богат ловкими поворотами, пестрел тысячами кристаллов холодного познания, но никуда не вел. А определенная цель должна быть у каждого чувствующего и любящего человеческого сердца! Более того, я понял, что бы сознаёте свое бессилие, но не способны свернуть со старого пути и пойти по новому. С тех пор я стал бояться вас, — этот страх оказался сильнее моей сердечной благодарности, сильнее восхищения вами и почтения к вам. Да, я боюсь вас, как всякое живое существо страшится… Нет, мне не договорить это. Я не хочу рано или поздно стать слепком с вас. Я хочу жить своей собственной жизнью! Поскольку я ухожу от вас вовремя, то уношу с собой только приятные воспоминания, как сын и ученик, с благодарностью принимавший ваши милости. Оставаясь под одной крышей с вами, я скоро возненавидел бы вас. Я ухожу вовремя — как для себя, так и для вас. Да хранит вас бог!» Пальцы кардинала неожиданно задрожали, письмо выпало из них. В углах рта легли глубокие, скорбные складки. Голова Забареллы непроизвольно покачивалась, словно он подтверждал всё то, что было сказано в письме Лодовико. За спиной кардинала постепенно угасало солнце. Его блеклые лучи нежно ласкали мраморную статую Венеры, прекрасную своей ослепительной белизной и вечно холодным совершенством. (обратно)
Расплата
Вначале июля Констанц задыхался от необыкновенной жары. Утренние зори изо дня в день обнажали ясное, без единого облачка лазурное небо. Уже в утренние часы солнце накаляло стены и крыши домов, и на улицах стояла нестерпимая духота. Но во францисканском монастыре было прохладно. Его каменный панцирь не пропускал солнечное тепло и хранил сырость, впитавшуюся в стены еще зимой. Холод и сырость подтачивали и без того слабые силы магистра. Но подобно тому, как злокачественная опухоль не успевает развиться в дряхлом теле умирающего старца, так и страдания Гуса не могли подорвать его дух, ибо рок отмерил для них только один, последний день. Этому дню суждено стать самым длинным: сознание узника не сможет засечь тот миг, когда свет отделится от тьмы — день и ночь сольются для осужденного в одно сплошное бдение. Время удлинилось благодаря размышлениям, пространство стало безграничным. Последний день вплотную приблизил к узнику далекие лица и давние события. Он должен многое объяснить этим людям и столько же у них узнать. Собор еще раз вошел в его камеру, — на этот раз в виде документа, врученного узнику Забареллой. Гусу пришлось преодолеть последнее искушение. А оно не шуточное, — одним росчерком пера он мог бы отвести от себя смерть! Собор пошел на уступки и предложил Гусу отречься только от тех статей его учения, которые он сам находит еретическими. От остальной, большей части, той, которую магистр считал ошибочно приписанной ему или превратно толкующей его мысли, можно было не отрекаться. Святых отцов удовлетворит присяга, в которой Гус откажется проповедовать свое учение. Последнее предложение святых отцов напоминало совет римского короля, отвергнутый магистром на суде. С той поры ничего не изменилось, не изменился и он. Святые отцы идут на всё, лишь бы заставить магистра отречься от своего учения. После тюремных мук и запугивания на процессе — такое снисходительное решение. Видно, дорого ценят они отречение, если готовы даровать за него жизнь. Жизнь… Нет, ему лучше не думать о ней. Жизнь — великий дар, — он не может поддаваться ее чарам. Ныне, когда святые отцы надели на него кандалы, посадили в темницу и заперли на замок, она кажется особенно прекрасной. Да, думать о жизни нельзя, — нельзя именно теперь, когда его дух страждет в горести и одиночестве, когда телесные силы гаснут в борьбе с мыслью о надвигающейся смерти. Жизнь не может примириться с нею. Он хочет жить, жить! Холодный пот выступил на лбу магистра. Леденящий озноб сменился жаром. Сердце то замирало, то учащенно билось. Порой Гус складывал руки для молитвы, шепча слова Евангелия: — «И повел его дьявол на высокую гору и показал ему все царства, которые были на земле, говоря: поклонись мне, и они будут твои!» Постепенно к магистру вернулась способность мыслить, — отдельные, еще недавно смутные, представления начали проясняться. Гус снова взглянул на документ собора, на его единственное слово: отрекись! «Отрекись и спасешься…» — советовали ему судьи. Но он не нуждался в их советах. Лучше поговорить с теми, кто с детских лет учил его радоваться и страдать, смиряться и бунтовать. «Идите ко мне, подойдите ближе, еще ближе… Ты, подмастерье Мартин с друзьями, — я не забуду вас до самой смерти… до завтрашнего дня. Вы, молодые, погибли из-за меня. Я обличал продажу индульгенций — вы претворили в дело слова моей проповеди и поплатились головами за добрые деяния. Не я, а вы… Идите сюда, землекопы, пострадавшие от рук палачей — майссенских латников, вызванных в Прагу. Иди сюда и ты, угрюмый земан, — я изредка видел тебя на скамье в Вифлееме. Потом ты отправился в Польшу и воевал там. Король послал тебя на помощь Тевтонскому ордену, чтобы ты помог крестоносцам покорить польскую землю. А ты повернул свой меч против них. Потеряв там глаз, ты стал еще более зорким и проницательным, — с тех пор ты уже никогда не сбивался с правильного пути. Ах, здесь и ты… моя мать. Матушка! Взгляни на своего сыночка! Ты молчишь, но в моих ушах до сих пор звучат слова, которыми ты частенько заканчивала свою речь: аминь, господи, благослови! Я вижу тебя, плотник Йира, и твоих детей… Вы пришли ко мне со всех сторон — из жалких халуп и сырых подвалов, из нищих деревень и душных городков, с крестьянских полосок и земанских усадеб, задыхающихся в тисках вельмож Рожмберков. Вы идете сюда с господских нив и городских площадей. Весь мой отчий край идет вместе с вами под своды монастыря. Я жадно вдыхаю свежесть пашен и медовый запах лип, слышу жужжание пчел и шум тенистых деревьев. Я хотел спросить вас, могу ли отречься?.. Но вы уже ответили мне. Как я могу? Я могу отречься только от своих слов — но не в них суть дела. Мое отречение не сделает вас богатыми и счастливыми: всё останется таким, как прежде. Мои слова — только выражение ваших мук… Я лишь назвал своими именами злодеяния тиранов и муки страждущих. Эти мучители оставили на ваших телах и в ваших сердцах глубокие раны. Их ничто не может заживить. За моим отречением скрывалось бы мое предательство. Я отказался бы от вас, как Петр от Христа. Вы перестали бы верить мне и моим проповедям, в которых черпали силу, веру и бодрость. Разве могу я обокрасть вас? Если святые отцы докажут мне, что тот, кто избил безоружного, не виновен, я соглашусь с ними! В течение всей своей жизни я не делал ничего иного, как только утверждал это…»День уже клонился к вечеру, когда тюремщик ввел в камеру Гуса пана Яна из Хлума, пана Вацлава из Дубе и пражского магистра Яна Кардинала. Здороваясь с Гусом, чехи крепко пожали ему руку. Это было и приветствие, и прощание. — Прелаты до сих пор надеются на твое отречение, — сказал магистру Ян из Хлума, — иначе они не позволили бы нам встретиться с тобой. Они просили нас уговорить тебя. В душе мы, конечно, отвергли это предложение, но воспользовались разрешением, чтобы повидаться с тобой. Гус одобрительно кивнул головой: — Святые отцы послали бы вас сюда, даже если бы вы отказались уговаривать меня. Они великие искусители, и хорошо знают, как я люблю вас. Пан Вацлав из Дубе заговорил о Сигизмунде, выдавшем чешским панам пустую бумажку вместо охранной грамоты. Шляхтич передал друзьям случайно услышанные им после окончания процесса слова короля и заявил, что их должны знать все чехи. Гус не сказал о римском короле ни слова. У магистра в гостях были друзья, и он думал только о них. Гус благодарил друзей за то, что они во время его пребывания в Констанце помогали ему и отстаивали его даже тогда, когда разъяренные прелаты безудержно орали на суде и не давали ему говорить. Ян из Хлума хотел рассказать магистру о том, чтó еще предпринимали они для облегчения его участи, но Гус только махнул рукой: — У нас осталось мало времени. Поговорим лучше о ваших делах. Паны опустили головы и замолкли. Гус поднялся, подошел к Яну из Хлума и положил руку на его плечо. Пан Ян невольно поднялся. Теперь оба Яна почти вплотную стояли друг против друга и слышали, как бьются их сердца. — Признайся, друг, — мягко сказал Гус, — ты что-то скрываешь. Ян из Хлума побледнел, а Гус продолжал: — Тогда я скажу это сам. Ты явился сюда с надеждой, что мне всё-таки удастся избежать печальной участи? Ты хочешь знать, нет ли у меня какого-нибудь пути для почетного отречения? Ян из Хлума молча кивнул головой. — Я понимаю тебя, друг, — ласково сказал Гус. — Не печалься! Поверь мне — я не могу отречься. Ты, если любишь меня, никогда не пожелаешь, чтобы я изменил своим соотечественникам. Изменить тем, у кого я учился и черпал силу и без кого я никогда не стал бы самим собой? Представь себе, что я их сын, — ты будешь недалек от истины! Могу ли я предать отца? Разве может быть счастливой жизнь, купленная ценой предательства? О, какое ужасное смятение вызвало бы у них мое отречение! Если ранее мои слова открывали им глаза, то мое отречение снова затянуло бы их мутной пеленой, пусть даже на время. А никто из нас не имеет права напрасно расточать его. Мы должны стремиться к лучшей жизни. Я прошу вас, милые друзья, простить меня за все мои прегрешения. Ибо завтра — сам того не желая — опечалю вас. Магистр обнял каждого из них. Гости направились к выходу, осторожно нащупывая в темноте плиты каменного пола. Ян Кардинал еще раз обернулся в дверях и дрожащим голосом спросил Гуса, не забыл ли он сказать им что-нибудь еще. В голосе Яна Кардинала прозвучало отчаяние. Он хотел, чтобы учитель утешил его. Поистине, тот, кто желает помочь, нередко сам нуждается в помощи, и ему нельзя в ней отказать! Когда Гус подозвал молодого профессора, тот быстро подошел к нему и чуть было не опустился на колени. Магистр попросил его не делать этого. — Успокойся, брат, — попробовал Гус ободрить друга. — Твоя душа в смятении, дорогой Кардинал. Взгляни на меня: я спокоен, хотя я и не кардинал. Выслушав утешительные слова Гуса, Ян Кардинал высказал всё, что думал: — Отрекись! Отрекись ради бога от всего, что ты говорил. Ведь истина останется истиной, отречешься ты от нее или нет. Вина за клятвопреступление ляжет на твоих судей. Разве сам святой Павел не спасся бегством от мученической смерти, чтобы продолжать служить истине? При своем споре ты обратился к Христу. Тогда испей до дна и горькую чашу мнимого позора отречения! Помни, что сам Христос сказал: «И будет тебе суждено с еще большим ожесточением бороться за веру!» Ты должен спасти себя для борьбы, а она только начинается! Что ты ответишь тому, кто скажет тебе: «Тот, кто добровольно принимает смерть, покидает ряды борцов»? Гус смертельно побледнел: — Милый сын, любя, ты искушаешь меня сильнее дьявола! О, как невыразимо больно бросить меч накануне битвы! Несчастный ученик выбрал для своего нападения самое уязвимое место учителя. Кардинал, — ученик и кардинал — прелат! Первый искушает при помощи добра, второй призвал на помощь зло. Но для обоих у него один ответ. И магистр сказал Кардиналу без кардинальской мантии: — Не пользуйся ложью, даже если она способна освободить весь мир. Нельзя отрекаться от того, что является для нас священным… Друзья ушли. «Когда меня не будет в живых, — подумал Гус, — в стране разразится страшная буря. Она снесет нечисть с лица земли». И перед мысленным взором Гуса возникли тысячи людей, вооруженных мечами. Эти люди сражались с крестоносцами. Он видел людей, воплощавших в жизнь его заветы, видел, как лилась кровь, как полыхало пламя, как дым пожарищ стлался по его родной земле. Такая буря разразится во всем мире. Это бедствие, крушение и гибель могли бы предотвратить те, кто правит миром. Но владыки сами стали узниками смерти. Они любой ценой, до последнего дыхания, будут отстаивать свои привилегии и никогда не откажутся от золота и не сложат мечей. Только в длительной кровопролитной борьбе можно отобрать у них богатство и оружие. Его смерть, смерть мученика, приблизит эту борьбу. Магистр не отречется. Он станет первым факелом, от которого заполыхает костер… Уже стемнело. Тюремщик принес узнику последний — это слово сегодня прибавлялось ко всему — ужин и спросил Гуса, у кого он хочет исповедаться. Магистр назвал профессора Штепана Палеча. Когда тюремщик вышел, Гус сел к столику и написал домой последнее письмо:
«Магистр Ян Гус, слуга божий, всем верным чехам. Я радуюсь тому, что у меня еще есть время написать вам сие послание. Прошу вас, не пугайтесь, когда услышите сообщение о моей смерти. Думайте обо мне не как о мертвом, а как о живом, дабы я и впредь жил в ваших деяниях. Я прошу вас прежде всего любить друг друга и верно стоять за божью правду. Не позволяйте врагам запугивать вас угрозами и приказами: они разлетятся как мотыльки, и разорвутся как паутина. Не бойтесь ни боли, ни мук. Ибо в Священном писании говорится: „Тот, кто жаждет прийти ко мне, пусть откажется от самого себя, возьмет свой крест и следует за мной“ Знайте, меня не сломили угрозы врагов — я не отрекся ни от единого своего артикула. Во имя вашего земного благополучия я прошу вас, паны, быть милостивыми с бедняками, верно править своими подданными. Купцов прошу справедливо торговать в лавках, а ремесленников — честно выполнять свои обязанности. Прошу магистров усердно обучать своих студентов, а студентов — слушаться своих учителей. Так проявляйте свою любовь к богу, любя и помогая друг другу. У меня самого есть две просьбы: Не забывайте мой милый Вифлеем, пусть всегда звучит в нем божье слово. Примите с благодарностью в свою семью пана Яна из Хлума, пана Вацлава из Дубе и других. Они верно защищали меня, выступая против римского короля и всего собора, где мне сочувствовала только горсточка поляков. О, если бы вы видели собор, который называет себя святейшим и непогрешимым! Я прощаюсь с вами. Помолитесь за меня, как молюсь я за вас здесь, в тюрьме, на исходе земной жизни. Утром смерть очистит — я уповаю на это — мои грехи, и божье милосердие не найдет во мне никакого еретичества. Аминь».Он отложил перо и еще долго смотрел на свое письмо. Это письмо прочтут друзья, и до них донесется последнее биение его сердца. Гус не заметил, — то ли он задремал от усталости, то ли погрузился в свои мысли, — как в камеру вошел Палеч. Черная фигура Палеча была еле заметна в темной камере. Он стоял молча, опустив голову. Гус пристально смотрел на него. Палеч не выдержал и сказал: — Чего ты хочешь от меня, магистр? — Я хочу попросить у тебя прощения… Палеч испуганно посмотрел на Гуса. — Мы часто спорили с тобой, — продолжал Гус. — Иногда я даже горячился. Мне помнится, что однажды — уже в тюрьме — я сказал, что ты исказил некоторые мои мысли. Я назвал тебя подделывателем. Мне не хочется так… расставаться. Пожалуйста, прости меня… Палеч смотрел на Гуса широко открытыми глазами. Он хотел повернуться и покинуть магистра, но не мог сдвинуться с места. Казалось, вся тяжесть позорных слов и проклятий, которыми он когда-то осыпал своего бывшего друга, теперь обрушилась на Палеча. Гус просит его… Нет, он — не человек. Его слова — месть дьявола. Только дьявол способен сказать такое. И Палеч крикнул магистру: — Дьявол!.. Но в ответ он услышал тихий, спокойный голос Гуса: — Нет, я не дьявол, я человек. И ты человек. Тебе тяжело. Тебе уже давно тяжело. Я знал это и потому позвал тебя сюда. Друг Штепан, могу ли я чем-нибудь помочь тебе?.. Страх и тоска начали покидать Палеча. На душе у него стало легче. Слёзы выступили из глаз. Палеч понял, чем они вызваны. Чем и кем!.. Из его груди вырвался судорожный вопль. Палеч повернулся и выбежал вон… Было уже далеко за полночь. Гус не спал. Он то прохаживался по камере, то сидел, опершись спиной о стену и глядя в темноту. Лучина уже давно погасла. Он коснулся губ рукой и понял, что улыбается. А почему бы ему не улыбнуться? Разве он не наделен двумя ценнейшими дарами — любовью к человеку и свободой? Да, магистр свободен, хотя закован в цепи. Он действительно свободен, ибо сам распоряжается собой и решает свою судьбу. И магистр решил. Он — не один. Одинок тот, кто по своей воле сделался печальной жертвой властолюбия. А он, магистр, не одинок. С ним — народ! Пока они вместе, он силен. Гус улыбается, глядя в темноту. Для него она полна света. Этот свет ярче зари, пробивающейся сквозь ночную мглу. Он упал на отречение, разорванное пополам, свет ярче того дня, который грядет на смену ночи и вот разгорится над Констанцем. Это — заря шестого июля. (обратно) Внимание! Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения. После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий. Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам. (обратно) (обратно) (обратно) (обратно)
Снорри Кристьянссон Род
© Роман Демидов, перевод, 2019 © Анастасия Родина, фотография, 2019 © ООО «Издательство АСТ», 2019* * *
(обратно)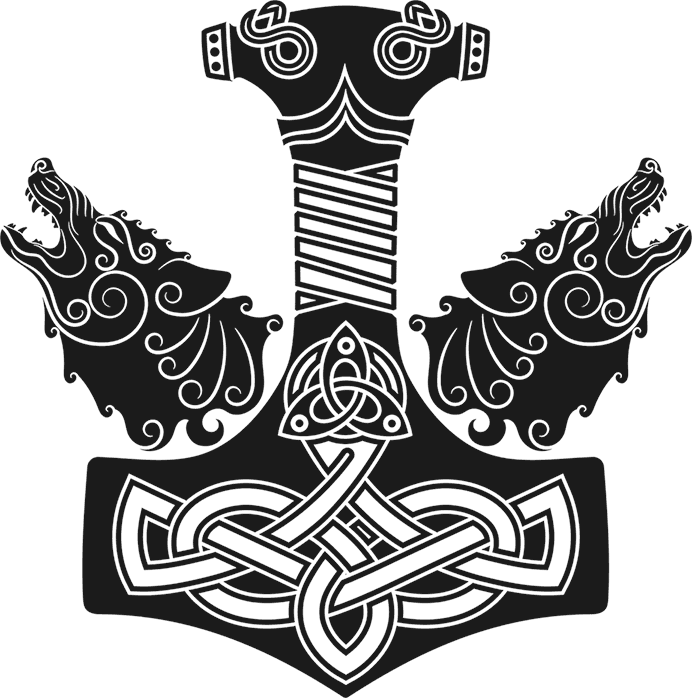 (обратно)
(обратно)
Посвящается Мораг, научившей меня ценить детективные романы
(обратно)
Глава 1 Карл
Она окунула руку в бочку ледяной воды и держала ее там, наблюдая, как встают дыбом волоски на предплечье. Кончики пальцев покалывало, потом ощущение прошло, и ладонь стала казаться куском мяса, трясущимся от безжалостного, обволакивающего холода, – но она все равно не доставала ее, принуждая себя складывать руку горстью так медленно, как только могла. Она глубоко вдохнула и взглянула на свое изломанное отражение. На нее смотрела юная девушка, чьи решительно прищуренные глаза, высокие скулы и стиснутые зубы делали ее похожей на хищную птицу. – Хельга! Она выдохнула и плеснула холодной водой себе на лицо. – Иду! Она свернула за угол овчарни, и перед ней распахнулась земля. Сквозь верхушки деревьев можно было увидеть длинный дом у самой реки. Старый коровник едва проглядывал, а остальные постройки были скрыты стволами. Ниже по течению реки ее взгляду открылась долина Рен, где темная кора и сочная зелень лесов сменялась лоскутами кропотливо расчищенной земли. Как-то поздним вечером, когда в нем заговорил эль, ее отец заявил, что правит всем, что может видеть. Кто-то, может, и возразил бы, что никакого права на долину у него не было, но она еще не встречала человека, который, увидев Уннтора Регинссона сидящим в своем высоком кресле с топором и луком под рукой, захотел бы с ним спорить. – Ты закончила? – послышался голос Эйнара. Она представила, как он стоит у подножья холма, рядом с боковыми воротами. Двадцать пять зим от роду, а лицо все равно мальчишеское. Хельга понимала, что он должен был измениться за одиннадцать зим, прошедших с того дня, как она поселилась на хуторе вместе с Уннтором и Хильдигуннюр, но казалось, что это не так. Она помнила, как он проносился мимо нее, гоняясь за Уннторовой дочкой, чтобы обрызгать ее водой. И пусть Эйнар не гонялся за девочками с тех пор, как Йорунн уехала выходить замуж, для Хельги он всегда будет тем же мальчишкой. Она улыбнулась своим мыслям. – Да! – крикнула она в ответ. Сено сложено, тропа для овец расчищена. В овчарню их погонят где-то через месяц, но чем дольше откладываешь дела, тем больше ковыряться потом. Решай проблемы споро и исправно. Так ее учила мать. Она сбежала вниз по тропинке от новой овчарни, глотая воздух, в котором еще чувствовалась прохлада ночи. Над ней возвышались мощные стволы. Зимой они защищали ее от ветров, приходивших в долину с юго-востока, сейчас – прятали от утреннего солнца в приятном теньке. Когда склон перешел в ровную землю, Хельга увидела внизу своего названого брата, шедшего к воротам. – Не смей проверять мою работу, Эйнар Якасон, – пробормотала она себе под нос, и он, видимо, услышал, потому что остановился и смотрел на нее, терпеливо дожидаясь. Похоже, придумывал, что бы такого ехидного сказать. Хельга улыбнулась. Он постоянно пытался выйти победителем из их словесных схваток, но пока что ему не удавалось. Пусть она и не была родной дочерью Хильдигуннюр, но зато быстро училась, а от острого языка приемной матери ей доставалось частенько. Когда она показалась из-за деревьев, Эйнар все так же ждал, с плеча его свисал моток веревки. – Ты чего так долго? Решила сеном перекусить? – Девушки сена не едят, Эйнар, – парировала Хельга. – А у тебя, видать, нынче кобыла в невестах ходит. Как только она подошла поближе, он шлепнул ее веревкой. – Ты ведьма, – сказал он. – Вот уж нет, – ответила она. – Была б я ведьмой, превратила бы тебя в кого покрасивше. – Пфф, – сказал Эйнар и ухмыльнулся. Его отец, Яки, широкоплечий и седовласый, вышел из дома и крикнул: – Поторапливайтесь, вы двое, – они все сегодня приедут! Эйнар закатил глаза. – Хорошо, папа, – прокричал он в ответ и повернулся к Хельге. – Пойдем, надо в старом коровнике прибраться. – Зачем? – спросила Хельга, не двигаясь с места. – Вроде бы Бьёрн со своими там будет жить. – Это чтобы братьев вместе не селить? – Ага, – сказал Эйнар. – Почему, думаешь, здоровяк отправился на восток, а Карл на юг? Они, видать, дрались каждый день – Карл снова и снова колошматил братьев, пока Бьёрн не окреп и не остановил его. Хильдигуннюр в тот год изрядно наловчилась раны залечивать. – Веселое времечко нас ждет, да? – она вздохнула. Эйнар пожал плечами и оттолкнулся от забора. – Все будет хорошо, – сказал он, удаляясь. – Уверен, старики удержат их в узде.Старый коровник едва уловимо пах животными и сеном. Солнечные лучи просачивались в щели между покоробившимися стенными досками, но большую часть хлева окутывал бледный свет на грани заката и сумерек, и только яркий конус, бивший сквозь распахнутую дверь, освещал скелет когда-то полезной постройки, захламленной всяческими хозяйственными орудиями, деревяшками и хламом. В одном углу, рядом со сломанными удочками и невыделанными кожами на старых покореженных растяжках, была навалена груда досок высотой в человеческий рост. В другом углу стоял покрытый рунами каменный столб, почти полностью скрытый в тени. – Такой маленький, – сказала Хельга. – У них тогда всего четыре коровы было… Хильдигуннюр уж сколько лет твердит Уннтору что-нибудь с ним сделать, но всегда находятся дела поважнее, – сказал Эйнар. – Они не могут решить, снести его или переделать во что-то другое. – Не помню, была ли я здесь когда-нибудь, – проговорила Хельга, с любопытством оглядываясь вокруг. – Кузня – логово твоего отца, а это место всегда казалось принадлежащим Уннтору. – Она пнула кусок дерева, отскочивший в угол. – Так что нам нужно сделать? – Ну, для начала вынести все это наружу – нужно расчистить пол, чтобы соорудить кровати для Бьёрна с семьей… – Что? Зачем?.. – Хельга выглядела крайне недовольной. – Так легенды не сильно врут, знаешь ли. Он к двенадцатой зиме в обычные постели не влезал. А юный Вёлунд весь в отца, – Эйнар на мгновение задумался. – Ах да, ты же с ними не встречалась, да? – Нет, – сказала Хельга. – Ни с Бьёрном, ни с Карлом. Они вроде бы должны были приехать пять лет назад… – …но Карла не было дома, а у Бьёрна семья заболела. Помню. Аслака ты, конечно, знаешь. – Как его забудешь? Прибыл в гости с двумя детишками и женой-драконицей. Она тоже приедет? – Боюсь, что да, – сказал Эйнар. Хельга содрогнулась: – Я лучше с бешеным медведем повстречаюсь. – Понимаю тебя, – сказал Эйнар. – А еще есть Йорунн и Сигмар. Ее я, кажется, помню, а вот его не видела. – Нет, – сказал Эйнар, занявшись треснувшей балкой и внезапно утратив интерес к разговору. Хельга схватила лопату со сломанным черенком: – Я такую даже не помню. – Старье, – сказал Эйнар, убирая с дороги плуг с одной рукояткой. – Уннтор давненько собирается все это починить, но знаешь, что я думаю? – Ты думаешь? – спросила Хельга с притворным изумлением. – Язык придержи, – сказал Эйнар, выволакивая старый плуг за дверь. Когда он вернулся назад, его лицо светилось озорством. – Я думаю, старик просто счастлив, оттого что с хутором все хорошо, и позволяет себе владеть сломанными вещами – так что он бросает их там, где они сломались, а отец сваливает их сюда, – он обвел барахло взглядом. – Вот она, сокровищница отважного воина. – Ха, – сказала Хельга. – В это мне трудно поверить. – Она подумала об Уннторе, своем приемном отце, о том, как, понукаемый женой, он принял ее в семью одиннадцать зим назад, когда почти все их дети покинули хутор. Представить, как он разбазаривает с трудом заработанные богатства, было почти невозможно. В свое время ходили слухи, что он вернулся после набегов на запад с добычей всем на зависть, но старый медведь всегда это отрицал. Верный Яки помогал ему отгонять большинство пришедших поживиться. Остальных хоронили сразу за западной оградой. В конце концов об этом узнали, и местные, видя, как тяжело работает Уннтор на своей земле, решили, что слухи были всего лишь слухами, сказочками у костра, так что те, кто искал быстрого и легкого богатства, вскоре разбрелись по другим местам. – В это мне трудно поверить, – повторила Хельга и с усмешкой добавила: – Хильдигуннюр ему так этого не оставит! – Может быть, – сказал Эйнар, – но она так долго жила со старым медведем… Сдается мне, она знает, когда надо драться, а когда посмотреть в другую сторону. В упрямстве эти двое друг друга стоят. – Наверное, поэтому они до сих пор женаты, – сказала Хельга, сдвигая с места пару сломанных кузнечных молотов. – Со временем про мою мать сложат «Сказание об укрощении Уннтора». – И хорошая ведь будет история. Как и Уннторово «Соблазнение Хильдигуннюр». Мне до сих пор нравится, хоть я и слышал его не меньше раз, чем прожил лет. – То есть сколько, раз двенадцать? Эйнар скорчил ей рожу и нагнулся, чтобы ухватиться за большой треснувший жернов: – Уннтор Регинссон отправился искать себе жену. Он возжелал Хильдигуннюр, но отец ее, старый Хейдрек, был наполовину троллем… Хельга с трудом отодвинула с дороги кучу досок. – Всего наполовину? Старики, наверное, только начали пить, когда в последний раз это тебе рассказывали. Я-то думала, он был… – Девять футов высотой, провалиться мне на этом месте. И зубы себе затачивал, поганец, – раздался у входа хриплый голос: Уннтор с Речного хутора, вождь долины Рен и владыка всего, что видел, загородил собой почти весь свет. Плечи его едва не касались обеих сторон дверного проема, седых волос еще хватало, чтобы заплетать косу, а аккуратно подстриженная борода была густой. В шестьдесят два года он все еще производил внушительное впечатление. – И медведей убивал для потехи. – А ты подошел к нему, – сказала Хельга. – И врезал ему по голове бедренной костью быка, – продолжил Эйнар. – Не совсем так, – сказал старик. – Я открыл было рот, чтобы поговорить, а он врезал мне – отбросил на четыре шага и хорошенько так вывернул челюсть. Вот тогда я огрел его костью, и он свалился. А когда опомнился, я спросил, позволит ли он мне жениться на его дочери, – и он тоже принялся перетаскивать хлам к двери. Эйнар улыбнулся: – А он сказал… – А мерзкий старый тролль расхохотался и сказал: «Да пожалуйста. Она бьет больнее, чем я». И он не соврал, – закончил Уннтор. – Нет, вот это не трогай. Эйнар остановился, так и не коснувшись каменного столба. – Почему? – Сдвинешь – беда будет. Он тут стоит с того дня, как мы здесь поселились. Боги прогневаются, – добавил он. – Оставь на месте. Эйнар пожал плечами и пошел к груде досок. – Беритесь-ка вы за кровати для Бьёрна и Тири… да, и для малыша Вёлунда тоже, – сказал Уннтор. – Доски сложите там, – добавил он и показал на угол коровника, который был дальше всего от двери. – Малышу Вёлунду уже двенадцать зим, – сказала Хельга, – и он давно уже не малыш, как мама говорит. Уннтор фыркнул и отмахнулся от нее: – Если я сказал, что он малыш, значит, он малыш, – заявил он. – Эйнар, принеси батины снасти. Кровати сколотим там, где ты стоишь. Эйнар кивнул, бросил доски на землю и вышел. Все прочие обломки сельской жизни, хранившиеся в старом коровнике, теперь были аккуратно сложены у забора, и в опустевшей постройке воцарилась тишина. – Моя плоть и кровь едет за мной, Хельга, – тихо сказал Уннтор. – Папа, ты о чем? Старик повернулся и взглянул на нее. В полумраке он казался очень усталым. – Моя плоть и кровь, – повторил он, – с тьмой в сердце. Я видел во сне. Она открыла рот, чтобы заговорить, но звяканье металла о металл возвестило о приближении Эйнара. Уннтор тоже его услышал, и в мгновение ока утомленный старик исчез, а вместо него появился грозный вождь. Хотя стояла жара, волоски на руках у Хельги поднялись дыбом.
* * *
В полдень по округе прокатился крик Яки: – Всадники! Хельга разволновалась. Странное поведение Уннтора в коровнике тревожило ее, но она старалась не обращать на это внимания. «Что-то случится». И пусть уют повседневности успокаивал, но эта мысль не отпускала: на нее надвигался внешний мир. Она подбежала к главным воротам, откуда ничто не закрывало вид на долину. Яки и Эйнар были уже там. – Лошадей они не берегут, – заметил Яки. – Когда это Карл хоть что-то берег? – сказал Эйнар. Коренастый мужчина резко схватил сына за руку. – За языком следи, – прорычал он. – Понял меня? – Да, папа, – ответил Эйнар, стараясь не морщиться от грубой хватки. Яки отпустил его. – Просто… если можешь, ничего не говори. – Он взглянул на Хельгу и добавил: – И ты, девочка, тоже. Хельга кивнула: – Конечно. – Она посмотрела на всадников. Силуэты были едва различимы. – Их трое? – Они далеко, мне не видно, – пробормотал старик. – Возможно, – Эйнар выглядел озадаченным. – Но кого тогда они оставили дома? Со двора послышался голос Хильдигуннюр: – Хельга? Подсоби-ка мне… Еще раз взглянув на приближающихся всадников, Хельга развернулась и побежала к длинному дому, внушительному строению со стенами почти в два человеческих роста. Женщина в боковых дверях по сравнению с ним смотрелась что веточка, но Хельга давно поняла, что о ней нельзя судить по внешности. Хильдигуннюр, женщина, ставшая ей матерью, была выносливей многих мужчин. Пусть она не была ни высокой, ни крепко сбитой, зато двигалась с легкостью, скрывавшей пятьдесят пять прожитых лет, и до сих пор могла бежать полдня без остановки. Каким бы невероятным это ни казалось, она во всем была ровней Уннтору. Последние тридцать лет они были сердцем и своей долины, и соседней, и той, что за ней. Женщины проводили в пути несколько дней, чтобы спросить у Хильдигуннюр совета; большинство считало ее строгой, но справедливой, а у тех, кто так не думал, хватало мозгов, чтобы помалкивать и поминать ведьмовство лишь там, где точно не было лишних ушей. Но и те и другие соглашались в том, что мудрость ее была глубока. – Быстрее, девочка! – крикнула Хильдигуннюр. – Тут бородой обрастешь, пока тебя дождешься. – На тебе, мама, и борода хорошо смотреться будет. – Лесть тебя до добра не доведет, – улыбнулась Хильдигуннюр. – Котелки ждут. Путникам нужна еда. Вы кровати-то сделали? – Давно уже, – ответила Хельга. – Эйнар быстро справился. – Он молодец, – сказала Хильдигуннюр. В ее взгляде блеснула искорка. – И смотреть на него приятно. – Мама! – сказала Хельга. – Фу! Серьезно? – Ты, может, и считаешь его братом, – сказала Хильдигуннюр, пропуская ее в дом, – а люди на это смотрят по-другому. Прежде чем закрыть дверь, она оглянулась через плечо. Уннтор присоединился к Яки и Эйнару у ворот.Когда всадники приблизились и трое мужчин смогли хорошенько разглядеть лошадей, между ними воцарилось молчание. Наконец Яки заговорил: – Я смотрю, у Карла дела неплохи, – сказал он. В ответ Уннтор фыркнул. Лошади неслись во всю прыть, их мышцы бугрились, шеи вытягивались вперед в наслаждении скоростью. Наездники, склонившись вперед, ободряюще кричали и подгоняли скакунов еще больше. Один из всадников обогнал двух других и опережал их все сильнее. Мужчины у ворот наконец смогли разглядеть фигуры. Наравне с троицей скакунов несся мастиф, его язык болтался в воздухе. – В этот раз Карлу все-таки не выиграть, – с удовлетворением заметил Уннтор. Всадник на вырвавшейся вперед лошади поднялся в седле и ударил кулаком по воздуху, затем дернул на себя поводья, замедляя животное, пока остальные двое не сделали так же. Капюшон свалился с его головы, открыв длинные светлые волосы и розовые щечки, алеющие от возбуждения. – Дедушка! – закричала девушка, и бегущий рядом пес глубоко, гортанно рявкнул в ответ. – Гита! – завопил Уннтор, пока лошади сокращали расстояние между ними. –Ездишь точно как я тебя учил! – Даже лучше, мне кажется, – прорычал тот из отставших, что был помассивнее. Карл Уннторссон был крепкого сложения: широкая грудь, туловище как древесный ствол. Клочковатая черная борода топорщилась на его нижней челюсти, как щетина на дурно сделанной щетке, а левая щека щеголяла боевыми шрамами. Густые брови делали его лицо вечно хмурым. На шее он носил кожаный ремешок, серебряное навершие молота Тора покоилось на его ключице. – Она себя не сдерживает. Он ловко соскочил с лошади, и подошедший пес ткнулся мордой ему в ладонь. – Карл, – сказал Уннтор. – Добро пожаловать домой. – А меня ты, значит, не замечаешь? – третья всадница стремительно спрыгнула на землю. Высокая худощавая женщина порывистым движением руки откинула капюшон с головы. На ее правом плече лежала светлая коса, в которую было вплетено множество серебряных нитей. Мать и дочь были очень похожи. – Приветствую, Агла, – сказал Уннтор. – Ты всегда желанная гостья в моем доме. – Врешь как танцуешь, старый медведь, – ответила женщина, – неуклюже. Но я рада тебя видеть. Яки распахнул ворота, и троица наездников провела в них своих скакунов. – Потрясающие животные, – сказал Уннтор. – Да, хороши, – согласился Карл. – Но мне нужна лошадь посильнее. Они все от одного жеребца и вес выносят одинаковый. Гита победила, потому что она легче. – И вовсе нет, – парировала девушка. – Я просто лучше тебя. – Азарт юности, – сказал Карл. – Ничего, скоро я тебя проучу. – Сначала догони, – Гита, пританцовывая, вывернулась из-под руки отца. – Тогда не останавливайся, а то я твою милую шейку сверну, когда поймаю, – сказал Карл. – А потом я зарежу тебя во сне, – сообщила Агла. Карл резко и коротко рассмеялся. – Эйнар, уведи лошадей, – сказал Уннтор. – А я пойду накормлю наших странников. Карл огляделся вокруг. – А ее тут не было, – сказал он, кивая на конюшню. – Шесть лет назад построили… Шесть? – Уннтор посмотрел на Яки. – Семь, – поправил тот. – Давно я тут не был, – сказал Карл. – Оставь лошадей. Мама еду приготовила, – Уннтор подтолкнул пререкающееся семейство к дому. Когда они отошли достаточно далеко, Яки бросил взгляд на Эйнара. Стоявшая рядом лошадь Карла фыркнула и ударила в землю копытом. – Говорил же, – сказал старик, – хочешь, чтобы тебе ничего не оторвали, – молчи.
Хельга увидела, как на лице ее матери всплывает улыбка. Потом услышала приближающиеся голоса, и спустя мгновение дверь открылась. Седовласая женщина бросила взгляд на котелок, и Хельга поняла намек. Она сосредоточилась на деревянной ложке, помешивая тушеное мясо круговыми движениями. – Жена, – провозгласил Уннтор, – боги одарили нас гостями! – Агла! Гита! – Хильдигуннюр стремительно прошла по дому и обняла обеих. – Добро пожаловать, родные мои. – Спасибо, бабушка, – сказала Гита, пока ее мать выворачивалась из объятий Хильдигуннюр. – Ты все такая же молодая. – Ой, пф, – ответила Хильдигуннюр. – Я стара и слаба, и кости мои такие же. – Да не похоже, – сказала Агла, потирая плечо. – Если ты и мужа вот так обнимаешь, неудивительно, что он славится скверным норовом. – Зато Карл прямо робкий ягненок, – сказала Хильдигуннюр, сверкнув глазами. Гита рассмеялась: – Ха! А старая сука еще может кусаться! – ГИТА! – голос Карла вспорол воздух подобно хлысту. – Подойди сюда сейчас же. Девушка поджала губы и проглотила слова, которые, казалось, рвались наружу. – Хорошо, папа, – наконец смогла выдавить Гита. Она подошла к Карлу, который стоял рядом с Уннтором. Черноволосый мужчина был мрачен, сплошь острые углы и ярость: – Не смей позорить мое имя, когда гостишь в чужом доме. – Но… – Никаких «но», – рявкнул Карл. – Да смешно же было, – сказала Хильдигуннюр. – Мама, – процедил Карл сквозь стиснутые зубы, – не лезь. Он повернулся к Гите. – Иди проверь лошадей, – он остановил ее гневным взглядом, – и веди себя достойно. На другом конце дома Хельга старалась не привлекать к себе ничьего внимания. Спустя пару мгновений за Гитой с грохотом захлопнулась дверь. Какое-то время все молчали. – Ну что, – сказала Хильдигуннюр, нарушив тишину, – зато мы точно знаем, что она не подменыш. Гримаса Карла переплавилась в подобие улыбки. – Это у нее от матери. – Ну нет! Она упряма, точно камень, а я не такая. Я очень смирная, – сказала Агла. Хельга заметила, как Уннтор подавился смешком за спиной Карла. – Ты – нет, – сказал Карл. – Ты споришь по любому поводу. – А вот и нет! – А вот и да. – Заткнись, старик, – я очень смирная! – Карл, перестань ее дразнить, – сказала Хильдигуннюр. Сердце Хельги ушло в пятки, когда к ней повернулась сначала мать, а потом на нее обратили взгляды Карл и Агла. Ощущение было не из приятных. – А теперь познакомьтесь с нашей Хельгой – она у нас поселилась года через два после того, как ты уехал, и могла бы быть тебе сестрой, если б не была умнее и красивее. Мы не отпустим ее, пока сможем. Карл приветственно кивнул. Агла оглядела ее, словно она была лошадью, и, кажется, ничего интересного не нашла. И вот Хельга снова стала невидимкой. – Ну что, дать вам чего-нибудь поесть, или вы вместо этого еще поругаетесь? Несмотря на шутливый тон Хильдигуннюр, Агла уставилась на своего супруга, и Хельга, попытавшись разглядеть в ее лице шальную искорку, улыбку или хоть какой-то знак любви, не увидела ничего. – Да, спасибо, – сказала Агла, и Хильдигуннюр одарила Хельгу взглядом, вполне заменявшим команду. Двигаясь механически, она вытащила из-под боковых лавок деревянные миски и наполнила их тушеным мясом. Пар плясал возле ее рук, обдавая кожу жаром. Она ухватилась поудобнее и заторопилась к столу, где Агла уселась рядом с Уннтором. Хильдигуннюр уже исчезла, но Хельге не нужно было видеть свою мать, чтобы знать, что та будет работать там, где точно пройдет Гита. Она остановит ее на пару слов, потом наклонит голову, поднимет бровь, заговорщически оглянется, чтобы убедиться, что шутка слышна только им, – и Гита тут же проглотит смешок, и в глазах ее сверкнет бабушкин задор. Хельге почудился за плечом мудрый, наставляющий голос матери. Вовремя сказанное слово спасает от множества бед. Она обнаружила, что, не сознавая этого, подошла к тихо сидевшему за столом Карлу. – Вот, пожалуйста, – сказала она заплетающимся языком. Он уставился прямо на нее, его карие глаза сверкали, улыбающееся лицо пошло морщинками. Он пытается не облизнуть губы, подумалось ей. Как волк. – Спасибо. Спасибо тебе огромное, – сказал он, улыбаясь. – Благодари маму, – ответила Хельга резче, чем намеревалась. – Это она готовила. Вместо того чтобы исчезнуть, улыбка черноволосого мужчины расползлась еще шире. – Выглядит… съедобно. Она чувствовала на себе его взгляд еще долго после того, как вернулась на свое место в тени.
Эйнар провел лошадей в дальний конец конюшни. Сначала он хотел поставить животных в стойла рядом с кобылами Уннтора и Хильдигуннюр, но их прижатые к головам уши и фырканье сразу же убедили его, что это плохая идея, и место им в дальнем конце. Он начал с лошади Карла, проводя щеткой по ее бокам плавными, ровными движениями. Очень быстро стало ясно, что у кобылы дурной норов и ему придется быть начеку, чтобы его не укусили. – Тише, девочка, – пробормотал он, – тебе станет лучше, когда я закончу. Лошадь сердито дернула головой и фыркнула, но кусать Эйнара больше не пыталась. – Вот так, – прошептал он, – еще немножко, и ты от меня избавишься. – А с чего ты взял, что она хочет от тебя избавиться? – спросила Гита, стоя в дверях, и Эйнар подпрыгнул ровно за мгновение до того, как желтые зубы сомкнулись на его руке. Он отошел подальше от бьющей копытами лошади и повернулся к девушке. Он посмотрел на нее, но ничего не сказал. – С ней просто, – сказала Гита, и как только она подошла ближе, кобыла среагировала на знакомого человека, запрокинув голову и фыркнув. – Вот так. Дай сюда, – и Гита протянула руку за щеткой. Эйнар отдал ее, не говоря ни слова. Гита начала чистить лошадь, придерживаясь размеренного ритма. – Ты хорошо справляешься, – заметила она. – Почему ты так думаешь? – спросил Эйнар. – Потому что у тебя все пальцы на месте, – Гита улыбнулась ему. – Значит, ты ей нравишься. Эйнар не ответил, и она нахмурилась. – Хочешь, поухаживаю за лошадьми? – спросила она. – Я… Ну… Если хочешь, – промямлил Эйнар. Гита бросила на него короткий взгляд. – Почему ты со мной не разговариваешь? – спросила она. – Если что, я буду снаружи, – сказал Эйнар, выскользнул из стойла и вышел за дверь, закрыв ее за собой. Лошадь фыркнула на Гиту. – Не начинай, – сказала девушка. – Сама бы не лучше справилась. Она с силой провела щеткой по спине животного. – Но он вроде бы интересный, а у меня будет три дня. Гита нежно погладила кобылу по голове и прошептала ей в ухо: – Посмотрим, кто сдастся первым. (обратно)
Глава 2 Бьёрн
Уннтор сидел на речном берегу, уперев локти в колени. Его тихая неподвижность гармонировала с тихим журчанием реки и пением птиц в кустах на другом берегу. Поверхность неспешной реки сверкала на солнце у его ног, будто золотой водопад. Старик смотрел на шедшего со стороны дома человека, который двигался размеренно и целеустремленно. – Вот и началось, – пробормотал Уннтор. Подойдя поближе, Карл махнул рукой: – Мама сказала, что ты будешь здесь. – В прошлом году что-то сместилось выше по течению. Теперь тут хорошее местечко, – сказал Уннтор. Он взялся за удочку и стал вытягивать леску, пока крючок не показался из воды. – Я решил попробовать поймать что-нибудь еще к ужину. – Скоро начнет клевать, – сказал Карл. – Обычно так и бывает, – ответил Уннтор. – У тебя все хорошо. – Держусь потихоньку. – Как дела в Гломме? Уннтор повернулся и посмотрел на запад, в сторону гор, отделявших их от долины Гломмы. – Как всегда, – сказал он. – Соседи порой ругаются между собой. До сих пор ходят ко мне, чтобы я разрешил их споры, или когда думают, будто хотят узнать, что боги думают о том, сем и этом. Я им никогда не говорю, что я думаю. – А что ты думаешь? – Что у богов есть дела поважнее, чем разбираться, кто на чью дочку залез. Карл усмехнулся. – Пару лет назад у нас похититель скота завелся. – Правда? – Путешественник с юга. Думал, найдет каких-нибудь деревенских простаков, легко обчистит пару хуторов, – Уннтор улыбнулся. – Он был не слишком мудрым человеком. Тень такой же улыбки возникла на лице Карла, и на мгновение двое мужчин стали невероятно похожими. – А ты как? До меня доходят всякие истории с юга, но я не знаю, какой и верить. – Мы хорошо устроились, – сказал Карл. – Я ходил на корабле с ватагой крепких ублюдков, капитаном у нас был Сигурд Эгиссон. Уннтор присвистнул: – Даже мы здесь о нем слыхали, – сказал он. – Из старой команды Скаргрима? Несгибаемый, как скала. Карл улыбнулся: – Несгибаемый, насколько нужно. Мы награбили, сколько смогли в саксонских землях, а смогли мы очень много – мне хватило, чтобы купить большой хутор на юге. – Я что-то про это слышал, но… – Двадцать четыре коровы, – оборвал Карл. Уннтор затих. – Двадцать четыре, – сказал он. – Это… это внушительно. – И сорок овец. Четыре работника, двое с женами. – Значит, ты справился лучше, чем я, – сказал Уннтор. – Потому что я не закапывал свою добычу, – ответил Карл. – Я думаю, что мужчина должен сам заработать то, чем владеет, – резко сказал Уннтор. – И не говори мне, что до сих пор веришь в эти бабкины сказки. Он посмотрел на сына и медленно проговорил: – Нет никакого клада. Карл посмотрел на него, но ничего не сказал. В следующий момент он глянул вниз по течению реки. – Я так и думал, – пробормотал он. – Всего лишь байка. – Так оно и есть, – сказал Уннтор. Леска у его ног двигалась вместе с течением, провисшая и безжизненная.Нож сильно и точно входил в мясо; Хильдигуннюр вонзала лезвие в ягненка медленно, уверенно и умело, разрезая жилы, скреплявшие кости и мясо. Хельга чистила репу на расстоянии вытянутой руки от нее и старалась быть незаметной. Агла вздохнула у них за спинами и продолжила жаловаться: – Уж и не знаю, что с ней делать. Ведет себя… – Точно как ты, когда была моложе? – по-доброму сказала Хильдигуннюр. – Да, – ответила светловолосая женщина, опускаясь на груду мехов. – И я боюсь, что она наделает тех же ошибок. – Ошибки – это не так уж плохо, – сказала Хильдигуннюр, выкручивая ногу ягненка из сустава. – На них учишься быть мудрее. – Она развернулась и подмигнула Агле. – Как мы. Агла вздохнула: – Да. Наверное. Я просто хочу, чтобы она… не знаю. – Была покорнее? Мягче. Добрее. – Да. «И у кого ей этому учиться?» – подумала Хельга. – С молоденькими девушками такое бывает, – сказала Хильдигуннюр. – Они ужасные, ошибающиеся, пожирающие мужчин чудовища. Как Хельга, – добавила она. – Что? Я не такая! – вскинулась Хельга. – Готова поспорить, что такая, – рассмеялась светловолосая. – Готова поспорить, они в очередь за тобой выстраиваются, с мечами в руках. – Сражаются за нее, – сказала Хильдигуннюр, – целыми толпами. Она качнула бедрами, показывая, как именно воображаемые женихи Хельги дерутся за нее. Агла восторженно хохотнула. – Очень смешно, – сказала Хельга, – и очень точно. По опыту говоришь, да, мам? – Ого! – провозгласила Агла. – Да у тебя девица тоже хороша. – Знаю, – ответила старшая из женщин, улыбнувшись Хельге. – Действительно, хороша. Мне уж и озадачить ее нечем, и о богах я не могу ей больше рассказывать, потому что она уже все знает. И на целебные травы у нее нюх хороший. Но хватит нам болтать об отважных юношах, а то она перевозбудится и не уснет сегодня, думая о мечах – всяческих размеров и форм. Расскажи нам, что творится в мире, Агла: какие новости с юга? Пока жена Карла рассказывала новости о политике и войнах, Хельга тайком бросила взгляд на мать и вспомнила, как Эйнар укрощал особо строптивых кобылиц. На лице матери было такое же выражение удовлетворенности своим достижением. – Работай, работай, – еле слышно сказала Хильдигуннюр, пока Агла заливалась позади них. – Еда сама себя не приготовит. Нож пожилой женщины вошел в шею ягненка.
Яки заметил его первым. – А это точно Бьёрн. – Где? – спросил Эйнар. Он на мгновение прислонился к воротам, утирая пот со лба. – Вон там – у излучины, – показал Яки, и действительно, примерно в миле от них двое людей вели лошадей под уздцы, а третий, державшийся позади них, горбился в седле. – Как думаешь, он на лошадь вообще залезал? – спросил Эйнар. – Надеюсь, что нет, очень уж животное жалко. Человек слева, среднего роста и сложения, двигался спокойно и размеренно. Человек справа был на полторы головы выше, шире и больше во всех смыслах слова, и лошадь, шедшая рядом с ним, смотрелась будто пони. Сбоку от него шла собака. – Он не торопится, – сказал Эйнар. Яки вздохнул: – Наш Бьёрн вообще редко торопится. – Скучал по ним? – спросил Эйнар спустя какое-то время. Яки немного подумал, прежде чем ответить: – Без их воплей тут куда тише, знаешь ли. – Но Бьёрн с Карлом же… – А, – сказал Яки, отмахиваясь от Эйнара, – они были не самыми хорошими друзьями, но они были братьями. Мелкие раздоры лечатся возрастом и разлукой. Но все четверо по-своему опасны, и у меня в последнее время холодок в костях поселился. – Ты это о чем? – Быть беде, – пробормотал Яки. – Да перестань, козел ты старый! Что ж это, выходит, мой отец с возрастом превратился в суеверную бабу? А дальше что – вещие сны? Яки повернулся и посмотрел на Эйнара. Он ничего не сказал, но лицо его сделалось каменным. Через мгновение парень отвернулся и заметил приближавшуюся Хельгу. – Чего это вы, двое лентяев, у ворот торчите? – крикнула она. – Бьёрн едет, – ответил Эйнар, кивнув на дорогу. – В первый раз вернулся, – сказала Хельга. Стоявший рядом Яки поднял бровь. – Он только-только уехал, когда меня сюда взяли. – Гм, – сказал Яки, – похоже на правду. Значит, прошло… – Одиннадцать зим, – закончила Хельга. – Кажется. Вид у старика был ошарашенный. – Что? Одиннадцать? Куда только время уходит? – Приветствую! – прогремел трубный голос; путники подошли так близко, что можно было разглядеть лица. Здоровяк помахал рукой и крикнул: – Яки, это ты? – А кто еще? – прокричал улыбающийся Яки. Хельга почувствовала, как сзади к ним подошла Хильдигуннюр. – Здравствуй, сын! – крикнула Хильдигуннюр. – Мясо в котелке! Следом за ней из дома вышли Агла и Гита и встали позади пожилой женщины. «Уже знают свое место», – подумала Хельга. – Это добрая весть для усталых странников, – сказал Бьёрн. Хельга не могла отвести взгляд от приближавшегося мужчины. Бьёрн Уннторссон был огромен во всем: лицо его было грубо слеплено, руки были точно две лопаты. Светлые волосы и борода делали его похожим на какого-то горного великана; даже шедший рядом волкодав, сам по себе немаленький пес, по сравнению с ним выглядел щенком. «Девять футов ростом и зубы затачивал», – подумала Хельга. Если лучшие черты Карла были похожи на худшие черты Уннтора, то Бьёрн свою внешность, похоже, унаследовал по линии матери. Жена Бьёрна, Тири, почти потерялась в тени этого гиганта, когда они подошли к воротам. Среднего роста женщину в неброской одежде словно несло попутной струей, поднимаемой мужем. Отправляясь в дорогу, она забрала светло-каштановые волосы в пучок и стянула кожаным ремешком. Хельга взглянула на стоявшую рядом альвоподобную Аглу. «Такие разные», – подумала она, и тут ее внимание привлек неуклюже слезавший с коня мальчик. Хоть ростом он был почти с мужчину, и довольно высокого, у него было мягкое лицо младенца и грация новорожденного олененка. Пока Бьёрн и Тири обменивались приветствиями с другими женщинами, Хельга поймала себя на том, что не сводит с мальчика глаз. Никто не обращал на него внимания, и он просто стоял, явно не зная, что делать или куда идти. Он напоминал ее же, еще маленькую, потерянную и брошенную, и ее ноги пришли в движение прежде, чем мозг это осознал. Хельга протиснулась между лошадьми. – Ты голодный? – тихо спросила она. Мальчик взглянул на нее водянисто-голубыми глазами. Он разжал губы, но остановился, так ничего и не сказав. Вместо этого, чуть погодя, словно переварив ее слова, он кивнул. Хельга улыбнулась. – Пойдем со мной, – сказала она, заговорщически подмигнув. Чуть поколебавшись, он повел за ней своего коня. – Вёлунд! – рявкнул Бьёрн, и Хельга почувствовала, как напрягся мальчик. – Не беспокойся, – сказала Хильдигуннюр, – Хельга за ним приглядит. – Мальчишка – недоумок. По уху ему надо дать, а не приглядывать, – проворчал Бьёрн. Хельга оглянулась на новоприбывших. Бьёрн занимал собой столько места, что Тири попросту не было видно. – Заведи коня сюда, – она показала Вёлунду на конюшню. – Эйнар о нем позаботится. Вы долго ехали? Мальчик кивнул и опустил голову, потом поднял на нее глаза, не отрывая подбородка от груди. Хельга улыбнулась. – Любишь тушеного ягненка? Мальчик снова кивнул, уже более воодушевленно, и Хельга улыбнулась шире. – Тогда пойдем пошуруем в котелках! Она зашагала вперед, ощутив незнакомое чувство удовлетворения, когда услышала, что мальчик следует за ней. Он чуть волочил ноги, но не отставал. Дом одарил их густым ароматом готовящегося мяса. Хельга подошла к большому котлу, взяла черпак и наполнила миску до краев, а мальчик немедленно уселся за стол, сгорбился над едой и начал запихивать ее в рот. – Ты бы… ну… поосторожнее… – начала Хельга, но было поздно: Вёлунд уже выплюнул мясо обратно в миску. Изумленный мальчишка посмотрел на нее как на предательницу: – Горячо! Хельга не смогла сдержать улыбку. – Да, горячо. Подуй на него, вот так. Она взяла его миску и легонько подула внутрь. Вёлунд посмотрел на нее взглядом, полным недоверия, но все-таки принял миску и поддел ложкой небольшой кусочек, аккуратно положив его в рот. В следующее мгновение его лицо озарилось сияющей улыбкой. Он насупился, словно пытался что-то вспомнить, погрузил ложку в миску, зачерпнул и подул на мясо со всем тщанием умелого ремесленника. – Правильно, – сказала Хельга. – Вот так. Вёлунд улыбнулся и продолжил есть; в это время в дом вошли его родители, болтавшие с Аглой и Хильдигуннюр. – …зима выдалась доброй, – говорила Агла, выгибая шею, чтобы смотреть Бьёрну в лицо. – У нас на юге дела идут хорошо. А в вашей стороне как? За их спинами закрылась дверь. – О, в долинах работать тяжело, не сомневайся, – пророкотал Бьёрн, – но свеи держатся своих земель, а мы своих, – здоровяк опустился на зловеще хрустнувшую скамейку. – Иногда мы с ними торгуем. Как-то раз я заполучил три телеги… – БЬЁРН! – крик Эйнара едва не утонул в адском рычании и лае. Поначалу никто в доме не мог понять, что происходит, а потом великан поднялся и, несмотря на свои размеры, поразительно быстро направился к двери. Хельга, смутно сознавая, что Вёлунд все еще сидит над своей миской позади нее, обнаружила, что идет следом за остальными членами семьи. Когда она вышла через боковую дверь дома, Бьёрн миновал уже половину двора. Здоровенный серый волкодав, оскалившись, стоял над мастифом Карла. Кровь струилась из раны на квадратной морде белого пса. Он прижимал голову к земле, но искал мощными лапами опору, чтобы прыгнуть на своего поджарого серого противника. – Бреки, – крикнул Бьёрн. – Ко мне! Волкодав на мгновение заколебался, и мастиф врезался в него, широко разинув пасть и вцепившись серому псу в шею. – НЕТ! – Бьёрн подбежал ближе и отвесил белому псу тяжелый пинок. – Ты что творишь с моей собакой, урод? – заорал Карл, бросаясь к дерущимся животным через весь двор, но Бьёрн не обратил на него внимания и снова пнул мастифа, угодив ему прямо в ребра. Огромный пес взвыл, выпуская волкодава, и тот отступил, опустив голову, но не сводя глаз с противника и все еще ожидая атаки. Карл схватил брата сзади обеими руками, уперся каблуком ему под колено, нажал, повернул, и Бьёрн с криком ударился оземь. – Не трожь моего пса! – прорычал Карл, перепрыгнул через упавшего здоровяка и схватил мастифа за ошейник. Пес заворчал на него, но не укусил. – Успокойся, Эрла, успокойся, – сказал он, и мастиф заскулил в ответ. Карл повернулся к великану, который уже поднялся на колени: – Ты зачем на него свою сраную псину спустил, верзила хренов? – завопил он. – Сдурел, что ли? – Никого я ни на кого не спускал, тем более на твою шавку, – зарычал Бьёрн. – Я на крик Эйнара вышел. – И я должен этому поверить? – сказал Карл. – Ты специально это сделал… – Я этого не делал! – крикнул Бьёрн. – Не делал – а сделал бы, так, сам знаешь, сказал бы тебе в лицо, а не напал со спины, как ублюдочный трус. Кулаки Карла были стиснуты, а вес его уже начал смещаться с пятки на носок, когда голос Уннтора кнутом рассек воздух над ними: – Если вы, два поганца, сейчас же не прекратите, оба получите, что заслужили, – рявкнул он, подходя к драчунам. – Разошлись. – Это он начал… – начал Бьёрн. – СЕЙЧАС ЖЕ. Хельга увидела из дверного проема, как воитель и великан каким-то образом сдулись до шестилеток, отчитываемых отцом. Карл плюнул на землю и развернулся, чтобы осмотреть мастифа, который незаметно ускользнул и забрался под телегу. – Почему вообще собаки не на привязи? – прорычал Бьёрн и склонился над окровавленным волкодавом, успокаивая его мягкими поглаживаниями и осматривая раны. – Сорвались, наверное, – сказал Уннтор, подойдя к нему. – Побузить решили, прямо как хозяева. Так что, мне за вами смотреть весь день, или вы себя как взрослые мужики вести будете? – Я ничего затевать не стану, – сказал Бьёрн и добавил себе под нос: – Я этого никогда не делаю. Уннтор фыркнул. – По крайней мере ты врать не научился, пока тебя не было. Дураком не будь, – сказав это, он направился в другой конец двора, где Карлу удалось выманить мастифа из-под телеги. Огромный пес улегся на бок и поскуливал, когда Карл касался его ребер. – Переломы есть? – Нет, но это не его заслуга, – прорычал Карл. – Нельзя так просто пинать чужую собаку… – Заткнись, – сказал Уннтор. – Ты сам должен был убедиться, что твой пес хорошенько привязан. И он тоже, – добавил он, когда Карл попробовал возразить. – Но я хочу быть уверенным, что вы оба выросли и бросили это дурацкое соперничество, хотя бы на ближайшие три дня. Потом можете идти каждый своим путем и делать что хотите. Но пока вы на моей земле, относитесь ко мне с уважением. Я все еще могу задать трепку каждому из вас, да и обоим вместе. Карл обернулся и посмотрел на отца: – Мы что, приехали, чтобы ты на нас орал? – Нет, – Уннтор оглянулся на Хильдигуннюр. – Мы вас позвали, чтобы посмотреть на вас – посмотреть на семью. Мы давно не виделись, и я решил, что пора это сделать. Я устал слушать, как ваша мать рассказывает сказочки о ваших успехах. Я хотел, чтобы вы сами о них рассказали. Карл быстро огляделся. Женщины возвращались в дом, а Бьёрн занимался своим псом. Из него посыпались слова: – Отец, мне нужна помощь: я взял в долг, чтобы расширить хутор, а потом у меня шестнадцать голов подхватили гниль, и я… я не могу расплатиться. Уннтор нахмурился. – Продай часть скота. Избавься от работников. Это не сложно. – Этого не хватит. – Сколько же ты занял? – Слишком много, – сказал Карл. – Я думал… – Так не надо было. Никогда не бери в долг, – резко сказал Уннтор. – Работай. Продай хутор, если нужно. Купишь новый. – Почему ты не хочешь помочь своему кровнику? Уннтор осмотрел Карла сверху донизу, тщательно подбирая слова. – Потому что думаю, что любой из моих детей должен уметь помогать себе сам. И не пытаться взять больше, чем может унести. С этими словами он развернулся и пошел прочь. – Не смей от меня отворачиваться, отец, – пробормотал темноволосый. – Вечно ты жить не будешь. У его ног скулил мастиф.
Эйнар закрыл за собой дверь кузни и огляделся вокруг. Мастерская его отца была устроена просто, но удобно: у стены примостился верстак, над ним висел ряд видавших виды орудий. Он достал молоток и положил на верстак кривые гвозди. Первый удар заглушил скрип тихо открывшейся двери. – А ты разве не должен за собаками присматривать? – сказала Гита за его спиной. Эйнар резко обернулся. – Любишь же ты к людям подкрадываться, – сказал он. – Прости. Я не хотела. – Да не беспокойся, – пробубнил Эйнар. – Что ты делаешь? – спросила Гита, подходя ближе. – Просто гвозди выпрямляю. – Помочь не надо? Эйнар нахмурился: – Помочь? Э, нет. Это работа для одного. Гита склонилась над верстаком, соприкоснувшись с Эйнаром плечами: – Тогда можно я посмотрю? Эйнар повернулся и впервые посмотрел на нее прямо. У нее захватило дух, а глаза заблестели в предвкушении. Он протянул руку и взял ее за плечо. Потом отвел к двери, открыл ее и вытолкнул Гиту на улицу. – Нет, – сказал он. Гита начала падать назад, и ей пришлось сделать три шага, чтобы сохранить равновесие. Бьёрн, осматривавший своего раненого пса на углу кузни, поднял голову. Он моргнул и усмехнулся: – Ой, что это у нас тут? Юная принцесса не получила чего хотела? Раненое животное заскулило у его ног. – Заткнись, дядя! – крикнула она. – Он… он дубина! И Гита умчалась прочь. Пока Эйнар плотно закрывал дверь в кузню, здоровяк ухмылялся, но улыбка выцвела, когда он увидел, что от дома к нему шагает Карл. Темноволосый остановился ярдах в десяти от него. – Я не натравливал Бреки на твоего пса, – сказал Бьёрн. Карл посмотрел на горизонт, потом на деревья. – Прости, что пнул тебя, – сказал он. Бьёрн пожал плечами: – Да ерунда. Зато быстро меня повалил. Хороший прием. – На западе приходилось драться со здоровенными засранцами, – сказал Карл. – Для моего роста колено – лучшая ставка. Бьорн ухмыльнулся: – Я запомню – и в следующий раз заеду им тебе в рожу. Карл ухмыльнулся в ответ: – Жопа ты. – И ты, брат, жопа, но меньше, хуже и не такая волосатая, – ответил Бьёрн. Вышедший из дома Уннтор уставился на них, но великан помахал ему рукой: – Не беспокойся, батя, Карл просто объяснял мне, что был во всем не прав и что отдаст мне хутор, когда ты отплывешь на пылающей ладье. – Кто сказал, что ему будет что отдавать? – спросил Уннтор. Стоявший между ними Карл на мгновение напрягся, потом рассмеялся. Проходя мимо сыновей, Уннтор тоже расплылся в улыбке: – Ладно, собаки дикие, отведу-ка я вас побегать. – В смысле? – спросил Карл. Старик нырнул в кузню. Братья обменялись взглядами, но ничего не сказали. Уннтор вернулся, неся три копья. За плечом у него был лук, на поясе – колчан. Он кинул каждому из братьев по копью: – Пойдем охотиться.
– …такая буча поднялась, – сказала Агла. Дневное солнце метало лучи в продушины длинного дома, озаряя четырех женщин желтым сиянием. – Представляю себе, – сказала Хильдигуннюр, обстругивая небольшой кусок дерева. Вскоре он должен был превратиться в сидящую собаку, лошадку или быка – в кого она захочет. Лезвие двигалось плавно, малейшие надрезы делали в точности то, что она хотела. Когда ее пальцы смыкались на рукояти из полированного оленьего рога, узкий нож словно становился частью ее самой. «Как коготь», – подумала Хельга, наблюдая издалека. Она хотела заняться вышивкой, но треклятая игла отказывалась выполнять ее желания. То, что в ее воображении было изящной лозой, тянущейся от края юбки вверх по ноге, оказалось больше похоже на следы похмельной вороны. Она нахмурилась, в четвертый раз распорола нитку и начала заново. – Мы слышали только, что, когда у них кончилась еда, ее поймали на воровстве. Не знаю, где и на каком, но никто с ней несколько недель не разговаривал. – Ужасно, – пробормотала Хильдигуннюр. – Правда ведь? Поневоле задумаешься, могут ли такие женщины чему-то научиться и как они добывают себе мужей. – О, я могу представить парочку способов, – сказала Хильдигуннюр. Агла хихикнула. – Так хорошо, когда есть с кем поболтать, – сказала она. – Хорошо, – согласилась Хилдигуннюр. – А ты, Гита? Что ты думаешь об этой женщине? Гита, понурившись, сидела рядом с матерью и давно уже не издавала ни звука. Помолчав, она выплюнула: – Да корова она – была коровой, есть и всегда будет. Агла зашипела, но Хильдигуннюр ее оборвала: – Если то, что говорит твоя мать, правда, то можно и так сказать. Гита фыркнула и снова ушла в себя, однако Хельга не могла не заметить, что ее локти и плечи выпирали теперь не такими острыми углами. Немножко, совсем немножко, самую капельку. Хильдигуннюр улыбнулась девушке и продолжила слушать Аглу. Гита набрала в грудь воздуха и громко вздохнула, так, чтобы все услышали, но прежде чем кто-то смог отреагировать, дверь распахнулась и внутрь ввалилась Тири, жена Бьёрна. – Добро пожаловать, Тири, – сказала Хильдигуннюр. Сидевшая рядом Агла не могла скрыть раздражения, хоть и пыталась. Смущенная Тири быстро помотала головой. – Прости меня, Хильдигуннюр. Я… уф, я… спасибо, что нас пригласили. Я пришла как гость… уф… я не могу найти Вёлунда, – сказала она дрожащим голосом. – Он никогда… Я не… Хильдигуннюр поднялась на ноги и прошла половину дома, прежде чем Хельга поняла, что случилось. Улыбки в ее голосе уже не было: – Давно ты его в последний раз видела? – Уф… недавно. – Агла и Гита – к реке. Хельга – к конюшне, – Хильдигуннюр положила руку на плечо Тири. – Мы пойдем к дороге. – Она дважды сильно хлопнула в ладоши. – Вперед. Ее приказной тон поднял женщин на ноги еще до того, как они это осознали. Как только они вышли на улицу, солнце обдало их жаром. В тени дома Хельга ненадолго забыла, что сейчас лето, но утреннее тепло уже сменилось давящим полуденным зноем. Шагая по двору и глядя в спины взрослых женщин, она думала о Вёлунде. Искать его в конюшне казалось неправильным. Что бы сделал мальчик? «Я в незнакомом месте», – представила она. «Мне жарко и неуютно. Я пойду к реке… нет, потому что, хоть тело у меня и большое, я еще щенок, и мне скучно. А играть интереснее…» Пока Хильдигуннюр вела Тири к главным воротам, а Агла вместе с Гитой удалялись в сторону реки, Хельга оглядела конюшню, приняла решение и свернула влево, к боковым воротам. Эхо зовущих Вёлунда голосов следовало за ней всю дорогу к новой овчарне. Тени деревьев делали жару гораздо терпимее. – Умный мальчик, – пробормотала она, вдыхая запах сосен, оглядываясь вокруг в поисках… вот! Черный круг там, где был перевернут камень; полоса на земле говорит о том, что кто-то тыкал палкой в живших под ним жуков. Она заторопилась дальше, сердце ее забилось сильнее. Сломанная ветка, слегка оборванный мох – знаки были мелкими, но постоянными: кто-то прошел вверх по тропе, подбирая то, что казалось ему интересным. Еще она высматривала примятую траву или следы того, что он свернул с тропки, но ничего не находила. Поворот – и над ней нависла новая овчарня с озаренной солнцем восточной стеной. Хельга заглянула за угол и увидела, что Вёлунд задремал, растянувшись в теньке. С ее губ сорвался смешок, и мальчик заворочался, но не проснулся, пока она не подтолкнула его ногой. – Вставай, засоня, – она улыбнулась ему. – Мама за тебя беспокоится. Вёлунд открыл глаза и тупо посмотрел на Хельгу. – Давай, подъем! Мальчик перевернулся и неуклюже поднялся на ноги. – Я… я заснул. – Это бывает и с лучшими из нас, – согласилась Хельга, – но сейчас мы возвращаемся на хутор, и Эйнар – добрый мальчик, который за лошадками ухаживает, – найдет для тебя какое-нибудь дело. Вёлунд кивнул с серьезным лицом: – Это хорошо. Хельга подавила улыбку. – Отлично. Пойдем. Она направилась обратно к дому, Вёлунд поначалу тащился позади, но потом догнал Хельгу и радостно зашагал рядом с ней.
– Вёлунд! – голос Тири прозвучал сразу же, едва они показались из-за деревьев, и Хельга увидела, как та пробежала несколько шагов к боковым воротам, а потом остановилась, словно сдерживая себя. Шедшая следом Хильдигуннюр стремительно приближалась к ним. Мальчик замедлил шаг. – Ну же, – сказала она, заставляя свой голос звучать радостно, насколько это было возможно. – Мы хотели найти тебе какое-нибудь дело, помнишь? Но Вёлунд понурил голову и волочил ноги. – Мне попадет, – пробубнил он. – Может быть, – сказала Хельга, щеки которой уже болели от натянутой улыбки, – но трепка долгой не бывает, а потом ты сможешь поделать что-нибудь интересное. Можем сходить на реку порыбачить. Мальчик бросил на нее быстрый взгляд: – На реку? Обещаешь? На этот раз вымучивать улыбку не пришлось. – Обещаю. Его шаг немного ускорился. Тири ждала у ворот, словно опасалась покидать безопасный хутор. – Ты зачем убежал, глупый мальчишка? – закричала она. – Я так испугалась! – Хотел погулять, – пробубнил Вёлунд. – Никогда так не делай, не сказав мне, куда идешь! – как только Тири смогла дотянуться до мальчика, она схватила его и затащила в ворота. – Пойдешь со мной и сядешь так, чтобы я тебя видела. Увлекаемый матерью, Вёлунд вывернул шею, оглядываясь на Хельгу. Вид у него был несчастный. – Обещаю, – сказала она одними губами и получила в ответ полуулыбку. Когда мать и сын скрылись из виду, Хильдигуннюр спросила: – Где ты его нашла? – У новой овчарни, – сказала Хельга. – Он пошел поиграть в лесу и задремал в теньке. Хильдигуннюр улыбнулась: – Я ведь тебя не там просила искать, да? – Да, – призналась Хельга. – Хорошо. Так и должно быть, – довольно сказала старая женщина. – У тебя хорошее чутье, девочка. Верь ему. А я пойду поработаю на своей скамеечке и прослежу, чтобы юный Вёлунд не слишком пострадал от материнской руки. Хильдигуннюр направилась в дом за Тири и Вёлундом, а Хельга смотрела ей вслед, радуясь, что ей-то с матерью повезло.
Лес был тихий, омытый зеленым светом, пробивавшимся сквозь листья. Карл двигался вперед, бесшумный, как дух, не сводя глаз с добычи – оленя, увенчанного рогами с семью отростками, который с удовольствием щипал траву в сотне ярдов от него. Неожиданно животное взметнуло голову вверх, каждая мышца его тела напряглась, а ноздри затрепетали. Карл, кряхтя, бросился к нему, ломясь через подлесок, но олень в мгновение ока сорвался с места, оттолкнувшись мощными ногами. Копье просвистело в воздухе и вошло глубоко в древесный ствол, в паре дюймов от шеи животного. – Молодец, брат, – сказал Бьёрн позади него. – Может, он будет вкуснее, если его запугать до смерти. – Заткнись, – Карл сплюнул. – Он небось тебя учуял. – Не учуял, – сказал Бьёрн. – Если б он учуял, подошел бы ко мне ластиться. Карл отошел от брата, ухватился за копье и выдернул его из ствола. – Где отец? Надо сказать ему, что олень ушел. Бьёрн обернулся. – Только что был у меня за спиной. У него же лук с собой, да? В дерево, стоявшее в паре ярдов от братьев, воткнулась стрела. – С собой, – сказал Уннтор чуть позади них. – И, поскольку делить работу – это честно, а я убил оленя, – ухмыляющийся старик показался из-за деревьев, за которыми скрылся олень, – вам придется его потрошить и тащить. Карл, не говоря ни слова, бросил отцу копье. – Хорошо. Где он? Уннтор показал себе за спину, и они разглядели дорожку крови. Карл раздвинул ветви кустарника и скрылся из виду. – Когда ты успел свернуть и обойти нас? – спросил Бьёрн. – С полмили назад, – ответил старик. – А откуда ты узнал, где он будет и куда побежит? – Когда-то это были ваши леса, но моими они стали еще раньше, – Уннтор улыбнулся и нырнул в кусты позади Карла, который стоял над телом оленя. Шею животного пробили две стрелы, одна из которых прошла насквозь и показалась с другой стороны. – Неплохо, старик, – сказал Бьёрн. – Он, должно быть, совсем рядом с тобой прошел. – Рядом, – ответил Уннтор. – Иногда надо стрелять, даже если зверь к тебе слишком близко. – Не спешишь начинать, брат? – усмехнулся Бьёрн. – Ты всегда лучше управлялся с ножом – когда цель не двигалась, – ответил Карл. – Это потому, что он слушал, когда я его учил, – проворчал Уннтор. – А если вы еще подождете, лес освежует тушу за вас. Привлеченные запахом крови и смерти мухи уже кружились над телом. – Хорошо, – сказал Бьёрн, – давайте начнем. Улль, услышь нашу молитву. Благодарим тебя за посланную нам добычу. Кровь животного – твоя. Охотник приветствует тебя. Он опустился на колени рядом с беззащитным горлом оленя, повернул его шею и перерезал ее умелым, отточенным движением. Густая кровь потекла и стала впитываться в лесную землю.
Собаки почуяли их первыми и принялись лаять на заходящее солнце. В доме звук казался потусторонним, словно что-то происходило далеко-далеко отсюда. Вслед за собаками послышался бесплотный голос Яки: – Они возвращаются, – без надобности объявил он. – Самое время, – сказала Хильдигуннюр, убрала нож и опустила кусочек дерева в маленький полотняный мешочек. Агла уже поднялась и разминала ноги и плечи. Когда она двинулась к двери, Тири откашлялась: – Э, как вы думаете… а… может быть, мы не станем говорить Бьёрну, что Вёлунд терялся? Хельга взглянула на свою мать, чье лицо было совершенно невозмутимо. Она чуть нахмурила брови: – Вёлунд? Терялся? – Она улыбнулась. – Мой внук все время был со мной. Жена Бьёрна выдохнула и улыбнулась Хильдигуннюр: – Спасибо, – тихо сказала она. – Пшш. Не стоит. Просто сиди спокойно. Они скоро придут. Мои старые косточки подсказывают, что сегодня мы зажарим кое-что аппетитное. Тири снова успокоилась, и Хельга попыталась мысленно поставить ее рядом с большим, громогласным Бьёрном – и не смогла. С тех пор как она привела Вёлунда обратно, эта женщина не смогла связать и трех слов. Хельга знала, что в браке должно быть своего рода равновесие, но таких супругов она прежде не видела. Уннтор и Хильдигуннюр, возможно, чуть отличались ростом, но Бьёрн и Тири? Как могла такая женщина выстоять против мужчины, размерами напоминающего горного медведя и с голосом в два раза громче? Она вернулась к вышивке, пытаясь обрести то спокойное, приятное состояние разума, когда пальцы неустанно работают сами по себе. Но она не смогла, как ни старалась, стряхнуть с себя неуютное ощущение, которое появилось, когда Карл посмотрел на нее. Хельга слышала, как ее мать учит девушек избегать нежелательного внимания и куда, если что, лучше метить локтем или коленом, но тут случай был иной: мужчины, на которых ей жаловались, не были ее сыновьями. Снаружи послышались голоса, почти заглушенные буйным лаем собак. – Громкие какие, правда? – сказала Хельга. – А какими им еще быть? – ответила Хильдигуннюр. – Они простые твари, а в воздухе пахнет кровью. Моя плоть и кровь. С тьмой в сердце. Они… Короткая, острая боль пронзила ее мысли. Хельга посмотрела вниз, на иглу: та с легкостью прошила ткань и вошла в ее палец. На черной нити ярко алела капля крови. (обратно)
Глава 3 Аслак
Хельга оглядела дом, и у нее закружилась голова. Новое место на дальнем конце стола казалось странным и неприятным, как и новые лица вокруг нее. Хотя в дом можно было втиснуть еще тридцать – сорок гостей, он и так казался забитым людьми. Гита уселась рядом с матерью, напротив Яки. Помощник Уннтора выглядел весьма довольным, в отличие от своего сына; сидевшему рядом с ним Эйнару явно было неуютно. Карл и Агла разместились ближе к углу, по правую руку от отца. Старый Уннтор и Хильдигуннюр сидели во главе стола и смотрели туда, гдерасположился Бьёрн с семьей. Проходя мимо него со своей тарелкой, Хельга едва разминулась с простертой рукой, и была оглушена громогласным рассказом: – …но волки-то не знают, что их убивать положено, верно? И вот мой дружище Арнтор забирается в снег, чтобы достать того, которого вроде как ранил, а из кустов выпрыгивает еще десяток! – Бьёрн шлепнул себя по бедру для пущего эффекта. – Видели бы вы его лицо, когда он развернулся и попытался удрать с криками, – он скорчил рожу: красные щеки, прерывисто раздуваемые дыханием: – «Помоги мне! Помоги!» – А потом что случилось? – спросила увлеченная историей Гита. – Догнали его, конечно, – сказал Бьёрн. – Опрокинули в снег. К счастью, я был рядом, так что… – Хельга краем глаза заметила, как Тири вздыхает, словно говоря: «Ну вот, опять», – стянул портки и обоссал их! Слова Бьёрна чуть не захлебнулись в сиплом хохоте. – Они ненавидят этот запах, – объяснил он, когда отсмеялся и заметил ошарашенный взгляд Гиты. Потом добавил: – Арнтор тоже так сделал! Агла улыбнулась ему, потом посмотрела на Тири: – Расскажите нам, что творится на востоке. Правда ли, что Харальд Прекрасноволосый угрожает вторжением? – Пфф, – сказал Бьёрн. – Эта старая девица не осмелится. Ему же ногами придется идти. Земля возьмет половину его людей. Хельга подумала, что Бьёрн внезапно перестал казаться таким уж дружелюбным. – Перестаньте говорить о войне, – строго сказала Хильдигуннюр. – Ешьте мясо молча. – Где уж тут, когда на том конце стола такой тролленок сидит, – ответил Карл. – Заткнись, коротышка, – сказал Бьёрн. – Я говорю, что хочу и когда хочу. – Вот в этом-то и беда, – сказала Гита. На мгновение все замерло. Взгляды метались над столом, а потом Бьёрн загоготал: – Ха! Да за этим столом только у девки есть пара яиц! Гита ухмыльнулась, и он добавил: – Если так и дальше пойдет, она еще и мальчонкины сегодня ночью себе заграбастает… Он кивнул на Эйнара, и усмешка сразу же сползла с лица Гиты. Она бросила ложку, поднялась и устремилась прочь от стола. – Гита! – рявкнул ей вслед Карл, но без всякого результата. Агла глубоко вздохнула: – Полегче с ней, Бьёрн, – начала она. – Она еще ребенок… – Ребенок? – оборвал ее Бьёрн. – Да она за этим жеребцом весь день гонялась – и уж поверь мне, совсем не детскими делами хотела с ним заняться. Эйнар сделался темно-багровым и уткнулся взглядом в тарелку. – Бьёрн! – резко сказала Тири. – Что? – ответил здоровяк. – Всем же видно. Хельга взглянула на Хильдигуннюр, и та указала глазами на дверь. Приказ был ясен: найди ее.Снаружи было прохладнее, длинные тени сливались с сумраком. Собаки знали ее запах и лаять не стали. Она быстро заглянула в несколько построек, хотя была уверена, что там пусто, потом мысленно прикинула, куда могла пойти Гита. В следующий момент она повернула вправо, к реке. Она нашла девушку сидящей в траве: голова опущена между колен, сапоги в дюйме от воды. – Засранец он, – сказала Хельга, подойдя к сгорбленной фигуре. – Который? – спросила Гита, не поднимая головы, голос ее дрожал. Что бы сказала ее мама? Она вспоминала все разговоры, которые слышала в доме. – А нужно выбрать одного? Все скопом. Ответом был короткий, резкий смешок. – Это верно. – Гита обернулась и хитро взглянула на нее в меркнущем свете. – Ты с ним была? С Эйнаром? – Что? На лице Гиты промелькнуло раздражение. – Ты с ним была? Седлала его?.. – А… А! – Хельга наконец поняла, хихикнула и села рядом. – Нет. Нет, не была. Я не стала бы, я его так давно знаю, он мне скорее брат. – Он мне нравится, – сказала Гита. – Или, ну, понимаешь… Я думаю, с ним будет хорошо. «А люди на это смотрят по-другому», – прошептала Хильдигуннюр у нее в голове, и Хельга ухватилась за первую же мысль. Здесь нужно было сочувствие. – Ну, кто знает? – сказала она. – Я давно уже не видела его ни с одной девушкой. Не думаю, что он с кем-то помолвлен. Лицо Гиты просветлело: – Правда? Это хорошо… Издалека донесся лай одной из собак, а за ним – приглушенные голоса. Девушки переглянулись, и Гита, развернувшись, подползла на животе к краю берега. Она оглянулась на Хельгу: – Двое, с двумя детишками. Две лошади. Собака. Оружия вроде нет. – Аслак прибыл, – сказала Хельга. «И стало их трое», – подумала она.
Первый стук утонул во вдохновенном исполнении Бьёрном «Хуторяночки и бычары». Второй был громче и настойчивей, и, когда все в доме замолчали, дверь открылась, и вошел молодой мужчина, чье худое тело укрывал изрядно поношенный плащ. – Найдут ли четверо усталых путников здесь гостеприимный кров, – сказал он, – и, может быть, немножко мясца? – АСЛАК! – проревел Бьёрн. – Маленький ты поганец! Даже Карл поднял кружку и улыбнулся. Молодой человек посмотрел на них и собрался уже заговорить, когда мимо его бедер протолкнулись две светловолосые молнии, по одной с каждой стороны. – ДЕДУЛЯ! БАБУЛЯ! – Браги и Сигрун пронеслись по дому и прыгнули на Уннтора и Хильдигуннюр, обняв их так крепко, как только могут шестилетки. В дом вошла женщина и встала рядом с Аслаком. Она держалась гордо, хоть и была на голову ниже его. Глаза ее были словно кусочки кремня. Широченная улыбка Бьёрна растянулась еще больше: – И Руна! Доб… – Добро пожаловать в мой дом, – твердо и громко сказал Уннтор – так, чтобы перекрыть голос великана. – У нас есть для вас ужин, – сказала Хильдигуннюр, обходя стол; Браги не отпускал ее ногу. – Ну же, медвежонок, – проговорила она, взъерошив его волосы. – Отпусти бабушку, а то оголодаешь до смерти. Она взглянула на костлявое тельце мальчишки, но ничего не сказала. Сестра Браги уже затолкала деда в кресло и уселась на его колено. – А ты знаешь, кто такая лиса? – спросила она. – Знаю, – начал было Уннтор, но внучка сурово взглянула на него. Старый пират сдался. – Ну, кажется… – Так вот, – важно изрекла девочка, – лиса – это такой зверь с большущим хвостом. Только она не волк, потому что волки больше. – Ах вот оно что? – сказал Уннтор. – Хорошо, что есть кому мне рассказать. – Ага. Так что сиди спокойно и учись, – сказала Сигрун и скрестила руки, как делали все матери во все века. Уннтор серьезно кивнул, и не один он пытался сдержать улыбку. – Ну, Аслак, почему так поздно? – спросил Карл, оборвав лекцию племянницы об отличиях лис и волков. – От вас же сюда ехать полдня, так? Аслак поморщился. – Ну, мы поздно выехали. Я… – У нас были дела, – сказала его жена. – Тяжело вам, наверное, на вашем хуторе, – усмехнулся Карл. – Тяжело, – сказала Руна, сверкнув глазами, – но мы неплохо справляемся. – Рад слышать… Но Руна уже направлялась к котлам, где стояла Хильдигуннюр с черпаком наготове. – Папа, мясо! – Браги аккуратно передал отцу миску. – Спасибо, сын, – сказал Аслак. – Бабушка говорит, я могу стать викингом, когда вырасту, – объявил Браги. – Правда? – Ага, и буду растить викингскую морковку, и ходить на охоту, и добывать викингские меха, и плавать с ними на корабле, и продавать их кому-нибудь как настоящий викинг, – сказал Браги. – Не говори с папашей про викингов, парень, он ничего не знает. Давай-ка присядь с дядюшкой Карлом. Темноволосый похлопал по скамейке рядом с собой, и Браги в мгновение ока очутился на ней. – Мой сын Ормар, твой двоюродный брат, как раз ушел в викинги, – сказал Карл. – Семнадцать зим, плывет, куда хочет, только он и море. – Не забивай мальчишке голову дурью, – оборвала его Агла. – Ормару сейчас небось голодно, и холодно, и мокро, и я надеюсь, у него хватает ума держаться подальше от копий с топорами. – У викингов и копья с топорами есть? – Браги широко распахнул глаза от восторга. – Конечно, есть, – ответил Карл, ухмыляясь. – Завтра я научу тебя драться. Только начнем с палки для лупцевания. Мальчик моментально соскочил с лавки. – Мама! Мама! Дядя Карл научит меня драться! Палкой! Палкой для… для… для убивания! – Правда, что ли? – голос Руны был ледяным. – Правда! Можно, мама? Можно? Можно? Руна, поджав губы, подошла к сидящему Карлу. Она наклонилась и начала шептать ему в ухо. – Но парню же надо… – начал Карл. Стремительно, как молния, Руна схватила его запястье, резко прижала к столу и оперлась на него всем своим весом, не переставая шептать. Несколько мгновений спустя, высказав все, что думает, она с улыбкой отступила. Карл смотрел ей вслед, незаметно потирая под столом саднящее запястье. – Конечно, можно, – сказала Руна сыну. – Я только объяснила дядюшке Карлу кое-что про маленьких мальчиков, россказни и про то, что знаю, где он спит. – Ура! – крикнул Браги и моментально отвлекся на протянутую ему ложку мяса. Разговор был прерван утробным смехом с другого конца стола, и они уставились на старика, который, усмехаясь, держал на коленях хмурую Сигрун. – Это не смешно! – повторила девочка. – Конечно, конечно, ты права, лисичка именно так и говорит. Иди-ка, бабушка тебе положит вкусного мясца, ага? Большие руки подхватили Сигрун под мышки и подняли высоко в воздух, вызвав восторженный писк, а потом осторожно опустили на пол. Девочка немедленно потопала к бабушке, протягивая руки за миской.
Когда Гита с Хельгой вошли в дом, Хильдигуннюр поманила их к себе и щедро навалила им тушеного мяса. Гора грязных мисок повествовала об успешно прошедшем ужине. – Полегчало на свежем воздухе? – спросила Хильдигуннюр, внимательно глядя на Гиту. – Полегчало, – ответила девушка. Ее нижняя губа на мгновение задрожала, но потом лицо снова спряталось под маской. – Хорошо, – сказала Хильдигуннюр. Хельга наклонилась к ней и прошептала: – Там, кажется, еще люди подходят. Ее мать обвела дом взглядом. Браги и Сигрун бросили еду, чтобы поиграть с мешком старых костей, который Хильдигуннюр подготовила к их приезду; они забрались в уголок и с головой ушли в какую-то запутанную игру, изображавшую хуторскую жизнь. Вёлунд неслышно переместился поближе и с завистью наблюдал за ними со стороны. Троица братьев собралась вместе, очередной длинный и запутанный рассказ Бьёрна был в разгаре; женщины, игнорируя шумных мужей, все еще сидели за столом и обменивались своими, не такими сальными и хвастливыми историями. Эйнара и Яки видно не было, они, похоже, ускользнули наружу, чтобы взглянуть на животных. Хильдигуннюр вздохнула: – А это, значит, Йорунн. – Она встряхнулась, словно избавляясь от каких-то мыслей, и подмигнула Хельге. – Хорошо, дочь моя. Надеюсь, ты тоже когда-нибудь заведешь себе семью. Я бы не хотела, чтобы тебя миновали все эти радости. Она развернулась и громко крикнула: – Всем подъем! У ворот гости, и на этот раз они не застанут нас врасплох. Мы пойдем и встретим их. Все вместе. (обратно)
Глава 4 Йорунн
Когда они вышли из дома, взгляд Хельги сразу же привлекло пламя, жадно бросавшееся на стремительно темневшие небеса с вершины ворот. Под факелом стоял Яки; мерцающий свет выхватывал каждую черточку его лица. Тень другого человека. Мысль танцевала перед глазами Хельги, но как только она смогла на ней сосредоточиться, свет сместился, и он снова вернулся: дружелюбный старый Яки, такой же, как всегда. Уннтор подошел к нему с малюткой Сигрун, гордо восседавшей на дедушкиных плечах, и занял свое место у ворот. Стоя рядом, Уннтор и Яки смотрелись как братья. До Хельги донеслось журчание слов: Сигрун пыталась объяснить обоим, почему птицы любят летать, а не ходить. Семьи заняли позиции с обеих сторон, как воины. В сумерках можно было разглядеть лишь смутные фигуры двоих всадников, что медленно приближались к хутору. – Давай быстрее, девочка! – крикнул Бьёрн. – Аслак бородой обрастет, пока тебя дождется! – Заткнись, косолапый ты мешок с мясом! – прокричал в ответ женский голос. – Никогда такому не бывать! Карл улыбнулся: – Не похоже, что брак смягчил нашу любимую сестру. – Язык у нее всегда был тот еще, – согласился Бьёрн. Стоявший рядом Эйнар пробормотал что-то, слишком тихо, чтобы Хельга могла услышать. – Что ты сказал? – прошептала она. – Ничего, – ответил Эйнар, медленно вращая плечами и отгоняя напряжение. И повторил: – Ничего. Всадники явно не торопились, их лошади двигались к хутору шагом. Даже издалека Хельга сразу узнала Йорунн: худая, с прямой спиной, почти с такой же фигурой, как у Хильдигуннюр. Длинная каштановая коса свисала у нее ниже груди. Мужчина рядом с ней был среднего роста и сложения. Огонь отразился в пытливых глазах, которые изучали собравшихся людей, но он не проронил ни звука, пока они с женой слезали с лошадей. – Добро пожаловать, дочка, – сказал Уннтор. – Мое старое сердце гордится, видя тебя. – Он взглянул на Сигмара. – Приветствую и тебя, Сигмар: ты мне такой же сын, как они, – он показал на Карла, Бьёрна и Аслака. – Благодарю тебя, Уннтор, – ответил Сигмар. – Я должен был посетить твой дом раньше. – Конечно, должен был, – сказал Уннтор. – Проходите внутрь. Еда готова. Семья двинулась к дому, но Хельга заметила, что Эйнар держится в стороне. – Что случилось? – спросила она, когда никто не мог их услышать, но Эйнар лишь покачал головой. – Ничего, – пробормотал он, отводя взгляд в сторону. – Что ж, – сказала она, хватая его за локоть, – тогда пойдем. Нечего торчать тут как чирей на жопе у лошади. Она почувствовала небольшое сопротивление, но потом он сдался и позволил вести себя к свету, лившемуся из двери дома. Когда они вошли, Йорунн уже удобно устроилась рядом с отцом и болтала: – …а потом мы пойдем на юг. Но мы тут надолго задержимся, чтобы я отдохнула, потому что Сигмар меня постоянно подгоняет, – добавила она с усмешкой. – И хорошо, – пророкотал Уннтор. – Как насчет еды? Мама сделала наваристое теплое мясо. Или вы не голодны? – Мы поели в дороге, – призналась она, стыдливо взглянув на свою мать. – Ладно, тогда устраивайтесь. Мы собирались уложить детишек спать – как вас раньше, помнишь? Длинный стол был уже разобран и прислонен к стене, а семьи расположились большим полукругом. Карл, Агла и Гита сидели у своих кроватей, Карл тихо болтал с женой, пока она заплетала светлые волосы дочери в косу. Аслак сидел рядом с Руной, но та повернулась к нему спиной и склонилась над двумя маленькими фигурками. Бьёрн сидел в одиночестве на другом конце большой комнаты. Хильдигуннюр вытащила стул и разместилась в центре полукруга. Рядом с ней расслабился в огромном резном кресле вождя Уннтор. – Хочу послушать историю, – сопротивлялся сну Браги, завернутый в кокон одеяла. – Так замолчи и слушай, – сказала Руна. Хельга отвела Эйнара в угол, к верстаку, откуда они вытащили стулья. Она заметила, что Гита мельком взглянула в их сторону, но никак не отреагировала. Люди смотрят по-другому. – Хорошо, – сказала Хильдигуннюр. – Вы занимаете больше места, чем когда-то, – добавила она, широко улыбаясь. За ее спиной в дом прокралась Тори с Вёлундом в хвосте, и подошла к Бьёрну. Она прошептала ему что-то на ухо, и он кивнул в ответ. – Но вы всегда любили хорошие истории. Эта – о братьях и чести. – История! – пискнули позади Аслака, и он с улыбкой обернулся, чтобы утихомирить дочь. Наконец в доме воцарилась тишина. Хильдигуннюр прочистила горло: – Давным-давно, во времена королей, в эпоху героев, жил один человек – самый сильный и самый ловкий из всех. Звали его Старкад, и не было ему равных. Был у него названый брат, Викар Харальдссон, которого вырастил убийца его отца. Викар поклялся отомстить, и Старкад помог ему стать королем Агдера и западных фьордов. Они со Старкадом сражались во многих битвах, и никто не превзошел Старкада в искусстве войны. И вот однажды… – На них напало чудовище! – выкрикнул Браги. – Тише, – сказала Руна, – это в другой истории. Слушай внимательно, тебе надо об этом знать. – Однажды, – продолжила Хильдигуннюр, точно ничего не случилось, – они плыли по морю, и ветер покинул паруса Викара. С ними был прорицатель, старик по имени Гимли. Он гадал по костям, бросал их снова и снова, но эти проклятые штуки говорили одно: король должен быть принесен в жертву. Когда воины восстали, Старкад встал между своим королем и целым кораблем викингов и заявил, что сначала им придется убить его. Когда никто этого не сделал, Викар сказал, что нужно плыть к берегу и размыслить над волей богов дома. Ночью, перед тем как они решили судьбу Викара, отчим Старкада, человек по имени Грани Конский Волос, позвал его на долгую прогулку. Они прошли по мосту, что сверкал множеством оттенков серого в свете луны, и попали на тайный совет, где Грани сбросил свой капюшон и оказался Одином, – Хильдигуннюр подмигнула Хельге. – Многомудрый восславил Старкада за его верность и наградил множеством даров, а еще Один пообещал, что Старкад проживет три человеческих жизни и в каждой будет иметь тройную удачу. Получил воин невообразимое богатство и лучшее оружие, дающее победу в каждой битве, уважение правителей – и в придачу ко всему талант скальда. Хельга услышала, как по дому разносится одобрительное бормотание: это правильно, что боги вознаграждают за верность. Однако Хильдигуннюр не закончила. – Но, услышав, что Один вознес Старкада почти наравне с самими богами, Тор преисполнился яростной ревности, – продолжала она, и теперь ее голос был суров. – Он проклял Старкада, отныне собственного брата: Тор обрек его совершать преступление в каждой жизни, лишил детей и наложил на него гейс: каждый раз, когда Старкад станет хозяином дома, хутора, любой земли, – и недели не пройдет, как их уничтожат. Но и на этом Тор не остановился: Старкаду всегда будет мало богатства, он никогда не выйдет из битвы без самых болезненных ран, простой народ будет его ненавидеть, и он всегда будет забывать сказанные им висы. Так, благословленный и проклятый богами, Старкад ходил по земле трижды шестьдесят лет, самый удачливый и самый несчастный викинг на свете. Он не мог долго жить в одном месте. Всех его друзей забирала смерть – и ему приходилось мириться с тем, что худшие скальды поют его песни как свои. Он дожил бы до этого дня, если бы Тор не предложил ему сделку: убить волшебным копьем внука его лучшего друга. Как только сына Викара не станет, викинг, что не может умереть, обретет покой. В конце концов Старкад Могучий стал пешкой богов и потерял самого себя. Она посмотрела каждому из своих детей в глаза, прежде чем закончить: – Так помните, – сказала она, подкрепляя слова властным взглядом, – Тор был отравлен ревностью, и не было чести в том, что он сделал со Старкадом. Не богатством или страхом измеряется ваше достоинство, но весом вашего имени. Вы дети Уннтора Регинссона, и я наказываю вам высоко вознести его имя своими делами. Слабо горевший огонь бросал красноватые отсветы на пол дома; люди были не более чем смутными силуэтами. Хельга увидела, как самый крупный из них зашевелился: – Пора в кровать, – пророкотал, вставая, Бьёрн, и Тири вскочила, подняв на ноги сонного Вёлунда. Тихими пожеланиями доброй ночи их проводили за дверь. Семья Карла ушла в дальний угол дома, и вскоре Хельга слышала только медленное размеренное дыхание, перемежаемое легкими всхрапами. Но в ушах ее все еще звучал голос матери: «Он стал пешкой богов и потерял самого себя». Сон пришел к ней нескоро. (обратно)Глава 5 Подготовка
Первые лучи утреннего солнца перевалили за холм, даруя сумеркам жизнь и цвет и перекрашивая деревья, окружавшие поле, из серых в зеленые. Ковыляя спиной вперед, Хельга тащила через траву сломанный лемех, уставившись на свои согнутые колени и след перед собой. – Иииии… стой! – скомандовал Эйнар. Она подчинилась приказу. – Тяжелый, – сказала она, потирая натруженные руки. – Почему не ты это делаешь? – Кто-то должен следить за бороздой. Теперь поверни направо, – услужливо показал он и проигнорировал ее хмурый взгляд. Она взглянула вниз, на ноги, потом на прямую линию между собой и Эйнаром, вздохнула и развернула лемех. – Вот так? – Хорошо, теперь тащи его в эту сторону, пока я не скажу остановиться, – он показал влево. – Да ты этим наслаждаешься, – пробурчала Хельга, когда земля наконец стала поддаваться лемеху, и между ее отступающими ногами появилась линия. – Остановись и развернись! Хельга сделала, как было сказано, и направила линию обратно к Эйнару. Когда она добралась до него и соединила третью линию с первой, с нее катился пот. – Зачем это? – спросила она, переводя дыхание. – Ты что, не помнишь прошлый раз? – Давай представим, что нет, – сказала Хельга резче, чем собиралась. – О, – сказал Эйнар, – точно. Уже одиннадцать лет прошло. Извини. Так вот, это для метания камней. – Он махнул рукой на большой треугольник, вычерченный Хельгой на земле. – Тот, кто кинет дальше, победит, но нельзя выходить за линию. Потом будет другое состязание, вон там, – он указал на барьер высотой по колено, за которым высились три мишени – ближняя в двадцати ярдах, самая дальняя в сотне. – Будут метать топоры и копья, потом стрелять из лука. – И все в один день?! – А потом еще гонка, – Эйнара было уже не остановить. – Сначала туда, – он небрежно махнул рукой в сторону северного края поля, где из земли торчал шест, – вокруг того шеста и к следующему, – второй шест высился далеко на восточном конце поля, – потом мимо третьего и назад. – И на этом они закончат? – О нет, – Эйнар усмехнулся. – Старый медведь заявил, что будет еще игра в тафл, но больше ничего не сказал. Хельга нахмурилась: – Почему? – Есть у него причина, наверное, – сказал Эйнар. – У него она всегда есть. Издалека донесся стук и дребезжание телеги. – Ох, зараза! Я забыл! Камни… – Какие еще камни? В полумиле от них показался Яки, медленно ведущий лошадь с телегой. Эйнар огляделся, бешено дергая головой: – Где топор? Хельга остановилась и задумалась, восстанавливая их передвижения. – Вон там, – сказала она, – где мы еду оставили. Топор был прислонен к длинному бревну, идеальному для того, чтобы посидеть на нем и перекусить. «Хорошо знать, что в жизни главное», – подумала она и улыбнулась. Эйнар подошел к большому топору и поднял его. – Отлично, – сказал он, ни к кому не обращаясь. Потом, хорошенько размахнувшись, обрушил лезвие на ствол, повернув перед столкновением так, что, когда топор вошел в дерево, полетели щепки. Сильные руки немедленно выдернули его и опустили еще раз, и еще, и с каждым разом лезвие вгрызалось все глубже. Хельга наблюдала, как снова и снова напрягались и расслаблялись мышцы Эйнаровой спины, когда он раз за разом замахивался топором, словно подчиняясь сильной, ритмичной мелодии. Вскоре от ствола отвалился четырехфутовый кусок, заостренный с одной стороны, плоский с другой. Эйнар пододвинул ногу под полено и оттолкнул его в сторону, потом переместился дальше и начал все заново. Хельга отвернулась, не прислушиваясь к ритмичному стуку металла, ударявшего о дерево, и заметила Яки. Старик приближался к ним, но не торопился, мягко направляя лошадь в нужную сторону. Увидев ее, он помахал, и тележка задребезжала дальше, остановившись, как раз когда Эйнар нанес последний удар. – Ты что, парень, только заканчиваешь? – сказал Яки. – Забыл, папа. Прости. Я почти все время потратил, заставляя Хельгу работать. – Что? – выпалила Хельга. – Неправда это, жопа ты овечья! Эйнар ухмыльнулся: – Ужасно трудно с ней бывает. – Ага, расскажи это кому-нибудь, кто захочет тебя слушать, – сказала Хельга. Потом остановилась и задумалась. – Хотя погоди. Нет таких людей. – Не бойся, – сказал Яки. – Я-то знаю, кто из вас лодырь. Эйнар поднял одно из поленьев. Оно едва помещалось у него в руках. – Куда их нести? Яки огляделся вокруг. – Вы хорошо поработали, – сказал он. – Все так, как и должно быть. Камни сбросим там. Он показал на центр поля. Хельга последовала за Эйнаром, который отволок свое полено в указанное Яки место. Пока его отец подводил туда лошадь, парень перевернул кусок дерева и вогнал его в землю так, что получилась ровная круглая площадка. Он прикинул ее размеры по высоте бедра, потом налег сверху всей тяжестью. – Вроде устойчиво, – сказал он Яки. Старик подошел ближе, пнул полено, затем пару раз толкнул его и выразил свое одобрение: – Сойдет. Тащи другие два. – Можешь помочь, если хочешь, – сказал Эйнар Хельге, поднимая следующее полено. Она метнула в него свирепый взгляд, потом нагнулась и подобрала последний кусок дерева, приказав себе не кривиться от натуги. Вместо этого она наклонила голову и улыбнулась Эйнару: – Веди меня, лодырь. Она постаралась не морщиться, сбрасывая полено на землю, но не удержалась и скорчила гримасу, когда Яки с легкостью подхватил его и установил на место. Эйнар взял второе, и вскоре оба столба вошли в землю на равном расстоянии от первого. – Все? – спросил Эйнар. – Не совсем, – ответил Яки. – Не забывай о треклятых камнях. Он подошел к телеге и откинул заднюю доску. На дне лежали три огромных валуна. Первой мыслью Хельги было: «Никто не сможет их поднять!» Самый маленький по размеру и форме напоминал тело овчарки, а самый крупный был больше похож на мяч – он достал бы Хельге до колен. Эйнар тихо присвистнул: – Эти?.. А мы справимся? – Старик попросил, – сказал Яки. – Именно эти три, – на лице его мелькнула тень улыбки. – Не знаю уж зачем. Он сказал, что раз они уже в телеге, почему бы их и не использовать. – Ясно, – сказал Эйнар со вздохом. – Ладно, тогда за дело. Он запрыгнул в телегу, согнул колени и, крякнув, начал толкать меньший из камней, пока тот неохотно не сдвинулся, заскрежетав по дну телеги. – Осторожно… – Яки подошел ближе, готовясь поймать мозолистыми руками приближающийся край камня. – Давай-ка сделаем все с первого раза. – Очень… хороший… план… – процедил Эйнар сквозь стиснутые зубы. Как только камень достиг края, Яки сразу нашарил удобное место, чтобы ухватиться, и потянул на себя. – Вот так, – выдавил он, – теперь спускайся сюда. Эйнар тут же соскочил с телеги и встал плечом к плечу с отцом. Вместе они осторожно опустили валун на землю рядом с первым столбом. – Это было не так уж сложно, – сказал Эйнар, когда они перевели дыхание. – Не сложно, да, – ответил Яки. – Как насчет этого чудовища? – спросил Эйнар. Второй камень напоминал срубленную с длинного дома крышу: он был почти треугольным, но широким и длинным в неудобных местах. – За этот нужно браться осторожно, – сказал Яки. – Ухватись не там, и он покажется раз в пять тяжелее. Я в этом не так хорош, как он. Хельга отошла подальше от них, когда Эйнар встал рядом с отцом. Кряхтя и ругаясь, они ухитрились подтолкнуть валун к краю телеги, потом спрыгнули вниз и приняли его вес на руки. Тяжело дыша и шатаясь, они подошли ко второму столбу. Согнули колени и стали медленно опускать, но в футе от земли Яки поморщился. – Бросай его… – просипел он с красным лицом. Эйнар с радостью подчинился. – …только ноги береги, – закончил старик, когда камень приземлился. – Спасибо, папа. Ты такой заботливый, – сказал Эйнар. Оба мужчины стояли рядом, тяжело дышали, уперев руки в бедра, и смотрели на камень. – Редкая, однако, сволочь, – сказал наконец Эйнар. – Это верно, – согласился его отец. Эйнар расправил плечи: – Ладно, – сказал он. – Давай стащим с телеги третий и закончим на этом. – Этот мы трогать не будем, – ответил Яки, медленно подходя к лошади. Кожу Хельги покалывало. Она увидела, как взметнулись уши животного; до нее долетали лишь случайные, едва слышные слова, странные звуки, которыми Яки успокаивал и убеждал лошадь, но кобыла фыркнула и запрокинула голову, а когда Яки взялся за уздечку, не стала вырываться. – Какой план? – спросил Эйнар. – Возраст и мудрость, – ответил Яки, – вот какой план. Мягко натянув поводья, он пустил лошадь шагом, и телега двинулась за ней. Яки что-то шепнул кобыле, и та остановилась. Старик прошел мимо передних ног животного и положил выдубленную руку ей на круп. Потом взял поводья и плавно потянул на себя, одновременно подталкивая напрягшиеся мускулы. Лошадь протестующе заржала, но сделала, как ей было велено, придвигаясь к старику. Упряжь съехала, но в конце концов телега сместилась влево. Лицо Эйнара озарилось пониманием, и он встал позади телеги, приподняв ее, чтобы вытащить из колеи. Задняя часть развернулась к третьему столбу. – Хватит, – сказал он. Яки перешел к голове лошади и отпустил поводья. – Хорошая девочка, – пробормотал он, – хорошая девочка. Его рука нырнула в карман, и на свет показалось ярко-зеленое яблоко. Лошадь боднула его, подняла губу и потянулась за лакомством. Эйнар был уже сбоку от кобылы и ослаблял ремни, державшие тележные оглобли. – Готов, – сообщил он. – Готов, – отозвался Яки, касаясь ремней. Оглобли выскользнули из креплений, и к звуку скользившей по дереву кожи добавился скрежет камня по доскам. Кусок скалы размером с двух взрослых баранов скатился с телеги, ударился оземь с глухим «бац» и ушел на два пальца в почву. Свободная от груза телега бешено закачалась на колесах, но, подергавшись, встала на место. Эйнар уставился на камень: – Он просил вот об этом? – Именно, – сказал Яки. Хельга видела, что Эйнар размышляет, пытается что-то понять, но потом он потряс головой, словно отгонял муху. – Это все? – спросил он. Яки покачал головой. – Нет. Ему нужны два сиденья и стол. Хельга, можешь пока отдохнуть, если хочешь, а потом вернемся все вместе. – Спасибо, – с благодарностью сказала Хельга и, пока Яки с Эйнаром обсуждали углы и размеры, пошла туда, где они оставили еду. Хильдигуннюр заставила ее взять с собой для перекуса шмат вяленой оленины размером с кулак, и теперь ее желудок рассыпался перед матерью в благодарностях. Поскольку ее бревно было уничтожено, пришлось искать себе другое сиденье, и вскоре Хельга обнаружила идеальный пень в подходящем теньке. Она устроилась на нем, улыбаясь Эйнару и Яки. У них были одинаково широкие плечи и одинаково плавная походка – Эйнар этого, может, и не сознавал, но он превращался в собственного отца. Это навело Хельгу на мысли о ее настоящих родителях – и как однажды они взяли и пропали. Первые несколько лет она постоянно спрашивала Хильдигуннюр о том, что случилось, но ее новая приемная мать сразу становилась неразговорчивой и отвечала, что они заболели и им пришлось уйти. Она открыла Хельге только имя ее отца – Финн. Какое-то время она помнила их лица, но сейчас уже с трудом могла представить своим папой кого-то, кроме Уннтора. «Вот что делает время». Она залезла в свою сумку. Тоска никому еще не помогала, в отличие от еды. От соленого дымного мясного запаха – плата за то, что помогает с гостями, сказала мама, – она уже истекала слюной. Над ней раскинулось бесконечно синее небо; солнце приятно согревало ее кожу, и она позволила себе на мгновение смежить веки и просто насладиться жизнью. Когда она снова открыла глаза, возле ворот, прислонившись к столбу, стоял старик, взявшийся неизвестно откуда. В голове у нее тут же всплыли все наставления Хильдигуннюр: шуми, беги и, если нужно будет, бей в пах и в горло. Но почему-то она совсем не чувствовала страха. – Приветствую! – крикнул ей старик. – И тебе привет, – ответила она. – Куда идешь, седая борода? Она поискала глазами Яки и Эйнара, просто для перестраховки, но они, видимо, ушли куда-то в лес. – О, я просто гуляю – сказал старик. В голосе его слышалась улыбка. – Проголодался вот только. – Надо было подумать и взять еду с собой, – крикнула Хельга. – Не думал, что забреду так далеко, – ответил старик. Что-то в ней смягчилось. – Тогда иди сюда. У меня есть чем с тобой поделиться. Старик с уважением кивнул, и Хельга хорошенько рассмотрела его, пока он ковылял к ней, опираясь на толстый дорожный посох. Голова его была обвязана тряпкой – явно, чтобы солнце не напекло. Одежда была серой и выцветшей, и тяжелый шерстяной плащ тащился по траве. – Неудивительно, что тебе еда нужна, дедуля, ты же одет по-зимнему. Сваришься в такой-то одежде, – засмеялась она, когда он подошел поближе. – Ты права, – сказал старик. Вид у него был хрупкий, но голос на удивление сильный. – Я, бывает, прохожу через холодные места и порой забываю про летнюю одежду. Хельга улыбнулась: – Ну, что продаешь? Глаза старика блеснули. – То да се. В основном скучающим крестьянкам, а ты на такую не похожа. – Пока, – сказала Хельга. – И не будешь. Крестьянкой ты, может, и станешь когда-нибудь, а вот скучать вряд ли придется. Без лишних слов Хельга поднялась с удобного пенька и предложила старику присесть. – И почему ты так решил? – спросила она. – По форме челюсти, наверное, – сказал старик и взялся за посох, чтобы опуститься на пенек. – И еще у тебя искорки в глазах. Он еще раз осмотрел ее с ног до головы. – Я неправ? – спросил он. Хельга поймала себя на том, что уставилась на свои башмаки. – Не знаю, – пробормотала она. Потом в ней вспыхнуло раздражение, и она взглянула старику прямо в глаза. – И откуда мне знать, если я до этого еще не дожила? Старик усмехнулся, зубы его торчали в разные стороны. – Хороший ответ! – сказал он. – Горе толстошеему крестьянину, который захочет тебя приручить. Хельга фыркнула. – Пусть только попробует. – Она оторвала кусок оленины. – Вот, это тебе за предсказание. Костлявые пальцы старика осторожно сомкнулись на мясе и плавно поднесли его ко рту. Он откусил немного и стал медленно жевать, наслаждаясь вкусом. – Очень вкусно, – сказал он наконец. – Достойно королей. Ты щедрая хозяйка, Хельга Финнсдоттир. Она нахмурилась и моргнула. Случилось что-то странное, но она не вполне понимала что. Называла ли она свое имя? – Что ты сказал? – Я сказал, что ты щедрая хозяйка. Что-то копошилось у нее в мозгу, но удрало, когда она потянулась за ним. Солнце палило все сильнее, и она пожалела, что у нее нет такой же повязки, как у старика. – А… да не важно, – сказала она. – Не стоит благодарности. Я живу… – На Речном хуторе, – сказал старик. – Знаю. Я хотел бы еще посидеть и поговорить, но мне нужно идти. Вот, возьми в знак моей благодарности, – добавил он, стремительно вставая с пенька. Хельга моргнула. На мгновение он показался чуть ли не юношей, но стоявший перед ней человек был таким же дряхлым и слабым, как тот, что садился. Было лишь одно отличие: в костлявой руке он сжимал маленький черный камень, который блестел на солнце и свисал с тонкого кожаного ремешка. – Что это? – спросила она. – Кто знает? – ответил старик. – Возможно, твое будущее. Легчайшее движение пальцев – и камень начал вращаться в его руке. Проявились и исчезли темные линии. – Это руна? – спросила Хельга. Старик улыбнулся: – Да. Ты еще не знаешь, как их читать, да? Хельга нахмурилась, чувствуя себя одновременно сонной и глупой. – Нет, – призналась она. Старик наклонился к ней. Хельга почувствовала его костлявую руку на своем предплечье, и она казалась странно теплой и твердой. Потом его руки обогнули с двух сторон ее голову, завязывая ремешок. Он легко коснулся ее кожи, она ничего даже не успела подумать, когда у нее в ушах раздался голос, шептавший: Руна Наут. Желания, стремления и заботы. …И старик, казалось, был перед ней и позади нее одновременно. Она моргнула, потрясла головой, чтобы в ней прояснилось, – и никого не увидела. Старик махал ей издалека, уже у ворот. – Прощай! И спасибо за еду! – прокричал он. Хельга таращилась ему вслед, пока он ковылял прочь. Внезапное головокружение заставило ее сесть на пенек, и все-таки она не могла стряхнуть с себя ощущение тревоги. Она плотно зажмурила глаза, открыла их вновь, но ворота остались просто воротами. Старик уже скрылся за поворотом, а вернувшиеся Эйнар и Яки стояли над бревном и спорили о размерах… Она закрыла глаза всего на мгновение. Она не видела их прихода. Она не видела его ухода. Должно быть, ей это приснилось. – Глупая девчонка, – прошептала она, – уснула в поле. Хорошо, что мама тебя не нашла. Она потянулась к сумке, но, вытащив свой обед, замерла. Кто-то оторвал большой кусок мяса. – Проклятые мыши, – пробормотала она. – Мыши. Быстрыми нервными пальцами она оторвала полоску мяса и положила ее в рот. – Очень вкусно, – сказала она. – Достойно королей. Что-то в этих словах раздражало ее. – За работу, – скомандовала она себе. – Быстро за работу. Хельга поднялась и направилась к мужчинам, но ее первые слова утонули в звуке Эйнарова топора, вгрызшегося в дерево. Оба они взглянули на нее и сосредоточились на работе. Кажется, никто из них не заметил ее гостя, а если и заметил, то точно не собирался ничего спрашивать. И вообще это уже не казалось ей таким важным. Чтобы успокоиться, она коснулась рунного камня. Подарок от родителей, сказал ей кто-то, но она не помнила кто. Да это и не имело никакого значения. (обратно)Глава 6 Состязание
Бьёрн повращал плечами и посмотрел на груду камней у своих ног. Он наклонился, подобрал один и взвесил его в руке. Взглянул на три валуна, что лежали у подножья деревянных столбов, на стрельбище с низкими барьерами, отмечавшими расстояние, и нахмурился: – А что, поле меньше, чем когда-то было? – Да это твоя жопа больше стала, наверное, – сказал Карл, прислонясь к воротам и умело изображая скуку. – Поберегите дыхание для состязаний, мошонки ходячие, – сказала Йорунн. – Не видать вам победы. Оба брата расхохотались. – И кто победит? Ты? Или мелкий? – Карл указал большим пальцем на тропинку, по которой Аслак безуспешно пытался провести своих детей прямо к воротам. – Сигмар тоже участвует, – объявила Йорунн. – Пфф… Карл свирепо взглянул на Бьорна: – Заткнись. Он наш родич. – Благодаря тебе, – сказал Бьорн. Он оглянулся на Йорунн, но их сестра промолчала. – И что с того? В камнях я его легко обойду. Он покосился на деревянные столбы. – Может, и так, – сказала Йорунн. – Но состязание не одно. – Так, может, сделаем игру более интересной? – сказал Карл, оттолкнулся от забора и приблизился к брату и сестре. – Ты что имеешь в виду? – спросил Бьёрн, уставившись на брата. – Что сказал: надо сделать игру более интересной. Кто выиграет больше состязаний… – Карл потянулся за привязанным к поясу кошельком. – Тот будет командовать остальными, – закончила Йорунн. – Целый день. – Кем командовать? – спросил Аслак, стоя позади нее. – Что я пропустил? Карл неохотно отпустил кошелек. – Хорошо, – сказал он. – Только не беги в слезах к мамане, когда я тебя, как служанку, за едой гонять буду. Он направился к мишеням для метания топоров. – Это даже немножко успокаивает – видеть, что столько лет спустя он остался все тем же говнюком, – сказал Аслак. Бьёрн хохотнул: – Тут ты прав. Некоторые никогда не меняются. Йорунн наблюдала за Карлом, который остановился рядом с топорами, подобрал один и с силой метнул в цель. Топор, чмокнув, вошел в деревянный щит в трех пальцах от центра. – Не знаю, – сказала она. – Сдается мне, что нашему любящему брату с годами поплохело. Что-то его гложет: он хотел поспорить с нами на деньги. Аслак поднял бровь. – Хм. Наглый засранец, – сказал он. Бьёрн размял шею. – Я рад, что мы не стали на деньги спорить, – сказал он. – Если… нет, когда я выиграю, то с огромным удовольствием заставлю этого брюзгу целый день звать меня «Ваше Величество». Йорунн кивнула: – Правильно. Только ты, конечно, не выиграешь… – Ого! Кто сказал? – …ты для этого слишком старый и жирный… Бьёрн вытаращился на сестру, а потом перевел глаза на Аслака: – Ты слышал, что она несет? – …но будет неплохо, если ты победишь Карла хоть в чем-нибудь. Бьёрн наклонился к младшему брату: – Никогда не слушай женских советов, – громко прошептал он. – Иногда они совсем не о твоей пользе думают. Аслак взглянул на Йорунн. – Ты прав, – притворно прошептал он в ответ, – лучше дадим Карлу выиграть. Думаю, для нас это будет только к лучшему. Йорунн осклабилась и потрепала Аслака по голове: – Больно умный ты, братишка, – сказала она, – но мы оставим тебя в живых. Она немного подумала и добавила: – Пока.Мышцы рук у Хельги гудели от усталости: мешки, которые она тащила, были очень тяжелыми. Но рядом шла Хильдигуннюр и без единой жалобы несла в два раза больше. Впереди растянулась колонна людей, шедших от Речного хутора, прямо перед Хельгой шагал Вёлунд, увязавшийся за Гитой. Малыши вернулись к матери, а впереди них были Агла и Тири, которые заговорщически перешептывались. Яки ждал у телеги рядом с воротами, которые служили входом на поле для состязаний. Эйнар был рядом с отцом, а неподалеку от них стоял Сигмар. Дети Уннтора и Хильдигуннюр были уже на поле, и, взглянув на них, Хельга увидела, как Карл взял топор и метнул его в цель. Чуть позже Йорунн потрепала Аслака по голове, но ее слова, обращенные к брату, внезапно оборвал ясный звук: стоя посреди поля, Уннтор звонил в большой металлический колокольчик, извлеченный невесть откуда. – Шевелитесь! – прокричал он. – Пора вам всем склониться перед лучшими! – Это перед кем же? – крикнул в ответ Карл. – Я вижу только старого горного тролля в шлеме. Хельга заметила, как усмехнулась Руна, шедшая в паре ярдов перед ними. – Мальчишка всегда был языкастым, – пробормотала Хильдигуннюр. Когда семьи проходили через ворота, Эйнар указывал им на бревна, расположенные так, чтобы на них можно было сидеть и смотреть за состязаниями. Хельга положила мешок к ногам, рядом с тем, что несла ее мать. Хильдигуннюр почти все утро провела за готовкой, и мешки были наполнены жареным мясом, печеными корнями осморизы и бурдюками смедом. – Слушайте, – прогремел голос Уннтора. – Метание, потом валуны. Стрельба, потом бег. Я буду главным судьей, но Яки обещал следить, чтобы я не подсуживал. – Ну да, – сказал Бьёрн. – А за ним кто смотреть будет? – Я, – сказала Хильдигуннюр. – Я буду смотреть за каждым из вас. Бьёрн пожал плечами: – Хорошо. Приступим!
Родичи сошлись над треугольником для метания камней, как тучи над головой моряка, к ним присоединились Сигмар и Уннтор. – Начинаем метание! – объявил Уннтор. – Кто первый? – спросил Карл. – Гости? – улыбнулся Уннтор. – Хорошо. Я начну. – Сигмар склонился над грудой камней. Подняв верхний, он взвесил его в руке, осторожно подвигал локтем, примериваясь к весу, и растопырил пальцы широко, как только смог. Потом без предупреждения сделал три быстрых шага к треугольнику и метнул камень. Он просвистел по воздуху и приземлился чуть дальше средней линии. Сигмар резко отвернулся, напряг шею и пролаял короткое ругательство на языке свеев. – Что такое, гость восточный? – спросил Бьёрн. – Не так просто, как ты думал? Сигмар снова повернулся к остальным. – Нет, все хорошо, – сказал он. – Просто я давно этого не делал. – Я тоже, – сказал Карл, приближаясь к груде камней. – Но разница между нами в том… Он выбрал камень, подошел к линии броска и легко запустил его в воздух. Тот без труда пролетел мимо камня Сигмара и с глухим стуком упал в трех футах от линии. – …что я не тявкаю, как маленькая сучка. Его ухмылка состояла на три четверти из удовольствия и на четверть – из вызова. Сигмар искренне улыбнулся: – Отлично, брат. Сразу видно, что ты лучше меня умеешь разбрасываться вещами. Карл насупился: – Ты о чем это? – хмуро спросил он. – Прочь с дороги, – сказал Бьёрн, проталкиваясь мимо него, а Сигмар улыбнулся и пожал плечами. – Моя очередь. Нагнувшись, Бьёрн подобрал первый же камень и метнул его без подготовки. – Зараза, – пробормотал он. Камень улетел футов на шесть дальше линии. – Тролленыш, – поддразнила его Йорунн. – Заткнись, – сказал Бьёрн. – Посмотрим, как сама-то справишься. Йорунн улыбнулась и подошла к камням. – Ты же знаешь, дорогой братишка, что у меня и половины мужской силы нет, – сказала она. Расставила локти в стороны и начала отступать, пока между ней и линией броска не оказалось футов двадцать для разбега. – Поэтому мне придется рассчитывать… Она встала на цыпочки, наклонилась, а потом с силой оттолкнулась, побежала к линии, размахнулась, уронила руки вниз, прочертив неистовую дугу, а в самый последний момент направила камень вверх и выпустила ровно в тот момент, когда достигла линии броска. – …на скорость! – прокричала она вслед улетающему камню. Хельга покосилась на Гиту, которая наблюдала за тетушкой Йорунн с нескрываемым восторгом. Девушка крепко сцепила руки и следила за камнем, который летел к средней линии… миновал среднюю линию… приблизился к снаряду Карла… и рухнул на землю всего в паре дюймов от него. У зрителей вырвался коллективный вздох. У Карла был такой вид, словно он осу проглотил. Йорунн обернулась и улыбнулась старшему брату. – Не дальше твоего. В следующий раз придется стараться. Камень Уннтора был уже в воздухе. Он со стуком упал на фут ближе, чем камень Карла. Вскоре и Аслак сделал свой бросок, который не достиг даже средней линии. – Карл победил! – провозгласил Яки. – Посмотри на него, – прошептала Хильдигуннюр рядом с Хельгой. – Что такое, мама? – Он улыбается, но в нем нет радости, только тьма. Однако в следующий момент лицо старой женщины снова обрело привычное спокойное выражение, и она стала бесстрастно следить за происходящим. Хельга даже усомнилась, не показалось ли ей – и ее слова, и перемена в лице. – Что дальше, – спросил Бьёрн, – валуны? – Нет, мишени, – ответил Яки. – Сначала топоры: Сигмар, потом Бьёрн, Аслак, Уннтор, Йорунн и Карл. Сигмар вышел вперед и поднял топор. Он недовольно посмотрел на обмотку рукояти и повернулся к Яки: – У вас другой кожи нет? – спросил он. Старик без единого слова задрал рукав и размотал длинную кожаную полоску. Сигмар молча принял ее и привычными движениями намотал на рукоять, попутно взвешивая топор. Удовлетворившись, он поднял голову. Мишенью служила деревянная доска в тридцати футах от него. На ней был нарисован круг с крестом посередине. Сигмар отвел руку за спину, а потом выбросил вперед. Топор, вращаясь, пролетел по воздуху и с глухим чмоканьем воткнулся в дерево. Яки присвистнул: – Тяжеловато будет бросить лучше, – сказал он, пока Эйнар бегал за топором. След на доске был всего в пальце от середины. – Неплохо, швед, – сказал Бьёрн. – Неплохо. Он взял протянутый ему топор и нахмурился. – Никогда я с топорами не дружил, – сказал он. Бросок немедленно и недвусмысленно подтвердил его слова. Топор ударился о мишень с громким стуком, но плашмя, и постыдно шлепнулся на землю. Аслак наморщился и нерешительно метнул свой. Он воткнулся в доску, но с самого краю. Бросок Уннтора попал в мишень на расстоянии ладони от центра. – Не повезло, старик, – сказал Карл. – Я никогда не верил в везение, – сказал Уннтор. – Боги направляют топор, куда захотят. Все, что тебе остается, – бросать. Стоявшая рядом с ним Йорунн пристально смотрела на Эйнара, который сходил за топором и отдал ей. – Тебе никогда не везет, потому что ты не рискуешь, старик, – сказал Карл. Йорунн без паузы рванула руку назад и запустила оружие. – Иногда нужно… Топор врезался в доску с коротким резким стуком, и братья умолкли. Йорунн взглянула на Сигмара, который посмотрел на нее в ответ и не отвел взгляда. Эйнар и Яки подошли к мишени и осмотрели ее. Потом пошептались между собой. – Разница в волос – но у Сигмара ближе, – крикнул Яки. Карл издал лающий смешок. Губы Йорунн гневно изогнулись, но ее муж никак не отреагировал. Хильдигуннюр снова наклонилась вперед: – А что ты можешь сказать о нем? – прошептала она, глядя на Сигмара. – Он многое скрывает, – сказала Хельга, – но… он стиснул кулаки, когда метала Йорунн, а теперь расслабился. – И что это может значить? – спросила Хильдигуннюр и быстро добавила: – Помни: не пялиться. Хельга расслабилась и посмотрела лучше, как ее учила мать, сохраняя спокойное лицо. Она осознавала присутствие Хильдигуннюр лишь благодаря звуку ее голоса. – Он… Он хочет победить, страстно, но не показывает этого. И мне кажется, он любит Йорунн очень сильно. – Почему ты так решила? – спросила Хильдигуннюр. В ее голосе был намек на улыбку. – По тому, как он смотрит на нее, во-первых, – ответила Хельга. – И, я думаю, он хочет ее впечатлить. Особенно когда вокруг мальчики. – Неплохо, – сказала Хильдигуннюр. – Совсем неплохо. Хельга просияла, а в это время Карл вышел вперед и крикнул: – Моя очередь! Он раскинул руки и повращал плечами. – Дай сюда, – сказал он принесшему топор Эйнару, а потом покосился на Йорунн. – Вот как это делается, сестренка. Он поднял топор, на лезвии которого сверкнуло солнце, занес назад, далеко за голову, изогнул плечо перед броском… …и топор ударился в мишень рукоятью. Оружие бесславно упало на землю. – Победил Сигмар, – бесстрастно сказал Яки. – Да брехня! – сорвался покрасневший Карл. – Он что-то сделал со сраным топорищем! – он развернулся и уставился в лицо Уннтора. – Это мухлеж! Где твоя сраная честь? Вот это значит быть вождем, да? – Уймись, Карл, – сказал Бьёрн. – НЕ СМЕЙ МЕНЯ УНИМАТЬ! – заорал Карл. Он повернулся к Сигмару. – Думаешь, ты такой охрененно умный, да, швед? В мгновение ока расстояние между ними исчезло. Карл с силой толкнул Сигмара в грудь. – Думаешь, тебе спустят херов мухлеж? Здесь, в Речном? Мощные ладони протиснулись Карлу под мышки, и Бьёрн с Уннтором подняли его с места, сдерживая его руки и кряхтя от усилия. Карл рванулся, пнул свою цель и попал как раз в тот момент, когда брат с отцом потащили его прочь. Глаза Сигмара сверкнули, но он сдержался, а Карл снова завопил: – Сраный жулик! – Давай-ка потише, – негромко сказал Уннтор. – Тише. Никто не жульничал. Ты выиграл первое состязание. Ты все еще на первом месте. Просто вы его делите. Повисший в воздухе Карл еще немного подергался, но потом сдался: – Да ну вас на хер. Поставьте меня. Бьёрн хотел что-то сказать, но яростный взгляд отца заткнул его. – Ты будешь примерно себя вести? – спросил Уннтор. – Да, – процедил Карл. – Сигмар сжульничал? Никакого ответа. Хельга заметила, что поза Уннтора едва уловимо изменилась. Кулаки отца воткнулись Карлу под ребра, и на лице его расцвела боль. – …нет, – прошипел он. – Хорошо. Сейчас мы тебя отпустим. Станешь брыкаться – получишь так, что на жопу плюхнешься. Ясно? – Да, – звук был больше похож на рык. Карла опустили на землю, и он поплелся вперед, уставившись на Сигмара. Швед, хотя и был ниже и в целом не так устрашающ, не сдвинулся с места. – Хороший бросок, братишка, – оскалился Карл. Сигмар посмотрел на него: – Благодарю. – Копья, – сказал Яки, явно не желая никому давать оружие. – Будем метать копья? – Да, – твердо сказал Уннтор, – будем. Карл не ответил, но бросил моментальный взгляд на мишень и протянул руку, даже не посмотрев на Яки. Копье было коротким, всего в две трети человеческого роста, сделанным для метания, а не для ближнего боя. Когда оно оказалось у него в руке, Карл взвесил его и сжал губы. Посмотрел сначала на отца, потом на Бьёрна, а потом на Сигмара. Пять шагов назад. Он стиснул зубы, сделал несколько быстрых шагов, изогнул тело, а потом… Бесшумный бросок. Бесшумный полет. Первым звуком был треск дерева – копье врезалось в мишень, закрутило ее и отбросило, разбитую, на землю. Хельга увидела, что Карл повернулся к Уннтору. Между ними что-то промелькнуло, но никто этого не заметил. Метание копий закончилось так же быстро, как началось – Карл разнес мишень в щепки. Мгновение – и между отцом и братом втиснулся Бьёрн. – Карл – несомненный победитель! – объявил великан. – Похлопаем! Зрители в замешательстве захлопали. Хельга посмотрела на мать, но взгляд старой женщины был направлен в другую сторону. Проследив за ним, Хельга не смогла не отметить, что Руна выглядит особенно довольной. Яки поспешно притащил лук и стрелы, и победил Уннтор, правда, еле-еле: ко всеобщему удивлению, стрела Аслака оказалась лишь в пальце от его стрелы. – Так, время для камней! – объявил Яки громче, чем нужно было. – Все помнят правила: камень должен коснуться верхушки столба. Кто быстрее справится с тремя – тот победил. – Пойдем, старый ты ворчливый поганец, – сказал Бьёрн, обнял Карла гигантской лапищей и потащил к деревянным столбам. – Я пропущу, – сказала Йорунн. – Да не будь такой скучной, сестренка, – сказал Бьёрн. – Попробуй! – Бьёрн, – терпеливо объяснила Йорунн, – способность быстро думать, справляться с трудными задачами и принимать нелегкие решения прямо противоположна способности поднимать тяжеленные булыжники, а я, так получилось, в первом очень хороша. Огромный блондин уставился на нее: – Ты имеешь в виду… – Что ты здоровый болван, так что иди, забавляйся с камнями, тролленыш, – закончила за него Йорунн. – Как скажете, – сказал Бьёрн, сгибаясь в издевательском поклоне, – Ваше Высочество. – Я тоже не буду участвовать, – сказал Сигмар. – Почему? – спросил Уннтор. – Больная спина, – объяснил Сигмар. – Приходится быть поосторожнее с тяжестями. Вид у Карла был такой, словно он еле сдержался, чтобы не выпалить лишнего, но усмешка его говорила о многом. Стоявший рядом Аслак поморщился: – Я тоже. У меня локоть. Яки нервно начал: – Карл, если ты не против… – Верно, – сказал Карл. – Я был последним, – он согнул колени и прорычал: – Так что начну первым. Он схватил первый камень, низко зарычал и поставил его на столб. – ОДИН! – крикнул он, отпустил валун и столкнул его на землю. Второй камень. Карл с трудом нашел, где ухватиться. Широко расставив руки, он напрягся – и камень поднялся, но не выше его бедра. Лицо Карла стало багровым, он стоял, присев, и камень впивался в мышцы его ноги. Он рыкнул – и камень поднялся еще выше. – ДВА! – прокричал он, оттолкнулся, снова зарычав, ударил себя в грудь и кинулся к третьему, и последнему, камню. Карл набросился на него. Обхватил руками, вцепился, оторвал от земли на три дюйма – а потом уронил, отвернулся прочь и завопил от досады, стиснув кулаки по бокам, так что вены запульсировали на шее. Убедившись, что Карл накричался всласть, Яки осторожно сказал: – Два. – Моя очередь? – спокойно спросил Бьёрн. Яки взглянул на Карла, который все еще отказывался смотреть на камни. – Да. Бьёрн подошел к первому валуну и поднял его так, словно тот ничего не весил. – Один, – сказал он и легко опустил камень на землю. Подойдя ко второму, он оглядел его, потом посмотрел на отца и ухмыльнулся. – Хитрый старый засранец, – сказал он. Согнулся до самой земли, пропихнул мощную ладонь под камень и чуть повернул его. Потом обхватил – и поднял. – Два, – сказал он, небрежно роняя камень на другую сторону. Когда он подошел к третьему валуну, то замедлился. Большой и круглый камень, казалось, занимал меньше места, чем предыдущий, но Бьёрн остановился перед ним, и на этот раз взгляд, который он бросил на отца, был совсем не веселым. Светловолосый гигант сделал глубокий вдох, хлопнул в ладоши и обнял валун руками. На его спине и плечах взбугрились мощные мышцы. Камень поднялся: два дюйма, потом четыре, потом шесть. Бьёрн постепенно выпускал воздух между сжатых губ, пока громадина не оперлась на его бедра, потом, присев, он ухватился поудобнее и вдохнул поглубже. Чем выше поднимался камень, тем ближе сердце Хельги подбиралось к ее горлу. Спина Бьёрна медленно выпрямлялась, и где-то внутри него зародился глубокий рык. – ТРИИИИИИИ! – проревел он, мучительно медленно поднимая камень на уровень столба и столь же медленно задвигая его край на плоскую деревянную верхушку. Как только камень встал, Бьёрн отпустил его и отскочил с поразительной для такого великана ловкостью. Камень с грохотом свалился на землю. Карл поедал брата глазами. Бьёрн, тяжело дыша, посмотрел на отца: – Ладно, старик. Твоя очередь. Уннтор взглянул на Яки, тот кивнул. Без всякой спешки вождь подошел к первому камню. Медленно наклонился, ощупал края. В следующий момент камень был уже в воздухе. – Один. Вскоре за первым последовал второй камень. – Два. Когда Уннтор подошел к третьему, он оглянулся на Бьёрна: – Ты очень силен, сын. Всегда был, – старик поправил и затянул пояс. Потом наклонился, пробежал кончиками пальцев по поверхности камня – и толкнул. – Что ты делаешь? – удивился Бьёрн. – Ты идешь не в ту сторону – ты не донесешь его до столба… – Ах ты ж сукин… – пробормотал Карл. Уннтор взглянул на сыновей и усмехнулся: – Но ты невнимателен и недальновиден, и оба вы идете сложным путем… – Старик выпрямился, довольный. Потом уперся в столб ногой и навалился всем весом. Дерево подалось, столб рухнул и коснулся верхушкой камня. – …хотя простой путь у вас прямо под носом. – Ха! – раздался звонкий, резкий смех Йорунн. – Папа выиграл! – Да ладно, – сказал Бьёрн, – это вообще нечестно! – Мозги сильнее мышц, сынок, – сказал Уннтор. – Хотя я впечатлен тем, что ты справился с третьим камнем. Это же настоящий монстр. – Как?.. – начал Карл. – Я нашел его в поле и закатил на телегу, – сказал Уннтор. – Я его поднимать не буду. Позади него усмехнулся Сигмар. – Гонка! – объявил Яки. – Я участвую, – сразу же сказала Йорунн. – Я тоже, – добавил Аслак. – А я нет, – сказал Уннтор, покосившись на Бьёрна. – Эти камни меня совсем вымотали. – Засранец, – пробормотал Бьёрн, вставая на стартовую линию рядом с братьями и сестрой. – Сигмар? – спросил Яки. – Нет, – сказал Сигмар. – Мужчине нужно понимать, когда стоит пытать удачу, а я ее один раз уже поймал. Хельга оглянулась на Хильдигуннюр: – Будет… некрасиво, да? Хильдигуннюр покачала головой. Вскоре родичи выстроились на стартовой линии. Яки прочистил горло: – Иииии – начали!.. Карл времени не терял и тут же толкнул Йорунн плечом на землю. – ЭЙ! – крикнула она, вскочив чуть ли не быстрее, чем упала, но мальчики были уже далеко впереди, и Аслак быстро отрывался от более крупных братьев. – Прочь с дороги! – рявкнул Карл на Бьёрна. – А ты меня заставь, – отозвался пыхтевший рядом Бьёрн. Аслак добежал до первого шеста и резко повернул, поскользнувшись на траве и едва сохранив равновесие. Хельга ужасающе медленно увидела, что сейчас случится. Едва заметный наклон головы Карла; стремительно нагоняющая Йорунн; рослый мужчина слишком резко замедляется перед поворотом, его нога выезжает вперед, и всем кажется, что он скользит, теряет равновесие… Пробегавшая мимо Йорунн врезалась лицом прямо в выставленную руку и распростерлась на земле. – Ой, – воскликнул Карл. – Сестренка, мне так жаль! – крикнул он через плечо, продолжая бежать. – Я тебя не заметил! В этот раз Йорунн поднималась медленнее, но когда поднялась, все тело ее напряглось от злости. Далеко впереди Аслак приближался ко второму повороту. Она выплюнула красный сгусток крови – и понеслась. – Ну же, – прошипела Хильдигуннюр. Хельга взглянула на нее: ее мать стиснула кулаки и не видела ничего, кроме гонки. Быстрые ноги, поднятые колени, острые локти – Йорунн стала иглой, лезвием, рассекающим воздух и взрезающим поле. В несколько мгновений она догнала Карла и Бьёрна, миновала их дергающиеся туши с легкостью птицы, улетающей с пути лошади. Она добралась до второго шеста прежде них и ловко обогнула его. Бежавший впереди Аслак оглянулся через плечо и со всей силы припустил вперед, но тщетно. Йорунн настигла его за шесть ярдов до финиша. Когда изящная молодая женщина пересекла линию, Хельга стояла рядом с Браги и Сигрун, которые оторвались от игры с костями, чтобы посмотреть на финал гонки. – Папа выиграл? – спросил Браги, посмотрев на маму большими голубыми глазами. – Нет, не выиграл, – ответила Руна, чье лицо напоминало свернувшееся молоко. – Он не смог обогнать сестру, хоть ей и мешали его братья. – Жалко, – сказал Браги, повернулся к игрушкам и мгновенно забыл о гонке. Когда Аслак пересек линию, Йорунн быстро обняла его. – Ты такая быстрая, – пропыхтел молодой человек. – А ты быстрее, чем был, – сказала она. Через несколько мгновений линию пересек Карл. Переведя дыхание, он взглянул на сестру: – Йорунн… извини, я падал… я не заметил… Она плюнула ему в лицо. Огромный кровавый сгусток потек по подбородку Карла. – Извини, – сказала Йорунн. – Я тебя не заметила. Бьёрн перевалил через финишную линию и успел поймать Карла в тот момент, когда воин рванулся к Йорунн, изрыгая проклятия. Но тут между ними встал Уннтор и взглянул Карлу в глаза. Разъяренный викинг перестал биться в руках Бьёрна и стер плевок тыльной стороной ладони. Йорунн, окруженная Сигмаром и Эйнаром, пристально смотрела на него. – Победила Йорунн! – объявил Яки. – Ладно, – сказал Карл, тяжело дыша. – Вот и все. – Не совсем, – ответил Яки. – Есть еще одно состязание. – Что? – спросил Бьёрн. Хильдигуннюр поднялась с места и вытащила из своего мешка мешочек поменьше. – Бабуля, это что? – спросил Браги, роняя кости. – Это моя палка для лупцевания, – сказала Хильдигуннюр, направляясь в центр поля. Она терпеливо дождалась, пока Яки и Эйнар выкатят три пня – два сиденья и стол. Потом уселась, достала квадратную доску для игры и положила ее на стол. – Ох… что? – простонал Бьёрн. – Ты заставишь нас играть? – Ваша мать решила, – сказал Уннтор, – хоть и поздновато, что ее дети не должны вырасти болванами. Последнее испытание – сыграть с ней. Каждая победа над ней считается за две. – Я буду первым, – сказал Бьёрн. – Должно быть не сложно. Пятнадцать ходов спустя он поднялся. – Я всегда подозревал, – громко сказал он, отходя от стола, – что она – ведьма. Хильдигуннюр улыбнулась и расставила фигуры для новой игры. Следующим был Карл. Он уселся, нахмурился и уставился на фигуры так, словно надеялся запугать их до полного подчинения. Чуть погодя, Бьёрн заглянул поверх плеча Йорунн. – Он не начал кричать, – заметил он, – значит, дела идут… – ЧТО ЗА?.. – взорвался Карл. – КАКОГО?.. Остаток фразы утонул в лавине сшибающихся гласных. – Неплохо, – закончила за Бьёрна Йорунн. Почти сразу Карл встал из-за стола. – Дурацкая игра, – прорычал он. – А ты, наверное… – …Хочешь отойти в сторонку и подумать, прежде чем скажешь что-то еще, – сказал Уннтор, придвигаясь поближе к плечу жены. Кипящий от злости Карл фыркнул и отошел прочь. – Аслак, – сказала Хильдигуннюр. – Твоя очередь. Худощавый мужчина сел напротив нее. – Ты же знаешь, что мне тебя не победить, мама, – сказал он. Старая женщина улыбнулась: – Знаю. – Так что я не хочу играть. Она оглядела его с ног до головы. – Почему? – Потому что я лучше потрачу время, занимаясь чем-нибудь поумнее и не таким геройским? – сказал Аслак. Хильдигуннюр улыбнулась, и он поднялся из-за стола. Йорунн уселась прежде, чем ее позвали. – Мама, – сказала она. – Дочка, – ответила Хильдигуннюр. Первые ходы обе стороны сделали быстро, потом Хильдигуннюр замедлилась. – Ты играла, – сказала она. Йорунн оглянулась на Сигмара. – У нас дома есть доска, – ответила она. Хильдигуннюр посмотрела на шведа с возродившимся интересом: – А я не знала, – сказала она. – Тебе нравится? Она сделала ход. – Это интересная игра, – ответила Йорунн и сразу походила сама. Немного погодя, когда вокруг них собралась вся семья, Йорунн протянула руку и опрокинула своего короля на бок. – Я проиграла, – сказала она. – Да, – сказала Хильдигуннюр, присматриваясь к дочери. – На этот раз, по крайней мере. Взгляда, которым она смерила Йорунн, Хельга прежде не видела. (обратно)
Глава 7 Накал
Было уже далеко за полдень, когда они наконец отправились назад, на хутор. Кожу Хельги согревало солнце, живот у нее был набит, в воздухе пахло летом, и она решила: пусть ноги сами несут ее, пока она обводит взглядом знакомые пейзажи – справа поля до горизонта, слева редкие деревья, постепенно густевшие, переходя в лес. Она закрыла глаза и улыбнулась. «Одно лишь мгновение, – подумалось ей, – одно лишь мгновение покоя…» – Все прошло лучше, чем мы думали, да? Раздавшийся над ухом голос Эйнара заставил ее подпрыгнуть. – Что? – Состязания – ни крови, ни сломанных зубов и костей, ни смертей. В конце концов победили старики. Братья успокоились, как только им дали что-то погрызть и меда, чтобы залить в пузо. Буря прошла стороной. Мы в безопасности. Хельга вспомнила все, что увидела на поле: эти стиснутые кулаки, ненавидящие взгляды, сжатые губы. – Я в этом не так уверена, – сказала она. Желудок ее внезапно сделался тяжелым, словно она проглотила булыжник. – Я бы в ближайшее время ступала осторожно и не открывала рта. – Почему? – спросил Эйнар. – Не знаю, – сказала Хельга. – Я просто… Такое чувство, будто что-то вот-вот случится. – И с чего же ты это взяла? – усмехнулся он. – Женская мудрость? Хельга зло посмотрела на него: – Да. А что не так? – Ее сердце застучало громче, и она коснулась рукой амулета с руной. – Ну… нет же никакого… – Доказательства? Хочешь, я скажу Хильдигуннюр, что ты думаешь, будто чутье без доказательств – ерунда и ничего не стоит? Чтобы успокоиться, ей почти хватило тревоги, которая читалась в лице Эйнара. Почти. – Знаешь что, Эйнар Якасон? Давай носись вокруг, выставляй локти и говори Карлу с Бьёрном что хочешь, только не жди от меня сочувствия, когда дойдет до ножей. Воцарилось молчание, и слова, темные и опасные, повисли в воздухе между ними. – В смысле, до ножей? – тихо спросил Эйнар. Хельга убрала пальцы с висевшего на шее камня. Ощущение тяжести прошло, но облегчения это не принесло. – Я… не знаю, – ответила она. – Я просто… это сказала. Эйнар посмотрел на нее так, словно видел впервые. – Что-то с тобой случилось, – сказал он. – Ты изменилась. – Лесть тебя до добра не доведет, – тускло ответила Хельга. Он оглянулся на своего отца, шедшего в хвосте. «Он выглядит напуганным», – подумала Хельга. – Пойду я помогу, – сказал он. – Увидимся позже. Хельгу начало знобить, и ей послышалось, как что-то шепчет глубоко у нее в голове; ей почти удалось поймать взглядом мелькнувшую тень, но та ускользнула.Шедшая впереди Йорунн приблизилась к Сигмару. – Ну, муж мой, как тебе моя семья? – Как ты и говорила, – ответил Сигмар, оглянувшись назад и убедившись, что никто не слышит. – Карл все тот же ублюдок, Бьёрн – олух. – А Аслак? – А что Аслак? Йорунн улыбнулась: – Он мелкий и тихий, но не стоит его недооценивать. – Не буду. Он может нам помешать? – Нет, – сказала Йорунн, – если мы будем осторожны. – И просто чтобы успокоиться – ты точно уверена? – Да, – Йорунн посмотрела на него. – Мой отец может отнекиваться сколько угодно, но где-то на хуторе спрятан клад. – Продолжай идти, – прошептал Сигмар, – и слушать, и смотреть. У нас будет шанс – и мы его не упустим. Он улыбнулся и приветственно склонил голову, когда их обогнала Хельга, но девушка, казалось, этого не заметила.
«Ничего не понимаю», – подумала Хельга. Хоть чувство, которое настигло ее во время разговора с Эйнаром, и прошло, но она помнила, как в голове царила какая-то предгрозовая атмосфера. Она взглянула на Аслака, пытавшегося обуздать своих детишек. Поглощенные кутерьмой, все трое выглядели счастливыми. Из ступора ее вывел шедший рядом с Хильдигуннюр Бьёрн, который взорвался резким грудным смехом. Хельга уловила след лукавой усмешки на лице матери. «Наконец-то нашелся ценитель ее сальных шуток». От этой мысли она улыбнулась, и ощущение лета снова нагнало ее. Настроение у Хельги опять улучшилось. Ничего страшного, всего лишь отголосок дурного сна. Она помирится с Эйнаром позже. Как и раньше, как только она оказалась рядом с Бьёрном, огромное тело здоровяка сразу притянуло ее к себе. Он был увлечен разговором с Хильдигуннюр, и Хельга подошла к ним так близко, что могла разобрать слова. – Я пытался оставить ее с ним, но это тоже не сработало, – сказал он. – Этот бык и знать ничего не хочет. – Может, он любит траву? Ты не пробовал прикрыть ее хвост травой, чтобы он проел к ней дорогу? – сказала Хильдигуннюр. «О чем они?..» Хельга представила себе эту картину и сделалась свекольно-красной. Она уставилась на свои ноги. Тропинка переросла в дорогу и теперь огибала деревья, выводя на просеку. Прямо перед ними лежал Речной хутор, весь в бликах отраженного от стремительной реки света. Бьёрн снова хохотнул: – Мама, ты ужасна. Ничего, разберется когда-нибудь… раньше-то он это делал. Хильдигуннюр кивнула поравнявшейся с ними Хельге. – Если ничего не получится, пришли его ко мне. Уннтор его быстро обучит. – МАМА! – хором воскликнули Хельга с Бьёрном, и Хильдигуннюр радостно захохотала: – Я люблю вас, дети мои, но кажется мне, вы все думаете, будто вас в лесу нашли. Кстати, может кто-то из вас принести немножко дров? – она открыла ворота и ступила во двор. Хельга слышала рассказы о королевах, но не могла представить себе никого царственнее Хильдигуннюр. – Видать, придется мне – твоя Веточка себя-то едва поднимает, не то что дрова, – сказал Бьёрн и подмигнул Хельге. – О, она сильнее, чем кажется, – сказала Хильдигуннюр. – Но ты сходи, маленький мой тролленыш, – добавила она, поднялась на цыпочки и поцеловала великана в щеку. Бьёрн, ухмыляясь, отодвинул ее: – А ты тогда кто, мама? – Женщина, способная выжить с твоим отцом и вас, обалдуев, вырастить, – парировала Хильдигуннюр. – Топор в сарае. Иди на север, в гору – там будет тропа к участку, который твой отец пытается расчистить. Увидишь. Топор принесешь вместе с дровами, только не руби больше, чем сможешь унести. – Я всегда так делаю, мама, – Бьёрн улыбнулся и зашагал прочь. – Пойдем, ленивица, – сказала Хильдигуннюр. – Надо готовиться к завтрашнему вечеру. Хельга пошла следом за ней. Во дворе, за забором, она чувствовала себя в безопасности. Защищенной.
Волкодав приветственно гавкнул, когда Бьёрн проходил мимо, здоровяк остановился и почесал пса за ушами, а когда тот застучал хвостом, направился в сарай. Вскоре он вышел, неся топор с толстой рукоятью, настоящее орудие лесоруба. – Этому доводилось и косточки ломать, – пробормотал он, взглянув на многажды заточенное лезвие. Пес умоляюще смотрел на него, пока он шел обратно к забору. – Вырубка? – он посмотрел на сплошную стену деревьев, притиснувшуюся к подножью холма. – А эти-то старому козлу чем не угодили? Ну, лучше делать как маманя говорит, – продолжил он, шагая мимо деревьев к тропе, как ему было велено. Воздух под сенью деревьев был неподвижным, и по лицу взбиравшегося на холм Бьёрна расползлась улыбка. Тропинку он нашел легко – и тут же услышал вскрик, быстро стихший. С топором наготове Бьёрн ворвался на вырубку… чтобы увидеть мелькание белой кожи – руки, ноги, широкую спину – и лежащую на земле Руну, вцепившуюся Карлу в волосы, подталкивавшую и подгонявшую его. – Сзади, – прошипела она в ухо любовнику, тот замер в середине толчка и оглянулся через плечо на великана с топором. Ему потребовалось мгновение, чтобы оценить положение. – Сделай вид, что… – начал Карл, но Бьёрн уже отвернулся. Широко размахнувшись, здоровяк погрузил топор в ближайшее дерево. Не глядя на любовников, он сказал: – Маме дрова нужны. И ушел.
Как только он скрылся, Руна положила руку на шею Карлу, поглаживая его. – Ну же, – прошептала она, притягивая его ближе, – не останавливайся. Карл оттолкнул ее и поднялся на колени, скрывая штанами опадающий член. – Хватит, – сказал он. – А мне нет, – сказала Руна, блеснула соблазнительной улыбкой, приподнялась и потянулась к его бедру. Карл оттолкнул ее руку и встал. – Я сказал, хватит. В глазах у Руны сверкнула злость, и она поднялась на ноги, безотчетно поправляя платье и вытряхивая траву и веточки из волос. – Но я думала… – Не надо было думать. Я просто хотел кому-нибудь присунуть. Ее глаза наполнились слезами, челюсти яростно сжались. Она закусила губу, сорвалась с места и убежала прочь от хутора, в глубину леса. Карл крепко зажмурился и вздохнул. Потом снова открыл глаза, подошел к торчавшему из дерева топору и пробормотал: – Так. Дрова. Он потянул за рукоять, но топор не поддался. Карл с проклятиями стал расшатывать его из стороны в сторону снова и снова, пока лезвие наконец не начало выходить на ширину ногтя с каждым рывком.
Хельге всегда казалось, что выполнять работу по дому вместе с матерью – это особая честь. Все становилось приятно ритмичным и тихим, и ее мысли где-то витали, пока она механически нарезала морковку ножом. – Пожалей свою старушку-мать и принеси мне еще дров, – попросила Хильдигуннюр. – Нужно разжечь посильнее огонь под котлом. Солнечный свет ударил вышедшей из дома Хельге в лицо, и ей пришлось надолго зажмуриться, чтобы привыкнуть к нему. Она услышала, как плещутся в реке детишки, и без труда вообразила тоску на лице присматривавшей за ними Гиты. Ноги сами отнесли ее за угол дома, в тень, к навесу, под которым были сложены дрова. Она взглянула на отсыревшие поленья. «Хорошо, что нарубить еще послали кого-то другого». Хельга набрала охапку дров посуше и осторожно понесла назад, глядя под ноги, хоть и была уверена, что может пройти этот путь с завязанными глазами. Она сбросила груз в корзину для дров. – Вот. – Спасибо, – сказала Хильдигуннюр. – Много Бьёрн нарубил? – Не знаю, – сказала Хельга. – Он, похоже, еще не вернулся. Топора не видать. – Хм, – она бросила в огонь три полена, и голодное пламя мгновенно вгрызлось в древесину. Позади них открылась дверь, и в дом вошел Бьёрн. Хильдигуннюр повернулась к нему: – Где мои дрова, здоровая ты орясина? – Карл сказал, что нарубит, – ответил Бьёрн. Хельга взглянула на мать. «Ей это совсем не нравится», – подумала она. И что вообще Карл делает в лесу? Она попыталась вспомнить, когда в последний раз видела старшего из братьев. – Так возьми другой топор и помоги ему, – приказала Хильдигуннюр. – Тут тебе делать нечего. Бьёрн молча повернулся и ушел. Когда дверь закрылась, Хильдигуннюр вздохнула: – Как же сложно уследить за всем зверьем, – пробормотала она. Хельга не была уверена, что речь идет о домашней скотине.
По лесу гуляло эхо от ударов металла о дерево. Бьёрн с топором на плече поднялся на холм и нашел вырубку. Его старший брат стоял у огромной сосны, весь в поту, с безумной улыбкой, и рубил что было силы. Два дерева, каждое в три человеческих роста, уже лежали на земле. Карл оглянулся, заметил Бьёрна и с новой силой атаковал сосну. – Приветствую, братец, – прорычал он между двумя яростными ударами. Бьёрн ничего не ответил, лишь подошел к одному из поваленных деревьев и принялся обрубать ветки. – Ты пришел сказать мне, какой я нехороший? Каким я могу быть бесчестным ублюдком? Костяшки сжимавших топорище пальцев великана сделались белыми, и он взглянул в лицо брату: – Ага, именно так, – сказал он с холодной яростью в голосе. – Ты засранец – и всегда им был, но обычно ты вредишь только себе. Зачем тебе рушить семью Аслака? – Она этого захотела… – Пусть так, но и ты должен был захотеть. Ты любишь только себя и все портишь. Так всегда было. Но пора с этим кончать. Братья немного постояли лицом к лицу в лесной тишине. – Я убил людей, Бьёрн, – мягко сказал Карл, – больше, чем могу сосчитать. Слабых людей. Молодых людей. – Он дернул плечами и перехватил топор, не спуская глаз с великана, осматривая его, примеряясь к нему. – Больших людей. Бьёрн уставился на брата, с отвращением скривил губы – а потом принял решение, отвернулся и продолжил обрубать ветки. Карл посмотрел на затылок брата. – Как хочешь, младшенький, – пробормотал он, прежде чем снова всадить лезвие топора в огромную сосну.
Солнце было уже на полпути к земле, когда они взвалили на плечи первое дерево, теперь разрубленное пополам. После стычки они не обменялись ни словом, но братья столько раз работали вместе, что им не нужно было ничего друг другу говорить. Они споро одолели путь от вырубки до хутора, разрубили ствол на поленья и аккуратно сложили их у сарая, рядом с прошлогодними дровами. Карл ушел в дом, а Бьёрн направился к кузне. Друг на друга они не смотрели. При виде хозяина Бреки вскочил и бешено забарабанил хвостом. – Шшш, мальчик, – низким голосом прогудел Бьёрн. – Шшш. Он почесал пса за ушами, найдя то место, которое всегда заставляло его расплываться от удовольствия. Потом для верности почесал еще раз и вздрогнул, почувствовав, что за ним наблюдают: возле кузни стоял Вёлунд и молча смотрел на него. – Чего тебе, парень? Вёлунд не ответил, и Бьёрн вздохнул: – Иди на вырубку рядом с новой овчарней, сын. Возьми топоры и столько веток, сколько сможешь унести. Давай живее. Подстегнутый громким голосом отца, Вёлунд неуклюже зашагал. Бьёрн посмотрел, как мальчишка то ли бежит, то ли семенит прочь, и снова вздохнул: – Надо было тебя еще в младенчестве утопить, – пробормотал он. Взглянул на собаку и улыбнулся: – Был бы он больше на тебя похож, да? Волкодав смотрел на него с обожанием и довольно пыхтел, вывалив язык.
Хельга спускалась по холму к новой овчарне. Узенькая полоска деревьев, которые, как говорят, она называла «мой лес», когда была маленькой, едва-едва охватывала холм, ничего особенного, но, подумалось ей, звуки там обитали чарующие. Иногда было тихо, иногда все взрывалось шелестом и жизнью. Это было одно из тех мест, где она чувствовала себя спокойнее всего. Она сразу воспользовалась шансом сбежать, улучить немного времени для себя, едва только Хильдигуннюр упомянула, что ей нужно кое-что из ящика возле новой овчарни – должно быть, она оставила там свой нож с костяной ручкой, а он ей нужен, потому что это лучший нож на хуторе. Бьёрн тоже вызвался сходить, но Хильдигуннюр велела ему сидеть тихо и послала Хельгу. Ей было о чем подумать: ненавидят братья друг друга или любят? Карл срывается на всех и вся, но стоит ли бояться его угроз? И так ли прост Сигмар, как кажется? Телосложения он незавидного, однако даже не дернулся, когда во время состязаний на него бросился Карл. Она так глубоко задумалась, что, свернув за угол, едва не сшибла с ног Вёлунда. – Ой… Привет! Вёлунд взглянул на нее, поначалу тупо, потом в его глазах мелькнула искра узнавания, а следом за ней – бледнейшая из улыбок. – Привет, – пробубнил он. – Куда ты идешь? Улыбка исчезла. – Надо найти, ну, топоры, – сказал мальчик, опустив глаза. Пальцы его начали дергаться, сжимаясь в кулаки и снова разжимаясь. – На вырубке – только… я не знаю… Хельга осторожно положила руку ему на плечо: – Все в порядке. У Вёлунда задрожала нижняя губа. – Не знаю, – повторил он жалобно. – Я знаю, куда тебе надо идти, – сказала Хельга. Вёлунд поднял глаза, робко всматриваясь в ее лицо. – Ты… знаешь? Улыбка далась ей легко. – Да. Иди за мной! – она прошла мимо него, свернула на боковую тропинку и вскоре оказалась на вырубке, а следом за ней и Вёлунд. – Вот они! – воскликнул позади нее мальчик, подбежал к брошенным топорам и, улыбаясь, взвалил их на плечо. – Я их нашел! – Да, нашел, – сказала Хельга, глядя, как на расстоянии ладони от его лица застыли лезвия. – Ты прав. Только будь осторожнее, ладно? Вёлунд кивнул, не спуская с нее глаз: – Ты меня спасла, – сказал он. Хельга осторожно переместила топоры в руках мальчика, чтобы он ненароком ничего себе не отрубил, и повела его, словно бычка, к большой куче веток. – Что ты имеешь в виду? – Я не знал, куда идти, а папа злится, когда я не знаю, куда идти. – Вёлунд моргнул. Его плечи напряглись, лоб нахмурился, и неожиданно мальчик стал похож на мужчину. – Ты болван, парень! – прорычал он, в точности как Бьёрн. – Я расколол бы твою головенку, если б думал, что там хоть что-нибудь есть! – Он стиснул топоры сильнее. – Проваливай! ПРОВАЛИВАЙ! – потом он взглянул на Хельгу и как-то обмяк. Лицо его снова приобрело привычное невинно-коровье выражение. – А мама скажет: «Пожалуйста, Бьёрн, не трогай его! Не трогай, он всего лишь малыш!», а папа ответит: «Да он просто тупица, и лучше бы его вообще не было». Но я нашел топоры, и теперь все хорошо. Словно выйдя из собственного тела, Хельга взглянула на свои руки. Волоски на них встали дыбом, хотя вечерняя жара еще не спала. Она попыталась представить пьяного Бьёрна, затиснутого в четырех стенах, костерящего своего сына-идиота, и Тири, которая топчется позади него, как беспокойная мамаша-утка, – и Вёлунда, неспособного понять, что происходит, неспособного что-то сделать – просто… присутствующего. – Ты прав, – сказала она, и слова застряли у нее в горле. – Все хорошо. Теперь все всегда будет хорошо. Последние слова она произнесла со всей убедительностью, на которую была способна, хотя сама не до конца в них верила. Рунный камень на ее груди, казалось, стал тяжелее.
Тири и Агла расположились на скамьях рядом с Хильдигуннюр, которая контролировала работу с помощью обычных быстрых жестов и тихих указаний. Йорунн сидела в углу и говорила с отцом. Сигмара, Карла и Бьёрна нигде видно не было. – Иди и тихонько сядь на свое место, – прошептала Хельга Вёлунду. – Я тебе кое-что принесу. Мальчик посмотрел на нее широко раскрытыми глазами и кивнул. Она посмотрела, как он ковыляет в угол для детских игр, большой и неповоротливый, как бычок. Ей не понадобилось много времени, чтобы найти кости, с которыми прошлым вечером играли детишки, и когда она принесла их Вёлунду, тот благоговейно коснулся их, а потом оглянулся, чтобы убедиться, что он действительно наедине с этой горой игрушек и не надо ни с кем делиться. Он немедленно погрузился в какую-то сложную и непонятную игру, которую сам придумал. – …Только это не оправдание, – повысила голос Агла. Заинтересованная Хельга подошла ближе. – Не знаю, – сказала Тири. – Разные бывают случаи. – Да мне плевать. Если обещал себя женщине – так и не нарушай обещания. – Нож в ее руке несколько раз громко простучал по разделочной доске, словно дятел по дереву. – Ты совершенно права, – примиряюще сказала Хильдигуннюр. – Нечего мужикам совать свой нос куда не следует. Но даже самые примерные овцы заплутают, если ворота открыты и собака спит, правда ведь? По лицу Аглы было видно, как чувства борются в ней со словами Хильдигуннюр. – Все равно оправдания нет, – проворчала она. – Но я понимаю, о чем ты. – Ой, да ни на что они не годятся, – сказала Тири с вымученным весельем. Мать Хельги не преминула отозваться: – Ну, для одного они точно годятся, скажу я вам, – добавила она, вызвав у женщин смешки. «А сейчас…» – подумала Хельга, выжидая, – да, точно: глубокий вдох, серьезный голос. – Все женщины должны знать, – Агла и Тири придвинулись ближе, – что мужчины – как мосты. Недоумение на лицах: они уже у Хильдигуннюр в руках. – Один раз их уложишь как надо – и ходи по ним хоть до конца жизни. По дому загуляли порывы хохота. Даже Хельга обнаружила, что улыбается, несмотря на залившую лицо краску. – Эй, курицы, потише! Растрещались на всю долину, а мы тут разговаривать пытаемся! – прокричал Уннтор с другого конца дома. – Конечно, как скажешь,супруг мой, – сладенько протянула Хильдигуннюр и захлопала ресницами, вызвав еще один всплеск хохота. Она отвернулась и продолжила работу, а следом за ней и Агла с Тири, только теперь у них на лицах были настоящие улыбки. Когда они ушли в работу с головой, пожилая женщина обернулась к Хельге, посмотрела ей в глаза и взглядом сказала: «Вот как это делается». В ответ Хельга улыбнулась: «Я видела. Я поняла». Она услышала, как позади нее открылась дверь. Вошла Гита, внимательно осмотрела комнату и направилась к своей кровати. Агла, не оборачиваясь, спросила: – А за детьми кто смотрит? – Руна, – ответила Гита. – Я подумала: а почему нет? Это ее дети, в конце концов. – Так молода и так мудра, – сказала, улыбнувшись, Хилдигуннюр. – Да уж, – ответила Агла, – во всем-то она разбирается. Хильдигуннюр наградила ее улыбкой, и она усмехнулась. – Хельга, иди сюда, – пророкотал Уннтор. – Не трать свое время в курятнике. – А ты-то кто тогда, муженек? – прокричала на весь дом Хильдигуннюр; смешки снова переросли в хохот, и Тири с Аглой обменялись улыбками. Хельга прошла по комнате и уселась на скамеечку на безопасном расстоянии от Йорунн. Изящная женщина улыбнулась ей, но в глазах ее улыбки не было. – Разреши наш спор, дитя, – сказал Уннтор. – Почему твоя мать всегда выигрывает в тафл? Йорунн говорит, это потому, что она думает наперед. Я считаю, что она просто ведьма. – Вы оба правы, – не задумываясь, сказала Хельга. – Я все слышу! – прорезал комнату притворно гневный голос Хильдигуннюр. Йорунн усхмехнулась: – А мы тогда кто? – Везунчики? – сказала Хельга. – Мы до сих пор живы. Усмешка Йорунн переросла в улыбку, и она подсела ближе к Хельге. – Она либо мудра, либо издевается, – сказала она. – В любом случае мне она нравится. Уннтор тоже улыбнулся Хельге: – Ты одна из моих, это точно, – сказал он. – Пусть и досталась нам вроде как забесплатно. – И, конечно, если задумаешь прикарманить наше наследство, мы тебя прикончим, – добавила Йорунн. В горле Хельги запузырился нервный смех. – Разумеется, – сказала она. – Оставь ребенка в покое, дочка! Наследства не будет еще лет сорок. Моя дорогая жена-ведьма пока еще не даст мне скопытиться. Вот, помню, как-то раз… Внимание Хельги отвлекло легкое прикосновение к ее руке: рядом стояла взволнованная Гита. – Можно тебя?.. – пробормотала она, глядя на дверь. Хельга встала. Уголком глаза она заметила, как Йорунн с натянутой улыбкой смотрит на отца. – Пойдем. Наружу, – сказала она.
Небо было темно-синим, испещренным тускло-белыми плывущими облаками, и Хельга поежилась. Ближе к ночи становилось зябко, и посиделки в тепле под россказни Уннтора внезапно показались куда более заманчивыми. Она повернулась к Гите и собралась было рявкнуть на нее, но вспомнила только что преподанный Хильдигуннюр урок терпения и спокойствия. Вместо этого она мягко спросила: – Что такое? – Руна, – ответила Гита. – Она себя очень странно вела – там, у реки. – Разве она не всегда такая? Та еще колючка. – Ну, да, только дело не в этом, – сказала Гита. – Она была почти – ну, спокойная, но что-то в этом было нехорошее. – Да? – Хельга пыталась оставаться невозмутимой. Ножи. Ножи в темноте… Ощущение было такое, словно жуткий голод терзал ее внутренности. Ей удалось продолжить ровным голосом: – Расскажи мне. Гита уставилась себе под ноги. – Я не знаю, что еще сказать. Просто… Она шла вдоль реки, и вроде как топтала траву, а когда увидела меня, то словно бы… ну, что-то в себе подавила, а потом так кивнула, будто хотела, чтоб я просто ушла, понимаешь? Она была такая серьезная, и я почувствовала… ну… – Я не думаю, что Руна из тех, кто скрывает причину недовольства, – заметила Хельга, и Гита фыркнула. – Где-то на севере есть берлога, в которой не хватает медведицы, – сказала она. Хельга улыбнулась, но не смогла стряхнуть нарастающее беспокойство. – Уверена, если что-то ее беспокоит, мы об этом скоро узнаем. – Так что, думаешь, нам надо с ней поговорить? – Нам? – Хельга немного поразмышляла о том, не стоит ли ей в самом деле пойти и узнать, что стряслось, но разговор с женой Аслака мало привлекал ее, даже если бы та не была озлобленной. Она решительно замотала головой. – Нет… нет, наверное, не стоит. Если на хуторе что-то не так, моя мама с этим разберется. Но ты правильно сделала, что мне сказала. Пойдем вернемся в дом. Она открыла дверь и почти затолкала Гиту внутрь. Летнее небо над ними набухало темнотой.
Эйнар недолго возился с большим столом. Он рассказывал Хельге, что Яки сделал два или три таких, пока у него не получилось, но этот был идеален: устроен так хитро, что собрать его было так же просто, как и разобрать. Когда их было только пятеро, он коротал дни прислоненным к стене дома, но теперь стол ее родителей вновь стал местом пира и веселья, ломившимся от тарелок и мисок, полных еды с огорода, из леса и из реки. – Ешьте, дети, – сказала Хильдигуннюр, и не прошло и мгновения, как нож Бьёрна погрузился в славную, жирную баранью ногу, наполовину утопавшую в наваристом бульоне. – Положил на нее глаз, как только мы сели, – ликующе провозгласил он. – Ягненочек тоже хорош, – сказал Карл. Хельга подняла взгляд и увидела, что он пялится на нее. – Молодой и нежный. – Получше, чем старый козел, – многозначительно сказала Йорунн, и Карл уставился на нее, а над столом запрыгал смех. Сигмар, сидевший рядом с женой, спокойно и целеустремленно наваливал себе на тарелку овощей столько же, сколько мяса. Гита посмотрела на шведа с нескрываемым отвращением. – Ты зачем столько дерьма ешь? – спросила она. – О чем ты говоришь? – он улыбнулся племяннице. – У меня на тарелке дерьма нет. Она указала пальцем: – Корешки? Листочки? Ты что, кролик? Агла, нахмурившись, потянулась и ухватила дочь за руку, но Сигмар улыбнулся, прежде чем напустить на себя серьезный вид: – Конечно, по линии отца. Ну, я так думаю. – Почему? – спросила Гита. Хельга заметила краем глаза, как усмехается Хильдигуннюр. – Потому что когда я был маленьким, то, засыпая, каждый раз слышал, как моя мать просит папочку трахнуть ее как крольчиху, – сказал Сигмар, мило улыбаясь. Пауза, а затем… – Ого! – сказал Бьёрн, залившись хохотом, когда Гита покраснела. Йорунн толкнула мужа локтем, но ее широкая улыбка намекала, что она не так уж и возмущена. Хельга перевела взгляд на дальний конец стола, где сидел младший из братьев, склонив голову и сложив руки на коленях. Рядом с ним была Руна, напоминавшая грозовую тучу, – с поджатыми губами и нахмуренным лбом. Она прошептала что-то Аслаку, который кивнул и уставился на свои руки. Грохот, с которым кружка Уннтора обрушилась на стол, утихомирил всех – глава семейства все еще мог это сделать. Он нахмурился, вдохнул в себя окружавший его шум и принял властный вид. – Вы, дети! Вы все ужасные и отвратительные… – … а значит, точно наши, – закончила Хильдигуннюр, сверкнув глазами. Уннтор повернулся к старшему сыну: – И вот мы снова собрались вместе. Это еще не скоро повторится. Расскажи родне, как ты живешь, – сказал он. – Поделись вестями. В кои-то веки темноволосый выглядел не слишком самоуверенно. – Мы… мы живем хорошо, – начал он, и сидевшая рядом Агла просияла: – У нас большой хутор недалеко от берега. – Всегда знал, что ты заделаешься тюфяком-южанином, – осклабился Бьёрн. – Пасть закрой, – рявкнул Карл. – У нас четверо работников, двое – с женами. Хельга обходила стол, наполняя кому нужно миски, и ей показалось, что Бьёрн и Тири переглянулись, но это длилось только мгновение. Рядом с ними в блаженном неведении чавкал едой Вёлунд. – Ты его купил после походов? – спросила Йорунн. – Да, – сказал Карл. – Мы выбрали прекрасный хуторок. Он защищен от ветра, земля хорошо родит, а вдалеке слышен океан. У нас двадцать четыре коровы и сорок овец, а Гите скоро уже настанет время идти замуж. Хельга посмотрела на старшего сына Уннтора. Впервые она ощутила капельку сочувствия к нему. Казалось, что он стесняется – нет, даже больше, казалось, что он печалится, как будто перечисляет вещи, которые должны бы приносить ему радость, но не приносят. – А происходит ли что-нибудь в этом чудесном краю? – спросила Хильдигуннюр. – Нет, – встряла Гита. – Ну, я так думаю. Там полно навоза. Но кроме этого – почти ничего. Хильдигуннюр усмехнулась, а Агла закатила глаза. – Где бы найти короля, которому сплавить это сокровище, – сказала она, вызвав усмешки у сидевших за столом. – Или, может, самому Фрейру? Гита фыркнула и задрала нос: – Староват для меня, – заявила она, и женщины одобрительно зашушукались. – И как ты, привыкаешь к хуторской жизни? – пророкотал Уннтор. – Непривычно ведь, правда? – Да, – сказал Карл, снова сверкнув глазами. – Конечно, непривычно. – Много тяжелой работы, – сказал Уннтор. – Да. – Встаешь с рассветом, ложишься уставший до смерти. – Да, – процедил тот сквозь стиснутые зубы. – Если хочешь что-то получить от своей земли, надо это заслужить… Карл вскочил с такой силой, что едва не опрокинул скамью, на которой сидело его семейство. – Я ЗНАЮ, ПАПА! – прорычал он. – Я на хуторе ВЫРОС! Прямо здесь! Помнишь? Или ты все пропустил, потому что изображал Самого Главного в Долине? – Он подкрепил слова ударом кулака по столу. Аслак заслонял рукой своих перепуганных детишек. Напротив него уткнулся в миску с супом Вёлунд, его крепкие мышцы вздулись от напряжения. Тири метнула в Бьёрна бешеный взгляд и принялась шептать сыну в ухо что-то успокаивающее. Карл показал семье и миру оскаленные зубы: – У нас все отлично – и всегда будет отлично, без чьей-то там помощи! – он бешено оглядел комнату, бросая вызов тем, кто осмелится посмотреть ему в глаза. Агла безотчетно потянулась поднять опрокинутую кружку, но быстрый взгляд мужа заставил ее замереть. Старик во главе стола покосился на свою жену – «Хочешь его утихомирить?» – но она поджала губы и покачала головой. «Нет, не стану. Разбирайся сам». Они невозмутимо глядели на Карла. Положив громадные руки на стол, Уннтор улыбнулся: – Хорошо. Уверен, мы будем тобой гордиться. Бьёрн? В какой-то момент показалось, что Карл сейчас уйдет, но он был зажат между столом и стеной. Решив не пробираться мимо всей своей многочисленной родни, он снова уселся и озлобленно отпихнул руку, которую Агла положила ему на плечо. Сидевший по другую сторону стола Бьёрн прокашлялся и дождался, пока Вёлунд закончит всхлипывать. – Ну, – сказал он, – у нас дела не так хороши, как у Карла… – он вскинул голову и изучил лицо брата, но, не найдя следов издевки, продолжил: – Но мы более-менее справляемся. У нас маленький хуторок, он нас кормит, в долине и вокруг о нас думают хорошо, и мы можем помогать соседям. – Звучит неплохо, – сказала Хильдигуннюр. – А как насчет твоего сына-полудурка? – рявкнул Карл. Сердце Хельги выпрыгнуло ей в рот и на полмгновения замерло там. Дом заполнила тишина. Потом Бьёрн очень спокойно накрыл огромной ладонью обе руки своей жены и взглянул Карлу прямо в глаза: – Мой сын-полудурок, – сказал он, и голос его был словно плывущий айсберг, – добрый и мирный, никого не обижает, почти ничего не ломает и вырастет очень сильным. Так что он и на хуторе пригодится, и люди его будут любить. Чего о тебе совсем не скажешь, милый братец. Что ты на это ответишь? Он сказал это спокойно, но при взгляде на него было понятно, что Бьёрн просто жаждет стычки, и на этот раз Карлу не застать его врасплох. Эйнар отвел Хельгу на безопасное расстояние от стола и взглядом указал ей на ноги Бьёрна. Они медленно сдвинулись под скамью, здоровяк был готов броситься вперед под любым предлогом. Карл открыл рот, собираясь заговорить. – Молчать, – голос Хильдигуннюр настиг их, будто треск сломавшейся ветки. Чары были сняты. Старая женщина больше не улыбалась и не сверкала глазами. Она была плоть от плоти земли и гор и, как все матери до нее, не терпела непослушания. – Я не позволю, чтобы мои сыновья кидались друг на друга, как их сдуревшие дворняги. Карл, ты лезешь в драку. Я знаю, ты драться любишь, но не смей вредить своей родне ни словом, ни делом под моей крышей. А ты, Бьёрн, оставь брата в покое и не обращай внимания на его слова. Ясно? Ее сыновья уткнулись взглядами в стол. – Да, мама, – пробормотали они. – Я вас не слышу. И смотрите в глаза, когда со мной говорите, – рявкнула она. Две головы вскинулись вверх; две пары глаз уставились на Хильдигуннюр. – Да, мама, – дружно сказали они, на этот раз громче. Она удовлетворенно кивнула и вновь откинулась на спинку стула. – Так значит, у тебя все хорошо, – прогудел Уннтор, и Бьёрн утвердительно буркнул, стараясь не глядеть в сторону Карла. – Отлично. Йорунн? Сестра мило улыбнулась Уннтору. – Да, отец мой? – сказала она, и речь ее сочилась жизнерадостной покорностью. Братья уставились на нее. – Тебя это тоже касается, нахалка, – проворчала Хильдигуннюр, но не слишком сурово. – Расскажи нам о жизни на востоке, – сказал Уннтор. – Мы кое-что слыхали, но не очень много. – О? И что же вы слыхали? – спросил, улыбаясь, Сигмар. «У него в глазах улыбки тоже нет», – подумала Хельга и решила понаблюдать за шведом, когда он не будет ее видеть. – То да се, – сказала Хильдигуннюр. – Как будто старый король Эрик войну затеял. – Хм, – сказала Йорунн. – Два года назад? – Что-то вроде того, – ответила Хильдигуннюр. – Да ничего такого не было, – сказал Сигмар. – Небольшая стычка с двоюродным братом. Они потом между собой разобрались. Забавная история. – А мы слышали, что там армии собирались, – сказал Уннтор. – Так а что еще армиям делать? – спросила Йорунн. – Собрались, повоевали, а надоело воевать – разошлись по домам. Хильдигуннюр окинула дочь таким взглядом, словно оценивала особо норовистую кобылу: – Может, и так, – сказала она, – но важные слухи из внешнего мира до нас редко доходят. Йорун ответила таким же взглядом: – Я и не знала, дорогая мамуля, что новости могут так долго от тебя скрываться. – Я знаю то, что знаю, – сказала Хильдигуннюр, – но не больше. – Да мы вам все уже рассказали, – сказала Йорунн. – На востоке скучно, правда. Главные вести теперь приходят с юга. От границ с данами. Много товаров оттуда идет. – Интересно, – сказала Хильдигуннюр. Это произошло лишь в ее воображении, но Хельге послышалось, будто убирают доску для тафла. «На что они играли?» Она хорошо улавливала темп и интонации в голосе Хильдигуннюр – та не раз давала Йорунн шанс раскрыться, но не получила ничего. «Или она охотилась за уловками Йорунн?» Поединок умов закончился, но Хельга не могла понять, кто выиграл. – Расскажите нам об Уппсале, – сказал Уннтор. – Мы постоянно туда ездим ко двору, – сказала Йорунн. Глаза Гиты расширились, а она продолжала: – Обсуждаем торговлю с югом и болотами. Гита не смогла сдержаться. Пораженным голосом она произнесла: – Вы бываете при дворе короля Эрика? – Бываем, – как ни в чем не бывало сказала Йорунн, – да только с этим одна морока. Приходится наряжаться в дорогую одежду и… – А вы меня возьмете? Можно я с вами съезжу? Один разик? – Почему бы и нет. Я попрошу… – Нет, – твердо сказал Карл. На мгновение, пока гости за столом осознавали это слово, все стихло, а потом четыре голоса заговорили разом: – Карл… мне кажется… – Почему нет? Никакого вреда… – Ты уверен? – Ну же, братец, дай дево… Но всех перекрыл вопль Гиты: – НЕНАВИЖУ ТЕБЯ! Рядом с Руной дружно разрыдались Сигрун и Браги, тонкие, пронзительные голоски взметнулись под крышу. Карл снова ударил кулаками в стол, поднялся с места и повернулся к хмурой дочери: – ЗАТКНИ свой РОТ и слушай, что тебе ГОВОРЯТ, – проревел он, брызгая слюной. – Хватит с меня того, что вы все тявкаете и хватаете меня за пятки. Ты вернешься со мной и с матерью и пойдешь замуж. И ни в какую сраную Уппсалу со сраными ветошниками не поедешь. Мгновение тишины, а затем… – Ветошниками? Хельга увидела, как поднялся Сигмар, двигаясь спокойно и неторопливо. А еще она заметила пустое место возле его тарелки – там, где прежде лежал нож. Карл уставился на него: – Ты слабак и рохля и ни хрена не делаешь, только пыжишься, а вся эта ваша «торговля» – одна сплошная брехня. Сигмар улыбнулся: – А что же я должен вместо этого делать? Пойти в «поход»? – Хельга почти увидела кавычки вокруг этого слова. – Убить парочку беззащитных крестьян где-нибудь в Саксонии? – Он посмотрел Карлу в глаза. – Вернуться домой и купить большой хутор? Перепробовать все, чтобы стать большим человеком? – Улыбка сделалась волчьей. «Ну же», – говорила она. – Залезть в долги и в слезах броситься к папочке? Агла едва успела натянуть недоуменное лицо, когда Карл вскочил на стол, растолкав миски, и бросился на Сигмара, рыча во все горло. – Бьёрн! – крикнула Тири, но великан лишь расставил руки, заслоняя свою семью, и сделал шаг назад. Ожидавший нападения Сигмар ловко отступил, отодвинув Йорунн в сторону, и вышел на свободную часть комнаты. Он выгнулся как кот, посмотрел на Карла, и острие прихваченного им ножа блеснуло в свете огня. Где-то по пути через обеденный стол у викинга наконец-то проснулось чувство самосохранения. Его убийственный взгляд все еще был направлен на Сигмара, но, вместо того чтобы кидаться напролом, он принялся кружить. – Я тебя пополам сломаю, швед, – зарычал он. – Сначала поймай, – ответил Сигмар, – а если поймаешь, я вскрою тебе вены. Дело в том, Карл, – продолжил он, невозмутимо уклоняясь от пробного удара, – что ты не знаешь. Ты понятия не имеешь, что я делал с тех пор, как мы в последний раз встречались, а это было очень давно. За его спиной заскрежетала по полу скамья, Карл заворчал и подступил ближе. Сигмар махнул рукой, и лезвие прочертило дугу на уровне его глотки. – И вдобавок к этому, шесть моих людей ждут неподалеку на дороге. А у тебя? – Ты блефуешь, – прорычал Карл. – Может быть, – парировал Сигмар. Его улыбка предлагала проверить. – Так, – сказал Уннтор. – Или вы оба сядете и уйметесь, или за столом будут две вдовы. В пляшущем свете вождь казался еще крупнее. Топор в руках Уннтора был почти в половину его роста. – Не лезь, папа, – сказал Карл, – это между мной и… – СЯДЬ. НА МЕСТО. Сигмар отошел назад, выставив перед собой руки ладонями вверх. Нож исчез – не упал на пол, заметила Хельга, а значит, вернулся в рукава его рубахи. Оскалившись, Карл в три стремительных шага подошел к шведу… …но Уннтор обратился размытой тенью, топор завращался в его руках. Рукоять врезалась в колени Карла, спустилась вниз, к лодыжкам, а затем, двигаясь, словно косарь, Уннтор сбил старшего сына с ног, и Карл ударился об пол со страшным грохотом. Уннтор уже склонялся над ним, положив большую ладонь ему на затылок. – Не дергайся, – сказал он почти нежно. Карл принялся извиваться, и вождь схватил его волосы в горсть и, вздернув голову сына вверх, зарычал: – Я сказал не дергаться. – Он прижал Карла лицом к полу. – Ты собирался пролить кровь в моем доме. В моем доме. – Он сам напросился, – выдавил Карл. – Треплет языком, будто… Быстрый толчок; все услышали, как его лоб врезался в доски. Когда Уннтор снова заговорил, слова его были тяжелы: – Может, ты и привез из походов богатство, сын, но вот голову ты потерял. Я такое видал, но надеялся, что ты сдюжишь и не потеряешь рассудка. Сейчас я поставлю тебя на ноги, и ты пойдешь прогуляться. Возьми пса. Сходи попей воды. А лучше пойди и остуди голову в реке. Карл глухо выразил согласие, и здоровяк-вождь поднялся на ноги. Только потому, что уже десять лет она видела отца за работой, Хельга заметила легкую дрожь, когда он поднимался с колен. Она не сомневалась, что была единственной, кто это заметил – хотя нет, почти единственной. На мгновение на лице Хильдигуннюр промелькнула смесь ярости и беспокойства. Хлопнула дверь, и Карл скрылся в ночи. Воцарилось неловкое молчание. Гости не могли заставить себя взглянуть на Аглу, которая сидела очень тихо, вцепившись руками, точно клешнями, в край стола. Гита выглядела непривычно подавленной произошедшим, как будто не вполне могла поверить в то, что увидела. – Может, кому-нибудь сходить за… – начал Аслак. – Не наше дело, – проворчала Руна. – Он сам за собой может присмотреть. Все с ним будет хорошо. – Не смей злорадствовать, сука драная! – сорвалась Агла. – О? – прошипела Руна. – А ты меня останови. Изящным, плавным движением Агла поднялась со скамьи и направилась к Руне, подняв кулаки. Лишь через три шага она осознала, что на самом деле она висит в воздухе, поднятая Бьёрном. – Уймись, невестка, – сказал он глубоким, примиряющим голосом. – Отпусти маму, – завизжала Гита, хватая первый острый предмет, что попался ей под руку. Звук пощечины прервал суматоху, и Гита рухнула обратно на место, схватившись за щеку. Хильдигуннюр миновала девчонку, схватила Аглу за волосы и швырнула на скамью рядом с дочерью. В мгновение ока она очутилась перед Руной. Ее рука метнулась вперед, как атакующая кошка, ухватила невысокую женщину за ворот рубахи и потащила на улицу. Застигнутая врасплох, Руна спотыкалась и лишь на полпути к выходу смогла восстановить равновесие. За ними со стуком захлопнулась дверь. Остался только один звук – всхлипывание Аглы, рядом с которой бестолково топтались Гита и Тири. Эйнар покосился на Хельгу. – Помнишь, я говорил, что будет интересно? Вот оно и началось, – прошептал он. (обратно)
Глава 8 Уборка
Солнечный свет просачивался в дом через продушины. Снаружи доносился запах цветов и травы, и им было слышно, как вдалеке что-то кричит Яки. Эйнар трудился, разбирая стол, который только что без труда опрокинул на бок. – Так чего ты ждала? – спросил он через плечо. – Не знаю, – сказала Хельга, складывая ножи на тряпку. Стоять тут, на месте Хильдигуннюр, было странно, неправильно. – Наверное, думала, что они будут больше рады увидеть друг друга. Эйнар бросил на нее сочувственный взгляд. – Не все семейные связи крепки, – сказал он. – Как они себя вели с утра? – Тихо, – ответила она. – Карл вернулся после того, как Бьёрн повел своих укладываться на ночь, а почти все остальные уже спали. Уннтор дождался его, и они немного поговорили – ну, парой слов перебросились на самом деле, но, мне кажется, они не ругались. Не знаю, что мама сказала Руне, но ее не видать. – Ну это уже хорошо, – сказал Эйнар и довольно крякнул, когда ножка стола поддалась и осталась у него в руке. – Никто из них с утра не разговаривает с Карлом. На Сигмара он даже не смотрит. Все нашли повод куда-то уйти… – Бьёрн тоже, – сказал Эйнар. – Я видел, как он уходит рано утром; когда я спросил куда, он пробурчал, что будет показывать семье самые лучшие тропы или какую-то похожую чепуху. Даже в лицо мне не посмотрел. Хельга закончила завязывать узел и собралась к реке мыть посуду. – Я просто не понимаю, – повторила она, все еще расстроенная. – В смысле, почему они вообще приехали, если не рады встрече? – она собрала все, что могла унести, и направилась к двери. – Зачем им возвращаться, если они так явно друг друга ненавидят?Сигмар уселся на валун, разглядывая холмы и лоскуты деревьев, дом, отсюда казавшийся не больше его ладони, тропу, по которой они пришли, и лицо своей жены. – Итак? – Я вчера очень много разговаривала с отцом, – ответила Йорунн. – Я подлизывалась, я дразнила и расспрашивала. Я его напоила. Я заставила его грустить и смеяться. – Как хорошая дочь, – сказал Сигмар. – Как хорошая дочь, – согласилась Йорунн. – Но старый медведь ничего не выдал. Говорит, на хуторе все хорошо. У них есть все, что нужно; я предложила ему денег, как ты сказал, но он отказался, и все равно даже не намекнул, что сидит на горшке с золотом, – она взглянула Сигмару прямо в глаза. – Но он здесь, любовь моя: я знаю это. И у меня есть план, как заставить их отдать его нам. Он улыбнулся: – Я верю тебе – на самом деле я почти чую его. И то, как ведет себя Карл… – Как ты узнал? – О чем? – О его долгах. Швед усмехнулся: – Кузнец с юга пытался использовать их часть в торгах со мной. – Почему ты мне не сказал? – спросила Йорунн. – Потому что ты заставила бы меня этим воспользоваться, – ответил Сигмар. Йорун помолчала. – …Возможно, – признала она. Потом улыбнулась: – Ты мягок, муж мой. Сигмар соскользнул с камня и подошел к ней. – На таком свежем воздухе? В окружении такой… природы? – он притянул ее ближе. – Думаю, ты убедишься, что это не так. Йорунн потянулась ему за спину, и в мгновение ока ее муж оказался на коленях, скуля через стиснутые зубы, а рука его была согнута под очень неудобным углом. – Хорошо, – прошипела Йорунн. – Не думай хером, не забывай, зачем мы здесь и не позволяй моим братьям втягивать тебя в идиотские мужицкие игры. Даже поставленный на колени, Сигмар смог улыбнуться. – Ты воистину дочь Речного хутора, – сказал он. – Помни об этом, – ответила Йорунн, повторяя его улыбку, и нагнулась, чтобы страстно поцеловать его.
С тех пор как они вышли из ворот, мать Гиты не сказала ни слова. Они поднялись на рассвете, прокрались мимо храпящего Карла и молча оделись. Выходя, мать захватила две корзины. Во дворе они нашли Хильдигуннюр, рубившую поленья на щепки для розжига. На глазах у Гиты ее мать обменялась со старой женщиной не более чем десятком слов, после чего та указала на дорогу и сделала несколько жестов. Агла взглянула на дочь, кивком приказала ей идти, и она шла, следуя за матерью, казалось, уже половину утра, пока та неожиданно не свернула по тропе налево и не привела ее в рощу, полную пахучих ягодных кустов. Теперь Гита смотрела, как Агла опускается на колени и тянется за кистью спелых ежевичин, укрывшихся за уже обобранными ветками. Неожиданно она взвизгнула, отдернула руку и засунула палец в рот, яростно зализывая ранку. Вопрос вырвался прежде, чем Гита смогла его остановить: – Мам… это правда? – Что? – рявкнула Агла, уставившись в землю. – Что папа?.. Что мы?.. – Я не знаю, – сказала Агла. – Ничего я не знаю. – Она обернулась, уставилась, не моргая, на Гиту и выпрямилась. – Надеюсь, что неправда. Гита тускло улыбнулась: – Наверное, это все вранье. Агла заглянула ей в глаза на мгновение, которое, казалось, растянулось на месяцы: – Что ты знаешь? – Ничего! Ничего, – сказала Гита. – Даже меньше, чем ты, наверное. Стоявшая перед ней Агла сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, потом еще один, и еще. – Хорошо, – сказала она наконец. – А если что-то узнаешь, то придешь и расскажешь мне, правда? – Конечно, мам, – сказала Гита. – Я не позволю, чтобы ты страдала только потому, что папа уперся рогом. Агла подозрительно взглянула на нее, но потом снова опустилась на колени перед кустом. – Тогда помоги мне, – буркнула она. – Вот, подержи эту ветку, чтобы не мешала… Гита закатила глаза и встала на колени. – Назад придется сто лет тащиться, – заныла она. – Почему мы не взяли лошадей? – Это его лошади, – резко ответила Агла. – Он не обязан их одалживать. – А почему ты его вчера вечером не спросила? Обо всем? – Это его ответы. Пусть не делится, если не хочет. – Но почему ты?.. Агла повернулась к дочери, и, к своему испугу, Гита увидела сломленную женщину. – Потому что я его жена, – прошептала она. – Я – его. Он мой хозяин, он твой хозяин. И если он решит, что со мной больше возни, чем пользы, что тогда? Он может меня вышвырнуть, и я останусь ни с чем. Что-то достаться мне может, только если он умрет, а он этого пока делать не собирается. Она глубоко вздохнула и попыталась улыбнуться. – Поэтому я буду жить, и он будет жить, и мы вернемся домой, и не приедем на этот дурацкий хутор еще лет десять, а может, и никогда. – Она шагнула к дочери и положила руку ей на плечо. – Ты найдешь себе хорошего мужа, уж я-то за этим прослежу. Кого-нибудь, кто тебе понравится. И тогда ты уедешь, и все это перестанет тебя заботить. А я буду держать твоего отца в узде. До сих пор я справлялась. У Гиты задрожали губы. – Я просто хотела посмотреть на Уппсалу, мама, всего разик. Агла снова улыбнулась, в этот раз не так печально: – Ты должна понять, что дело не только в вопросе, но и в том, когда его задать. Посмотрим, что мы сможем сделать, – сказала она, подмигнув дочери. – А теперь помолчи, дочь моя, и давай собирать ежевику. Помогает скоротать время. Гита улыбнулась матери, и они снова принялись выбирать сладкое, сочное лакомство между коварных шипов.
Уннтор вытер пот со лба и облокотился на мотыгу. Он выкопал квадратный участок размером в два хуторских двора, но со всех сторон его окружала неприрученная, заросшая земля. Почти сразу за новой овчарней начинался плотный строй деревьев. – Папа, – позвал Аслак, поднимавшийся по холму со стороны дома. Уннтор поднял мясистую руку, приветствуя его. Его младший сын был худ, но на плече его лежала большая лопата. Подойдя, он сразу принялся копать, переворачивая и роняя землю, чтобы отцовская мотыга очистила ее от камней. Они вошли в молчаливый ритм совместной работы. После долгой тишины Уннтор заговорил: – Тебе не дали слова прошлой ночью, сын. Болваны все для этого сделали. – Да ерунда, – сказал Аслак. – Хорошо. В семье нужна хоть одна холодная голова. – Мама вполне спокойна. – Кроме мамы. Мы не сможем вечно подчищать за ними, знаешь ли. Аслак улыбнулся. – Вы еще дольше нас проживете, – сказал он. – Ну что ж, – сказал Уннтор, не слишком скрывая улыбку, – расскажи мне о своем хуторе. Аслак вздохнул: – Да что тут рассказывать? Мы едва сводим концы с концами, и Руну от этого воротит. Она хочет, чтобы я стал сильнее, злее. Честолюбивее, – он ссутулился. – Я постоянно ее разочаровываю. – Ее, сынок, кто угодно разочарует, кроме богов, – прогудел Уннтор. – Она суровая госпожа, ничего не поделаешь. Зато дети ее любят. Лицо Аслака просветлело, и он радостно сказал: – Это правда, она прекрасная мать, а дети прекрасны… ну, во всем. Моя семья… У меня есть семья, папа: семья. И это самое важное. – Семья – это важно, – согласился Уннтор, ударяя мотыгой в землю. Аслак последовал его примеру и погрузил лопату глубоко в почву. – Это, мне кажется, единственное, что могло бы сделать из меня человека, который нужен Руне. Если бы кто-то угрожал моей семье. Кряхтя от усилия, он извлек-таки лопату из земли и заметил, что Уннтор странно на него смотрит, поставив мотыгу на землю и крепко сжав ее. – И ты бы стал таким, так ведь? – спросил старик, оглядев сына с ног до головы. Аслак замер и посмотрел отцу в глаза. – Да, – без обиняков ответил он. – Да, стал бы. После долгой паузы Уннтор усмехнулся: – Правильно, – сказал он. – Плох тот мужик, что не заботится о семье. Но вернемся к трудностям с хутором. Чего тебе недостает? – Гм, – сказал Аслак и задумался, опершись на лопату. – Барана, не готового издохнуть. Пары псов, что держали бы овец подальше от грядок. Кобылу получше, раз уж я размечтался. – Не могу не согласиться, – сказал Уннтор. – Твоя старая кляча еще тем летом была полумертвой. Это все, сын? Аслак пожал плечами: – Я могу тяжело работать – иначе на Речном не выжить, правда же? – он рассмеялся. – Просто начинать свое хозяйство труднее. – Я знаю, – сказал Уннтор. – Мне подсобили, и будет честно, если и тебе подсобят. Аслак посмотрел на него и моргнул: – Ты это о чем? – Мы позаботимся, чтобы баран прибыл к тебе этим летом вместе с двумя собаками и лошадью. Если повезет, добуду и парочку овец. Молодой человек уставился на отца: – Чт?.. Чт?.. Что? Но папа, это же обойдется в целое состояние! Уннтор лишь ухмыльнулся: – Найдем, где взять. Боги улыбнутся тебе. А теперь захлопни рот и давай-ка работать. Лишившись слов, Аслак взялся за лопату и атаковал землю, гадая, когда же наконец проснется.
У реки домывала последние миски Хельга. Эйнар исчез, должно быть, отправился ухаживать за лошадьми и оставил ее наедине с мыслями и песней текущей воды. Она вспомнила холодную, темную ненависть, с которой Карл оглядывал свою родню, его яростный зубовный скрежет, и поежилась, несмотря на летнее солнце. Он был невероятно жесток, и она не могла не думать о том, каков был его отец, когда еще ходил в набеги. Чувство тревоги, одолевавшее ее последние сутки, давило на плечи тяжким грузом. Она неосознанно потянулась к ключице, поймала между указательным и большим пальцами кожаный ремешок и погладила его, спустившись пальцами к рунному камню, что висел у ее сердца. Он казался гладким, необычайно мягким и до странности теплым. Она оторвала взгляд от реки как раз в тот момент, когда из дома вышел Бьёрн. Великан сделал два огромных шага от двери, а потом обернулся – Хельга не смогла ни разглядеть, с кем он говорит, ни расслышать слова, – и поза у него стала какой-то странной. Хотя его остановили, когда он уходил, глаза Бьёрна были опущены, и казалось, что он внимательно слушает. От его привычной живости не осталось и следа. Наконец он кивнул и зашагал к лесу. Хельга смотрела, как он уходит, и лоб ее нахмурился еще сильнее. Рунный камень на груди налился тяжестью. – Так, девочка: миски сами себя не отмоют, – пробормотала она, вполне прилично сымитировав голос Хильдигуннюр, и принялась оттирать грязь. Но она не могла заставить себя время от времени не поднимать глаза, чтобы посмотреть, не выйдет ли следом за Бьёрном его собеседник. С кем он говорил? Почему выглядел так, словно его отчитывали? Она вытерла миски насухо и завернула их в тряпицу, чтобы не испачкать. Придется ей пойти и посмотреть самой. Она подбежала к двери, сражаясь с непокорным самодельным мешком, осторожно приоткрыла ее и заглянула внутрь. Пусто. Совершенно пусто… …за исключением Карла, который сидел в большом отцовском кресле и обстругивал деревяшку. – О… Это ты?.. Карл посмотрел на нее: – Что «это я»? Тут шастаю? Хельга почувствовала, как краска приливает к щекам. – Не важно, – пробормотала она, пробираясь к уголку Хильдигуннюр. Она закинула мешок на стол быстрее, чем собиралась, и поморщилась, когда миски застучали друг о друга. – Дай-ка я тебе помогу. Она замерла. В прохладной полутьме дома она ощущала его жар у себя за спиной, очень, очень близко. Он вытянул руку и задел бок Хельги. Рука была теплой и твердой. – Надеюсь, я помню, куда все ставить. Они не любят что-то менять. – Карл мягко разжал ее кулак, сжимавший узел, на котором держался мешок, и потянулся за миской. – …все хорошо, – выдавила она наконец. Он присел рядом и посмотрел на нее, лукаво блеснув глазами. Ее взгляд привлек блеснувший серебром амулет на его шее. – Хорошо – это верное слово, – сказал Карл. Он поднялся в каких-то пяти дюймах от Хельги и посмотрел на нее. Медленно наклонился вперед, и у нее перехватило дыхание. Она отвернулась, но недостаточно быстро, чтобы не заметить голодные глаза. Недостаточно быстро, чтобы упустить из виду приближавшуюся к ней руку. – Хельга! – послышался из-за двери голос Хильдигуннюр. – Девочка, ты тут? Карл лишь усмехнулся и отошел, убедившись, что она заметила, как он облизывает губы, пробуя на вкус ее разлившийся в воздухе страх. Он нырнул к маленькой дверце и исчез в тот самый миг, когда Хильдигуннюр открыла главную дверь. – Вот ты где! Целую вечность возишься! Хельга принялась быстро выкладывать миски. Она успела пробормотать: «Извини», прежде чем ее захлестнула волна тошноты, тревоги и страха, а следом еще большая волна злости. «Как он посмел? В доме своего отца? В моем доме!» Она обуздала гнев и моргнула. – Не волнуйся, у нас есть целый день, – сказала ей мать с другого конца комнаты. – Все равно они все разошлись. Несколько слез вырвалось на волю, но ком в горле не исчезал. Она сглотнула раз, другой – теперь вдохнуть, – и его не стало. – Да, – сказала она. – Все. – Я посмотрела на них прошлым вечером и задумалась, – сказала Хильдигуннюр. – Семья – это важно, правда? – Конечно, – ответила Хельга, отчаянно пытаясь отвлечься на кружки. – И важно, когда в семье мир, – продолжила Хильдигуннюр. – Ага, – сказала Хельга. «Продолжай говорить, пожалуйста. Поговори еще немного». Она сжала кулаки, чтобы с помощью боли от врезавшихся в ладони ногтей прочистить голову. – Куда пошла Агла? – смогла выговорить она. – Ей, видать, нужно было пройтись и успокоиться. Так что я отправила ее с Гитой за ягодами. Хельга сложила тряпицу. – Это хорошо, – сказала она. – Теперь с ними все должно быть в порядке. – Да мне на самом деле плевать, – сказала Хильдигуннюр. – Я просто не могла смотреть на ее рожу. Хельга усмехнулась помимо своей воли. – Она была ну точно лошадиное копыто, – добавила ее мать. – Да еще и с задней ноги. – А Тири? – Бьёрн вроде бы увел своих прогуляться, – ответила Хильдигуннюр, и Хельга нахмурилась. Значит, великан и от нее скрывался? Так о чем говорили братья? И почему Бьёрн выглядел таким подавленным? Еще прошлым вечером он готов был схлестнуться с Карлом. – Ты там закончила? – Закончила, – сказала Хельга, натянула улыбку, обернулась и посмотрела в лицо матери.
Уннтор сидел у новой овчарни и обстругивал стрелы быстрыми, уверенными движениями. Выбранное им местечко было обласкано солнцем и укрыто от ветров. Пенек, который он разместил у стены как раз для такого случая, служил ему уже давно, и старик вольготно устроился на нем. У левой ноги его лежала груда прямых, уже доделанных стрел; под сапогами росла куча стружек. Когда Карл завернул за угол, ему пришлось зажмуриться из-за яркого света. – Здравствуй, – сказал он. – Здравствуй, – ответил Уннтор, отложил стрелу и устроил нож у себя на коленях. – Я хотел бы попросить у тебя прощения, – сказал Карл, уставившись себе под ноги. Какое-то время Уннтор молчал. Потом спросил: – Чего тебе нужно, Карл? – Думаю, Аслак и Бьёрн поговорят с мамой, если уже не поговорили. Моя возлюбленная сестра придет к тебе, как делала всегда, и я подумал, что сделаю так же. Я хочу лишь того, чего заслуживаю, – сказал Карл. Уннтор фыркнул: – О, ну это ты без сомнения получишь. Если Карл и заметил резкость в отцовском голосе, вида он не подал. – Рад слышать. Отлично. Скажи мне снова, отец: клад… – Нет никакого клада. – А если верить слухам, то есть. – Слухи врут. – Хавард Седобородый говорит, что есть. Уннтор посмотрел на Карла. Когда он заговорил, голос его был холоден как лед: – Где ты слышал это имя? Лишь небольшое движение нижней губы – и на лице Карла расцвела волчья ухмылка. – Помнишь его? – Конечно, помню, – буркнул Уннтор. – Он говорит, что плавал с тобой не один год. – Да. – Он говорит, что у тебя был сундук. – Был. – И еще он говорит, что чем дольше ты плавал, тем сильнее и сильнее сторожил его и никого к нему не подпускал. – Это ложь, – сказал Уннтор. Карл лишь посмотрел на него и в придачу к ухмылке поднял бровь: – Видишь ли, папа, мне так не кажется. Я думаю, что где-то здесь зарыт клад, и я думаю, что ты отдашь мне мою долю. Я вернусь домой, раздам долги, о тебе не будут дурно судить в твоей ненаглядной долине, а твоя драгоценнейшая внучка не станет женой первого попавшегося чернокожего торгаша с мешком золота, любителя плоти. Уннтор поднялся. – Ты угрожаешь мне? – проревел он, но Карл не двинулся с места. – Вовсе нет. Просто отдай мне мое, и я уйду. Старик посмотрел на Карла и плечи его ссутулились. – Не могу поверить, что ты используешь собственную дочь в подобном торге. – Он вздохнул. – Если бы ты вел себя, как подобает отцу, я не стал бы. – Ладно, ладно, – пробормотал Уннтор, – только придется тебе подождать до завтра. Проводим остальных и уладим дела перед твоим отъездом. – Спасибо, отец. Ты воистину мудр, – сказал Карл. Едва заметно подмигнув, он развернулся и ушел. Уннтор посмотрел ему вслед. Потом взглянул на нож в руке и очень аккуратно продолжил строгать.
Когда первые гости вернулись, солнце близилось к горизонту. Хельга услышала собачий лай и выглянула из-за угла дома – Хильдигуннюр отправила ее сюда рубить дрова, пока сама она разделывала тушу для вечернего пира. Эйнар открыл ворота для Аглы и Гиты, и Хельга заметила, что с расстояния стоявшие рядом мать и дочь казались почти близняшками – точно как Йорунн и Хильдигуннюр. Она подумала о своем росте, о том, что она была почти сплошь локти да колени, и о том, что она совсем не похожа ни на кого на хуторе. – Не важно, – пробормотала она. – Семья – это не только кровь. Она нырнула обратно за сарай, мечтая в это поверить. Из-за угла послышался голос Хильдигуннюр, и она представила себе, как мать стоит во дворе, улыбается Агле, а за спиной у нее садится солнце. – Ой, какие вы умнички! Да мы столько за лето не собираем! – Пять корзин! – объявила Гита, и Хельга услышала в ее голосе улыбку. – Мы хотели хоть в чем-то пригодиться после того, как объели ваш дом и хозяйство, – ответила Агла. – Вижу, – сказала Хильдигуннюр. – Надо поставить их на пар как можно скорее – пригодятся на сладкое. Если не устали собирать, можете помочь мне с травами. Заходите! Хельга услышала, как захлопнулась дверь, и взялась за очередное полено, но замешкалась. Что-то не давало ей покоя, что-то недавнее. Ее мать была позади дома, когда залаяли собаки. Она мысленно проследила путь – в боковую дверь, через дом, в главную дверь, а потом обратно. Карл сидел внутри, когда она вошла, но это мог быть кто угодно. Кто угодно мог быть в доме и говорить с Бьёрном, указывая ему, что делать и куда идти, а потом выбраться через боковуюдверь, незаметную от реки. Карл мог войти чуть позже, ничего не подозревая. Или подозревая? Он говорил что-то про «шастанье», так ведь?.. Хельга обрушила топор на полено и расколола его пополам. Кто это был? Кто заставил великана склонить голову? – Что тебе сделали эти поленья? Голос Эйнара напугал ее, и Хельга инстинктивно вздернула топор на высоту локтя, защищаясь. – Эй!.. Полегче, – добавил он, и на лице его проступило беспокойство. – Это всего лишь я. Что случилось? Позади него слышалась трескотня Аглы и Хильдигуннюр, направлявшихся к садику с травами. – Не знаю, Эйнар, – она посмотрела на него, он был ее названым братом столько, сколько она себя помнила. – Но пообещай мне кое-что. – Что угодно, – сказал он с легкой улыбкой, не сводя с нее голубых глаз. – Что тебе нужно? – Мне нужно, чтобы ты был осторожен. Эйнар пожал плечами: – Пфф. Не бойся, Хельга, они все старые и глупые. Пойду я. Говорят, мы сегодня выкатываем четыре бочки меда. – Он подмигнул ей. – Настоящий пир будет, уж не сомневайся.
Ритмичное «так-так-так» ножа Тири по деревянной доске задавало ритм непрерывным движениям Йорунн, срезавшей с репы кожуру лентами с палец длиной. – Мне так жаль твоего брата, – сказала ей Тири через плечо, нарушив тишину. Она поджала губы. – Он мог бы изменить свое положение, но не хочет. В конце концов, каждый строит свой собственный дом. – И все же, можем ли мы что-то сделать? Может, поговорить… – Не знаю, – оборвала ее Йорунн, не поднимая взгляда. – Не знаю, поможет ли тут разговор. И совсем не хочу в это лезть. Нож застучал быстрее. – Все равно это неправильно, – пробормотала Тири. – На свете много что неправильно, – жестко сказала Йорунн. Какое-то время в доме царила тишина, нарушаемая лишь звуками работы. Огромный котел Хильдигуннюр дразнил их раззявленной пастью, и сколько бы овощей они ни закидывали внутрь, проклятая штуковина не заполнялась и на половину. Скрипнула дверь, и вошла Руна. Тири подняла голову, посмотрела на нее и продолжила резать, не сказав ни слова. Йорунн тоже сосредоточилась на своей работе. – И вам привет, – сказала Руна. – Теплый семейный прием, как всегда. – Не холодней твоей постели, – сказала Йорунн. – Прости, – переспросила Руна, – что ты сказала? – Ты ее слышала, – сказала Тири. – Слышала, – медленно ответила Руна. – Просто не поняла. – В доме стало тихо. – Она, видишь ли, слова разучилась выговаривать, потому что слишком часто своему шведу отсасывает. Нож Йорунн прекратил двигаться, но она все еще не поднимала взгляда. – Ого! А твой муж, значит, счастлив? – сказала Тири. Руна фыркнула: – Да вроде не жалуется. Нож Йорунн снова начал движение, роняя кожуру на доску, сбрасывая кусочки в котел. – Ты дурно обращаешься с моим братом, – тихо сказала она. Руна злобно уставилась на нее, но промолчала. – Плевать мне, что там у вас в постели, но когда он с нами, он счастлив. А рядом с тобой он выглядит побитым щенком. – А твой муж – тряпка. Засунь себе шишку в жопу, сучка, – сорвалась Руна. – Твой брат вроде бы взрослый мужик. – А он взрослый, – сказала Йорунн, – но еще он добрый и мягкий. – Она подняла голову и взглянула Руне прямо в глаза. Решительно ткнула репу кончиком ножа и вогнала его внутрь. – А я – ни то и ни другое. Руна сощурила глаза и наморщила губы: – Ты мне угрожаешь? Йорунн встала, бросила нож и подошла к невысокой женщине: – Он мой брат. Он – семья. А отец учил нас, что тех, кто угрожает семье… – Йорунн, – тихо сказала Тири. Главная дверь закрылась, и раздался голос Хильдигуннюр: – Я очень рада, девочки, что вы нашли друг друга, а теперь хватит трепаться и за работу! Йорунн едва заметно кивнула Тири, благодаря за предупреждение, села и потянулась за ножом. – Рада, что мы поговорили, сестра, – тихо проговорила она. Ее нож снова задвигался, нарезая репу, но глаз с жены брата она не спускала. (обратно)
Глава 9 Пир
Лицо Сигмара омывал теплый свет, отраженный от начищенных щитов Уннтора. – Что я хочу сказать, – заплетающимся языком выговорил он, – что я хочу сказать, так это что иногда – иногда короли могут быть жалкими и мелкими созданиями. – Ха! – сказал Карл, обняв шведа одной рукой, а второй ударив по столу. – Что стряслось? В лесу кто-то сдох? Ты впервые сказал что-то толковое с тех пор, как мы сюда приехали. – И он прав, – сказала Йорунн. – К нам такие заказы из двора приходят – вы не поверите. Хельга наблюдала, как разговор бесцельно перескакивает с темы на тему, как родичи налегают на стол, хватают друг друга за руки и громко прерывают. Когда они с Эйнаром очистили тарелки, наполнили кружки и устроились в своем уголке, наблюдая издалека, шум наконец отошел на задний план. Уннтор забил свинью, а они заготовили целую гору свежайших овощей. Карл извлек из седельной сумки мех ароматного красного вина с юга, а Бьёрн принес по два меха в каждой руке. Аслак, под суровым взглядом жены, пожертвовал двумя бурдюками вина, но всех обскакали Йорунн и Сигмар, выставившие три меха, до краев полные шведского меда, с которым семья расправлялась стремительно, становясь все буйнее и буйнее. – Я днем видела, как Гита опять с тобой говорила, – сказала Хельга Эйнару. Юноша посмотрел на нее поверх миски с ужином и пожал плечами: – И что? – Да перестань, – сказала Хельга, – она миленькая и вешается на тебя. Почему ты ее отгоняешь? Взгляд был мимолетным, но она все-таки заметила: он посмотрел на стол, где Йорунн травила байки, над которыми потешались ее братья, позабыв о вчерашних раздорах. Ее прекрасное лицо светилось жизнью и радостью. – Не знаю, – пробормотал Эйнар. – Она маленькая… Хельга порылась в памяти и чуть не хлопнула себя по лбу. Ну конечно. Заигрывания и погони многолетней давности; Эйнар, становившийся тем напряженнее, чем меньше оставалось времени до приезда гостей… – Ну может быть, – сказала Хельга и оставила эту тему. Тепло дома убаюкивало ее. – Как у них с медом? – Я бы сказал, что неплохо, – ответил Эйнар, даже не посмотрев. – По крайней мере они становятся все громче. – Это просто неправильно, – прорезался сквозь шум голос Аглы. – Она такая молоденькая. – Согласна, – пьяно проговорила сидевшая рядом Руна. – Но скоро она уже будет замужней. Хельга бросила взгляд на Гиту, которая ворочалась в постели, пытаясь укрыться от шума. – И счастливой, – добавила Йорунн. – Или просто счастливой. – Ты с ней счастлив, Сигмар? – спросила Руна. – Не могу пожаловаться… – сказал Сигмар. – …иначе я тебя изобью до полусмерти, – закончила Йорунн. Бьёрн захохотал первым и громче всех, затем к нему присоединились остальные. На другом конце стола затянул песню Уннтор, и Карл охотно ее подхватил. – Муженек! – крикнула Хильдигуннюр. – Хорош завывать! Мы умираем от жажды! Пора выкатывать бочку! Уннтор, пошатываясь, встал под рев одобрения: – Это, неблагодарные вы гаденыши, бочка лучшего… – …и крепчайшего, – добавила Хильдигуннюр. – …и крепчайшего меда из всех, что я варил, – сказал Уннтор. – В том, что вы сегодня не допьете, я буду мочить стрелы для охоты на медведей! – Давай сюда мед, и мы намочим наши стрелы! – проревел Бьёрн под новый взрыв хохота. Хельга посмотрела на Эйнара: – Заберусь-ка я в постельку, как малыши, и буду надеяться, что они все скоро свалятся, – сказала она. – Свалятся, – пообещал Эйнар. – Я за ними присмотрю. Выбравшись из угла, Хельга посмотрела через всю комнату в глаза матери. Она бросила взгляд на свою постель, и Хильдигуннюр, улыбнувшись, кивнула. Она завернулась в одеяло, и в следующий же миг голоса стали ветром в деревьях, волнами в море, танцуя там и сям, вздымаясь и падая, вздымаясь и падая… Она уснула. (обратно)Глава 10 Кровь
Веки Хельги задрожали, она помотала головой и повернулась, пытаясь укрыться от шума во сне. Кто-то выл – быть может, больное животное? Вой прекратился, а потом начался по новой, в два раза громче и ближе – слишком близко. Она нахмурилась. Это был не вой, а крик. Женщина. Кричала женщина, совсем рядом, голосом, охрипшим от ужаса. Теплый уют сна улетучился, и она резко села. Момент тишины – неужели ей приснилось? – и снова шум, сумасшедший больной звук, заполнявший воздух. – Мама? – испуганно позвала Гита. Вдох, затем еще один измученный крик. – Мама – прекрати! – крикнула Гита. – Что случилось? Спустя мгновение Гита тоже завопила. Хельга глубоко вдохнула. В воздухе пахло кислятиной: старый мед, пот… рвота? И что-то еще. Отовсюду слышались голоса: вот требует успокоиться Уннтор, вот Хильдигуннюр кричит, чтобы кто-то принес воды. Ее глаза привыкали к утреннему свету, сочившемуся через ставни, но Хельга все еще с трудом различала силуэты людей. Йорунн звала Бьёрна; где-то над ее плечом с грохотом распахнулась дверь, и здоровяк что-то проревел в ответ. Хельга перебросила ноги через край постели и поднялась, смущенно разгладила морщины на сорочке и поняла, как это глупо: что бы ни стряслось, сегодня утром на нее никто не обратит внимания. Ее глаза еще не отошли от сна, и представшая перед ней картина казалась бессмысленной. Агла склонялась над чем-то, Хильдигуннюр втиснулась перед ней и пыталась оттолкнуть ее прочь. Сигмар отвел Гиту в сторону и подтолкнул ее к Йорунн, которая схватила девушку и неловко обняла, прижав ее голову к своему плечу. Приглядевшись, Хельга поняла, что Гиту колотит дрожь. «Что, во имя богов?..» На глазах у Хельги ее мать впилась пальцами в локоть Аглы, ослабив ее хватку, и плечом оттолкнула женщину прочь от того, что она держала. Она склонялась над постелью Карла. Медленно, очень медленно открылся проход к деревянной кровати, и комната неожиданно погрузилась в неестественное затишье после бури голосов, пока звуки детского плача не побежали рябью по морю тишины. Ноги Хельги подвели ее к краю. «Осторожнее, когда дело дойдет до ножей…» Вокруг нее начали орать друг на друга взрослые Речного хутора; для нее, а может, и для них самих это было нечленораздельным шумом. «С тьмой в сердце…» Тело она увидела прежде лица, но сначала был запах. Кровь. Железо, соль, жизнь – все, что текло в человеке. Бледное лицо Карла было повернуто набок. Тонкая ниточка слюны просочилась в жесткую черную бороду. Руки его вытянулись вдоль тела, и он выглядел в точности как человек, отсыпавшийся после особенно буйной пьянки. Нижняя часть кровати и укрывавшее его одеяло промокли от крови. Даже не задумываясь, что она делает, Хельга медленно ухватилась за уголок одеяла и потянула. Загустевшая кровь подалась с влажным, сосущим звуком. Карл не снял штаны, и они были так же красны, как и одеяло. Ее взгляд привлекли два больших черных пятна на внутренней стороне его бедер. В этих местах ткань почти скрылась под плотной, блестящей кровавой коркой. Хельга почувствовала жар у плеча прежде, чем ощутила присутствие матери. – Стягивай, – сказала та сквозь сжатые в ярости зубы. Хельга потянулась и коснулась бедер Карла неожиданно задрожавшими руками, ощущая ладонями липкую кровь, а потом осторожно стянула ткань, открыв аккуратный, длиной примерно с палец, надрез рядом с большой веной в паху, и точно такой же на другой ноге. – С обеих сторон, – пробормотала она, и рука Хильдигуннюр на ее плече сжалась так сильно, что Хельге показалось, будто ее кости сейчас треснут. – Мой сын, – сказала ее мать так, чтобы все услышали, – был убит во сне.Прекрасное голубое небо, согретое восходящим солнцем, резко контрастировало с семьей Уннтора и Хильдигуннюр, собравшейся в круг на хуторском дворе. Аслак обнимал Руну, стоявшую прямо, как палка, с закрытыми глазами, челюсть ее ходила ходуном от ярости. Браги и Сигрун повисли на ее юбке, уткнувшись лицами в складки материи. Может, они и были слишком малы, чтобы понять, что случилось, но достаточно взрослые, чтобы уловить витавшие в воздухе скорбь и гнев. Сигмар и Йорунн с мрачными лицами стояли бок о бок, выпрямив спины. Бьёрн возвышался над Тири, положив руку на плечо сонно моргавшего Вёлунда. Агла повисла на плече Хильдигуннюр. Она завернулась в одеяло, взгляд ее был рассеян, словно то, на что она смотрела, находилось в каком-то другом мире. Стоявшая рядом Гита робко пыталась утешить свою мать. Судя по ее виду, подумала Хельга, Гите самой совсем не помешало бы чье-нибудь утешение. Она осмелилась взглянуть на своего отца, справа и слева от которого стояли Яки и Эйнар. Уннтор Регинссон был черен как туча. Его массивная грудь вздымалась с каждым глубоким вдохом, он стиснул челюсти, чтобы не дрожали губы, а его большие кулаки сжимались и разжимались, как два бьющихся сердца. Его сотрясала чистейшая, едва сдерживаемая ярость. – Все будет просто, – сказал он, и голос его был как грохот и рык камнепада. – Эйнар привяжет ваших лошадей. Яки будет следить за воротами. И я найду и убью любого, кто уйдет прежде, чем я позволю. Вы поняли? Все кивнули, одни резко, другие нерешительно, все – уважительно и напуганно. По виду стоявшего перед ними человека никто не подумал бы, что это пустая угроза. Но никто не заговорил. Уннтор стоял в гневном молчании и ждал. Даже Бьёрн не осмеливался взглянуть ему в глаза, но никто не подавал голоса. Глубокий вдох, а потом… – И что теперь? – спросила Йорунн. Сердце Хельги подскочило в груди, но если в этом кругу и был кто-то, кому Уннтор не отсек бы голову за попытку заговорить, то это была его любимая дочь. – Убийца Карла признается, и мы обсудим цену крови, которую он заплатит Агле и Гите, – сказал Уннтор. – А если никто не признается? – спросил Бьёрн. Уннтор посмотрел на каждого из них по очереди. – Я найду тебя, – сказал он, – и когда я это сделаю, цена крови будет куда выше. Все молчали, и Хельгу пробила дрожь, несмотря на солнце. – Яки, – неожиданно резко сказала Хильдигуннюр. – Найди этим людям работу. Где угодно. Сейчас же. Хельга… – она без лишних слов подтолкнула дочь в сторону дома. После этого Хильдигуннюр одной рукой обняла Аглу, другой Гиту, и повела их к реке, по пути шепча что-то на ухо Агле, словно утешая пугливую кобылу. – Принести хвороста, выкорчевать корни, нарубить дров, – перечислил задания Яки. – За работу. После полудня будем рыть. Позволив ногам самим нести ее, Хельга двинулась к дому. Двери его выглядели совсем не так приветливо, как еще вчера.
Запах крови успел расползтись по дому и лез в ноздри. Она не очень торопилась подойти к трупу, а наоборот, решила пройти мимо его постели и мимо кроватей, на которых спали Аслак со своей семьей. Она заметила два маленьких одеяла для детей и два побольше для взрослых. Судя по вмятинам, младший сын Уннтора спал не очень близко к своей жене. Кровать Йорунн и Сигмара была почти не потревожена с одной стороны и хорошенько примята с другой. Несмотря на внешнюю жесткость, они явно наслаждались обществом друг друга. Хельга вспомнила об Эйнаре, и сердце ее сжалось. Ужасно, наверное, когда ты кого-то хочешь и знаешь, что у нее есть кто-то более близкий, а ночью они ближе всего. А потом, прежде чем Хельга нашла себе еще какое-то занятие, ее нос подсказал ей, что она стоит перед постелью Карла. Она спала точно в такой же постели, сколько себя помнила. По сути, это был просто длинный ящик с высокими бортами, хорошо ошкуренный, наполненный соломой, накрытой плотным тканым покрывалом. Карл смотрелся на ней до странности неуместно, бледный, окоченевший и словно усохший. Клокотавшая в нем ярость улетучилась, как теплый воздух. Дома у него, должно быть, была кровать побольше, чтобы ее могла разделить Агла. Хельга невольно представила себе, каково это, почувствовала, как сжался ее желудок, и поспешила взглянуть поближе на голову и шею Карла. Множество отметин и шрамов, но ничего свежего. Карлу явно не раз в жизни доставалось по голове, но на мертвом теле не было свежих, не успевших расцвести синяков. – Никто не бил тебя по черепу и не держал за горло, – пробормотала она. – Так почему же ты позволил себя изрезать? Она нагнулась и изучила его рот. Какая-то часть ее ждала, что веки Карла вот-вот распахнутся и он с ухмылкой завалит ее в ставшую могилой постель. Она отогнала эти мысли, сказав себе: – Тише, девочка, он мертв как доска в заборе, и лишь вполовину так же красив. И нет в нем ничего, – она раздвинула губы мертвеца и заглянула внутрь, – кроме вони. Мед, да, и немало. Вот тебе и «почему?». А как насчет «кто?». Кто осмелился подойти к спящему волку? – сказала она вслух. Позади нее открылась и закрылась дверь. – Он все еще мертв? – послышался голос Эйнара. – Боюсь, что так, – ответила Хельга. – Очень много крови. – А ее снаружи быть не должно, – глубокомысленно сказал Эйнар. Настроение Хельги чуть приподнялось. Когда Эйнар был рядом, все становилось чуть лучше. – Мудрость твоя как всегда глубока. Мертвее просто не бывает. Эйнар встал рядом и посмотрел вниз. – Как его убили? – Насколько я понимаю, – сказала Хельга, – тот, кто это сделал, дождался, пока его свалит выпивка… – Они вчера много ее уговорили, – сказал Эйнар, – и Карл больше остальных. Хельга потянулась к мертвому телу: – Потом он прокрался сюда, стянул одеяло и перерезал вены на ногах. Если бы Карл и проснулся, то все равно бы умер через несколько ударов сердца. Она стащила одеяло до конца, поморщившись от звука, с которым отдиралась высохшая кровь. К спертому воздуху примешалась вонь опорожнившихся кишок. – Вот, – показала она ему черные пятна на штанах. – Кровь как из свиньи выпустили, – сказал Эйнар. Запах явно мучил его, но он не отходил. – Немного в этом чести. У тебя нож есть? – Нет. Зачем? – Хочу на раны взглянуть, – Эйнар снял с пояса свой коротенький ножик и отрезал кусок ткани. Кожа под ним была бледной, поросшей жестким черным волосом. – Посмотри, – сказал Эйнар. Хельга нагнулась поближе. – Они такие… – Тонкие. Очень тонкие порезы. – Он ничего бы не почувствовал. – Особенно после третьей бочки. У Хельги закружилась голова. Что-то ей это напомнило. Что-то… – Я знаю, каким ножом это сделали, – сказала она. Эйнар нахмурился, посмотрел на нее, пытаясь понять по ее лицу, почему она говорит таким тоном. Кровь грохотала в ушах Хельги, и слова, слетавшие с языка, были словно чужие. – Мясницким ножом моей матери.
Йорунн замахнулась топором, расколола полено ровно пополам и привычно смахнула рукой половинки в сторону Сигмара, который отнес их в стремительно заполняющийся сарай. Замах – и лезвие топора вгрызлось в верхушку очередного полена. Они работали в едином ритме, и каждый был уверен в движениях другого. – Это ты сделал? – ее голос был спокоен. Сигмар усмехнулся. Потом, спустя мгновение, замер. – Что? Ты… Что?.. Топор рухнул, полено раскололось надвое. Половинки упали рядом с Сигмаром. – Так это ты? Спокойно положив дрова в общую кучу, Сигмар помедлил, прежде чем подойти к колоде для рубки, и едва увернулся от очередной пролетающей деревяшки. – Нет, – сказал он. Топор был уже в воздухе, и полено ударилось в пень рядом с его коленом. Сигмар не дрогнул. – Он был засранцем, – сказала Йорунн. – Я знаю. – Но все-таки он был… – прежде чем она вонзила топор в очередное полено, Сигмар шагнул ближе и обнял ее. Она попыталась вырваться из его объятий, но он держал крепко. – Он был твоим братом, – сказал Сигмар, и топор с лязгом упал на землю. – Он был наш родич. – Ее глаза закрылись, губы искривились, но слез не было. – Мы в этом разберемся. Кто-то расколется. Так всегда бывает. – Я просто подумала – потому что знаю, чем ты раньше… – Это было в другой жизни, любимая, – утешающим тоном сказал Сигмар. – В другой жизни, с другим человеком. Конечно, я не питал теплых чувств к твоему брату, но когда это я что-то делал без твоего разрешения? Губы Йорунн снова скривились, на этот раз в маленькой, несмелой улыбке. – Ты прав, конечно, и правильно, что ты это помнишь. – Ее руки поползли вперед и встретились за его спиной, отвечая на объятие. – Ты хорошо меня знаешь. – Хорошо, – сказал Сигмар. – Так что когда я найду того, кто это сделал, ты поможешь мне сделать то, что должно быть сделано. Сигмар отошел на шаг назад, выпустил жену и посмотрел ей в глаза. То, что она там увидела, заставило Йорунн улыбнуться. – Я правильно выбрала мужа, – сказала она, поднимая топор.
– Ты не можешь так думать, – сказал Эйнар. Он снова покосился на тело Карла. Хельга сглотнула. – Конечно, нет, балда. Вчера она сказала мне, что не может найти нож. Даже отправила меня поискать его к новой овчарне. – Так что кто угодно мог пройти мимо, подобрать его и дождаться нужного момента. – Да. – И все, что ему требовалось, – это неслышно двигаться да знать, где у человека вены. – Да. – Значит, можно исключить… – Никого. Всех. Не знаю, – сказала Хельга. – Просто не знаю. Убийца не использовал силу. Он двигался незаметно. Должно быть, это кто-то из семьи, иначе мы бы услышали собак. Эйнар пожал плечами: – Ничего мы не добьемся, – сказал он. – Дай-ка… Он наклонился, попытался сдвинуть труп Карла и выругался. – Тяжелый, зараза, – пробормотал он. – А помочь некому? – Не знаю, – сказал Эйнар. – Они все разбежались по делам при первой же возможности. Хильдигуннюр повела Аглу с Гитой к реке, Бьёрн с семьей пошли с топорами в рощу, а Аслак взял Руну с детьми собирать ягоды. Отец с Уннтором ищут место для могилы. Я не очень понимаю, как они хотят со всем этим разбираться. – Значит, нас таких двое, – сказала Хельга.
На крохотной вырубке слышны были только удары стали о дерево, и больше ничего. Бьёрн вновь размахнулся, и был вознагражден фонтаном щепок. Присевшая у поваленного дерева Тири обрезала ветки. Вёлунд, как мог, старался ей помочь. – Нет, – сказала она еле слышно и взяла мальчика за руки. – Вот так. Вёлунд наморщил лоб и медленно передвинулся. – Здесь? – спросил он, царапая ножом место, где ветка соединялась со стволом. – Да, – сказала его мать. – Теперь возьмись за веточку и пили ее. – Но она же сломается и отвалится. – Это нам и нужно. Вёлунд нахмурился. – А-а, – сказал он, нерешительно ковыряя дерево. Бьёрн взревел. Звук промчался по вырубке, взметнулся вверх, выше ветвей, и запутался в кронах деревьев, а великан развернулся, перехватил топор громадной рукой под самым лезвием и бросился к упавшему дереву. Краска отлила от лица Тири, когда она увидела ярость мужа. Защищаясь, она подняла руки над головой и крикнула: – Бьёрн, нет! Пожалуйста!.. Три шага, и великан навис над ними. Вёлунд уставился на него с полуоткрытым ртом, нижняя губа у него дрожала. – Руби ветку. Сейчас же, – рявкнул его отец, но мальчик лишь стоял и смотрел, не понимая. Одним резким движением Бьёрн присел и ударил, и лезвие со свистом полетело к голове Вёлунда. В одно мгновение ветка оказалась в воздухе, и лишь прямая линия отмечала место, где она соединялась с деревом. – Давай другую, – приказал Бьёрн. Вёлунд согнул ближайшую к нему ветку и начал неуклюже бить по сгибу. Поднявшись на ноги, Тири оказалась выше присевшего на колени мужа. Она протянула руки и прижала его голову к своей груди, поглаживая по волосам. – Мне жаль, что он умер, – мягко сказала она. – Это очень печально. Мускулистые плечи Бьёрна напряглись, но она утихомирила его, обняв еще крепче. – Просто… отпусти его. Мы его не убивали и найдем того, кто это сделал. Мудрость твоей матери глубже самого моря. Она узнает, кто отнял у тебя брата, если уже не знает. Бьёрн фыркнул, точно успокоенный бык; звук вышел громким и влажным. Вёлунд чуть замедлился, но все же продолжал рубить ветку. – Он не управится, даже если мы его тут на восемнадцать лет оставим, – проворчал Бьёрн. – Сколько месяцев я потратил, уча его свинью резать. Тири улыбнулась: – Просто это значит, что лицом он пошел в меня, а мозгами – в тебя. – Эй! Она наклонилась и поцеловала его в лоб. – Я шучу, конечно. Он вообще не твой сын. Просто я неудачно села на камень. Бьерн поднял голову и посмотрел на нее. – Я правильно выбрал жену, – проворчал он. Тири улыбнулась: – Хочешь остаться женатым, так пойди и займись делом. – Она взглянула на раненое дерево. – С этим мы с твоим сильным, старательным сыном скоро уже разберемся. Бьёрн поднялся, и Тири снова скрылась в его тени. – Если женщина сказала, значит, так тому и быть, – пророкотал он и ушел, закинув на плечо топор.
– Я это сделаю, – сказала Хельга. – Помогу тебе. Эйнар покосился на нее. – Уверена? – Почему нет? На самом деле ей было все равно. Она знала только, что ей надо выбраться на воздух и что тело Карла должно покинуть ее дом. – Я возьмусь за плечи, – сказал он, вновь склонившись над трупом, – а ты за ноги. Она потянулась к ногам мертвеца, взглянула на тело и почувствовала, как нагревается камень на ее груди. Что-то было не так… чего-то не хватало… – Так ты будешь помогать или нет? Мысль упорхнула, точно перепуганная птичка. Хельга вздохнула и ухватилась за костлявые лодыжки, сразу под тем местом, где хлещущая кровь прочертила линию на голени Карла. Вся тяжесть, должно быть, пришлась на сторону Эйнара, но когда оба они приступили к делу, тело стало медленно отрываться от постели. – Держишь? – Все хорошо, – сказала она, но на самом деле все было как угодно, только не хорошо. Дело было не в тяжести, тяжесть была терпимой, но ее беспокоил холод тела. Ей доводилось раз-другой таскать туши животных, но человеческие ноги должны быть теплыми, а эти не были. – Холодный, как зима, – пробормотала она. – Интересно, как быстро мы остываем? – Будешь просто так стоять и думать – скоро узнаешь, – пропыхтел Эйнар. – Тяжелый, зараза. Они были на полпути к двери, когда она открылась и вошла Хильдигуннюр. – Что вы делаете? – ее голос был ровным, но суровым. Эйнар замер на середине шага, неуклюже удерживая верхнюю часть тела Карла, и посмотрел на Хильдигуннюр через плечо: – Мы… Я просто… Мы… – Мы подумали, что надо его вынести, – пришла на помощь Хельга. – Положите его, – приказала Хильдигуннюр. Эйнар посмотрел на Хельгу. – Сначала ты, – сказал он, указав взглядом на пол, и, как только она опустила ступни Карла, он доделал все остальное. Вне кровати старший сын Уннтора Регинссона выглядел словно бы меньше – униженный, лишившийся зубодробительной ярости, что питала его как прошлой ночью, так и всю предыдущую жизнь. Хильдигуннюр на мгновение закрыла глаза. – Большое зло совершилось в моем доме, – проговорила она. – Большое, большое зло. – Да, мама, – сказала Хельга. – И совершили его твоим ножом. Глаза Хильдигуннюр распахнулись. – Что ты сказала? – резко спросила она. Вздрогнув от гнева в ее глазах, Хельга начала заикаться: – Это… Это сделали твоим ножом… мясницким ножом, который папа тебе затачивает… – она посмотрела вниз, на тело. – Разрезы на венах такие тонкие, для этого нужен очень острый нож. Он ничего бы не почувствовал. Старая женщина глубоко вдохнула, потом медленно выдохнула. Потом, не говоря ни слова, проделала это еще раз. – Моим ножом, – сказала она наконец. Хельга кивнула, Эйнар тоже. Хильдигуннюр выглядела так, словно хотела заговорить сразу о многом. – Кто бы это ни сделал, – в конце концов сказала она, – он должен был умыкнуть нож со стола не меньше дня назад, потому что я не видела его с первого вечера. – Ох, – сказала Хельга. – Что «ох»? – спросил Эйнар. – Это значит, что убийца планировал это сделать, – сказала Хельга. – А это еще хуже. Хильдигуннюр кивнула. – Ох, – сказал Эйнар. – Вынесите его во двор, – сказала Хильдигуннюр. – Мы укроем его и унесем в поля, выроем ему могилу. Это меньшее, что мы можем для него сделать. – А потом? – спросила Хельга. – Потом мы найдем того, кто его убил, – сказала Хильдигуннюр. – Так что надо спросить себя: причины были у многих, но у кого была самая веская?
Руна дергала за ветку ежевичного куста, пока не оторвала ягоду, и с отвращением фыркнула, раздавив ее пальцами. – Может, если бы ты была чуть мягче, тогда… – начал Аслак, но Руна обернулась и уставилась на него; под таким взглядом затрещал бы и лед. – Закрой рот, – рявкнула она. – Я просто хотел… – Я знаю, что ты просто хотел. Ты понятия не имеешь… Аслак, улыбаясь, посмотрел на нее. – Если что, я буду вон там со своей корзинкой, полной ягод, – сказал он и убрел в сторону. – Да и убирайся! – крикнула ему вслед Руна. – Ты это достижением считаешь? Что ягод сраных набрал? Аслак остановился, спокойно поставил корзину и обернулся. Потом подошел к ней, мягко заговорив: – Нет, но вырастить счастливых детей, у которых мать – стервозная кобыла? Это достижение. У Руны отвисла челюсть. – Вести себя с тобой так, как я хочу, а не так, как ты заслуживаешь? Это достижение. Она открыла рот, чтобы ответить, но окрепший голос Аслака перебил ее: – Знать, что я могу уйти когда угодно, и не уходить? Это достижение. Он подошел на полшага ближе и ухватил Руну за ворот рубашки. Вывернув его, он притянул ее лицо к себе и сказал: – Не давать этой семье развалиться, когда в ней есть ты, – это достижение. Она вцепилась в его кисть, но Аслак не отпустил, а схватил ее за запястье и оттолкнул ее руку. – Ты всегда смотрела на меня свысока, – прошипел он, – всегда считала, что заслуживаешь чего-то – кого-то – получше. Так вот, я от этого устал. Аслак посмотрел безумным взглядом в глаза Руны. Кулака он не заметил. Его голова дернулась, и он отпустил запястье жены, схватившись за ухо. Руна потерла покрасневшую руку. – Странное время ты выбрал, чтобы вести себя как некое подобие мужчины, Аслак Уннторссон, – сказала она и сжала губы в тонкую линию. – И если решишь еще раз стряхнуть пыль со своей мужской гордости, не делай это так. Никогда. Если не хочешь проснуться со своей мужской гордостью во рту. Она повернулась и зашагала туда, где слышались голоса играющих детей. – Когда мы поженились, я обещал тебе, что наш союз ничто не разрушит, – сказал ей в спину Аслак. – И я это обеспечил. Руна чуть замедлилась, когда эти слова настигли ее, но потом заторопилась прочь. – Теперь все будет лучше, – сказал Аслак ежевичным кустам. – Все будет лучше. Когда он поднял взгляд, Руна уже скрылась.
Дерево под пальцами Хельги было грубым, и ее руки болели. Ей не удалось найти удобный способ продолжительной атаки на окровавленные доски, из которых была сколочена постель Карла, и пятна упрямо сопротивлялись любым попыткам их оттереть. Но пока она работала, ее мысли свободно блуждали. Когда она представляла себе Карла, первым, что она видела, был гнев, злоба бешеной собаки, жаждущей в кого-нибудь вцепиться. Может, он связался с тем, с кем не стоило? Он разбил нос Йорунн – было ли этого достаточно, чтобы убить? Он оскорбил Бьёрна и угрожал Сигмару. И еще то, как он на нее смотрел. Даже в разгар лета, даже зная, что он мертв, Хельга почувствовала ползущий по спине холодок и поежилась, чтобы привести себя в норму. Может, он так посмотрел на кого-то еще? На чью-то жену? – Они вернулись. – Голова Эйнара исчезла за дверью дома так же быстро, как и появилась. – Как раз из-за этого мы в эту дрянь и влипли, – пробормотала она. Откинулась назад и выжала тряпку в ведро. Капли стали заметно светлее: когда она только начала, они были темно-красными, так что это было уже своего рода достижение. Она поднялась, хрустнув суставами, и отвернулась. Образ ворвался в ее мозг с такой силой, что у нее подогнулись колени. Амулет. Проклятый амулет. Он что-то прятал под рубахой, когда дрался с Бьёрном. Оно блеснуло на свету, когда он предлагал ей помочь с посудой. Это был серебряный молот Тора. Хельга, спотыкаясь, направилась к двери; ей вдруг стало трудно дышать. Это казалось ей важным. Тело покоилось снаружи, Хильдигуннюр укрыла его полотном. Рядом лежал, понурив голову, мастиф, выглядел он жалко. За спиной у себя Хельга слышала голоса – Бьёрн и Йорунн? – доносившиеся из сарая с дровами. Ей нужно было проверить, причем быстро. Когда она присела возле трупа, пес вскинул голову и нехотя заворчал на нее. – Тсс, – прошептала Хельга. – Все хорошо. Она стремительно стянула полотно, открыв бледное лицо Карла, его шею – и больше ничего. – Что ты делаешь? – позади нее стояла Хильдигуннюр. Хельга замерла. – Я… Э… – Она оглянулась через плечо, зажмурившись, чтобы солнце не слепило глаза. – Мне надо было проверить. – Что? – У него был амулет. А теперь его нет. Солнце за спиной Хильдигуннюр превращало ее в темный силуэт. – Понятно, – и сразу же: – Поднимайся, быстро. Они идут. Хельга поднялась, ощущая тревогу. Она обнаружила что-то важное? Или сделала что-то не так? Но ее мать ничего не говорила, ничего не объясняла. «Что она вообще сейчас чувствует?» Хельга поняла, что не знает. Ее мать удивилась, а потом рассердилась… но почему? В тот момент она подумала, что Хильдигуннюр с тем же успехом могла злиться на Карла, посмевшего без разрешения умереть на хуторе. Посмотрев за ворота, она увидела, что приближаются Аслак и Руна. Даже за сотню ярдов было заметно, что между ними все – чем бы оно ни было – стало еще хуже, чем прежде. – Этими плечами хоть камни дроби, такие они одеревеневшие, – еле слышно пробормотала ее мать, взглянув на Руну. Хельге пришлось подавить смех, вызванный отчасти смешным и точным наблюдением, а отчасти тем, что ее мать снова стала собой. – Как Агла? – Она всегда была хрупкой, но, думаю, справится, – больше Хильдигуннюр ничего не сказала, потому что Аслак и Руна были уже почти в пределах слышимости. Все вместе они окружили тело, и тишина лишь росла с каждым новым членом семьи, словно сугроб на крыше, пока Хельга не почувствовала, как ей сдавило грудь. Никто ничего не говорил, все, не отрываясь, смотрели в землю. Только когда все собрались, появился Уннтор вместе с Эйнаром и Яки. – Мы отметили место, – пророкотал он. – Подготовили все, что нужно. Богам это не нравится. «Богам редко что нравится», – подумала Хельга, но говорить не стала. Уннтор обернулся и зашагал прочь, и, словно стадо овец, они потянулись следом. Никто ничего не говорил, никто никуда не смотрел, кроме широкой спины хозяина Речного хутора. Эйнар и Яки без слов отделились и направились к сараю за лопатами и кирками. Короткий, резкий приказ – и Бьёрн метнулся к поленнице, вернувшись с охапкой дров. Хельга обнаружила, что идет рядом с Гитой. Лицо у нее по-прежнему было бледным, она выглядела измотанной и уставшей. Момент сомнения – даже страха, – а потом в голове Хельги прозвучал голос Хильдигуннюр: «Не глупи, девочка. Ты знаешь, что делать». Она протянула руку и обняла тонкие плечи Гиты. Затаенное дыхание со всхлипом вырвалось из горла девушки, потом она затряслась и прижалась к Хельге, намертво вцепившись в ее рубаху. Они неловко шли в хвосте процессии, Хельга шептала дрожащей Гите слова утешения. Она смотрела на спины своих родичей, шедших к месту упокоения, словно ягнята на бойню. Почти не задумываясь, она коснулась руны, свисавшей на ремешке с ее шеи. Перед ее мысленным взором замелькали образы: мимолетная улыбка старика в поле. Прошептанные им слова, его голос – сильнее, чем должен быть в таком возрасте. Руна Наут, прошипел ей ветер. Она расскажет тебе о желаниях, стремлениях и заботах, что текут в каждом из вас. – Стоит попробовать, – пробормотала Хельга. – Что? – полусонным голосом спросила Гита. – Ничего, – сказала Хельга, – ничегошеньки. Смотри, – добавила она, указав вперед. – Мы почти пришли. (обратно)
Глава 11 Виновник
Хельга сидела в окружении своей большой семьи, но чувствовала себя невероятно одинокой. Вокруг нее ударяли в землю лопаты, взрезая почву, как нож режет кожу. Она глубоко вдохнула и попыталась вспомнить, какую радость приносил ей запах травы. Она хотела, чтобы ее разум задремал, убаюканный однообразными движениями, но в окружении родни это оказалось непросто. Слева в неустанном ритме работал Бьёрн, его плечи поднимались и опускались вместе с ударами лопаты, которые могли бы легко снести голову человеку, выбрасывая комья земли на насыпь, подальше от растущих очертаний корабля. Сидя в сторонке, Руна и Тири плели из коры циновки и украшения для могилы. Над последним пристанищем Карла работала вся семья. Когда одна задача подходила к концу, Хильдигуннюр оказывалась рядом с новыми указаниями. Она не повышала голоса, но отдыха не давала никому. – Поживее, Хельга. Давай. Услышав голос матери, она моргнула и продолжила скручивать веревки. На ощупь они были грубыми. Хельга представила, как они будут выглядеть, когда обовьют изогнутые ветки и скрепят выложенную корой клетку, образуя короб, такой, как описала Хильдигуннюр. Она вообразила этот короб, накрывший уложенное на палубу тело Карла, оберегающий его от сыплющейся сверху земли, готовящий его к отплытию в страну мертвых. Он умер не в битве и в Вальхаллу не попадет, но Уннтор решил, что похоронит сына как богача и землевладельца, в священном поле, где есть дуб и камень, и так и сделал. Хельга взглянула на них и поежилась. Она лишь изредка видела, как отец проводит обряды, но даже он казался непривычно бессильным и человечным рядом с камнем и с дубом. Даже сейчас, в приятный летний вечер, от них исходила угроза, как от злонравных быков. «Богам на нас наплевать». При виде дуба ее наполнила жуткая уверенность. «Мы – летний ветер и свет солнца. Они – дерево и камень». Бьёрн уже погрузился в яму до бедра. Позади него Аслак с помощью широкой доски уплотнял края, укреплял их так, чтобы они выстояли перед волнами иных морей. На ее глазах яма принимала очертания и обретала форму благодаря стараниям Бьёрна и Аслака. Когда сплетенные из коры циновки были готовы, Йорунн спрыгнула в могилу и выложила из них легко узнаваемый силуэт драккара. Уннтор, превратившийся в молчаливого надзирателя, возвышался над ними, не снимая руки с топора. Он смотрел на них, не двигаясь и не моргая, словно ждал, что кто-то дерзнет увильнуть от работы. Никто не осмеливался. Когда солнце начало клониться к горизонту, корабль был готов. Настало время предать Карла земле. Хильдигуннюр молча подала знак Бьёрну и Сигмару, и пока прочие члены семьи смотрели вниз, на дело своих рук, двое мужчин взялись за одеяло, на котором лежал Карл, подняли его и подошли к корме драккара, где яма была не так глубока. Они осторожно прошли к середине могилы и медленно опустили тело на кору, выстилавшую дно корабля. Гита тихо стояла подле Хельги, когда тело ее отца укладывали в могилу, потом всхлипнула, словно пытаясь заглушить свое горе. Когда она начала плакать, Хельга неловко прижала трясущуюся девушку к груди и была за это заключена в объятия, от которых трещали кости. Уннтор спустился вниз, в корабль, и встал у головы Карла. – Боги увидят, каким был мой сын, – пророкотал он, и мир вокруг них затих. Эти слова нужно было произнести, и, что важно, произнести правильно. Хельга не вполне понимала, как они прозвучали бы, если произносить их неправильно, но она верила отцу. Хотя, глядя на человека у их ног… – Карл был викингом, верным своей земле, верным своим богам. Он странствовал, он сражался и ни перед кем не преклонял колени. – У всех – стиснутые кулаки и сжатые губы. Широкая грудь Бьёрна поднималась и опадала, как у загнанной лошади. – Мало было тех, кто захотел бы сразиться с ним, когда он не спал. Мой сын умер воином, его убийца живет бесчестным трусом. «И стоит у могилы, глядя на него, – подумала Хельга. – Кишка у него не тонка». Она незаметно огляделась: у Бьёрна, Сигмара и Аслака были каменные лица. Агла стояла возле Хильдигуннюр, высоко подняв подбородок и сжав губы, и напоминала статую. Тири держала своего огромного мужа за руку и смотрела ему в лицо со страхом в глазах. «Чего она боится?» Хельге пришлось постараться, чтобы не нахмурить брови. Руна пристально смотрела на Йорунн, словно пыталась привлечь ее взгляд одной лишь силой воли. «Она отодвинулась от Аслака, – отметила Хельга. – Почему? Что между ними стряслось?» Странно. – У моего сына будут деньги, чтобы он ни в чем не нуждался, – сказал Уннтор. Он извлек из складок рубахи кошелек размером с собственный кулак и бросил в могилу. Тот приземлился с глухим звоном. Взгляд, которым перекинулись Йорунн и Сигмар, был стремительным, но Хельга его заметила. – У него будет чем защитить себя, – продолжил Уннтор, и бросил следом топор Карла. – И он сможет поехать куда захочет. Позади них раздалось ржание. Лошади Карла не хотелось спускаться в могилу, но она была хорошо обучена, и Эйнар отвел ее на палубу драккара, шепча на ухо усмиряющие слова, поставил рядом с Карлом, и… …это случилось так быстро, что Хельга чуть не просмотрела. Уннтор замахнулся, и неожиданно в руке его появился нож, рукоятью к лошади. Удар пришелся ей в затылок, послышалось глухое «шмяк», и кобыла рухнула. Эйнар с натугой тянул за поводья до тех пор, пока лошадь, которой Карл так гордился, не легла рядом с хозяином. Вместе они выглядели мирно, как будто спали. – И рядом с ним будет верный спутник, – сказал Уннтор. Яки спустился в корабль вслед за сыном, с мастифом на веревке. Хельга почувствовала привкус рвоты во рту и отвернулась. Она знала, что это нужно было сделать, но не обязана была этим восхищаться. Послышался звук, будто кто-то наступил на ветку, а когда она открыла глаза, пес лежал с другой стороны от Карла, и голова его была неестественно вывернута. Уннтор кивнул Яки и Эйнару, которые вылезли из могилы и подняли деревянный короб, жилище Карла в предстоящем путешествии. Они накрыли им телачеловека, собаки и лошади, а потом вышли из корабля. – Начинайте, – сказала Хильдигуннюр. – Лопатами, только осторожно. Все как один, родичи взялись за работу. Почва, выброшенная на край могилы, возвращалась в нее, засыпала деревянную постройку, пока циновки не скрылись из виду, поглощенные мирными земляными волнами. Постепенно скрылся и деревянный короб, оставив над землей лишь горб. Когда последняя лопата и последняя горсть земли упали на курган Карла, солнце уже наполовину скрылось. Все знали, что дело сделано. У Гиты с матерью не осталось больше слез, у Уннтора не осталось больше слов. – Домой и ужинать, – прагматично сказала Хильдигуннюр. – Я еще и для вас могилы рыть не собираюсь. Как только губы ее матери пришли в движение, то же самое сделали ноги Хельги: она должна была оказаться в нужное время в нужном месте. Разумеется, Хильдигуннюр целеустремленной походкой вырвалась вперед, и Хельга догнала свою мать. – Прежде чем что-то спрашивать, – сказала Хильдигуннюр, не глядя на нее, – ты поможешь мне с горшками. С губ Хельги сорвался полузадушенный смешок. – Ну конечно, – сказала она. – Где уж мне тебя опередить. Хильдигуннюр опережала Хельгу на полшага, и лица ее почти не было видно, но намек на улыбку был. – Ты радуешь старушку, Хельга, – сказала она. – Насколько это вообще возможно в такой день. – Будем надеяться, что Карл счастлив, сражаясь с теми, кто повстречал его в иной жизни, – сказала Хельга. – Он еще вернется нас донимать, – сказала Хильдигуннюр, – потому что опостылеет всем и повсюду, и его оттуда вышвырнут. Теперь настала очередь Хельги улыбаться. «Сейчас. Именно сейчас». – Вот только я подумала – а где же руны? Чтобы указать ему путь? Хильдигуннюр взглянула на нее. – Что ты знаешь о рунах? – Ничего, – быстро сказала Хельга и сразу исправилась: – То есть, я слышала рассказы… Разве они не волшебные? Хильдигуннюр фыркнула: – Волшебные, как моя задница. Расцарапай деревяшку, посмотри, что случится. – Зачем… что может случиться? – Если нацарапаешь верный узор и будешь знать, чего хочешь, может, что-то и случится, – допустила Хильдигуннюр. Потом усмехнулась. – Может, к тебе в дом заявится огромный мужичина, огреет твоего папашу бедренной костью и унесет тебя в жизнь, полную сладкой похоти и беспокойных детишек. – Мама! – воскликнула Хельга, и старая женщина хмыкнула. – Ты что же, говоришь, что околдовала… Она покосилась на шагавшего позади них отца, а Хильдигуннюр метнула в нее взгляд, в котором читалось явственное: «Я тебе не скажу». В глазах у нее плясали искорки, но Хельга не могла не заметить, что ее губы сжались в строгую линию.В доме воцарилась беспокойная тишина, которую лишь изредка нарушали негромкие просьбы или звук стучащих по дереву ножей из того угла, где Хильдигуннюр с Тири колдовали над горшками. Хельга пыталась держаться с ними наравне, но женщины работали с почти невозможной скоростью, и как бы поспешно она ни чистила овощи или нарезала мясо, чьи-то руки всегда ждали от нее передачи. – Иди за дровами, – резко сказала Тири. – Ты нас только задерживаешь. Хильдигуннюр промолчала. Обиженная Хельга прошла мимо Сигмара, который сидел рядом с Уннтором и что-то негромко говорил. Вёлунд сидел в одиночестве, спиной к стене и, сложив руки на коленях, бездумно оглядывал комнату; вид у него был несчастный. Общее настроение не действовало лишь на Сигрун и Браги, занятых в уголке какой-то запутанной игрой с участием трех костей и палочки. Когда она открыла боковую дверь, ее поприветствовал вечерний ветерок, погладил по щеке и выманил на улицу. Она подумала о сердитых людях, сидевших в доме. «Хорошо, что между нами закрытая дверь». Небо растянулось над ней – медово-золотое на западе, фиолетовое над головой, а дальше чернота до самого жилища богов. «Была бы я птицей, – подумала Хельга, – поднялась бы сейчас вверх и полетела сквозь эти цвета быстро и далеко, в чужие земли». – А не ходила за дровами, – добавила она. – Я помогу. Не сдержавшись, Хельга взвизгнула – тоненько, по-девчачьи, сама не успев ничего понять. – Аслак! Что ты здесь делаешь? – спросила она резче, чем хотела. Младший сын Уннтора смотрел на нее из тени, всего лишь силуэт на фоне глубокой тьмы. – Мне просто… нужно было ненадолго выйти. Словно тяжесть с груди спала, правда. Он сделал шаг вперед, и на его скулы лег лунный свет. «У него такие большие глаза», – подумала Хельга, и что-то в ней поменялось. Вдалеке от братьев, в одиночку, на улице Аслак выглядел… другим. Более худым. Измученным, что ли. Таким она всегда представляла Локи из преданий. – Умм… спасибо, – сказала она, взволнованная и сердитая на себя за это. – Помоги… да, пожалуйста. Ты знаешь, какой она бывает. – О, я знаю, – сказал Аслак, чуть улыбнувшись. Он двинулся к ней – и сердце Хельги перестало биться, пока он не прошел мимо, к сараю. «Да что с тобой, девочка? Шевелись!» Она поспешила за Аслаком, пытаясь изгнать освещенное луной печальное и прекрасное лицо из своей головы.
Когда они вернулись, стол был установлен и все уже сидели. Взгляды постоянно возвращались к месту Карла, как язык к дыре от выбитого зуба, но никто ничего не говорил. Хельга ожидала, что Руна будет злобно на нее пялиться, но та, что странно, была занята совсем другим и, не отрываясь, смотрела на Йорунн. – …Поиграть, – тоскливо бубнил Вёлунд с другого конца стола. – Нет, сначала поешь, – строго сказала Тири. Ложка плюхнулась в миску, огромный шмат репы поднялся ко рту Вёлунда и мгновенно исчез. Почти сразу раздались болезненные стоны – мальчик одновременно пытался есть и не пускать обжигающий кусок овоща к себе в глотку. Наконец, с измученным «Нннхх», он выплюнул его обратно в миску. Бьёрн повернулся и гневно уставился на жену. – Пусть идет к себе в угол, – сказал он. – Ему надо есть, а то… – Он не будет есть, – сказал Бьёрн устало. – И никто не хочет на это смотреть. Он жрет как свинья. Хельга взглянула на Вёлунда, но тот, казалось, не заметил отцовского оскорбления. Тири передумала возражать и отправила сына играть. Он покосолапил к своему месту, встал на колени и засунул голову под кровать. Хельга заметила, как Бьёрн смотрел ему вслед с усталым, измученным видом. – По пути сюда мы слышали разные разговоры, – начал Сигмар. В ответ на это Йорунн поджала губы: – Сигмар, не надо. – Почему? Мы должны им рассказать. – Что рассказать? – прорычал Уннтор. Встревоженные угрозой в голосе деда, Браги и Сигрун со всей прытью своих шестилетних ножек спрыгнули с коленей матери и бросились прочь, подальше от стола. – Мы слышали, что Карл залез в долги, – выдавила сквозь стиснутые зубы Йорунн. – Основательно. Вполне достаточно, чтобы за ним кого-нибудь отправили. – Она покосилась на Уннтора. – Кого-нибудь опытного. – Хороший кусок мяса, брошенный собакам, отвлек бы их от запаха, – добавил Сигмар. – И почему вы не сказали нам утром? Йорунн посмотрела на отца и тихо сказала: – Потому что тогда бы вы подумали, что это мы виноваты. Если те, кому он задолжал, на самом деле отправили кого-то, кто крадется в ночи, мы все равно бы его не поймали. Уннтор нахмурился, но промолчал. – И насколько надежны эти сведения? – спросила Хильдигуннюр. – О, в высшей степени, – ответил Сигмар. – Мы покупаем и продаем. Люди из кожи вон лезут, рассказывая нам правду, чтобы мы возвращались снова и снова. Уннтор посмотрел на него, потом на всех остальных, сидевших за столом. Подумав, он медленно произнес: – Думаю, это возможно. Было… Послышался звонкий шлепок, вскрик боли, потом яростный вопль и тонкий голосок, кричащий: «Ма-а-а-а-а-ама!» Все головы разом повернулись к Браги, который всхлипывал, лежа на полу, и его сестре, бежавшей к Руне. Стоявший над упавшим мальчиком Вёлунд сжимал что-то в кулаке. Вместо слов из его глотки вырывался громкий гул, похожий на треск расколотого дуба. Тири немедленно вскочила и кинулась к нему. – Вёлунд!.. Ты что делаешь? Мальчик повернулся и увидел подбегающую мать; мясистая рука выстрелила вперед, и он оттолкнул Тири так, что ее развернуло. Бьёрн с криком поднялся и бросился на сына, но когда он схватил Вёлунда за руку, тот принялся вырываться, снова и снова крича во все горло: – Мое! Мое! – Я только хотел посмотреть, – рыдал Браги, цепляясь за подол матери. – А он злюка! Он меня стукнул! – Я знаю, сладенький, – сказала Руна, утешая малыша. – Мы потом про это поговорим, ладно? – Выведи его! Сейчас же! – крикнула Хильдигуннюр, перекрывая шум, и Бьёрн злобно зыркнул на нее. Мальчишка заходился в истерике, орал и бился в отцовских руках, пока Бьёрн, раздраженно кряхтя, не заехал ему локтем в грудь, заставив Вёлунда согнуться, задыхаясь от боли. В его руке блеснуло что-то серебряное. – УБИЙЦА! – кричала Агла так же громко, как Вёлунд, но куда пронзительнее. Когда Хельга обернулась к ней, то сразу и не узнала: лицо ее было багровым от злости, с раздутыми ноздрями и выпученными глазами. Она казалась существом из Тролльхейма. Костлявый палец, выставленный вперед, насколько это было возможно, указывал на Вёлунда, схваченного отцом. – УБИЙЦА! – снова проскрежетала она, и Гита, прищурив глаза, поднялась с места. С руки мальчика свисал амулет Карла – серебряный молот Тора. – Отдай! – сказала Гита, устремившись к нему. – МОЕ! – снова проревел Вёлунд и отдернул руку. Гита нырнула за болтающимся талисманом, но достался ей только удар коленом в живот. Бьёрн рывком сбил Вёлунда с ног и стал отходить назад, волоча завывающего, колотящегося мальчишку к двери. – Мое! – отчаянно выкрикнул тот. – Мое! Бьёрн локтем распахнул дверь и вытащил сына наружу. Как только дверь закрылась, Агла накинулась на Тири. – ТЫ! – прокричала она. – Ты должна нам виру за твоего полудурка-сына! Он убил моего мужа! – Заткнись, ты, морда кобылья! – выплюнула Тири, не дрогнув даже перед лицом разгневанной Аглы. – Ты понятия не имеешь, что несешь! Вёлунд никого не убивал – он и нож-то держать не умеет! – Это он! Это он! – визжала Гита так же яростно, как ее мать. Хельга наблюдала, как за столом разворачивается другой разговор, бессловесный, но напряженный. Руна по-прежнему не отрывала глаз от Йорунн, упрашивая ее, требуя чего-то – внимания? Но тщетно. – Хильдигуннюр! – взмолилась Агла. – Ты видела мальчишку – он полон злобы! Он опасен! Ее лицо вытянулось и исказилось от боли. – Мы никого не признаем виновным под моей крышей, пока не будем в этом уверены. – Голос Хильдигуннюр мог бы заморозить озеро. – Я не видела ножа. Я не видела крови. Мальчик мог подобрать амулет с пола. И спроси себя – мог ли он задумать убийство? Может, его мать права и он безобиден? – Она взглянула на Тири и кивнула головой в сторону двери, словно приказывая: иди к своей семье. Перед глазами Хельги промелькнуло воспоминание: Вёлунд с топором в руках, так похожий на отца. «Я расколол бы твою головенку». Не может причинить вреда? Бьёрн с трудом одолел дикую силу своего сына. Не хочет, да – но не может? Агла села на место, но все еще выглядела как готовая к прыжку волчица. Чуть помолчав, она сказала: – Откуда ты знаешь, Тири? Откуда ты знаешь? Тири остановилась на полпути к двери. Обернулась и посмотрела прямо на Аглу. – Я его мать, – сказала она. – С ним нелегко, и он не идеален, но он мой сын. – Она не повышала голоса, но слова ее звучали веско: – Мой муж сказал мне, что это, – она указала на притихших гостей за столом, потом взметнула руку к потолочным балкам, – семья, и что семья – это самое важное. Похоже, она хотела добавить что-то еще, но переборола себя. Когда Тири вновь повернулась к двери, та открылась и вошли Бьёрн с Вёлундом. Агла открыла рот, но пронзительный взгляд Хильдигуннюр утихомирил ее. – Он успокоился, – сказал Бьёрн. – И я знаю, о чем ты думаешь, Агла. Ты думаешь, что это он сделал. Но я могу тебе поклясться, – он посмотрел прямо на нее, – что мой сын не убийца. Наверное, он просто подобрал амулет. – С чего ты взял? – резко спросила Гита. Голос Бьёрна не изменился, не стал громче. Он, подумалось Хельге, звучал устало и печально. – С того, что порезы были ровными, в нужных местах. Это сделал кто-то, кто знает, как обращаться с ножом. – Он потер свою левую руку и поморщился, а потом продолжил терпеливым, успокаивающим тоном: – А мой сын сильный, это правда, но если бы это сделал он, то Карла мы бы просто не узнали. Он едва понимает, за какой конец ножа браться, да и то каждый раз подсказывать приходится. Удивительно, но Агла, кажется, задумалась об этом. – Он мог его подобрать, – пробормотала она. – Может быть. Она снова села и принялась с подозрением осматривать каждого, пока не наткнулась на пристальный взгляд Хильдигуннюр. Старая женщина ласково улыбнулась вдове, и та опустила глаза в пол, громко шмыгая. – Я знаю, что еще рано, – сказала Хильдигуннюр, – но, думаю, пора отдохнуть. Нам всем нужно выспаться. – Мудрые слова, мама, – прогудел Бьёрн. Уннтор, по-прежнему словно высеченный из разъяренной скалы, встал, не говоря ни слова, посмотрел на собравшихся родичей, и те, подчиняясь приказу, зашевелились и стали подниматься. Хельга заметила движение слева: Руна изловчилась придвинуться к Йорунн, с таким выражением лица, какого Хельга у нее еще не видела. Неловкость? Мольба?.. Страх? Любопытство заставило ее придвинуться к жене Аслака. – Мы можем поговорить, сестра? – спросила Руна. Йорунн взглянула на нее: – О чем? – Я… я… – Пора нам спать, дорогая женушка, – сказал возникший у нее за спиной Аслак. Руна замерла и замолчала. – Не думаю, что моя сестра хочет общаться, – спокойно добавил он. Йорунн посмотрела на него с любопытством, смешанным с раздражением. – Как скажешь, милый братец. Аслак улыбнулся ей, протянул руку, взял Руну под локоть и повел ее в отведенный им угол. Хельга огляделась. Сигмар и Йорунн уже лежали в постели. Она едва различала силуэты Аглы и Гиты, ушедших подальше от кровати, в которой умер Карл, и укладывавших сено и одеяла возле очага. Дети Руны купались в непривычном материнском внимании. В другом конце дома Хильдигуннюр созвала Уннтора, Яки и Эйнара, чтобы в тесном кругу вполслуха переговорить с ними. Все это Хельгу не заботило; что-то другое беспокоило и грызло ее, что-то, не согласующееся со всем остальным. Она коснулась кожаного ремешка на шее, прошлась пальцами по грубому материалу до камня, проследила большим пальцем линии руны. Полузабытые слова пытались укрыться от нее. «Расцарапай деревяшку, посмотри, что случится». Стоило попробовать.
Хельга подождала, прислушалась и подождала еще, пока не уверилась, что время остановилось и солнце больше не взойдет. А потом ощутила ее – особую тишину в доме, почти неслышный звук ровного дыхания. Она придвинулась к краю постели. «Я хочу спать, – сказала она, не веря этому ни на мгновение. – Я только проснулась – нет, я не могу заснуть». Она повторяла это про себя, пока сама не поверила в свою ложь. Потом вытянула ногу, нащупала пол и встала как можно тише. Подвешенные к балкам свечи сочились тусклым светом. У двери сидел Эйнар с выражением смертельной тоски на лице. Он молча помахал ей. «Хорошо». Хельга помахала в ответ и, изображая сонную походку, двинулась к нему. Проходя мимо стола, она прихватила кувшин с водой. – Привет, – прошептал он. – И тебе привет, – ответила она шепотом, встав рядом с ним. – Попить хочешь? Он взял кувшин и сделал глубокий глоток, потом еще один. – Тяжкая это работа – убийц ловить. Свечи были далеко, и рассмотреть его лицо было трудно. Тусклый свет выхватывал нос и губы, но глаза оставались в тени. Он не мог не слышать по ее голосу, что она поддразнивает его, но даже в полумраке она почувствовала его недовольный взгляд. – Заткнись. Мне скучно, но я должен это делать, чтобы Хильдигуннюр смогла поспать. Мне кажется, она очень боится. Хельга фыркнула: – Она? Здесь? Нет, не может быть. Она ничего не боится. – Может, и так. Но все равно мне приходится полночи не спать. – Может, это не так и плохо. – В смысле? – Я была бы не против не спать, когда никого из них вокруг нет, – сказала она с легкой улыбкой в голосе. – Тут ты права, – вздохнул Эйнар. «Сейчас. Именно сейчас». – А ты все по ней сохнешь, да? В темноте послышался резкий вдох. Когда он снова заговорил, его голос стал холоднее: – Что ты несешь? Она коснулась его руки и почувствовала, что он старается не отдернуться. – Я видела, как ты на нее смотришь, – прошептала она. – И? Дом маленький. Куда еще смотреть-то? – Давно она украла твое сердце? Пауза. Потом, мягче: – Очень. Когда я был мальчишкой. Хельга давно уже наблюдала, как Хильдигуннюр выуживает правду из людей. Не важно, насколько они были грустными или злыми, если что-то внутри них просилось наружу, оно редко могло сопротивляться тишине. И конечно, Эйнар продолжил: – Она всегда была добра ко мне. Не давала Карлу с Бьёрном колотить меня, когда мы были детьми. Потом я стал смотреть на нее… по-другому. Хельга прикусила щеку, которую Эйнар не видел, и проглотила все слова, которые хотела произнести. Вместо этого она крепко сжала его руку: – А потом? – Она выросла быстрее меня – и теперь она счастливая женщина, заслужившая доброе имя, и жена бесхребетного, нелепого слабака-шведа. Хельга вспомнила, каким ей виделся Сигмар, и ей пришлось признать, что она не вполне согласна с оценкой Эйнара. Но сердце, говорят, иногда видит то, что глазам недоступно, так что она решила не возражать. – Почему бесхребетного? – спросила она. – Потому что он должен был вступиться за нее, когда Карл… – Эйнар затих. Когда он снова заговорил, голос его звучал бесстрастно, и между ними снова выросла стена. – Он не кажется мне ни честным, ни достойным человеком. Поддавшись порыву, Хельга обняла своего названого-но-не-совсем старшего брата. «Слова будут потом, – подумала она. – А пока хоть так». Он казался жестким на ощупь – хуторская работа закалила его, а злость и отстраненность лишили гибкости, – но она не отпускала, и в конце концов Эйнар расслабился, словно обмяк под ее руками и обнял Хельгу в ответ. – Спасибо, – прошептал он чуть погодя. – Ты болван, – ответила она. – Но ты мой болван, а это что-то да значит. Если хочешь, сходи подыши воздухом. Я пригляжу за спящими волками. Эйнар тихо поднялся, протянул руку и сжал ее плечо, а потом исчез за дверью, словно тень. Как только дверь закрылась, Хельга принялась действовать. «Нет времени прохлаждаться». Она огляделась, осмотрела скамьи. «Ничего». Столы. «Ничего». С бешено колотящимся сердцем она ждала, что кто-то из стариков проснется. «ВОТ!» Под одеялом Эйнара обнаружился короткий, похожий на обрубок, сапожный нож. Не лучший вариант, но сгодится. Она нагнулась и подобрала его; отблеск света на лезвии на мгновение вогнал Хельгу в ступор, но голос, очень похожий на Хильдигуннюр, привел ее в чувство: «А если тебя увидят ночью с ножом в руках? Что тогда?» Вспыхнув, Хельга поднялась, спрятала нож в ладони и пошла, медленно, но целеустремленно, стараясь ни на что не наступить и ни во что не врезаться. Если кто-нибудь ее окликнет, она скажет, что возвращается в постель, а Эйнар скоро вернется. Вот. Кровать Руны. Встав на колени, Хельга трясущимися пальцами нашарила рунный камень. Она нащупывала очертания руны кончиками пальцев и чувствовала запах дыхания спящей женщины дюймах в пяти от себя. Она вытащила нож и… – Мама? – голосок, приглушенный туманом сна. Хельга затаила дыхание и попыталась слиться с полом. Тело рядом с ней зашевелилось с бессознательной медлительностью. Послышалась невнятная, будто пропетая фраза. «Эйнар вот-вот вернется. И застанет меня лежащей у постели жены Аслака, с ножом в руках. Кто-нибудь может проснуться, как я это объясню? Я здесь единственная не родная им по крови или браку». В мыслях она уже видела, как кричит на нее Агла, как Хильдигуннюр плюет ей в лицо, а Уннтор, ее приемный отец, с печальным видом заносит топор над ее шеей. «Люди дышат иначе, когда спят». Мысль мелькнула у нее за мгновение до того, как Хельга осознала, что размеренное дыхание – единственный звук, который доносился с кровати прямо над ней. Она как можно быстрее провела сверху вниз еле заметную линию не длиннее большого пальца, потом другую, наклонную, слева направо через центр первой. Руна Наут. «Желания, стремления и заботы. Будет выглядеть как царапина. Просто царапина! Некогда думать. Шевелись!» Заставляя себя двигаться медленно и осторожно, она поднялась на ноги и прошла через комнату мучительным неспешным шагом, не забыв положить нож туда, где его нашла. Она успела сесть на стул Эйнара и сделать три вдоха, прежде чем дверь снова открылась и он проскользнул внутрь, двигаясь легко и неслышно. – Шевелился кто-нибудь? – прошептал он. – Нет, ничего не было, – сказала Хельга. Она была рада, что Эйнар не видит ее лица. В носу еще стоял запах теплых тел, сна и дыхания Руны. – Совсем ничего. (обратно)
Глава 12 Драка
Хельга моргнула. – Поднимайся, девочка, – повторила Хильдигуннюр, – весь день проспишь! Хельга снова моргнула. В доме было лишь чуточку светлее, чем ночью, но Хилдигуннюр стояла возле ее кровати уже полностью одетая. – У нас есть работа. Она знала, что спорить бессмысленно. «Сейчас встану», – сказала она мысленно и услышала, как ее рот издал что-то вроде «шшссс всссну». Вскоре она ощутила жесткую утоптанную землю под ногами. Вокруг них все еще спали родичи. «Как волки в логове». Мысль мелькнула и исчезла. – Пошевеливайся. – Куда мы идем? – В новую овчарню. Надо убедиться, что мы готовы к зиме. – Но я уже… Под взглядом Хильдигуннюр Хельга замолчала на полуслове. Она начала бормотать извинения, но решила, что промолчать будет умнее. Воздух снаружи был свежим и холодил ее кожу. Знакомая песня реки успокоила Хельгу, пока она споро поднималась на холм следом за матерью, прочь от Речного. Когда их окружил лес, она почувствовала, что постепенно просыпается. «Кто это сделал?» Вопрос не исчезал, уродливая приземистая тварь, нагло ухмыляющаяся крыса посреди дороги. Запах сосен щекотал ей ноздри, и она почти ощущала вкус сырого утреннего воздуха. Солнце еще не скоро должно было выползти из-за горизонта, щеку обдавал освежающе холодный ветерок. «И все-таки кто?» Ее голова полнилась лицами, кричавшими друг на друга людьми, выхваченными из памяти обрывками фраз. Вспышка раздражения разбудила ее мозг. «Здесь надо прибраться». Хельга вообразила себе захламленную кладовую с разбросанными по полу вещами и пустыми полками на стенах. Она быстро сделала на полках зарубки – одна для Гиты, две для Йорунн и три… для Аслака. «Просто так», – сказала она себе. «Без всяких там причин». Она нагнулась и подобрала с пола платье. Прекрасное, сшитое мастером, стоившее, наверное, целое состояние. Аккуратно сложила его и отнесла на полку Гиты. Хочет поехать ко двору, но не может. Властный, деспотичный отец. «Передается ли жестокость по наследству?» Она представила лицо Уннтора, искаженное яростью, и вздрогнула. Добавим к этому то, что мог натворить Карл, пока участвовал в набегах… Она вспомнила, какое лицо было у Гиты, когда та сбежала из дома от насмешек отца и дяди, как жажда убийства горела в ее глазах. Потом Хельга посмотрела на пол своей воображаемой кладовой. У ее ног лежала бурая тряпка, испещренная красными точками. Она потрогала грубую ткань пальцем, потом поднесла его к носу. Кровь: пятна крови, одни побольше, другие поменьше. Она свернула тряпку и аккуратно положила на полку Йорунн. Старший брат: законченный ублюдок. Оскорбляет ее, дерется с ее мужем, бьет ее локтем в лицо. Каково это? Достаточно, чтобы задеть его парочкой точно направленных оскорблений – может, даже навалить братцу в кашу гнилых ягод, чтобы у него живот скрутило, но чтобы убить? Хельге вспомнилась улыбка Йорунн, ожидавшей братьев у финишной черты. Карл опережал ее в гонке за наследством, а Йорунн Уннторсдоттир не любила проигрывать. Позади нее скрипнула дверь кладовой, и сердце Хельги забилось быстрее. Она чуяла его запах, ощущала жар его тела у себя за спиной. «А как насчет меня? – шепнул ей в ухо Аслак. – Найдется мне место на полке?» «Да, – прошептала она. – Ты странно ведешь себя с женой. Что-то случилось, и ты изменился». Воображаемый брат неспешно прошел мимо нее, обернулся и прислонился к полке. «Правда?» Свет вокруг него искажался, наполовину укрывая лицо тенью и делая резче изящные черты его лица. Удивительно, как она не замечала раньше: под прекрасной кожей младшего брата скрывалась любопытная смесь материнской резкости и отцовского гнева. Глаз Хельги дернулся, она чихнула, и прилива смущения было достаточно, чтобы разрушить чары. Кладовая исчезла, а вместе с ней и воображаемый Аслак. Утоптанная земля под ногами, однако, осталась… «Овчарня». Она была в новой овчарне. – …И еще надо переворошить свежее сено, чтобы хорошенько просохло, – закончила Хильдигуннюр. Обернувшись, она критически осмотрела Хельгу и прищурила глаза: – Что я сейчас сказала? – Сено, – ответила Хельга как можно увереннее. – Надо его переворошить. Для пущей убедительности она важно кивнула в знак согласия. Но Хильдигуннюр не проведешь. – А до того как ворошить сено, что надо сделать, милая доченька? – Она усмехнулась, словно волчица. – Ммм… – слова отказались приходить ей на помощь. – Да ты в облаках витала, – сказала Хильдигуннюр. – О чем задумалась? – Не знаю, – сказала Хельга и сама удивилась, как быстро соврала. – О том… что с Карлом случилось, наверное. Небольшая пауза. – Тебе можно бояться, – мягко сказала Хильдигуннюр. – Только потому, что я старая ведьма, а из Йорунн братья давно уже выбили весь страх, ты не должна прятать свой. На самом деле это значит, что ты умная. Хотя ты и так это знаешь, конечно. – Спасибо, – пробормотала Хельга, уставившись на свои ноги, чтобы скрыть панику в глазах. – Мне надо было это услышать. Она почувствовала, как сухой и теплый палец ласково коснулся ее подбородка и поднял ее голову. Хоть она и выросла на пол-ладони выше матери, Хельга все равно чувствовала себя крохотной по сравнению с ней. Суровые голубые глаза, окруженные морщинками, смотрели прямо на нее. – Здесь ты в безопасности, девочка моя. Обещаю тебе. Против воли, несмотря на то что соврала матери прямо в лицо, Хельга ощутила прилив облегчения. Она действительно боялась, хоть и пыталась себе в этом не признаваться, и слишком хорошо понимала, что спит под одной крышей с убийцей. И хотя ее мать не могла быть уверена в том, что обещает, потому что не знала, в чьих руках был нож, Хельга неожиданно почувствовала себя в безопасности. Делать то, что говорит мама, было просто, и если сказано не беспокоиться, значит, так она и сделает. Она напомнила себе, что нужно разобраться – после того, как переворошит сено, – почему ей не хотелось делиться своими размышлениями.Летний ветер колыхал траву у ног Сигмара. Здесь, наверху, она была длиннее и тоньше, но зимой скотина не станет разбираться, где ей накосили травы. Главное, чтобы она была. Он взмахивал косой плавно и ровно и смотрел, как длинные стебли с тихим шепотом падали на землю. Шедшая в десяти шагах за ним Йорунн набивала уже четвертый мешок за утро. Хотя до хутора было четверть дня ходьбы, он все равно быстро огляделся, прежде чем заговорить: – Как думаешь, кто это сделал? Плечи Йорунн едва заметно дрогнули, но ответ последовал не сразу: – А это важно? – спросила она наконец. – Для нас? – Коса снова пришла в движение, со свистом врезаясь в зелень. – Наверное, нет. Мы продумали план… – …и от него не отступим. – Голос Йорунн был тверд. – Сделаем как собирались. Сигмар улыбнулся и взмахнул косой, глядя, как склоняется перед ним трава. – Как скажешь, женушка. – Заткнись и работай, – донеслось сзади, но в голосе слышалась улыбка. – Косьба чудеса с твоей задницей творит. Лучи утреннего солнца сверкали на длинном, остром лезвии, ритмично срезавшем траву.
– Ты их видишь? – Эйнар смотрел сквозь деревья, встав на колени у столба и придерживая его снизу. – Кого? – проворчал его отец, поднимая кувалду. – Йорунн и Сигмара. Куда это они? – Держи ровно. Уннтор послал их, – Выдох. Замах. Звук дерева, бьющего о дерево, – накосить сена на вершине холма. – Ага. – Эйнар перешел к следующему столбу. Череда таких же, через равные промежутки, растянулась уже не меньше чем на четверть мили. – Только там косить особо нечего. – Все там есть, – сказал Яки. – Давай ставь. Эйнар поднял столб и воткнул острым концом в землю, кувалда взлетела и опустилась. – А ты о работе думай, – добавил Яки. – Не беспокойся о том, куда ходит или не ходит семья и что они будут делать, когда туда доберутся. Следи за молотом. Эйнар снова крякнул, присев в траву. – Меня не волнует, куда они ходят, – сказал он, поднял столб и поставил его острым концом вниз. – Хорошо, – ответил его отец. – Не твое это дело. Уннтору нужна наша помощь. Держи ровнее. Кувалда врезалась в столб, и тот вылетел из рук Эйнара и ударил его в бок. – Ай! Ты зачем это сделал? – он вскочил и уставился на отца. – Я ничего не делал, – прорычал Яки. – Это ты не смотрел, куда ставишь. Там камень в земле, и ты столб прямо в него уткнул. Не отвлекался бы от работы, так почувствовал бы. – Так, может, сам подержишь? – Иди домой, парень, – сказал Яки. – Построгай что-нибудь. Вырежи любовный стишок. Ты мне не помощник. Эйнар насупился: – Но без меня ты долго провозишься. – Я и до твоего рождения парочку заборов поставил. – Ладно, – сказал Эйнар. – Пойду починю утварь, которую вы, старые пердуны, все ломаете. Но его отец уже повернулся спиной и воткнул столб в землю. – Упрямый старый бычара, – буркнул Эйнар себе под нос, изо всех сил сопротивляясь желанию пнуть какой-нибудь из только что установленных столбов по пути на хутор. Он взглянул на холм. – Вконец дураком надо быть, чтобы там косить. – Он фыркнул. – Может, она пошла приглядеть, чтобы он овцами не слишком увлекался. Эйнар шагал вдоль столбов, сгорбившись и стиснув кулаки. Он не замечал фигуру впереди до тех пор, пока она не оказалась совсем рядом. – О, жестокие боги, – воззвал он. – За что караете? Прятаться было некуда. Когда Гита подняла взгляд, она не помахала и никак не отреагировала; просто остановилась и стала ждать. Обойти ее стороной было невозможно. – Доброе утро. – И тебе, – ответил Эйнар. – Куда идешь? – Куда глаза глядят. – Понятно, – сказал Эйнар. – А ты? – Отец послал меня домой. Он бывает ворчливым старым, э… – Эйнар осекся и сглотнул. – Прости. Я не… Гита выставила вперед ладонь: – Тсс, – она взглянула на него и усмехнулась. – Что? Ты думал, я расплачусь? – Э-э… – Ты же помнишь, кем был мой отец, да? Каким он был человеком? – Ну… да. – Если бы он застал меня завывающей, как сучка, из-за его смерти, то обязательно вернулся бы с того света, чтобы меня донимать. Эйнар моргнул: – Я… э… понял, кажется. – То есть я не хотела, чтобы он умер, но теперь его нет, и все слезы в мире этого не изменят. Что-то в том, как она моргнула… Решение пришло само, прежде чем он успел обдумать его или приструнить себя. В два стремительных шага он оказался рядом, и девушка очутилась в его худых, но сильных руках. – Что ты делаешь? Отпусти! – сказала она, но ее напряженное тело почти мгновенно расслабилось. Щека Гиты прижалась к его груди, с губ ее сорвался вздох. Они простояли так очень долго. Наконец Эйнар прервал молчание: – Нам надо расходиться. – Да, – пробормотала она. Он медленно опустил руки и сделал шаг назад, ощущая неуют, когда ее тепло внезапно исчезло. – Я… Э, увидимся, – сказал он. Гита смотрела вниз, неожиданно оробев. – Спасибо, – прошептала она. Не найдя слов, Эйнар кивнул в ответ. – До вечера, – добавил он неловко. Потом отвернулся и пошел домой, на хутор, чувствуя, как она смотрит ему вслед.
Тень крыши дома прочертила по двору черную линию, и Хельга невольно улыбнулась, когда снова вышла на свет. «Лето», – вздохнула она. Полотняный мешок царапал ей руки, но это искупалось теплом, что омывало ее голые предплечья. Из-за него воздух казался сладким как мед. «Лето». То мгновение в овчарне минуло быстро, едва начавшись, и они с Хильдигуннюр работали в уютной тишине. Чуть позже, когда легкое поскрипывание дерева подсказало им, что солнце принялось нагревать овчарню, она задумалась, а не притащила ли ее сюда мама для ее же собственного блага. Но это было не важно, все шло как шло. – Помочь? Хельга мигнула. Она не услышала и не заметила Аслака. Просто неожиданно оказалось, что он стоит возле курятника. – Нет, – сказала она, добавив: – Спасибо! – и пнула себя за то, как нескладно это прозвучало. – Как хочешь. – Слова говорили одно, а голос совсем другое. «Я останусь здесь», – говорил он. И, может быть, ей это показалось, но еще она услышала: «Мне нравится на тебя смотреть». – Хорошо, – выпалила она, – можешь открыть мне калитку. Он подошел к курятнику и открыл для нее калитку – с улыбкой, в которой читалось: «Так сойдет?» Она кивнула ему. Из курятника слышался шорох лап и первое кудахтанье. – Иду, – сказала она, пытаясь не замечать, как наливаются краской ее щеки. Калитка закрылась у нее за спиной. Шорох в маленьком курятнике нарастал, и когда она открыла дверь, куры просто выплеснулись наружу. – Прожорливые малявки, да? – спросил, встав у изгороди, Аслак. Хельга залезла в мешок и разбрасывала корм, пытаясь отгонять птиц из-под ног. – Да. Они не любят, когда их запирают. – Я бы их не винил, – сказал Аслак. – Это никому не нравится. Она не знала, что сказать. – Думаю, да, – выдавила она наконец. – Думаешь – и все? – сказал Аслак. – Думать недостаточно. Хельга подавила нарастающий страх, который не вполне могла объяснить. – Никто не любит сидеть взаперти, – сказала она со всей уверенностью, на какую была способна, разбросала последнюю горсть корма и повернулась к калитке. Аслак облокачивался на нее, держа руку на задвижке. Она сделала два шага к калитке. Он не стал отодвигаться, чтобы выпустить ее. Еще два шага. Их глаза встретились. В его взгляде была искра, молния. – Никто не любит, когда его вынуждают, – сказал он. Еще два шага, и Хельга встала у калитки так близко, что чувствовала тепло его тела. – Никто, – сказала она. – Думаешь? Еще одна вспышка, теперь раздражения. – Я знаю, – сказала она. Аслак не отвел взгляда, но она почувствовала, что давление на калитку исчезло. Он отошел в сторону, ненамного, но так, чтобы она смогла протиснуться. С красными щеками Хельга протолкнулась мимо него и ушла. Перед глазами непрошеным гостем возник образ кладовой. Она мысленно увеличила размер полки Аслака вдвое.
Сигмар легко удерживал косу на левом плече. Йорунн несла набитый сеном мешок на правом. Они шли в приятной тишине, наслаждаясь солнечным светом, заливавшим холм. Внизу сверкала река. – Будто камни на одежде хазара, – сказал Сигмар. – Да ты поэт. Но если на меня надавить, я соглашусь: тут красиво. – Это им помогло. Думаю… Погоди-ка, кто это? Кто-то ждал далеко внизу, у самого подножья холма. Йорунн застонала: – Это Руна. – Это будет… любопытно. – Она не с тобой говорить пришла. – Я знаю. Только… Не теряй голову, хорошо? – Когда это я ее теряла? Пять шагов, двадцать, и вот они уже могли разглядеть лицо Руны. Она смотрела в их сторону, сжав руки перед грудью. – Иди, – твердо сказала Йорунн. – Уверена? – Да. Его плечи напряглись, но он не оглянулся на жену, а лишь сильнее стиснул рукоятку косы и зашагал шире. Когда расстояние между ними увеличилось, он сделал глубокий вдох: – Будь по-твоему, жена! – крикнул он, подпустив в последнее слово презрения. – Посмотрим, кто прав! Несколько мгновений спустя он миновал Руну, даже не взглянув на ее обеспокоенное лицо. Когда Йорунн подошла к Руне, та заметно вздрогнула. – Йорунн, – сказала она дрожащим голосом. – Мне… мне надо с тобой поговорить. – Почему со мной? – резко спросила Йорунн и замедлилась, проходя мимо, но не сильно, так что Руне пришлось развернуться, догнать ее и пойти рядом. – Я… – она шмыгнула, потом прочистила горло. – Я хочу кое-чем с кем-нибудь поделиться, и думаю, что могу тебе рассказать. Тропа вела прямиком к западной ограде хутора, но Йорунн не сбавляла темп. Вдалеке свернул за угол и скрылся из вида Сигмар. Еще несколько широких шагов, и: – Ну же, сестра. В чем дело? – В Аслаке. – Что такое? Ты только что видела, какие чувства на самом деле обуревают моего мужа, и хочешь моего совета? Я думала, ты в этом куда лучше меня разбираешься. Еле поспевая за ней, Руна попыталась перевести дыхание. – Нет! Я не это хотела… никогда! – А я не хотела быть такой жестокой, – смягчаясь, сказала Йорунн, подойдя к воротам. – Подожди, – просипела Руна. – Пожалуйста, помедленнее! Йорунн проскользнула в ворота, приоткрыла их для Руны и улыбнулась: – Прости. Когда я злюсь на Сигмара, иногда мне нужно пройтись. – Она посмотрела на невысокую женщину. – Что ж, сестра, расскажи мне, что у тебя на душе. Задыхаясь, Руна посмотрела вверх. В глазах ее блеснули слезы. – Я… боюсь. – Что случилось? – Мне кажется… мне кажется, это Аслак убил Карла. Голова Руны дернулась от удара. Выпучив от неожиданности глаза, она уставилась на Йорунн, потиравшую костяшки правой руки. – Ты не часть этой семьи, – прорычала Йорунн, – и ты не смеешь обвинять моего брата. – Почему? – Руна оскалилась. – Потому что это ты убила Карла?
Первый вопль раздался позади дома. Когда послышался второй, Хельга обнаружила, что уже бежит туда. Ее сердце колотилось, краем глаза она видела Эйнара с Бьёрном и Сигмаром. Завернув за угол, она не поверила своим глазам. – Эй! – крикнула она, схватила ведро с водой – первое, что попалось под руку, – и бросилась к двум бьющимся на земле телам. – Перестаньте! Хельга выгнулась и размахнулась, выплеснув воду на боровшихся. Тут же она опознала Руну и Йорунн, а потом поняла, что вода была грязнее, чем она ожидала. Подвергшись неожиданному нападению, женщины разом взвизгнули и на мгновение застыли, переводя дыхание и моргая. Йорунн опомнилась первой; она воспользовалась паузой, перекатилась, подмяла под себя противницу и ударила прямо в нос. – Йорунн, прекрати! – проревел Бьёрн, пролетая мимо Хельги, но кулаки его сестры поднимались и падали, молотя по рукам, которыми Руна отчаянно пыталась прикрыть лицо. Когда он схватил Йорунн, та начала пинаться, задевая скулившую Руну и пытаясь оттоптать ногу Бьёрну, но без особого успеха. – Да что с тобой? – Здоровяк с легкостью поднял сестру на полфута от земли. – Она сука! – прорычала Йорунн. – Это я знаю, – сказал Бьёрн, – но и ты тоже, а мы ведь тебе морду не бьем, правда? Что случилось? Но Йорунн отказывалась отвечать и лишь извивалась в его руках. – Выпусти меня, ублюдок, – прошипела она. Хельга увидела, что Бьёрн принял решение и повернул к реке. – Пусти меня! – визжала Йорунн. – Пусти! Бьёрн продолжал идти, безмолвный, как зима. – Хельга! – крик Эйнара привел ее в чувство. – Помоги Руне зайти в дом – надо промыть ей раны и кровь остановить. К ее удивлению, Сигмар наклонился и помог Руне идти. Заметив ее взгляд, он буркнул: – Смотреть на нее сейчас не могу. С Бьёрном она в безопасности… Его прервал пронзительный вопль, резко стихший. Потом с берега донесся скрежещущий голос Йорунн: – Я убью тебя! Ублюдок! Я… Голос снова затих. – По крайней мере Йорунн будет чистой, – заметил, не в силах стереть ухмылку с лица, Эйнар, пока они вели Руну к дому, – Почему грязная вода? – Да просто схватила, что попалось, – призналась Хельга. – Так ей и надо, – пробормотал Сигмар. Шедшая рядом Руна всхлипывала. Когда они вошли во двор, к ним подбежали Агла и Гита. – Что случилось? – спросила Гита, широко вытаращив глаза. – А то тебе непонятно, – рявкнула Агла. – Ведите ее в дом, болваны. Сигмар и Эйнар вытянулись и, следуя за Гитой, наполовину ввели, наполовину внесли Руну внутрь. «Как дрессированные псы. Так вот что он в ней нашел», – подумала Хельга, но ее прервал взгляд Аглы: – Ты – принеси воды. Она развернулась и принялась искать ведро с дождевой водой, которое должно было быть где-то за углом. Когда по земле не катались, избивая друг дружку до смерти, визжащие женщины, найти его оказалось просто. С реки долетали обрывки разговора – сорванный голос Йорунн и рокот Бьёрна. – …Но она думает, что это он сделал, Бьёрн. Ее собственный муж! – Мы все на пределе, и тебе хуже всех. – Ну это же не моя сраная вина, правда? Мы спим в одном доме с убийцей. – Если ты в это веришь, так не бей морду жене убийцы. Неожиданно устыдившись, что подслушивает, Хельга схватила ведро и заторопилась к двери дома. Когда она вошла, моргая, чтобы привыкнуть к полумраку, то услышала голоса: трое – нет, четверо – людей одновременно говорили поверх поскуливаний Руны. – …Она не может просто… – Но что стряслось? – …должен быть какой-то повод… Вернулись Аслак и Тири, а Агла с Гитой осторожно раздевали Руну и искали для нее что-нибудь чистое. Хельга взглянула на Руну из-за плеча неловко нависавшего над ней мужа. «Она кажется такой молодой, – подумала она. – Такой маленькой и… беззащитной». Эта мысль не укладывалась в голове. Хельга на многое была способна, но только не считать Руну беззащитной. Подожди-ка, а это не тень усмешки промелькнула на ее лице? Хельга моргнула, итень исчезла, а Руна была всего лишь сидевшей на кровати расстроенной женщиной, за которой ухаживали подруги. «Трудно представить нечто более далекое от образа убийцы», – подумала Хельга и расчистила небольшую полочку для Руны в своей кладовой. – С ней что-то нужно сделать, – сказала Агла. – Но ты же и так ее залатываешь, – сказал Сигмар. – Да не с ней. С твоей женой, – огрызнулась Агла. Сигмар ссутулился и стал совсем жалким: – И почему это я должен делать? Тут полно ее родичей. Агла нахмурилась: – Но… ты ее муж. Сигмар презрительно фыркнул: – Я скорее… Скрипнула дверь, и разговор стих. Все обернулись посмотреть, как входит громадина Бьёрн, а следом за ним его изящная сестра. «Скорее утонувшая крыса», – подумала Хельга. В тех местах, где промокшая одежда не липла к ее телу, она отвисала, а хлюпанье башмаков Йорунн разносилось по всей комнате, пока она не остановилась. Хельга чувствовала, как бьется ее сердце. Раз-два… Раз-два… – В тебе нет чести. Ни капли, – голос Аслака был ровным и натянутым, как тетива. – Ты могла ее убить. – Странное время ты выбрал, чтобы за нее заступаться, – ответила Йорунн. – НЕ СМЕЙ ГОВОРИТЬ! – заорал неожиданно взъярившийся Аслак. – НЕ СМЕЙ РАСПАХИВАТЬ ПАСТЬ, А ТО Я ТЕБЕ ВСЕ ЗУБЫ ПОВЫБИВАЮ, МЕЛКАЯ ТЫ ВОНЮЧАЯ СУЧОНКА! – Аслак! – воскликнула Агла. – Заткнись, – рявкнул Аслак и уперся взглядом в Йорунн. – Ты ведь знала, что я все исправил. Ты знала, что я обеспечил свою семью. Ты знала, что мы будем счастливы. И решила все испортить. Да знаешь, что я… Это было незаметное движение, скорее смещение, но неожиданно между Аслаком и его мишенью возник Эйнар. – Хватит, – сказал он, и Хельга почувствовала озноб. Голос Эйнара изменился, и его осанка тоже. Это была не просьба остановиться, а скорее обещание того, что случится, если Аслак этого не сделает. Краем глаза Хельга заметила, как Агла и Тири быстро обменялись взглядами, и мгновение спустя жена Бьёрна очутилась рядом с Аслаком, вплотную к нему, и мягко, но настойчиво положила руку ему на плечо. Она зашептала тихо и убаюкивающе. Было трудно разобрать слова, но смысл их был очевиден. Успокойся… успокойся. И это сработало: угроза, исходившая от Эйнара, вместе с шепотом Тири заставили Аслака отступить. «Он сбит с толку, – подумала вдруг Хельга. – Сбит с толку и запутался». Из другого конца комнаты оскалилась Йорунн: – Я разделала бы тебя за секунду, говнюк мелкий. Но ты хотя бы мужчина, не то что мой так называемый муж. В углу насторожился Сигмар. – Поосторожнее, жена, – прорычал он. – Или что? Побьешь меня, когда уедем? – бросила Йорунн. – Ты не посмеешь. По крайней мере пока я смогу смотреть тебе в глаза. Ты тряпка. Хельга услышала, как у нее за спиной втянула в себя воздух Агла. – А ты чудовище! Каждый день кусаешь меня за пятки – ничего-то я не делаю правильно, никаких денег тебе не достаточно, и ты всегда, всегда недовольна! – О, а ты был доволен, когда мы поехали навестить мою семью? – Йорунн почти кричала. – Ты никогда этого не хотел. Ты никогда меня не хотел. Ты женился по расчету – а может, чтобы от чего-то скрыться, – и теперь никуда от меня не денешься. И я знаю, что тебя это бесит. – Захочу – и денусь, – сказал Сигмар и протолкнулся мимо Хельги к боковой двери. Распахнул ее стремительным пинком и был таков. Позади Йорунн открылась главная дверь, и вошла Хильдигуннюр, а следом Уннтор. – Что, во имя ледяной подмышки Хель, тут творится? – рявкнул старый вождь. Отчаянный вопль Йорунн был лишь наполовину человеческим. Сначала у нее подогнулись колени, а потом она, всхлипывая, стекла на пол. – Йорунн! – в голосе Хильдигуннюр появились нотки паники, которой Хельга раньше не слышала. Мать моментально оказалась рядом с ней, а следом торопливо присоединилась Агла. – Он – ох, я не могу… – остальные слова Йорунн растворились в потоке слез и громких рыданий. Хильдигуннюр опустилась на колени и погладила ее по волосам: – Шшш, – прошептала она, – сначала подыши, потом поговорим. Пока Йорунн тихо вздрагивала в ее руках, старая женщина огляделась и поймала взгляд Аглы: – Она избита. Что случилось? – Ну… Они дрались. Она с Руной – заикаясь, сказала Агла. – Почему? – Мы не знаем, – сказала Агла. Руна поднялась с кровати и нерешительно подошла к ним: – Это я виновата. – Да? – Голосом Хильдигуннюр можно было прорезать камень. – Да, она задала мне вопрос, а я наговорила того, что не стоило говорить. Старая женщина осмотрела жену Аслака. – Вряд ли это было что-то очень страшное, – сказала она. – Откуда ты знаешь? – спросила Агла. – Ну, – сказала Хильдигуннюр, – она же до сих пор жива, правда? И она снова повернулась к Йорунн, поглаживая ее волосы и тихо шепча. Хельга наблюдала издали. Она бы подошла помочь, но почему-то это казалось неправильным. «Они похожи, – подумала она. – Они все похожи, а я другая».
Чуть погодя Хильдигуннюр усадила Йорунн на лавку и собрала семью вокруг себя. Лицо Руны слегка порозовело, ее окружали дети и Аслак. Хельге казалось, что они стали ближе, чем раньше, что немножко ее задевало, но, с другой стороны, приносило облегчение. После вспышки в Аслаке стало меньше жестокости, которую она заметила, меньше опасности, которую она почуяла, – и это было хорошо, потому что, судя по лицу ее отца, опасности на Речном хуторе и так хватало. – Это был он. Я найду его и сверну ему шею, – сказал Уннтор. – Как цыпленку. В голосе его слышалось спокойствие, от которого мороз бежал по коже. – Ты этого не сделаешь, – сказал Бьёрн. – Мы пойдем за ним, и поймаем его, и свяжем, а потом соберем совет и все обсудим. – Он помолчал. – А потом делай с его шеей что захочешь. – Зачем ждать? – спросил Уннтор. – Помолчи и послушай сына, здоровый ты бычара, – сказала Хильдигуннюр. – В кои-то веки он что-то умное сказал. Йорунн, поговори с нами. Расскажи о нем. – Он был… добр ко мне, сперва, – начала Йорунн. – После… ну, вы знаете. Кивки за столом. «Что? Что они знают?» – Карл сказал, что плавал с ним однажды, давно. Не скажу, что он притащил его ко мне связанным, но… – она улыбнулась, вспоминая. – Это был незабываемый поход на ярмарку. Лишь сейчас Хельга заметила, что Эйнар неслышно отошел в тень, к боковой двери. «О чем бы она ни вспоминала, он этого слышать не хочет». Ее сердце болело за молодого человека, которого она считала братом. «Больше, чем вот этих, по крайней мере». – Он был просто… не похож на мальчишек с хутора, – продолжила Йорунн. – Быстроногий. И языком умел пользоваться. – Готова поспорить, – пробормотала Хильдигуннюр, и Гита подавилась возмущенным фырканьем. Йорунн не обратила на это внимания. – Но ему нужно было срочно ехать на восток – и я отправилась с ним. – И разбила матери сердце, – сказал Уннтор. – Ничего она не разбивала, – сказала Хильдигуннюр. – То, что за ней не ухаживали по традиции… – …с костью наперевес… – добавил Аслак, и Уннтор усмехнулся вопреки ярости. – …не значит, что она не должна была сделать то, что нужно, – закончила Хильдигуннюр. – Иначе это была бы не моя дочь. Она протянула руку, ласково сжала плечо Йорунн, и на мгновение они обе стали на пятнадцать лет моложе. Хельга почувствовала еще один укол в груди. – Мы приехали к нему. Его отец болел – он умер вскоре после нашего прибытия. Он оставил Сигмару ветхий дом и пустой хутор, но там была телега, пара старых лошадей и куча мехов. Мы поняли, что делать больше нечего, и отправились торговать. И были счастливы, – продолжила Йорунн. – Оказалось, я прирожденная торговка: вроде как могу довести взрослых мужиков до дрожи – уж не знаю, откуда у меня это. – Она взглянула на мать, которая сидела с совершенно невинным выражением лица. – Куда мы только не ходили – к данам, потом на Русь, там купили корабль. Потом мы его продали – и просто не останавливались. Где-то по пути мы нашли чуток красивых безделушек и отдали их Эрику, а тому понравился Сигмар, и он дал ему кое-что на продажу. – Поймав вопросительный взгляд матери, она пояснила: – Янтарь, зерно, лес. – Она помолчала. – И оружие. Мы увезли все это и вернулись с прибылью, и какое-то время все было просто замечательно. Но потом… Она посмотрела в пол и глубоко вздохнула. Дом заполнила плотная тишина. Йорунн тихо сказала: – Он изменился. – Как? – затаив дыхание, спросила Гита. – Он начал уезжать в одиночку, – сказала Йорунн. – Сперва на день, на два, а потом стал выдумывать для меня причины оставаться в Уппсале, пока он плавал. Я узнала, что некоторые из наших так называемых друзей в Свеаланде не слишком-то нас уважали… Мне было очень… одиноко. Услышав это, Хельга почувствовала себя странно. Ей было… жаль Йорунн. Той, должно быть, было так одиноко – точно так же, как сейчас ей, исключенной из внутреннего круга семьи с Речного хутора. Должно быть, поэтому она чувствовала странный зуд в горле, поэтому ее брови словно хотели завязаться узлом. Она медленно, украдкой отодвинулась назад, пока не почувствовала лицом прохладу тени. – Да уж, не рассказывай, – пророкотал Бьёрн. – Все они там подонки. – А некоторые из мужчин… – она сглотнула. – Ну, они были только счастливы подкатить ко мне, пока Сигмара не было. Я была рада, что ты меня кое-чему научила, мама, хотя выяснилось, что жены не слишком довольны, когда их мужья прихрамывают домой со стиснутыми коленями и бормочут, что споткнулись об корень. Это быстро становится… – …твоей виной, – тихо закончила Хильдигуннюр. – Я видела такое слишком часто. Агла громко шмыгнула, а Руна и Тири придвинулись поближе к матери с дочерью. «Она как будто рассказывает им их собственные истории», – подумала Хельга. Йорунн всхлипнула и сжала руку матери. – Но когда в прошлом году я получила от вас весточку, то набралась смелости. Я встала перед ним и сказала, чего хочу – что мне нужно. «А в конце страдающая жертва побеждает». Волоски на руках Хельги встали дыбом. «Она… лжет. Лжет и не краснеет!» Эта мысль настолько ее потрясла, что она едва смогла захлопнуть рот и поблагодарила богов за то, что ее было не видно. – Ты привела его сюда, – сказал Уннтор. – Да. – Где он опять встретил Карла, – добавил Бьёрн. Это было словно наблюдать за перепуганной лошадью. Она сбросила поводья, вырвалась вперед и теперь набирала скорость. «Это именно то, что сделала бы Хильдигуннюр. Что… нужно было сделать». Она попыталась вспомнить, что было между этими тремя, но слишком много всего происходило. «Позже, – подумала она. – Позже». – Карл всегда привозил из набегов добычу, – тихо сказала Агла. – Даже когда я слышала, что другим так не повезло. – Потому что он был самым быстрым и смелым, – добавила Гита, словно завершая чью-то фразу, – потому что… Она осеклась. – Маленький говнюк, – прорычал Бьёрн. – Он продал тебя. Взял деньги за то, что сделал тебя невестой Сигмара. – Но ведь приданое ты получила? – спросила Хильдигуннюр. – Карл сказал… – …что передаст его, – мрачно закончил Уннтор. – Он как раз собирался плыть на Русь. На этот раз всхлипнула Агла, склонившая голову от стыда. Родичи замолчали, погрузившись каждый в свои мысли. Хельга разглядывала их, одного за другим, пытаясь представить, что происходит у них в головах. Громадный Уннтор, обозленный на Сигмара, и Хильдигуннюр, стоявшая над Йорунн как мать-медведица. Бьёрн, погруженный в мысли о бесчестности брата. Рядом с ним его жена, не отпускающая руку мужа. Агла и Гита, прижавшиеся друг к другу в стыде и ужасе. Руна, странно тихая и робкая. Очень быстро она простила Йорунн. «Что она знает?» А рядом с ней Аслак, который так гневался на сестру, а теперь выглядел глубоко встревоженным. А в центре Йорунн, лгунья. Она была в этом уверена. Ничего не совпадало. Они с Сигмаром были неразлучны с самого приезда – а теперь? Ни с того ни с сего он оказался чудовищем? Эти фрагменты не стыковались – часть из них была ей даже неизвестна, но все равно ее не отпускало жуткое ощущение неправильности. Но как только она успокоилась настолько, чтобы как-то упорядочить для себя все увиденное, ее отец нарушил молчание: – Так почему мне нельзя отправиться за этим ублюдком? – Ростом вы похожи, но к счастью, в одном из вас есть и моя кровь, – сказала Хильдигуннюр. – Подумай. Если муж убивает брата жены?.. – Браку конец, – сказал Уннтор. – И наша сестра уйдет с приличным куском шкуры Сигмара, – сказал Аслак. – А потом, может быть, – добавил Бьёрн, – мы придумаем, как ей унаследовать и остальное, не потеряв имени. Вряд ли всякие псы вздумают ломиться к ней в дверь, если будут знать, что у нее в руках их денежки и честь в придачу. Йорунн улыбнулась любящей парочке ее защитников-великанов, и у Хельги скрутило живот. «Ты бы ударила обоих в спину, если бы знала, что это сойдет тебе с рук». – Вы оба можете пойти за ним, – твердо сказала Хильдигуннюр. – Мы и без вас справимся, да и выспимся получше. – В комнате послышались смешки. – Сюда он заявится в последнюю очередь. Хлопнула дверь, и показался Яки. – Это Сигмар. Он в полумиле отсюда, и быстро приближается. И он не один. (обратно)
Глава 13 Противостояние
Хельга не заметила, как ее мать достала нож. Он просто появился в ее руке, словно всегда там был. Бьёрн вышел за дверь, и его могучий торс озарило солнце; сразу за ним шли Уннтор и Эйнар, чуть позади – Аслак. – Возьми детей, – бросила Агле Хильдигуннюр. – Выведи их через задний двор. Спрячьтесь в лесу. – Она повернулась к Хельге: – Иди с ними: вверх по холму, потом вокруг. – А вы куда? – спросила Хельга. Собственные слова звучали странно. Они пробивались к ней будто сквозь толщу воды. – У нас гости, – сказала Хильдигуннюр. – Невежливо будет их не приветить. Давай иди. – Нет, – сказала Хельга. – Что? – Я вас не брошу. Лицо Хильдигуннюр молниеносно приблизилось к ней. Она чувствовала запах старой женщины: жара, кожа, солнечный свет. «И никакого страха». – Беги. – Ее мать отрубила слово, едва оно показалось на свет. Что-то в Хельге повернулось, выгнулось и застряло. – Нет. – Они без тебя заблудятся. Снаружи залаяли собаки, громко и злобно. – Я знаю лес, – сказала Руна. Когда Хильдигуннюр резко обернулась к ней, она продолжила, по привычке проявляя непокорность: – Она хочет быть с тобой. Позволь ей. Не дождавшись ответа, она схватила близнецов и направилась вслед за Тири. Хильдигуннюр посмотрела в спину Руне, потом на Хельгу. В ее глазах что-то блеснуло. – Хорошо. Но держись за мной. Если будет драка – кружи, старайся зайти им за спины. Ее мать уже шла к двери. Снаружи слышались выкрики. Дверь была грубой на ощупь. «Что, если я выхожу из дома в последний раз?» Ее пальцы задержались на дереве. Внутри у нее была отчетливая пустота, чего-то не хватало… «Страха». Ни видений с занесенными топорами, ни трепыхания сердца в груди, ничего. Зажмурившись от солнечного света, Хельга поняла, что действительно не боится. Может, она была гораздо ближе к Хильдигуннюр, чем думала. Она вышла наружу. Ее глаза привыкли к свету – и она дважды моргнула, не совсем поверив тому, что увидела: девять лошадей, больших и сильных. На них сидели пятеро молчаливых мужчин с Сигмаром во главе. Может, дело было в угле зрения, но Хельге невольно подумалось, что верхом он выглядит совсем иначе. Сигмар казался спокойным и расслабленным. Что-то в нем явно изменилось. У него был меч. Ножны свисали с его бока так естественно, что поначалу она их не заметила. У каждого из прибывших с ним был топор или клинок. У двоих за плечами висели еще и луки. В сравнении с ними защитники Речного хутора выглядели неожиданно… человечными. Да, Бьёрн был огромен, но одного удара лошадиного копыта хватило бы, чтобы с ним покончить. Стоявшие бок о бок Уннтор с топором и Яки с палицей, ее отец и его побратим, неожиданно показались очень старыми, а Эйнар и Аслак рядом с ними очень молодыми. – Уннтор Регинссон. Я пришел извиниться перед тобой. – Голос Сигмара был спокоен и размерен. – За что? – прорычал Уннтор. У Хельги перехватило дыхание, когда Сигмар стремительно задвигался – и спешился. – Я покинул твой дом в спешке и обошелся с моей женой не так, как должен был. Она почувствовала, как рядом с ней напряглась ее мать, когда до них донеслись голоса. Высокие голоса. Детские голоса. Из-за угла показались Агла и другие женщины, шедшие медленно, тесной кучкой. Отарой. Позади них двигались, как пастушьи собаки, трое вооружённых мужчин, тихих, но опасных. – Они нас ждали, – негодующе сказала Руна. «Рада видеть, что она приходит в себя», – подумала Хельга. – Сигмар, – голос Йорунн был тих, но услышали его все. Эффект последовал незамедлительно. Сигмар изобразил глубокое страдание. – Милая моя жена, – сказал он, – пожалуйста. – Что «пожалуйста»? – спросила Йорунн. – Пожалуйста, прости меня. Йорунн уставилась на него, и губы ее задвигались так, словно она пыталась произнести слова, которые не хотели выговариваться. Хельга посмотрела по сторонам. Казалось, ни один человек на дворе не знал, что и думать. Уннтор все еще стискивал топор, Эйнар казался растерянным. Люди Сигмара скучали, но были начеку, словно занимались таким – или чем-то подобным – бессчетное число раз. – Я не знаю, что тут творится, – твердо сказала Хильдигуннюр, – но вот что сейчас будет. Сигмар, мы приглашаем тебя и твоих людей преломить с нами хлеб и, может быть, выпить чего-нибудь холодного. Пока вы под моей крышей, у вас есть права гостей. Йорунн, ты поговоришь с мужем. Если я увижу хоть один меч, когда досчитаю до пяти, его хозяину крупно не поздоровится. Все поняли? Ее слова подействовали мгновенно. «Она превращает мужчин в мальчишек», – подумала Хельга, наблюдая, как стремительно исчезают мечи, ножи и прочие орудия убийства. – Добро пожаловать на Речной хутор! – прогремел Уннтор. Люди Сигмара спешились, отдав Эйнару и Яки девять пар поводьев. Бьёрн предложил помощь, и Гита тоже, и вскоре лошадей отвели на пастбище, а новоиспеченные гости направились в дом. Вёлунд потащился за матерью, а Браги и Сигрун немедленно засыпали прибывших лавиной вопросов. – Пойдем, – прошипела Хильдигуннюр, приведя Хельгу в чувство. – Сказала же. У нас гости.Дом был полон, за поспешно собранным столом неожиданно стало тесно. Хильдигуннюр волшебным образом извлекла откуда-то овсяные лепешки, хлеб и масло. Она выкатила бочонок пива, но настояла, что разливать его будет сама, чтобы убедиться, что оно достаточно разбавлено. Хельга таскалась за ней хвостом, пытаясь найти себе дело; ее мать вдруг стала двигаться быстрее и расторопнее, чем когда-либо прежде. Первое, что сделал Сигмар, – отошел в сторонку с Уннтором. – Скажи мне, дочь моя, – неслышно прошептала ее мать, наскоро сооружавшая обед для девятерых новых гостей, – о чем они говорят? Хельга посмотрела на Уннтора и Сигмара пристальнее. – Расслышать не получается, – презрительное фырканье Хильдигуннюр намекало, что ей нужна более подробная информация, – но по тому, как стоит Сигмар, видно, что у него какой-то неотложный разговор. – И?.. – Папа чуть подался назад и склонил голову набок. – Какой бок? – Правый. – Хорошо, – сказала Хильдигуннюр. – Почему? – спросила Хельга. – У него левое ухо лучше. Значит, он слушает. Продолжай смотреть. Наблюдай за всеми. Хельга делала все, как было сказано, и все это время ее мысли носились как угорелые: Руна была избита до крови и взяла вину на себя. Аслак вступился за нее. Йорунн солгала. Сигмар ушел, потом вернулся. Они все еще женаты? Хельга ничего не понимала. Она нацарапала руну забот на кровати Руны. Значит ли это, что она сработала? Краем глаза она заметила, что Сигмар подходит к столу. – Он садится, – шепнула она матери, и та ответила незаметнейшим из кивков, прежде чем поднести гостям кружки с разбавленным пивом и тихо присесть рядом с мужем. И снова Хельга поразилась умению матери перевоплощаться, как того требовала ситуация. Маска постоянно меняется, но что под ней? Вопрос быстро вылетел из головы. Она сама его выгнала. Уннтор в задумчивости опустил подбородок, потом оглядел свою семью и спутников Сигмара. – Мы все согласны, – сказал он, – что убийца Карла не мог прийти со стороны. Собаки бы его не признали. Немые кивки за столом. – Люди Сигмара, стоявшие лагерем в пяти милях отсюда, никого не видели. А значит, убийца в этой комнате. Сигмар любезно предложил своих верных людей в качестве стражи, чтобы никто не ушел, прежде чем мы найдем нож и убийцу. С замиранием в животе Хельга взглянула на мать, но Хильдигуннюр ничего не говорила, лишь сидела и смотрела. «Она ждет ответа». – Но почему мы должны ему верить, папа? А вот и он. Йорунн сидела прямо, пронзая взглядом вождя Речного хутора. – Эти люди подчиняются и мне. Если я прикажу им уйти, а они не подчинятся, разве не верно будет предположить, что их привели закончить его работу и убить нас всех во сне? – Ну же, сестренка, – сказал Аслак. – Не надо так тревожиться, когда бояться нечего. – Разве я не права? – Я достаточно тебя наслушалась, – сказала Хильдигуннюр, и тон ее заставил Хельгу невольно отодвинуться. – Ты, – она повернулась к Сигмару, – и ты, на улицу. Поговорите. – Когда никто из них не пошевелился, она добавила: – Сейчас же. Сигмар поднялся первым: – Пойдем, Йорунн. Пожалуйста. Не скрывая глубочайшего нежелания, Йорунн поднялась на ноги и направилась к двери, даже не взглянув на Сигмара. Муж последовал за ней, и теперь он казался уже не тем вожаком, которым выглядел совсем недавно. Почти у самой двери Йорунн развернулась и рявкнула: – Зачем я это делаю? Не обязана я никуда с тобой идти! Я тебе ничего не должна… Сигмар отшатнулся: – О чем ты? Сидевшим за столом охранникам было явно неловко. – Целый год я была для тебя просто украшением. Ты не пускал меня ни на одни торги, выдумывал причины, чтобы оставить меня дома, ничего не делал, только изворачивался и скрывался. Я знаю, что другие женщины так и живут, и они совсем не против, но у нас было по-другому. Я так не хочу. А если так и будет, значит, я не хочу тебя. Сигмар встал как вкопанный. – Что?.. – выдохнул он. – Не ври мне! – со слезами выкрикнула Йорунн. – Не ври мне! Ты должен мне все рассказывать! Ты не должен… не должен ничего скрывать! Сигмар не сдержал короткого смешка, подошел к ней и обнял: – О! Нет, любовь моя, нет, нет, нет, – он принялся шептать ей на ухо, пока она пыталась вырваться. Уннтор и Бьёрн уже почти сорвались с мест, но Хильдигуннюр сказала: – Сядьте, олухи. Все у них хорошо. И действительно, то, что начиналось как борьба, теперь превратилось в крепкие объятия, а плечи Йорунн тряслись то ли от смеха, то ли от слез. За столом к этому отнеслись по-разному. Агла и Гита одинаково разинули рты. Руна шепталась с Аслаком, который подозрительно поглядывал на парочку. Бьёрн уселся обратно на стул, на лице его было написано нечто среднее между скукой и раздражением. Хельга не сводила глаз с Сигмара и Йорунн, пытаясь прочитать по их движениям, о чем они шепчутся. Тело Йорунн ей было видно плохо, как и ее глаза, и почему-то это беспокоило Хельгу. «Я не верю этой женщине. Нисколько не верю». Наконец муж и жена разомкнули свои объятия. – Ну? – спросила Хильдигуннюр. – Я… хм… – у Йорунн был робкий вид. – Я все не так поняла. Сигмар объяснил. – И? – Мама… – прошептала она чуть слышно. – Я ношу ребенка. На этот раз шум был уже другим. Агла вскочила, подбежала к Йорунн и обняла ее, а следом неслись Браги и Сигрун, восторженно крича: – Где он? Можно с ним поиграть? Йорунн наклонилась и погладила Сигрун по голове. – И что, тебе нужен был муж, чтобы об этом узнать? – сказала Хильдигуннюр, вызвав смешки за столом. – Нет, – сказала Йорунн. – Нет… Мы узнали пару месяцев назад, и я еще не располнела, но он отправлялся в походы, чтобы раздобыть лучшее приданое для малыша. – Если родится мальчик, мы назовем его Уннтор, – объявил Сигмар. Волоски на руках Хельги встали дыбом. «Сигмар с ней заодно. Это все игра. Они оба…» Краем глаза она уловила движение, и за Эйнаром закрылась дверь. Пока вокруг нее все поднимались, спеша поздравить сияющую пару, она улучила момент и улизнула следом за ним.
Хотя близились сумерки, солнце было еще высоко, и вечерняя прохлада едва ощущалась. Она увидела, как Эйнар, ссутулившись, подходит к сараю. Ноги понесли ее сами, и она отправилась следом. От мысли остаться в доме и слушать, как Йорунн сочиняет свои истории, у нее зубы ныли. «Зачем они это делают? Может, эти двое и убили Карла?» Хельга задумалась. Она слыхала, что беременность творит странные штуки с женской головой, но убийство? Кричать, будто тебя режут, при родах – это да, по крайней мере, Хильдигуннюр об этом рассказывала, но самой зарезать человека? Спящего, не способного за себя постоять? С другой стороны, Сигмар выглядел так, будто знает, как обращаться с ножом. Может, он вскрыл вены Карлу по просьбе жены. Это было больше похоже на правду. Она расчистила в своей кладовой полочку для Сигмара. «Тесновато тут становится. Может…» Металлический лязг обрушил стены ее воображения и вернул Хельгу в реальность. «Сарай. Эйнар. Точно». Дверь распахнулась от слабого толчка, и ритмичный, но приглушенный грохот стал отчетливей. Эйнар склонился над верстаком, его правая рука безостановочно поднималась и падала. Хельга откашлялась, но ничего не изменилось. Она попробовала еще раз. На этот раз молоток ненадолго замер на верстаке, но потом рука поднялась, будто ничего не случилось. – Перестань, – сказала она тихо. – Это всего лишь я. Молоток приземлился на то, по чему он колотил, и остался там. – Я знаю, – сказал Эйнар, не поворачиваясь к ней. – Помощь нужна? – Нет. Она увидела, как он ссутулился, словно пытаясь спрятаться в самом себе и укрыться от нее. Что она могла сказать? Что сказала бы Хильдигуннюр? – Не думаю, что ты такую уж большую добычу упускаешь. На мгновение она словно увидела, как слова покидают ее рот, будто кто-то выкашливает свои внутренности. «Что это было, глупая ты девчонка? Любовь твоей жизни – лживая шлюха? Ни хрена это не поможет!» – Ты это о чем? – Эйнар не расслабил ни единой мышцы. И не отпустил молоток. – Она… Я… «Хоть что-нибудь». – Она так набросилась на Руну… – промямлила Хельга. – Она не… мне не кажется, что она такая уж хорошая. Эйнар фыркнул и повел плечами. – Да ты с хутора не вылезала с тех пор как приехала, а это было целую вечность назад. Откуда тебе знать? Его слова жалили: в нем говорила язвительность, он хотел ее ранить. – О чем ты? – спросила Хельга. «Дверь совсем рядом, – подумала она. – Если нужно будет, я смогу…» – Откуда тебе знать? Твой мир – Уннтор да Хильдигуннюр. Ты думаешь, все люди, как они, но это не так. Они жесткие, оба, жесткие как гвозди. Они сделают что угодно, чтобы сохранить свое место в мире. Йорунн лучше их, и не смей говорить о ней плохо. Эйнар повернулся, и Хельга чуть не задохнулась. Его лицо словно исказилось – остался лишь слабый намек на того дружелюбного юношу с открытым лицом, которого, как ей казалось, она знает, а заменило его нечто иное, злое – нечто, державшее молоток как оружие. Некто, способный сделать что угодно с кем угодно. Осознание этого окатило ее ледяной водой. «И способный сделать все ради нее». – Прости, – пробормотала она, не сводя глаз с Эйнара. – Я просто хотела как-то тебя утешить. Я пойду. Губы Эйнара дернулись, его каменное лицо немного смягчилось, и на мгновение ей удалось разглядеть за яростью лицо своего брата. – Можешь остаться, если хочешь, но мне надо работать. И я… ну… я знаю. Знаю, что ты пытаешься сделать. Но иногда слова не помогают. Надо… действовать. Он замолчал и посмотрел на нее. «Он подбирает слова, – подумала она, – но не находит». Ничего не сказав, Эйнар отвернулся, поднял молоток и с силой обрушил его на столешницу. Хельга вышла из сарая задом, не решившись отвести взгляд. Она никогда раньше не видела, чтобы он так стискивал челюсти. Целеустремленно. «Надо действовать. Неужели он?..» Она закрыла дверь, и вечерний ветерок взъерошил волосы на ее затылке. Она поежилась.
Уннтор откинулся на спинку кресла, по правую руку от него стояла Хильдигуннюр, по левую Сигмар. – Я не смогу держать их здесь вечно. Мало места, а чуть погодя не будет хватать еды. – Значит, кто уйдет первым – тот и убийца? – спросил Сигмар. – Этого мало, – сказала Хильдигуннюр. – Убийце нужно будет только дождаться, пока твои люди прикончат первого бедолагу, вскочившего на лошадь. Уннтор фыркнул: – Моя жена мудра. А еще она, похоже, умеет думать как убийца. Хильдигуннюр мило улыбнулась: – Такой уж надо быть, чтобы остаться твоей женой, любимый. – За столом послышались короткие смешки. – Но если никто не признается и мы не найдем нож… – Мы можем сделать еще кое-что, – сказал Сигмар, и Уннтор с Хильдигуннюр повернулись к нему. – Сын Бьёрна нашел амулет. Мы можем спросить богов. Уннтор фыркнул: – Они не услышат, – сказал он. – А если и услышат, то могут не сказать того, что мы хотим знать. Однако Хильдигуннюр сверкнула глазами: – Это отличная идея, – сказала она, улыбнувшись Сигмару. – Почему? – Помолчи, муженек. Дальше ты скажешь, что нужно просто выбить признание, а если это случится, у тебя будет полный дом убийц. Нет, Сигмар прав. Боги знают. – Значит, решено, – сказал Сигмар. Уннтор кивнул, недовольно скривив губы: – Решено.
«Убил ли Сигмар человека, который его оскорбил? Или Гита потеряла терпение? Или безответная любовь Эйнара свела его с ума?» У Хельги кружилась голова; любой из них годился на роль убийцы. «Руна? Она ведет себя странно и беспокойно. Йорунн? Она солгала, но зачем?» В голове проносились лица родичей, оскаленные и плюющиеся, с тьмой в сердце и смертью в глазах. Она не замечала фигуру в тени на углу сарая до тех пор, пока чуть не наступила на вытянутую ногу. – Ой! – Прости, – промямлил Вёлунд, подбирая под себя свои нескладные ноги. – Я не хотел… – Нет-нет, – поспешно сказала Хельга. – Ты ничего плохого не сделал, Вёлунд, правда-правда. Но почему ты здесь? – Не знаю. «Что мне сказать? Что?..» Хельга сосредоточилась, обуздала несущиеся вскачь мысли и решила делать то, что первым придет в голову. Она села рядом с мальчиком и взглянула вверх. Это было изумительно: просто сидеть и смотреть на небо. Из дома до них доносились неразборчивые голоса. Далеко в поле тоскливо замычала корова. – Свет меняется, – сказала она. – Да. – Пауза. – Он всегда меняется, знаешь ли, – он издал негромкий звук, как человек, пытающийся безуспешно прочистить горло. Хельга взглянула на него и уловила движение. У него дергался уголок рта. – Ты меня… дразнишь? – спросила она с недоумением. Звук вырвался из Вёлунда, точно ручеек, растопивший лед, и он хрюкнул, а потом принялся хохотать и фыркать. – Да! – выдавил он наконец и спрятал лицо в ручищах-лопатах, сотрясаясь от плохо скрываемого восторга. У Хельги защемило в груди – приятное, теплое чувство. Она словно прикоснулась к той любви, которая исходила от мальчика. – Ну тогда мне придется тебя… защекотать! – она протянула руку к его мягкому животу… …но ее ударили так, что ей показалось, будто в руке переломались все кости. Вёлунд вскочил, прижимая левую руку к виску под нелепым углом, раскрыв рот в неслышном крике. «Что я наделала?» – Вёлунд, прости… Я не хотела тебя напугать! – Она умоляюще встала на колени. – Пожалуйста, сядь. Пожалуйста. Я не буду щекотаться, честно! Но мальчик уже удирал от нее, мотая головой, словно жеребенок, отгоняющий тучу мошкары. Она сглотнула, пытаясь избавиться от кома в горле. Почему-то, когда ее оттолкнул Эйнар, Хельга не испытала и половину этой боли.
Дверь дома объявила о прибытии Хельги громогласным скрипом, но никто на нее даже не взглянул, потому что все глаза были устремлены на Сигмара, стоявшего во главе стола вместе с Уннтором и Хильдигуннюр. – …а когда взойдет солнце, мы все отправимся к камню и к дубу и попросим у богов совета, – закончил он. Потом добавил: – А пока мои люди будут стоять на страже. – Он указал на жилистого человека с поредевшими волосами и упрямым ртом. – Торольв будет отвечать перед Уннтором. Мужчина, которого, видимо, звали Торольвом, резко кивнул. Хельга взглянула на отца, который как-то помолодел – помолодел и оживился. Ничего не осталось от усталого старика, с которым она говорила до прибытия гостей. Например, он казался совсем не против взять людей под свое командование. – Вы слышали, – сказала Хильдигуннюр. – Завтра мы принесем жертву богам. А сейчас я хочу, чтобы вы, – она обвела рукой женщин, – помогли мне с работой. Остальные – убирайтесь из моего дома! Приказ она отдавала с улыбкой, но прозвучал он не менее веско. «Она обращается напрямую к их ногам», – подумалось Хельге, поскольку мужчины уже повскакивали и толпились у двери. Не важно, кем они были, – и вождь, и охранник знали, кого слушать. Когда мужчины освободили дом, Хильдигуннюр хлопнула в ладоши: – Так. Мы тушим мясо. Вы две – на овощи. Агла и Гита сразу же решительно направились к столу. – Кто умеет обращаться с иглой? – Я умею, – сказала Руна. – Хорошо. Йорунн – ко мне, – Хильдигуннюр молча села, дожидаясь, пока дочь усядется рядом. Многозначительный взгляд подсказал Хельге, что нужно и ее присутствие. Когда все заняли свои места, старая женщина оглядела свою команду, приступившую к работе у очага, а потом устремила на дочь взгляд, который остановил бы и медведя. – Что происходит? – Я… я не знаю, – заикаясь, сказала Йорунн. – Есть ли опасность, что твой муж и его бойцы перережут нам глотки во сне? – Нет! То есть… нет, я не думаю… нет, – Йорунн уткнулась взглядом в пальцы ног, потом снова посмотрела на мать. – Я считала его плохим человеком, мама, – сказала она, и ее нижняя губа задрожала. – Я думала, он нашел себе другую. Хельга знала, что взгляд предназначен не ей, но все же почувствовала, как ее внутренности леденеют при виде Хильдигуннюр. «Почему она не видит, что ее дочь лжет?» Но, видимо, королева Речного хутора этого не замечала. Старая женщина просто вздохнула и улыбнулась дочери. – Разве можем мы это знать? Они сидели и молчали, как подружки. – Кто это сделал, мама? – спросила Йорунн. Она вдруг стала казаться моложе. Улыбка исчезла с лица Хильдигуннюр. – Не знаю, – сказала она, – но мы его найдем. А когда найдем, он получит по заслугам. Кажется, это успокоило Йорунн. – Мне надо ненадолго выйти, – сказала она. – А когда я вернусь, то хочу заняться каким-то делом. – О, об этом не беспокойся, – сказала Хильдигуннюр, с улыбкой наблюдая за дочерью. «Она врет. Она тебя за дуру держит. Она связана с убийством Карла». Слова были здесь, на кончике языка, но Хельга не могла даже вытолкнуть их изо рта, не то что донести до ушей Хильдигуннюр. Вместо этого она просто наблюдала за матерью, не сводившей глаз с Йорунн, пока за той не закрылась дверь. Невозможно было понять, о чем она думает. – Она выглядит вполне здоровой, – сказала наконец Хельга. Хильдигуннюр поджала губы. – Ну да, – сказала она. – И по полю неплохо бегала. Хельга чуть не вздохнула от облегчения. «Я не одна. Мама тоже чует вранье». Ее мысли снова пришли в движение, но ответов так и не было. «Что происходит? Зачем Йорунн лжет? И почему мама ей подыгрывает?» Потом в ее голове проклюнулась другая мысль: «Чего мама хочет добиться?» В конце концов она спросила: – Что нужно сделать? – Приготовить ужин для семьи, – сказала Хильдигуннюр и добавила: – И для новых гостей. Хельга подумала о людях Сигмара. Одни сидели и тихо ждали, другие негромко общались; ни один не попытался заговорить с семьей. Ничто не привлекло ее взгляда. «Это просто люди». Никто из них не был похож на убийцу. Возможно, один из них был им. Возможно, даже все они. Голос ее матери был тих: – Не думай слишком много. – Хельга посмотрела на нее, но старая женщина была увлечена разглядыванием своего подола. – Не думай и не волнуйся. Иди займись делом. Тебе не надо искать убийцу: он сам выдаст себя, когда придет время, – и тогда мы его поймаем. «Или ее», – подумала Хельга, но ничего не сказала. А просто подошла к столу и принялась нарезать овощи.
Когда за ней закрылась дверь, Йорунн выдохнула. Солнце клонилось к земле, и в воздухе чувствовалась долгожданная прохлада. Вдалеке перебрехивались собаки. Она неторопливо зашагала прочь от дома, повторяя снова и снова, пока ее голос не успокоился: «Раз… Два…. Раз… Два…» Она снова выдохнула и оглядела знакомые старые постройки: дом, амбар, сараи, ограды. – Этот сраный хутор, – пробормотала она. Слева от нее скрипнула дверь. Поддавшись порыву, Йорунн нырнула за коровник, не теряя из виду источник шума. Вскоре она увидела за углом громадную фигуру, которая могла принадлежать только Бьёрну, хотя он выглядел совсем не таким буйным, как обычно. Прежде чем выйти во двор, он огляделся. В мгновение ока напустил на себя обычный самоуверенный вид и зашагал к дому. Йорунн тихонько обошла сарай, стараясь, чтобы Бьёрн ее не заметил, и направилась к двери только что оставленного им коровника – места, где он ночевал со своей семьей.
Хельга собирала деревянные миски. Запах поспешно приготовленного мяса еще витал в воздухе; Уннтор зарезал для нежданных гостей ягненка, а кровь оставил на завтра. Обеденный стол выглядел совсем иначе, когда на одном его конце собрались люди Сигмара. Они, все как один, вели себя примерно, но их присутствие таило невысказанную угрозу, какое-то обещание насилия. Хельга старательно игнорировала их, а они не замечали ее. Сигмар, сидевший по правую руку от Уннтора, встал и попросил тишины. – Мы благодарим наших любезных хозяев за теплый прием, – начал он. Поднялся и Уннтор, выше шведа ростом на полголовы. – А мы благодарим вас за то, что помогаете охранять наш покой, – сказал он. Сидевшие закивали и согласно забормотали: – Солнце село, но разве кто-то хочет спать? – Нет! – пискнул малыш Браги, прежде чем Руна успела его одернуть, и гости одобрительно заулыбались. – Так, может быть, пришло время для истории, – продолжил Уннтор. Тишина, как река, потекла от него, сидевшего во главе стола. – Я слышал ее в прошлом году, – сказал он. – Два года назад Эгир Ньярдарсон отплыл на запад – ничего нового, конечно, он постоянно туда ходит, и поговаривают, что дом его построен над ямой, полной золота. Но в тот раз он отправился не за легкой добычей. Видите ли, три года назад Эдгар из Уэссекса почему-то решил сопротивляться, а не платить откуп, да еще и застал врасплох множество людей Эгира. Эгир пришел за ними, но слишком поздно. Говорят, он стоял на холме и смотрел на поле, полное воинов, а Эдгар пробивал им черепа и сваливал их в яму, а потом встал и закричал что-то на своем языке про то, какой он важный, и как Белый Христос защитит английскую корону. И Эгир не атаковал. Тогда – нет. Вместо этого он уплыл назад, к фьордам. Одни говорили, что его жена умела заклинать погоду. Другие говорили, что он попросил у нее суровой зимы. Ну, просил или нет, но он ее получил. А после той зимы у Эгира был полный корабль крепких и голодных людей, и всех голоднее был его сын, Сигурд Эгирссон. И они отплыли на запад. Другой на его месте бросился бы вперед, размахивая топорами и убивая всех на своем пути. Но не Эгир. Вместо этого он послал своего сына и его друзей, и те украли корону Эдгара – умыкнули из самой его спальни, и даже волоска ни с чьей головы не уронили. – А потом что? – голос Гиты дрожал от нетерпения. Уннтор ухмыльнулся: – Эгир дождался людей короля на берегу. И бросил корону в море, прямо на их глазах. За столом послышались восклицания и смешки. – Эдгар был в ярости и обрушил ее на своих людей. Он казнил капитана стражи, а когда семья капитана возроптала, казнил и ее тоже, за «сговор с северянами». И тогда его собственный народ ворвался к нему в замок и поднял его на вилы. «Потому что, если ты хочешь убить человека безнаказанно, лучше тебе иметь корону на голове», – подумала Хельга. – За Эгира! – поднял кружку Сигмар. – За Север! – поддержал его Бьёрн. – За безголовых королей! – выкрикнула Йорунн, и раздался хохот, разрушивший почтительную тишину, воцарившуюся во время рассказа Уннтора. Теперь, когда ее не стало, по всей комнате завязывались разговоры, а люди поднимались из-за стола. Некоторые начинали что-то рассказывать, надеясь превзойти историю вождя, как минимум трое из людей Сигмара громко заявили, что знают тех, кто был на том самом корабле, а Бьёрн принялся травить сальную байку про набег на женский монастырь. Сигмар неслышно сказал что-то Уннтору и Хильдигуннюр и вышел из дома. Старики улыбнулись, но как только он скрылся, Хельга увидела, как отец подошел к Аслаку, положил руку ему на плечо и, склонившись, стал шептать что-то на ухо молодому мужчине. Аслак напрягся, а потом медленно переместился к боковой двери. Она закончила убирать посуду, а когда огляделась, Сигмар вернулся, а Аслак исчез.
От шумных разговоров слегка опьяневших мужчин завернувшейся в одеяло Хельге стало мягко и тепло. Звук был немножко похож на плеск реки, иногда быстрый, иногда громкий, но никогда не стихающий. Когда ей стало слишком жарко, она высвободила руку из-под одеяла. Вода остудила ее пальцы. Хельга моргнула и огляделась. Она чувствовала под ладонями траву, сочную, со сладким запахом. Тусклое солнце скрывалось за облачком, но шум реки никуда не делся. – Хороший денек. – Старик сидел рядом с ней.Один его глаз скрывался под обвисшими полями шляпы. Она не очень-то ожидала его тут увидеть, но почему-то не была удивлена. – Хороший. – И вот они мы, сидим на берегу. – Ага. – И что же ты нашла? Хельга подумала. Что она нашла? – Я вырезала руну. – Хорошо. Она помогла? Она подумала еще немного. Увидела ли она желания и заботы Руны? – Может быть. Старик откинулся назад, улыбаясь, как лежащий на солнышке кот. – Может быть, – повторил он. – Хорошо. Неожиданно настроение Хельги изменилось. – И почему это хорошо? Мой сводный брат убит, в этом обвинят глупенького мальчишку, а я понятия не имею, что творится! Йорунн почему-то врет, у нас по углам сидят мужики с оружием, и мы, может быть, застрянем на хуторе до тех пор, пока не поумираем с голоду или мой папа окончательно не спятит. – И что же ты будешь делать? – Я НЕ ЗНАЮ! Старик коснулся полей шляпы, словно хотел убедиться, что она никуда не делась, потом поднял взгляд и посмотрел вдаль. – Да, – пробормотал он. – Да. – Что «да»? – рявкнула Хельга, хотя ей тут же стало неловко, что она повысила голос на старика. – Ты должна задавать вопросы. – Какие вопросы? – Для начала неплохо, – ответил он с улыбочкой, которую Хельге жутко захотелось стереть с его лица тычком локтя. – Ты знаешь, что, где, когда и как. Ты спрашивала, почему и кто. – Да. – Но спрашивала ли ты о прошлом? О будущем? О вкусе крови, и запахе пота, и страстных стонах на поляне? Хельга покраснела. – Я не понимаю, – сказала она. – Поймешь. Найди то, что скрыто в имени, и поймешь. Старик положил тяжелую и теплую ладонь ей на грудь. Река начала таять в ее сознании, и Хельга осознала, что на кожаном ремешке вокруг ее шеи висит что-то новое.
Уннтор, насупившись, смотрел, как Хельга мечется во сне. Когда подошла Хильдигуннюр, он, не поднимая глаз, тихо спросил: – Она здорова? – Она разумна, – сказала Хильдигуннюр, нежно стиснув его запястье тонкой ладонью. – И, поскольку она разумна, она боится. Уннтор сжал кулак, и под ее пальцами напряглись мышцы. – Нам нужно с этим покончить. Чего бы это ни стоило. Хильдигуннюр подошла вплотную к мужу и обняла его. – Мой супруг мудр, – сказала она. – И мы это сделаем. (обратно)
Глава 14 Ночная работа
– Мама! Неприкрытая паника в этом слове моментально вырвала Хельгу из сна, и тут же распахнулась большая дверь. Холодный ветер принес снаружи запах, который ей очень не хотелось узнавать. Кровь. Где-то снаружи послышался пронзительный вопль. – МАМА! – голос Йорунн был взвинчен, натянут туго, как раздутый ветром парус. – Зажечь огонь! – резко скомандовала Хильдигуннюр, и несколько мгновений спустя в темноте рассыпались искры от огнив. Первый факел вспыхнул почти сразу. – Ты ранена? – от двери доносились лишь всхлипывания. – ОТВЕТЬ МНЕ! – Не я, – сказала Йорунн, схватившись за косяк, чтобы не упасть. – Бьёрн. Хельга выскочила из постели и бросилась к двери следом за отцовским силуэтом. И не только она; все они задвигались, спеша к выходу, спеша за убийцей. Слышны были неразборчивые выкрики, возбужденный собачий лай, во дворе изрыгал команды Сигмар. «Я не видела, как он вышел… не видела его в доме», – а они что было сил бежали к коровнику, в котором Хельга с Эйнаром соорудили кровати для Бьёрна с семьей. В лунном свете постройки казались темными и ровными. По всему хутору просили факелов, собаки надрывались. Потом она увидела его. Даже мертвый, он казался невероятно громадным. Тело лежало у самой двери в коровник. Рядом сидела казавшаяся оглушенной Тири. Пораженная Хельга на мгновение остановилась, и ее тут же оттолкнула в сторону Хильдигуннюр. – Что случилось? – Старая женщина просочилась через стену мужчин и встала на колени рядом с женой Бьёрна, смотревшей широко раскрытыми глазами. – Я не знаю, – сказала Тири. Голос ее был тих, как смерть. – Мы только пришли сюда. Вёлунд был в кровати. Бьёрн еще не закончил пить и говорить, он сказал, что придет позже… Я, должно быть, уснула, но мне послышались голоса… А потом я услышала, как он вошел. Он всегда тихий, когда думает, что я сплю… – она перешла на шепот. – Но он не лег в постель. Хильдигуннюр сжала ее руку. – Я знаю, что тебе больно, но нужно говорить, пока память еще свежа. Тебе показалось, что ты слышишь голоса… ты разобрала, что они говорили? – Нет, – сказала Тири. – Ничего. – Но людей было двое. – Да. – Ты уверена. – Да. – Двое мужчин или мужчина и женщина? Тири в смятении посмотрела на нее: – Я… не поняла. – А потом? – Я проснулась, потому что у меня в груди заболело. – В пляшущем свете факелов Хельга увидела, что лицо Тири залито слезами. – И я услышала Йорунн, она повторяла его имя снова и снова, просила его очнуться. И я встала и вышла, а Йорунн уже побежала за вами, потому что кто-то… – ее слова утонули в нахлынувших неудержимых слезах. Хильдигуннюр встала и повернулась к мужу. – Никому не двигаться, – сказала она. – Дайте Эйнару и Яки факелы, скажите, пусть ищут следы. Мы хотим точно знать, что никто не перелез через забор. – А потом? – прогремел Уннтор. Хильдигуннюр не ответила и снова опустилась на колени рядом с Бьёрном, взглянув при этом на Хельгу. «Надеюсь, я к этому не привыкну», – подумала Хельга, присоединяясь к матери. Хильдигуннюр схватила ее руку и прижала к щеке мертвеца. Тело Бьёрна было холодным на ощупь, но… вот. Капелька тепла. – Он умер недавно. Но где?.. «Где кровь?» Он лежал изогнувшись, на спине, подвернув под себя руку. – Помоги найти рану, – шепнула Хильдигуннюр, ухватила своего сына-великана за плечо и потянула к себе. На спине рубаха Бьёрна была липкой. – Вот, – сказала Хельга, и запах земли вперемешку с кровью и вонью умирающего человека поплыл над тем местом, где Бьёрн обрел последний покой, и подавил все, что она могла еще сказать. – Прямо между лопаток. Должно быть, пробил сердце, – процедила сквозь стиснутые зубы Хильдигуннюр. Хельгой завладела неожиданная мысль. – А где Вёлунд? – Во имя Хель, да откуда мне знать? – рявкнула ее мать. – Он внутри, – сказала Тири. – И никто не додумался его привести? – Хильдигуннюр прорычала что-то неразборчивое, поднялась, выхватила у одного из людей Сигмара факел и ворвалась в коровник через полуприкрытую дверь: – Вёлунд? А потом наступила тишина, на один удар сердца – и еще один – и еще. Слышалось только легкое потрескивание горящих факелов. Из темного проема, как из могилы, выливалось в мир молчание. Внутри неподвижно замер факел Хильдигуннюр. Хельге и Уннтору пришло в голову одно и то же, но она оказалась на полшага быстрее. Внутри метались по стенам тени. Хильдигуннюр стояла как вкопанная, стояла рядом с постелью Вёлунда и смотрела на мальчика. Одеяло было отброшено в сторону. Все они увидели полированную костяную рукоять ножа, торчавшего из-под подушки Вёлунда.Агла увела Тири и усадила ее к огню. Гита и Руна топтались рядом, предлагая молчаливое сочувствие и поддержку, но жена Бьёрна лишь плакала, бесконечно, тихо, лицо ее стало маской страдания – твердые скулы, мягкие губы, сомкнутые силой воли. Она не говорила. – Мальчишка? – спросил Уннтор. – Он должен был видеть, как Бьёрн режет скотину на хуторе, – сказала Йорунн. – А потом? – спросила Хильдигуннюр. – Накинулся на собственного отца? – А кто еще? Ты нашла нож в его постели. Должно быть, он прокрался наружу – не знаю уж зачем, – встретил отца и зарезал, когда тот повернулся спиной. – Думаю, всем ясно, что это сделал недоумок, – сказал Сигмар с озабоченным видом. – У него рост отца, но не разум – и я не знаю, как он может оправдаться. Но лучше нам все-таки завтра спросить богов, – добавил он. – Пусть они подтвердят наше решение. Йорунн кивнула: – Ты прав. Я… Что такое, Инги? Приземистый мужчинка, чьи волосы редели на макушке и свисали по бокам головы, подошел к ним на три шага. – Мы нашли следы. – Где? – быстро спросила Хильдигуннюр. «Папа не двигается. – Мысли захлестнули голову Хельги. – Он что-то знает». – В северо-восточном углу забора, только они ведут не сюда. Они уходят прочь. На мгновение стало тихо. Потом Йорунн сказала медленно и тихо: – А где Аслак? (обратно)
Глава 15 Суд
Хельга изучала их лица. Йорунн сдвинула брови, словно решала какую-то сложную задачку. Ее мать выглядела как пойманная молния. Сигмар не мог скрыть подозрительного выражения. – Нож был у мальчишки. Он недоумок. Это он сделал. Не Аслак, – сказал Уннтор. – Но… – начала Йорунн. – Никаких «но». Это был не Аслак. – Старик посмотрел на каждого из них по очереди, предлагая возразить. Никто не решился. – Тогда кто? – Как и прежде, дочь: кто-то из нас. И все говорит, что это был мальчишка. Он пришел в мой дом как гость. Хельга видела, какой горечью было наполнено это слово для отца. Право гостя было законом, и нарушить его было нельзя. Хильдигуннюр однажды объяснила почему. Проблема была в выживании: если хозяева не будут обеспечивать безопасность, никто не станет путешествовать, и никто не станет торговать, а без торговли выживать будет намного труднее. Об этом говорилось даже в Речах Высокого. Уннтору пришлось бы жить с таким позором: двоих его сыновей убили под его собственной крышей. И как-то очистить свое имя он мог, только найдя убийцу и свершив над ним правосудие. И теперь у него был Вёлунд, которого усадили возле одного из опорных столбов посреди дома, и поставили по бокам сторожей, чтобы он не мог удрать. Вёлунд, оставшийся без отца, который защитил бы его. Вёлунд, чей молчаливо умоляющий взгляд преследовал ее по всей комнате. Уннтор нашел убийцу, и, если все пойдет по плану Сигмара, скоро боги ответят им, подтверждая его вину. «Удобно». Она с силой зажмурилась, чтобы очистить голову. Нет. Не может быть. Это не может быть Уннтор. Она снова посмотрела на него, пытаясь разглядеть способного на хладнокровное убийство человека – и содрогнулась. О да, она его увидела: в углах челюсти и в тенях на скулах, в ширине плеч и положении локтей. Она без сомнения его видела. Но если она не могла доверять собственному отцу – приемному отцу, напомнил ее мозг, – тогда кому вообще верить? Стены дома неожиданно стали намного ближе. – Мне надо выйти, – пробормотала она чуть слышно, проходя мимо матери. Ответа Хельга ждать не стала. Она вышла наружу, и ночь приняла ее в свои объятия. Шум затих, мужчины не носились по двору в погоне за убийцей. Была лишь темнота и почти полная тишина. Иногда до нее доносились выкрики людей Сигмара, и она замечала мерцающую точку света вдалеке, но Хельга чувствовала странную уверенность, что никаких следов пришедшего извне убийцы не будет. Нет, это кто-то из них. Но кто ударил бы Бьёрна в спину? Она фыркнула, осознав, что первым подумала на Карла, но он совершенно точно был убит и похоронен. Тогда кто? Аслак? Он исчез, но она была уверена, что это как-то связано с отцом. Может, они задумали это вместе? Вряд ли. Как насчет сварливой жены? Нет, как ни странно, Руна была уже не так воинственна, как в начале этого злосчастного визита, и предпочитала возиться со своими детьми. Ее мысли вернулись к Вёлунду. Может, это все-таки он? Он рассказывал ей, что отец обращался с ним не очень хорошо, но настолько ли, чтобы убить? И зачем тогда он убил Карла? Она взглянула вверх, и на мгновение ей показалось, что она видит лицо обитателя Речного хутора в каждой небесной точке. Эта мысль ее позабавила. «Они все смотрят на меня». Хельга глубоко вздохнула и повернула к дому. Остальные мысли подождут до завтра.Когда она проснулась, люди уже сновали по дому, двери распахивались со скрипом и закрывались со стуком, и она слышала, как ее мать распекает Аглу на другом конце дома. Даже сквозь дымку сна она, кажется, могла довольно точно оценить, насколько влипла вдова Карла – пока еще не сильно, но угроза нарастала. – Хельга! Не притворяйся, корова ленивая! Я знаю, что ты проснулась. «А если бы я не проснулась раньше, так ты бы меня сейчас подняла». Она перекинула ноги через край кровати. Дыхание утреннего воздуха обожгло ее голень, и синяя кожа Карла – его волосатые ноги, бледные и белые, холодные на ощупь, – промелькнула в ее памяти. Она поежилась, но отогнала воспоминание. «Мертвее, чем есть, он уже не будет». – Давай! Нам нужна подмога. Солнце ждать не будет, а у нас еще куча работы. Ее руки и ноги казались тяжелыми, а голова пульсировала в такт сердцу. Хельга неохотно натянула рубаху и повязала передник на талии. До нее донесся запах мяса – богам требовалась жертва. «Они, сволочи, едят лучше меня». Она не могла не подумать об этом в глубине души. Уннтор, должно быть, проклинал свое семейство за то, что оно творило с его стремительно уменьшающимся стадом. Хильдигуннюр выдала Агле ложку длиной с ее предплечье и поставила помешивать кровь в огромном корыте. – Твой отец зарезал четырех ягнят. Боги расскажут нам правду – или я никогда ничего у них больше не спрошу. Принимай работу у Аглы, девочка, у нее уже руки болят. – Не надо, я в порядке, – сказала Агла, но Хельга видела, что она едва справляется. Не то чтобы это ее удивило: судя по россказням Карла об их хуторе, утруждать руки ей не приходилось. – Знаю, но девицу нужно занять работой. Оставь ее в покое – и она пойдет крутить хвостом перед людьми Сигмара. Щеки Хельги вспыхнули, но больше по привычке; настоящего возмущения в этом не было. Она заняла место на высоком стуле, приняла ложку у Аглы, едва скрывшей гримасу боли и облегчение за бледной улыбкой. Когда Хельга принялась помешивать кровь, Хильдигуннюр сказала: – Старайся, чтобы не свернулась. Отцу надо будет рисовать на лицах, и без комков она будет лучше смотреться. Хельга взглянула на багровый суп. «Сколько крови в четырех ягнятах? Больше, чем в двоих сыновьях Уннтора? Или меньше?» Значения это не имело. Кровь покинула тела и уже ни на что не годна. «Боги ничего нам не скажут». Как только эта мысль пронеслась у нее в голове… …она задохнулась от острой боли. Кожа на груди словно горела, тысяча игл впивалась в нее, выше грудей и между ними, шею стянуло раскаленной леской. – Что такое? – спросила Хильдигуннюр откуда-то издалека. И так же неожиданно боль ушла. Облегчение нахлынуло с такой силой, что она порадовалась тому, что сидит на стуле. Кожу на голове покалывало, и ей приходилось делать усилие, чтобы не опорожнить мочевой пузырь. – Н-ничего, – сказала она, собравшись с силами, чтобы сразу ответить. – Просто не выспалась. – Хм. – Мать пристально посмотрела на нее и снова принялась расчленять тушу ягненка. Хельга стиснула ложку и сосредоточилась на перемешивании, ее сердце грохотало. Перед ней закручивалась водоворотом кровь – воронка смерти. Боль эхом отдавалась в коже. «Что это было?» – Хватит пока. Выйди из дома, подыши, попей водички. Ты плохо спала, – сказала Хильдигуннюр. Хельга смогла только кивнуть, не в силах произнести ни слова. Поднявшись со стула, она порадовалась, что ноги вообще ее слушались. «Что со мной не так?»
Солнце жалило глаза, и ей пришлось поморгать, но она сразу оценила мудрость матери. Был прекрасный летний денек – сухой и теплый, укрытый небесно-синим одеялом. Люди Сигмара таскали через двор доски разного размера и скрывались за домом, наверняка унося их в поле. Она слышала, как Яки руководит ими, хладнокровно взяв на себя роль командира. Она бросила взгляд на сарай с рабочими снастями и заметила, как в него входит Эйнар. «Он, наверное, занят». Она рассеянно прошлась пальцами по ремешку на шее и погладила рунные камни. Как только кончики ее пальцев коснулись одного из них, все вокруг нее замедлилось и у Хельги закружилась голова. Мгновение – и все прошло. Два. Она посмотрела на два рунных камня, лежавших у нее на груди. Руна желаний – и руна ответов. Что-то в этом беспокоило ее, точно в глубине ее черепа копошилась крыса – под кроватью, в стенах, невидимая, но слышимая. Ей надо было задавать вопросы. «Вопросы… об именах и времени». Ей нужно было время. Она развернулась и зашагала обратно к углу дома, невозмутимо подхватила ведро и стала спускаться к берегу реки. По пути она пыталась собраться с мыслями. Вопросы. Она знала, что ей нужно задавать вопросы… вопросы о чем-то… о чем-то, что случилось в прошлом. – Но кому? Слова сами вырвались из нее. Сдерживаясь, чтобы не заозираться в поисках невольных свидетелей, она прислушалась к реакции мира. Кроме одинокого ворона, каркавшего где-то неподалеку, реакции не было. Хельга окунула руку в холодную проточную воду. Холод помог ей освежить голову. Она погрузила ведро и, наблюдая, как оно наполняется, представила, что в ее голову, будто в ведро, вливаются идеи. Когда она поднялась, у нее был план.
– Красивые. – Гита стояла вплотную к матери и разглядывала статуи богов – Фрейра, Тора и Одина, – гордо стоявших в солнечном свете, блистая темным деревом, впитывая лучи. Мужчины закончили сооружать подобие помоста. Фигуры богов превосходили ростом даже самых высоких из них, как и должно было быть. – Да, – сказала Хильдигуннюр, – но ты же знаешь, как говорят: красивые редко бывают мудрыми. Стоявшие рядом с ней Агла и Руна выдавили улыбки. Тири застыла неподалеку и была похожа на ходячий труп. «Такие разные женщины, – подумала Хельга. – Тири убита, а вот Агла… Довольно быстро она пришла в себя, не так ли?» Она бросила взгляд на Йорунн. Дочь Речного хутора была в своей стихии: расслабленная и уверенная в себе, точная копия матери. – Нечего стоять, старые вы курицы, – внезапно сказала Йорунн. – Непривычно, но моя дочь права. За дело! По приказу Хильдигуннюр женщины разошлись, чтобы снова взяться за дело. Агла обняла худой рукой плечи Тири и увела ее прочь, чуть погодя за ними увязалась Гита. Йорунн и Руна подошли к Сигмару, раздававшему указания и команды. Хельга обнаружила, что они с матерью остались одни. – А что мы будем делать? – Мы… – Хильдигуннюр остановилась и улыбнулась добродушной улыбкой. – Мы будем ждать. Вот что мы будем делать. Она повернулась и внезапно заключила Хельгу в объятия. – И хоть в тебе нет моей крови, ты все равно моя дочь, – прошептала она Хельге на ухо. – Хильдигуннюр! – прокатился по округе голос Уннтора. – …или мы не будем ждать, – сказала старая женщина, скорбно улыбнувшись. – Работа нам всегда найдется. Пойдешь со мной – может, придется держать его лапу, пока я вытаскиваю занозу. И Хильдигуннюр зашагала, не жалея сил, а Хельга заторопилась следом. «Они одно целое, – подумала она. – Она делает за него то, чего не может он, а он – за нее». От этой мысли ее наполнило странное, теплое чувство. «Хорошо, наверное, когда есть кто-то, кому ты можешь так доверять». Она вернулась в реальность как раз вовремя, чтобы не врезаться в спину матери. Они стояли перед Уннтором и Сигмаром. – Мы решили, что богов должно спрашивать на закате, – сказал Уннтор. – Темные слова для темных дел. Разумно, – сказала Хильдигуннюр. – И спрашивать будет Сигмар. «Что?» Хельга моргнула, ожидая, что кто-то поправит, и выяснится, что она ослышалась. Когда никто не заговорил, она взглянула на Хильдигуннюр, мимоходом заметив самодовольную улыбочку на лице Сигмара. Выражение на лице ее матери было так же тщательно продумано, как и ее слова. – Это тоже разумно, – сказала она медленно, но уверенно. – Он знает слова, и он наш родич, хоть и не кровный. Она тоже улыбнулась Сигмару, который благодарно кивнул. – Верно, – голос отца звучал буднично, словно это было правильное – нет, очевидное решение. «Но это же нелепо!» – хотелось закричать Хельге. Это был хутор Уннтора, идолы Уннтора, сыновья Уннтора. Из всех этих людей именно он точно имел право на ответ богов, и ее мать не могла этого не знать. Так почему она не возражала? «Ты думаешь, что Уннтор и Хильдигуннюр обычные люди, но это не так». Слова Эйнара дошли до нее одновременно со смутным ощущением, что ведется какая-то игра, правил которой она не знает. – А потом… – продолжил Уннтор, но Хильдигуннюр его прервала: – Посмотрим. Уннтор торжественно кивнул, но в глазах у него что-то блеснуло. Угроза? Гнев? Веселье? Вот искорка есть – и вот ее нет, словно никогда и не было. Его жена развернулась и зашагала к дому, жестом поманив Хельгу за собой. Хельга услышала, что разговор продолжился, но слов не разобрала. «И все же, – подумала она, – мой план остается в силе».
Аслак вернулся сразу после полудня. Они почувствовали это по тому, как дрожала земля и лаяли псы, и увидели по тому, как переглянулись и собрались за спиной вожака люди Сигмара. Хельга посмотрела на отца и заметила на его губах тень улыбки. «Так вот где был Аслак – и вот почему он не убийца Бьёрна». Она перевела взгляд на младшего из братьев, который прямо держался в седле и выглядел, как хозяин этого места. За его спиной восседали на лошадях восемь крепких хуторян с суровыми лицами. Она заметила, что у каждого из них было какое-то оружие – топор, меч, длинный нож. «Достойные противники людям Сигмара? Может, и нет, но кто-то из них умрет. Это все меняет». – Приветствую, – сказал Уннтор. – Приветствую, отец. Звучало ли в его голосе удовлетворение? Хельге представился пес, который притащил брошенную палку и бросил свой драгоценный груз к ногам хозяина. – Приветствую, брат! – Если Сигмар и был обеспокоен, то отлично это скрывал. – Я вижу, ты привел друзей? – Это наши соседи, – ответил Аслак. Он был спокойнее и увереннее, чем раньше. Больше похож на вождя. Больше похож на старшего сына. – Они пришли на поминки. Мой брат был большим человеком, и пить в его честь нужно много. – Хорошо! – сомнение было мимолетным, но Хельга его заметила и поймала себя на мысли, что наблюдать, как передергивает Сигмара, было даже приятно. – Мы начнем, когда сядет солнце. Аслак кивнул: – Так и надо. Это скверное дело, и чем быстрее мы узнаем то, что нам нужно, тем лучше. Меж всадников прокатилась волна согласия. Хельга попыталась представить, как их вытаскивают из кроватей. «Мой отец собрал урожай, – подумала она, – и может собрать еще, в пять раз больше». В этой долине любой умер бы счастливым, зная, что его дети смогут рассказать, как он принял смерть за Уннтора Регинссона с Речного хутора. – Идем! Нам есть что обсудить, – сказал Уннтор, поманив за собой новоприбывших; мужчины спешились и прошли мимо воинов Сигмара, не выказывая ни малейшей угрозы. Позади них возникли Яки и Эйнар, схватили поводья и увели лошадей. Лицо шведа по-прежнему излучало преувеличенную жизнерадостность, ни капельки не изменившись. И выглядело это, по мнению Хельги, невероятно фальшиво. Когда приехавшие скрылись, она повернулась к Хильдигуннюр: – Мы устроим поминки? Ее мать улыбнулась: – Конечно. – Она вытянула руку и крепко сжала плечо Хельги. Ее сухая рука была приятно теплой. – Запомни вот что, девочка. Мужчины правят миром. Они – вожди, они – капитаны, они – короли. И им доводится принимать важные решения. И когда это время приходит, женщина, что наполняла их глотки пивом, а уши – словами, выбирает, какие это будут решения. Понимаешь? Что-то шевельнулось глубоко внутри Хельги: зерно подозрения, почти сразу же разросшееся до настоящего страха. Чтобы ответить, ей пришлось сделать над собой усилие, вложив в ответ все сомнение и непонимание, на которое она была способна: – Ну… наверное. Хильдигуннюр улыбнулась. – Подозреваю, скоро ты станешь в этом мастерицей. Просто делай, что я тебе говорю, держи ушки на макушке и следуй за мной. – И она повернула к дому, чтобы подготовить церемониальный пир для нежданных гостей. «Или это не гости? Что задумали мама с папой? И почему я вдруг решила, что нужно играть роль ребенка?» Хельга невольно вспомнила, чему ее учил Уннтор, когда она была маленькой и бродила по лесу с луком. Охотиться проще, если добыча не знает, что ты рядом. Вновь потерявшись в своих размышлениях, она вошла в дом следом за матерью.
Мужчины вернулись чуть позже. То, что им предстояло решить, явно было решено – они выглядели иначе, словно псы, осознавшие, куда бежит стая. «Сложно сказать точно», – подумала Хельга, но чутье подсказывало ей, что Уннтор с трудом, но выцарапал преимущество у Сигмара. Если вождь и был недоволен тем, как выглядит его большой зал, то виду он не подавал. Хильдигуннюр нагрузила Эйнара работой, и он поспешно собирал еще два стола. Хельга наблюдала издали: ее друг буквально ощетинивался, когда она подходила ближе, и в конце концов она бросила попытки. Может, в сарае она сказала что-то не то? Надавила слишком сильно? Она никогда его таким не видела. Он выглядел еще несчастнее, чем раньше, – был вежлив с теми, кто к нему обращался, но не разговаривал; молчал, пока его не спрашивали. Столы, впрочем, он соорудил быстро: забивал все гвозди одним точным и сильным ударом молотка. Теперь они были готовы и уставлены почти всеми кружками и рогами, что нашлись в доме. Хильдигуннюр попросила Тири сходить за особенным маленьким бочонком, что был тщательно укрыт за обычными бочками с медом. – Так, – сказала Хильдигуннюр, помахивая мастерски сделанным ковшом, который Хельга – она была уверена – раньше никогда не видела; он появился, словно по волшебству, из какого-то укромного хранилища. – Отдай отцу, – сказала она, доставая еще один незнакомый предмет: превосходный черный резной рог, украшенный серебром. – Ему подадим первому. Хельга сделала, как ей было сказано. Кое-кого из собравшихся за столом мужчин она узнала – они прежде навещали отца, но имена вспоминались с трудом, а когда она увидела двоих или троих вместе, они тут же снова забылись. Эти люди были так похожи – плотные тела, толстые шеи, увесистые кулаки и жесткая мозолистая кожа. Возможно, начинали они работу на хуторах совсем разными, но пока работали на земле, земля обработала их самих. Уннтор и Сигмар сидели во главе стола, но в остальном никакого порядка она не заметила: норвежцы и шведы сидели вперемешку, не обращая никакого внимания на степень собственной важности. Эйнара и Яки позвали присоединиться к ним, Аслака тоже. Эйнар не хотел смотреть ей в глаза, а Аслака, казалось, не заботило ничего, кроме его семьи. «Бьёрну бы понравилось за этим столом. Готова поспорить, он бы и на своих поминках сальные шуточки отпускал». Хельга поняла, что скучает по великану, и пожалела Тири. Он был шумным и надоедливым, но с ним точно было не соскучиться. Она положила рог по правую руку от Уннтора, рядом с Сигмаром. Ее отец бросил на нее короткий взгляд и почти неуловимо кивнул – спасибо тебе – и немедленно вернулся к роли, которая была ему так привычна: сидеть в большом кресле, внимательно выслушивать людей и негромко раздавать советы. В этих местах королей не водилось, но случайному страннику, забреди он в дом сегодня вечером, было бы этого не понять. У сидевшего рядом Сигмара не сходила с лица улыбка. На первый взгляд он казался счастливым соратником вождя, но Хельга знала, что это не так: в глазах его улыбки не было. «Значит, игра еще идет – и, думаю, правила пишутся, нарушаются и переписываются по ходу дела». Она почувствовала, как сзади прошла Хильдигуннюр, и чем ближе она подходила к мужу, тем тише становились мужчины. – В этом доме вы возденете кружки к трону Всеотца, – провозгласила она. – В этом доме мы возденем кружки, – ответили мужчины, все как один. От тембра их голосов по спине сидевшей в тени Хельги побежали мурашки, ощущение было не совсем неприятным. Дойдя до конца стола, Хильдигуннюр тщательно отмерила пива в рог Уннтора. Он подождал, затем сделал жест в сторону гостей, и Агла, Йорунн и Руна, слаженно двигаясь, вышли вперед с ковшами в руках и принялись точными, аккуратными движениями наполнять кружки. Когда последний сосуд был полон, они отошли назад. Уннтор поднял рог, и спустя мгновение мужчины ответили тем же. – Пейте разумно, пейте медленно, – провозгласил Уннтор, – ведь сегодня мы говорим с богами. Следом за ним мужчины отпили ароматного пива. По тому, как они щурились или поводили плечами, Хельга поняла, что варево ее матери согревает их изнутри. – Что ж, Сигмар. Расскажи нам о Фрейре, ведь мы хотим богатого урожая. – Как луна восходит над восточным морем… Он легко вошел в скальдический ритм, рассказывая старую историю о боге плодородия, хромом крестьянине и его пышногрудой дочери. Мужчины сидели и вежливо слушали, иногда поглядывая на вождя во главе стола. На женщин никто не смотрел. Но Хельга заметила, как одна из них – Руна – тихо выскользнула через заднюю дверь. Следом вышла Агла, потом Тири и Хильдигуннюр. Когда дом покинула и Гита, Хельга заторопилась следом.
Снаружи освещали небо последние лучи солнца. Перед закатом свет особенный, подумалось Хельге. Это последняя на долгое время возможность ясно разглядеть что-либо. От холодка в тени дома у нее встали дыбом волосы на затылке, но она не обратила на это внимания и пошла следом за женщинами, которые тесной толпой направились к большому камню. Они не стали ее дожидаться, и, когда она подошла, разговор уже начался. – …но решение должно быть принято, – закончила Хильдигуннюр. Остальные женщины сдвинулись ближе к ней и смотрели на Тири, стоявшую перед ними, как могла бы, в понимании Хельги, стоять нищенка перед придворными королевы. Воцарилось молчание. Хильдигуннюр сказала: – Ты ведь это понимаешь? Чтобы не выглядеть здесь чужой, Хельга протиснулась в круг, примкнув к остальным, но не приближаясь к Агле и своей матери. Тири посмотрела на Хильдигуннюр. – Конечно, понимаю. – И? Тири и старая женщина схлестнулись взглядами. – Твой сын был убит под твоей крышей. Настал черед Хильдигуннюр проглатывать тишину. Лицо Тири, казалось, было высечено из цельного утеса. – А теперь… – мгновение повисло в воздухе между ними, – теперь ты ждешь, чтобы я… Здесь, в меркнущих лучах, было теплее, но волосы у Хельги все равно стояли дыбом. Никто не осмеливался вздохнуть. – Четыре, – наконец твердо сказала Тири. Хильдигуннюр резко выдохнула. Возможно, это даже был придушенный смех. – За каждого. Краем глаза Хельга заметила, как поднялись брови ее матери: – Четыре? Ты, должно быть… – Мы обе знаем, что мальчик не мог этого сделать, – сказала Тири. – Ты знаешь, потому что ты умна, а я – потому что я его мать. Но если ты хочешь, чтобы я отдала единственного сына, потеряв единственную любовь, то с радостью отдашь мне за каждого цену четверых мужчин. – Двоих. – В голосе Хильдигуннюр было столько же тепла, сколько в бьющихся друг о друга камнях. Тири улыбнулась: – Смешно, – сказала она. – Я думала, честь семьи с Речного хутора стоит дороже. Как думаешь, во что превратится ваша торговля, когда всплывет эта история? – Какая еще история? – рявкнула Хильдигуннюр. – Я еще не решила, – мило сказала Тири. – Если вы говорите, что боги хотят забрать жизнь моего мальчика, так тому и быть. Но я придумаю что-нибудь восхитительное, что-то такое, о чем торговки будут болтать везде, куда бы их не занесло. А когда это случится?.. – Тири посмотрела в глаза Хильдигуннюр, и Хельга вдруг прекрасно поняла, как эта женщина могла выстоять против своего мужа-великана. – Они будут просить вдвое за твои покупки и давать полцены за то, что ты продаешь. Люди станут шептаться у тебя за спиной и перестанут приходить за советом, и имя твоего мужа смешают с грязью. И это, по-твоему, стоит мешка золота? «Две кошки, одна против другой. Вот-вот покажутся когти». Глаза Хильдигуннюр сузились. Она сделала глубокий вдох, потом еще один. – Четыре за Бьёрна. Две за Вёлунда. Тири сглотнула. – Хорошо. Женщины пожали руки, и Хильдигуннюр стремительно притянула Тири к себе и крепко обняла, нашептывая что-то ей в ухо. Жена Бьёрна содрогнулась, потом, с видимым усилием, успокоилась, и они разошлись. – Если она получит столько, то и я тоже. – Высокий, тонкий голос Аглы, казалось, вот-вот сорвется. – Мама! – зашипела Гита, но Агла не остановилась. – Без Карла нам через год будет не на что жить. У нее не будет приданого, и имя твоего му… Хильдигуннюр даже не взглянула на нее. – Ты получишь за мужа тройную виру. Агла на мгновение открыла рот, потом закрыла. Гита стояла с покрасневшим лицом. «Тири только что продала сына». Осознание этого ударило Хельгу, точно камень в живот. «Продала своего… ни о чем не догадывающегося сына». – Так тому и быть. Хельга поборола желание убежать прочь, но слыша, как голос ее матери обрисовывает простой план, укрепилась в своем намерении. «Если никто не будет драться за жизнь Вёлунда… – она сжала челюсти. – Это придется сделать мне». За ее спиной скрылся за горизонтом последний краешек солнца. (обратно)
Глава 16 Закат
Уннтор аккуратно положил опустевший рог на стол. – Пора, – сказал он. Сигмар огляделся в поисках Тормунда. – Выводи людей. Мы скоро подойдем. Долговязый воин встал и подал знак остальным шведам, которые стали подниматься и поодиночке или парами двигаться к большой двери. После сигнала Уннтора хуторяне-норвежцы сделали то же самое, и очень скоро в большом доме осталось лишь двое. – Что ж, – сказал Сигмар. – Время пришло. – Да. – Это ты их убил? Сигмар замер и уставился на вождя. – Нет, – сказал он наконец. – Я все про тебя знаю. Не нужно скрывать. Это ты? Швед расслабился, и нижний уголок его рта чуть дрогнул. – Нет. Это не я. Уннтор медленно кивнул. – А ты? Брови вождя поднялись. – Нет, – сказал он. – Прекрасно! Теперь, раз мы с этим разобрались, пойдем и спросим богов, был ли это мальчишка. – Они стали отходить от стола, не поворачиваясь спиной друг к другу, пока Сигмар не улыбнулся и не показал на свою кровать: – Я буду там. Делай, что тебе нужно. Старик стоял на месте, наблюдая, как швед идет по комнате. Только когда младший из мужчин встал у своей кровати и потянулся за свертком темной ткани, он направился к углу, в котором спал.Хельга смотрела, как мужчины покидают дом. Они шли нестройной вереницей, но в ней была странная торжественность. Они выглядели серьезными и задумчивыми. «И никто из них не знает, что их маленький утиный выводок ничего не значит. Все уже решено». Она посмотрела на Тири, стоявшую прямо, насколько это было возможно, с непокорно выставленной челюстью и сжатыми губами, готовую зубами выгрызть жизнь своего сына. «Как она и должна делать». Мужчины правят, так устроен мир. Но женщины, такие как Хильдигуннюр и Йорунн… Хельга посмотрела на собравшихся женщин. «Как все они, если подумать». Ни про одну из них нельзя было сказать, что она жаждет подчиняться мужчинам. Она вспомнила все значимые, важные решения, которые при ней принимал Уннтор. Или думал, что принимает. Каждый раз, делая что-то, он делал это после долгих обсуждений с Хильдигуннюр. Так кто же тогда истинный вождь Речного хутора? Двери дома открылись. «Что ж, вот тот, кто кажется вождем». Уннтор, сын Регинна, вышел из дома, одетый в темно-синюю рубаху и черные штаны. Тяжелый черный плащ свисал с его плеч, застегнутый серебряной фибулой размером с мужскую ладонь. Серебристая полоса трижды пересекала его руку. Хельга заметила, что многие мужчины стараются не пялиться. Величие вождя – в кольцах на его руке, и, хотя Уннтор никогда не любил похваляться, это, должно быть, был самый большой браслет, какой доводилось видеть собравшимся. Стоя прямо, отец выглядел не уставшим, сгорбившимся земледельцем, а легендарным воителем из древних историй. Рядом с ним шел Сигмар, весь в черном, в простой, но хорошо сидящей, сшитой из дорогой ткани одежде. Хильдигуннюр сказала Хельге, что одеться придется как подобает случаю, а не как на весенних или зимних праздниках. «Что ж, особо радоваться нечему, это уж точно». Она заметила Эйнара и придвинулась к нему. – Старик хорошо смотрится, – шепнула она, но Эйнар лишь что-то пробурчал в ответ. – Ты сегодня как разбуженный медведь! Что случилось? – спросила она, но Эйнар промолчал. Она осторожно коснулась его руки, но он отошел в сторону, и она ощутила, что контакт исчез. «И ты тоже… Только не это». Ей неожиданно показалось, что Эйнар был последним человеком, с которым она могла поговорить, и теперь он тоже отстранялся от нее. Ее взгляд затуманили слезы. – Поговори со мной, – прошептала она. – Пожалуйста. Эйнар сглотнул, но ничего не сказал. Она готова была закричать на него, на весь мир, но вереница мужчин приблизилась к большому камню, и настало время тишины.
Когда двое в черном подошли к камню, Уннтор разжал браслет и отдал его Сигмару. Украшение было массивное, тройного плетения. Взяв его, швед встретился взглядом с огромным норвежцем, и они кивнули друг другу, а потом Уннтор отошел назад и встал в один ряд с мужчинами. Сигмар повернулся к камню, и Хельге показалось, что мир затаил дыхание. Лишь далеко на западе небо еще освещалось последними лучами солнца, но Яки зажег высокие факелы, рождавшие жар, тепло и тени. Темнота подкралась к ним с востока и уже протянула над домом свою медвежью лапу. Браслет Уннтора блеснул в свете пламени, когда швед вознес его к небу. – Клянусь честью Речного хутора! – провозгласил он. Он медленно опускал браслет; серебро искрилось в свете факелов, танцующая змейка в руке Сигмара неумолимо приближалась к цели. Мерцала черная поверхность чаши – омут тьмы глубже и страшнее ночного неба. «Врата бездны». В воображении Хельги сталкивались образы: когти разбивают ровную черноту, жилистые лапы поднимаются, норовя прорваться в их мир, челюсти распахиваются в неслышном вопле, что-то прорастает… Видения разлетелись на осколки, как только браслет коснулся темноты. В свете, отразившемся от медленно тонувшего серебра, были видны вспышки красного, круги, расходившиеся от нанесенной погружением раны. Сигмар действовал уверенно. Браслет уходил все глубже – вот он скрылся наполовину, вот на две трети, – и пальцы шведа неумолимо приближались к наполнявшей чашу крови. Хельга не удержалась и поморщилась, когда рука Сигмара, сжимавшая конец тройной спирали, погрузилась в кровь; она выдохнула, лишь когда погружение прекратилось. – Клянусь Мидгардом! – прогремел голос Сигмара. – МИДГАРД! – разорвали надвигавшуюся ночь голоса мужчин. – Я прошу совета у богов Асгарда! Шепот листьев над головами предупредил их за мгновение до того, как из ниоткуда налетел ветер, трепавший одежду и ерошивший волосы, – и снова исчез. Все, кого видела Хельга, смотрели во все глаза и обменивались взглядами. Боги слышат. Сигмар глубоко вдохнул и крикнул в небеса так громко, как только мог: – Скажи нам, Один! Видел ли ты, как Вёлунд, сын Бьёрна, убил украденным ножом своего отца и брата своего отца? Тишина была абсолютной. Один вдох… Два вдоха… Если бы кто-то издал хоть звук, они бы не услышали… …звук капли, упавшей на мокрую поверхность. – С-смотрите! – выкрикнула Хильдигуннюр. – Один! Все глаза устремились к резному идолу Всеотца. На дереве появилась темная полоса, бравшая начало из единственного неприкрытого глаза. – Это кровь! – Он видел! – Это был голос Йорунн. – Боги ответили! – проревел Сигмар. – Асгард ответил! Рядом с Хильдигуннюр расплакалась Тири, и Руна с Аглой тут же повернулись к ней, обнимая безутешную женщину. – Мальчик мой! – прорыдала она, но остальные слова утонули в плечах ее родственниц. «Правильно. Прячь свое лицо, женщина». Хельга была поражена жаром, пылавшим в груди. Это было всего лишь хитроумное представление, призванное обмануть… кого? Она огляделась. Это дело рук ее родителей – ее приемных родителей – тут сомнений не было. Жители долины расскажут соседям, как скверный мальчишка убил сначала дядю, а потом отца. Но Сигмар и Йорунн? Разве они этому верят? А Руна? А Аслак? Казалось, что под монотонный напев Сигмара небо темнеет быстрее, чем обычно. Когда он поблагодарил богов за помощь, вылил кровь к их ногам и помолился о плодородии и долгой жизни, с севера налетел холодный ветер, от которого Хельга поежилась. Как будто боги услышали, как он творит это – это непонятно что, – и не были впечатлены. Ей было тошно. Слишком много всего. Это место и эти люди казались ей чужими – мать и отца она такими никогда не видела, а Эйнар… Она почувствовала укол в груди, а потом на нее нахлынула волна стыда, потому что она вспомнила, зачем они здесь собрались. Вёлунд. Что случилось с Бьёрном? Кто может ей рассказать? И что она может сделать? «Спроси у него». Мысль просто появилась, приземлилась, как птичка на ветку. «Задай вопрос». Она не сдвинулась с места, почти не обратила на нее внимания. «Да. Что-то не сходится. Спроси Бьёрна. Иди и взгляни на тело. Давай – прямо сейчас». Желание узнать едва не заставило ее сорваться с места, ринуться к сараю, в котором покоился Бьёрн, готовый к завтрашнему погребению. Едва – но не заставило. Хельга все еще чувствовала рядом с собой напряженные мышцы, и глаза, смотревшие на богов пристальнее, чем они того заслуживали. Она все больше и больше уверялась в том, что Вёлунд этого не делал – а значит, убийца до сих пор был среди них, и скорее всего, не обрадовался бы тому, что она вынюхивает подробности убийств. Она чуть не прозевала, как Сигмар завершил церемонию. Летнюю ночь придавило молчанием, и лишь иногда его нарушал треск факелов. Все знали, что должно случиться утром, но торопить события никому не хотелось. – На поминках мы подумаем над этим, – сказал Уннтор. – Пойдемте, друзья. Боги сказали, а наше дело – их услышать. Он развернулся и направился к дому. И хуторяне, и шведы были только рады пойти следом. Хельга тащилась позади всех. Ее ждала работа – и каким-то образом ей нужно было улизнуть иразузнать побольше, прежде чем ночь сменится утром.
Поминки медленно, но уверенно набирали ход, мед лился рекой, и настроение поднималось. Тири ушла, чтобы провести ночь с телом Бьёрна, но остальные с радостью припали к Уннторову пойлу. Бочонок крепкого снова исчез – «Моя мама, должно быть, и правда ведьма, раз умеет такое», – но на его место встали другие. Хельга повернулась спиной к столу, соскребая в ведро остатки еды из мисок, и слова захлестнули ее. – …Король Эрик не сможет вечно уклоняться от похода на запад… – Сможет, если не хочет попасть в неприятности! Лучше оставить запад данам. В конце концов они все сгинут, как Ролло. Мужчины засмеялись. – У Ролло просто хватило ума поселиться там, где трава зеленая, бабы мягкие, а мужики – и зеленые, и мягкие! Снова смех. Мужчины болтали; Йорунн и Агла участвовали в разговоре, Гита слушала. Эйнар куда-то пропал, и Хельга поняла, что ее это устраивает. Парень выглядел как бык с чирьем на жопе с тех пор… с тех пор… «С тех пор, как Йорунн сказала, что беременна?» Дверь в кладовую ее разума со скрипом отворилась, и Хельга вошла внутрь. Кто-то убил Карла. А потом кто-то убил Бьёрна. У большинства из них нашлась бы причина прикончить старшего из братьев, но только у Карла был хороший повод убить Бьёрна. Неужели Карл как-то выбрался из могилы? Она пристыдила себя, и голос, подозрительно похожий на Хильдигуннюр, прошептал в голове: «Не будь дурой, девочка. Вспомни, что сказала Тири». Она слышала на улице не один, а два голоса. Так кто говорил с Бьёрном? Ее руки справились с работой, и Хельга осталась без дела, но в голове ее роились мысли. Она как можно тише подкралась к двери и выскользнула наружу. Ночная прохлада освежала и придавала сил, с реки дул легкий ветерок. Хельга почти ощущала на языке вкус холодной, свежей воды, представляла, как она струится по гладким камням. Были и другие запахи – ниточки теплого животного мускуса тянулись через двор от столба, о который потерлась лошадь, и из угла, помеченного псом. И еще Хельга чуяла слабый запах крови. Ее сердце подпрыгнуло – «Только не еще один, пожалуйста, нет», – но потом она вспомнила расплакавшийся в свете факела столб с лицом Одина, чьи резные черты в сгущающихся сумерках напоминали костлявого призрака. – Ты чего на улице? Голос Яки напугал ее, но в нем было столько тепла, что Хельга сразу же успокоилась. – Привет, старик. – По своему голосу она поняла, насколько напряжена, и попыталась выровнять дыхание. – Хорошая ночка. – Должно быть, он тоже это услышал. Голос Яки звучал умиротворяюще, словно он говорил с пугливым животным. – Как они там? – Я не знаю – и не уверена, что мне есть до этого дело. – Легкость, с которой правда вышла наружу, поразила Хельгу, но она не врала. Внезапно она перестала беспокоиться. «Какая разница, если кто-то нас поубивает? Все когда-нибудь умрут». Мысль одновременно будоражила, утомляла и печалила. – Они там пьют, и только что решили утром перерезать мальчишке горло. Яки подошел ближе, и Хельга внимательно посмотрела на него. «Когда это наши родители так постарели? Только в прошлом году ты был невероятно высоким». Она видела, что когда-то помощник Уннтора был так же статен, как его сын, но возраст подточил его, как вода точит камень. Он словно просел внутрь себя – потратил всю свою жизнь, но на что? На рубку дров и починку плугов. – Боги ответили. – Конечно, ответили. – Хельга едва не сплюнула. – И дали как раз тот ответ, которого все хотели: мы убьем слабейшего среди нас – единственного, кто не может за себя постоять, – горячие слезы потекли из ее глаз, – а тем временем настоящий убийца Бьёрна и Карла уйдет. Он спокойно уйдет, и все останется по-прежнему. – Я знаю, – утешительно прошептал Яки. – Я знаю. Чудные они, люди с Речного. – Он посмотрел по сторонам. – Пойдем со мной. У нас есть еще время – давай посидим и посмотрим на воду. Иногда это помогает. Хельга почувствовала мягкое, теплое прикосновение к локтю, и его тяжелая дубленая рука подтолкнула ее вперед. Она поборола желание вытереть слезы. Может быть, он не заметил. Почему-то в этот момент важнее всего для нее было, чтобы старик Яки не посчитал ее мягкотелой. – Люблю эту реку, – сказал Яки. – Почему? Это просто река. – Может быть. Но если прислушаться к ней… – он умолк, и они сосредоточились на журчании воды. – Слышала? Это смех. Вода смеется над нами, протекая мимо. – Он подвел ее к насиженному месту на берегу и устроился рядом. – Когда я был моложе, это меня злило. Я рычал: «Как ты смеешь надо мной потешаться!» – и сжимал орудие, которым работал, сильно сжимал, так, что череп мог раздавить, и трудился еще яростнее. А потом… Старик помолчал. «Я слышу, как он улыбается». – А потом что? – Поутру я просыпался, у меня все болело, а вода все так же надо мной смеялась. – У их ног раздался плеск: река соглашалась. – И я думал, что, может быть, я не так важен, как мне кажется. А если я не так важен, то, может быть, и все остальные тоже. – Так ты говоришь, что жизнь Вёлунда не важна? Совсем? – Ярость сдавила Хельге горло. – Нет-нет-нет, я вовсе не об этом, – ответил старик с теплотой в голосе. – Я говорю, что иногда приходится идти дальше, несмотря ни на что. Всегда найдется что-то, что нужно сделать. – Со стороны дома донесся приглушенный выкрик, а следом – волна хохота. – Но я расскажу тебе историю. Ты когда сюда пришла? Пять зим назад? – Одиннадцать, – тихо сказала Хельга. – Одиннадцать! Давненько, клянусь яйцами Локи, – пробормотал Яки. – Что ж. Значит, это было лет пятнадцать назад. Йорунн росла похожей на мать, так мне старики говорили. Они ее называли «кусочком лета». Она и тогда была быстроногой – приходилось, потому что каждый мальчишка из этой долины и трех соседних находил повод заявиться сюда за какой-нибудь ерундой – деревом для телеги, сеном для лошадей, едой для дома. Уннтор говорил мне, что помнил только половину долгов, что ему вернули тем летом. Уже тогда все были высокого мнения об Уннторе с Речного хутора, и любая семья была бы рада женить одного из своих на его дочери. Как Хельга ни пыталась, она не могла представить нынешних гостей в своем возрасте, а уж тем более родителей без седых волос. – Так вот, парня звали Дрейри. Он был лошадником из Дубовой горки в Скидале и красавцем к тому же: высокий, худой и лицом удался. Они встретились на ярмарке, и Йорунн быстро решила, что хочет его, а он, поскольку у него были и глаза, и мозги, захотел ее. Только боги не улыбнулись их союзу. Йорунн спросила совета у матери; та спросила Уннтора, а Уннтор… ну, он сказал «нет». – Почему? – ее чуть не трясло от жажды услышать продолжение. Яки улыбнулся, видя ее нетерпение: – Потому что за парнем не было ни земли, ни семьи, ни свершений. Было ясно, что он не может предложить Йорунн ничего лучше, чем судьбу жены хускарла, да и то если повезет, вот Уннтор и решил, что этому не бывать. О, были и слезы, и крики, и топоры летали, но старик стоял на своем: сказал, что правила устанавливает он, и нечего торговаться. И Йорунн решила взять дело в свои руки. Мальчишка явился сюда под покровом темноты с двумя лошадьми, и они сбежали посреди ночи. Уннтор, конечно, был в ярости, но еще больше гневалась Хильдигуннюр – клянусь, я думал, что она нас поубивает. Она говорила немного: она неразговорчива, когда так злится, но я старался держаться подальше. – А потом что? – Йорунн вернулась через два дня с таким видом, словно побывала в драке, – если подумать, так, наверное, и было. Она не хотела говорить о Дрейри – и все остальные тоже. Хельга нахмурилась: – Почему нет? – Его не нашли, – сказал Яки. – Ни тогда, ни потом. А ведь твои родители многих знают в этих местах. Они бы точно узнали, что где-то проезжал человек, чуть не укравший их дочь. – Это верно, – сказала Хельга. «Это и наоборот сработает: все их друзья в округе услышат, как мудро они разрешили маленькую проблему с убийцей». – Но в то время я приглядывал за лошадьми и знаю, что кто-то поехал следом за ней. Неожиданно Хельга ощутила, как по коже пробежал холод, и нарастающий жар на шее, там, где висели рунические камни. В голове мелькали осколки образов: всадник в лунном свете, охотник, тихо выслеживающий жертву, крики, лицо прекрасного юноши, сначала испуганное, потом разбитое. Она ощутила тяжесть тела, которое волочил через лес невидимый убийца. Она увидела, как приблизилась земля, когда охотник наклонился и коснулся отпечатка лапы. «Брошен на съедение». – Йорунн была в ярости – она, в конце концов, дочь своей матери, – и поклялась, что никогда не посмотрит на другого мужчину. Хильдигуннюр сказала: «Хорошо», – ждала, должно быть, что время залечит раны. Но потом пошли слухи, – продолжал Яки, – кое-кто из ухажеров Йорунн обозлился на постоянные отказы, и все больше и больше отцов видели в отсутствии свадьбы знак того, что в округе никто не годится для Речного хутора. Уннтор не обращал внимания – он никогда не мог делать того, что хотели другие. В голосе старика ей слышалась любовь. – К счастью, он хорошо женился. Хильдигуннюр почувствовала, что надвигается гроза, и отвела Карла в сторонку, и приказала ему найти девочке мужа. – И он это сделал. – Какой же сын откажет своей матери? – сказал Яки. – Конечно, сделал. Он немедленно ушел в набег, никому не сказав ни слова. Ему это еще и жены стоило. – Да? – А ты не знала? Хельга нахмурилась, но не ответила, и Яки сказал: – Он должен был жениться на Руне, но, прождав полгода, она вместо него выбрала Аслака. Хельга почувствовала, как холодный воздух медленно втекает в ее распахнутый рот. Она рассеянно протянула руку и вернула челюсть на место. «Руна была…» Эта мысль выбила из ее черепа все остальные, и у нее закружилась голова. – Я этого не знала, – выдавила она. – Все устроилось неплохо, – сказал Яки. – Хильдигуннюр потянула время, а когда пришла пора жатвы, подкупила нескольких друзей в долине и вне долины щедрыми подарками. Через несколько месяцев вернулся Карл, поговорил с родителями – и Йорунн уехала. Со шведской знатью ведь не поспоришь. – Что? – Они, конечно, не прямая родня, но Сигмар – троюродный брат королю Эрику Победоносному. – Это… – Она представила себе всех этих самодовольных хуторян, стоявших во дворе Речного с выпученными, как у выброшенной на берег рыбы, глазами, и у нее вырвался смешок. – Ты прав, с этим не поспоришь. А я, оказывается, многого не знаю о семье. – Ты удивишься сколько, – сказал Яки. – Семья с Речного хутора редко останавливается, чтобы подумать, если может идти вперед. А теперь, хоть твои родичи скорее псы, чем кошки, и скорее волки, чем псы, готова ли ты вернуться в дом? – Наверное. – Хорошо. – Старик помолчал. – Ты храбрая, Хельга с Речного хутора. У меня… у меня никогда не было дочери, – сказал он дрогнувшим голосом, – но если бы была, я хотел бы, чтобы она выросла похожей на тебя. Хельга сжала зубы с такой силой, что они чуть не треснули. Вместо ответа она обняла Яки за крепкие плечи и прижалась изо всех сил, впитывая его тепло и запах, и упрятала поддержку, которую он ей дал, в сундучок возле сердца. – Спасибо, – прошептала она, с неохотой отпустив его, и пошла обратно к дому. На полпути она оглянулась, но Яки исчез. Всегда найдется что-то, что нужно сделать.
После темноты и прохлады речного берега домашнее тепло казалось удушливым. Гости еще не были пьяны, но с момента ее ухода медовая река потекла быстрее и шире, и кто-то должен был наполнять кружки. Хельга быстро вошла в ритм, порхая между мускулистыми телами мужчин и разливая янтарную жидкость. Она слыхала про девушек, которым приходилось держать одну руку свободной, чтобы отбиваться от загребущих лап, но на Речном хуторе такого не случалось. «Мама бы им головы поотрывала». Нет, мужчины попросту не обращали на нее внимания, продолжая разговаривать между собой. – …И я слышал, что русы продвигаются на юг. – Что? Опять? – Места не хватает, говорят. – Может, Владивар просто перебил всех, кого знает, и теперь ищет нового друга, – вставил кто-то, вызвав смех, грубый и отрывистый. Она вспомнила, что слышала об этом Владиваре: свирепом вожде откуда-то с юго-востока. Мужчинам мысль о том, что у него могут быть друзья, явно показалась очень смешной. Шведы уже свободно смешивались с местными, позабыв о племенных связях. «По крайней мере так это выглядит». В последнее время все сложнее было предсказать, когда покажутся ножи. С одной стороны стола болтала с двумя друзьями Уннтора Йорунн. Хельга не слышала, о чем они говорят, но старики прислушивались к каждому слову молодой женщины, как собаки к хозяйке. Вот, мгновение – и один засмеялся громким, лающим смехом, а следом и второй. Они едва ли не ели с ее руки, но была ли хоть толика правды в том, что она им говорила? Хельга поняла, что ее беспокоит вранье Йорунн. В душе она не сомневалась, что эта женщина лжет, но зачем? Связано ли это с Карлом? Следом за этой пришли еще шесть или семь других мыслей, и Хельге пришлось зажмуриться, чтобы не вскрикнуть. «Один вопрос». Ей нужен был всего один вопрос. «Кто это сделал?» Шум голосов и звон посуды снова вмешались в ее мысли, и она поймала острый взгляд Хильдигуннюр. Та стояла рядом с Сигмаром, увлеченным беседой с грузным седеющим человеком, похожим на Уннтора без примеси тролльской крови. Хельга знала этот взгляд: за работу, девочка! И она принялась за работу: взяла со стола ковш с медом и направилась к Хильдигуннюр и Сигмару, пройдя мимо маленького кружка Йорунн. – …И я едва успела убрать яйца, прежде чем он сел. А король и не знал! – Ураган хохота. – Можете себе представить? Хельга прошла мимо, а Йорунн продолжала чесать языком. Истинная дочь Хильдигуннюр – проверенная история лилась весело, а пока мужчины развлекались, Йорунн оценивала их, делала выводы, делила на группы: надежные и ненадежные, – нет – мягкие или жесткие. «Так семья с Речного видит мир, правда ведь? Ты мягок – или ты жёсток». Ее мать определенно была из последних. Хельга уже видела, как она в это играла, не давая никому вставить слова, и одновременно взвешивая варианты и решая, кого предпочесть. Власть. Все дело было во власти. – О чем задумалась, дорогая дочь? – сказала Хильдигуннюр, когда Хельга подошла ближе. Ее дыхание пахло сладким медом. Хельга улыбнулась. Улыбка казалась ей слабой, слабой и фальшивой. – Много людей, – пробормотала она. Мать улыбнулась в ответ, и Хельга почувствовала знакомую худую, но теплую руку на своем предплечье. – Когда-нибудь у тебя будет свое хозяйство. – Не закралась ли в ее речь чуть заметная невнятность? – Муж, который подарит тебе детей, и дети, которые не подарят ничего, кроме неприятностей. – Старая женщина помолчала. «О чем она думает?» Казалось, она хотела добавить что-то еще, но решила этого не делать. – И ты сможешь сделать все это, – она обвела рукой зал, в котором стояли и разговаривали гости, болтая и пускаясь в дружелюбные споры с незнакомцами, – без всякого труда. Стоявший рядом Сигмар на мгновение прекратил размахивать руками, что-то доказывая, и Хельга быстрым движением наполнила его кружку, постаравшись не пролить ни капли. Она старалась не хмуриться. Она знала, что ее ждет – муж, дом и дети – но… это? «Я должна покинуть Речной». Мысль потрясла ее настолько, что улыбка едва не сползла с ее лица, и она добавила лишь жалкое: «Да». «Нет. Никогда. Как долго я знала?» Все еще улыбаясь, она отошла от Сигмара и здоровяка-хуторянина, которые не обратили на нее никакого внимания. «Хорошо, наверное, жить в мире, где кружки наполняются сами собой». Но ни о чем таком она больше думать не могла, в голове засела новая мысль и бесновалась там, как медведь в клетке. «Я должна покинуть Речной». Она наконец поняла. Это место было проклято. Все, кто рос в этом уголке мира, были обречены на жизнь, полную насилия. Это не внешний мир испортил их – они были испорчены с самого начала. Ей нужно было уйти и увидеть другие места, сбежать из тени этого дома. Желание бросить все прямо сейчас манило ее, как медово-солнечный сон. «Если я уйду сейчас, то никогда его не забуду. Я не позволю им убить невинного мальчика». Память о глазах Вёлунда остудила ее голову, как ледяная вода. В Речном хуторе что-то прогнило, но что? И кто? (обратно)
Глава 17 Охотница
Запах меда, дыхания и пота душил Хельгу. «Прочь. Сейчас же». Она поймала взгляд матери и указала сначала на бочку для воды, потом на ковш для меда, потом на дверь. В ответ Хильдигуннюр пожала плечами. Дверь манила, и Хельга выскользнула быстро, как только могла, едва не припустив бегом. Воздух снаружи был как холодная вода в жаркий день. Она пила его, чувствуя, как с каждым глотком проясняются мысли. «Кто это сделал?» Вопрос не отпускал ее, кусал за пятки, жужжал в голове. Она снова подошла к реке и начала составлять в голове список. – Нет, – резко сказала она. – Это не годится. Никаких списков. Вместо этого она попыталась вспомнить. Карл, лежащий на своей кровати, серовато-синий на вид, холодный на ощупь. Раны, ставшие смертельными, – две тонкие линии по обе стороны паха. Бьёрн, мертвый, лежащий наполовину на спине, наполовину на боку. Зарезан сзади мощным ударом. Рана, от которой он умер, была… Хельга зажмурилась и попыталась вспомнить. «Ну же!» Она представила рубаху Бьёрна, его бугрящиеся мышцы, липкое пятно на спине, там, где вошел нож, – между лопаток, скорее всего дойдя до сердца с первого раза. Убийца был или умел, или везуч, и ударил с огромной силой или яростью. Но почему она не помнила рану? Она восстановила в голове картинку: вот Хильдигуннюр смотрит на тело, потом входит в коровник, а потом они находят нож. «Мы не видели рану». Непонятно почему, но это ее ужасно раздражало. Но прежде чем она подумала, что может с этим сделать, ноги приняли решение за нее.Сарай, в который положили тело Бьёрна до восхода солнца, стоял в углу двора, похожий на приземистый булыжник, оброненный великаном. Это было убогое последнее пристанище, но после ответа богов оно оказалось единственным подходящим местом. Уннтор не хотел, чтобы на похоронах были чужие. Мужчины долго говорили об этом, обсуждали достоинства разных построек – и не решили бы ничего и за полдня, если бы Хильдигуннюр не прокралась в поле зрения Уннтора, не поймала его взгляд и не указала на старый сарай. Эйнар и Яки с легкостью освободили место, чтобы положить Бьёрна, но шестерым мужчинам оказалось куда труднее поднять его и отнести на место упокоения. Хельга положила руку на задвижку. – Кто там? На мгновение ее сердце остановилось, и холодный страх сжал горло. «Возьми себя в руки!» Узнав голос, она молча прокляла доброту своей матери. Из сострадания Хильдигуннюр попросила их расчистить место, чтобы Тири могла посидеть рядом с мертвым мужем. – Кто там? – Нарастающие нотки страха. – Это я, – сказала двери Хельга, мягко, насколько могла. – Хельга. Молчание. Потом: – О. Дверь открылась, и в темноте мелькнула капля неяркого света. Тири зажгла внутри свечу. – Проходи. «Спокойно». Вместе со светом появился и слабый запах. Поначалу его сложно было уловить, но он был. «Спокойно!» Бойня… Старая кровь… Смерть. «ГОВОРИ, ДУРИЩА!» – Спасибо, – сказала Хельга все так же негромко. Казалось, что здоровяк просто уснул на носилках, и она вдруг испугалась, что разбудит его и он снова начнет шуметь. «Не дури», – проворчал голос в голове. Она втиснулась в узкое пространство, подыскивая слова и взвешивая варианты. Тири протянула руку мимо ее бедра и захлопнула дверь. К ощущениям добавилось тепло ее тела – не неприятное, но слишком близкое. «Все здесь слишком близко». Сарай и так-то был небольшим, а тело Бьёрна вытянулось во всю его длину. По другую сторону от него были кое-как свалены строительные материалы, окружавшие сломанную телегу и гору мешков, каждый размером с ребенка. «Шерсть?» Понять было трудно – да и не нужно, сказала она себе. Квадрат, который Яки с Эйнаром расчистили для Тири, был не больше половины кровати, но ей дали скамейку для ног, чтобы сидеть, и она нашла место на досках, куда поставить свечу. «Это логово: логово мертвого зверя. Берлога, куда заполз умирать медведь…. Быстро. Скажи что-нибудь». – Ну, – начала она, проклиная себя за слабость голоса – что бы сделала Хильдигуннюр? «Разговори ее». – Как… ты? Свет был тусклый, но не настолько, чтобы скрыть вспышку презрения на лице Тири. Хельга заметила, как она поборола его, обуздала и сменила добротой. – Я… выживаю. – Иногда это все, что нам остается, – она попыталась закончить фразу паузой, как делала ее мать, – оставить дверь открытой, чтобы Тири начала говорить, но ничего не вышло. «Придется постараться». – Ты говорила с Йорунн? – Нет. Ответ прозвучал резко. Если Хельга пыталась приоткрыть дверь, то это была попытка снова ее захлопнуть. Она почувствовала внезапный прилив восхитительной, воинственной гордыни. «Ты что, не знаешь, кто я? Не знаешь, откуда я? Я с Речного хутора, женщина. Ты от меня так просто не отделаешься». – Тяжело ей, наверное, было найти брата в таком виде, – вынужденно сказала Тири, но ответа не последовало. «Время забросить сеть». – Они рады были увидеться. Он любил Йорунн. Голос у нее был хриплый. Хельга коснулась руки Тири. Она ощутила дрожь, но жена Бьёрна не отодвинулась. – Он, кажется, многих любил. – Ха. Многих, да. – Но не Карла. – О, я не знаю, – сказала Тири. – Думаю, он любил его больше, чем показывал. Карл был ублюдком, но с ним всегда все было понятно. Они через многое прошли вместе, и я думаю, что Бьёрн бы… – она осеклась, сглотнула и закончила: – Я думаю, что Бьёрн бы дрался за брата, что бы ни случилось. – Конечно. – «Конечно, нет». – Та еще парочка, наверное, была в молодости. – Та еще, да, – сказала Тири голосом, потеплевшим от воспоминаний. Хельга посмотрела вниз, отчасти чтобы скрыть улыбку. «Пожалуй в сеть, рыбешка». – Готова поспорить, тебе есть что рассказать. – О, есть. Но ты, наверное, все уже слышала. – Я? Нет. Ты же знаешь Уннтора с Хильдигуннюр, они всегда смотрят вперед, хотят дотянуть до следующего года, следующей жатвы, следующего ягнения. Они не любят травить старые байки. – Так ты ничего не слышала о сводных братьях в молодости? – Почти ничего, – сказала Хельга. «Так вот что значит охотиться. Теперь осторожнее». – Хотя недавно мне рассказали одну историю. – Какую? – Про Йорунн, сбежавшую с красивым конюхом. – Она почувствовала, как напряглась женщина напротив, и подпустила легкомыслия в голос: – Она, наверное, была моего возраста? Упряма и готова отправиться во внешний мир? – Скверная была история, – сказала Тири. – Я видела того парня, он действительно был красавцем. Неудивительно, что она на него набросилась. Но у него были жестокие глаза. Он бросил бы ее брюхатой в какой-нибудь рыбацкой деревушке – говорят, он так делал уже дважды, поэтому и пришел в долины. – А Бьёрн и Карл за ним поехали? – Нет, – твердо сказала Тири. «Тогда кто это сделал?» Вопрос вертелся в голове Хельги, но она пока его отложила. – Так что, никто не знает, что случилось? – Нет, – сказала Тири, – но Аслак пропал вскоре после Йорунн, а вернулись они вместе. Мальчишка, наверное, сбежал куда-нибудь к морю. На мгновение Хельге показалось, что с нее сейчас слезет кожа. Лицо Аслака, отпечатавшееся на ее сетчатке, таращилось на нее в старом амбаре, он ухмылялся, словно мерзкий крысолов. «Конечно, сбежал». Тот мальчишка был похоронен в лесу. – Надо же, – сказала она, сдерживаясь, чтобы не поднять руками уголки губ. – Но Бьёрну, наверное, стоило лишь откашляться в нужный момент, чтобы напугать парня до смерти. – Я знаю, что ты думаешь, – сказала Тири, – но Бьёрн не был таким, каким казался. Если бы Карл был таким же великаном, он бы уже королем стал. – Так Бьёрн редко дрался? Тири посмотрела на неподвижное тело с глубокой любовью. – Ему и не надо было. Достаточно было на него взглянуть, чтобы захотелось очутиться от него подальше. Да я бы и не дала ему драться. – Почему? – Когда мы встретились, он был… – Она сглотнула. – Он всегда был в центре. Он притягивал людей, потому что был шумный, и смешной, и заметный. И девчонки на него бросались, просили их поднять, и наглаживали его руки. «О. Вот оно что». В темноте Хельга приподняла бровь. Слова Тири были настолько остры, что ими можно было освежевать оленя. Неожиданно мысль о том, как эта крохотная женщина помыкала великаном Бьёрном, не казалась такой уж нелепой. – Была одна – Альфхильд ее звали, – которая подкатила к нему уже после того, как он стал моим. Она даже не сомневалась, что он бросит меня и выберет ее, потому что она была богатая и красивая. «Что же сказать?» Хельга выбрала отдаленно сочувственное: «…О! И что случилось?» – Она упала на камень. – Довольная пауза. – Четыре раза. – Значит, у него хватало ума не гулять. – Хватало, да. «Или с твоим мужем тоже случилось бы что-нибудь неприятное». Хельга смотрела на собеседницу со всей пристальностью, на которую только осмелилась, но ядовитые слова немного остудили пыл Тири. Она словно стала меньше, и какое-то неудобство заставляло ее поджимать губы. «Шанс. Не упусти… не упусти!» – Тяжело, наверное, всю ночь сидеть одной, – сказала Хельга. – С тобой стало проще. – Одно дело – уединиться… – Что делала Хильдигуннюр? И как? – …а другое дело терпеть, пока не лопнешь. Тири хихикнула, и на мгновение ее глаза блеснули в огне свечи. – Ты права, дочь Речного хутора. – Я могу посидеть вместо тебя, если хочешь немножко… ну… насладиться природой. Тири заговорщически улыбнулась. – Спасибо, – сказала она и поднялась в явной спешке. «Три… Два…» Как только жена Бьёрна закрыла дверь, Хельга взялась за дело. – Так, здоровяк, – прошептала она чуть слышно, – раскрой-ка мне секрет. Тело было неприятно холодным, точно огромный шмат мяса, ждущий разделки. Она просунула руки под спину Бьёрна и толкнула. – Только не тот, что ты весишь, как бычара, – прокряхтела она. Тело чуть подалось, потом снова опустилось на носилки. – Ну же, – прошипела она и снова толкнула. На этот раз она смогла приподнять его над носилками на пол-ладони, но у нее заболели руки, и она не смогла перевернуть Бьёрна на бок. «Думай, девочка. ДУМАЙ». Оглядевшись, Хельга схватила кусок дерева толщиной с кулак. – Последняя попытка, – пробормотала она и начала толкать. Теперь она знала его вес, и он был невероятный, но все же она смогла чуть приподнять тело и затолкать деревяшку ему под лопатку. «Быстрее!» Придвинув свечу настолько близко, насколько у нее хватило смелости, – вряд ли кто-то обрадуется, если сарай сгорит, – она взглянула на спину Бьёрна. Дерьмо. Его одели в новую рубаху. Хельга стремительно сдвинулась влево и нашла завязку его штанов. Провела пальцами вверх по позвоночнику, пока не нащупала раны, не коснулась места, где разошлась под лезвием кожа. И тогда она поняла. Раны не могли быть сделаны одним и тем же ножом. Ей даже не надо было их видеть, чтобы это сказать. У этих были толстые, неровные края там, где была вырвана плоть. Раны Карла были маленькими порезами, тонкими бороздками на теле. Эти были дырами, сделанными чем-то широким и тяжелым. Значит, должен быть другой нож и… Шаги. Напрягшись, Хельга уложила массивное тело Бьёрна осторожно и тихо, насколько смогла, села и глубоко вздохнула, успокаивая колотившееся сердце, за несколько мгновений до того, как открылась дверь и вошла Тири. – Спасибо тебе огромное, – сказала она и села. – Мне это было очень нужно. – Не за что. – Хельга привела в порядок лицо и улыбку. «Вот так, не шире. Я ничего плохого не делала». Она ощутила холод тела Бьёрна на кончиках пальцев и отстраненно подумала, что бы решила Тири, узнав, что как только она вышла из сарая, ее мертвого мужа коснулась другая женщина. – Ты славная, – Тири помолчала. – В тебе есть что-то доброе. А в здешних местах это… необычно. – Ее голос чуть дрожал. – Так что иди и займись тем, что делаешь каждый день, и подожди, пока все это закончится. «Ладно». Хоть она и сделала важное новое открытие, Хельга все равно почувствовала странную обиду, что ее гонят. Она встала и пошла к выходу. Прикосновение к руке было таким легким, что она едва ощутила его. В мерцающем свете лицо взрослой женщины казалось испуганным. – Будь осторожна, – прошептала вдова. Снаружи было холоднее, чем она ожидала.
Путь от последнего пристанища Бьёрна к дому неожиданно показался ей бесконечным. «Убийц двое». Мысль все кружила и кружила в ее голове. «Нет, не обязательно, но ножей было два». И все же мысль о двух убийцах не покидала ее: один гневный и неосторожный, второй расчетливый и спокойный. «Убийц двое». – Но зачем? – спросила она у пустоты. Освобождать голову от слов было приятно. – Зачем? Зачем красть мамин нож, если у тебя у самого есть неплохой? Она остановилась и посмотрела на дом, в котором жила последние одиннадцать лет. Свет сочился из щелей, окружавших дверь, убегал в темное небо через продушины, изгнанный болтовней и взрывами хохота. Вдруг ощутив тошноту, она развернулась и зашагала к новой овчарне. «Куда угодно… куда угодно, только не туда». Но мысли не оставляли ее в покое. «Кто убийца?» Сигмар и его люди? Сигмар мог это сделать. Он мог подкрасться и перерезать вены на ногах Карла. – Подходит, – пробормотала Хельга и проскользнула в калитку, стараясь, чтобы та не скрипнула. – Подходит. Он подозрительно выглядел, он убегал, и что-то подсказывало, что он умеет обращаться с ножом. Но зачем? Если все из-за того, что Карл был немножко засранцем, значит, это мог сделать каждый. А Бьёрна тоже он убил? А как насчет Аслака? Если Руна когда-то была невестой Карла, это объясняет, почему она подралась с его сестрой. Может, Аслак убил Карла из страха или ревности? Но кто тогда убил Бьёрна? Тири? Сигмар? Люди Сигмара? Или кто-то другой? Неужели она опять перебрала всех? Кто последним говорил с Бьёрном – и почему он ничего не рассказал? Хельга кусала губу, пока боль не стала невыносимой. Слов у нее не было – только отчаянное рычание. Остановившись на полпути к вершине холма, она обернулась и посмотрела вниз. Перед ней лежал Речной хутор: дом, дворовые постройки и забор; река ловила ночное небо и отражала для нее. «Все выглядит так мирно», – подумала Хельга. И медленно, очень медленно огонь ее ярости угас, и откуда-то изнутри поднялась стальная целеустремленность. «Пора это изменить». (обратно)
Глава 18 Добыча
Гита придвинулась к матери. – Когда это кончится? – прошептала она голосом, еле слышным в общем гомоне. – Когда заснут последние двое мужчин, – ответила ее мать сквозь стиснутые в улыбке зубы. – А теперь наведи красоту. Она снова обратила внимание на умело поддерживаемый и направляемый Хильдигуннюр разговор между двумя здоровяками-хуторянами и шведом. – Что – для этих старых пердунов? И не подумаю! Гита и моргнуть не успела, как мать вцепилась в ее запястье похожей на клешню рукой и сильно потянула. Незаметным движением Агла сместилась назад, так, чтобы ее не было слышно. Почти беззвучно она прошипела: – У тебя нет выбора. Ты не будешь изображать из себя принцессу. После всего, что я для тебя сделала, не смей обращаться со мной, как со служанкой. – Она обернулась, вывернула и сжала запястье Гиты и взглянула в искаженное болью лицо девушки. – И не смей реветь – я потратила свои лучшие краски, чтобы твои глаза сегодня выглядели красиво. Твой отец умер, поняла меня? Умер. Некому больше отпугивать от тебя людей, и никто не будет взымать то, что тебе, по-твоему, должны, так что лучше учись быть женщиной прямо сейчас. И первый урок: как милое личико помогает в скучных разговорах. Ты меня поняла? Когда Гита кивнула, широко раскрыв глаза, Агла отпустила ее. – Хорошо. Иди и налей себе выпить. – Она посмотрела, как девушка растирает запястье. – Иди.Хельга смотрела, как Гита поспешно уходит, сгорбившись под тяжелым взглядом матери, и пододвинулась ближе к бочке с водой. Конечно же, девушка пошла прямо к выпивке. «Расставляем сеть». Хельга отвернулась, чтобы никто не увидел, как она натягивает на лицо добродушную, приветливую маску. Глядя на Гиту, она казалась доброй и сочувствующей. – Эй. – Девушка поначалу не заметила ее. Прекрасно. – Что-то ищешь? В повороте головы читалось, что ее услышали и узнали. Напряженные плечи и шея показывали, что она выбрала хорошую мишень. – Ничего, – пробубнила Гита в кувшин с водой. – Я тебе расскажу одну тайну. – Она придвинулась ближе, как делала ее мать, когда ей нужно было кого-то к себе расположить: только между нами. – Следующий красавец, которого я тут увижу, будет единственным, – прошептала она. Гита издала полусмешок-полувсхлип и едва заметно улыбнулась. – Спасибо. Хельга чувствовала, что девушка готова открыться ей, создавая маленький тайный круг. – Но пусть это не помешает нам найти тебе мужа, – сказала она, подпустив в голос яда. – Как насчет вот этого? Она указала взглядом на широкоплечего пузатого хуторянина, занятого беседой с Сигмаром. – Прекрасный выбор, – сказала Гита, принимая приглашение и вступая в игру. – Торфинн Мокроштанец, из клана Мокроштанцев. – Она почувствовала, как Гита подавила очередной смешок. – Найден в лесу, выращен семейством диких кабанов. Хорошо согревает зимой, отлично ищет корешки. Смех уже распирал девушку. – Перестань, – прошипела она, взглядом умоляя Хельгу делать что угодно, только не переставать. – Хотя своего корешка он не видел вот уже тридцать лет. – Острый тычок в руку. Глаза Гиты уже сверкали от восторга, и Хельга позволила себе улыбнуться. «Хотя улыбаемся мы по разным причинам». – Так что, может быть, и нет. Пусть мир сам приглядывает за своими поросятками. А как насчет него? – Напротив них правая рука Сигмара обсуждал что-то с Уннтором. Вид у них был очень серьезный. – Агнар-веточка. – Ооо, – сказала Гита, изображая интерес. – Расскажи подробнее! – Агнар-веточка известен тем, что похож на веточку, и тем, на что похожа его веточка. Она услышала, как Гита поперхнулась, и краем глаза заметила, что та сжимает губы, чтобы не взорваться хохотом. – Объясни… – выдавила девушка. Хельга подождала. Нужно было точно подгадать время. – Говорят, елда Агнара раздваивается посередине. Идеально. Гита выплюнула воду, которую собиралась выпить, обратно в кружку. – Что? – выпалила она. – Где ты вообще… – Что сделало его весьма желанным женихом, потому что женщины поняли, что могут пользоваться одной стороной, пока не станет хорошо ему, а потом другой, пока не станет хорошо им. Гита хихикнула: – Сестра, да ты чокнутая! Хельга улыбнулась: – А ты вот улыбаешься, так что ты, пожалуй, такая же чокнутая, как и я. Улыбка Гиты чуть выцвела по углам; Хельга хорошо знала это чувство: на солнышко наползла тучка. Ссора с матерью? Вполне возможно. Рыбка была в сети, оставалось только аккуратно ее вытащить. – Просто чтобы ты знала: я ни с тем, ни с другим не знакома. – Она подмигнула. – Хотя швед… Кто знает? Я слыхала, у них там интересно. Спина Гиты выпрямилась, подбородок поднялся, пусть и на полдюйма. – Раз папа мертв, мы с мамой будем ездить ко двору. – Вот это да! Ты, наверное, в восторге. – Будет приятно, я надеюсь, – искорка в глазах Гиты выдавала ложную скромность. «Дождаться не можешь, правда ведь?» – Представить не могу – тяжко, наверное, твоей маме будет унаследовать все богатство Карла. – Да, ну… она сказала… все будет хорошо, а потом мы унаследуем его долю этого хутора. «Хорошо, рыбеха. Посмотрим, каково тебе будет на сухой земле». – Ой, – сказала Хельга, взглянув на Гиту и сразу отвернувшись. – Что? – Я думала, вы знаете. – Что знаем? – Что Руна сказала Уннтору, будто они с Аслаком очень бедные и, раз Карл такой богатый, он должен отдать свою долю их семье. Хрупкое счастье Гиты рассыпалось на глазах. Все началось с гладкого лба, пошедшего морщинками, а потом ее миленький носик дернулся, словно учуяв хищника. Губы задрожали, но Хельга видела, как волевым усилием она удержала их. Вот они: резкий вдох, медленный выдох, блеклая улыбка. Потрясающее зрелище: крушение мечты. «А теперь мне надо…» Хельга не успела закончить мысль. Гита была истинной дочерью своих родителей, и ярость ее рванулась вперед, как волкодав за добычей. Она наклонилась ближе: – Расскажи мне все, что она говорила. Ощущение успеха нахлынуло с такой силой, что ей стало почти неуютно. На мгновение Хельге показалось, что все смотрят на нее, поздравляя с победой, но она отмахнулась от этой мысли. В их маленьком пузырьке девичьих секретов она приступила к первой части своего плана.
Руна взяла по два ковша в каждую руку и отвернулась от бочки с напитком. Полшага – и под ребра ей врезался локоть с такой силой, что хватило бы причинить боль, но не хватило, чтобы выбить ковши на пол. – Ой, – сказала Гита. – Мне так жаль. Руна выдохнула. – Все в порядке, – сказала она, выдавив улыбку. – Я вертелась, искала маму и просто тебя не заметила. – Я сказала, что все в порядке. Отойди в сторону. – Прости, что? – Я попросила тебя отойти в сторону и пропустить меня. Я несу выпивку на стол. – А. Так ты просишь меня отойти, чтобы тебе досталось то, что ты хочешь? – Что ты мелешь? Я несу выпивку. Гита сладенько улыбнулась: – Неси, неси. Ни одному мужику от тебя ничего другого и не захочется. Руна выпучила глаза: – Ах ты сучка костлявая, – прошипела она. – Вся в мамашу. По дому разнесся звук пощечины, а за ним – визг и грохот упавших на пол ковшей.
Из осторожности Хельга отвернулась и лишь слушала; не хватало еще, чтобы ее увидели улыбающейся, когда все в замешательстве. Как только Гита посчитала, что знает о планах Аслака и Руны наследовать хутор, она стала рваться в драку, в точности как ее покойный отец. «Не имело бы никакого значения, что это неправда», – подумала Хельга. Некоторые люди всегда готовы поверить в худшее. В следующий момент к визгам присоединились мужские голоса, и, обернувшись, Хельга увидела, как рослые фигуры подбегают к тому, что можно было описать только как груду конечностей на полу. Она чуть не расхохоталась: толпа огромных мужиков топталась вокруг, не осмеливаясь прикоснуться к двум плюющимся, шипящим женщинам на полу. Мужчины дерутся, как медведи, говорила ей мать, большие, медленные и неуклюжие. Женщины дерутся, как лесные кошки – неистовые, быстрые и смертоносные. Никто из мужчин, кажется, не спешил остановить Руну, которая сбросила Гиту на пол и влепила ей как минимум одну хорошую затрещину. Кто-то оттеснил ее в сторону, и Хельга нахмурилась: крупный, быстрый силуэт. Сигмар. Швед протолкался сквозь толпу, а в руках у него была… …бочка с водой. К счастью, она была наполовину пуста, но хватило и этого. Вода выплеснулась на двух женщин, и как только Руна заморгала и схватила ртом воздух, переводя дыхание, Сигмар врезался в нее, сбил с распластавшейся и завывающей Гиты, и она немедленно исчезла под тушей шведа. Последним, что заметила Хельга, была вцепившаяся в светлые волосы рука, а потом Сигмар прижал жену Аслака к полу. Гита кое-как поднялась на ноги, рыдая и кашляя. Она расставила ноги, выгнулась как кошка и была готова броситься на Руну, но ее схватили сзади; она пыталась вырваться, но сбоку от нее возникла Хильдигуннюр и зашептала что-то ей на ухо, быстро двигая губами. Лицо Гиты сморщилось, и она обмякла. – Выведите ее на воздух, – рявкнула Хильдигуннюр. – Агла! Жена Карла возникла сзади, как собака; она выслушала несколько весьма резких команд и вышла следом за дочерью. – Слезь с нее! – Аслак протолкнулся мимо мужчин и ударил Сигмара в плечо. Швед мгновенно вскочил и отошел на два шага назад с поднятыми руками. Аслак протянул Руне руку и поставил ее на ноги. Часто моргая, явно ошарашенная, она что-то сказала мужу, который обнял ее, а потом, не говоря ни слова, они развернулись и вышли из дома. «Вот и все». Странно было чувствовать себя сразу и охотницей, и добычей, но убийца, кем бы он ни был, теперь будет не так уверен в том, что может или не может сегодня случиться, а это было уже что-то. Все делают ошибки. Иногда их нужно немного подтолкнуть. Она не спускала глаз с цели, отрешившись от всего остального. «Пора делать следующий шаг». Она наблюдала, как все рассаживаются, точно стайка птиц, встревоженная давно улетевшим ястребом. Агла вдавила дочку в угол и не сводила с нее, мокрой и кипящей от злости, глаз. Хильдигуннюр завела новую беседу, начав с удачно подобранной и очень грубой шутки про мокреньких девочек, и теперь все пили из бочек, распевали песни и делали то же, что и всегда. Никто не обращал на нее внимания. Она засунула руку под ящики, где ее мать держала бочонок ядреного варева. «Посмотрим, мама, каково твое лучшее пиво». Тот, кто был ее целью, сидел на бочке в другом конце зала, чернее тучи. Успокоив Руну и вернувшись с улицы, он так и оставался на одном месте, сжимая кружку и глядя на все исподлобья. Она доставила себе удовольствие и немного поразглядывала его. В лице Аслака было что-то приятное, даже когда он сердился. Может, это и значило хотеть? Может, так это и начиналось? Она схватилась за эту мысль, упрятала в коробку и убрала подальше. «Потом разберусь». Она прошла между гостями с ковшом в одной руке и двумя кружками в другой, не подозревая о глазах, что следили за ней.
Аслак моргнул и поморщился от вкуса напитка. – Я о чем: разве это его дело? – Конечно, – проворковала Хельга. – Еще? – Нет. Не надо, – короткая пауза. – Еще. Она улыбнулась ему искренней улыбкой, подняла ковш со сваренным матерью адским зельем и плеснула мутной жидкости в кружку Аслака. – Пожалуйста. – Спасибо. «Не надо бы тебе меня благодарить». – Не за что. Я просто думаю, что тебе нужна поддержка. – Зачем это мне поддержка? – он уже поплыл, но все еще не утратил подозрительности. – Ну как же – мы все его видели. – Кого? – Сигмара. Неразборчивое озлобленное бормотание. – Он лапал твою жену. – Ему нужно было… – О, он сделал больше, чем нужно было. Мы все видели. Да он должен заплатить за твою честь. Еще? Аслак не ответил, просто протянул кружку. Когда она наполнилась, он выпил все залпом. – Он грязный трус, – прорычал он. – И старый к тому же. – Да. Старый. – Молодой человек скривил губы в отвращении. – И он не имеет права так обращаться с сыном Уннтора, да еще и на Речном хуторе. Это оскорбление чести твоего отца. – Аслак стиснул кружку крепче. «Хорошо. А теперь печаль». – Не знаю, правда, что ты сможешь сделать. Худощавый молодой человек вскочил. Если он ее и замечал, то не подавал виду. – Я пойду и налью нам еще, – тихо сказала Хельга на случай, если он еще слушал. Он не слушал. Когда голос Аслака перекрыл болтовню, их уже разделяло немало гостей. – Сигмар Горанссон! – один за другим голоса мужчин стихали. – Сигмар Горанссон, я объявляю тебя трусом и белобрюхим сученышем! «Это их точно заткнет». Хельга увидела, как выпучивают глаза люди Сигмара. От удивления? От смеха? От ярости? Стоявший рядом с Хильдигуннюр и Уннтором швед медленно обернулся. – Кто это сказал? – последовала умело взятая пауза, а когда Аслак хотел заговорить, он добавил: – Я думал, детишки уже легли баиньки? Мужчины расхохотались, а Хельга заметила за спиной Сигмара лицо матери. Оно выражало легкую досаду. «Ты сама бы лучше не справилась, так ведь, мама?» – Добрые слова, – сказал Аслак. – Но это все, что есть у стариков. Охи и возгласы мужчин: это вызов. – О, щеночек растявкался, – сказал Сигмар. – И он, конечно, прав. Если бы Аслак понимал, что делает, то посмотрел бы на лица собравшихся шведов. «Их все это забавляет». – Добрые слова, добрая шерсть, добрые женщины. Хельга почувствовала мимолетный укол совести. Она раззадорила Аслака, указала ему дорогу, но, может, она недооценила шведа? – Я тебя, как девку, на спину повалю, – зарычал Аслак. – Да неужели? – Тон Сигмара изменился. Он больше не говорил с комнатой – он устремил взгляд на младшего сына Хильдигуннюр. Аслак шагнул вперед, и вокруг него, как по волшебству, расчистился круг. Малейшее движение – Уннтор сместился в сторону забияк, но остановился. Легчайшее прикосновение к его плечу – лишь на миг – и Хильдигуннюр тут же отступила назад. Хельга нахмурилась. Почему ее мать позволяет Аслаку драться с Сигмаром? «Она тоже не знает, кто убийца, и создает напряжение. Мы играем в одну игру». Почему-то это совсем не обрадовало Хельгу, но у нее не было времени на раздумья. Аслак взревел и бросился на шведа, который легко увернулся и влепил молодому человеку сочный подзатыльник. – Я не упал, – сказал швед. – Пока, – рявкнул в ответ Аслак. На этот раз он подходил осторожнее, широко расставив руки. «Вряд ли ему везло в борьбе с братьями, но он учился, глядя на них», – подумала Хельга. Быстрая попытка захвата, но Сигмар снова нанес стремительный удар, на этот раз по вытянутой руке Аслака, и молодой человек отступил, сжимая запястье и морщась. «Он бил туда, где больнее всего». Хельге было так просто представить, как Сигмар склоняется над лежащим Карлом и делает надрез тонким ножом. – Я все еще не упал, – повторил Сигмар, на этот раз громче. – Заткнись, трус! – В этот раз Аслак подходил еще медленнее, но держал руки близко к телу, а не вытягивал; он готовился ударить Сигмара, с каждым шагом приближаясь на дюйм. Швед наблюдал за ним с улыбкой на лице. – Ты что, ждешь, когда я от старости на пол свалюсь? Два шага – и Аслак кинулся на него. Но вдруг отлетел назад и вверх, и не по своей воле. За грохотом его падения последовало «О-о-о» гостей; Аслак пыхтел, пытаясь перевести дух. – Может, свою девку ты так и валишь, – сказал Сигмар, вызвав смех и улюлюканье. Потом, сверкнув глазами, он наклонился к уху Аслака. И зашептал…
Хуторяне и шведы перестали орать друг на друга. Хильдигуннюр с трудом, но восстановила порядок, однако беззаботная болтовня стихла, сменившись хмурыми взглядами поверх кружек, которые недолго оставались полными. Сигмар сидел в углу, привалившись спиной к стене, хмурился и прижимал к щеке мокрую тряпку. – Маленький говнюк. – Согласна. – Хельга наполнила его кружку. – Да заберет его Хель, да объедят волки его лицо – мелкий ублюдок меня укусил. – Угу. – В любом другом месте я бы вытащил его на улицу и задал ему урок. – Угу. Сигмар уставился в спины Уннтора и Хильдигуннюр. – Я должен был знать. – Что? «Не давай ему умолкнуть. Они любят звук своего голоса». – Что не надо было этого говорить. – А что ты сказал? В глазу Сигмара снова блеснула коварная искорка. – Я сказал, что Руне больше нравилось, когда Карл ее валял. «Смейся, быстро». Она выдавила смешок, скрыв его неискренность ладонью. – Ему это не могло понравиться. – Нет, – сказал Сигмар. – Они тут все очень гордые. Даже Йорунн была не совсем на моей стороне. – А я не думаю, что ты что-то сделал не так. – «Легче, легче». – Он оскорбил тебя, а ты оскорбил его. Уннтор гордится своим именем, а ты чем хуже? Все справедливо. – Хельга нахмурилась, как будто над чем-то серьезно задумалась. – Конечно. – Мужчина должен стоять на своем. По лицу Сигмара скользнула тень. – Да, – сказал он, глянув поверх ее плеча. «На Йорунн, конечно. Ступай в сеть, большая рыба». – И мужчина должен получать то, что принадлежит ему по праву. – Ага, хотелось бы верить. – Он все еще смотрел. «Он должен подумать, что я принимаю решение». – Это неправильно. – Она помолчала. – Папа скрывает от всех свое золото, но оно на самом деле есть. На случай убытков. Это привлекло его внимание. Сигмар впервые взглянул на нее, и у Хельги засосало под ложечкой. В нем было что-то холодное, что-то упрямое и непоколебимое. Неожиданно она порадовалась, что швед вел себя лучше, чем мог бы. – Так она была права. Докажи мне, что это правда, и получишь награду. – Докажу, – сказала она. Улыбка на ее губах была лишь наполовину вымученной, и она с радостью воспользовалась поводом встать и уйти, совершенно уверенная, что если оглянется, то снова поймает его взгляд. «Как раз хватит времени убедить его, что я знаю, где оно, а потом…» Звуки и запахи дома действовали на нее угнетающе, но она не обращала на них внимания. От холодного охотничьего возбуждения ее руки покалывало.
Выйдя наружу, Хельга остановилась во дворе и набрала в грудь воздуха. Выдохнув, она взглянула вверх, на белые точки в небе. После царившего в доме шума ночные звуки были словно легчайший шепот и смешивались со стуком крови у нее в ушах. – Шшш, – прошептала она своей руке, покоившейся чуть выше сердца. – Шшшшш. Всего лишь пару мгновений. Где же ей отыскать доказательства существования зарытого клада? Ее план, поняла она, был плохо продуман. «Вынудить кого-то сделать… что-то». Она услышала, как в доме затянули песню, которая вдруг стала громче, а потом снова стихла. Как будто кто-то открыл дверь… …сильная, грубая рука схватила ее чуть выше локтя и резко дернула. Вторая, уцепившись за шею, потащила Хельгу вперед. У нее перехватило дыхание, она споткнулась и в панике попыталась быстрее перебирать ногами, чтобы не упасть лицом в грязь. Только через несколько секунд она поняла, что это был за таинственный человек. – Эй! Отпусти меня! – Заткнись! – рявкнул Эйнар. Его хриплый голос звучал как-то по-другому, но когда ее то ли затаскивали, то ли заносили за сарай, понять, в чем дело, было трудно. Оказавшись за углом, он развернул ее лицом к себе. Луна осветила его, блеснули заплаканные щеки. – Это я, Хельга. – Теперь она услышала – в горле Эйнара стоял ком. – Это был я. Я ударил Бьёрна в спину. Я убил его… я убил его, как трус. Она взглянула в глаза парня, с которым вместе выросла, пытаясь прочитать в них правду. «Нет, это не ты. Ты сильный, как бык, но ты ничего не оставил бы на волю случая». Ей пришлось переступить с ноги на ногу, чтобы не упасть. – Успокойся, – прошептала она, потянувшись, чтобы коснуться его предплечья, но Эйнар отдернул руку как от огня. – Нет, – прошипел он, – не трогай меня. Говорю тебе. Я его убил. Я убил великана Бьёрна Уннторссона, и это мне должны голову проломить, а не этому мальчишке-дурачку. Это был я. Ее сердце колотилось, она пыталась подобрать слова. – Эйнар… почему ты мне это рассказываешь? – Потому что я весь вечер за тобой смотрел. Ты спрашивала, ты сталкивала людей – и в конце концов поняла бы. – И почему ты это сделал? Он задумался. Лишь на мгновение, но все равно. – Потому что он должен был… Потому что он не должен был убивать Карла. «А откуда ты знаешь, что он убил Карла?» Но вслух она так и не спросила. Вопрос почти сорвался с ее губ, но ее остановил вид парня, которого она звала братом, чья грудь тяжело вздымалась, а щеки были залиты слезами, и вопрос так и остался не заданным, не отвеченным. Вдруг ей показалось, что между ударами ее сердца пролегли мили, и все, что ее тревожило, вернулось снова. «Кто разговаривал с Бьёрном? Кто знал, что Бьёрн убил Карла? Кого ты защищаешь?» Хельга медленно-медленно закрыла глаза. Когда они снова открылись, она уже все знала и понимала. – Ты понимаешь, что я должна все рассказать Хильдигуннюр. – Да, – сказал Эйнар. – Не возвращайся в дом. Иди в свой сарай. Она не захочет это делать перед гостями. Эйнар кивнул. – Мы поговорим об этом. Мы что-нибудь придумаем. Он снова кивнул. – Иди, – сказала она, отмахиваясь от него, как делала сотню раз до этого, и сказала уже чуть веселее: – Ты рассказал мне, я расскажу Хильдигуннюр, и мы все исправим. Он шмыгнул и ушел, но она заметила у него на лице тень улыбки. Он показался ей маленьким мальчиком. Хельга покачала головой и улыбнулась. Хоть опасность и возросла, она была довольна. Запруду прорвало. Настало время позволить реке течь.
Она быстро привыкла к шуму в доме. Теперь они пели во весь голос, краснолицые и довольные, не спуская глаз друг с друга и с кружек. Она отыскала Яки, кое-что ему шепнула, и помощник Уннтора, вечная хвала ему, не стал ничего спрашивать. Он просто кивнул и даже лукаво улыбнулся ей, словно она просила над кем-то подшутить. Теперь нужно было только найти… «Вот она». Хельга осторожно прокралась мимо отца и двух его приятелей, живших через три хутора от них, и нашла Йорунн. Привлекла ее внимание и посмотрела ей в глаза. Потом наклонилась поближе. – Я знаю, что ты сделала, – прошептала она с улыбкой. – Я знаю почему, и знаю, где спрятан папин клад, и я хочу свою долю, а то я всем расскажу, и тебе отсюда не уйти. Йорунн Уннторсдоттир была дочерью своей матери, и ее улыбка даже не дрогнула. Она лишь чуть наклонила голову и кивнула, сверкнув глазами. – Чудесно. Может, поговорим об этом где-нибудь… в уединенном месте? Подражая ей, Хельга в ответ тоже сверкнула глазами. – Конечно. Иди за мной. Она повернулась и направилась к выходу, понимая, что за ней следуют неотступно. Когда она вышла, дверь и наполовину не успела закрыться перед целеустремленной фигурой Йорунн. Хельга специально ускорила шаг. «Пусть сука побегает, чтобы меня поймать». Мимо одной постройки, мимо другой, а потом… Хельга нырнула в Эйнаров сарай. При ее стремительном появлении юноша невольно обернулся и вскинул руки, словно защищаясь от чего-то. – Я думал… – он не успел договорить. Дверь распахнулась, и внутрь ворвалась Йорунн. Эйнар начал сыпать словами: – Я сказал ей, Йорунн. Сказал, что убил Бьёрна. – Ты никчемный мальчишка, – рявкнула Йорунн. – Она знает, что это не ты. Эта сука вообще слишком много знает. Внезапно в ее руке появился нож – и устроился там весьма удобно, отметила Хельга. Коротенькая маленькая штучка с толстым лезвием. «Оно совпало бы с ранами Бьёрна. И это конец. Меня убьют на моем же хуторе». – Что? – Эйнар подошел к ним. – Нет, любимая, ты не можешь. – Любимая? – лицо Йорунн исказила веселая злость. – Ты думаешь, что любишь меня? Пусть эта сраная малявка подоит тебя, пока не выбьет эту чушь из твоей головы, парнишка. Хельга посмотрела на Эйнара, его лицо заливала смертельная бледность. – Но… ты сказала… – Ты сказала, – передразнила она. – И что же я сказала? – Ты сказала, что Бьёрн подложил нож в постель Сигмара, и нам нужно только подкинуть его обратно Бьёрну, вот и все. – А ты даже на миг не смог отрастить яйца, – прошипела Йорунн. – Только ныл, как мелкая шавка, что нужно пойти за стариками – ага, отличная мысль. – Ее голос источал презрение. – Потому что они обязательно защитили бы моего мужа-шведа от их собственного сына. А потом ты что сделал? А? Теперь она сводила счеты с Эйнаром, и нож был повернут скорее к нему. Он стоял на месте, перепуганный, как застигнутый врасплох олень. – Вот именно, – промурлыкала Йорунн, подходя к нему, – змея, готовая напасть. – Вообще ничего. Вот что ты сделал, ты, большой и сильный мальчик. И поскольку ты так долго искал свой клятый хер, – теперь она плевалась словами, рубила их, швыряла, словно камни, – явился мой дорогой братишка, и тогда ты тоже вообще ничего не сделал. Ты хоть задумался, кто убил Карла? И откуда у Бьёрна взялся нож? Он перерезал вены моему брату, и подкинул нож Сигмару, за которого я никогда не должна была выйти, и поэтому от него нужно было избавиться. А когда я сделала это, у тебя ни одной мысли не было, вообще ни одной, так что мне пришлось положить нож в постель его недоумка-сына. И после этого ты думаешь, что я тебя люблю? – Она осмотрела его сверху донизу, и в ее голосе появилась нотка жалости: – Тебя не за что любить, и это место тоже, и всех, кто тут живет. Она осмотрела своих пленников и, казалось, успокоилась. Она одержала победу и собиралась ею насладиться. – Мы пришли сюда за золотом, вот и все. Видишь ли, у меня проблема. Я веду дела в основном с богатыми стариками, которые только валяются на медвежьих шкурах короля Эрика, смотрят свысока на людей вроде меня и не подпускают нас к лучшим сделкам. Для них я чужая, и всегда такой буду. Они понимают только золото. Я думала, что смогу заставить Карла выжать его из папаши, заплатив старому моряку, чтобы он притворился Хавардом Седобородым, но ничего не вышло. Я хотела выдавить из мамочки сочувствие, жалуясь на семейные беды или усмирив вместо Аслака его жену-коросту, но и тут не срослось. Так что послушай, что я сделаю. Я выпотрошу эту сучонку, а потом в слезах побегу к мамаше и скажу ей, что ты хотел взять меня силой, что она это увидела, и ты ее зарезал – в конце концов, ты уже убил моих несчастных братьев. Карл и Бьёрн умерли, чтобы тебе больше досталось. Я дам тебе чуток времени – молись, чтобы ты знал лес лучше моего отца. В худшем случае? Они поделят клад между мной и Аслаком, а потом я случайно выкину ребенка, пока еще не стало ясно, что не в такой уж я и тягости. А теперь отойди, а то я и тебе кишки выпущу. – Не выпустишь, – послышался из-за стены голос Уннтора, спокойный и ровный, с легкой ноткой рыка. Хельга вспомнила, что ей нужно дышать. – Но если ты сейчас выйдешь и бросишь нож на землю, я, может, тебя и пощажу. У Йорунн был такой вид, словно ее огрели дубиной. Она моргала, открывая и закрывая рот. «Она, должно быть, хочет понять, что именно он расслышал», – подумала Хельга, а следом мелькнула мысль: «Сможет ли она теперь выкрутиться?» – Выходи. СЕЙЧАС ЖЕ. Улыбка против ее воли медленно расползлась по лицу Хельги. «Кажется, нет». Сарай был залит светом факелов. Хуторяне из долины внезапно как-то изменились, стали больше похожи на Уннтора. Некоторые держали факелы, у всех было оружие. Хельга вспомнила, как мать всегда повторяла, когда кто-нибудь заходил что-то одолжить, или поболтать, или за советом: «Долина полна старых друзей». И когда эти друзья собрались за спиной Уннтора, связанные общей целью, нетрудно было представить, как тридцать – сорок лет назад они вместе плыли на запад, бросая вызов миру. Сигмар и его люди стояли, тесно сгрудившись, рядом со своими лошадьми, но без оружия. Она поискала глазами Яки – он стоял, небрежно облокотившись на бочку, набитую копьями и топорами, и ухмылялся, беззаботно положив руку на дубину размером с бедренную кость великана. – Мы все слышали, – сказал Уннтор. Йорунн открыла рот, но отец поднял массивную ладонь и остановил ее. – И на моей земле пролилось достаточно крови. Я не стану требовать с вас виру, – под взглядом Уннтора животное внутри Хельги съежилось, свернулось и притворилось совсем крошечным, однако гнев в отцовских глазах предназначался Йорунн и Сигмару, – но сделаю это, если придется. Сокровище, которое вы искали, – мой «клад», пойдет в оплату крови моих сыновей, Карла и Бьёрна. Это выкуп за ваши жизни – и вы никогда больше не покажетесь нам на глаза. Теперь залезайте на лошадей и убирайтесь. – Куда ты хочешь… – начал Сигмар, но Уннтор снова поднял ладонь и прервал его. – Мне наплевать, куда вы направитесь, – сказал старый вождь, – но если вы еще раз ступите на эту землю, вас загонят как зверей, повесят на ветку и освежуют. – Он помолчал и, хотя говорил он негромко, было слышно каждое слово. – Я продержу вас живыми очень долго. После этого говорить было уже нечего. Жители долин стояли за Уннтором и Хильдигуннюр, как деревья темного леса, пока шведы седлали лошадей. Они бросали взгляды на бочку с оружием, которое Яки выкрал у них, но знали, что просить не стоит. Йорунн и Сигмар уехали в тишине. (обратно)
Глава 19 Прощание
После долгой ночи пришло мучительное утро. Время проходило как в тумане. Отъезд Йорунн и Сигмара оставил пустоту, как вытащенная из тела заноза, и никто не понимал, что с собой делать. Иногда по небу проплывали облака, равнодушные к делам людей, бродивших внизу. Привычная хуторская работа с грехом пополам возобновилась, но никто не вкладывал в нее душу. «Они ходят как будто во сне, – подумала Хельга. – Как будто не хотят просыпаться и вспоминать, что случилось». Утро было в разгаре, когда Аслак и Руна приструнили детей, собрали вещи и приготовились к отъезду. Жители Речного хутора проводили их до ворот. – Навещайте нас. Пожалуйста. – Увесистая, но добрая рука Хильдигуннюр легла на плечо Аслака. Позади нее дружелюбно маячил Уннтор. – Навестим, – сказала Руна, и, к своему удивлению, Хельга ей поверила. Что-то изменилось в этой ворчливой женщине, пока они тут гостили. Она не могла понять, что именно, но это было что-то важное. Ворота закрылись, и мужчины вернулись к своим делам, но Хильдигуннюр осталась и смотрела вслед семейству Аслака, которое удалялось, становясь все меньше и меньше. После некоторых сомнений Хельга решила, что постоять с ней будет правильнее. То, что это освобождало ее от домашних забот, было тут ни при чем. – Теперь это мой единственный сын, – тихо проговорила Хильдигуннюр. Сказать ей было нечего, и Хельга крепко обняла мать. Какое-то время они стояли вместе, глядя на дорогу, что вела от Речного хутора в большой мир.Агла и Гита тоже готовы были уехать. Молодая вдова заключила Хильдигуннюр в сокрушительные объятия и, шмыгая носом, даже сумела выдавить скупую слезу. «Фу». Это было даже не слово, промелькнувшее в голове Хельги, а просто смутное, вызывающее гримасу ощущение, похожее на отравление ягодами. Она заметила одинаковое выражение их лиц, когда Хильдигуннюр отдала им виру за Карла, – радостная алчность, жажда золота, – и теперь они стояли там, за воротами, две женщины с похожими лицами и голосами, если не брать во внимание возраст. Мать и дочь, неожиданно выброшенные в мир. Но как только они запрыгнули на лошадей, Гита преобразилась: она сидела прямо и смотрела на деда с бабкой свысока, плотно сжав губы. «Ого, – подумала Хельга. – Где-то бродит королевич, подыскивающий себе жену». – Прощайте все, – сказала Агла. – Мы будем слать весточки, где бы ни оказались, и тоже не забудем вас навещать. – Уж постарайтесь, – прогудел Уннтор. Гита первой хлестнула лошадь; кобыла, заскучавшая после ленивых дней на лугу, охотно подчинилась, и они понеслись по дороге. Хельга посмотрела на Хильдигуннюр, которая и не пыталась скрыть холодной усмешки. – «Где бы мы ни оказались», вот уж точно, – сказала она.
Только к полудню Хельга набралась духу. В редкую спокойную минуту Хильдигуннюр нашла местечко у стены дома и сидела там, прядя кудель, а лучи солнца играли на ее коже. Хельга робко подошла к ней. – Мама… – Я знаю. – Ч-что? Старая женщина сощурилась, прикрыла глаза ладонью и посмотрела на нее против света. – И я спросила, и тебе можно. Хельга пыталась подобрать слова, но не могла. – Что можно? – выпалила она наконец. – Ты хочешь уйти. Тебе нужно уйти. Тебе нужно понять, кто ты такая, и найти свое место в мире. – Казалось, Хильдигуннюр хотела сказать еще что-то, но удержалась. – Ты можешь дойти с Тири и Вёлундом до их хутора. Поработаешь там немножко и двинешься дальше – им нужна будет помощь, пока они продадут то, с чем не смогут управиться. Они уедут, когда ты будешь готова. Что ты таращишься, как выброшенная рыбеха? Люди подумают, что я дурочку вырастила. У Хельги не нашлось слов, ничего, кроме чисто физического порыва. Она рухнула на колени, обняла свою мать за шею и прижалась что было силы. – Что это? Удушение? – Хильдигуннюр изобразила кашель, но в голосе ее была улыбка. Горячие слезы катились по щекам Хельги, а когда она почувствовала руку, что гладила и трепала ее затылок, то губы у нее задрожали как у младенца. «Глупая девчонка. Глупая, глупая девчонка». Но ей было все равно. Она была всем – эта женщина с ее неистовой любовью к семье, ее верностью и защитой, которую она дарила, – всем, что значил для Хельги Речной хутор. И поэтому она плакала. – Мы еще увидимся, дочка, – прошептала ее мать. – Я это знаю. У меня тут не так много дел осталось, и когда я их закончу, то найду тебя и посмотрю, как ты поживаешь. Собрав в кулак всю волю, что у нее была, Хельга смогла выпустить мать из объятий. Она неуклюже поднялась на ноги. – Спасибо, – всхлипнула она; голос ее был хриплым. – Мне нужно… что мне нужно?.. – Пшш, – отмахнулась от нее Хильдигуннюр. – Я собрала твои вещи, пока ты таскала воду. Иди, поговори с Тири. Мы скоро будем готовы с вами попрощаться.
Странно ей было идти по дороге, словно Хельга знала ее не так хорошо, как думала. «Она другая, потому что я иду по ней в последний раз». Ее мысли кружились вихрем, рядом шлепал Вёлунд. Она научилась различать, когда он тихо радовался, и это был как раз такой момент. «Неужели и другие чувствовали то же самое?» Она подумала об Агле, прибывшей на полном скаку вместе с Карлом, а уехавшей без него. Каково было ей? Она подумала о Тири, такой молчаливой, хотя теперь над ней не нависал Бьёрн. Она подумала о Йорунн. О женщине, убившей своего брата, чтобы завладеть тем, чего, может быть, и не было на самом деле, – что творилось в ее голове? Жалела ли она о чем-нибудь? Она никогда не узнает ответа, но ей было до странного приятно узнать, что на самом деле случилось с Бьёрном, а следовательно – и с Карлом. – Дорога будет долгой, – сказала Тири. Голос ее звучал бесстрастно. – Я знаю. – Я не вернусь. Хельга проглотила неожиданно подкативший к горлу ком. – Я… Я тоже не думаю, что вернусь. – Они могут говорить, что это сделал мой Бьёрн, – упрямо сказала Тири. «Эти слова не для меня. Они для нее самой». Осознание пришло внезапно, и Хельга зачарованно смотрела на женщину. – Может, это и так – он странно себя вел, – Тири глубоко вздохнула и выплюнула: – Но если это он, кто-то его заставил. Он никогда бы сам не решил убить Карла. «Что мне сказать?» Ища слова, Хельга оглянулась и в последний раз взглянула на Речной хутор, где прожила больше половины жизни. Люди у ворот были еще видны, но еле-еле: огромный, как медведь, мужчина, а перед ним стройная женщина. – Кто-то его подговорил. Женщина, до последнего защищавшая честь семьи и имя мужа. Женщина, учившая детей поступать правильно и приходившая в гнев, когда они не подчинялись. Женщина, что разбиралась с проблемами споро и исправно. А потом в ее памяти всплыли слова, нашептанные ветром с холмов, запечатленные в самом сердце Речного хутора, где жили честь и достоинство семьи, яростно сражавшейся за свое имя, и она увидела Бьёрна, стоявшего, понурив голову, подчиняясь приказу убить во сне собственного брата и свалить это на Сигмара, и поняла, кто заставил его это сделать. Какой же сын откажет своей матери? (обратно)
Благодарности
Чтобы не выдать ничего людям, которые сначала читают послесловие (и чтобы не предлагать им переосмыслить их подход к чтению), думаю, что могу с уверенностью сказать, что эта книга для меня отступление – а может быть, прибытие, зависит от того, как посмотреть. Она не была бы куплена без ухищрений неутомимого агента Джеральдины Кук, женщины эпохи Возрождения и настоящей легенды. Она не была бы опубликована без веры и неутомимой работы неподражаемой издательницы Джо Флетчер, которая очень терпеливо наблюдала, как я трепыхаюсь, пытаясь понять, как разрулить историю, не придумывая чудовищ и не прикончив еще пятнадцать викингов, а потом поправила ее, когда я все сделал неправильно. Она никуда не годилась бы без поддержки Ника Бейна, который с самого начала учил меня, как вообще этим самым писательством заниматься. Милейшие люди из школы Мерчистон Касл были исключительно добры к моему творчеству. Особого упоминания заслуживают Джулия Уильямс, как выдающийся библиотекарь, и Пол Уильямс, как один из самых впечатляющих и устрашающих читателей, которых я встречал. Стефани Бинни предоставила мне больше поддержки, чем я смел надеяться, Гейл Каннингем помогла своевременными разговорами, а доктор Наоми Стин была постоянным источником ободрения. Кроме того, я хочу поблагодарить своих учеников за их оптимистичные и настойчивые вопросы о писательских заработках, продажах и прочих подробностях моей жизни. Когда я неизбежно стану получать столько же, сколько Дж. К. Роулинг, и поучаствую в передаче «Live at the Apollo», я принесу им печенек. Родственники и друзья были незаменимы, как и всегда. Аллан и Хелен одаривали меня мудростью и остроумием – жаль, что компота не хватило. Мои дорогие папа и мама совсем не похожи на Уннтора и Хильдигуннюр. Честно. Вы не такие (за исключением, конечно, хороших сторон, которые полностью списаны с вас). На самом деле автор хотел бы заявить, что все сходства с большими семейными встречами в Исландии абсолютно случайны. Алиса и Крис (и Анна, и Флора), Эндрю, и Сара, и Стивен обеспечили почти бесконечный поток позитива, надежды и потрясающих обедов. Мои дорогие друзья, вы сделали переезд в Эдинбург потрясающим. Но все это не значило бы ничего, если бы не моя жена Мораг, альфа-читательница и спутница во всех делах. Она любит расследовать таинственные убийства, так что я написал эту книгу для нее. Надеюсь, вам она тоже понравится. (обратно) (обратно)Донна Вулфолк Кросс Иоанна — женщина на папском престоле

Шел двадцать восьмой день уинтарманота[504], 814 года от Рождества Христова. Такой суровой зимы на земле франков никто не помнил. Хротруд, деревенская повитуха Ингельхайма, пробиралась через сугробы к дому каноника. Порывы ледяного ветра с каждым разом усиливались, проникая все глубже под заштопанную одежду. Лесную тропинку почти занесло снегом. С каждым шагом женщина проваливалась почти по колено. Снег лепил в лицо, приходилось вытирать глаза, чтобы разглядеть путь. Несмотря на толстые льняные обмотки, от холода ломило руки и ноги. Впереди показалось что-то черное: дохлая ворона. Даже эти выносливые птицы погибали потому, что не находили себе пропитание. Хротруд поежилась и прибавила шагу. У Гудрун, жены каноника, схватки начались на месяц раньше срока. «Удачное выбрала время рожать», — досадовала Хротруд, В прошлом месяце в деревне появилось на свет пятеро детей, и ни один не протянул больше недели. Вьюга продолжала свирепствовать, и едва заметная тропинка совсем пропала из виду. Повитуха запаниковала. Она знала, что, попав в подобную ситуацию погибали многие жители деревни, даже если находились неподалеку от собственного дома. Повитуха остановилась и ждала, пока вьюга немного утихнет. После этого, с трудом разглядев тропинку, Хротруд снова тронулась в путь. Онемевшие руки и ноги больше не болели. Она понимала, что это значит, но размышлять было некогда, главное — сохранять спокойствие. «Я должна думать не только о холоде». Хротруд вспомнила дом, в котором выросла, теплый и уютный, с бревенчатыми стенами. Он стоял на ферме величиной в шесть гектаров и отличался красотой на фоне мазанок. В доме в большом очаге всегда горел огонь, а над ним спиралью поднимался дым, уходя в отверстие в крыше. Отец Хротруд носил поверх льняной рубахи дорогую накидку из шкур выдры, а у самой Хротруд были три туники из тонкой шерсти. Она помнила эту мягкую и дорогую ткань. Но счастливая жизнь закончилась очень быстро. Два засушливых лета и лютый мороз уничтожили посевы. Люди повсюду голодали. В Тюрингии ходили слухи о людоедстве. Постепенно распродавая семейное добро, отец на какое-то время спас семью от голода. Хротруд горько плакала, когда продали ее шерстяные туники. Казалось, ничего хуже и быть не могло. В девять лет она еще не понимала, как жесток и несправедлив мир. Изо всех сил работая руками и ногами, Хротруд преодолевала сугробы. Голова у нее кружилась: вот уже несколько дней она голодала. «Ничего, если все будет хорошо, сегодня вечером я наемся. Если каноник останется доволен, может быть, прихвачу домой кусок свинины». Эта мысль придала ей сил. Наконец Хротруд выбралась на открытое пространство я разглядела впереди бревенчатый дом. На опушке снег стал еще глубже, но это не остановило ее. Уверенная, что скоро доберется до цели, она прокладывала себе путь. Постучав один раз в дверь, Хротруд, не дожидаясь ответа, вошла в дом. В такой мороз было не до церемоний. Ее окружила темнота. Единственное окошко в избе на зиму было заколочено, свет исходил только от очага и нескольких сальных коптилок по углам. Когда глаза Хротруд привыкли к темноте, она увидела двух мальчиков. Они сидели возле очага, прижавшись друг к другу. — Родила? — спросила Хротруд. — Пока нет, — ответил старший. Хротруд прошептала короткую благодарственную молитву Святому Козьме, покровителю повитух. Ей не раз случалось уходить ни с чем, не получив и динара за проделанный долгий путь. Возле очага Хротруд сняла обмотки с рук и тревожно вскрикнула, заметив, что пальцы посинели. — Пресвятая Богородица, не допусти, чтобы мороз лишил меня их! Никому не нужна искалеченная повитуха. Она помнила, что случилось с башмачником Элиасом из-за этого. В снежную бурю на пути из Майнца он отморозил пальцы, а через неделю их концы почернели и отвалились. Теперь он носил лохмотья и побирался, а его жизнь зависела от милостыни прихожан. Грустно качая головой, Хротруд пощипывала и растирала онемевшие пальцы рук под любопытными взглядами мальчиков. Их присутствие успокоило ее. «Роды будут легкие, — сказала она себе, стараясь не думать о бедняге Элиасе. — В конце концов, с этими двумя я не испытала никакого труда». Старшему было около шести зим. Он казался крепким и умненьким на вид мальчиком. Младшему братишке едва исполнилось три. Оба были черноволосые, как отец. Ни один не унаследовал белокурые волосы матери. Хротруд помнила, как удивлялись деревенские мужчины волосам Гудрун, когда каноник привез ее из миссионерской поездки в Саксонию. Поначалу все переполошились из-за того, что у каноника появилась женщина. Одни говорили, будто это противоречит закону, поскольку император издал указ, запрещавший церковнослужителям жениться. На что другие отвечали, что без жены мужчина подвержен соблазнам и грехам. Взять хотя бы монахов из Стабло, позоривших святую церковь прелюбодейством и пьяными драками. А каноник человек степенный и работящий. В доме было тепло. В большом очаге горели березовые и дубовые поленья, дым поднимался клубами к отверстию в соломенной крыше. Стены уютного жилья из толстых бревен тщательно проконопатили соломой и промазали глиной, чтобы не сквозило. Окно плотно заколотили крепкими дубовыми досками, защищавшими дом от холодного зимнего ветра. Довольно большой дом был поделен на три части: в одной находилась спальня каноника и его жены, в другой зимовал домашний скот. Хротруд даже слышала, как животные трутся о стену. В центральной части семья работала и ела; здесь же спали дети. Во всей округе только каменный дом епископа был лучше этого. Руки и ноги Хротруд стало покалывать. Она осмотрела шершавые и сухие пальцы, которые постепенно начинали розоветь. Хротруд с облегчением вздохнула, решив сделать благодарственное пожертвование Святому Козьме. Еще несколько минут понежившись, Хротруд одобрительно кивнула мальчикам и поспешила к роженице. Гудрун лежала на торфяной постели, покрытой свежей соломой. Неподалеку сидел каноник, темноволосый мужчина с густыми бровями, придававшими его лицу суровый вид. Взглянув на Хротруд, он углубился в чтение большой книги в деревянном переплете, которая лежала у него на коленях, Хротруд видела эту книгу, когда прежде бывала в их доме, и всякий раз ее сердце наполнялось благоговейным страхом. Это было Священное Писание — единственная книга, которую она когда-либо видела. Как и другие жители деревни, Хротруд не умела ни читать, ни писать, но знала, что эта книга — сокровище и стоит больше золотых, чем вся деревня может заработать за год. Каноник привез ее из Англии, где книги не были такой редкостью, как в государстве франков. Хротруд сразу заметила, что дела у Гудрун совсем плохи. Дыхание было неглубокое, пульс сильно учащенный, а тело сильно отекло. Повитуха тотчас распознала симптомы и поняла, что медлить нельзя. Пошарив в своей котомке, она достала немного голубиного помета, который собрала осенью. Вернувшись к очагу, Хротруд бросила в огонь помет и с удовольствием наблюдала, как темный дым начал очищать воздух от дьявольского духа. Придется снять боль, чтобы Гудрун расслабилась и родила ребенка. Для этого понадобится белена. Хротруд взяла пучок мелких желтоватых цветов с красными прожилками, положила в глиняную ступку и стала ловко толочь их в порошок, морщась от едкого запаха. Затем всыпала порошок в чашу крепкого красного вина и дала Гудрун выпить. — Чем ты поишь ее? — резко спросил каноник. Хротруд вздрогнула, так как почти забыла о нем. — Она ослабла. Это снимет боль и поможет младенцу появится на свет. Каноник нахмурился, отобрал у Хротруд чашу и белену, подошел к очагу и вылил напиток в огонь, туда же бросил цветы. — Женщина, ты богохульствуешь. Хротруд оторопела. Неделями она искала и собирала этот небольшой пучок драгоценного снадобья. Повернувшись было к канонику, чтобы обрушить на него гнев, она вдруг замерла, увидя его непреклонный взгляд. — Сказано, — он ткнул пальцем в книгу, — в муках будете рожать детей своих. Твое варево не богоугодное! Хротруд возмутилась. В ее снадобьях не было ничего неугодного христианству. Разве не читала она по восемь раз «Отче Наш», выдергивая из земли каждое растение? Да и каноник всегда охотно применял ее белену от зубной бАли. Но она не станет спорить с этим влиятельным человеком. Одного его слова о «богохульстве» — достаточно, чтобы ее уничтожить. Гудрун снова застонала. «Что ж, — подумала Хротруд, — если каноник не разрешает белену, она найдет другой способ». Снова порывшись в котомке, Повитуха достала кусок ткани, оторвала от него длинный лоскут, проворно и ловко обвязав им живот Гудрун. Когда Хротруд начала поворачивать Гудрун, та закричала. Движения причиняли роженице боль. Повитуха извлекла из котомки маленький аккуратный сверток шелковистой ткани, в нем хранилось ее сокровище — косточка от лапки кролика, убитого на Рождество. Она выпросила ее у одного из охотников в прошлую зиму. С величайшей осторожностью Хротруд отломила от косточки три маленьких кусочка и положила их в рот женщине. — Жуй медленно, — сказала она Гудрун, и та покорно стала жевать. Хротруд ждала, украдкой наблюдая за каноником. Он продолжал читать, нахмурившись так, что брови почти сошлись у него над переносицей. Гудрун снова застонала от боли, но каноник словно не слышал этого. «А он хладнокровно держится, — подумала Хротруд, — но внутри у него пылает огонь, раз он взял ее в жены». Давно ли каноник привел эту саксонскую женщину в свой дом? Десять или одиннадцать зим назад? По понятиям франков, Гудрун была немолода, возможно, лет двадцати шести или двадцати семи, но очень красива, с длинными белокурыми волосами и глазами небесно голубого цвета. В резне под Верденом она потеряла всю семью. В тот день погибли тысячи саксонцев, не пожелав принять Христианство. «Безумные варвары», — размышляла Хротруд. С ней такого не случилось бы. Она поклялась бы чем угодно и сделала бы это даже теперь, если бы варвары снова заполонили землю франков, согласилась бы молиться любому из их странных и страшных богов. От этого ничего не изменилось бы. Кто знает, что происходит в сердце другого человека? У мудрой женщины были свои соображения на этот счет. Огонь в очаге медленно угасал. Хротруд направилась к вязанке дров в углу, выбрала два больших березовых нолена, бросила их в очаг, подождала, пока их схватит огонь, и после этого повернулась к Гудрун. Прошло ровно полчаса с тех пор, как роженица прожевала кусочки кроличьей косточки, но состояние ее не изменилось. Не помогло даже такое сильное средство. Схватки были редкими и не давали результата, а Гудрун сильно ослабла. Хротруд устало вздохнула. Значит, придется принимать более решительные меры. Попросив каноника помочь при родах и получив отказ, Хротруд поняла, что он трудный человек. — Пошли в деревню за женщинами, — заявил он. — Ах, господин, это невозможно. Послать ведь некого! — всплеснула руками Хротруд. — Я не могу отлучиться, потому что нужна вашей жене. Вашему старшему сыну тоже нельзя идти. Хотя он и крепкий с виду, но запросто заблудится в такую пургу, я и сама едва нашла дорогу. Каноник бросил на нее суровый взгляд. — Хорошо. Я сам пойду. — Когда он поднялся со стула, Хротруд покачала головой. — Боюсь, вы опоздаете. Мне нужна ваша помощь и срочно, если хотите, чтобы остались живы и жена, и ребенок. — Моя помощь? Повитуха, ты спятила? Это, — он брезгливо указал на кровать, — дело женское, нечистое. Я к ней не прикоснусь. — Тогда ваша жена умрет. — На все воля Божья, не моя. — Что ж, но без матери вам будет трудно вырастить двоих детей, — пожала плечами Хротруд. Каноник посмотрел на нее. — Почему я должен верить тебе? Она дважды родила без труда. Я укрепил ее своими молитвами. Откуда ты знаешь, что она умрет? Это уж слишком! Хотя он и каноник, Хротруд не потерпит, чтобы он сомневался в ее мастерстве повитухи. — Это вы ничего не знаете, — резко возразила она. — Посмотрите на нее и скажите, что она не при смерти. Каноник подошел к кровати и взглянул на жену. Влажные волосы прилипли к бледному пожелтевшему лбу, под глазами темные круги, взгляд потухший, и если бы не долгий, прерывистый выдох, он подумал бы, что она уже умерла. — Ну, как? — осведомилась Хротруд. Каноник повернулся к ней. — Кровь Христова, женщина! Почему ты не привела с собой помощниц? — Как вы сами сказали, сударь, ваша жена прежде рожала без проблем. Не было причин ждать неприятностей в этот раз. Кроме того, кому охота идти в такую погоду? Каноник, беспокойно прошелся по комнате и остановился. — Что я должен делать? — О, — улыбнулась Хротруд. Она подвела его к кровати, — Ддя начала, помогите поднять ее. Встав с обеих сторон кровати, они подхватили Гудрун под мышки и подняли. Ее тело безвольно повисло. Вдвоем им удалось поставить ее на ноги, но она повалилась на мужа. Каноник оказался сильнее, чем предполагала Хротруд, и это обрадовало ее: ей понадобится его сила. — Нужно, чтобы ребенок принял определенное положение. По моей команде поднимите жену повыше и хорошенько встряхните. Каноник кивнул, сурово поджав губы. Гудрун висела между ними, словно мертвая, уронив голову на грудь. — Начали! — крикнула Хротруд, и они начали трясти женщину, резко опуская и поднимая. Гудрун закричала, пытаясь освободиться. Боль и страх придали ей сил, они едва удерживали ее. «Если бы он позволил мне дать ей белены, — думала Хротруд, — с ней было бы легче справится». Они быстро положили ее, но Гудрун продолжала сопротивляться и кричать. Хротруд опять дала распоряжение поднять ее, встряхнуть и положить на кровать. Теперь, почти потеряв сознание, Гудрун бормотала что-то на родном языке. «Господи! — подумала Хротруд, — если действовать быстро, можно успеть, пока она не пришла в себя». Хротруд просунула руку во влагалище, проверив, открылась ли матка. Шейка матки была твердая и отекла от долгих часов безрезультатных схваток. Острым длинным ногтем правого указательного пальца, предназначенным именно для этой цели, Хротруд рассекла шейку матки. Гудрун взвыла от боли и совершенно обмякла. Наконец матка открылась. Радостно вскрикнув, Хротруд обхватила головку ребенка и осторожно потянула. — Возьмите жену за плечи и подтолкните ко мне, — велела она побледневшему канонику. Он повиновался. Когда их усилия объединились, Хротруд почувствовала, как увеличивается давление. Через несколько минут показалась головка ребенка. Хротруд осторожно помогала ему, чтобы неповредить голову и шею. Высвободив головку, Хротруд повернула тельце так, чтобы сперва вышло правое, а потом левое плечо. Последнее уверенное движение, и крохотное влажное тельце выскользнуло прямо в руки Хротруд. — Девочка! — воскликнула повитуха. — Притом очень крепкая на вид, — добавила она, отметив громкий крик ребенка и здоровый розовый цвет кожи. Обернувшись, она встретила неодобрительный взгляд каноника. — Девочка, — брезгливо повторил он. — Столько труда понапрасну. — Не говорите так, господин. — Хротруд вдруг испугалась, что недовольство каноника скажется на ее желудке. — Ребенок здоровенький и крепкий. Господь не допустит, чтобы она посрамила ваше имя. Каноник покачал головой. — Она — Божье наказание. Наказание за грехи мои и се, — он кивнул в сторону неподвижно лежавшей Гудрун. — Моя жена будет жить? — Да. — Хротруд надеялась, что голос ее прозвучал убедительно. Она не хотела дважды разочаровывать каноника, потому что все еще надеялась поесть мяса. Гудрун обязательно выживет. Конечно, роды были тяжелые. После такого испытания у многих женщин начиналась лихорадка и изнуряющая слабость. Но Гудрун сильная. Хротруд вылечит ее, она смажет рану мазью из чернобыльника, смешанного с лисьим салом, и все пройдет. — Да, Богу угодно, чтобы она жила, — повторила уверенно повитуха, решив не упоминать о том, что детей у женщины, вероятнее всего, больше не будет. — Это уже кое-что, — каноник взглянул на Гудрун и слегка прикоснулся к ее золотистым, потемневшим от пота волосам. Хротруд показалось, что ему хотелось поцеловать жену. Но внезапно лицо его стало суровым, даже сердитым. — Per mulierem culpa success, — произнес он. — Женщина — источник греха. — Выпустив локон Гудрун, каноник отступил от постели. Хротруд покачала головой. Конечно, каноник странный, но, слава Богу, это ее не касается. Она поспешила обтереть тело Гудрун, чтобы успеть домой засветло. Открыв глаза, Гудрун увидела стоявшего над ней каноника. Улыбка застыла на ее губах, когда она заметила выражение его глаз. — Муж мой? — неуверенно произнесла она. — Девочка, — холодно обронил каноник, не скрывая неудовольствия. Гудрун закрыла глаза и отвернула лицо к стене. Каноник собирался уйти, но на миг остановился и взглянул на младенца. — Будем звать ее Джоанна,[505] - объявил он и быстро вышел из комнаты. (обратно)
Глава 1

Гром прогремел очень близко, и девочка проснулась. Она повернулась, чтобы прижаться к старшим братьям и согреться теплом их тел, но вспомнила, что их нет рядом. Шел весенний ливень, наполнявший ночной воздух кисло-сладким запахом свежевспаханной земли. Толстая соломенная крыша немного протекала, и вода медленно капала на утоптанный земляной пол. Поднялся ветер, и ветви стоявшего около дома дуба начали биться о стену. Их тень проникла в комнату. Замерев, девочка следила, как чудовищные темные «пальцы» перемещались по краю кровати, тянулись к ней и куда-то манили. Она съежилась от страха. Девочка хотела позвать мать, но промолчала. Если она издаст хоть один звук, гигантская рука вцепится в нее. Ребенка сковал страх. Но вскоре она упрямо вздернула подбородок: если это нужно сделать, значит, она сделает. Очень медленно, не отводя глаз от врага, девочка слезла с кровати, коснувшись босыми ногами холодного земляного пола. Знакомое ощущение успокоило ее. Едва дыша, она пробралась к двери, за которой спала ее мать. Сверкнула молния, страшная рука пошевелилась, сделалась еще длиннее и стала преследовать девочку. Она подавила крик, напряглась всем телом и заставила себя двигаться медленнее. Вот уже совсем близко. Вдруг над самой головой снова прогремел гром, и в тот же момент что-то коснулось ее спины. Она отскочила и обернулась, споткнувшись о стул. В этой части дома было темно и тихо, слышалось только спокойное ровное дыхание матери, и девочка догадалась, что та крепко спит. Шум не потревожил ее. Ребенок быстро подошел к кровати, поднял шерстяное одеяло и шмыгнул под него. Мать лежала на боку, слегка приоткрыв рот. Теплое дыхание ласкало детскую щеку. Девочка прижалась к матери, чувствуя тепло ее тела через тонкую льняную рубашку. Потревоженная Гудрун зевнула» повернулась, открыла глаза и сонно взглянула на дочь. — Малышка, тебе нужно спать. Быстро тоненьким, испуганным голосом Джоанна рассказала матери про страшную руку. Гудрун слушала, поглаживая и успокаивая дочь. Она легонько коснулась пальцами ее лица, едва различимого в темноте. «Девочка некрасива, — печально отметила Гудрун, — слишком похожа на мужа. — Маленькая Джоанна была плотной и коренастой, а не стройной и грациозной, как все женщины в роду Гудрун. Но большие выразительные серо-зеленые глаза с темным ободком вокруг зрачка были прекрасны. Гудрун погладила белокурые локоны Джоанны, любуясь их блеском, отливавшим золотом даже в сумерках. — А волосы мои. Не такие жесткие и темные, как у ее отца и у всех его сородичей. Мой ребенок. — Намотав локон на палец, Гудрун улыбнулась, хотя бы эта моя. Материнская ласка успокоила Джоанну. Играя, она расплела косу Гудрун, и волосы рассыпались по подушке. Девочка залюбовалась красивыми волосами матери. Она никогда еще не видела их распущенными. По настоянию каноника, Гудрун всегда заплетала волосы в тугую косу и убирала ее под грубый льняной чепец. «Женские волоок — говорил муж, — это сети, в которые сатана ловит души мужчин». А у Гудрун были очень красивые, длинные и мягкие волосы, чистого светло-золотистого цвета, совсем не тронутые сединой, хотя она прожила уже тридцать шесть зим. — Почему уехали Мэтью и Джон? — вдруг спросила Джоанна. Мать объясняла ей это несколько раз, но Джоанна хотела услышать снова. — Ты знаешь почему. Отец взял их с собой в миссионерскую поездку. — А почему мне нельзя? Гудрун терпеливо вздохнула. У ребенка так много вопросов! — Мэтью и Джон — мальчики; когда-нибудь они станут священниками, как твой отец. А ты — девочка, поэтому эти дела тебя не касаются. — Заметив, что Джоанна недовольна ответом, она добавила: — Кроме того, ты еще очень маленькая. — В январе мне исполнилось четыре! — возмутилась Джоанна. Гудрун лукаво посмотрела на дочь. — Ах да! Совсем забыла, ты теперь большая, верно? Четыре годика! Совсем взрослая. Джоанна лежала тихо, пока мать гладила ее по волосам, и, наконец, спросила: — Кто такие язычники? Перед отъездом отец и братья много говорили о язычниках. Джоанна не понимала, что такое язычники, хотя и догадывалась: это очень плохо. Гудрун поежилась. Слово обладало колдовской силой. Нго произносили воины, которые разрушили ее дом, вырезали всю семью и друзей. Темные, беспощадные люди короля франков Карла. Теперь, когда он умер, люди назвали его «Великим». «Назвали бы они так короля, если бы видели, как его воины вырывали у саксонских матерей младенцев и разбивали их головы о камни?» — подумала Гудрун и, убрав руку с головы Джоанны, легла на спину. — Спроси об этом своего отца. Джоанна не понимала, что плохого она сделала, но в голосе матери услышала необычную суровость и испугалась, как бы та не отослала ее, если она не исправит ошибку. Девочка быстро попросила: — Расскажи еще про древних. — Не могу. Папа не разрешает рассказывать эти сказки, — голос матери звучал неуверенно. Джоанна знала, что делать. Торжественно положив руку на сердце, она поклялась именно так, как учила мама, именем Тора Громовержца сохранить тайну. Гудрун засмеялась и крепко обняла дочь. — Ну хорошо, перепелочка моя. Я расскажу, ты так славно улещаешь меня. Голос ее снова смягчился, стал задумчивым и певучим, когда она начала рассказ про Вотана, Тора, Фрейю и про других богов, о которых слышала в детстве до того, как Карл принес с кровью и мечом в Саксонию Слово Христа. Гудрун нараспев говорила об Агарде, сияющем дворце богов, сделанном из серебра и золота. Чтобы добраться туда, нужно было переправиться через Биврест, таинственный радужный мост, Охранял этот мост Хеймдалль, страж богов. Он никогда не спал и слышал, как растет трава. В Вальхалле жил Вотан, бог-отец, а на его плечах сидели два ворона Хугин, «думающий», и Мунин, «помнящий». Сидя на троне, пока пировали другие боги, Вотан выслушивал то, что говорили ему вороны. Джоанна радостно кивнула: это была любимая часть истории. — Расскажи про Источник мудрости, — взмолилась она. — Хотя Вотан был очень мудр, — пояснила мать, — он стремился к еще большей мудрости. Однажды Вотан пришел к Источнику мудрости, охраняемому великаном Мимиром, и тот спросил: «Какую цену ты заплатишь?» Вотан ответил, что любую. «Мудрость продается только в обмен на боль, — сказал Мимир. — Если желаешь испить из этого источника, отдай свой глаз». — Вотан так и сделал, мама, да? Он правда так поступил? — спросила возбужденная Джоанна. Мать кивнула. — Это был трудный выбор. Вотан пожертвовал глазом и выпил воды из источника, А потом передал людям обретенную им мудрость. Джоанна серьезно взглянула на мать. — А ты, мама, тоже бы так сделала… чтобы стать мудрой и узнать про все на свете? — Такой выбор совершают только боги, — Увидев настойчивый взгляд ребенка, Гудрун призналась. — Нет. Я бы очень испугалась. — Я тоже, — задумчиво произнесла Джоанна. — Но мне бы очень хотелось узнать, что расскажет Источник. Гудрун улыбнулась. — Возможно, тебе не понравилось бы то, что ты узнала. Есть поговорка: «Сердце мудрого человека редко счастливо». Джоанна кивнула, хотя ничего не поняла. — А теперь расскажи про Дерево, — попросила она, крепче прижимаясь к матери. Гудрун начала описывать Ирминсуль, волшебное дерево, которое росло в самой священной саксонской роще у источника реки Липпе. Ее народ молился возле него, пока Ирминсуль не срубили воины Карла. — Дерево было очень красивое, — сказала мать. — И такое высокое, что никто не видел его верхушку. Оно… Гудрин замолчала. Ощутив чье-то присутствие, Джоанна подняла голову: на пороге стоял отец. Мать села на кровати. — Муж мой, — произнесла она, — я ждала вас не ранее, чем через две недели. Каноник не ответил. Взяв со стола возле двери восковую свечу, он подошел к очагу и поднес ее к тлеющим углям. Свеча загорелась. — Ребенка напугала гроза, — нервно пояснила Гудрун. — Я хотела успокоить девочку безобидной сказкой. — Безобидной! — голос каноника дрожал от гнева. — Ты называешь это богохульство безобидным? — Сделав два больших шага, он приблизился к кровати, поставил свечку и сдернул с жены и дочери одеяло. Джоанна лежала, обхватив мать руками и наполовину скрывшись под копной ее белокурых волос. Каноник стоял в недоумении, глядя на распущенные волосы Гудрун, но вскоре гнев вернулся к нему. — Как ты посмела! Я же настрого запретил! — схватив Гудрун, он начал стаскивать ее с кровати. — Языческая ведьма! — Джоанна теснее прижалась к матери. Лицо каноника потемнело. — Дитя, удались! — взревел он. Джоанна колебалась, разрываясь между страхом и желанием защитить мать. Гудрун оттолкнула ее. — Иди же. Быстрее! Джоанна спрыгнула на пол и убежала. У двери она обернулась и увидела, как отец схватил мать за волосы, запрокинув ее голову назад, и заставил встать на колени. Джоанна побежала обратно, но замерла от ужаса, ибо отец достал из-за пояса свой длинный охотничий нож с рукояткой из кости. — Forsachistu diabolae? — спросил он Гудрун на саксонском, едва слышным голосом. Она не ответила и каноник приставил к ее горлу нож. — Произнеси эти слова! — грозно воскликнул он. — Ее forsacho allum diaboles, — испуганно пробормотала Гудрун. - Wuercum and wuordum, thumer ends woden ende saxnotes ende aleum… Оцепенев от страха, Джоанна смотрела, как отец поднял волосы матери и полосонул по ним ножом: пряди посыпались на пол золотым потоком. Зажав рот рукой, чтобы не разрыдаться, Джоанна повернулась и побежала. В темноте ее кто-то схватил, и она пронзительно взвизгнула. Чудовищная рука! Девочка совсем забыла про нее! Джоанна отчаянно билась, колотя руку маленькими кулачками. Она сопротивляясь изо всех сил, но огромная рука крепко держала ее. — Джоанна, Джоанна, все хорошо. Это же я! Эти слова рассеяли ее страх. Это был Мэтью, десятилетний брат Джоанны, вернувшийся с отцом. — Мы вернулись, перестань драться, Джоанна! Все хорошо. Это я. — Джоанна подняла руку, нащупала гладкий крест на груди Мэтью и с облегчением прижалась к брату. Они сидели в темноте, слушая, как работает нож, срезая волосы матери. Внезапно мать вскрикнула от боли. Мэтью громко выругался, А из-под одеял на кровати раздалось всхлипывание их семилетнего брата Джона. Наконец звук ножа затих. После короткой паузы каноник начал бормотать молитву. Джоанна почувствовала, что Мэтью успокоился. Все кончилось. Она обхватила его за шею и заплакала, а он обнял ее и стал тихонько укачивать. Спустя какое-то время Джоанна посмотрела брату в глаза. — Папа назвал маму язычницей. — Да. — Она не язычница, — неуверенно заметила девочка. — Неужели мама язычница? — Была язычницей. — Заметив ужас в глазах сестры, он добавил: — Очень давно. Теперь уже нет. Но она рассказывала тебе языческие сказки. — Джоанна перестала плакать. — Ты знаешь первую заповедь? Джоанна кивнула и послушно произнесла: — Не создавай себе кумира, ибо Я Господь, Бог твой. — Да. Это значит, что боги, о которых рассказывала тебе мама, ложные. Говорить о них грех. — Именно поэтому отец… — Верно, — Мэтью запнулся. — Маму следовало наказать, ради спасения ее души. Она ослушалась своего мужа, а это тоже против закона Божьего. — Почему? — Потому что так сказано в Священном Писании. — Он процитировал: — Ибо муж — глава семьи, и послушает жена мужа своего во всех делах. — Почему? — Почему? — Мэтью растерялся. Его никто не спрашивал об этом прежде. — Ну, думаю… потому, что женщины по природе своей не могут сравниться с мужчинами. Мужчины выше, сильнее и умнее их. — Но… — начала Джоанна, однако Мэтью остановил ее. — Хватит вопросов, сестренка. Пора спать. Пошевеливайся, — он отнес ее в кровать и уложил рядом со спящим Джоном. Мэтью был очень внимателен к сестре. В благодарность Джоанна закрыла глаза и зарылась в одеяло, притворившись спящей. Но слишком взволнованная, чтобы уснуть, она лежала и смотрела на Джона, спавшего с открытым ртом. «Он ничего не знает наизусть из Псалтири, хотя ему уже семь лет». Джоанне было всего четыре, но она уже выучила первые десять псалмов наизусть. Джон не отличался особым умом, но он был мальчик. Разве мог ошибаться Мэтью? Он знал все и готовился стать священником, как их отец. Джоанна лежала с открытыми глазами и обдумывала эту проблему. К рассвету она заснула и ей снилось, что боги воюют между собой. Архангел Гавриил спустился с небес с пылающим мечом, чтобы сразиться с Тором и Фрейей. В этой ужасной и беспощадной битве ложные боги были повержены, и Гавриил с победой предстал перед вратами Рая. Его меч исчез, а в руке блестел короткий нож с костяной ручкой. (обратно)
Глава 2

Деревянное перо быстро выводило буквы и слова на мягком желтом воске, покрывавшем дощечку. Джоанна внимательно смотрела через плечо Мэтью, выполнявшего дневное задание. Время от времени он переставал писать, подносил восковую дощечку к горящей свече, чтобы согреть быстро твердевший воск. Ей нравилось наблюдать, как работает Мэтью. Его перо с острым наконечником из кости рисовало на гладком воске таинственные красивые линии. Джоанна хотела понять значение каждого знака, поэтому внимательно следила за каждым движением пера, словно это могло открыть ей их секрет. Мэтью отложил перо и, откинувшись на спинку стула, потер глаза. Воспользовавшись моментом, Джоанна потянулась к дощечке и указала на слово. — Что это значит? — Джером. Это имя одного из великих Отцов церкви. — Джером, — повторила она. — Похоже на мое имя. — Некоторые буквы те же, — улыбнувшись, согласился Мэтью. — Покажи. — Лучше не надо. Папе не понравится, если он узнает. — Он не узнает, — умоляла Джоанна. — Ну, пожалуйста, Мэтью. Я хочу знать. Пожалуйста, покажи мне! Мэтью колебался. — Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы научить тебя писать свое имя. Может пригодиться, когда ты выйдешь замуж и будешь вести хозяйство. Положив свою руку на маленькую ручку сестры, он помог ей вывести буквы ее имени: Д-Ж-О-А-Н-Н-А. — Хорошо. А теперь сама. Чтобы заставить пальцы изобразить буквы, запечатленные у нее в памяти, Джоанна так сильно сжала перо, что свело пальцы. Она даже вскрикнула от досады, когда перо не послушалось ее. — Помедленнее, сестренка, помедленнее. Тебе всего шесть лет. В этом возрасте учиться писать непросто. Я тоже так начинал, очень хорошо это помню. Не спеши и постепенно научишься.
На следующий день Джоанна рано встала и вышла из дома. На рыхлой земле возле загона для скота она рисовала буквы до тех пор, пока не убедилась, что делает это правильно, а потом позвала Мэтью, попросив оценить ее работу. — Вот это да, очень хорошо, сестренка! Просто здорово, — он вдруг запнулся и виновато пробормотал, — но папе лучше не знать об этом. — Мальчик затоптал все, что написала на земле сестра. — Нет, Мэтью, нет! — Джоанна попыталась оттолкнуть его. Напуганные шумом, в загоне захрюкали свиньи. — Все хорошо, Джоанна. Не расстраивайся, — Мэтью склонился и обнял сестру. — Н-но ты же сказал, что буквы хорошие! — Они очень хорошие — Мэтью сам удивился, что они написаны правильно, не как у Джона, хотя он на три года старше сестры. В самом деле, не будь Джоанна девочкой, она научилась бы писать очень красиво. Но лучше не забивать этим голову ребенка. — Нельзя оставлять буквы, папа не должен знать об этом, потому я и стер их. — А ты научишь меня другим буквам, Мэтью? — Я уже показал тебе гораздо больше, чем следовало. — Папа не узнает. Я ему не скажу, обещаю. А когда закончу, сотру все буквы до единой. — Джоанна смотрела на брата, умоляя его согласиться. Мэтью покачал головой, сочувствуя сестре. Она была очень настойчива. Ласково взяв ее за подбородок, он уступил. — Хорошо. Но помни, это наш самый большой секрет.
Между ними завязалась игра. При каждом удобном случае, хотя и не так часто, как хотелось Джоанне, Мэтью на земле показывал ей, как рисовать буквы. Она была очень старательной ученицей. Сознавая последствия, Мэтью, однако, не мог устоять перед ней. Ему самому нравилось учиться, и стремление сестры к знаниям тронуло его сердце. Но даже он был потрясен, когда однажды Джоанна принесла ему огромную отцовскую Библию в деревянном переплете. — Что ты сделала? — воскликнул Мэтью. — Отнеси обратно. Не смей прикасаться к ней! — Научи меня читать. — Что? — ее упрямство поражало, — Ну, сестренка, это уж слишком. — Почему? — Э… потому, что читать гораздо труднее, чем учиться писать. Не уверен, что у тебя получится. — Почему же нет? Ты ведь научился. — Да. Но я мужчина, — снисходительно улыбнулся Мэтью. Это было не совсем так, потому что он не прожил еще тринадцати зим. Только через год, когда ему исполнится четырнадцать, он станет настоящим мужчиной. Но мальчику было приятно сознавать свое превосходство, тем более что младшая сестра еще не понимала разницы. — Я тоже смогу. Знаю, что смогу. Мэтью вздохнул. Все было не так просто. — Дело не только в этом, Джоанна. Для девочки уметь писать и читать опасно и противоестественно. — Святая Екатерина умела. Епископ говорил про это в своей проповеди, помнишь? Он сказал, что ее любили за мудрость и образованность. — Это совсем другое. Она была святая. Л ты просто… девочка. Джоанна протянула ему книгу, но вдруг прижала ее к себе. — Почему Екатерина была святой? Мэтью замер с протянутой рукой. — Она была мученицей, которая умерла за веру. Епископ рассказал об этом в проповеди. — А почему ее замучили? Мэтью вздохнул. — Она бросила вызов императору Максимилиану и его пятидесяти мудрецам, доказав в споре лживость язычества. За это ее наказали. Ну ладно, сестренка, отдай книгу. — Сколько ей было лет, когда она сделала это? Какие странные вопросы задает ребенок! — Не хочу больше обсуждать это, — раздраженно сказал Мэтью. — Отдай! Джоанна отступила, крепко вцепившись в книгу. — Она была старая, когда в Александрии спорила с императорскими мудрецами? Мэтью размышлял, удастся ли ему отобрать у сестры книгу. Нет, лучше не делать этого. Ветхий переплет может сломаться. Тогда у них обоих будут такие неприятности, что и подумать страшно. Лучше ответить на вопросы сестры, какими бы глупыми и детскими они ни были, пока она не устанет от этой игры. — Епископ сказал, тридцать три, столько же, сколько было Иисусу Христу, когда его распяли. — А когда Святая Екатерина переспорила императора, ее уже считали образованной, как сказал епископ? — Очевидно, — снисходительно ответил Мэтью. — Как бы еще ей удалось превзойти мудрецов в споре? — Значит… — маленькое личико Джоанны засветилось торжеством, — она научилась всему до того, как стала святой. Когда была девочкой. Как я! На мгновение Мэтью растерялся, но потом рассмеявшись сказал: — Ах ты, бесенок! Так вот ты куда клонишь! Да, спорить ты умеешь, это точно! Улыбаясь, Джоанна с надеждой протянула ему книгу. Покачав головой, Мэтью взял у нее Библию. Что за странное существо: такая решительная, самоуверенная, совсем не похожа на Джона или других детей. Сестра смотрела на него глазами взрослой мудрой женщины. Неудивительно, что у деревенских девочек не было с ней ничего общего. — Отлично, сестренка! Сегодня начнем учиться читать. — Ее лицо засветилось радостью, поэтому Мэтью предостерег. — Не жди многого. Это гораздо труднее, чем ты думаешь. Джоанна обняла его за шею. — Мэтью, я люблю тебя. Мэтью слегка оттолкнул сестру. — Начнем отсюда. Джоанна наклонилась над книгой и, вдыхая запах пергамента и дерева, посмотрела на указанный Мэтью отрывок: Евангелие от Иоанна, глава первая, стих первый. In principio erat verbum et erat apud Deum et verbum erat Deus: Вначале было слово, и слово было от Бога, и слово было Бог.
* * *
Лето и осень выдались теплые, и урожай в деревне собрали такой, какого не помнили многие годы. Но декабрь оказался снежным, с севера дул ледяной ветер. Окно в доме было заколочено досками, стены снаружи сильно занесло снегом, и семья большую часть дня проводила дома. Теперь Джоанне и Мэтью было гораздо труднее найти время для учебы. В хорошие дни каноник уходил на службу, забирая с собой Джона, а Мэтью оставался, чтобы посвятить себя исключительно важным занятиям. Когда Гудрун отправлялась в лес собирать дрова, Джоанна спешила к столу, где сидел Мэтью, и открывала Библию на том месте, где они остановились в прошлый раз. Джоанна делала большие успехи. Перед Великим Постом она одолела почти все Евангелие от Иоанна. Однажды Мэтью достал что-то из-под восковой дощечки и, улыбаясь, протянул ей. — Тебе, сестренка. — Это был деревянный медальон на веревочке. Мэтью надел медальон сестре на шею. — Что это? — удивилась Джоанна. — Кое-что для тебя, чтобы ты носила. — О! — воскликнула она. — Спасибо. Мэтью засмеялся, видя ее недоумение. — Взгляни на переднюю сторону медальона. Джоанна увидела на медальоне лицо, похожее на женское. Мэтью плохо резал по дереву, вышло грубо, но глаза женщины получились очень выразительными, взгляд был пристальный и умный. — А теперь посмотри на обороте, — велел Мэтью. Джоанна перевернула медальон и увидела, что по краю вырезаны буквы. — Святая Екатерина Александрийская, — прочитала она. Вскрикнув от радости, Джоанна прижала медальон к труди. Она поняла: так Мэтью выразил, что признает ее способности и верит в нее. Слезы навернулись на глаза Джоанны. — Спасибо, — повторяла она снова и снова. Мэтью улыбнулся. Джоанна заметила, что у брата вокруг глаз появились круги; он выглядел усталым и измученным. — Ты хорошо себя чувствуешь? — заботливо спросила она. — Конечно! — ответил он слишком быстро. — Приступим к уроку. Однако Мэтью был чем-то обеспокоен и так рассеян, что даже не заметил ее ошибку. — Что-то не так? — поинтересовалась Джоанна. — Нет, нет, немного устал, вот и все. — Тогда, может быть, хватит? Я не против. Сделаем это завтра. — Нет, извини. Просто задумался. Посмотрим, как наши дела? Ах да. Прочти последний абзац еще раз, но обрати внимание что глагол читается: videat, а не videt.На следующий день Мэтью проснулся с воспаленным горлом и головной болью. Гудрун приготовила ему горячий напиток из молока, меда и трав. — Не вставай с постели весь день, — сказала она. — У старухи Уигбод мальчик слег с ангиной, видно, у тебя то же начинается. Мэтью засмеялся и ответил, что у него ничего такого нет, просто перестарался с учебой. Он настоял, чтобы его пустили на улицу помогать Джону подрезать лозу. На следующее утро у Мэтью началась лихорадка и затруднилось дыхание. Даже каноник заметил, что сын очень болен. — Ты сегодня переутомился со своими занятиями, — сказал он Мэтью. Такой снисходительности он никогда не проявлял. Они послали в монастырь Лорш за помощью, и через два дня явился лекарь, чтобы осмотреть Мэтью. Он печально покачал головой и что-то пробормотал. Впервые Джоанна поняла, что состояние брата очень тяжелое. Эта мысль ужаснула ее. Монах, сделав Мэтью обильное кровопускание, прибегнул к молитве и священным дарам. Однако ко дню Святого Северина Мэтью стало совсем плохо: начался сильный жар, и мальчик весь содрогался от изнурительного кашля. Джоанна зажимала уши, чтобы этого не слышать. Весь следующий день и всю ночь семья не спала. Джоанна стояла рядом с матерью на коленях на холодном земляном полу, напуганная ужасными переменами в Мэтью. Кожа на его лице натянулась, и знакомые черты превратились в страшную маску. Под лихорадочным румянцем проступала зловещая бледность. В темноте над ними возвышался каноник, его голос монотонно звучал всю ночь. Он молился об избавлении сына от мук. «Domine Sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, qui fragihtatem condittonis nostrae infusa virtutis tuae dignatione confirmas…» — Джоанна сонно поклонилась. — Нет! Джоанна очнулась от внезапного крика матери. — Не уходи! Мэтью, сыночек мой! Джоанна взглянула на кровать. Казалось, ничего не изменилось. Мэтью лежал неподвижно, как и прежде, но вдруг она заметила, что на лице больше нет лихорадочного румянца: оно стало серым, как камень. Взяв руку брата, девочка почувствовала, что она вялая, тяжелая, и не такая горячая, как прежде. Она крепко сжала ее и приложила к щеке. Мэтью, пожалуйста, не умирай! Смерть означала, что он больше никогда не будет спать рядом с ней и Джоном в большой кровати, никогда больше не увидит она, как Мэтью склоняется над сосновым столом, хмурится и что-то сосредоточенно изучает, никогда уже не придется ей сидеть рядом с ним и следить за его пальцем, скользящим по строкам Библии. Пожалуйста, не умирай!
Вскоре Джоанну увели, а мать и деревенские женщины обмыли тело Мэтью. Когда все было сделано, девочке разрешили проститься с братом. Если бы не странный серый цвет его кожи, можно было решить, что он спит. Джоанна подумала, что если коснется брата, то он проснется, откроет глаза и снова лукаво посмотрит на нее. Она поцеловала его в щеку, как велела мама. Щека была холодная и твердая, как у мертвого кролика, которого Джоанна принесла из ледника на прошлой неделе. Она отпрянула от брата. Мэтью покинул их. Уроков больше не будет. Стоя у загона для скота, Джоанна смотрела на черные проталины в снегу, где она выводила свои первые буквы. — Мэтью, — прошептала девочка и опустилась на колени. От мокрого снега платье стало влажным. Было очень холодно, но в дом идти нельзя. Нужно что-то делать. Указательным пальцем она начертила на снегу знакомые буквы из Евангелия от Иоанна. — Ubi sum ego vos поп potestis venire. Туда, где я, тебе пути нет. — Налагаю на всех нас епитимью, — объявил каноник после похорон. — Во искупление грехов, навлекших на нашу семью гнев Божий. Джоанну и Джона он заставил молиться на коленях на жестком деревянном подмостке, служившем в доме алтарем. Весь день они молились. Им не разрешили ни есть, ни пить. Лишь ночью их отпустили и позволили спать в кровати, которая без Мэтью показалась детям большой и пустой. Джон хныкал от голода. Посреди ночи Гудрун разбудила их и, прижав палец к губам, дала знать, чтобы они молчали. Каноник заснул. Она быстро протянула детям несколько кусков хлеба и деревянную кружку теплого козьего молока. Еду она вынесла из кладовки так, что муж ничего не заметил. Джон, съев свою порцию хлеба, остался голодным. Джоанна поделилась с ним. Как только они покончили с едой, Гудрун заботливо укрыла их шерстяным одеялом и исчезла, унеся с собой кружку. Дети прижались друг к другу и быстро уснули. На рассвете каноник разбудил их и, не разрешив нарушить пост, послал к алтарю, продолжить епитимью. Минули утро и полдень, а они все стояли на коленях. Полуденные лучи солнца, проникнув сквозь оконную щель, осветили алтарь. Джоанна вздохнула и изменила положение на импровизированном алтаре. Колени у нее болели, в животе урчало. Она пыталась сосредоточиться на словах молитвы: «Pater Noster qui es in caelis, sanctificetur nomen timm, adveniat regnnm tuum…» Все бесполезно! Усталая и голодная, она тосковала по Мэтью и не понимала, почему не может плакать. Горло и грудь сжимало, а слез не было. Девочка смотрела на небольшое деревянное распятье, висевшее перед алтарем. Каноник привез его из родной Англии, когда приехал в качестве миссионера в Саксонию. Выполненная мастером из Нортумберленда, фигура Христа выглядела внушительнее и была более точной, чем те, что делали франки. Все части его тела, распростертого на кресте, были удлиненные, ребра рельефно выступали и даже кадык — странное напоминание о Его принадлежности к мужскому полу, — выделялся намного сильнее. Следы крови из многочисленных ран Христа тоже казались намного заметнее. Несмотря на выразительность, фигура выглядела гротескной. Джоанна знала, что ее должна переполнять любовь к Христу и благоговейный трепет перед Его жертвой, но испытывала только отвращение. В сравнении с красивыми и сильными богами ее мамы, эта фигура представлялась уродливой, сломленной и побежденной. Стоявший позади нее Джон начал хныкать. Джоанна взяла его за руку, понимая, что она сильнее брата. Хотя ему было десять лет, а Джоанне семь, она считала естественным заботиться о Джоне и защищать его. Глаза Джона наполнились слезами. — Это несправедливо, — сказал он. — Не плачь, — Джоанна испугалась, что его всхлипывания привлекут внимание матери или, еще хуже, отца. — Епитимья скоро закончится. — Не в этом дело! — ответил он. — В чем же? — Ты не поймешь. — Скажи. — Отец захочет, чтобы я стал заниматься, как Мэтью. Уверен, обязательно захочет. А я так не умею, не могу. — Надеюсь, сможешь. — Джоанна догадалась, почему брат испугался. Отец ругал его за лень и даже бил, когда он не успевал в учении, но Джон не был виноват. Он очень старался, но занятия всегда давались ему с трудом. — Нет, — упрямился Джон, — я не такой, как Мэтью. Знаешь, что отец хотел отправить его в Аахен для поступления в дворцовую школу? — Правда? — изумилась Джоанна. Дворцовая школа! Она и не предполагала, что отец возлагает на Мэтью такие надежды. — А я даже не могу прочитать учебника по грамматике. Отец говорит, что Мэтью выучил его, когда ему было девять лет, а мне уже десять. Что же делать, Джоанна? Что делать? — Ну… — Джоанна хотела успокоить брата, но напряжение последних двух дней довело Джона до отчаянья. — Он побьет меня, — и Джон расплакался в голос. — Не хочу, чтобы меня били! На пороге появилась Гудрун. Беспокойно оглянувшись, она поспешила к Джону. — Перестань. Хочешь, чтобы отец услышал? Говорю тебе, замолчи! Джон неловко спустился с алтаря, откинул голову и завопил во все горло. Не обращая внимания на слова матери, он продолжал рыдать, и слезы ручьями текли по его раскрасневшимся щекам. Гудрун схватила Джона за плечи и стала трясти так, что его голова откидывалась то назад, то вперед. Глаза у него при этом были закрыты. Джоанна даже слышала, как стучали зубы Джона. Наконец, он вздрогнул и взглянул на мать. Она прижала его к себе. — Ты больше не будешь плакать. Ради твоей сестры и ради меня ты не должен плакать. Джон, все будет хорошо, только молчи, — она укачивала его, пытаясь успокоить и убедить. Джоанна задумчиво смотрела на них, понимая, что Мать права. Джон, не отличавшийся умом, не мог заменить Мэтью. Но… Лицо ее вспыхнуло от возбуждения, когда в голове промелькнула отчаянная мысль. — Что такое, Джоанна? — Гудрун заметила странное выражение на лице дочери. — Ты заболела? — Это очень встревожило ее, потому что демоны, вызывавшие лихорадку, все еще обитали в доме. — Нет, мама. Но у меня есть идея, отличная идея! Гудрун про себя застонала. У девочки полно идей, но от них одни неприятности. — Да? — Папа хотел, чтобы Мэтью учился в дворцовой школе. — Знаю. — А теперь он пожелает, чтобы Джон занял место Мэтью. Поэтому Джон и плачет, мама. Он сознает, что у него ничего не получится, и боится рассердить палу. — Ну и что? — удивилась Гудрун. — Мама, это могу сделать я: учиться вместо Мэтью. Потрясенная Гудрун молчала. Ее доченька, ее деточка, которую она так любила, единственная, с кем могла поговорить на родном языке и поделиться секретами, будет изучать священные книги христианских завоевателей? Мысль о том, что Джоанна думала об этом, была невыносима. — Что за чушь! — опомнилась Гудрун. — Я буду хорошо учиться, — настаивала Джоанна. — Мне нравится учиться всему, я могу это сделать, и тогда Джону будет нечего бояться. Ему трудно. — Джон сдавленно всхлипнул, все еще пряча голову на груди матери. — Ты девочка. Это не для тебя, — снисходительно заметила Гудрун. — Кроме того, папе это не понравится. — Но, мама, так было раньше. Теперь все изменилось. Разве ты не видишь? Теперь папа думает по-другому. — Я запрещаю тебе говорить об этом с отцом. Наверное, что-то случилось с твоей головой от голода и усталости, как у брата. Иначе ты бы не говорила такой ерунды. — Но, мама, если бы я могла показать ему… — Я сказала: хватит! — тон Гудрун исключал дальнейшие возражения. Джоанна замолчала. Она нащупала на груди под платьем медальон Святой Екатерины, который Мэтью вырезал для нее. Ну и что, что я девочка. Джоанна подошла к Библии, лежавшей на небольшом деревянном столе, подняла ее, ощупав привычный позолоченный переплет. Запах дерева и пергамента, напомнил Джоанне об их занятиях с Мэтью, обо всем, чему он учил ее, и обо всем, что ей хотелось узнать. Возможно, если я покажу папе, что умею… Надеюсь, тогда он поймет, что я справлюсь. И снова Джоанну охватила радость. Но не исключены неприятности. Папа может очень рассердиться. Отец часто бил Джоанну, и сила его гнева была ей хорошо знакома. Она стояла в нерешительности, поглаживая ровную поверхность деревянного переплета Библии. Внезапно открыв книгу, Джоанна попала как раз на Евангелие от Иоанна, то место, с которого Мэтью начал учить ее читать. «Это знак», — подумала она. Мать сидела к ней спиной, укачивая Джона, который перестал рыдать и только икал. Это мой шанс. Джоанна понесла открытую книгу в другую комнату. Отец сгорбившись сидел на стуле, опустив голову и закрыв лицо руками. Когда Джоанна подошла, он не шелохнулся. Испугавшись, она вдруг остановилась. Идея показалась ей невозможной, абсурдной. Отец никогда не согласится. Джоанна уже собиралась уйти, когда отец отнял руки от лица и посмотрел на нее. Она стояла перед ним с раскрытой книгой. Ее голос дрожал, когда она начала читать: — In principio erat verbum et verbum erat apput Deum et verbum erat Deus… Отец не остановил Джоанну, и она продолжила чтение с большей уверенностью. — Все через Него начало быть, и без Него ничто не могло быть, что начало быть, В Нем была жизнь, и жизнь была свет людям. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Красота и сила слов вдохновили девочку, придали сил и уверенности. Она дошла до конца, раскрасневшись от успеха и зная, что прочла очень хорошо, Джоанна взглянула на отца. Он пристально смотрел на нее. — Я умею читать. Мэтью научил меня. Мы делали это тайком, чтобы никто не знал, — произнесла она на одном дыхании. — Ты будешь гордиться мною, папа. Я знаю. Позволь мне учиться вместо Мэтью, и я… — Ты! — яростно зарычал отец. — Это ты! — он с упреком указал на нее. — Это именно ты! Из-за тебя Господь проклял нас. Ненормальный ребенок! Предательница! Ты убила брата! Джоанна задохнулась. Каноник приблизился к ней с поднятой рукой. Джоанна уронила книгу и хотела убежать, но он поймал ее, развернул к себе и хлестнул по лицу с такой силой, что она отлетела к стене, ударившись о нее головой. Отец подошел к ней. Джоанна заслонилась, ожидая нового удара, но его не последовало. Спустя мгновение раздались хриплые гортанные звуки. Она поняла, что отец плачет. Никогда Джоанна не видела плачущего отца. — Джоанна! — Гудрун поспешила в комнату. — Что ты сделала, деточка! — Она опустилась на колени, разглядывая синяк под правым глазом дочери. Находясь между мужем и Джоанной, Гудрун шептала: — Что я тебе говорила? Глупенькая девочка, смотри, что ты наделала! — Чуть громче она произнесла: — Отправляйся к брату, ему нужна твоя помощь. — Она помогла Джоанне встать и быстро отвела ее в другую комнату. Каноник мрачно посмотрел на Джоанну, когда она шла к двери. — Забудь про девочку, муж мой, — сказала Гудрун, чтобы успокоить его. — Не обращай на нее внимания. Не отчаивайся, Помни, у тебя есть еще сын. (обратно)
Глава 3

В августе созрели пшеничные колосья. На восьмом году жизни, Джоанна впервые встретилась с Эскулапием. Он остановился в доме каноника на пути в Майнц, где должен был преподавать в кафедральной школе. — Добро пожаловать, господин, добро пожаловать! — приветствовал Эскулапия отец Джоанны. — Мы рады, что вы благополучно прибыли. Надеюсь, путешествие не слишком утомило вас? — он почтительно поклонился гостю через порог. — Входите, отдохните. Гудрун! Принеси вино! Ваш визит большая честь для моего скромного дома. — По поведению отца Джоанна догадалась, что Эскулапий очень известный ученый. Он был греком, одетым по византийской моде. Его белая льняная хламида была застегнута простой металлической брошью и покрыта длинной накидкой, отороченной серебряной нитью. Волосы у него были коротко острижены, как у простого крестьянина, смазаны маслом и зачесаны назад. В отличие от каноника, который брился по обычаю франкских священников, Эскулапий носил длинную бороду, такую же седую, как его волосы. Когда отец позвал Джоанну, чтобы представить гостю, она очень смутилась и робко стояла перед незнакомцем, уставившись на причудливый ремешок его сандалий. Наконец каноник отослал ее помогать матери с обедом. За столом каноник сказал: — По обычаю мы читаем Священное Писание перед приемом пищи. Не окажете ли честь, почитав нам сегодня? — С удовольствием. — Эскулапий улыбнулся, осторожно раскрыл деревянный переплет и перелистал хрупкие страницы. — Экклезиаст. Omnia tempus habent, et momentum suum cuique negotio sub caelo… Джоанна никогда не слышала такой прекрасной латыни. У него было необычное произношение. Слова звучали не слитно, как в галльской манере, а четко. — Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное… Джоанна не раз слышала, как ее отец читал то же самое, но благодаря Эскулапию она впервые поняла красоту слов, которой раньше не замечала. Закончив, Эскулапий закрыл Библию. — Превосходная книга, — обратился он к канонику. — Написана изумительным почерком. Вы, должно быть, привезли ее из Англии. Слышал, что это искусство все еще процветает там. Большая редкость в наше время встретить манускрипт без грамматических ошибок. Каноник раскраснелся от удовольствия. — В библиотеке Линдисфарна таких много. Этот экземпляр доверил мне епископ, назначив меня миссионером в Саксонии. Обед удался на славу, и был самым обильным, из всех какие когда-либо готовили в их доме. На столе стояла вырезка жареной свиной солонины, покрытой нежной хрустящей корочкой, вареный горох и свекла, пикантный сыр и батоны хрустящего хлеба, выпеченного в золе. Каноник велел подать франкского пива, ароматного, темного и густого, словно деревенский бульон. Потом они ели жареный миндаль и сладкие печеные яблоки. — Изумительно! — воскликнул Эскулапий в конце обеда. — Давно я так не ел. С тех пор, как покинул Византию, ни разу не отведал такой нежной свинины. Гудрун обрадовалась: — Это потому, что у нас свои свиньи, и перед тем, как забить, мы откармливаем их. Мясо черных лесных свиней жесткое и невкусное. — Расскажите о Константинополе! — нетерпеливо попросила Джоанна. — Правда, что там улицы вымощены драгоценными камнями, а из фонтанов льется жидкое золото? — Her, — рассмеялся Эскулапий, — но это замечательное место стоит увидеть. Разинув рты, Джоанна и Джон слушали рассказ Эскулапия о Константинополе, расположенном на высоком мысе. Мраморные дома, покрытые золотом и серебром, поднимались на несколько этажей, глядя на Золотой Рог, залив, где стояли на причале корабли со всего света. В этом городе Эскулапий родился и вырос. Ему пришлось бежать, когда его семью вовлекли в религиозный спор, связанный с уничтожением икон. Джоанна не понимала этого, хотя отец знал, о чем речь, и мрачно кивал, когда Эскулапий рассказывал о гонениях на семью. Потом они перешли к обсуждению теологических вопросов, и Джоанну с братом отправили в спальню родителей, поскольку гостю предоставили их большую кровать поближе к очагу. — Пожалуйста, позвольте мне остаться и послушать, — обратилась к матери Джоанна. — Нет. Ты давно должна спать. Кроме того, нашгость устал рассказывать. А серьезные разговоры тебе не интересны. — Но… — Все, детка. Марш в кровать. Утром мне понадобится твоя помощь. Папа хочет, чтобы мы устроили новый пир для гостя. Еще один такой гость, и мы разоримся, — ворчала Гудрун. Уложив детей на соломенную постель, она поцеловала их и вышла. Джон заснул сразу, но Джоанна лежала с открытыми глазами, пытаясь расслышать голоса, доносившиеся из-за толстой деревянной перегородки. Наконец, одолеваемая любопытством, она встала, подошла к двери и опустилась на колени. Теперь девочка видела, как ее отец и Эскулапий сидят и разговаривают возле очага. Было холодно, до Джоанны не доходил жар от огня, а на ней была только легкая рубашка. Она дрожала от холода, но и не помышляла вернуться в постель. Ей было необходимо услышать то, что говорил Эскулапий. Речь зашла о кафедральной школе. — Вам что-нибудь известно о местной библиотеке? — спросил каноника Эскулапий. — О да, — отвечал каноник, несомненно довольный, что его об этом спросили. — Я провел в ней многие часы. Там собрана отличная коллекция, около семидесяти пяти экземпляров. Эскулапий вежливо кивнул, хотя слова не произвели на него особого впечатления. Джоанна с трудом представляла себе столько книг в одном месте. — Есть даже копии De scriptoribus ecclesiasticus Исидора и De gubernatione Dei Салвиана, — сказал каноник, — а также полное собрание Commentarii Джерома с превосходными иллюстрациями. Кроме того, имеется самый точный манускрипт Hеxаemeron нашего земляка Святого Базиля. — Есть ли работы Платона? — Платона? — вопрос шокировал каноника. — Конечно нет. Его работы не для христиан. — О? Следовательно, вы не одобряете изучение логики? — Она занимает свое место в тривиуме, — раздраженно ответил каноник, — при использовании определенных текстов, например Августина и Боэция. Но вера основана на признании силы святого Духа, а не на логических доказательствах. Из-за глупого любопытства люди иногда лишаются своей веры. — Понимаю вашу точку зрения, — вежливо откликнулся Эскулапий, явно не согласившись с каноником. — Возможно, однако, вы ответите мне на это: как получается, что человек способен разумно мыслить? — Разум есть проявление божественного в человеке. «И сотворил Бог человека по образу и подобию Своему». — Бы хорошо знакомы с Писанием. Следовательно, вам придется признать, что разум дан человеку Богом? — Несомненно. Джоанна подобралась ближе. Она не хотела пропустить ни единого слова Эскулапия. — Тогда зачем бояться сопоставлять разум и веру? Если Бог дал нам разум, то как же разум может увести нас от Бога? Каноник заерзал на стуле. Джоанна никогда не видела отца в таком замешательстве. Он был миссионер, обученный наставлять и проповедовать, но не привыкший к логическим дебатам, поэтому он так и не ответил. — В самом деле, — продолжил Эскулапий. — Не из-за недостатка ли веры боится человек логического рассуждения? Если цель сомнительна, тогда путь к ней наполнен страхом. Твердая вера не знает страха, ибо если Бог существует, то разум не может не привести нас к Нему. «Cogito, ergo Deus est», — сказал Святой Августин. «Я мыслю — значит Бог существует». Джоанна так увлеклась их спором, что забыла об осторожности и одобрительно воскликнула. Отец резко повернулся к перегородке. Девочка отпрянула в темноту, затаив дыхание. Разговор продолжился. «Слава Богу, они не заметили меня». Она медленно перебралась к кровати, где сопел спящий Джон. Еще долго после того, как стихли голоса, Джоанна лежала без сна. На сердце у девочки было очень легко и свободно, словно с него свалился камень. Она не виновна в смерти Мэтью. Его убило не ее желание учиться, как утверждал отец. Услышав Эскулапия, Джоанна поняла, что стремление к знаниям естественно и безгрешно. Это следствие того, что Господь дал человеку разум. «Я мыслю — значит Бог существует». Она поняла истину этих слов. Слова Эскулапия поселили надежду в душе Джоанны. «Может быть, завтра я смогу поговорить с ним, — думала она. — И даже покажу ему, что умею читать». Это так вдохновило ее, что она так и не смогла заснуть до рассвета.
На следующее утро, очень рано, мать послала Джоанну в лес за буковыми орехами и желудями для свиней. Желая поскорее вернуться домой к Эскулапию, Джоанна спешила выполнить работу, но в осеннем лесу, засыпанном опавшей листвой, собирать орехи было трудно, а возвращаться домой с полупустой корзиной — нельзя. Когда Джоанна пришла из леса, Эскулапий уже собирался покинуть их дом. — Ах, я так надеялся, что вы отобедаете с нами еще раз, — сокрушался каноник. — Мне интересны ваши мысли о тайне Триединства, хотелось бы продолжить беседу. — Вы очень добры, но я должен быть в Майнце вечером. Меня ждет епископ. Мечтаю приступить к новым исследованиям. — Конечно, конечно, — сказал каноник и помолчав, добавил: — Но вы не забыли про наш разговор о мальчике? Не посмотрите ли его уроки? — Это самое меньшее, что я могу сделать для такого гостеприимного хозяина, — вежливо ответил Эскулапий. Джоанна взяла свое шитье и уселась на стуле неподалеку, стараясь остаться незамеченной, чтобы отец не прогнал ее. Но бояться было нечего, потому что каноник сосредоточился только на Джоне, Надеясь произвести на Эскулапия впечатление успехами сына, он начал задавать Джону вопросы по грамматике Доната. Каноник совершил большую ошибку, поскольку именно в грамматике Джон был особенно слаб. Он постоянно путал дательный падеж с творительным, неумело спрягал глаголы, а в конце не смог правильно разобрать предложение. Эскулапий слушал внимательно. Покраснев от смущения, каноник перешел к более безопасной теме и начал с большого трактата Алкуина, который Джон знал неплохо. С первой частью Катехизиса он справился. — Что есть год? — Телега с четырьмя колесами. — Какие кони тянут ее? — Солнце и луна. — Сколько в ней мест? — Двенадцать. Довольный успехом сына, каноник перешел к более сложной части Катехизиса. Джоанна опасалась того, что могло произойти, ибо Джон был близок к истерике. — Что есть жизнь? — Радость благословенных, скорбь печальных и… и… — Джон запнулся. Эскулапий поморщился. Джоанна закрыла глаза, сосредоточившись на нужных словах и желая всей душой, чтобы Джон произнес их. — Ну? — стал подгонять сына каноник. — И что? Лицо Джона озарило вдохновение. — И поиск смерти! Каноник кивнул. — А что есть смерть? Оцепенев, Джон уставился на отца, словно загнанный олень, преследуемый охотниками. — Что есть смерть? — повторил каноник. Бесполезно. Непонимание последнего вопроса и нарастающий гнев отца лишили Джона самообладания. Он забыл все. Джоанна заметила, что брат готов расплакаться. Отец гневно посмотрел на него. Эскулапий взирал на них с сочувствием. Джоанна больше не могла этого вынести. Смятение брата, гнев отца, невыносимое унижение обоих и нетерпение Эскулапия лишили ее выдержки. Не успев сообразить, что делает, Джоанна выпалила: — Неизбежность происходящего, неопределенность паломничества, слезы живущих, подлость человека. Ее слова поразили всех, словно громом. Все трое ошеломленно посмотрели на девочку. Лицо Джона выражало досаду, лицо отца — ярость, Эскулапий пришел в изумление. Первым дар речи обрел каноник. — Что за наглость? — возмутился он, но, вспомнив про Эскулапия, сказал: — Если бы не наш дорогой гость, я наказал бы тебя немедленно. Но с наказанием пока повременим. Прочь с глаз моих! Джоанна поднялась. Она сдерживалась, пока не дошла до двери и не захлопнула ее за собой. Девочка бежала со всех ног до папоротников на опушке леса и там упала на землю. Ее терзала невыносимая душевная боль. Быть униженной перед тем, на кого она так хотела произвести впечатление! Это несправедливо. Джон не знал ответа, а она знала. Почему ей нельзя было ответить? Джоанна долго сидела, наблюдая за удлиняющимися тенями деревьев. На землю спустился дрозд и стал клевать червей. Найдя червячка, он важно и гордо выставил грудку. «Точно, как я, — подумала Джоанна с горечью. «Надулась от гордости за то, что сделала». Она знала, что гордыня грех, ее за это часто наказывали, но преодолеть себя не могла. — Я умнее Джона. Почему учиться можно только ему, а не мне? Дрозд улетел. Джоанна следила за ним, пока он не скрылся среди деревьев. Она прикоснулась к медальону Святой Екатерины и вспомнила Мэтью. Он посидел бы с ней, поговорил, объяснил все, чтобы она поняла. Джоанна очень скучала по нему. «Ты убила своего брата», — сказал отец. Эти слова тяжело ранили ее. Но дух Джоанны сопротивлялся, она была горда и желала большего, чем Бог определил женщине. Но почему Бог наказал Мэтью за ее грех? Это же лишено всякого смысла. Что не позволяет осуществиться ее мечтам? Все считали желание Джоанны учиться противоестественным. Но она жаждала знаний, открытых ученым людям. У остальных девочек в деревне интересы были другие. Им нравилось сидеть на службе в церкви, хотя они не понимали ни слова. Принимая на веру все, о чем им говорили, они ни к чему не стремились. Они мечтали о хорошем муже, таком, который не будет их бить, о куске земли, чтобы работать на нем. Они даже не помышляли выйти за пределы безопасного и знакомого мира деревни. Джоанна не понимала их так же, как и они ее. «Почему я другая? — размышляла она. — Что во мне не так?» Позади послышались шаги. Джон коснулся плеча сестры и мрачно сказал: — Меня прислал отец. Хочет видеть тебя. — Прости, — Джоанна взяла его за руку. — Не стоило этого делать. Ты всего лишь девочка. Эти слова ей были непонятны, но Джоанна была благодарна, что брат простил ее, хотя она унизила его перед гостем. — Я была не права. Прости. Джон попытался выказать уязвленную гордость, но ему это не удалось. — Ладно, прощаю. По крайней мере, папа на меня больше не сердится. А теперь… в общем, сама увидишь. Он помог сестре подняться с сырой земли и отряхнуть юбку от листьев. Держась за руки, они направились к дому. В дом Джоанна вошла первая. — Иди, — сказал Джон, — они хотят видеть тебя. Они? Джоанна задумалась, что он имел в виду, но спросить не успела, так как увидела отца и Эскулапия, ожидавшего у очага. Она подошла и покорно встала перед ними. У отца было такое выражение лица, будто он съел что-то кислое. Он жестом направил дочь к Эскулапию, а тот подозвал ее ближе. Взяв девочку за руки, Эскулапий пристально посмотрел на нее. — Ты знаешь латынь? — спросил он. — Да, господин. — Как ты этому научилась? — Я слушала, господин, когда мой брат учил уроки. Представив себе реакцию отца на эти слова, Джоанна потупилась. — Знаю, что мне не следовало этого делать. — Чему еще ты научилась? — спросил Эскулапий. — Я умею читать, господин, и немного писать. Когда я была маленькая, мой брат Мэтью учил меня. Краем глаза Джоанна заметила, что отец сердит. — Покажи мне. Эскулапий открыл Евангелие от Луки. Она начала читать, поначалу запинаясь на некоторых латинских словах, поскольку давно не читала: «Quomodo assimilabimtis regnum Dei aut in qua parabola ponemus illud?» — «Чему подобно Царство Божье? И чему уподоблю его? — Джоанна уверенно продолжила чтение до самого конца. — Оно подобно горчичному зерну, взяв которое человек посадил в своем саду, и выросло оно, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в его ветвях». Она умолкла. В тишине Джоанна слышала, как осенний ветер шелестит соломой на крыше. — А ты понимаешь то, что читаешь? — тихо спросил Эскулапий. — Думаю, да. — Объясни, пожалуйста. — Это означает, что вера, словно горчичное зернышко, посеяно в сердце, как зерно в земле. Если ухаживать за зернышком, оно вырастет и станет красивым деревом. Если заботиться о Своей вере, то обретешь Царствие Небесное. Эскулапий почесал бороду, но Джоанна не поняла, одобрил ли он то, что она сказала. Неужели толкование неправильно? — Или… — у нее появилась новая идея. — Да? — удивленно поднял брови Эскулапий. — Это может означать, что Святая Церковь похожа на зерно. Поначалу она была маленькая, росла в темноте, заботясь только о Христе и двенадцати апостолах, но превратилась в огромное дерево, раскинувшееся на весь мир. — А что за птицы укрываются на ее ветвях? — спросил Эскулапий. — Это верующие, которые находят спасение в церкви, как птицы — в ветвях дерева. Выражение лица Эскулапия не изменилось. Он снова задумчиво погладил бороду. Джоанна отважилась на новую попытку. — А еще… — она размышляла, — горчичное зерно, возможно, означает Христа. Христос был как зерно, когда его похоронили, и стал как дерево, когда воскрес и вознесся на небо. — Вы это слышали? — повернулся Эскулапий к канонику. — Джоанна всего лишь девочка, едва ли она… — Зерно есть вера, церковь и Христос, — сказал Эскулапий. — Allegoria, moralis, anagoge. Классическое триединство в толковании Библии. Конечно, выраженное довольно просто, но интерпретировано так же полно, как у самого Григория Великого. И это без какого-либо формального образования! Восхитительно! Ребенок чрезвычайно умен. Я берусь обучать ее. Джоанна была ошеломлена. Не сон ли это? Она боялась верить в то, что это происходит на самом деле. — Конечно же не в школе, — продолжил Эскулапий. — Это запрещено. Я буду приходить сюда раз в неделю. И обеспечу ее книгами для занятий. Каноник остался недоволен. Он ожидал другого. — Все это очень хорошо, — раздраженно заметил он, — но как насчет мальчика? — Ах, мальчик? Боюсь, у него нет способностей к наукам. Если он продолжит учение, то сможет рассчитывать на должность деревенского священника. Закон требует от них лишь умения читать, писать и знать правила святого таинства. Но остальная наука не для него. — Едва верю своим ушам! Вы собираетесь учить девочку, а не мальчика? — У нее талант, у него таланта нет. По-другому не получается, — пожал плечами Эскулапий. — Женщина-ученый! — каноник негодовал. — Она будет изучать священные тексты, тогда как ее брат к ним не допущен? Я этого не позволю. Либо вы обучаете обоих, либо никого. Джоанна затаила дыхание. Немыслимо, чтобы, едва добившись желаемого, она потеряла все. Про себя девочка начала молиться, но остановилась. Возможно, Богу это не понравится. Она нащупала под рубахой деревянный медальон Святой Екатерины. Она-то поймет. «Пожалуйста, — молча молилась Джоанна. — Помоги мне. Я сделаю тебе хорошее подношение. Только, пожалуйста, помоги мне». — Я уже сказал, — занервничал Эскулапий, — что у мальчика нет способностей к учению. Заниматься с ним — пустая трата времени. — Тогда решено, — сердито проговорил каноник. Джоанна не верила своим глазам, наблюдая, как он встает со стула. — Один момент, — сказал Эскулапий. — Вижу, вы не отступите от своих намерений. — Да. — Очень хорошо. У девочки незаурядный ум. При хорошем обучении она добьется многого. Не смею упустить такую возможность. Поскольку вы настаиваете, я буду учить обоих. — Спасибо! — поспешно воскликнула Джоанна. Но ее слова были обращены скорее к Святой Екатерине, чем к Эскулапию. Она едва сдерживала волнение. — Я буду очень стараться. Эскулапий посмотрел на девочку проницательным умным взглядом. «Словно внутри у него огонь», — подумала Джоанна. Свет, который будет освещать ей предстоящие недели и месяцы. — Ты действительно будешь стараться? — Под густой седой бородой промелькнула улыбка. — О да, ты будешь стараться. (обратно)
Глава 4

РИМ
В сводчатом мраморном Латеранском дворце было прохладно после знойной жары римских улиц. Когда огромные деревянные двери папской резиденции захлопнулись позади, Анастасий остался в темноте Патриархиума, растерянно озираясь по сторонам. Инстинктивно он потянулся к руке отца, но, вспомнив слова матери, удержался. — Стой с высоко поднятой головой и не прижимайся к отцу, — сказала ему мать одевая его в то утро. — Тебе уже двенадцать лет, пора учиться быть мужчиной. — Она решительно поправила и подтянула его пояс, украшенный драгоценными камнями. — И прямо смотри на тех, кто обращается к тебе. Честь семьи превыше всего. Ты не должен заискивать перед ними. Анастасий распрямил плечи и поднял голову. Для своего возраста он был маленького роста, чем вызывал бесконечное сожаление окружающих, но всегда старался держаться так, чтобы казаться как можно выше. Глаза начали привыкать к темноте, и Анастасий огляделся. Это был его первый визит во дворец, в величественную резиденцию Папы и средоточие власти Рима. Дворец производил необычайное впечатление. Внутри него разместилось просторное хранилище церковных архивов и сокровищница, а также множество часовен, трапезных и капелл. Среди них была и святая святых — знаменитая личная часовня Папы. Перед Анастасием, на стене большого зала, висела обширная tabula mundi, настенная карта с описанием, изображавшая мир в виде плоского диска, окруженного океанами. Три континента: Азия, Африка и Европа, разделялись великими реками Танаис и Нилом, а также Средиземным морем. В самом центре мира располагался священный город Иерусалим, на востоке граничащий с земным раем. Анастасий разглядывал карту, и его внимание привлекло пустое пространство на краю земли, таинственное и пугающее, где мир низвергался в темноту. К ним подошел мужчина в белом далматике, который носили члены папского двора. — Передаю вам приветствие и благословение нашего Святейшего Отца, Папы Паскаля, — произнес он. После обязательных формальностей оба расслабились. — Полагаю, вы пришли сюда повидаться с Теодором? — Да, — кивнул отец Анастасия. — Договориться о назначении моего племянника Косьмы на должность казначея. — Понизив голос, он добавил: — За это заплатили несколько недель назад. Не понимаю, что задержало назначение. — Теодор очень занят в последнее время. Знаете, этот ужасный спор о владениях монастыря в Фарфе. Святого Отца крайне расстроило решение верховного суда, — наклонившись поближе, мужчина прошептал, — и еще больше разочаровало, что Теодор принял сторону императора. Будьте готовы к тому, что теперь Теодор сможет мало сделать для вас. — Я думал об этом, — отец Анастасия пожал плечами. — Однако Тео все еще управляющий и деньги заплачены. — Посмотрим. Разговор внезапно прервался, потому что к ним подошел второй человек в таком же далматике. Анастасий, почувствовал, как отец напрягся. — Благословение Святейшего Отца тебе, Сарпат, — сказал отец. — И тебе, мой дорогой Арсений, и тебе, — кивнул мужчина. Его рот странно искривился. — Люциан, — обратился он к первому мужчине. — Вы с Арсением так увлеченно беседовали. Какие-то интересные новости? Хотелось бы услышать, — он нарочито зевнул. — Жизнь здесь так скучна после ухода Императора. — Нет, Сарпат, конечно, нет. Если бы появились какие-то новости, я бы тебе сообщил, — нервно ответил Люциан. Отцу же Анастасия он сказал: — Ну что ж, Арсений, мне надо идти. Дела, — поклонившись, Люциан быстро удалился. — Люциан последнее время резок, — покачал головой Сарпат. — Интересно, почему? — Он пристально взглянул на отца Анастасия. — Ну что же, это не важно. Вижу, вы сегодня не один. — Да. Позвольте представить вам моего сына Анастасия. Он скоро должен сдавать экзамен, чтобы стать лектором, — и с чувством добавил, — его дядя Тео им особенно гордится. Именно поэтому я и привел его с собой, чтобы они встретились. Анастасий поклонился. — Процветания вам во имя Его, — промолвил он вежливо, как его учили. — О! — священник улыбнулся. — Мальчик превосходно владеет латынью. Поздравляю вас, Арсений. Это ваше сокровище… если, конечно, он не унаследовал печально знаменитых дядюшкиных взглядов. — И сразу продолжил: — Да, да, прекрасный мальчик. Сколько ему лет? — Вопрос был адресован отцу Анастасия. — После Рождественского поста мне исполнилось двенадцать, — ответил Анастасий. — Неужели! Ты выглядишь моложе, — Сарпат погладил мальчика по голове. Анастасий сразу невзлюбил его. Вытянувшись, чтобы выглядеть повыше, он заметил: — Уверен, взгляды моего дяди не могут быть дурными, иначе он не стал бы премицерием. Отец предупреждающе сжал руку Анастасия, но глаза его оставались мягкими, а губы улыбались. Собеседник уставился на мальчика то ли вопросительно, то ли злобно. Анастасий встретил его взгляд спокойно. Через мгновенье мужчина сосредоточил внимание на отце Анастасия. — Такая семейная солидарность! Как трогательно! Ну, ну, надеюсь, мысли мальчика столь же правильны, как его латынь. Они услышали громкий шум из дальнего конца зала, когда открылись тяжелые двери. — Ах! Вот и премицерий. Не буду вам мешать, — Сарпат поклонился и ушел. В зале засуетились, когда появился Теодор в сопровождении приемного сына Льва, недавно получившего повышение и занявшего место номенклатора. Он задержался в дверях, чтобы поговорить с несколькими клириками и сановниками. В алом шелковом далматике и золотом кушаке Теодор был самым элегантным в этой группе. Он любил хорошие ткани и легкое щегольство, что восхищало Анастасия. Завершив формальные приветствия, Теодор осмотрел зал. Заметив Анастасия и его отца, он улыбнулся и направился к ним. Приблизившись, он подмигнул Анастасию, и его рука скользнула к складке в далматике. Анастасий обрадовался, зная, что это означало. Теодор, питавший слабость к детям, всегда приносил ему угощение. «Что на этот раз? — размышлял Анастасий. — Сочный инжир, красный леденец, возможно, даже кусок марципана, со сладким тертым миндалем и грецким орехом?» Сосредоточившись на складке далматика Теодора, Анастасий поначалу не заметил других людей. Трое быстро подошли сзади, один, зажав Теодору рот рукой, откинул его назад. Анастасий подумал, что это шутка. Он взглянул на отца, надеясь услышать объяснение, но увидел страх в его глазах и сердце мальчика дрогнуло. Он снова посмотрел на Теодора; тот пытался вырваться. Теодор был крупным мужчиной, но сразу с троими вряд ли бы справился. Его окружили, скрутили ему руки и бросили на пол. Алый шелковый далматик Теодора, разорванный спереди, обнажил белую кожу груди. Один из нападавших вцепился в густые черные волосы Теодора и откинул его голову назад. Анастасий заметил блеск металла. Раздался крик, и лицо Теодора залила кровь. Что-то брызнуло в лицо Анастасия. Он вздрогнул, вытерся рукой и посмотрел. Это была кровь. Кто-то вскрикнул. Анастасий увидел, как Лев, приемный сын Теодора, исчез r толпе нападавших. Люди освободили Теодора. Он встал на колени, поднял голову, и Анастасий закричал от ужаса, увидев его лицо: из черных пустых дыр, где прежде были глаза Теодора, вниз по подбородку и плечам текла кровь. Анастасий зарылся лицом в сутану отца. На плечах он почувствовал его руки и услышал голос, уверенный и спокойный. — Нет, не прячься, сын, — он оторвал его от себя и развернул лицом к ужасной сцене. — Смотри и учись. Это цена за отсутствие проницательности и хитрости. Теодор поплатился за чрезмерную лояльность к императору. Анастасий стоял, не шелохнувшись, нока нападавшие тащили Теодора и Льва в центр зала. Несколько раз они поскальзывались и чуть не падали на залитом кровью полу. Теодор что-то кричал, но слов Анастасий не разобрал. С раскрытым, искаженным от боли ртом, его лицо казалось страшным. Люди заставили Теодора и Льва встать на колени и наклонить головы. Один из нападавших поднял меч над Львом и одним быстрым ударом обезглавил его. Но Теодор продолжал сопротивляться. Чтобы отрубить ему голову пришлось ударить три или четыре раза. Впервые Анастасий заметил на нападавших алые кресты папской охраны. — Отец! — воскликнул он. — Это же охранники! — Да, — отец прижал к себе Анастасия. Мальчик старался держать себя в руках. — Но почему? Почему, папа? Зачем они это сделали? — Им приказали. — Приказали? — повторил Анастасий, пытаясь понять. — Кто может приказать такое? — Кто? Ах, сын мой, думай, — лицо отца посерело, но голос звучал уверенно. — Ты должен научиться думать, чтобы избежать такой участи. Как по-твоему, у кого власть? Кто способен отдать такой приказ? Анастасий онемел, пораженный чудовищной догадкой. — Да, — теперь руки отца нежно касались плеч. — Кто же еще, кроме Папы. (обратно)Глава 5

— Нет, нет, нет, — в голосе Эскулапия звучало нетерпение. — Буквы надо писать гораздо мельче. Смотри, как пишет твоя сестра. — Он постучал по листу Джоанны. — Относись с уважением к пергаменту, мой мальчик. Чтобы изготовить один лист, убивают одну овцу. Если монахи Андернаха будут растягивать свои слова таким вот образом, то стада Аустразии исчезнут через месяц! Джон бросил упрямый взгляд на Джоанну. — Это слишком трудно. Я так не могу. — Хорошо, — вздохнул Эскулапий, — упражняйся на восковой дощечке. Когда подучишься, попробуем на пергаменте снова. — Он обратился к Джоанне: — Ты закончила De invention. — Да, учитель. — Назови шесть основных вопросов, используемых для определения условий поведения человека. Джоанна с готовностью ответила. — Quis, quid, quomodo, ubi, quando, cur? — Кто, что, как, где, когда, почему? — Хорошо. А теперь дай определение риторических constitutiones. — Цицерон выделяет четыре различных constitutiones: спор о факте, спор об определении, спор о природе поступка и… Гудрун постучала в дверь и вошла, сгибаясь под тяжестью деревянных ведер с водой. Джоанна поднялась, чтобы помочь матери, но Эскулапий положил руку ей на плечо, вернув на место. — И? Джоанна колебалась, глядя на мать. — Продолжай, дитя, — тон Эскулапия говорил о том, что он не потерпит непослушания. Джоанна поспешила ответить. — Спор о юрисдикции, или процедуре. Эскулапий удовлетворенно кивнул. Проиллюстрируй третий статус. Напиши на своем пергаменте, но так, чтобы его стоило сохранить. Гудрун суетилась, разводя огонь. Она поставила воду греться и стала накрывать на стол. Раз или два Гудрун обиженно посмотрела через плечо. Джоанна почувствовала себя виноватой, но сосредоточилась на работе. Время было драгоценно: Эскулапий приходил только раз в неделю, а своими занятиями она дорожила больше всего на свете. Но работать под гнетом материнского взгляда было трудно, Эскулапий, вероятно, заметил это, но решил, что уроки отвлекали Джоанну от домашних обязанностей. Однако Джоанна знала настоящую причину. Занимаясь, она предавала закрытый для всех, кроме нее и матери, мир саксонских секретов. Изучая латынь и христианские тексты, Джоанна вступала в общение с тем, что ненавидела мать — с христианским Богом, который разорил родину Гудрун, но самое главное с каноником, ее мужем. Правда, Джоанна работала в основном с дохристианскими классическими текстами. Эскулапий сохранил «языческие» тексты Цицерона, Сенеки, Лукиана и Овидия, которые большинство современных ученых признавали кощунственными. Он обучал Джоанну греческому языку по древним текстам Менандра и Гомера, которые каноник считал богохульством. Наученная Эскулалием ценить чистоту стиля, Джоанна никогда не задавалась вопросом, соответствует ли поэзия Гомера христианской доктрине, В его поэмах присутствовал Бог, потому что они были прекрасны. Джоанне хотелось объяснить это матери, но она знала, что ей не удастся ничего изменить. Для Гудрун не имело значения имя Гомер, Цицерон или Святой Августин. Все это не саксонское, а значит чужое. Внимание Джоанны рассеялось, она запнулась и сделала безобразную кляксу на пергаменте. Подняв глаза, она встретилась взглядом с Эскулапием. — Ничего, девочка, — неожиданно мягко сказал он, хотя обычно невнимание вызывало его недовольство. — Это не страшно. Начни снова.
Жители Ингельхайма собрались вокруг пруда, оживленно разговаривая. Сегодня испытывали ведьму. Это событие должно было вызвать у людей ужас, сожаление и удовлетворение, стать долгожданной передышкой от монотонности жизни. — Benedictus, — начал благословить воду каноник. Хротруд попыталась сбежать, но двое мужчин поймали ее и притащили к канонику. Тот грозно нахмурил брови. Хротруд ругалась и сопротивлялась, когда ее руки связали за спиной полосками льняного холста так, что она закричала от боли. — Maleficia, — прошептал кто-то рядом с Джоанной и Эскулапием, стоявшими среди толпы зевак. — Святой Варнава, спаси нас от злого глаза. Эскулапий молча покачал головой. Он прибыл в Ингельхайм этим утром, чтобы заниматься с детьми. Каноник же потребовал, чтобы они присутствовали на испытании Хротруд, считавшейся деревенской повитухой. — Увидев это святое судилище, вы лучше узнаете о путях Господних, чем из любых мудреных книг. — Каноник пристально посмотрел на Эскулапия. Джоанне не понравилось, что уроки отложены, но ее заинтересовало испытание. Она размышляла, как это будет происходить. Никогда прежде Джоанна не видела ничего подобного, но Хротруд ей было жалко. Джоанна любила Хротруд, потому что та была честной женщиной и не лицемеркой. Она всегда откровенно разговаривала с Джоанной, была к ней добра и не высмеивала, как другие сельчане. Гудрун рассказала дочери, как Хротруд помогла при тяжелых родах. Она считала себя обязанной Хротруд за то, что та спасла жизнь ее и Джоанны. Глядя на толпу односельчан, Джоанна подумала, что Хротруд помогла появиться на свет почти всем собравшимся здесь, по крайней мере тем, кто прожил шесть зим и больше. А теперь в ней уже не было необходимости. С тех пор, как ее руки стали изуродоваными, она не могла работать повитухой и жила, собирая подаяние и продавая целебные травы и снадобья собственного приготовления. Именно в этом ее и обвинили. Хротруд умела лечить бессонницу, снимать зубную и головную боль, боль в животе, и люди считали это колдовством. Совершив благословение, каноник повернулся к Хротруд. — Женщина! Ты знаешь преступление, в котором тебя обвиняют. Не повинишься ли ты теперь в своем грехе, ради спасения твоей бессмертной души? Хротруд внимательно посмотрела на него. — Если я признаюсь, вы отпустите меня? — В Святом Писании, — покачал головой каноник, — это строго запрещается. «Не позволяй колдунье жить», — и добавил для важности: — Исход, глава двадцать вторая, стих восемнадцатый. Но ты умрешь праведной и мгновенной смертью, и через нее получишь неизмеримую радость на Небесах. — Нет! — решительно заявила Хротруд. — Я христианка, а не ведьма, и всякий, кто скажет иное, грязный лжец! — Колдунья! Ты будешь вечно гореть в аду! Ты не смеешь отрицать очевидное! — достав засаленный полотняный пояс с завязанными на нем узелками, каноник презрительно швырнул его Хротруд. Та вздрогнула и отступила. — Видите, как она отпрянула? — прошептал кто-то рядом с Джоанной. — Она точно виновна, и ее нужно сжечь! «Каждый вздрогнет от такой неожиданности, — подумала Джоанна. — Ничего это не доказывает». Каноник поднял пояс над головой, чтобы толпа разглядела его. — Это принадлежит Арно, мельнику. Пояс пропал две недели назад. Сразу после этого Арно слег в постель, мучимый страшной болью в животе. Лица у всех стали серьезными. Арно никому особенно не нравился, подозревали, что он сильно обвешивает всех. «Кто на свете всех смелей?» — начиналась загадка, которую все очень любили. «Рубашка Арно, что за глотку держит вора каждый день!» Тем не менее болезнь мельника для всей деревни была большой неприятностью. Никто кроме него не мог молоть зерно, потому что по закону ни один житель деревни не смел сам молоть свой урожай. — Два дня назад, — осуждающе и мрачно звучал голос каноника, — этот пояс нашли в лесу возле дома Хротруд. Послышался испуганный ропот толпы, и прозвучали отдельные голоса: — Ведьма! Колдунья! На костер ее! Каноник обратился к Хротруд. — Ты выкрала пояс и сделала на нем эти узлы, чтобы совершить свое дьявольское колдовство, от которого Арно чуть не умер. — Никогда! — негодующе крикнула Хротруд, снова отчаянно пытаясь вырваться из пут. — Я ничего такого не делала! Никогда раньше не видела этого пояса! Я никогда… Каноник нетерпеливо подал знак тем, кто держал Хротруд. Они подняли ее, как мешок с овсом, раскачали несколько раз и отпустили. Хротруд вскрикнула от страха и злости, пролетела по воздуху и упала в воду прямо посередине пруда. Джоанна и Эскулапий столкнулись, когда люди подались вперед, желая все увидеть. Если Хротруд появится на поверхности пруда и поплывет — это значит, что освященная вода отвергла ее. Тогда колдовство будет разоблачено, и Хротруд сожгут на костре. Если же она утонет значит — невиновна и будет спасена. Люди стояли в напряженном молчании; взгляды всех были прикованы к поверхности пруда. От того места, куда упала Хротруд, по спокойной воде расходились круги. Каноник подал сигнал мужчинам, и те тотчас нырнули, чтобы найти Хротруд. — Она невиновна в том, в чем ее обвиняли, — объявил каноник. — Восславим Господа. Джоанне показалось, что он сильно разочарован. Люди продолжали нырять. Наконец один из них появился с безжизненной, с опухшим и бледным лицом Хротруд. Он вытащил ее на берег. Хротруд не двигалась. Он нагнулся над ней, чтобы послушать дыхание. Через минуту он сообщил: — Мертва. Над толпой поднялся гул. — Прекрасно, — сказал каноник. — Но она умерла невиновной в том, в чем ее обвиняли. На все воля Божья. Да упокоит Он ее душу. Селяне стали расходиться: одни приближались к телу Хротруд, с любопытством рассматривая его, другие разделились на небольшие группы, тихо обсуждая событие. Джоанна и Эскулапий молча направились к дому. Смерть Хротруд очень расстроила Джоанну. Ей было стыдно, что она испытывала возбуждение, глядя на суд. Но в тот момент она не думала, что Хротруд умрет. Конечно же Хротруд не была ведьмой, поэтому Джоанна верила, что Бог докажет ее невиновность. И Он сделал это. Но почему же Он позволил ей умереть?
Джоанна не говорила об этом до тех пор, пока не начался урок. Не дописав слово, она опустила перо и спросила: — Почему Бог это сделал? — Возможно, Он не делал этого, — ответил Эскулапий, сразу поняв, что она имела в виду. Джоанна уставилась на него. — Вы полагаете, что такое могло случиться ломимо Его воли? — Возможно, нет. Но ошибка порой сокрыта в природе самого суда, а не в природе воли Господа. Джоанна задумалась. — Отец сказал бы, что именно таким испытаниям подвергали ведьм в течение сотен лет. — Верно. — Но это не обязательно соответствует истине, — Джоанна посмотрела на Эскулапия. — А как правильно? — Именно это ты и должна мне рассказать. Джоанна вздохнула. Эскулапий так сильно отличался от ее отца и даже от Мэтью. Он отказывался объяснять ей, а вместо этого требовал, чтобы она сама находила правильный ответ. Джоанна коснулась кончика носа, как делала это, размышляя над проблемой. Конечно! Как она сразу этого не заметила? Цицерон и его De inventione — раньше это было лишь отвлеченное понятие, риторическая уловка, упражнение для ума. — Риторические вопросы! — воскликнула Джоанна. — Почему нельзя было использовать их в этом случае? — Объясни, — велел Эскулапий. — Quid: имеется пояс с узелками — это неоспоримо. Но спорным остается вопрос, что это означает. Quis: кто завязал узелки и оставил пояс в лесу? Quomodo: как он пропал у Арно? Quando, Ubi: Когда и где его украли? Видел ли кто-нибудь пояс у Хротруд? Cur: зачем Хротруд желать зла Арно? — Джоанна говорила быстро, вдохновленная возможностями этой идеи. — Для опроса следовало привлечь свидетелей. Можно было также допросить Хротруд и Анро. Их ответы доказали бы невиновность Хротруд. И… — Джоанна сделала решительный вывод, — и ей не пришлось бы умирать, чтобы доказать это! Они вторглись в запретную зону и знали это. Они молча сидели рядом, и Джоанна осознавала величие того, что внезапно поняла: применение логики к Божественному откровению, возможность установления справедливости на земле, если судьбу вершить путем рационального изучения и подкреплять веру силой разума. — Пожалуй, не стоит рассказывать о нашем разговоре отцу, — сказал Эскулапий. Праздник Святого Бертина только что прошел, дни стали короче, а потому короче стали и занятия детей. Солнце уже клонилось к закату, когда Эскулапий поднялся. — Дети, на сегодня достаточно. — Можно уйти? — спросил Джон, и Эскулапий жестом отпустил его. Мальчик вскочил и поспешил выйти из дома. Джоанна печально улыбнулась Эскулапию. Ее очень огорчало, что брат не хочет учиться. С Джоном, нерадивым и глупым учеником, Эскулапий был часто несдержан и даже резок. «Не могу этого сделать», — ныл он при малейшей трудности. Порой Джоанне хотелось встряхнуть его и крикнуть: «Попытайся! Постарайся! Откуда ты знаешь, что не можешь, если ни разу не пробовал!» Потом Джоанна упрекала себя за такие мысли. Джон просто не способен учиться лучше. Если бы не он, то в последние два года вообще никаких уроков бы не было, и жизнь без занятий совсем утратила бы смысл. Как только Джон ушел, Эскулапий серьезно посмотрел на Джоанну. — Хочу кое-что сказать тебе. Мне сообщили, что в школе в моих услугах больше не нуждаются. На должность учителя назначается другой, франкский ученый. И епископ считает, что он более подходит для этой должности, чем я. Это потрясло Джоанну. — Как такое возможно? Кто он такой? Этот человек не знает столько, сколько вы! — Твои слова, — улыбнулся Эскулапий, — свидетельствуют о лояльности, а не о мудрости. Я встречался с ним. Он отличный ученый, и круг его интересов более подходит для преподавания в школе, чем мой. — Видя, что Джоанна не совсем поняла его, он продолжил: — Для тех знаний, которые мы с тобой обрели, есть место, Джоанна, но оно за пределами монастыря. Помни, что я тебе говорю, и будь осторожна: эти мысли очень опасны. — Понимаю, — сказала Джоанна, хотя на самом деле ничего не поняла. — Но… что вы теперь будете делать? Как жить? — В Афинах у меня есть друг, преуспевший как купец. Он хочет, чтобы я учил его детей. — Вы покидаете нас? — Джоанна не верила своим ушам. — Он процветает и сделал мне весьма щедрое предложение. Мне остается только принять его. — Вы пойдете в Афины? Это так далеко! Когда же вы отправляетесь? — Через месяц. Меня бы уже не было здесь, если бы занятия с тобой не доставляли мне такую радость. — Но… — Джоанна быстро сообразила, как предотвратить-то, что должно случиться. — Вы могли бы жить здесь с нами, стали бы нашим наставником, и мы занимались бы каждый день. — Это невозможно, моя дорогая. Твоему отцу едва удается прокормить семью в течение зимы. В вашем доме для постороннего нет места ни у очага, ни за столом. Кроме того, я должен идти туда, где смогу продолжить свою собственную работу. Теперь кафедральная библиотека закрыта для меня. — Не уходите. — Джоанну охватила почти осязаемая печаль. — Пожалуйста, не уходите. — Моя дорогая девочка, я должен. Хотя, признаться, мне этого не хочется. — Он ласково погладил Джоанну по белокурым волосам. — Обучая тебя, я многому научился сам. Едва ли у меня скоро появится такой же замечательный ученик. У тебя редкий ум, это от Бога, не отрицай этого. — Он многозначительно посмотрел на нее. — Ни за какую цену. Джоанна молчала, опасаясь, как бы голос не выдал ее чувств. Эскулапий взял ее руку в свои. — Не беспокойся. У тебя будет возможность продолжить учебу. Я позабочусь об этом. Пока не знаю, где или как, но я сделаю это. Ты слишком умна и талантлива, чтобы пропадать зря. Я постараюсь найти способ помочь тебе, обещаю, — он крепко сжал ее руку. — Верь мне. Эскулапий ушел, а Джоанна сидела за своим маленьким столом в сгущающихся сумерках, пока не вернулась мать с дровами для очага. — А, стало быть, вы закончили? — спросила Гудрун. — Отлично! А теперь помоги мне развести огонь.
* * *
Эскулапий пришел попрощаться. Он был в длинном синем плаще, приготовленном для странствия. В руках он держал полотняный сверток. — Для тебя. — Эскулапий вручил Джоанне сверток. Джоанна развернула полотно, и у нее перехватило дыхание. Она увидела книгу, переплетенную па восточный манер: дерево было обтянуто кожей. — Это моя собственная, — пояснил Эскулапий. — Я сам сделал ее несколько лет назад. Гомер. Первая часть книги написана по-гречески, а во второй части латинский перевод. Читай, и ты не забудешь язык, пока не возобновишь учебу. Джоанна онемела. Своя собственная книга! Такой привилегией обладали только монахи и учителя высочайшего ранга. Она открыла ее и стала читать строку за строкой, написанные Эскулапием аккуратными буквами. Страницы заполняли слова невыразимой красоты. Эскулапий, наблюдая за ней, прослезился. — Не забывай, Джоанна. Никогда не забывай. Он распахнул объятья. Она прильнула к нему, и впервые они обнялись. Они долго стояли, прижавшись друг к другу: маленькая Джоанна и высокий и широкоплечий Эскулапий. Его синий плащ стал влажным от слез Джоанны. Сжимая книгу так сильно, что у нее заболели руки, она осталась в доме. Джоанна не хотела смотреть, как он уезжает.Джоанна знала, что отец не разрешит ей сохранить книгу. Он никогда не одобрял ее занятий, и теперь, без Эскулапия, никто не помешает ему настоять на своем. Поэтому книгу она спрятала, аккуратно завернув ее в лоскут и засунув подальше под солому со своей стороны кровати. Джоанне страстно хотелось почитать книгу, увидеть слова, восстановить в памяти радостную красоту поэзии. Но это было опасно, в доме или возле него всегда кто-то находился, и она боялась разоблачения. Но после того, как в доме все засыпали, Джоанна спокойно читала, не опасаясь, что ей помешают. Нужен был только свет — свеча или какое-то масло. Семья запасала на год только две дюжины свечей. Каноник неохотно брал их из церкви, и свечи старательно берегли. Воспользоваться хотя бы одной незаметно было невозможно. Но в церковной кладовой хранилось много воска. Жители Ингельхайма должны были поставлять воск в церковь сотнями фунтов каждый год. Если бы Джоанне удалось раздобыть немного воска, она сделала бы свечу. Джоанна с трудом накопила воск, изготовила маленькую свечку, соорудив фитилек из кусочка веревки. Работать при таком слабомсвете было бы тяжело, но для занятий его вполне хватало. Первую ночь она проявляла чрезвычайную осторожность. Джоанна дождалась, когда родители ушли в свою спальню за перегородкой, и отец захрапел. Только тогда она выбралась из кровати и, стараясь не потревожить спящего Джона, вынула книгу из-под соломы, отнесла ее на маленький сосновый стол в дальнем углу комнаты и зажгла свечу от углей в очаге. Вернувшись к столу, Джоанна держала свечу низко над книгой. При очень слабом и неровном свете она все же различала строки, написанные черными чернилами. Казалось, аккуратные буквы танцуют в мерцающем свете, маня и зазывая ее. Джоанна замерла, наслаждаясь моментом, и, перевернув страницу, приступила к чтению.
Теплые дни и прохладные ночи октября, месяца сбора винограда, прошли быстро. Сильные северо-восточные ветры налетели раньше обычного, пронизывая до костей. И снова окно в доме заколотили досками, но холодный ветер все равно проникал во все щели. Чтобы согреться, приходилось поддерживать огонь в очаге весь день, отчего помещение заполнял сизый дым. Каждую ночь, когда засыпала семья, Джоанна поднималась с постели и часами читала в полумраке. Свеча ее выгорела, и снова пришлось терпеливо копить воск для новой. Когда Джоанне опять удалось приступить к занятиям, она безжалостно истязала себя. Закончив книгу, она снова начала читать ее, на этот раз изучая сложные формы глаголов и старательно переписывая их на свою дощечку, пока не выучила наизусть. От работы при плохом освещении у Джоанны болела голова, глаза покраснели, но мысль о том, чтобы прекратить занятия, даже не приходило в голову. Наступил и прошел праздник Святого Колумбана, но никаких сведений о продолжении обучения не было. Однако Джоанна верила обещанию Эскулапия. Пока у нее его книга, повода для отчаянья нет. Она училась и делала успехи. Несомненно, скоро что-то случится. В деревню приедет учитель, спросит о ней, или ее вызовет епископ и скажет, что она принята в школу. Теперь Джоанна начинала заниматься каждую ночь немного раньше. Иногда даже не дожидаясь, пока захрапит: отец. Проливая воск на стол, она даже не замечала этого. Однажды ночью Джоанна работала над особенно сложным и интересным случаем синтаксиса. Спеша поскорее начать, она села за стол почти сразу после того, как улеглись родители. Не прошло и нескольких минут, когда послышался тихий шорох за перегородкой. Задув свечу, Джоанна замерла и прислушалась. Сердце у нее бешено колотилось. Прошло несколько минут, Ни звука. Должно быть, показалось. Она с облегчением вздохнула, но еще долго не решалась встать из-за стола. Потом направилась к очагу, зажгла свечу и снова вернулась на место. Пламя свечи образовало небольшой светлый круг над столом. На краю этого круга из темноты появилась пара ног. Это были ноги отца. Он вышел из темноты. Инстинктивно Джоанна попыталась спрятать книгу, но было слишком поздно. Его лицо, освещенное снизу неровным огнем, выглядело устрашающе. — Что еще за безобразие? — Книга, — прошептала Джоанна. — Книга! — он уставился на книгу, словно не веря своим глазам. — Откуда она у тебя? Что ты с ней делаешь? — Читаю. Она моя. Мне дал ее Эскулапий. Она моя. Удар отца сбросил ее со стула. Джоанна упала, уткнувшись щекой в холодный земляной пол. — Твоя! Наглый ребенок! В этом доме хозяин я! Джоанна поднялась на локте и беспомощно смотрела, как отец наклонился над книгой, пытаясь разглядеть слова в слабом свете. Через мгновение он выпрямился, перекрестив воздух над книгой. — Господи Иисусе, спаси нас. — Не отрывая взгляда от книги, он поманил к себе Джоанну. — Подойди. Джоанна поднялась. Голова кружилась, болела, и сильно звенело в одном ухе. Она медленно приблизилась к отцу. — Это не язык Святой Церкви, — он ткнул пальцем в открытую страницу. — Что это за знаки? Отвечай честно, дитя, если дорожишь своей бессмертной душой! — Папа, это стихи. — Несмотря на страх, Джоанна испытывала гордость за свое знание, но не посмела добавить, что стихи принадлежат Гомеру, которого отец считал язычником. Каноник не знал греческого. Если бы он посмотрел на латинский перевод в конце книги, то понял бы, чем она занималась. Толстые крестьянские пальцы отца обхватили голову Джоанны надо лбом. — Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma… Он сдавил ее голову так сильно, что Джоанна вскрикнула от боли и страха. На пороге показалась Гудрун. — Ради всего святого, муж мой, что происходит? Осторожнее с ребенком! — Молчи! — огрызнулся каноник. — Ребенок одержим! Из нее надо изгнать демона. — Давление так усилилось, что Джоанне показалось, будто у нее лопнут глаза. — Прекрати! — Гудрун схватила его за руку. — Она всего лишь ребенок! Муж мой, остановись! Неужели ты хочешь убить ее? Невыносимое давление внезапно прекратилось, и каноник выпустил Джоанну. Развернувшись, он ударил Гудрун и она отлетела в другой конец комнаты. — Изыди! — заревел он. — Не время для женской снисходительности. Девчонка занимается колдовством по ночам! С колдовской книгой! Она одержима! — Нет, папа! — взвизгнула Джоанна. — Это не колдовство! Это поэзия! Стихи, написанные греком. Вот и все! Клянусь! — Он потянулся к Джоанне, но она вывернулась из-под его руки. Каноник погнался за ней. В его страшных глазах читалось желание убить ее. — Отец! Посмотри в конец книги! Там написано по- латыни! Сам увидишь! Это же латынь! Каноник колебался. Гудрун быстро подала ему книгу. Он даже не взглянул на нее, а задумчиво уставился на Джоанну. — Пожалуйста, папа, посмотри в конце книги. Можешь сам прочитать. Это не колдовство! Он взял у Гудрун книгу. Она поспешила поднести свечу поближе к странице. Каноник склонился над книгой, нахмурившись от напряжения. Джоанна говорила не переставая: — Я училась. Читала по ночам, чтобы никто не зная. Я знала, что ты не одобришь. — Она готова была сказать все, что угодно, признаться в чем угодно, лишь бы он поверил. — Это Гомер. Илиада. Поэма Гомера. Это не колдовство, отец, — она разрыдалась, — не колдовство. Каноник не обращал на нее внимания. Он внимательно читал, низко склонившись над книгой и шевеля губами. Через минуту он поднял глаза. — Благодарение Богу. Это не колдовство. Но это работа безбожного язычника, а посему есть преступление против Бога, — он повернулся к Гудрун. — Разведи огонь. Эта мерзость должна быть уничтожена. У Джоанны перехватило дыхание. Сжечь книгу! Прекрасную книгу Эскулапия, которую он доверил ей! — Папа, книга очень ценная! За нее можно выручить хорошие деньги, или — Джоанна быстро соображала, — ты мог бы подарить ее епископу, как пожертвование для кафедральной библиотеки. — Глупый ребенок, ты так погрязла в грехах, удивительно, что совсем не утонула в них. Это недостойный подарок епископу и любой богобоязненной душе. Гудрун направилась в угол, где были сложены дрова, и выбрала несколько небольших поленьев. Джоанна молча следила за ней. Это следовало предотвратить. Если бы только головная боль прошла, она придумала бы что-нибудь. Гудрун разгребла уголья, готовя очаг для новых дров. — Обожди, — вдруг обратился к ней каноник и, положив книгу на стол, ушел в другую комнату. Что это значит? Девочка взглянула на мать, но та удивленно пожала плечами. Слева от нее на кровати, разбуженный шумом, сидел Джон и смотрел на Джоанну широко открытыми глазами. Каноник вернулся, принеся, что-то длинное и блестящее. Это был его охотничий нож с костяной ручкой. Как всегда, вид этого предмета вызвал у Джоанны отвращение. В сознании смутно возникли какие-то воспоминания, но тотчас исчезли. Отец сел за стол и, положив нож на страницу, стал соскребать написанное. Отошла первая буква, и он довольно заворчал. — Получается. Однажды в монастыре Корби я видел, как это делается. Можно очистить все страницы, чтобы пользоваться пергаментом снова. А теперь, — он властно подозвал дочь к себе, — ты сделаешь то же самое. Это и стало се наказанием. Именно рука Джоанны Должна уничтожить книгу, стереть запретные знания, а вместе с ними ее надежду. Глаза отца зловеще сверкали в ожидании. Одеревеневшими руками Джоанна взяла нож, села за стол и долго смотрела на страницу. Затем, держа нож так, как отец, она провела лезвием по странице. Ничего не произошло. — Не получается, — она с надеждой посмотрела на отца. — Попробуй так, — каноник положил свою руку на руку дочери, двигая ножом из стороны в сторону с небольшим давлением. Отслоилась еще одна буква. — Попробуй снова. Джоанна подумала об Эскулапии, о том, как он долгими часами создавал эту книгу, о надежде, которую она связывала с ней. На глаза Джоанны навернулись слезы. — Пожалуйста, не заставляй меня. Папа, пожалуйста. — Дочь моя, ты оскорбила Бога своим непослушанием. В наказание ты должна работать день и ночь, пока эти страницы полностью не очистятся от небогоугодных строк. Будешь сидеть на хлебе и воде до окончания работы. Я же буду молиться, чтобы Господь простил тебе этот тяжкий грех, — он указал на книгу. — Начинай! Джоанна положила нож на страницу и стала скрести ее, как показал отец. Одна буква поблекла и исчезла, затем вторая, третья. Вскоре исчезло все слово, осталась лишь шершавая поверхность пергамента. Она переместила нож к другому слову. «Алетея», — Истина. Рука Джоанны замерла над словом. — Продолжай, — сурово потребовал отец. Истина. Округлые буквы четко выступали на светлом пергаменте. Все в ней противилось этой работе. Весь страх и боль этой ночи померкли перед всепоглощающим убеждением: этого не должно быть! Опустив нож, Джоанна посмотрела на отца. — Возьми нож! — в его голосе прозвучала угроза. Джоанна попыталась заговорить, но слова застряли в горле, и она молча покачала головой. — Дочь Евы! Я покажу тебе все муки Ада. Принеси розги. Джоанна пошла в угол и принесла длинную черную хворостину. — Приготовься, — велел каноник. Она опустилась на колени перед очагом. Медленно, трясущимися руками Джоанна расстегнула серую шерстяную накидку и, спустив льняную рубашку, обнажила спину. — Начинай «Отче Наш», — голос отца звучал тихо. — Отче наш, сущий на небесах… Первый удар пришелся прямо между лопатками, рассекая кожу и пронзая болью до самой головы. — Да святится имя Твое… Второй удар был еще сильнее. Джоанна прикусила руку, чтобы не вскрикнуть. Ее и раньше били, но так безжалостно никогда. — Да придет царствие Твое… Третий удар рассек кожу так глубоко, что по бокам потекла кровь. — Да будет воля Твоя… — От четвертого удара Джоанна вскинула голову. Она увидела, что брат странно смотрит на нее из-за стола. Что это? Страх? Любопытство? Сочувствие? — Как на земле… — Снова последовал удар. Перед тем как закрыть от боли глаза, Джоанна поняла, что выражало лицо брата: это было торжество. — И на небесах. Хлеб наш насущный дай нам… — Снова обрушился тяжелый удар. Сколько их было? Сознание Джоанны помутилось. Они никогда не выдерживала больше пяти ударов. Еще удар. Смутно она услышала чей-то крик. — И оставь нам долги наши… оставь… — Губы ее шевелились, но произносить слова она уже не могла. Еще удар. Остатками сознания, Джоанна вдруг поняла: теперь это не прекратится. На этот раз отец не остановится, он будет наносить удар за ударом, пока не убьет ее. Удар. Звон в ушах стал оглушительным. Потом наступила тишина и над ней опустился милосердный мрак. (обратно)
Глава 6

В течение нескольких дней деревня обсуждала избиение Джоанны. Говорили, что каноник едва не забил дочь насмерть, и сделал бы это, если бы не крики его жены, которые привлекли внимание соседей. Трое здоровенных мужчин едва оторвали каноника от ребенка. Но разговоры пошли не от того, что отец избил Джоанну, такое в деревне случалось нередко. Кузнец, к примеру, повалил свою жену на землю и так долго бил ее ногами по лицу, что сломал ей череп. И лишь за то, что ему надоело ее бесконечное ворчанье. Бедняжка осталась изуродованной на всю жизнь, но что тут поделать. В своем доме мужчина был полновластным хозяином, и никто не имел права вмешиваться. Единственным ограничением при наказании был размер дубины, которой мужчины избивали домочадцев. А каноник вообще дубиной не пользовался. Но самым важным односельчане считали то, что каноник потерял контроль над собой. Такой жестокости от того, кто служит Богу, они не ожидали. Тем больше удовольствия доставляли разговоры об этом. С тех пор как каноник взял в жены саксонку, о нем не судачили так много. Собираясь небольшими группами, люди шепотом обсуждали событие и замолкали, завидев его. Джоанна об этом ничего не знала, потому что после того как отец ее избил, он запретил кому-либо приближаться к ней. Весь тот день и последующий тоже Джоанна лежала без сознания на холодном земляном полу. Когда каноник разрешил Гудрун приблизиться к дочери, рваные раны девочки уже покрылись коркой, и началась опасная для жизни лихорадка. Гудрун промыла раны Джоанны чистой водой и крепким вином. Затем, очень осторожно, стараясь не причинить ей боли, наложила на них охлаждающую примочку из листьев шелковицы. «Во всем виноват этот грек», — с горечью думала Гудрун, готовя горячий напиток. Приподняв голову Джоанны, она но капле влила его ей в рот. — Подсунул девочке книгу, заморочил ей голову ненужными идеями. Она девочка, а потому не приспособлена для книжек». Этот ребенок принадлежал ей и должен был делить с матерью секреты и язык ее народа и стать утешением и опорой в старости. Будь проклят тот час, когда этот грек вошел в их дом! Да обрушится на него гнев всех богов! Тем не менее Гудрун гордилась, что дочь вынесла все с таким мужеством. Джоанна превзошла отца бесстрашием, героической силой саксонских предков. Когда-то Гудрун тоже была сильной и храброй, но долгие годы унижений и жизни на чужбине постепенно вытравили из нее желание сопротивляться. «По крайней мере, — удовлетворенно размышляла она, — это моя кровь. Храбрость моего народа в крови моей дочери». Перестав массировать шею Джоанны, Гудрун помогла ей проглотить целебный напиток. — Выздоравливай, малышка, выздоравливай и возвращайся ко мне.
Утром на девятый день лихорадка закончилась. Джоанна очнулась и увидела склонившуюся над ней Гудрун. — Мама? — Голос казался хриплым и незнакомым. — Ну вот, ты и вернулась ко мне, моя перепелочка, — Улыбнулась мать. — Иногда я боялась, что потеряла тебя. Джоанна попыталась подняться, но тяжело упала на солому. Боль пронзила все тело, напомнив о случившемся. — Книга? Лицо Гудрун напряглось. — Отец стер все страницы и заставил твоего брата писать на них какую-то ерунду. Значит, книги больше нет. Джоанна вдруг почувствовала изнуряющую усталость, ей стало дурно, захотелось спать. Гудрун подала дочери деревянную миску с горячей жидкостью. — А теперь поешь, чтобы восстановить силы. Вот, приготовила тебе бульон. — Нет, — Джоанна слабо покачала головой, — ничего не хочу. — Зачем восстанавливать силы? Лучше умереть. Ради чего теперь жить? Ей никогда не вырваться из узкого мира Ингельхайма. Судьба заточила ее здесь навечно, и нет никакой надежды вырваться на свободу. — Съешь немного, — просила Гудрун. — А пока ты ешь, я спою тебе старинную песенку. Джоанна отвернулась. — Оставь это глупым священникам. — У нас свои собственные секреты, не так ли, моя перепелочка? Мы снова будем секретничать, как прежде. — Гудрун нежно гладила ее волосы. — Но сначала ты должна поправиться. Выпей немножко бульона. Он приготовлен по саксонскому рецепту и очень полезен для здоровья. Она поднесла ложку к губам Джоанны. Сопротивляться не было сил, и она позволила матери покормить ее. Бульон оказался вкусным, теплым, наваристым. Вопреки всему Джоанна почувствовала себя немного лучше. — Моя маленькая перепелочка, моя лапочка, моя душечка, — ласкал и успокаивал ее голос Гудрун. Мать опустила деревянную ложку в горячий бульон и снова поднесла ее к губам Джоанны. Голос матери звучал то тише, то громче. Знакомая саксонская колыбельная песенка убаюкивала. И Джоанна постепенно заснула. Когда лихорадка прошла, сильная молодая Джоанна быстро стала выздоравливать. Через две недели она снова могла ходить. Раны хорошо затянулись, но не было сомнений, что шрамы останутся на всю жизнь. Гудрун сильно сокрушалась из-за этих длинных, темных полос, от которых спина Джоанны походила на уродливое лоскутное одеяло, но девочку это не беспокоило. Ее вообще мало что волновало. Надежда исчезла. Она теперь не жила, а существовала. Все свое время Джоанна проводила с матерью, поднимаясь до рассвета, чтобы помочь ей накормить свиней и кур, собрать яйца, принести дров для очага и натаскать из ручья воды в огромных бадьях. Потом они вместе готовили еду. Однажды они пекли хлеб, вымешивая тяжелое тесто, потому что в этой части государства франков дрожжи и другие закваски использовались очень редко. Джоанна вдруг спросила: — Почему ты вышла за него замуж? Гудрун растерялась, но через минуту ответила: — Ты даже не представляешь, каково было нам, когда пришла армия короля Карла. — Я знаю, что они сделали с твоим народом, мама. Но не понимаю, почему после всего этого ты ушла с врагом… с ним? Гудрун промолчала. «Я обидела ее, — подумала Джоанна. — Она мне ничего больше не расскажет». — Зимой, — начала Гудрун, — мы голодали, потому что христиане сожгли наши дома и урожай. — Она смотрела мимо Джоанны, куда-то вдаль. — Мы ели все, что находили… траву, чертополох, даже семена из помета животных. Мы почти умирали с голоду, когда приехал твой отец и другие миссионеры. Они отличались от всех. У них не было ни мечей, ни другого оружия, и они обращались с нами, как с людьми, а не как со скотом. В обмен на обещание слушать их христианские проповеди, они давали нам еду. — Меняли пищу на веру? — спросила Джоанна. — Печальный способ завоевывать человеческие души. — Я, была молода, впечатлительна и к тому времени устала от вечного голода, унижений и страха. «Их Бог, должно быть, сильнее наших богов, — думала я, — иначе, как бы им удалось победить нас». Он связывал со мной большие надежды. Он говорил, что, родившись язычницей, я была способна принять Истинную Веру. По тому, как он смотрел, я знала, что он желает меня. Когда он попросил меня пойти с ним, я согласилась. Это давало возможность выжить, когда все вокруг умирали. — Ее голос стал едва слышен. — Но скоро я поняла, какую большую ошибку совершила. Глаза Гудрун покраснели, она едва сдерживала слезы. Джоанна обняла ее. — Не плачь, мамочка. — Ты должна учиться на моих ошибках, — с чувством сказала Гудрун, — чтобы не повторять их. Выйти замуж означает отказаться от всего… не только от своего тела, но и от гордости, независимости, даже от жизни. Ты понимаешь? Понимаешь? — Она схватила Джоанну за руку и пристально посмотрела ей в глаза. — Послушай моего совета, дочка, если хочешь быть счастливой: никогда не отдавайся мужчине. Шрамы на спине Джоанны заболели при воспоминании о беспощадных ударах отцовской плети. — Да, мама, — торжественно пообещала она. — Никогда.
Когда наступил апрель, и теплый весенний ветерок приласкал землю, а скот выгнали на пастбище, однообразие жизни было нарушено прибытием незнакомца. В этот вторник, день Тора, как называла его Гудрун, каноника не было поблизости. Гудрун и Джоанна работали в огороде. Джоанна пропалывала крапиву и крушила кротовые горки, а Гудрун следом за ней дубовой тяпкой рыхлила землю и ровняла грядки. Работая, Гудрун напевала и рассказывала старинные сказки. Когда Джоанна ответила ей на саксонском, Гудрун счастливо рассмеялась. Джоанна закончила прополку ряда, когда заметила Джона, спешившего к ним через поле. Она похлопала мать по руке. Гудрун увидела сына и саксонское слово застыло у нее на губах. — Скорее! — Джон задыхался от бега. — Отец велел вам прийти в дом. Поспешите! — Он потянул мать за руку. — Полегче, Джон! — воскликнула Гудрун. — Не торопи меня. Что случилось? Что-то не так? — Не знаю. — Джон тянул мать за руку. — Он сказал что-то о госте. Не знаю, кто это. Но поспешите. Сказал, что надает мне тумаков, если я не приведу вас сейчас же. Каноник мрачно поджидал их, гневно сверкая глазами. Он с важностью объявил им: — К нам прибыл гонец от епископа Дорштадта, — для большего эффекта каноник выдержал паузу. — Идите и приготовьте достойное угощение. Я встречу его в церкви и приведу сюда. — Он отпустил их взмахом руки. — Пошевеливайся, женщина! Он скоро будет. — Каноник удалился, хлопнув дверью. Лицо Гудрун ничего не выражало. — Займись похлебкой, — сказала она Джоанне, — а я пойду соберу яйца. Джоанна налила из дубового ведра воды в железный котелок, который в семье использовали для варки, и поставила его на огонь. Из мешка, почти пустого после долгой зимы, она достала горсть сушеного ячменя и бросила его в котелок. С удивлением девочка заметила, что ее руки дрожат от волнения. Она давно уже не испытывала никаких эмоций. Гонец из Дорштадта! Имеет ли это отношение к ней? Неужели, спустя столько времени, Эскулапий наконец-то нашел возможность возобновить ее обучение? Она отрезала кусок солонины и положила в котелок. Нет, это невозможно. Прошел почти год, как Эскулапий покинул их дом. Надеяться опасно. Именно надежда чуть не убила ее однажды. Теперь она не так глупа. Тем не менее Джоанне не удалось справиться с волнением, когда спустя час открылась дверь. Вошел отец, за ним следовал темноволосый мужчина, но не тот, кого воображала Джоанна. У него был вид тупого, примитивного вояки, и вел он себя скорее как солдат, чем ученый. Его накидка с гербом епископа была мятой и грязной после путешествия. — Вы окажете нам честь, отужинав с нами? — Отец Джоанны указал на котелок на огне. — Благодарю вас, но я не могу. — Мужчина говорил на франкском просторечии, не на латыни: еще одно разочарование. — Я оставил сопровождение в лесу за Майнцем. По узкой лесной дороге десятерым всадникам быстро не проехать, поэтому пришлось добираться до вас одному. Должен вернуться к ним сегодня же ночью. Утром мы возвращаемся в Дорштадт. — Он протянул канонику свиток. — От его преосвященства епископа Дорштадтского. Каноник осторожно взломал печать. Жесткий пергамент заскрипел, когда он стал разворачивать его. Джоанна следила за отцом, склонившимся над письмом. Он прочел до конца и начал читать снова, словно что-то упустил. Наконец он поднял глаза, поджав губы от гнева. — Что это означает? Мне сказали, что ваше послание имеет отношение ко мне! — Так точно, — мужчина улыбнулся. — Насколько я понимаю, вы отец ребенка. — Епископ ни словом не обмолвился о моей работе? Мужчина пожал плечами. — Я знаю только одно: что должен сопроводить ребенка в школу в Дорштадте, как сказано в письме. Джоанна вскрикнула от возбуждения. Гудрун поспешила к дочери и обняла ее. Каноник смерил незнакомца взглядом и наконец произнес: — Очень хорошо. Верно, что для ребенка предоставляется прекрасная возможность, хотя без его помощи мне обойтись нелегко. — Он повернулся к Джону. — Собери свои вещи и побыстрее. Завтра ты едешь в Дорштадт, чтобы учиться в кафедральной школе согласно указанию епископа. У Джоанны перехватило дыхание. В школу приглашали Джона? Немыслимо! Гость покачал головой. — При всем уважении к вам, святой отец, мне думается, со мной должна отправиться девочка. Девочка по имени Джоанна. Джоанна высвободилась из объятий матери. — Я Джоанна. Человек епископа повернулся к ней, но каноник быстро встал между ними. — Ерунда. Епископу нужен мой сын Джон, а не Джоанна. Lapsus calami. Простая ошибка писаря, вот и все. Такое случается часто, даже у самых лучших писарей. — Я не знаю… — усомнился посланник. — Подумайте сами. Зачем епископу девочка? — Мне тоже это показалось странным, — согласился он. Джоанна начала возмущаться, но Гудрун снова обняла ее и, прижав палец к губам, заставила молчать. Каноник продолжал: — Мой сын изучает Писание с самого раннего возраста, Прочти что-нибудь из Откровений для нашего дорогого гостя. Джон побледнел и неуверенно начал: — Асора… Apocalypsis esu Christi quo… quam dedit illi Deus palam fa… facere servis… Гость нетерпеливым жестом остановил его. — Мне некогда. Мы должны отбыть немедленно, чтобы успеть на стоянку засветло. — Он недоуменно посмотрел на Джона, потом на Джоанну и повернулся к Гудрун. — Кто эта женщина? Каноник откашлялся. — Саксонская язычница, чью душу я пытаюсь привести в лоно христианской церкви. Человек епископа обратил внимание на голубые глаза Гудрун, стройную фигуру и белокурые волосы, выбившиеся из-под светлого чепца, широко, с пониманием улыбнулся щербатым ртом и обратился к ней: — Ты мать этих детей? Гудрун кивнула. Каноник покраснел. — Тогда что скажешь ты? Кто нужен епископу, мальчик или девочка? — Ничтожный пес! — рассвирепел каноник. — Как ты смеешь сомневаться в слове того, кто избран служить Богу! — Успокойтесь, святой отец, — мужчина сделал ударение на слове «святой». — Позвольте напомнить вам о возможности того, кого я представляю. Побагровев, каноник сердито уставился на человека епископа. Мужчина снова обратился к Гудрун: — Так мальчик или девочка? Джоанна почувствовала, как вцепились в нее материнские руки, прижимая к себе. Пауза была долгой. Потом прозвучал голос матери, нежный и мелодичный. Красивые саксонские гласные выдавали в ней чужестранку. — Вам нужен мальчик, — произнесла она. — Берите его. — Мама! — Потрясенная предательством, Джоанна издала лишь этот единственный, испуганный крик. Посланник епископа удовлетворенно кивнул. — Значит, решено, — он повернулся к двери. — Седлайте коня и подготовьте поскорее мальчика. — Нет! Джоанна попыталась остановить его, но Гудрун крепко держала ее, шепча на саксонском: — Верь мне, девочка. Так будет лучше, обещаю. — Нет! — Джоанна попыталась вырваться. — Неправда. — Джоанна была уверена, что это устроил Эскулапий. Он не забыл ее, он придумал, как помочь ей продолжить то, что они начали вместе. Не Джона призвали учиться в школе. Это неправда. — Нет! — Она высвободилась и побежала к двери. Каноник попытался поймать дочь, но она ускользнула от него. Выбежав из дома, она помчалась к уходившему гонцу. Джоанна услышала, как кричал отец, а материнский голос резко отвечал ему. Она догнала гонца, когда тот подходил к лошади, и потянула его за плащ. Он взглянул на нее. Краем глаза Джоанна заметила приближающегося отца. Времени было мало. Ее слова должны быть убедительными и точными. — Magna est veritas et praevalebit, — произнесла она. Это был малоизвестный отрывок из книги Ездры, и его узнал бы лишь тот, кто хорошо знаком с писаниями Святых Отцов. — Правда велика, и она преобладает. — Человек епископа, должен знать. И то, что она процитировала это изречение на латыни, докажет ему, что именно ее призвал епископ учиться в школе. — Lapsus calami non est, — продолжила Джоанна на латыни. — Это не описка, я Джоанна, именно я и нужна вам. Мужчина добродушно посмотрел на нее. — Что? Что такое, ясноглазка? Что за лепет! — он потрепал ее за подбородок. — Извини, детка, я не понимаю твоего саксонского языка. Но, увидев твою маму, хотел бы научиться. — Он полез в сумку на седле и достал финик в сахарной глазури, — На, полакомись. Джоанна уставилась на финик. Человек не понял ни слова. Представитель церкви, посланник епископа, и не знает латыни. Как такое возможно? За спиной послышались шаги отца. Он схватил дочь за поясницу, оторвал от земли и унес в дом. — Нет! — закричала она. Отец рукой зажал ей нос и рот так сильно, что Джоанна не могла дышать. Она извивалась и брыкалась. В доме он бросил ее на пол и замахнулся кулаком. — Нет! — Гудрун вдруг встала между ними. — Ты не прикоснешься к ней. — Джоанна никогда не слышала, чтобы мать говорила таким тоном. — Или я скажу ему всю правду. Каноник смотрел на жену в недоумении. На пороге появился Джон с узелком, где лежали его пожитки. Гудрун кивнула в его сторону. — Благослови сына в дорогу. Каноник долго не отрывал от нее взгляда, затем медленно повернулся к сыну. — На колени, Джон, — Джон встал на колени, и каноник положил руку ему на лоб. — О, Господи, который изгнал Адама из его дома, и Кто оберегал его во время скитаний, Тебе вверяю этого юношу. — Тонкий луч полуденного солнечного света из окна осветил темные волосы Джона. — Не оставь его своим вниманием, и дай ему все необходимое для души и тела… — Нараспев читал каноник. Склонив голову, Джон покосился на сестру и встретился с ней взглядом. Его широко открытые глаза выражали страх и мольбу. Ему не хочется уезжать, вдруг поняла Джоанна. Конечно! Как она этого раньше не заметила? Она не подумала о чувствах Джона. Он боится. Он не выдержит требований школы, и знает это. Если бы я могла поехать с ним! У нее в голове начал складываться план. — … и в конце жизненного пути, — завершил каноник, — да свершится его путь в рай через Иисуса Христа и Всевышнего. Аминь. После благословления Джон поднялся с коленей. Он выглядел покорным. Он стерпел материнские объятья и последние отцовские наставления. Но когда Джоанна подошла к нему и обняла его, Джон прильнул к ней и разрыдался. — Не бойся, — прошептала она, пытаясь утешить его. — Хватит, — сказал каноник. Положив руку на плечо сына, он повел его к двери, — Не выпускай девчонку из дома, — приказал он Гудрун, и они удалились, громко хлопнув дверью. Джоанна, подбежав к окну, смотрела им вслед. Она видела, как Джон сел позади гонца епископа, его шерстяная накидка сильно отличалась от красного плаща всадника. Каноник стоял рядом, его темная коренастая фигура вырисовывалась на фоне весенней зелени. Крикнув последние прощальные слова, они ускакали. Джоанна отошла от окна. Гудрун стояла посередине комнаты, наблюдая за ней. — Перепелочка моя. — суетливо начала Гудрун. Джоанна прошла мимо, словно матери не было. Взяв рукоделие, она села у огня. Следовало подумать, подготовиться. Времени мало, все нужно продумать очень тщательно. Будет трудно, возможно, даже опасно. Мысль напугала ее, но выбора не было. Джоанна точно знала, что делать.
«Это несправедливо», — думал Джон. Он ехал теперь позади всадника, сердито глядя на герб епископа на красном плаще, Я не хочу никуда уезжать. Он ненавидел отца за то, что тот заставил его. Под накидкой он нащупал спрятанное им перед отъездом: гладкую поверхность ножа… отцовского ножа с костяной рукояткой. Одно из его сокровищ. На губах Джона заиграла мстительная улыбка. Как разозлится отец, когда обнаружит пропажу. Это теперь неважно. К тому времени Джон будет уже далеко от Ингельхайма, и отец ничего не сможет сделать. Эта маленькая победа успокаивала его. «Почему он не отправил Джоанну?» — сердито спрашивал себя Джон, и в нем закипала ненависгь. Это она во всем виновата. Из-за Джоанны ему пришлось терпеть два года занятий с Эскулапием, этим занудным и зловредным стариком. А теперь его отослали в школу в Дорштадте вместо нее. О да, епископу нужна Джоанна, Джон не сомневался в этом. Она же такая умная, знает латынь и греческий, читает из Августина, тогда как он даже не осилил псалмов. Он мог бы простить ей многое, она же его сестра. Но того, что Джоанна — любимица матери, он простить не мог. Он часто слышал, как они смеялись и разговаривали на саксонском и всегда замолкали, когда появлялся он. Они думали, что он не слышит их, но Джон все слышал. Мама никогда не разговаривала с ним на старом языке. «Почему?» — в тысячный раз с обидой спрашивал себя Джон. Неужели она думает, что я все рассказал бы папе? Я бы никогда… ни за что, что бы он со мной ни сделал, даже если бы избил». «Это несправедливо», — размышлял он. Почему мама предпочла мне Джоанну? Я ее сын, что гораздо лучше, чем бесполезная дочь. Джоанна была никудышняя девчонка. Не умела ни прясть, ни ткать, как другие в ее возрасте. К тому же она любила читать и учиться, а все знали, что это противоестественно. Даже мама видела: с ней что-то не так. Другие дети в деревне всегда смеялись над Джоанной. Он стыдился сестры и с радостью отказался бы от нее. При этой мысли ему стало стыдно, потому что Джон вспомнил, как добра была сестра к нему, как защищала от отца, даже делала за него работу, когда он чего-то не понимал. Джон был очень благодарен ей за помощь. Сколько раз спасала она его от побоев, но вместе с тем ему это было противно, унизительно. В конце концов, он ее старший брат. Эго он должен был оберегать ее, а не наоборот. Теперь из-за Джоанны ему приходится тащиться позади этого незнакомого человека неведомо куда. Джону представлялось, что в школе его запрут на целые дни в противной комнате, заваленной скучными книгами. Почему отец не понял, что ему этого не хочется? «Я же не Мэтью. Я никогда не смогу хорошо учиться». Джон не собирался стать ни ученым, ни священником. Он твердо знал, что хочет быть воином императорской армии с язычниками. Эту мысль подсказал ему Ульферт, шорник, который ушел с графом Хуго воевать против саксонцев. Ах, какие замечательные истории рассказывал старик в своей мастерской, позабыв на время про дела, как горели его глаза при воспоминаниях о великой победе! «Словно дрозды, проносящиеся над осенним виноградником и клюющие грозди, — Джон помнил каждое слово Ульферта, — мы проносились над их землями со священными словами на устах, преследуя язычников, скрывавшихся в лесах, косили и крушили всех от мала до велика. Не было среди нас никого, чьи булавы и мечи за день не покрывались кровью. К концу дня не оставалось в живых ни одного, кто отказался стоя на коленях принять истинную веру». Старик Ульферт доставал трофейный меч, еще хранивший тепло руки убитого язычника. В отличие от оружия франков, которое изготавливалось из железа, этот был сделан из золота, несовершенного металла, как объяснял Ульферт. Ему не хватало прочности, чтобы сразить франкское оружие, но оно было очень красиво. Сердце Джона замирало, когда он смотрел на него. Старик Ульферт протянул однажды меч ему, и Джон, взяв оружие, ощутил его тяжесть. Рукоятка меча пришлась Джону как раз по руке, словно сделана была специально для него. Он взмахнул мечом, тот с шумом рассек воздух, и этот звук навсегда сохранился в его памяти. Тогда он понял, что рожден воином. Даже теперь ходили слухи, что весной будет новый поход. Возможно, граф Хуго снова откликнется на призыв императора. Если это случится, то Джон отправится с ним, даже вопреки воле отца. Скоро ему исполнится четырнадцать — возраст мужчины. Многие отправились на войну в этом возрасте и даже моложе. Он сбежит, если понадобится, но обязательно станет воином. Конечно, теперь, когда его запрут в школе Дорштадта, сделать это будет трудно. «Узнают ли о новом призыве в армию так далеко, — размышлял Джон, а если даже и узнают, удастся ли ему выбраться из заточения?» Мысли огорчали его, и он постарался не думать. Вместо этого Джон обратился к любимым мечтам. Он сражается в первых рядах, серебряные знамена графа колышутся над ним и зовут вперед преследовать разбитых и поверженных язычников, которые в страхе разбегаются. Джон настигает их, ловко размахивая длинным мечом, безжалостно разя до тех пор, пока они не покорятся ему, не раскаются в своей слепоте, не докажут, что готовы принять истинную веру. Слушая монотонный стук копыт, уносивших их все дальше через темнеющий лес, Джон рассеянно улыбался.
* * *
Послышался легкий шум и удар. — Ах! — Гонец епископа откинулся назад, толкнув плечом заснувшего Джона. — Эй! — возмутился Джон, но всадник уже падал с коня, и его тяжелое тело увлекало Джона за собой. На землю они упали вместе. Джон свалился на гонца, который лежал не шелохнувшись. Пытаясь встать, Джон наткнулся на что-то длинное и гладкое. Это было древко стрелы с желтым опереньем. Наконечник глубоко пронзил грудь воина. Джон вскочил, почувствовав опасность. Среди крупных деревьев на другой стороне тропы показался человек в лохмотьях. В руках у него был лук, а за плечами виднелся колчан со стрелами. «Он собирается убить меня?» Человек приближался. Джон огляделся, намереваясь убежать. Здесь лес был густой, он мог спрятаться среди деревьев. Человек почти настиг его, Джон даже разглядел свирепый взгляд. Мальчик попытался убежать, но было слишком поздно. Мужчина схватил его за руку. Джон сопротивлялся, но незнакомец был выше и сильнее. Он даже приподнял Джона над землей. Джон вспомнил про нож. Свободной рукой он нащупал его под рубахой, схватился за рукоятку и что есть силы воткнул в тело противника. С неожиданным восторгом он почувствовал, как лезвие вошло в плоть человека, задев кость, Джон, резко повернув нож, вытащил его. Мужчина выругался и прижал руку к раненому плечу, отпустив мальчика. Ветви деревьев рвали одежду, цеплялись и царапали Джона, но он продолжал бежать. Ночь была лунная, однако в лесу царил мрак. Оглянувшись на бегу, Джон налетел на буковое дерево. Уцепившись за нижнюю ветку, он начал быстро карабкаться вверх и остановился лишь тогда, когда ветви стали такими тонкими, что уже не выдержали бы его вес. Мальчик замер в ожидании. До него не доносилось ни звука, кроме шелеста листвы. Дважды ухнула сова, ее голос эхом отозвался в тишине. Затем Джон услышал шаги. Затаив дыхание, он схватился за нож, радуясь, что его коричневая одежда сливалась с ночной тьмой. Шаги все приближались. Джон слышал неровное дыхание мужчины. Шаги затихли прямо под его деревом.Джоанна выбралась из дома и окунулась в прохладу лунной ночи. Знакомые силуэты были окутаны тенями. Она поежилась, вспомнив о злых духах и троллях, которые оживали по ночам. Закутавшись в грубую пеньковую накидку, девочка направилась в темноту, пытаясь разглядеть тропинку, ведущую через лес. Луна светила ярко, оставалось лишь два дня до полнолуния. Через мгновение она разглядела старый дуб, расколотый ударом молнии. Он служил ориентиром, и Джоанна быстро побежала к нему через поле. На краю леса она остановилась. Там было темно: лунный свет рассеивался среди деревьев. Девочка оглянулась на свой дом, В лунном свете, окруженный полями и постройками для скота, он казался крепким, теплым и родным. Джоанна вспомнила о своей удобной кровати: одеяло, наверное, еще хранило ее тепло. Она подумала о матери, с которой даже не попрощалась, и сделала было шаг к дому, но остановилась. Все что имело для нее значение, все чего она хотела, находилось в другой стороне. Джоанна вошла в лес, и кроны деревьев сомкнулись над ее головой. По тропинке, заваленной камнями и сухими ветками, она быстро шла вперед. До стоянки было пятнадцать миль, а она должна успеть до рассвета. Главное — не сбиться с пути. Дорога трудная, в темноте легко сойти на обочину, где ветви деревьев цепляются за одежду и волосы, Дорога становилась все более неровной. Несколько раз Джоанна спотыкалась о камни и корни деревьев, а один раз даже упала, изранив колени и руки. Через несколько часов небо над кронами деревьев посветлело. Джоанна очень устала, но, не сбавила шаг и почти бежала по дороге. Надо было успеть до того, как ее хватятся. Левой ногой Джоанна за что-то зацепилась, попыталась устоять, но неловко упала на руки. От падения у нее перехватило дыхание и какое-то время она лежала неподвижно. Правая рука, поцарапанная острой веткой болела, но других ран не было. Она попыталась сесть. На земле, совсем рядом, спиной к ней лежал человек. Спит? Нет. Он проснулся бы, когда она споткнулась об него. Джоанна тронула мужчину за плечо, и он откинулся на спину. На нее стеклянными глазами смотрел гонец епископа. На его лице застыл ужас. Дорогая накидка была залита кровью. Среднего пальца на левой руке не было. Джоанна вскочила. — Джон! — крикнула она и оглядела лес и лужайку, боясь того, что могла увидеть. — Я здесь. — В темноте появилось бледное лицо. — Джон! Она побежала к брату, и они обнялись, крепко прижавшись друг к другу. — Почему ты здесь? — спросил Джон. — Отец с тобой? — Нет. Объясню потом. Ты не ранен? Что случилось? — На нас напали. Разбойник, думаю, ему нужно было золотое кольцо гонца. Я сидел у гонца за спиной, когда стрела попала в него. Джоанна промолчала, но обняла брата еще крепче. Он высвободился. — Но себя я защитил. Я сделал это! — Его глаза засверкали странным огнем. — Когда он добрался до меня, я ударил его этим! — Джон показал сестре нож каноника с костяной рукояткой. — Думаю, всадил ему прямо в плечо, да так, что осталось время убежать! Джоанна смотрела на лезвие, покрытое кровью. — Папин нож. — Да, — помрачнел Джон. — Я взял его. А почему нет? Он заставил меня уйти, я не хотел. — Хорошо, — быстро сказала Джоанна. — Убери нож, нужно спешить, чтобы успеть на стоянку до рассвета. — На стоянку? Но мне не надо в Дорштадт. После того, что случилось, — Джон кивнул в сторону убитого, — я могу вернуться домой. — Нет, Джон. Подумай. Теперь, когда отец знает о намерениях епископа, он не позволит тебе остаться дома. Он обязательно отправит тебя в школу, даже если ему придется сделать это самому. Кроме того, — Джоанна указала на нож, — когда мы вернемся, отец уже обнаружит пропажу. Джон испугался. Он об этом не подумал. — Все будет хорошо. Я с тобой и помогу тебе, — она взяла брата за руку. — Пойдем. Взявшись за руки, дети направились к месту стоянки, где их ждали люди епископа. Занимался рассвет. (обратно)
Глава 7

Они добрались до стоянки на рассвете, но люди епископа уже не спали, поджидая своего товарища. Когда Джоанна и Джон рассказали им, что случилось, они не поверили и внимательно осмотрели нож с костяной рукояткой. Джоанна радовалась, что сообразила отмыть кровь в лесном ручье. Мужчины отправились на место происшествия и нашли там тело товарища, пронзенное стрелой с желтым опереньем. Рассказ детей подтвердился. Но они не знали, что делать с телом убитого. Везти его в Дорштадт нельзя, потому что до него было две недели пути.Убитого похоронили в лесу, обозначив место грубым деревянным крестом. Джоанна произнесла над могилой молитву. Это произвело на воинов большое впечатление, потому что, как и их товарищ, латыни они не знали. Получив приказ сопровождать девочку, они поначалу отказывались брать Джона. — Для него нет лошади, — заявил старший. — И еды тоже мало. — Мы поедем на одной лошади, — предложила Джоанна. — И едой поделимся. Мужчина покачал головой. — Епископ послал нас за тобой. Насчет брата никаких указаний нам не дали. — Мой отец договорился с вашим начальником, — солгала Джоанна. — Меня отпустили с тем условием, что я поеду в сопровождении Джона. Иначе, папа заберет меня домой… и вам придется возвращаться обратно. Мужчина нахмурился. Пережив неудобства долгого путешествия, он не желал повторить все сначала. Джоанна продолжала настаивать: — Если это случится, то я расскажу епископу, что изо всех сил пыталась растолковать вам ситуацию, А вы не слушали. Думаете, ему понравится, что вся путаница произошла по вашей вине? Мужчина растерялся. Никогда еще не слышал он такую убедительную речь от девочки. Теперь он понял, почему епископ желал ее видеть, она и в самом деле была особенная. — Хорошо, — неохотно согласился он. — Пусть мальчик отправится с нами. Путешествие в Дорштадт было трудным и утомительным, потому что люди епископа, желая поскорее добраться до дома, почти не делали остановок. Тяготы пути не беспокоили Джоанну. Она восхищалась бесконечно меняющимся пейзажем и новым миром, который открывался перед ней каждый день. Наконец-то она была свободна, свободна от Ингельхайма и условностей ее существования там. Джоанна разглядывала с одинаковым восхищением и, бедные маленькие деревушки, и шумные города, Джону же быстро надоела вечная нехватка пищи и отдыха. Джоанна пыталась успокоить его, но добродушная безмятежность сестры лишь усиливала мрачное настроение брата. До дворца епископа они добрались к полудню десятого дня. Привратник недовольно взглянул на детей в грязных крестьянских лохмотьях и приказал отмыть и переодеть их перед тем, как им позволят появиться перед епископом. Во дворце епископа были ванны с горячей водой. Для Джоанны, привыкшей мыться в холодном ручье, который протекал за их домом, это стало чрезвычайным событием. О такой роскоши она никогда не слышала. Джоанна сидела в теплой воде почти час, пока служанки скребли и оттирали ее кожу. Но спину Джоанны они мыли с особой осторожностью, сочувственно глядя на страшные шрамы. Ее волосы также тщательно промыли, заплели в длинные золотистые косы, которые уложили вокруг головы. Потом на нее надели новую тунику из зеленого полотна. Джоанне не верилось, что такая мягкая, тонкой выделки ткань сделана руками людей. Нарядив Джоанну, женщины дали ей зеркало. Посмотрев в него, Джоанна увидела перед собой незнакомое лицо. Прежде она видела свое отражение лишь в грязной воде пруда. Ее потрясла ясность изображения в зеркале. Она пристально и критично разглядывала себя. Хорошенькой она не была, и знала это. У нее не было высокого, светлого лба, изящного подбородка, красивой фигуры с покатыми плечами, воспетой менестрелями и влюбленными. Она была румяной, крепкой девочкой, и больше походила на мальчика. Лоб не очень высокий, подбородок широкий, а плечи слишком прямые. Нет, она не прослывет красавицей. Но золотистые, как у мамы, волосы были прекрасны, и глаза тоже — глубоко посаженные, зеленые, в обрамлении густых ресниц. Пожав плечами, Джоанна отложила зеркало. Епископ вызвал ее не для того, чтобы любоваться ее красотой. Потом привели Джона, одетого в тунику и накидку из голубого полотна. Детей отвели к дворцовому распорядителю. — Лучше, — сказал он, осмотрев их с удовольствием. — Гораздо лучше. А теперь следуйте за мной. Они шли по длинному коридору, на стенах которого висели огромные гобелены, причудливо вытканные золотыми и серебряными нитями. Сердце Джоанны бешено колотилось. Ей предстояло увидеть епископа! Отвечу ли я на его вопросы? Примет ли он меня в школу? Вдруг она почувствовала себя глупой и неуверенной, попыталась вспомнить то, чему училась, но в голове было пусто. Тогда Джоанна подумала об Эскулапии, о той надежде, которую он вселил в нее, устроив эту встречу. Они остановились перед огромными дубовыми дверями, из-за которых доносился шум голосов и звон посуды. Распорядитель дворца кивнул лакею, и тот распахнул тяжелые двери. Джоанна и Джон вошли в комнату и в изумлении остановились. В зале было человек двести, они сидели за длинными столами, уставленными яствами. На блюдах горами лежало жареное мясо каплунов, гусей, куропаток и оленей. Гости отрывали куски мяса и, отправляя их в рот, вытирали руки об одежду. В центре самого большого стола, наполовину съеденная, красовалась огромная голова жареного кабана, политая соусом. Еще там были разные похлебки, пирожки, очищенные грецкие орехи, инжир, финики, белые и красные леденцы и много других кушаний, названия которых Джоанна не знала. Она никогда еще не видела столько еды в одном месте. — Песню! Песню! — Кубки загремели о деревянный стол. — Ну же, Уидукинд, спой нам! — Высокого бледнолицего молодого человека начали подталкивать, и он, смеясь, встал. — Ik gihorta dat seggen dat sih urhettum aenon muo tin, hiltibraht enti haudbrant…. Джоанну поразило, что молодой человек пел на просторечии; каноник назвал бы его произношение языческим. — Прослышал я, как Хилдебранд и Хадубранд в бою сошлись однажды…. Мужчины встали и подхватили песнь, покачивая кубками. — …Стрел острых дождь их поливал, но крепко так они сражались, что в щепки их щиты ломались… «Странная песня за столом епископа». Джоанна искоса взглянула на Джона: его глаза сияли от восторга. Радостным криком гости закончили песню и уселись на свои места, шумно придвигая скамьи к столу. Из-за стола поднялся, хитро ухмыляясь, еще один человек. — Прослышал я, как что-то поднялось в укромном Месте… — он замолчал в ожидании. — Загадка! — крикнул кто-то, и люди зашумели, Приветствуя идею. — Загадка Хайдо! Да! Да! Послушаем. Человек по имени Хайдо дождался тишины. — Прослышал я, как что-то поднялось в укромном месте, — повторил он, — набухло, вздыбив покрывало, а барышня вцепилась ручками в него… — гости понимающе захихикали, — …прикрыв поспешно нежной кисеей. — Хайдо обвел гостей веселым взглядом. — Так что же это, спрошу я вас? — Загляни себе между ног, — выкрикнул кто-то. — Там и найдешь ответ! — Последовал взрыв смеха и непристойные жесты. Джоанна смотрела на всех в изумлении. Неужели это резиденция епископа? — Неверно! — рассмеявшись ответил Хайдо. — Вы все ошибаетесь! — Тогда скажи ответ! Ответ! — люди стучали и стучали кубками по столу. Хайдо сделал паузу, нагнетая ситуацию. — Тесто! — победоносно объявил он и сел под раскаты хохота. Когда шум затих, дворцовый распорядитель сказал: — Идите за мной. — И повел детей в дальний конец зала, где на высоком помосте стоял стол, за которым на мягкой подушке сидел смеющийся епископ в роскошной одежде, запачканной жиром и вином. Он выглядел совсем не так, как представляла себе Джоанна. Это был крупный мужчина с толстой шеей, просторная туника покрывала широкие плечи и мускулистое тело. Объемистый живот и цветущее лицо выдавали в нем человека, любившего поесть и выпить. Когда они подошли ближе, епископ наклонился и поднес к губам упитанной женщины, сидевшей рядом с ним, красный леденец. Она надкусила его и что-то прошептала ему на ухо. Они оба рассмеялись. Дворцовый распорядитель откашлялся. — Ваше преосвященство, отряд доставил ребенка из Ингельхайма. Епископ рассеянно посмотрел на него. — Ребенок? Э-э, какой ребенок? — Тот, за которым вы послали, господин. Полагаю, кандидат для школы. Рекомендованный вам гр… — Да, да, — епископ нетерпеливо махнул рукой. — Вспомнил. — Его рука легла на плечи женщины. Он посмотрел на Джона и Джоанну. — Ну, Уидукинд, у меня двоится в глазах? Нет, каноник прислал своего сына. Они прибыли вдвоем на стоянку и их нельзя разделить. — Хорошо, — лицо епископа выразило любопытство. — Что вы об этом скажете? Послал за одним, а получил двоих. Будет ли император столь же щедр к этому сельскому прелату! За столом все покатились со смеху. Раздались крики: — Услышано! Услышано! Аминь! Епископ протянул руку, оторвал ножку от жареного цыпленка и обратился к Джоанне. — Ты та самая умница, которую выучили? Джоанна растерялась, не зная, что сказать. — Я много училась, ваше преосвященство. — Ба! Училась! — фыркнул епископ и откусил от куриной ножки. — В школе полно болванов: они много учатся, но ничего не знают. А что знаешь ты, дитя? — Умею читать и писать, ваше преосвященство. — На просторечии или на латыни? — На просторечии, на латыни и на греческом. — На греческом! Это уже что-то. Даже Одо не знает греческого, верно, Одо? — Он улыбнулся худощавому мужчине, сидевшему неподалеку. Одо растянул тонкие губы в фальшивой улыбке. — Это язык, ваше преосвященство, идолопоклонников и еретиков. — Совершенно верно, совершенно верно, — язвительно ответил епископ. — Одо всегда прав, не так ли, Одо? Клирик фыркнул. — Ваше преосвященство, вы отлично знаете, что я не одобряю вашей прихоти. Это опасно, и я считаю богохульством допускать женщин к обучению в школе. Из дальнего угла зала послышался голос: — По виду не скажешь, что она уже женщина. Раздался новый раскат смеха, сопровождаемый непристойными замечаниями. Джоанна зарделась от стыда. Как могут эти люди вести себя так в присутствии епископа? — Это бессмысленно, — продолжил человек по имени Одо, когда шум затих. — По своей природе женщины совершенно не способны рассуждать. — Презрительно взглянув на Джоанну, он обратился к епископу. — Их естественная гуморальность, холодная и слишком жидкая, не пригодна для умственной активности. Им не дано понимать высокие духовные и моральные концепции. Джоанна недоуменно уставилась на него. — Я уже слышал эти доводы, — епископ улыбнулся Одо так, будто наслаждался моментом. — Но как объяснишь ты, например, что девочка знает греческий, который даже тебе не под силу? — Он особенно выделил слова «не под силу». — Она похваляется своими способностями, но это еще нужно доказать — огрызнулся Одо. — Вы чрезмерно доверчивы, ваше преосвященство. Возможно, грек преувеличил ее способности. Это было слишком. Сперва этот противный человек оскорбил ее, а теперь осмелился плохо отозваться об Эскулапии! Джоанна собиралась дерзко возразить ему, но тут заметила добрый взгляд рыжеволосого рыцаря, сидевшего радом с епископом. Он молча подал ей знак. Она промолчала. Повернувшись к епископу, он что-то прошептал ему. Епископ кивнул и обратился к тощему клирику: — Очень хорошо, Одо, проэкзаменуй ее. — Ваше преосвященство? — Проэкзаменуй ее. Проверь, достойна ли она того, чтобы учиться в школе. — Прямо здесь? Это не совсем умес… — Именно здесь, Одо. А почему бы и нет? Нам всем полезно узнать это. Одо нахмурился, глядя на Джоанну. — Quicunque vnlt. Что это значит? Джоанна удивилась, что вопрос так прост. Возможно, это уловка? Возможно, он хотел провести ее. Она осторожно ответила: — Это доктрина, определяющая, что три составляющие Троицы едины. Что Христос является и Богом, и человеком. — Основоположник этого учения? — Первый Никейский собор. — Confessio Fidei. Что это? — Это лживое и пагубное учение. — Джоанна знала, что нужно говорить, предупрежденная Анастасием. — Учение, которое допускает, что Христос был изначально человеком и только потом обрел божественность. Божественность, но после того, как Его принял Отец. — Она всматривалась в лицо Одо, но оно было безучастным. — Fttius nоn proprius, sed adoptivus, — продолжила Джоанна для большей убедительности. — Разъясни лживую природу этой ереси. — Если Иисус сын Божий по милости Его, а не по природе, тогда Он должен быть рангом ниже Отца. Это неправильное суждение и мерзость, — заученно продолжала Джоанна, — потому что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына; есть только один Сын, и Он не сын приемный. «In utraque natura proprium eum et nоn adoptivum filium dei confitemur». Люди за столом одобрительно защелкали пальцами. — Litteratissima! — воскликнул кто-то. — Забавная малышка, не так ли? — едва слышно прозвучал голос женщины. — Ну как, Одо? — удовлетворенно спросил епископ. — Что скажешь? Прав грек или нет? Казалось Одо выпил уксуса. — Возможно, у ребенка есть какие-то знания ортодоксальной теологии. Но это ничего не доказывает, — снисходительно отозвался он, словно обращаясь к тупому ребенку. — Есть женщины, способные запоминать наизусть и повторять слова мужчин, чем создают впечатление, будто умеют мыслить. Но эти способности нельзя путать с истинным умом, свойственным только мужчинам. Это всем известно. — В голосе Одо зазвучали авторитетные нотки, поскольку теперь он был вполне уверен в своих словах. — Женщины от рождения ниже мужчин. — Почему? — Слово сорвалось с уст Джоанны помимо ее воли. Одо улыбнулся, неприятно растянув свои тонкие губы. Он походил на лису, затравившую зайца. — Этот вопрос, дитя, изобличает твое невежество. Сам Святой Павел утверждал, что женщины стоят ниже мужчин и по созданию, и по положению, и по волеизъявлению. — По созданию, по положению и волеизъявлению? — повторила Джоанна. — Да — Одо произносил слова медленно и четко, словно обращался к идиотке: — По созданию, потому что Адам был создан первым, а Ева потом; по положению, потому что Ева была создана, чтобы служить Адаму, как друг; по волеизъявлению, потому что Ева не смогла противиться дьявольскому искушению и съела яблоко. Люди закивали. Епископ помрачнел. Рыжеволосый мужчина рядом с ним остался безучастным. Одо усмехнулся. Джоанна почувствовала отвращение к этому человеку. Минуту она молчала, теребя кончик носа. — Почему, — начала она, — женщина ниже мужчины по созданию? Да, она была создана второй, но из ребра Адама, тогда как Адам был создан из простой глины. — Из дальнего конца зала послышались одобрительные возгласы. — По положению, — размышляла вслух Джоанна, — женщине следует отдать предпочтение, потому что Ева была создана в раю, а Адам за пределами рая. В зале снова зашумели, и Одо уже не ухмылялся. Джоанна продолжала, увлеченная ходом своей мысли: — Поэтому следует считать, что женщина превосходит мужчину, — это прозвучало слишком смело, но отступать было некуда, — ибо Ева вкусила яблоко ради стремления к знанию, а Адам съел яблоко лишь потому, что она попросила его об этом. В зале воцарилась напряженная тишина. Одо гневно сжал губы. Епископ смотрел на Джоанну, словно не веря тому, что услышал. Она перестаралась: некоторые идеи явно очень опасны. Эскулапий предупреждал ее, но она так увлеклась спором, что забыла про его совет. Этот человек, Одо, так уверен в себе, так хочет унизить ее перед епископом! Она сама разрушила надежду попасть в школу, но не допустит, чтобы этот ничтожный человек радовался ее унижению. Джоанна стояла перед высоким столом упрямо вздернув подбородок. Воцарилась долгая тишина. Все взоры устремились к епископу. Он пытливо смотрел на Джоанну, и его губы расплылись в улыбке. Епископ рассмеялся. Пышная женщина рядом с ним нервно захихикала, и вскоре весь зал зашумел. Люди веселились, стучали по столам и смеялись, смеялись громко, до слез. Джоанна взглянула на рыжеволосого рыцаря: он тоже улыбался. Их взгляды встретились, и он подмигнул ей. — Ну что, Одо? — спросил епископ, переведя дух, — ты должен признать, что девочка оказалась умнее тебя! Одо мрачно взглянул на епископа. — А что мальчик, ваше преосвященство? Желаете проэкзаменовать и его? — Нет, нет. Берем и его тоже, раз уж девочка так привязана к нему. Мы принимаем обоих! Конечно, образование девочки не совсем… — он подыскал подходящее слово, — ортодоксальное. Но она истинное чудо. Именно то, что нужно школе! Одо, у тебя появились новые ученики. Позаботься о них хорошенько! Джоанна удивленно смотрела на епископа. Что он имеет в виду? Неужели Одо управляет школой? Неужели он будет ее учителем? Что она сделала? Одо уставился на епископа. — Вы конечно же распорядились о том, где разместить ребенка? Она не может жить в окружении мальчиков. — Ах… где ей жить, — епископ задумался. — Посмотрим… — Ваше преосвященство, — обратился к епископу рыжеволосый рыцарь, — ребенок может жить у меня. У нас с женой две девочки, которым она понравится. Она будет отличной подругой для моей Гилэы. Джоанна посмотрела на него. Это был мужчина лет двадцати пяти, сильный, холеный, скуластый с красивой бородой. Его густые волосы, необычного рыжего цвета, были расчесаны на прямой пробор и кудрями ниспадали на плечи. Яркие голубые глаза светились умом и добротой. — Отлично, Джеральд, — добродушно похлопал его по спине епископ. — Решено, девочка останется у вас. Пришел слуга с полным подносом сладостей. У Джоанны загорелись глаза при виде сахарных сладостей в масле. Епископ улыбнулся. — Дети, вы, должно быть, проголодались после долгого путешествия. Садитесь рядом со мной. — Он подвинулся ближе к женщине, освободив место между собой и рыжеволосым рыцарем. Джоанна и Джон сели на указанное место, и епископ сам стал угощать их. Джон, жадно набросившись на еду, измазал лицо сахарной пудрой. Епископ снова увлекся своей соседкой. Они пили из одного кубка, смеялись, и он гладил ее по волосам, сдвинув чепец. Джоанна, не отрываясь, смотрела на блюдо со сладостями, съела кусочек, но он был невыносимо приторный. Ей так хотелось уйти из этого места, подальше от шума и незнакомых людей, не видеть странного поведения епископа. Рыжеволосый рыцарь по имени Джеральд заговорил с ней. — У тебя был долгий день, хочешь уйти? Джоанна кивнула. Увидев, что они уходят, Джон засунул в рот еще один леденец и тоже встал. — Нет, сынок, — Джеральд положил руку ему на плечо, — ты останешься здесь. — Хочу идти с ней, — жалобно сказал Джон. — Твое место здесь, с другими мальчиками. Когда застолье закончится, распорядитель отведет тебя в школу. Джон побледнел, но совладал с собой и промолчал. — Неплохой кинжал, — Джеральд указал на пояс Джона. — Можно взглянуть? Джон вынул нож из-за пояса и протянул его Джеральду. Тот повернул его, восхищаясь рукояткой. Лезвие блестело в мерцающем огне факелов. Джоанна вспомнила, как он сверкал, перед тем, как впился в пергамент книги Эскулапия, стирая текст. — Прекрасно. У Роджера тоже есть меч с рукояткой. Роджер, — Джеральд подозвал юношу, сидевшего за столом, — подойди и покажи молодому человеку свой меч. Роджер протянул длинный стальной меч с причудливой рукояткой. Джон с восторгом посмотрел на него. — Можно потрогать? — Возьми его, если хочешь. — У тебя будет собственный меч, — сказал Джеральд, — и лук тоже, если у тебя хватит сил. Расскажи, Роджер. — Да. У нас каждый день занятия по военному делу и тренировки. Глаза Джона вспыхнули от удивления и радости. — Видишь зарубку на лезвии? Это от удара по тяжелому мечу самого учителя по оружию! — Неужели?! — воскликнул Джон. Джеральд обратился к Джоанне: — Может быть, пойдем? Думаю, твой брат не будет возражать, если мы удалимся. На пороге Джоанна оглянулась. Держа меч на коленях Джон, оживлено беседовал с Роджером. Она почувствовала странное облегчение, расставаясь с ним. Они часто были соперниками, а не друзьями, но Джон связывал ее с домом, со знакомым и понятным миром. Без него она оставалась совсем одинокой. Джеральд быстро зашагал по коридору. Джоанне пришлось догонять его почти бегом. — Ты отлично расправилась с Одо, — заметил Джеральд. — Едва ли ему это понравилось. — Конечно нет. Одо очень дорожит своей репутацией, бережет ее как последние гроши. Джоанна улыбнулась; этому человеку она готова была доверять. — Та женщина… жена епископа? — она в смущении запнулась на слове. Всю жизнь она стыдилась того, что ее родители состоят в браке. Это было детское понимание, молчаливое и не до конца осознанное, но прочувствованное очень глубоко. Однажды, наблюдая переживания Джоанны, Эскулапий сказал ей, что такие браки приняты лишь среди низших духовных сословий. Но для епископа… — Жена? А, ты имеешь в виду Теду, — Джеральд засмеялся. — Нет, епископ не из тех, кто женится. Теда одна из его любовниц. Любовниц! У Епископа могут быть любовницы! — Ты шокирована? Не удивляйся. Фулгентиус, наш епископ, не благочестивый человек. Он унаследовал этот титул от своего дяди, который был епископом до него. Фулгентиус никогда не был священником и не притворяется святошей, как ты заметила. Но ты сама увидишь, что он хороший человек. Он преклоняется перед людьми учеными, хотя сам не из их числа. Именно он основал местную школу. Джеральд говорил с ней просто, как со взрослой. Джоанне это понравилось. Но его слова обеспокоили ее. Можно ли епископу, главе святой церкви, так себя вести? Иметь… любовницу? Все это так непохоже на то, чего она ожидала. Они достигли наружных ворот дворца. Пажи, облаченные в алый шелк, распахнули огромные ворота. Яркий свет факелов, освещавших коридор, брызнул в ночную тьму. — Пойдем, — сказал Джеральд. — Выспавшись, ты почувствуешь себя лучше. — Он быстро направился к конюшне. Джоанна неуверенно последовала за ним в ночную прохладу. — Вот он! — Джеральд указал налево, и Джоанна посмотрела в ту сторону. Вдалеке, на фоне лунного неба, виднелся темный силуэт построек. — Там Вилларис. Мой дом. И отныне твой тоже, Джоанна. Даже в темноте Вилларис поражал воображение, Удачно расположенный на вершине холма, он казался огромным удивленной Джоанне. Дворец состоял из четырех высоких бревенчатых зданий, соединенных дворами и прекрасными деревянными галереями. Джеральд и Джоанна проехали через крепкую дубовую ограду у главных ворот и мимо нескольких наружных построек: кухни, пекарни, стойла, конюшни и двух амбаров. Они спешились в маленьком дворе, и Джеральд передал коня ожидавшему его конюху. Смоляные факелы, расположенные на равном расстоянии, освещали их путь по длинному, без окон, коридору. На его толстых дубовых стенах рядами висело оружие: длинные мечи, копья, стрелы, арбалеты и скрамасаксы, короткие, тяжелые, заточенные с одной стороны мечи, которыми пользовались свирепые франкские пехотинцы. Затем они миновали второй большой двор, окруженный крытыми галереями, и наконец вошли в просторный увешанный гобеленами зал. В центре зала стояла женщина невероятной красоты, почти такая же красивая, как Гудрун. Но в отличие от светловолосой, стройной и высокой Гудрун, эта женщина была невысокой, хрупкой и с черными волосами. А ее огромные темные глаза холодно рассматривали Джоанну, не скрывая своего отношения к ней. — Что это такое? — спросила женщина, когда они приблизились. Не обратив внимание на ее неучтивость, Джеральд ответил: — Джоанна, это моя жена, Ричилд, хозяйка этого поместья. Ричилд, позволь представить тебе Джоанну из Ингельхайма. Она прибыла сегодня, чтобы учиться в школе. Джоанна попыталась вежливо поклониться, но Ричилд презрительно посмотрела на нее и обратилась к Джеральду: — В школе? Это шутка? — Фунгентиус принял ее, и теперь на время учебы она поселится здесь, в Вилларисе. — Здесь? — Она может спать в одной постели с Гилзой, и у той появится наконец смышленая подруга. Красивые черные брови Ричилд взметнулись. — Она похожа на крестьянку. Глаза Джоанны вспыхнули от обиды. — Ричилд, ты забываешься, — резко заметил Джеральд. — Джоанна гостья в этом доме. — И что же… — фыркнула Ричилд. Кончиками пальцев она коснулась новой зеленой туники Джоанны. — По крайней мере, выглядит чистой. — Она величественно подала знак одному из слуг. — Проводите ее в дортуар. — Не сказав больше ни слова, Ричилд удалилась.
Позднее, лежа на мягком соломенном матрасе в верхней спальне рядом со спящей Гилзой (она не проснулась, даже когда Джоанна легла рядом с ней), Джоанна думала о брате. Рядом с кем спит теперь Джон, и заснул ли он? Самой Джоанне спать не хотелось, в голове теснились тревожные мысли. Она скучала по привычной обстановке дома, особенно тосковала по матери. Джоанне так хотелось, чтобы мама обняла ее, приласкала, назвала перепелочкой. Ей не следовало убегать из дома вот так, молча, не попрощавшись. Гудрун предала ее, когда к ним пришел гонец от епископа, это верно, но Джоанна знала: мать сделала это из любви к ней, не в силах расстаться с дочерью. Теперь Джоанна, возможно, никогда не увидит мать. Она сбежала, не подумав о последствиях и отчетливо поняла, что никогда не сможет вернуться домой. Отец убьет ее за непослушание, Ее место здесь, в этом странном и неприветливом месте, где ей придется остаться. «Мама», — подумала Джоанна, глядя в незнакомую темноту чужой комнаты, и но щеке ее медленно скатилась слеза. (обратно)
Глава 8

В классной комнате, маленькой каменной келье, прилегающей к кафедральной библиотеке, всегда было холодно и сыро, даже в теплый осенний полдень. Джоанне нравились прохлада, сильный запах пергамента и возможность изучать книги, хранившиеся за дверью. На стене комнаты висела огромная картина, на которой была изображена женщина в длинном струящемся платье. Она была похожа на гречанку. В левой руке женщина держала ножницы, в правой — плеть, символизируя Знание. Ножницы были предназначены для того, чтобы искоренять ошибки и лживые догмы, а плеть — для ленивых учеников. Брови богини Знания были нахмурены, губы стиснуты. Темные глаза глядели с картины прямо на смотрящего, пристально и повелительно. Одо приказал написать эту картину, как только его назначили старшим учителем школы. В противоположном углу комнаты неуспевающие ученики хором повторяли простые формы глаголов. — Мычат, ржут, кричат, трубят… Одо ритмично покачивал правой рукой, отмеряя такт. В то же время он привычным взглядом обводил комнату, следя за работой остальных учеников. Людовик и Эббо склонились над псалмом. Предполагалось, что они заучивают его наизусть, но их головы, повернутые друг к другу, свидетельствовали о том, что о работе они уже не думают. Не прекращая монотонно помахивать правой рукой, Одо хлестнул по спинам обоих мальчиков длинной розгой. Они охнули и склонились над столами, превратившись в образец трудолюбия. Рядом Джон трудился над главой Донатуса. Было видно, что ему это дается нелегко. Читал он медленно, с трудом воспроизводя каждый звук, часто останавливался, чтобы почесать в затылке, увидев незнакомое слово. Сидя отдельно от остальных, поскольку она не имела с ними ничего общего, Джоанна работала над толкованием Жития Святого Атония. Это задал ей Одо. Она работала быстро, ее перо порхало над пергаментом уверенно и точно. Она не поднимала головы, ни на секунду не отвлекаясь от работы. Джоанна полностью сосредоточилась. Одо произнес: — На сегодня достаточно. Эта группа, — он повернулся к новичкам, — свободна. Остальные остаются на своих местах, пока я не проверю работы. Новички радостно вскочили и быстро удалились из комнаты. Другие ученики положили свои перья и выжидательно смотрели на Одо, мечтая, чтобы их поскорее отпустили на теплое полуденное солнышко. Только одна Джоанна сидела, склонившись над работой. Одо нахмурился. Прилежание девочки очень удивляло его. Рука его потянулась к розге, но повода наказывать ее не было, так как она явно хотела учиться. Одо подошел к ее столу и застыл над ней. Джоанна, перестав писать, взглянула на него с удивлением и даже… в это не верилось… с разочарованием. — Вы вызывали меня, сир? Простите, я увлеклась работой, не услышала вас. Неплохо играет свою роль, подумал Одо. Но меня не проведешь. О, как она притворялась, что уважает его и послушна, когда бы он ни обратился к ней. Но Одо по глазам видел всю правду. В душе девчонка насмехалась над ним и презирала. В этом Одо не сомневался. Он наклонился, чтобы проверить ее работу, и молча перелистал пергаментные страницы. — Почерк, — сказал он, — не очень аккуратный. Видишь здесь… и здесь. — Он указал длинным тощим пальцем. — У тебя недостаточно округлые буквы. Детка, чем ты объяснишь такую слабую работу? Слабая работа! Джоанна возмутилась. Она только что исписала десять страниц! Любой другой ученик потратил бы на это гораздо больше времени. Ее объяснения были точными и полными, даже Одо не мог отрицать этого. Джоанна видела как блестели его глаза, когда он читал работу о сослагательном наклонении, написанную ее красивым почерком. — Ну что же? — поторопил он Джоанну. Ему хотелось, чтобы она потеряла самообладание и нагрубила ему. Наглая и бесстыжая девчонка! Она стремилась нарушить определенный Богом закон вселенной, узурпировав законное право превосходства мужчины над женщиной. Продолжай, нетерпеливо ждал он. Выскажись. Если только она посмеет, он поставит ее на место. Джоанна не давала волю эмоциям, отлично зная, куда клонит Одо. Но как бы он ни старался, она не уступит ему, не даст повода исключить ее из школы. — У меня нет оправдания, сир, — спокойно ответила Джоанна. — Очень хорошо. В наказание за твою лень, перед тем как покинуть классную комнату, перепиши отрывок из Первого послания к Тимофею, вторую главу, стих одиннадцатый и двенадцатый, двадцать пять раз хорошим почерком. Джоанну охватила злость. Противный, ограниченный человечишка! Если бы только она могла высказать ему все, что думает! — Да, сир. — Джоанна не поднимала глаз, чтобы он не прочел ее мысли. Одо испытал разочарование. Но не могла же девчонка держаться так вечно. Рано или поздно — при этой мысли он улыбнулся — она обязательно выдаст себя. Он подождет. Оставив ее в покое, Одо начал проверять работы других учеников. Джоанна вздохнула и взяла перо. Первое послание к Тимофею, глава вторая, стихи одиннадцать и двенадцать. Она неплохо его знала, Одо не первый раз наказывал ее таким способом. Это была цитата из Послания Святого Павла: «Не дозволено женщине быть учителем, и не должна женщина превосходить мужчину, она должна молчать и слушать с подобающим вниманием». Не успев закончить и половины работы, Джоанна почувствовала что-то неладное. Она подняла голову. Одо ушел, а мальчики стояли тесной группой у двери, разговаривали. Это удивило ее. Обычно они выбегали из комнаты, как только заканчивался урок. Джоанна устало посмотрела на них. С ними был Джон; он стоял с краю, прислушиваясь к разговору. Их взгляды встретились, он улыбнулся и помахал сестре рукой. Она улыбнулась в ответ и продолжила писать, но ощутила страх. Неужели мальчики что-то задумали? Они часто издевались над ней, и Одо никогда не останавливал их. Хотя Джоанна привыкла к их оскорблениям, это претило ей. Поспешно дописав последние строки, она встала, чтобы уйти. Мальчики продолжали стоять у двери. Она знала, что они поджидают ее, Джоанна гордо вздернула подбородок и быстро прошла мимо них. Ее накидка висела на деревянном крючке возле двери. Стараясь не обращать на мальчиков внимания, она сняла накидку, застегнула ее и накинула капюшон. На голову ей пролилось что-то тяжелое и влажное. Она хотела откинуть капюшон, но он прилип к голове. Липкая масса потекла по лицу. Джоанна прикоснулась к ней пальцами, и они погрузились в густую, слизистую жижу. Gum Arabic. Гуммиарабик, вещество, которое применяли в школах и скрипториях как загуститель с добавлением уксуса и древесного угля для изготовления чернил. Она вытерла руку об одежду, но гуммиарабик прилип намертво. Попытавшись снять капюшон снова, Джоанна вскрикнула. ВЬлосы пропитались липкой массой до самых корней. — Lusus naturae! Ошибка природы! — дразнили ее мальчишки. Среди них она увидела Джона: он смеялся и выкрикивал оскорбления вместе со всеми. Она посмотрела на брата. Он покраснел и отвел взгляд. Джоанна продолжала идти и слишком поздно заметила подножку, споткнулась и упала на бок. «Неужели это Джон подставил мне подножку?» — подумала она. Поднявшись, Джоанна поморщилась от боли. Липкая жижа залепила ей лицо. Она пыталась стереть ее, чтобы не попала в глаза, но все старания были напрасны. Гуммиарабик покрыл ее брови, веки, склеив ресницы так, что она едва могла видеть. Со смехом мальчики обступили Джоанну, толкая ее из стороны в сторону, чтобы она снова упала. Среди других голосов отчетливо слышался голос Джона. Сквозь толстую пленку, покрывавшую глаза, комната казалась кружащимся цветным потоком. Джоанна уже не видела, где дверь. Ей очень захотелось заплакать. «Ну нет, — подумала она. — Именно этого им и надо, чтобы я разревелась и молила о пощаде, чтобы проявила слабость, чтобы они могли обзывать меня трусливой девчонкой. Не дождутся. Я не сдамся». Она выпрямилась, сдержала слезы, но самообладание девочки лишь распалило мальчишек, и они стали бить ее сильнее. Самый большой мальчик ударил Джоанну по шее так сильно, что она едва устояла на ногах. Вдали послышался голос взрослого мужчины. Неужели вернулся Одо, чтобы положить конец этому издевательству? — Что здесь происходит? Джоанна узнала голос Джеральда. Ни разу еще не слышала она его таким разгневанным. Мальчишки внезапно отступили, и она чуть не упала снова. Джеральд обнял ее за плечи, чтобы уберечь от падения, и она благодарно прильнула к нему. — Так, Бернхар, — Джеральд обратился к самому большому мальчику, к тому, который ударил Джоанну по шее, — не ты ли еще неделю назад на военной подготовке беспомощно отбивался от меча Эрика, не сумев сделать ни одного достойного удара? Но, как вижу, со слабой девочкой ты дерешься смело. Бернхар начал оправдываться, но Джеральд остановил его: — Это расскажешь его преосвященству епископу. Он вызовет тебя, когда узнает. И он сделает это сегодня. Наступила тишина. Джеральд поднял Джоанну на руки. С удивлением она почувствовала их силу. Раньше она даже не подозревала об этом. Джоанна отвернула голову, чтобы отвратительный гуммиарабик не испачкал его накидку. Подходя к своему коню, Джеральд обернулся. — И вот еще что. Я успел заметить, что она гораздо отважнее вас всех. Да и намного умнее, хотя и девочка. Джоанна почувствовала, что вот-вот расплачется. Никто никогда не заступался за нее, кроме Эскулапия. Джеральд не такой, как все. Бутон розы вырастает в темноте. Он ничего не знает о солнце, но пробивается сквозь тьму, пока не разрушится темница, и лепестки цветка раскрываются навстречу солнцу. «Я люблю его». Эта внезапная мысль напугала Джоанну. Что это означает? Не могла она любить Джеральда! Он благородный рыцарь, вельможа, а она — дочь сельского каноника. Он взрослый мужчина, проживший двадцать пять зим. Джоанна знала, что Джеральд в ней видит лишь ребенка, хотя ей уже почти тринадцать, и скоро она станет женщиной. Кроме того, он женат. Джоанна была во власти эмоций и нелепых мыслей. Джеральд посадил сначала на лошадь ее, а потом сам сел сзади. Мальчики смущенно толпились возле двери, не издавая ни звука. Джоанна откинулась на руку Джеральда, чувствуя его силу. — А теперь, — сказал Джеральд, — я отвезу тебя домой. (обратно)
Глава 9

Граф Джеральд, сиятельный владыка этой отдаленной северо-восточной области королевства, приближаясь к холму, на котором раскинулось его поместье, пустил своего нового гнедого галопом. Конь охотно подчинился, предвкушая теплое стойло и свежее сено. За ними следовал на лошади Осдаг, слуга Джеральда. Его лошадь тоже ускорила шаг, но так как поперек ее спины лежал тяжелый, убитый на охоте олень, она заметно отставала. Охота в тот день удалась. Обычно отряд охотников состоял из шести или более человек, но сегодня Джеральд взял с собой только Осдага и двух борзых. Им сопутствовала удача: почти сразу они напали на след оленя. Разглядев его в чаще зорким глазом, Осдаг затрубил в охотничий рог. — Самец, — сказал он, — и очень крупный. Они преследовали его почти час, пока не выгнали на небольшую лужайку. Джеральд поднес рожок к губам, негромко и монотонно протрубил несколько раз, и борзые нетерпеливо запрыгали. Настичь зверя вдвоем лишь с двумя борзыми было непросто, но им удалось его загнать, и Джеральд заколол его одним ударом копья. Как и предполагал Осдаг, олень был великолепный, крупный. В преддверии зимы это было хорошее пополнение кладовых запасов Виллариса. Неподалеку Джеральд заметил Джоанну, сидевшую на траве, скрестив ноги. Отправив Осдага в конюшню, ort подъехал к девочке. За последний год Джеральд очень привязался к этой необычной девочке. Она любила одиночество, была слишком серьезная для своего возраста, но добросердечная и умная, что и привлекало к ней Джеральда. Приблизившись к Джоанне, Джеральд спешился и повел коня под уздцы. Джоанна так задумалась, что не сразу заметила, как он подъехал. Она поднялась и покраснела. Джеральда это позабавило. Джоанна не умела притворяться, и это качество Джеральд находил очаровательным, потому что оно не походило на то, к чему он привык. Несомненно, она по-детски влюблена в него. — Ты задумалась, — проговорил он. — Да. — Она подошла к гнедому и погладила его. — Он хорошо себя вел? — Безупречно. Это хороший конь. — О, да. — Джоанна провела по лоснящейся шее гнедого. Она очень любила лошадей, возможно потому, что выросла без них, Джеральд понял, что семья ее жила так же бедно, как большинство крестьян, хотя отец Джоанны и был каноником. Конь потрепал губами ее ухо, и она рассмеялась от удовольствия. «Прелестная девочка, — подумал Джеральд, — хотя красавицей она никогда не станет». Большие умные глаза были глубоко посажены, подбородок широкий, прямые плечи. Кроткие золотые локоны, обрамляли лицо и, едва прикрывая уши, придавали ей мальчишеский вид. После того случая в школе, Джоанну пришлось побрить наголо, чтобы очистить от гуммиарабика. — О чем ты думала? — О, лишь о том, что случилось сегодня в школе. — Расскажи. Она посмотрела на него. — Верно, что щенки белой волчицы рождаются мертвыми? — Что? — Джеральд привык к ее необычным вопросам, но этот оказался самым странным. — Джон и другие мальчики говорили об этом. Готовится охота па белую волчицу, которая живет в лесу Аннапес. Джеральд кивнул. — Знаю ее. Самка, и очень свирепая, охотится в одиночку, и не знает страха. Прошлой зимой она напала на группу путешественников и унесла ребенка так ловко, что никто не успел даже дотянуться до лука, чтобы убить ее. Говорят, она беременная, думаю, ее постараются убить, пока не родила. — Да, Джон и все остальные переполошились. Эббо сказал, что отец обещал взять его на охоту. — И что? — Одо возражает. Хочет, чтобы охоту отменили, говорит, что белая волчица — священное животное, живое проявление воскресшего Христа. — Джеральд скептически поднял брови. Джоанна продолжила. — Одо сказал, что ее щенки рождаются мертвыми. А потом в течение трех дней мать вылизывает их, и они оживают. Такого чуда никто никогда не видел. — А что ты на это ответила? — спросил Джеральд. Хорошо зная девочку, он не сомневался, что ответ она дала необычный. — Я спросила его, как можно утверждать, что это правда, если никто никогда ничего не видел. Джеральд громко рассмеялся. — Держу пари, нашему учителю не особенно понравился твой вопрос? — Верно. Он счел вопрос непочтительным. А также нелогичным, потому что момента воскресения Христа тоже никто не видел, но в нем не сомневаются. Джеральд положил руку ей на плечо. — Не переживай, девочка. Джоанна помолчала, словно раздумывая, сказать ли еще что-то, но вдруг подняла голову и взглянула на него очень серьезно. — Почему мы так уверены в истинности Воскресения, если никто этого не видел? От удивления мужчина дернул поводья, и гнедой вздрогнул. Джеральд похлопал его по спине, успокаивая. Как большинство землевладельцев в этой северной части империи, которые выросли во времена правления короля Карла, придерживавшегося старых правил, Джеральд не был фанатичным христианином. Он посещал службы, подавал милостыню, соблюдал посты и внешние обряды. Джеральд следовал этим церковным установлениям, поскольку они не противоречили его правам и обязанностям землевладельца, остальное его мало заботило. Но Джеральд понимал, как устроен мир, и чувствовал откуда ждать опасности. — Надеюсь, ты не задала этот вопрос Одо? — Почему бы и нет? — Боже милостивый! — Это было чревато большими неприятностями. Джеральд не любил Одо, этого мелочного человека с его глупыми идеями. Но именно Одо мог добиться, чтобы Фулгентиус выгнал Джоанну из школы. Или… мысль ужаснула Джеральда… чего-то худшего. — Что он ответил? — Ничего. Просто сильно разозлился и… отругал меня. — Она покраснела. Джеральд слегка присвистнул. — А чего ты ожидала? Ты уже взрослая и должна знать, что не обо всем можно спрашивать. — Почему? Большие умные серо-зеленые глаза, пристально смотрели на него. «Глаза язычницы — подумал Джеральд, — глаза, которые она никогда не отведет ни перед человеком, ни перед Богом». Его встревожила мысль о том, до чего это может довести. — Почему? — настойчиво спросила она. — Просто не надо задавать такие вопросы, и все, — ответил он, раздраженный ее настойчивостью. Иногда не по возрасту умная Джоанна была просто невыносима. «Кажется… обиделся, или рассердился?» — решила она и дипломатично сказала: — Мне нужно вернуться домой. Гобелен для зала почти готов, и вашей жене, наверное, понадобиться помощь. — Вздернув подбородок, Джоанна повернулась, чтобы уйти. Джеральда это позабавило. Столько достоинства в таком юном существе! Нет, его жена Ричилд не нуждается в помощи Джоанны, это абсурд. Она часто жаловалась ему, что Джоанна не умеет обращаться с иглой. Джеральд сам наблюдал, как она пыталась заставить свои неуклюжие пальцы быть послушными, и видел, сколь плачевны были результаты ее стараний. Его раздражение прошло, и он сказал: — Не обижайся. Если собираешься покорить мир, запасись терпением. Девочка искоса посмотрела на Джеральда, взвешивая его слова, но вдруг откинула голову и рассмеялась радостным, густым, красивым и заразительным смехом. Джеральд был очарован. Он взял ее за подбородок. — Я не хотел обидеть тебя. Просто иногда ты меня удивляешь. Ты так мудра в одном и совершенная дурочка в другом. Джоанна хотела ответить, но он поднес палец к ее губам. — Я не знаю ответа на твой вопрос. Но не сомневаюсь, что он очень опасный. Многие назвали бы это ересью. Ты понимаешь, что это значит? Она мрачно кивнула. — Это оскорбление Бога. — Да, именно так, и даже больше. Это может привести к крушению всех твоих надежд, лишить тебя будущего и даже жизни. Вот и он сказал это. Серо-зеленые глаза пытливо посмотрели на него. Отступать было некуда. Ему придется рассказать ей об этом все. — Четыре зимы назад путешественников забили камнями насмерть недалеко отсюда в поле рядом с кафедральным собором. Двоих мужчин, женщину и мальчика немногим старше тебя. Джеральд был наемником, ветераном императорской кампании против варваров, но даже у него мороз пробежал по коже при воспоминании о той казни. Мужчины были безоружны, а двое других… Они умирали медленно: женщина и мальчик страдали дольше всех, потому что мужчины пытались заслонить их своими телами. — Забиты камнями? — Глаза Джоанны расширились. — Но почему? — Они были армянами, членами секты павлициан. По дороге в Аахен они прошли мимо виноградника, побитого накануне грозой. Весь урожай погиб в течение часа. Когда случается такое, люди начинают искать виноватых, Заметив чужаков, все набросились на них и обвинили в том, что их заклинания навлекли грозу. Фулгентиус пытался спасти несчастных, но армян допросили и сочли их идеи еретическими. — Джеральд пристально посмотрел на нее. — Джоанна, их идеи мало чем отличались от того, о чем ты сегодня спросила Одо. Она молчала, смотря в даль. Джеральд тоже, давая ей время подумать. — Эскулапий однажды сказал мне нечто подобное, — наконец проговорила Джоанна. — Некоторые идеи опасны. — Он мудрый человек. — Да. — При воспоминании об Эскулапии взгляд ее смягчился. — Я буду осторожна. — Вот и хорошо. — А теперь расскажите мне, почему мы считаем правдой историю с Воскресением? Джеральд беспомощно рассмеялся и взъерошил ее золотистые волосы. — Ты неисправима. — Но Джоанна все еще ждала ответа, и он добавил: — Хорошо, я скажу, что думаю по этому поводу. Ее взгляд заинтересованно вспыхнул, и Джеральд снова рассмеялся. — Не теперь. Надо заняться Пестисом. Приходи после вечерней молитвы, и мы поговорим. В глазах Джоанны светилось восхищение. Джеральд погладил ее по щеке. Это всего лишь ребенок, девочка, но он сознавал, что она волнует его. Что ж, брачное ложе Джеральда давно остыло. Богу это известно, и Он не станет возражать против этой невинной привязанности, не отягощенной угрызениями совести. Гнедой ткнулся в Джоанну носом. — У меня есть яблоко, можно я его угощу? — спросила она. Джеральд кивнул. — Пестис заслужил награду. Сегодня он хорошо потрудился. Из него получится отличный конь для охоты. Я уверен. Она достала из котомки маленькое зеленое яблоко и протянула его гнедому. Тот сперва потрогал яблоко губами, а потом съел. Когда Джоанна убрала руку, Джеральд увидел на ней покраснение. Заметив его взгляд, она попыталась спрятать руку, но он перехватил ее и стал рассматривать на свету. Ладонь была рассечена посередине, на глубокой ране запеклась кровь. — Одо? — тихо спросил Джеральд. — Да. — Джоанна поморщилась, когда он прикоснулся к ране пальцами. Похоже было, что Одо ударил ее не один раз и довольно сильно. Глубокую рану было необходимо срочно обработать, чтобы избежать заражения. — Этим надо заняться немедленно. Возвращайся в дом. Увидимся там. — Джеральд едва сдерживал волнение. Несомненно, Одо не превысил своих полномочий по отношению к девочке. Возможно, хорошо, что он лишь ударил ее, выместив гнев таким способом, и не предпринял более серьезных действий. Тем не менее, увидев рану, Джеральд пришел в ярость. Он придушил бы Одо собственными руками. — Это не так страшно, как кажется, — Джоанна внимательно смотрела на него умными глубокими глазами. Джеральд снова оглядел рану, которая пролегла строго посередине, в самом болезненном месте. Джоанна не промолвила ни слова, даже когда он стал расспрашивать ее. А всего несколько недель назад, когда Джоанну пришлось обрить наголо, чтобы избавить от гуммиарабика, она кричала и сопротивлялась, словно сарацин. Позднее, когда Джеральд спросил ее, почему она так себя вела, она невразумительно ответила, что звук ножниц сильно напугал ее. Несомненно, странная девочка. Возможно, именно поэтому она и казалась ему такой привлекательной. — Папа! — На склоне холма, где они стояли в тени деревьев, появилась Дуода, младшая дочь Джеральда. Они подождали, когда она, подбежала к ним. — Папа! — Девочка вскинула руки, Джеральд подхватил ее и покружил, вызвав восторженный визг ребенка. Решив, что этого достаточно, он поставил дочь на ноги. Дуода нетерпеливо потянула его за руку. — О, папа, иди, посмотри! Волчица родила пятерых волчат. Можно мне взять одного, папа? Можно он будет спать со мной в постели? Джеральд рассмеялся. — Посмотрим. Но прежде, — он крепко обнял ее, потому что она собиралась помчаться к дому впереди них, — прежде всего, отведи Джоанну домой, у нее порезана рука, нужно позаботиться о ней. — Рука? Покажи, — потребовала девочка, и, печально улыбнувшись, Джоанна протянула ей руку. — Ооооо! — Дуода вытаращила глаза от ужаса, разглядывая рану. — Как это случилось? — Она расскажет тебе по дороге, — сказал Джеральд. Ему не нравилось смотреть на рану, чем скорее ее обработают, тем лучше. — Поторапливайтесь. — Да, папа. Очень болит? — обратилась она к Джоанне. — Не так сильно, чтобы я не перегнала тебя, — ответила Джоанна и побежала. Дуода взвизгнула от радости и помчалась за ней. Девочки, смеясь, вместе побежали с холма. Джеральд улыбаясь смотрел на них, но на душе у него было тревожно. В ту зиму Джоанна из девочки превратилась в женщину. Она должна была этого ожидать, но все же растерялась, когда на рубашке появилось темно-красное пятно и сильно заболело внизу живота. Джоанна сразу догадалась, что это такое, мать рассказывала ей, и женщины в доме Джеральда говорили об этом довольно часто. Она видела, как они каждый месяц стирали свои тряпки. Джоанна обратилась за помощью к служанке, та принесла ей кипу чистых тряпок и, лукаво подмигнув, торжественно подала их. Джоанне это не понравилось. Она возненавидела и боль, и все то, что происходило с ней в этот период. Ей казалось, что тело предало ее: оно начало перестраиваться почти ежедневно, приобретая новые, незнакомые формы. Когда мальчики в школе начали шутить по поводу набухшей груди Джоанны, она стала перетягивать ее полосками ткани. Было больно, но того стоило. Появившаяся женственность вызывала у нее страдания, потому что всю жизнь она старалась, как можно меньше походить на женщину.
В январе начались сильные морозы. От холода ломило даже зубы. Волки и другие лесные животные подбирались ближе к человеческому жилью. Теперь не многие жители отваживались выходить из деревни без особой необходимости. Джеральд запретил Джоанне посещать школу, но остановить ее было невозможно. Каждое утро после молитвы она надевала толстую шерстяную накидку, туго затягивала ее на поясе, чтобы не поддувало и, согнувшись под ледяным ветром, шла две мили до кафедрального собора. Когда налетели сильные, холодные февральские ветры, заметая все дороги, Джеральд сам каждое утро седлал коня, отвозил Джоанну в школу и привозил обратно. С братом Джоанна виделась каждый день в школе, но Джон никогда не разговаривал с ней. Он по-прежнему сильно отставал в учебе, но его успехи во владении мечом и копьем вызывали уважение мальчиков, и он очень дорожил их дружбой. Джону не хотелось рисковать новообретенным чувством принадлежности к их обществу, общаясь со странной сестрой. При ее появлении он всегда отворачивался. Деревенские девочки тоже сторонились Джоанны, относились к ней с подозрением, проявляли настороженность, никогда не играли и не сплетничали с ней. Она была ошибкой природы — мужчиной по уму и женщиной телом. Джоанна не была ни тем, ни другим, а как будто принадлежала к третьему, неопределенному, полу. У Джоанны не было друзей, кроме Джеральда, но его ей вполне хватало. Джоанна была счастлива находиться: рядом с ним, разговаривать, смеяться и обсуждать то, чем не могла поделиться ни с кем в целом мире. Однажды холодным днем, после того как она вернулась из школы, он позвал ее. — Пойдем, хочу что-то показать тебе. Джеральд провел Джоанну через холодный зал замка наверх, в маленькую комнату, где хранил свои бумаги, достал длинный прямоугольный предмет и подал ей. Книга! Старая, потрепанная по краям, но целая. Золотыми буквами на обложке было выведено название: De rerum natura?[506] Это была великая книга Лукреция! Эскулапий часто говорил о том, как она важна. Ходили слухи, что сохранилась только одна копия, хранившаяся в великой библиотеке в Лорше. Однако Джеральд преподнес ее Джоанне, как самый обычный подарок. — Ну как?… — Она удивленно взглянула на него. — То, что написано, всегда можно переписать, — ответил он, лукаво улыбнувшись. — За деньги. В данном случае за хорошие деньги. Аббат долго торговался, говоря что у него не хватает писарей. И действительно, переписка заняла более десяти месяцев. Но вот что получилось. И она стоит этих денег. Глаза Джоанны засияли, когда она провела пальцами по книге. За все время учебы в школе ей никогда не разрешали работать с книгами, подобными этой. Одо не позволял Джоанне читать классические произведения в центральной библиотеке, и ей приходилось ограничиваться лишь чтением религиозных текстов, которые, по его мнению, годились для слабого и впечатлительного женского ума. Она не показывала ему, как это ее огорчало. «Ну и запри свою библиотеку, — возмущенно думала она. Но мое сознание тебе не удастся запереть». Однако Джоанна приходила в неистовство, зная, какие сокровища знаний скрыты от нее. Джеральд видел это. Казалось, он всегда знал, о чем она думала и чувствовала. Как могла она не любить его? — Ну, смелее, — сказал Джеральд. — А когда одолеешь ее, приходи ко мне, поговорим о том, что ты прочитала. Тебе очень понравится книга. Глаза Джоанны расширились от удивления. — Значит, вы… — Да, я прочел ее. Что в этом странного? — Да, я хотела сказать, нет… но… — Джоанна запнулась и покраснела. Она не знала, что Джеральд читает на латыни. Среди аристократов и богачей читать и писать могли лишь немногие. Это считалось занятием для переписчиков, ученых и счетоводов. Вот почему Джоанна была удивлена… Джеральд засмеялся, наслаждаясь ее замешательством. — Ты не знаешь, но несколько лет при короле Карле я учился в дворцовой школе. — В дворцовой школе! — О ней ходили легенды. В школе, основанной императором, были выпестованы величайшие умы того времени. Там преподавал сам великий Алкуин.[507] — Да, Меня послал туда отец, хотел чтобы я стал ученым. Работать было интересно — и мне очень нравилось, ко я был молод и не собирался посвятить этому всю жизнь. Когда император призвал воинов для похода против ободритов,[508] я последовал за ним, хотя мне было всего тринадцать. Воевал несколько лет и, наверное, продолжал бы до сих пор, но умер мой старший брат, и я унаследовал поместье. Джоанна с восторгом смотрела на него. Он образованный человек! Как она не догадалась об этом! Следовало понять с самого начала по тому, как Джеральд говорил с ней о ее занятиях. — Ну, хватит, — Джеральд ласково подтолкнул ее к двери. — Знаю, тебе не терпится. До ужина еще целый час. Но не пропусти звона колокола. Джоанна побежала наверх, в спальню, которую делила с Дуодой и Гилзой. Забравшись в кровать, она открыла книгу. Читала она медленно, смакуя слова, иногда останавливаясь, чтобы отметить особенно изящную фразу или замечание. Когда стало смеркаться, она зажгла свечу и продолжила чтение. Джоанна читала и читала, совсем позабыв о времени. Она пропустила бы ужин, если бы Джеральд не прислал за ней слугу.
Недели пролетели быстро, благодаря радости совместной работы Джоанны и Джеральда. Просыпаясь каждое утро, Джоанна нетерпеливо думала, успеет ли почитать после вечерней молитвы, когда закончится ужин, и смогут ли они с Джеральдом возобновить изучение Лукреция. «De rerum natura», удивительная мудрая книга, насыщенная информацией. «Чтобы найти истину, — писал Лукреций, — надо лишь наблюдать естественную природу». Эта мысль имела глубокий смысл во времена Лукреция, но стала поистине революционной после Рождества Христова, в год 872. Однако эта философия импонировала практическому складу ума Джоанны и Джеральда. По сути, именно благодаря Лукрецию, Джеральд поймал белую волчицу. Вернувшись из школы, Джоанна нашла Вилларис в полной растерянности. Дворовые собаки лаяли до хрипоты, лошади бешено носились по загону, все поместье гудело от оглушительных криков и воя. Посередине центрального двора, Джоанна увидела объект, из-за которого поднялся такой переполох. В овальной клетке отчаянно металась огромная белая волчица. Клетка, сделанная их прочных дубовых веток, трещала и качалась от мощных ударов зверя. Джеральд и его люди с копьями и мечами окружили двор, на тот случай если волчице удастся вырваться из клетки. Джеральд подал знак Джоанне, чтобы она держалась подальше. Глядя в странные красные глаза волчицы, источающие злобу и ненависть, Джоанна молилась, чтобы клетка устояла. Через некоторое время волчица устала, застыла на месте, широко расставив лапы и задыхаясь, она понурила голову. Джеральд опустил копье и подошел к Джоанне. — А теперь проверим теорию Одо. В течение двух недель они вдвоем не смыкали глаз, полные решимости не пропустить родов. Но ничего не происходило. Волчица сидела в клетке, явно не собираясь рожать. Они уже сомневались в том, что она беременна, когда вдруг начались роды. Это произошло во время дежурства Джоанны. Волчица беспокойно заворочалась в клетке, выбирая удобное положение, застонала и стала тяжело дышать. Джоанна побежала за Джеральдом, Он был вместе с Ричилд. Налетев на них как ураган, Джоанна спохватилась и вежливо обратилась к ним: — Извольте поспешить! Началось! Джеральд мгновенно поднялся. Ричилд недовольно нахмурилась и хотела возразить, но времени не оставалось. Джоанна убежала по крытой галерее, ведущей к центральному двору. Джеральд, взяв лампу, последовал за ней. Никто из них не заметил, с каким выражением лица Ричилд смотрела им в след. Когда они приблизились к клетке, у волчицы начались схватки. Джоанна и Джеральд увидели, как показалась маленькая лапка, затем вторая и, наконец, правильная головка. Волчица сделала последнее усилие, и крошечное темное тельце выскользнуло на солому, выстилавшую клетку, и замерло. Джоанна и Джеральд вгляделись в темноту клетки. Волчонок лежал неподвижно в околоплодной оболочке, поэтому нельзя было понять, где у него голова, а где хвост. Мать слизнула с него оболочку и съела ее. Джеральд поднял лампу над клеткой, чтобы лучше все разглядеть. Казалось, щенок не дышит. У матери начались новые схватки. Время шло, но щенок не подавал признаков жизни. Джоанна испуганно взглянула на Джеральда. Неужели это правда? Неужели он не оживет, пока мать не вылижет его? Неужели Одо был прав? Если так, то они убили его, потому что увезли далеко от отца, который дал ему жизнь. Волчица снова застонала, и второй маленький щенок выскользнул наружу и оказался рядом с первым. От толчка первый зашевелился и недовольно запищал. — Смотри! — От радости они толкнули друг друга и весело рассмеялись, довольные результатом своего эксперимента. Щенки поползли к материнским соскам еще до того, как она родила третьего. Джеральд и Джоанна с интересом наблюдали за новым семейством. В темноте они пожали друг другу руки. Никогда прежде не испытывала она такой близости ни к кому на свете.
— Вас не было на утренней молитве. — Ричилд гневно смотрела, как они выходят из галереи. — Сегодня канун праздника святого Норберта, неужели вы забыли? Хозяин поместья подает плохой пример, если не приходит на церковную службу. — У меня есть другие дела, — холодно ответил Джеральд. Ричилд хотела что-то сказать, но Джоанна перебила ее. — Мы смотрели, как рожала белая волчица! Щенки родились живыми, а не мертвым», как все говорили, — торжественно объявила она. — Лукреций прав! — Ричилд уставилась на нее, как на сумасшедшую. — В природе все можно объяснить, — продолжила Джоанна. — Разве не понятно? Волчата родились живыми, совершенно естественным способом так, как сказал Лукреций! — Что за безбожные речи! Детка, у тебя жар? Джеральд быстро встал между ними. — Джоанна, иди спать, — сказал он. — Уже поздно. — Взяв Ричилд под руку, он решительно увел ее в дом. Джоанна стояла, прислушиваясь к голосу Ричилд, эхом раздававшийся в ночи. — Вот что получается, когда девочка знает больше, чем отмерено ей природой. Джеральд, ты должен положить конец ее ненормальным занятиям. Джоанна направилась в спальню.
После того, как белая волчица выкормила волчат, ее пришлось убить. Она была слишком опасна. Однажды волчица утащила и съела ребенка, и оставлять в живых волка-людоеда было нельзя. Щенок, рожденный последним, прожил всего несколько дней и умер. Но двое других выросли здоровыми, подвижными и очень игривыми, на радость Джоанны и Джеральда. У одного шерсть была серо-бурого цвета, типичная для волков франкских лесов. Джеральд подарил его Фултентиусу, и тот с особым удовольствием показывал его Одо. У другого волчонка, первенца, шерсть, как у матери, была белоснежной, а глаза красные. Этого они оставили себе. Джеральд и Джоанна назвали его Лук, в честь Лукреция, и любовь к резвому и веселому зверю еще сильнее сблизила их. (обратно)
Глава 10

Приближалась ярмарка в Сэн-Дэни. Это всех очень радовало. В течение многих лет в государстве не было ярмарки, которая имела бы такое огромное значение. Но кое-кто из старожилов, например мельник Бурхард, помнили времена, когда проходило по две-три ярмарки в. год. Так говорили, хотя поверить в это было трудно. Конечно, все это происходило в прославленные времена Карла Великого, когда были хорошие дороги и мосты, не было разбойников, шарлатанов, и, люди с севера не устраивали стремительных и жестоких набегов на королевство. Теперь путешествия были слишком опасны, и ярмарки стали невыгодны. Купцы не осмеливались перевозить дорогие товары по дорогам, кишащим разбойниками, и никому не хотелось рисковать жизнью во время путешествий. Но, несмотря ни на что, ярмарка должна была состояться. И, хотя бы половина из того, о чем сообщил гонец, должно было оказаться правдой. Купцы из Византии привезут экзотические пряности, шелка и парчу; венецианские купцы — одежду, украшенную павлиньими перьями и тесненной кожей; работорговцы из Фризии — славян и саксонцев; ломбардийцы на кораблях с ярко оранжевыми парусами, украшенными знаками зодиака, доставят мешки соли. Кроме того, ярмарка обещала всевозможные развлечения: канатоходцев и акробатов, рассказчиков, жонглеров, дрессированных собак и медведей. Путь до Сэн-Дени был не близкий, приблизительно сто пятьдесят миль от Дорштадта, две недели езды по ухабистым дорогам и переправы через широкие реки. Но это никого не пугало. Всем, кто умел держаться на лошади, муле, или на пони, хотелось там побывать. Большой, как приличествовало графу, обоз Джеральда, отправлялся в сопровождении пятнадцати хорошо вооруженных дружинников и нескольких слуг. Джоанна тоже собиралась в поездку. Пригласили и Джона; Джоанна не сомневалась, что по инициативе Джеральда. Ричилд дала точные распоряжения. Она позаботилась о том, чтобы в пути семья не нуждалась ни в чем. В течение нескольких дней в центральном дворе поместья стояли повозки, и их загружали всевозможным скарбом. В день отбытия Вилларис кипел. Конюхи суетились, навьючивая лошадей; главный повар и его помощники хлопотали над огромной печью, из высокой трубы которой вырывались огромные клубы дыма. Кузнец ковал подковы, гвозди и снаряжение для повозок. Все вокруг звенело и гремело: служанки перекликались высокими голосами; им отвечали низкие голоса конюхов; коровы мычали, пока их наспех доили; один перегруженный осел громко кричал. От беготни пыль во дворе стояла столбом. Джоанна не покидала двора, наблюдая за последними приготовлениями и наслаждаясь всеобщим возбуждением. Лук вертелся у ног Джоанны, насторожив уши и выжидающе глядя на нее. Он тоже отправлялся в путь. Джеральд, видя, как полугодовалый волчонок привязался к Джоанне, решил, что разлучать их нельзя, Джоанна смеялась и гладила Лука по мягкой белой шерсти. Волчонок лизнул ее в щеку и уселся рядом, широко раскрыв пасть. — Чем стоять, разинув рот, помогла бы лучше пекарю, — Ричилд подтолкнула Джоанну к кухне, где пекарь размахивал перемазанными в муке руками, торопя челядь. Всю ночь он не смыкал глаз, выпекая булочки и пироги для путешествия. К полудню обоз был готов. Капеллан прочитал молитву, и лошади, запряженные в многочисленные повозки, медленно тронулись в путь. Джоанна ехала в первой повозке вместе с Ричилд, Гилзой и Дуодой, а также с тремя девушками-служанками. Повозку трясло на ухабах, и сидеть на деревянных скамьях женщинам было неудобно. Лук бежал рядом с повозкой. Впереди, вместе с дружинниками, на чалой кобыле ехал Джон. «Я сижу в седле не хуже, чем он», — думала Джоанна, Джеральд долго обучал ее верховой езде, и она стала отличной наездницей. Словно почувствовав пристальный взгляд сестры, Джон посмотрел на нее и понимающе улыбнулся, но его улыбка показалась ей злобной. Потом он пришпорил кобылу и догнал Джеральда. Они заговорили; Джеральд откинул голову и расхохотался. В Джоанне закипела ревность. Интересно, чем брат так рассмешил Джеральда? Между ними нет ничего общего. Джеральд образованный и умный человек, Джон тупой недоучка. Но вот он едет рядом с Джеральдом, разговаривает с ним, смеется, тогда как она тащится позади в ужасной телеге. И все это потому, что она девушка. Не в первый раз. Джоанна проклинала судьбу за то, что родилась женщиной. — Неприлично так пялиться, Джоанна. — Темные глаза Ричилд неодобрительно посмотрели на нее. Джоанна оторвала взгляд от Джеральда. — Простите, миледи. — Держи руки сложенными на коленях, а глаза опусти, как подобает скромной женщине, — поучала ее Ричилд. Джоанна последовала ее совету. — Хорошие манеры, — продолжила Ричилд, — куда важнее для леди, чем умение читать… Получив достойное воспитание, ты понимала бы это. — Она холодно посмотрела на Джоанну и вернулась к своему вышиванию. Джоанна краем глаза следила за ней. Несомненно, Ричилд была прекрасна: бледна, стройна, с покатыми плечами, белокожая, с высоким лбом, обрамленным красивыми черными волосами. Из-за густых длинных ресниц ее карие глаза, казались почти черными, Джоанна вдруг остро позавидовала Ричилд, имевшей все, чего была лишена она сама. — Ты должна помочь нам решить, — Гилза улыбнулась Джоанне, — какое платье мне надеть на свадебное торжество. — Она радостно засмеялась. Гилзе исполнилось пятнадцать, и она была обручена с графом Хуго, аристократом из Нойстрана. Джеральд и Ричилд очень радовались этому взаимовыгодному союзу. До свадьбы оставалось около полугода. — О, Гилза, у тебя так много прекрасных платьев! — Джоанну на самом деле поразил гардероб Гилзы. Имея такое количество платьев, их можно менять каждый день в течение двух недель. В Ингельхайме у девушки обычно было лишь одно платье из толстой грубой шерсти, и она старательно берегла его, поскольку оно должно было служить ей многие годы. — Уверена, граф Хуго будет восхищаться тобой, какое бы ты ни надела. Гилза снова засмеялась. Добрая, но немного простоватая девушка всегда начинала нервно смеяться, когда упоминали имя ее жениха. — Нет, нет, — возразила она, — ты так просто не отвертишься. Послушай. Мама думает, что мне следует надеть голубое, но я хочу желтое. Ну, скажи, как лучше. Джоанна вздохнула. Она любила Гилзу, несмотря на ее болтливость и недалекий ум. Они спали в одной постели с тех пор, как Джеральд впервые привел усталую и напуганную Джоанну в их дом из дворца епископа. Гилза приняла Джоанну, была к ней добра, и Джоанна никогда не забывала об этом. Но Джоанне не очень хотелось беседовать с Гилзой, чьи интересы ограничивались нарядами, угощениями и мужчинами. Последние несколько недель она только и говорила о свадьбе, и всем это уже надоело. Джоанна улыбнулась. — Думаю, тебе лучше надеть голубое, оно очень подходит к твоим глазам. — Голубое? Неужели? — Гилза помрачнела. — Но у желтого такие красивые кружева спереди! — Ну, тогда желтое. — Но все же голубое действительно подходит к моим глазам. Возможно, оно будет лучше. А как по твоему? — Если ты промолвишь еще хоть слово о свадьбе, то я завою, — вставила девятилетняя Дуода, завидуя тому, что Гилзе в последние несколько недель уделяли столько внимания. — Кому какое дело, какого цвета на тебе платье! — Дуода, такие слова недостойны леди. — Ричилд подняла глаза от вышивания. — Прости! — Дуода взглянула на Гилзу. Но как только мать перестала на них смотреть, она показала сестре язык. — Что касается тебя, Джоанна, — сказала Ричилд, — то не тебе давать советы. Гилза наденет то, что выберу я. Джоанна покраснела и промолчала. — Граф Хуго такой красавец, — заговорила Берта, одна из служанок. Краснощекая девушка не старше шестнадцати, она заменила месяц назад умершую от тифа служанку. — Он так великолепно смотрится на своем боевом коне в горностаевой мантии и перчатках. — Гилза удовлетворенно засмеялась. Ободренная Берта продолжила. — Судя по тому, как он смотрит на вас, госпожа, не важно, какое платье вы наденете. В брачную ночь он быстренько снимет его с вас! Она расхохоталась, довольная своей шуткой. Гилза хмыкнула, остальные в повозке сидели тихо, глядя на Ричилд. Ричилд отложила рукоделие, ее лицо вспыхнуло от гнева. — Что ты сказала? — спросила она угрожающе спокойным тоном. — Ох… ничего, миледи, — ответила Берта. — О, мама, я уверена, она не имела в виду… — Беспомощно попыталась заступиться за Берту Гилза. — Грубость и непристойность! Не допущу этого в моем присутствии! — Простите, миледи, — произнесла пристыженная Берта, но продолжала слегка улыбаться, не веря, что Ричилд всерьез рассердилась. — Вон! — Ричилд указала Берте на открытый задник повозки. — Но, миледи! — взмолилась Берта, наконец-то поняв свою ошибку. — Я не хотела… — Вон! — Речилд была настроена решительно. — В наказание за твое бесстыдство, будешь идти пешком, до конца. Идти пешком до Сэн-Дэни было тяжелым наказанием. Берта жалобно взглянула на свои ноги, обутые в грубые пеньковые сандалии. Джоанне стало жаль ее. Шутка была, конечно, глупая и грубая, но девушка так молода, неопытна и, было очевидно, что она никого не хотела обидеть. — И будешь читать вслух «Отче Наш» всю дорогу. — Да, миледи, — покорилась Берта. Она вылезла из повозки, пристроилась сбоку и через минуту начала читать молитву. - Pater Noster qui es in caelis… — Она читала странно, нараспев, делая акценты не в тех местах. Джоанна не сомневалась: она не понимала того, что произносила. Ричилд продолжила вышивать. Когда она склонилась над рукоделием, прокалывая иглой плотную ткань, ее черные волосы заблестели на солнце. «Какая она несчастная, — подумала Джоанна. — Да, она замужем за Джеральдом, но это брак по расчету. Нередко такие браки оказывались счастливыми, но им не повезло. Они спали в разных постелях, и, если верить слугам, не были близки уже много лет». — Хочешь поехать верхом? — улыбнулся Джеральд, глядя на Джоанну со своего гнедого. В правой руке он держал поводья Боды, резвой гнедой кобылы, особенно полюбившейся Джоанне. Девушка покраснела, взволнованная своими мыслями. Она так задумалась, что не заметила, как Джеральд отъехал, взял из резервной группы лошадей Боду и подвел ее к повозке. — Верхом и вместе с мужчинами? — Ричилд нахмурилась. — Я этого не позволю! Это недостойно! — Ерунда! — ответил Джеральд. — В этом нет ничего плохого, и девочке хочется покататься, верно, Джоанна? — Я… я… — смутилась она, не желая раздражать Ричилд. Джеральд поднял бровь. — Конечно, тебе лучше остаться в повозке… — Нет! — спохватилась Джоанна. — Пожалуйста. Мне очень хотелось бы проехать верхом на Боде. — Она встала и протянула руки. Джеральд засмеялся, обхватил ее за талию и усадил в седло перед собой. Затем, держа лошадей рядом, он пересадил Джоанну на Боду. Она поудобнее устроилась в седле. Гилза и Дуода смотрели на них с удивлением, а Ричилд — с негодованием Джеральд, казалось, не замечал этого. Джоанна пустила Боду легким галопом и быстро поскакала в первые ряды. Плавный, ритмичный бег лошади радовал. Разве сравнишь это с тряской в повозке? Лук бежал рядом, высоко подняв хвост. Она догнала Джона, не скрывавшего к ней своего презрения. Джоанна засмеялась от счастья. В конце концов, дорога до Сэн-Дени была не так уж скучна.
Они без труда пересекли приток Рейна. Мост в этом месте был прочный и широкий, один из тех, что построили во времена Карла Великого. Но на берегу Мааса, до которого они добрались на восьмой день, возникли проблемы: мост давно пришел в негодность, во многих местах провалился и сгнил настолько, что проехать по нему было невозможно. Кто-то попытался соорудить переправу, связав вместе несколько лодок. Перейти по такой переправе можно было, лишь перешагивая из одной лодки в другую. Но это не годилось для большого числа людей, лошадей и груженых повозок. Джеральд с несколькими всадниками отправился по берегу в поисках брода. Спустя час они вернулись и сообщили, что в двух милях есть брод. Обоз двинулся дальше, повозки сильно трясло и раскачивало на вязком берегу реки. Женщины крепко вцепились в борта повозки, чтобы не вывалиться из нее. Берта шла рядом, беззвучно шевеля губами и читая бесконечную молитву. Пеньковые сандалии натерли ей ноги до крови, и она хромала, пальцы опухли, подошвы кровоточили. Джоанна заметила, что девушка искоса поглядывала на Ричилд и ее дочерей, с удовольствием видя их мучения в повозке. Наконец они добрались до брода. Первыми в воду въехали на лошадях Джеральд и несколько дружинников, чтобы проверить глубину и дно реки. В середине реки вода доходила выше стремян, но ближе к противоположному берегу уровень воды понизился. Джеральд вернулся, подав знак, чтобы остальные следовали за ним. Без колебаний Джоанна направила лошадь в воду, Лук уверенно поплыл рядом, не отставая от них. Через минуту Джон и остальные последовали за ними. От холодной воды Мааса у Джоанны перехватило дыхание. Ее платье насквозь промокло. Позади в воду медленно въехали повозки, запряженные мулами. Берта, стараясь не отставать, погрузилась в воду по самые плечи. Оглянувшись, Джоанна увидела, что Берта, находившаяся от нее футах в пяти, исчезла под водой. Джоанна остановилась, не зная, что делать, и вдруг повернула лошадь в сторону расходящихся по поверхности воды кругов. — Назад! — Джеральд схватил ее лошадь под уздцы. Отломив большую ветвь от склоненной над рекой березы, он слез с коня и медленно направился в сторону берега, пробуя дно. На расстоянии вытянутой руки от того места, где исчезла Берта, Джеральд чуть не упал, потому что ветка ушла под воду. — Яма! — Он отогнал коня и нырнул. Все встревожились. Мужчины ходили по реке, выкрикивая распоряжения и ударяя по воде палками. Джеральд был под водой. Они могли ударить его, поранить, но почему-то не понимали этого. — Прекратите! — закричала Джоанна, но на нее никто не обратил внимания. Она подъехала к Эгберту, командиру дружинников Джеральда, и схватила его за руку. — Прекратите! — Эгберт отстранил Джоанну, но она пристально смотрела на него. — Прикажите им остановиться, это опасно. — Он подал знак спутникам, они окружили подводную яму и замерли в напряженном ожидании. Прошла минута. Первая повозка благополучно выкатилась на берег. Джоанна не заметила этого, потому что взор ее был прикован к тому месту, где нырнул Джеральд. От волнения у нее вспотели ладони, и поводья стали скользить в руках. Гнедая, почуяв неладное, заржала, Лук откинул голову и завыл. «Deus Misereatur, — взмолилась она. — Боже Милостивый, собой пожертвую, но только спаси его». Прошло минуты две. Слишком долго, ему пора всплыть, чтобы вздохнуть. Джоанна спрыгнула с седла в холодную воду. Плавать она не умела, но, не думая об этом, направилась в сторону стремнины. Лук вертелся перед ней, пытаясь остановить, но она оттолкнула его. В голове у нее была только одна мысль — добраться до Джеральда, вытащить его, спасти. До места оставалось совсем немного, когда Джеральд вынырнул. — Джеральд! — радостный крик Джоанны перекрыл шум мужских голосов. Джеральд повернулся к ней и кивнул. Потом, глубоко вдохнув, нырнул снова. — Смотрите! — Погонщик мула первой повозки указал вниз по течению. Вдали у берега всплыло и исчезло что-то голубое. У Берты было голубое платье. Дружинники направились в ту сторону, где, зацепившись за коряги у берега, плавало на спине с раскинутыми руками и ногами тело Берты. На ее лице застыло выражение страха. — Тащите ее, — приказал дружинникам Джеральд. — Отвезем ее в церковь в Прюме, чтобы достойно похоронить. Джоанна дрожала, не в силах оторвать глаз от несчастной Берты, которая напомнила ей о Мэтью. Внезапно она почувствовала на своем плече руку Джеральда. Он отвел ее в сторону. Закрыв глаза, она прильнула к нему. Дружинники спешились и полезли в воду. Джоанна услышала плеск воды и треск сучьев, когда они выносили на берег тело Берты. — Ты бросилась спасать меня, да? — прошептал Джеральд. Казалось, он только что понял это. — Да, — кивнула она, не отрывая головы от его плеча. — А плавать умеешь? — Her, — призналась Джоанна и ощутила, как руки Джеральда сжали ее плечи. Люди Джеральда медленно понесли тело Берты к повозкам. Рядом шел капеллан, склонив голову в заупокойной молитве. Ричилд не молилась, но, высоко подняв голову, пристально глядела на Джоанну и Джеральда. Джоанна высвободилась из объятий Джеральда. — Что такое? — Он смотрел на нее заботливо и с любовью. Ричилд не сводила с них глаз. — Н-ничего. Он проследил за се взглядом. — Ах! — Джеральд ласково убрал с ее лба золотой локон. — Присоединимся к остальным? Они вместе направились к повозкам. Потом Джеральд подошел к капеллану, желая обсудить, что делать с телом погибшей девушки. — Джоанна, остаток пути ты поедешь в повозке. С нами тебе будет спокойнее, — сказала Ричилд. Возражать было бесполезно, и Джоанна залезла в повозку. Мужчины осторожно уложили Берту в одну из свободных телег, сдвинув в сторону лежавшие на ней тюки. Пожилая служанка разрыдалась над телом девушки. Все молчали, застыв ожидании. Через некоторое время к женщине подошел капеллан. Она подняла голову, взглянув на Ричилд глазами, полными горя и боли. — Ты! — взвыла она. — Госпожа, это ты убила ее! Моя Берта была доброй девушкой, она хорошо служила бы тебе! Ее смерть на твоей совести! На твоей совести! Двое слуг Ричилд грубо схватили женщину и потащили прочь, но она продолжала выкрикивать проклятья. Капеллан подошел к Ричилд, нервно ломая руки. — Это мать Берты. Она обезумела от горя. Конечно гибель девушки была чистой случайностью. Трагической случайностью. — Не случайностью, Вала, — сухо произнесла Ричилд. — Это проведение Божье. Вала согласился. — Конечно, конечно. — Капеллан Ричилд[509] Вала занимал положение не лучшее, чем простой крестьянин. Ричилд могла даже выпороть его, если он не угодит ей, и выгнать, обрекая на голод, — Божье провидение, леди, Божье провидение, совершенно верно. — Иди и поговори с женщиной, от сильного горя может пострадать ее душа. — Ах, леди! — Он воздел к небу белые руки. — Какая забота о ближнем! Какое милосердие! Ричилд нетерпеливо прогнала его, и он удалился с видом человека, избежавшего виселицы. Джеральд отдал команду отправляться в путь, и процессия двинулась вдоль берега в сторону дороги на Сэн-Дени, В конце обоза рыдания несчастной матери постепенно сменились монотонным душераздирающим воем. Дуода заливалась слезами, и даже неунывающая Гилза печально притихла. Но Ричилд выглядела совершенно спокойной. Джоанна внимательно наблюдала за ней. Неужели можно так искуснр скрывать свои эмоции, или она действительно так холодна? Неужели смерть девушки не тронула ее сердца? Почувствовав взгляд, Ричилд посмотрела на Джоанну, и та быстро отвела глаза. Божье провидение? Нет, миледи. Ваш приказ.
* * *
Первый день ярмарки был в полном разгаре. Через огромные железные ворота, ведущие к большому полю перед аббатством Сэн-Дэни, нескончаемым потоком шел народ — крестьяне в потрепанных штанах и рубахах из грубой ткани, вельможи в шелковых одеждах с золотыми поясами, их жены а элегантных накидках, отороченных мехом, и в головных уборах, вышитых жемчугом; ломбардийцы и аквитанцы в экзотических пышных панталонах и щегольских ботинках. Никогда еще не видела Джоанна такого огромного скопления людей. На поле вытянулись торговые ряды с выставленными товарами. Здесь торговали платьями и накидками из пурпурного шелка, алого сафьяна, украшенными павлиньими перьями, тесненной кожей, редкими деликатесами, миндалем, изюмом и всевозможными пряностями, жемчугом, драгоценными камнями, серебром и золотом. Но постоянно прибывали все новые товары, на лошадях, на повозках, даже на спинах носильщиков, согнувшихся до земли под их тяжестью. В эту ночь многим из них не удастся заснуть от усталости и боли в теле, но лишь так купцы могли избежать непомерных налогов на товары, доставляемые на повозках и вьючных животных. Въехав в ворота, Джеральд сказал Джоанне и Джону: — Протяните руки. — На ладонь каждого из них он положил по серебряному динарию. — Тратить советую с умом. Джоанна уставилась на блестящую монету. Прежде она видела динарии один или два раза, но издалека, потому что в Ингельхайме бытовал натуральный обмен. Даже доход отца состоял из десятины, которую крестьяне его прихода платили провиантом и товаром. Целый динарий! Это казалось огромным состоянием. Они направились вдоль узких, людных проходов между торговыми рядами. Все расхваливали свой товар, азартно торговались, там же выступали танцоры, акробаты, жонглеры, дрессировщики медведей и обезьян. Повсюду слышался шум, споры, люди жестикулировали, ударяли по рукам, заключая сделки, со всех сторон звучала разноязычная речь. Б такой толпе было легко потеряться. Джоанна взяла Джона за руку, и, к ее удивлению, он не сопротивлялся, но держался поближе к Джеральду. Лук, как всегда неразлучный с Джоанной, не отставал ни на шаг. Их маленькая группа вскоре отделилась от Ричилд и тех, кто шел гораздо медленнее. В середине первого ряда они остановились и подождали, пока спутники догонят их. Слева какая-то женщина пронзительно кричала на купцов, отмерявших ей кусок полотна, разложенного на деревянном прилавке. — Погоди-ка! — возмущалась женщина. — Ты, тупица! Ты же растягиваешь его! — И действительно, казалось, что мужчины готовы были разорвать полотно пополам, так сильно они натянули его, отмеряя нужный кусок. Раздался взрыв смеха и крики из толпы, собравшейся вокруг небольшой открытой площадки. — Пошли. — Джон потянул Джоанну за руку. Она поспешила за ним, хотя и не желала расставаться с Джеральдом. Но он понял, чего хотелось Джону, и добродушно отпустил их. Когда они подошли ближе, снова послышались крики. Посередине площадки человек упал на колени, схватившись за плечо, словно от боли. Но он быстро вскочил на ноги, и Джоанна увидела, что в другой руке он держал большую березовую дубину. Перед ним стоял другой мужчина с такой же дубиной. Они ходили по кругу и угрожающе размахивали ими. Вдруг раздался пронзительный поросячий визг, и окровавленная свинья пробежала между ними, забавно перебирая своими толстыми задними ногами. Мужчины развернулись в сторону свиньи, но она была в ярости. Тот, который только что упал, вскрикнул, потому что сильно досталось его задней части. Толпа разразилась хохотом. Джон смеялся вместе со всеми, с любопытством наблюдая за происходящим. Он потянул за рукав невысокого рябого крестьянина и возбужденно спросил: — Что происходит? — Да вот, парень, гоняются за свиньей, сам видишь, — усмехнулся мужчина. — Кто прикончит ее, тому она и достанется. «Удивительно, — подумала Джоанна, глядя, как мужчины сражались за приз». Они размахивали дубинами, но удары их были неудачными. Они либо рассекали воздух, либо колотили друг друга вместо свиньи. Смотревший на нее мужчина показался Джоанне странным. Приглядевшись, она заметила у него на глазах бельма. У другого глаза казались нормальными, но взгляд его был неподвижно устремлен вдаль. Слепые. Еще один удар попал в цель, и мужчина с бельмами пошатнулся, схватившись за голову. Джон подпрыгнул, хлопая в ладоши. Смеясь, он кричал вместе со всеми. Глаза его странно блестели. Джоанна отвернулась. — Эй! Молодая госпожа! — кто-то позвал ее. Через проход торговец махал Джоанне рукой. Она оставила Джона развлекаться и подошла к прилавку с церковными принадлежностями. Здесь были деревянные крестики и медальоны всевозможных форм, а также реликвии нескольких местных святых: пучок волос Святого Уиллиброрда, ноготь Святого Ромарика, два зуба Святого Уальдертруда и лоскуток одежды непорочной мученицы Святой Женевьевы. Торговец достал из кожаной сумки флакончик. — Знаете, чтоздесь? — Он говорил так тихо, что в общем шуме его едва было слышно. Джоанна покачала головой. — Несколько капель молока Святой Девы Марии. Джоанна удивилась. Такая святыня! Здесь? Это должно храниться в каком-нибудь монастыре или в храме. — Всего один динарий, — сказал продавец. Один динарий! Она нащупала монету в кармане. Мужчина протянул ей флакончик. Взяв его, Джоанна ощутила прохладную поверхность. На миг ей представилось выражение лица Одо, когда она появится с таким подарком для кафедрального храма. Мужчина улыбался, протянув руку и шевеля пальцами, в ожидании монеты. Джоанна колебалась. Почему он продает такую великую святыню за такие маленькие деньги? Какой-нибудь крупный монастырь или храм отдал бы за это целое состояние, чтобы святыне поклонялись паломники. Она сняла колпачок и заглянула внутрь флакончика, наполовину заполненного белой жидкостью. Джоанна погрузила в жидкость палец. Затем подняла глаза, заглянула за прилавок, рассмеялась, и выпила содержимое. — Да ты ненормальная! — воскликнул торговец, и его лицо исказилось. — Как вкусно! — Джоанна закрыла флакон и вернула его торговцу. — Отличная у вас коза. — Что, да ты… как ты… — от возмущения мужчина едва находил слова. Казалось, он готов наброситься на нее с кулаками. Но раздалось тихое рычание. Лук, смирно сидевший рядом с Джоанной, выступил вперед и, оскалившись, показал свои клыки. — Это еще что? — испуганно уставился на Луку торговец. — Это волк, — раздался голос сзади. Рядом стоял Джеральд. Он бесшумно подошел, пока она переговаривалась с торговцем, и стоял совсем близко. Он был совершенно спокоен, но в глазах затаилась угроза. Торговец отвернулся, что-то тихо пробормотав. Джеральд взял Джоанну за плечи и увел, позвав за собой Лука. Тот рыкнул на торговца еще раз и побежал за ними. Они шли молча, Джоанна старалась поспевать за быстро шагавшим Джеральдом. «Он сердится», — подумала она, и веселое настроение сразу исчезло. Но самое ужасное, что она понимала правду. С этим купцом она повела себя необдуманно. Разве не обещала она проявить осторожность? Почему ей вечно хочется задавать вопросы и бросать всем вызов? Ну разве трудно запомнить, что некоторые идеи очень опасны. «Может быть, я действительно ненормальная?» Джоанна услышала тихий смех Джеральда. — Какое же было лицо у этого типа, когда ты выпила из флакона! Никогда не забуду! — Он нежно обнял ее. — Ах, Джоанна, ты моя жемчужина! Но скажи, пожалуйста, как ты догадалась, что это не молоко Девы Марии? Джоанна с облегчением улыбнулась. — Я с самого начала ему не поверила, потому что настоящая святыня не была бы такой свежей и не стоила бы так мало. И зачем торговцу держать за прилавком козу, да так, чтобы ее никто не видел? — Верно. Но зачем было пить? — Джеральд снова рассмеялся. — Уверен, ты еще что-то знала. — Да. Когда я открыла флакон, молоко было совсем свежее, словно козу подоили только утром, а молоку Пресвятой Девы, должно быть, лет восемьсот. — Вот как! — Джеральд улыбнулся, подняв брови и пытливо рассматривая ее. — Но может быть, святость сохранила его нетленным. — Верно, — согласилась Джоанна. — Но когда я прикоснулась к молоку, оно было еще теплое! Святое молоко, конечно, могло бы быть свежим, но только не теплым. — Тоже верно, — с восхищением произнес Джеральд. — Сам Лукреций не рассудил бы лучше! Джоанна засияла. Как ей нравилось радовать его! Они дошли почти до конца длинного торгового ряда, где стоял огромный деревянный крест, защищая святую безмятежность братьев аббатства. Именно здесь расположились торговцы пергаментом и книгами. — Взгляни! — Джеральд заметил их первым, и они поспешили рассмотреть товар, который был очень высокого качества. Особенно хорош казался тонкий пергамент с совершенно гладкой и очень светлой внутренней стороной. — Какое удовольствие, наверное, писать на таких листах! — воскликнула Джоанна, осторожно ощупав его. Джеральд подозвал одного из торговцев. — Четыре листа, — сказал он, и у Джоанны перехватило дыхание от такой расточительности. Четыре листа! Этого достаточно для целой книги! Пока Джеральд платил за покупку, внимание Джоанны привлекли несколько листов старых пергаментов, лежавших на краю прилавка. Потрепанные по краям, они были исписаны почти стершимся текстом, в отдельных местах испачканным уродливыми коричневыми пятнами. Склонившись, чтобы разобрать письмена, Джоанна зарделась от восхищения. Заметив интерес девушки, торговец поспешил к ней. — Такая юная, а уже понимаете в хороших вещах, — заискивающе промолвил он. — Листы старые, как изволите видеть, но еще пригодные для дела. Смотрите! Взяв длинный, плоский нож, он начал соскабливать им буквы. — Не надо! — резко остановила его Джоанна, вспомнив про другой пергамент и другой нож. — Перестаньте! Торговец с любопытством взглянул на нее. — Не извольте беспокоиться, барышня, это всего лишь языческие письмена. — Он показал ей страницу. — Видите? Совсем чисто и можно снова писать! — Он снова взялся за инструмент, желая показать ей, как это делается, но Джоанна схватила его за руку. — Даю вам за это динарий, — сказала она. — Да они стоят не меньше трех динариев, — обиделся мужчина. Джоанна достала из кармана монету и протянула ему. — Один, — повторила она. — Это все, что у меня есть. Торговец колебался, внимательно глядя на нее. — Хорошо, — согласился он. — Забирайте. Джоанна дала ему монету, собрала драгоценные пергаменты и побежала к Джеральду. — Смотрите! — возбужденно воскликнула она. Д жеральд вгляделся в листы пергамента. — Буквы мне не знакомы. — Это по-гречески, — объяснила Джоанна. — Это очень старые письмена. Кажется, здесь говорится о каком-то изобретении. Видите диаграммы? — Она указала на одну из страниц, и Джеральд рассмотрел рисунок. — Какое-то гидравлическое устройство. — Он заинтересовался. — Удивительно. Ты можешь перевести текст? — Могу. — Тогда я постараюсь соорудить это. Они улыбнулись друг другу — заговорщики в новом деле. — Папа! — Среди общего шума послышался голос Гилзы. Джеральд оглянулся, пытаясь увидеть дочь. Он был выше всех на целую голову. На солнце его густые рыжие волосы блестели словно золото. Когда Джоанна смотрела на Джеральда, ее сердце сжималось от радости. Ты моя жемчужина, сказал он. Она прижала к груди пергаменты, не сводя с него глаз. — Папа! Джоанна! — Наконец, они увидели Гилзу; она пробивалась сквозь толпу в сопровождении одного из слуг, нагруженного покупками. — Я вас везде искала! — крикнула она приветливо. — Что вы здесь делаете? — Джоанна начала объяснять, но Гилза махнула на нее рукой. — Ох, еще какая-нибудь глупая книга. Смотри, что я нашла, — радовалась она, разворачивая кусок цветной ткани. — Для моего свадебного платья! Правда, это восхитительно? Ткань сияла в руках Гилзы. Присмотревшись, Джоанна заметила, что в нее вплетены тончайшие золотые и серебряные нити. — Восхитительно! — согласилась она. — Знаю. — Гилза схватила Джоанну за руку и направилась к прилавку подальше. — О, аукцион рабов! Давай посмотрим! — Нет, — Джоанна отпрянула. Она видела торговцев рабами, которые проходили через Ингельхайм, и рабов, связанных толстыми веревками. Многие из них были саксонцами, как ее мать. — Нет. — Решительно повторила она. — Ты что, боишься? — Гилза игриво ущипнула ее. — Они же язычники. У них нет чувств, по крайней мере таких, как у нас. — Интересно, что там? — Чтобы отвлечь Гилзу, Джоанна повела ее к небольшому сараю в конце ряда, темному и закрытому со всех сторон. Лук обежал его, принюхиваясь к стенам. — Какой странный, — сказала Гилза. В этот яркий солнечный день, при деловой суматохе, тихий и темный сарайчик выглядел необычно. Сгорая от любопытства, Джоанна осторожно постучала в закрытые ставни. — Входите, — послышался хриплый голос изнутри. Гилза вздрогнула, но не убежала. Девушки обошли сарай и толкнули дощатую дверь. Она громко заскрипела, открывшись внутрь, и косые лучи света проникли во мрак сарая. Они вошли вместе. Внутри странно пахло чем-то густым и сладким, будто свежим медом. Посередине, скрестив ноги, сидела маленькая женщина в темной робе. Она казалась невероятно древней, как будто прожила на свете семьдесят зим или больше. Голова почти облысела, остались только несколько белых прядей на макушке. Женщина дрожала, словно ее бил озноб. В темноте ее глаза тускло светились, когда она разглядывала Джоанну и Гилзу с пристальным вниманием. — Прелестные маленькие голубки, — прокаркала она. — Такие хорошенькие, такие молоденькие. Что вам нужно от старой Балтильды? — Мы просто хотели… хотели… — Джоанна запнулась, подыскивая объяснение. От взгляда старухи ей стало не по себе. — Хотели узнать, что здесь продается, — отважно закончила Гилза. — Что продается? Что же здесь продается? — закудахтала старуха. — Кое-что, чего вам хочется, но чего вам никогда не иметь. — Что? — спросила Гилза. — То, что уже ваше, хотя у вас этого нет. — Старуха улыбнулась им беззубым ртом. — То, что не имеет цены, но купить это можно. — Что же это? — настойчиво осведомилась Гилза, устав от загадок старухи. — Будущее. — Глаза старухи блеснули в темноте. — Баше будущее, милые голубки. То, что будет, и чего пока нет. — А, ты предсказательница будущего! — захлопала в ладоши Гилза, обрадованная, что разгадала загадку. — Сколько? — Один золотой. Один золотой! Столько стоила хорошая дойная корова или пара отличных баранов! — Слишком дорого. — Гилза вошла в свою роль, уверенной и опытной покупательницы, знающей, как торговаться. — Одна лепта, — предложила она. — Пять динариев, — торговалась старуха. — Два. По одному с каждой. — Гилза вынула монеты из сумочки и на ладони протянула старухе, чтобы та увидела их. Старуха, не сразу взяв монеты, жестом пригласила девушек сесть на пол рядом с ней. Они уселись, и старуха вложила в свои дрожащие руки молодые и сильные руки Джоанны. При этом она уставилась на нее странным, тревожным взглядом. Долгое время старуха молчала, потом заговорила: — Дитя эльфов,[510] ты та, кем тебе не быть, но та, кем станешь ты, не та, кто ты есть. Какая-то бессмыслица, если только старуха не имела в виду, что скоро Джоанна станет взрослой женщиной. Но зачем старуха сказала, что она дитя эльфов? Балтильда продолжала: — Ты стремишься к тому, что запретно. — Джоанна удивленно посмотрела на нее, и старуха крепче сжала ее руку. — Да, дитя эльфов, вижу тайну твоего сердца. Ты не будешь разочарована. Тебе суждено стать великой, ты превзойдешь свои мечты. Балтильда отпустила руку Джоанны, повернулась к Гилзе, взяла ее за руки и переплела свои кривые пальцы с гладкими розовыми пальчиками Гилзы. — Ты скоро выйдешь замуж, за богатого, — сообщила она. — Да! — засмеялась Глиза. — Но, бабуленька, я заплатила тебе не за то, что и без того знаю. Будет ли наш союз счастливым? — Не лучше и не хуже других, — ответила Балтильда. Гилза разочарованно подняла глаза к потолку. — Ты будешь женой, но матерью никогда. — Тихо, нараспев, мелодично произнесла Балтильда, ритмично раскачиваясь. Гилза уже не улыбалась. — Значит, я бесплодна? — Твое будущее темное и пустое, — завывала Балтильда. — Тебе предстоят боль, смятение и страх. Гилза замерла, как кролик под пристальным взглядом удава. — Хватит! — Джоанна выхватила руки Гилзы из клешней старухи. — Пойдем, — сказала она, и Гилза подчинилась, как ребенок. Едва они вышли из сарая, Гилза расплакалась. — Ну же, глупышка, — успокаивала ее Джоанна. — Старуха сумасшедшая, не обращай на нее внимания. Эти прорицательницы все лгут. Гилза не успокаивалась. Она плакала и плакала, и, наконец, Джоанна повела ее в ряды со сладостями, где они купили инжир в сахаре и наелись так, что Гилза наконец-то успокоилась.В ту ночь, когда они рассказали Джеральду о своем приключении, он рассвирепел. — Что еще за колдунья? Джоанна, Гилза, завтра вы отведете меня к этому сараю. У меня есть что сказать этой ведьме, чтобы не пугала девочек. Но пока, Гилза, не принимай близко к сердцу всякую ерунду. Зачем вы только пошли на это? Почему же ты не удержалась от этой глупости? — с укоризной спросил он Джоанну. Джоанна полностью осознавала свою вину, но ей так хотелось верить в могущество Балтильды. Разве не обещала старуха, что она узнает тайну ее сердца? Если она права, Джоанна станет великой, несмотря на то, что она девушка, несмотря на то, что все считают это невозможным. Но если Балтильда угадала будущее Джоанны, — значит и про Гилзу она сказала правду. На следующий день они вернулись туда, где стоял сарай, но его уже не было. И никто не знал, куда исчезла старуха.
Когда наступил май, Гилза вышла замуж за графа Хуго. Возникли кое-какие трудности с тем, чтобы назначить время для первой брачной ночи. Церковь запрещала интимные отношения в воскресенье, в среду и пятницу, а также в течение сорока дней перед Пасхой, в течение восьми дней после Троицы и за пять дней до причастия, накануне Великого поста, или праздника Вознесения. В общем, около двухсот двадцати дней в году интимных отношений предписывалось избегать, а если учесть еще и менструальные дни Гилзы, то выбирать было практически не из чего. Но наконец-то они определили двадцать четвертый день месяца, который устроил всех, кроме Гилзы, ибо ей очень хотелось, чтобы торжества начались поскорее. И великий день настал. Все завертелось вокруг Гилзы. Прежде всего помогли надеть ее любимую желтую тунику с длинными рукавами, а поверх прекрасное платье, сшитое из сверкающей золотом и серебром ткани, купленной на ярмарке в Сэн-Дэни, красивые складки шли от плеч до пола, такие же были на широких рукавах до локтей. Талию обвивал тяжелый пояс, украшенный камнями, приносящими счастье: агатом — чтобы охранял от лихорадки; известняком — чтобы защищал от дурного глаза; гелиотропом — для плодовитости; яшмой — для легких родов. И наконец на Гилзу надели легкую, изящной выделки шелковую вуаль. Она ниспадала до самого пола, скрывая плечи и золотисто-каштановые волосы. В своем свадебном наряде Гилза не могла ни ходить, ни сидеть, опасаясь помять его, и напоминала чучело экзотической птицы. «Нет, только не я», — думала Джоанна. Она не хотела выходить замуж, хотя через семь месяцев ей исполнится уже пятнадцать. Еще через три года она будет старой девой. Джоанна не понимала, почему девушки ее возраста так стремятся замуж. После свадьбы женщина сразу же становилась практически рабыней. Муж имел полную власть над собственностью жены, ее детьми, ее жизнью. Испытав тиранию отца, Джоанна решила никогда не давать мужчине такой власти над собой. Простая и доверчивая Гилза напротив стремилась к замужеству. Граф Хуго, величественный в своем наряде и в мантии, отороченной горностаем, ожидал ее на крыльце собора. Гилза приняла его руку и стояла гордая, пока Видо громогласно перечислял все земли, слуг, скот и вещи, составлявшие приданое, Затем свадебная процессия вошла в собор, где перед алтарем их ждал Фулгентиус, чтобы провести торжественную церемонию венчания. — Quod Deus conjunxit homo non separet. — Латинские слова Фулгентиус произносил неуверенно. Перед тем, как стать епископом, он был воином, а поскольку учиться начал поздно, одолеть латинскую грамоту до конца ему так и не удалось. — In nominee Patria et Filia… — Джоанна морщилась пока Фулгентиус произносил благословение, напутав все так, что вместо «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» получилось «Во имя Страны и Дочери». Закончив эту часть службы, Фулгентиус с явным облегчением отвернулся к Геодиску. — Да будет эта женщина любезна, как Рахиль, предана, как Сара, и плодовита, как Лия. — Он ласково положил руку на голову Гилзы. — Да родит она много сыновей, которые прославят дом ее мужа. Заметив, как у Гилзы дрожат плечи, Джоанна поняла, что она пытается подавить смех. — Да будет она подобна собаке, которая не сводит глаз со своего хозяина и предана ему всем сердцем. Даже если хозяин побьет ее плетью и камнями, собака следует за ним, помахивая хвостом. — Джоанне это показалось слишком, но Фулгентиус смотрел на Гилзу ласково и явно не желал обидеть ее. — Ради лучшей и верной цели, — продолжал он, — женщина должна бесконечно и верно любить своего мужа. Он обратился к графу Хуго. — Да будет этот мужчина смел, как Давид, мудр, как Соломон, силен, как Самсон. Да преумножатся его владения и состояние. Да будет он справедливым господином этой женщины, никогда не наказывая ее больше, чем она заслуживает. Да увидит он рождение своих сыновей, достойных его имени. Они обменялись клятвами. Граф Хуго поклялся первым, надел кольцо из византийской бирюзы на безымянный палец Гилзы, где пролегала вена, ведущая к сердцу. Настала очередь Гилзы. Джоанна слышала, как Гилза произносила свою клятву звенящим радостным голосом. Она не сомневалась в будущем. «А каким будет мое будущее?» — думала Джоанна. Она не могла учиться в школе вечно, но впереди еще три года. Джонна предавалась мечтам, видя себя учительницей в одной из солидных кафедральных школ, возможно, в Реймсе или даже в дворцовой школе, где изучают мудрость веков, среди таких же ученых, как она. Мечтать всегда приятно. Но вдруг ей в голову пришла страшная мысль, что произойдет, если придется расстаться с Вилларисом, а значит, с Джеральдом. Джоанна знала, что когда-то покинет Вилларис. Но в последние несколько месяцев она гнала от себя эту мысль, решив жить только настоящим, радуясь близости Джеральда каждый день. Она любовалась его точеным профилем, стройной фигурой, рыжими волосами, волнами ниспадающими на плечи. «Самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела», — не в первый раз подумала она. Словно угадав мысли Джоанны, Джеральд повернулся к ней, и их глаза встретились. Что-то в его взгляде — нежность или мягкость — взволновало ее. Но в тот же миг это выражение исчезло, она даже не поняла, было ли оно, но в душе осталась теплота. «Напрасно я беспокоюсь, — решила она. — Впереди еще три года. За это время многое может измениться».
Через неделю, вернувшись из школы, Джоанна увидела, что Джеральд поджидает ее в портике. — Иди за мной, — сказал он таинственным голосом и поманил ее к центральным воротам. Пройдя в калитку палисада, они прошли несколько миль по дороге, потом свернули в лес. Вскоре они достигли небольшой лужайки, посередине которой стояла старая хижина. Она давно находилась в запустении, но когда-то здесь, наверное, жил какой-то независимый человек, потому что обмазанные глиной стены и дубовая дверь все еще казались крепкими. Хижина напомнила Джоанне о доме в Ингельхайме, хотя эта мазанка была гораздо меньше, и ее соломенная крыша почти сгнила. Они остановились перед дверью. — Стой здесь, — сказал Джеральд, и Джоанна с любопытством наблюдала, как он обошел постройку, вернулся и встал рядом с ней лицом к двери. — Смотри! — Джеральд торжественно поднял руки над головой и три раза хлопнул в ладоши. Ничего не произошло. Джоанна удивленно взгляну-, ла на Джеральда. Он вопросительно смотрел на хижину. Что-то должно было произойти. Но что? Со страшным скрипом тяжелая дубовая дверь начала двигаться, поначалу медленно, затем быстрее и наконец открыла их взорам темную пустоту внутри. Джоанна пристально вгляделась, но никого не заметила. Дверь открылась сама. В голове потрясенной Джоанны роились вопросы, но только один из них она произнесла вслух. — Как? — Святое чудо. — Джеральд поднял глаза к небу с насмешливой покорностью. Джоанна усмехнулась. Он расхохотался. — Тогда колдовство. — Джеральд лукаво смотрел на нее, наслаждаясь произведенным впечатлением. Джоанна приняла вызов, подошла к двери и внимательно осмотрела ее. — А вы можете закрыть ее? — спросила она. Джеральд снова поднял руки, хлопнул в ладоши три раза, и через несколько секунд дверь с шумом начала закрываться. Джоанна внимательно следила за ней. Тяжелые деревянные доски, гладкие и плотно подогнанные одна к другой, — ничего необычного. Дверная ручка тоже казалась самой простой. Джоанна осмотрела железные дверные петли. Она злилась, не понимая, что заставляло дверь двигаться. Дверь снова таинственно закрылась. — Ну? — Синие глаза Джеральда поблескивали. Джоанне не хотелось признавать поражение, но тут она что-то услышала, слабый звук, доносившийся откуда-то сверху. Поначалу она не догадывалась, почему знакомый звук казался ей неуместным. Но тут она узнала его. Вода! Звук журчащей воды! Ликуя, она воскликнула: — Гидравлическое устройство! То, что описано в манускрипте с ярмарки в Сэнт-Дэни! Вы это сделали! Джеральд снова засмеялся. — Скорее приспособил. Потому что это было придумано для насоса, а не для дверей. — Как работает устройство? Джеральд показал ей механизм, который располагался под сгнившей соломенной крышей на расстоянии десяти футов от двери. Поэтому Джоанна и не заметила его. Обойдя хижину» Джеральд наступил на веревку и тем самым привел механизм в действие. — Восхитительно! — сказала Джоанна, услышав объяснение. — Сделайте так еще раз. — Теперь, когда она поняла, как работает механизм, ей хотелось понаблюдать за ним в действии. — Не могу, нужно сперва натаскать воды. — Давайте принесем воды. Где ведра? Джеральд рассмеялся. — Ты неисправима! — Он радостно обнял ее. Груд» его была крепкая и широкая, руки сильные. Джоанне показалось, что она вот-вот растает. Но Джеральд внезапно отпустил ее и нетерпеливо скомандовал: — Пошли. Ведра там. Ручей находился в четверти мили от хижины. Им пришлось трижды ходить за водой, чтобы заполнить приемник. Солнышко пригревало, воздух вселял весенние надежды, их переполняли вдохновение и энтузиазм, связанные с новым изобретением. И они радовались друг другу. — Джеральд, смотрите! — крикнула Джоанна, стоя по колено в холодной воде ручья. Не успел он повернуться к ней, как она брызнула в него водой из ведра, намочив тунику. — Ах ты, проказница! — зарычал он. Набрав в ведро воды, Джеральд плеснул в нее. Они забавлялись так до тех пор, пока Джоанна не свалилась в воду. Потеряв равновесие, она ушла под воду с головой и растерялась, потому что не могла удержаться на скользких камнях ручья. Сильные руки Джеральда обхватили Джоанну и поставили на ноги. — Поймал, поймал, Джоанна. Я поймал тебя. — Над ухом прозвучал его голос, такой теплый и успокаивающий. Все ее тело сладко заныло. Она прижалась к нему, их мокрая одежда слиплась, тела словно слились воедино. — Я люблю тебя, — сказала она. — Я тебя люблю. — О, моя родная, моя славная девочка, — прошептал Джеральд, и в тот же миг их губы соединились, страсть вырвалась из долгого, мучительного плена. Джоанне казалось, что все вокруг пело: Джеральд, Джеральд. Они не знали, что в небольшой рощице на вершине холма кое-кто очень внимательно наблюдал за ними.
* * *
Одо направлялся в Херистал с визитом к своему дяде, одному из святых отцов местного аббатства, когда его мул вдруг свернул с тропинки, привлеченный сочным клевером на небольшой лужайке. Одо не знал, как еще отругать глупое животное, которое не реагировало на его плетку и проклятья. Ему оставалось только слезть с мула и следовать за ним. Именно в этот момент он взглянул на ручей и увидел их. Ученая женщина не может быть непорочной. Кто это сказал, Святой Павел или Святой Иероним? Не важно. Одо всегда знал, что это так, и теперь видел это собственными глазами! Одо потрепал мула по холке. «Сегодня ты получишь дополнительную порцию сена», — подумал он, по, поразмыслив еще, решил, что такая расточительность ни к чему. Ведь животное следовало лишь воле Бога. Следовало поспешить, дядюшка подождет, прежде всего необходимо вернуться в Вилларис. Вскоре он увидел башни Виллариса. От возбуждения Одо шел быстрее, чем обычно. Пройдя через ворота палисада, он предстал перед охранниками. Нетерпеливо махнув им рукой, он приказал: — Срочно отведите меня к леди Ричилд. Дело чрезвычайной важности.Джеральд убрал руку Джоанны со своей шеи. — Пойдем, — сказал он взволнованно. — Пора возвращаться. Ослепленная любовью, Джоанна хотела обнять его снова. — Нет, — решительно возразил Джеральд. — Я должен отвести тебя домой немедленно, пока я способен на это. Джоанна растерянно смотрела на него. — Ты… отказываешься от меня? — Не успел он ответить, как она опустила голову. Джеральд нежно взял ее за подбородок, заставив посмотреть ему в глаза. — Ты мне нужна как ни одна другая женщина на свете. — Тогда почему?… — Не будем гневить Бога, Джоанна! Я мужчина, меня одолевают мужские желания. Не испытывай меня! — проговорил он почти сердито. Увидев, что она готова расплакаться, Джеральд смягчился. — Чего ты хочешь от меня, моя любовь? Хочешь стать моей любовницей? Ах, Джоанна, я овладел бы тобой прямо на этом берегу, если бы знал, что ты будешь счастлива. Но это лишь погубит тебя, неужели не понимаешь? Синие глаза Джеральда властно смотрели на нее. В этот миг он был так красив, что у Джоанны перехватило дыхание. Ей так хотелось, чтобы Джеральд снова обнял ее. Он провел рукой по ее золотистым волосам. Она хотела что-то сказать, но от избытка чувств не могла вымолвить ни слова. Джоанна пыталась подавить стыд и отчаянье. — Пойдем. — Джеральд нежно взял ее за руку. Она не сопротивлялась, и он вывел ее на дорогу. Долгие мили до Виллариса они шли молча. (обратно)
Глава 11

— Леди Ричилд, хозяйка Виллариса, — объявил герольд, когда Ричилд царственно вошла в приемную епископа. — Ваше преосвященство. — Она сделала грациозный реверанс. — Леди, добро пожаловать, — произнес Фулгентиус. — Какие новости от графа? Надеюсь, Господь бережет его от неприятностей в пути? — Да, да. — Она была рада видеть его в таком добром расположении духа. Несомненно, он хочет знать, зачем она явилась. Наверняка подумал, что за пять дней с Джеральдом приключилась какая-нибудь история на опасных дорогах. — Никаких известий о трудностях в пути, ваше преосвященство, да мы и не ждали ничего плохого. Джеральд взял с собой двадцать хорошо вооруженных человек. Ему незачем задерживаться в пути, потому что он уехал по делу императора. — Кажется, он отправился с миссией… в Вестфалию, не так ли? — Верно. Чтобы решить спор о выкупе и несколько более мелких вопросов о собственности. Его не будет две недели или больше. «Вполне достаточно, — подумала она, — вполне достаточно». Они коротко поговорили о местных делах, о хранении зерна на мельнице, о ремонте кафедральной крыши, о хорошем весеннем приплоде овец. Ричилд соблюдала необходимые правила приличия, но не более того. «Я из более знатного рода, чем он. Самое время напомнить ему об этом, перед тем как перейти к цели визита. Очевидно, он ничего не подозревает. Тем лучше». Это ей было на руку. Наконец она решила, что время настало. — Я пришла с просьбой о помощи в домашних делах. Он был польщен. — О, миледи, счастлив помочь. В чем суть вашей просьбы? — Это по поводу девицы Джоанны. Она более не ребенок. Она… — Ричилд тщательно выбирала слова. — Она уже женщина. Не думаю, что для нее пристойно оставаться в нашем доме и дальше. — Понимаю, — сказал Фулгентиус, но она видела, что он ничего не понял. — Полагаю, мы постараемся найти ей другое при… — У меня для нее есть выгодная партия, — перебила его Ричилд. — Сын Бодо, коновала. Он прекрасный, хорошо воспитанный молодой человек. Когда отца не станет, у него будет свое дело, других сыновей в семье нет. — Это весьма неожиданно. А девушка согласна выйти замуж? — Полагаю, не ей решать этот вопрос. Партия для нее очень удачная. Она из бедной семьи, а своим странным поведением она снискала некую… репутацию. — Возможно, — дружелюбно ответил епископ. — Но, похоже, она очень предана учению. Выйдя замуж за сына коновала, она не сможет учиться дальше. — Именно поэтому я и пришла к вам. Вы определили эту девушку учиться в школе, следовательно, вы можете и отпустить ее. — Понятно, — снова сказал он, хотя так ничего и не понял, — А что думает по этому поводу граф? — Он пока ничего не знает. Возможность представилась только что. — Что ж, ладно, — произнес Фулгентиус с облегчением. — Подождем, когда он вернется. Нет нужды спешить. — Такой случай может больше не представиться, — настаивала Ричилд. — Юноша не особенно расположен, кажется, ему приглянулась девушка из деревни. Но, конечно, я позаботилась о том, чтобы наше предложение он счел более выгодным. Мы с его отцом договорились о приданом. Теперь юноша готов подчиниться воле отца. Но он так молод и непредсказуем. Лучше, если свадьбу сыграть немедленно. — Тем не менее… — Позвольте напомнить, ваше преосвященство, что я хозяйка Виллариса, и девушка была на моем попечении. Я вправе принять решение самостоятельно в отсутствие супруга. Пожалуй, для такого дела я подхожу гораздо лучше. Честно говоря, пристрастность Джеральда к этой девушке плохой советчик в решении ее судьбы. — Понимаю, — сказал Фулгентиус и на этот раз он обо все догадался. Ричилд поспешила заметить. — Я больше всего озабочена финансовой стороной вопроса. Джеральд потратил немалые деньги на покупку книг для девушки, бессмысленные траты, поскольку учительницей ей все равно не стать. Должен же кто-то позаботиться о ее будущем. Именно этим я и занимаюсь. Вы должны согласиться, что партия для нее действительно удачная. — Да, — кивнул Фулгентиус. — Отлично. Стало быть, вы готовы отчислить ее из школы? — Мои извинения, миледи, но я приму решение только после возвращения графа. Обещаю обсудить с ним этот вопрос очень подробно, И с девушкой тоже. Потому что, хотя партия… выгодная, как вы изволите утверждать, мне не хотелось бы принуждать девушку к замужеству. Если на это согласятся все, мы вынесем решение об отчислении. Ричилд хотела сказать что-то еще, но он остановил ее: — Понимаю, вы опасаетесь, что шанс может быть упущен, если брак не заключить немедленно. Но поверьте мне, леди, я не могу на это согласиться. Две недели или даже месяц значения не имеют. Она снова хотела возразить, но Фулгентиус еще раз остановил ее. — Я настроен решительно и более не хотел бы говорить на эту тему. Оскорбленная Ричилд зарделась. «Высокопоставленный дурак! Кто он такой, чтобы указывать мне? Моим предкам принадлежали дворцы, когда его предки пахали землю!» Она смерила его высокомерным взглядом. — Очень хорошо, ваше преосвященство, если решение окончательное, то я должна подчиниться ему, — РичиЛд начала надевать перчатки, словно собираясь уйти. — Кстати, — она старалась говорить намеренно небрежно, — только что получила письмо от моего кузена Сигизмунда, епископа Труаенского. Епископа это заинтересовало. — Великий человек. — Вам известно, что он возглавляет синод, который собирается в Аахене этим летом? — Конечно слышал. После того, как Ричилд перестала давить на него, он снова пришел в благостное расположение духа. — Возможно, вы также слышали, что станет главной темой обсуждений на заседании синода? — Хотелось бы узнать, — ответил он. Было видно, что Фулгентиус не понимал, куда она клонит. — Некоторые… нарушения, — Ричилд осторожно развивала свою тему, — в управлении епископатом. — Нарушения? Смысл ее слов пока не дошел до него. «Надо объяснить проще». — Мой кузен хочет поставить вопрос о соблюдении епископальных клятв. — Она взглянула ему прямо в глаза. — В частности, о целомудрии. — Неужели? — побледнел он. — Вероятно, он намеревается поставить этот вопрос перед синодом. У него немало доказательств того, что поведение франкских священников вызывает нарекания. Но он мало знаком с епископатом в этой части империи, поэтому должен опираться на местные отзывы, В своем письме он просит меня поделиться с ним информацией о вашем епископате, ваше преосвященство, — Ричилд произнесла его титул особым тоном и с удовольствием заметила, как он вздрогнул. — Я собиралась ответить ему до нашего разговора, — продолжала она, как ни в чем не бывало, — но была занята помолвкой девушки. В самом деле, хлопоты по поводу свадьбы не оставят мне времени для ответа. Конечно, теперь, когда свадьба откладывается… — Она замолчала, чтобы фраза повисла в воздухе. Епископ замер. Ричилд даже удивилась. Он оказался более упрям, чем она ожидала. Его выдало лишь одно: в сонном, тяжелом взгляде епископа мелькнул страх. Ричилд улыбнулась.
Встревоженная и грустная Джоанна сидела на камне. Перед ней лежал Лук, уткнувшись мордой в лапы и глядя на нее внимательными опаловыми глазами. — Ты тоже скучаешь без него, мальчик? — спросила она, нежно потрепав его по холке. Если бы не Лук, теперь Джоанна была бы совершенно одинока. Джеральда не было уже больше недели, и она очень тосковала по нему. Сердце у нее болело так, словно его по кусочкам вырывали из груди. Джоанна знала, почему он уехал. После того, что случилось между ними на берегу реки, это нужно было сделать, чтобы привести в порядок чувства и обуздать страсть. Она все понимала, но сердце не хотело мириться с этим. «Почему? — спрашивала она себя в тысячный раз. — Почему все должно быть именно так? Ричилд не любит Джеральда, он тоже не любит ее». Джоанна пыталась урезонить себя, без конца размышляя о том, почему так должно быть, почему так лучше, но всегда приходила к одному неизменному выводу: она любит Джеральда. Злясь на себя, Джоанна встряхнула головой. Если Джеральду хватило сил поступить так ради нее, неужели она хуже? То, чего нельзя изменить, надо вытерпеть. К ней пришло новое решение: когда Джеральд вернется, все изменится. Ей достаточно только быть рядом с Джеральдом, разговаривать с ним, смеяться, как это было прежде. Они будут как учитель и ученица, как священник и монахиня, как брат и сестра. Она выбросит из памяти воспоминания о его объятьях, о его поцелуях… Вдруг рядом появился слуга Видо. — Миледи желает говорить с тобой. Джоанна последовала за ним через входные ворота в центральный двор. Лук бежал рядом. Когда они приблизились к главному двору, Видо указал на Лука: — Без волка. Ричилд не любила собак и запрещала им входить в дом, как это было принято в других поместьях. Джоанна приказала Луку лежать и ждать во дворе. Слуга провел ее через крытую галерею в большой зал, где суетились слуги, накрывавшие стол к обеду. Затем они прошли туда, где их ждала Ричилд. — Вы посылали за мной, леди? — Садись. — Джоанна направилась к стулу, но Ричилд указала на маленький табурет возле письменного стола. Джоанна села на него. — Ты напишешь письмо. Подобно всем благородным дамам королевства, Ричилд не умела ни читать, ни писать. Писарем у нее был капеллан Вала. Видо также немного умел писать и иногда помогал Ричилд. «Зачем же она послала за мной?» — подумала Джоанна. Ричилд нетерпеливо топнула ногой. Привычным взглядом Джоанна стала разглядывать перья на столе и выбрала самое острое. Она взяла чистый лист пергамента, опустила перо в чернила и кивнула Ричилд. — От Ричилд, графини, владелицы поместья Вилларис. Джоанна писала быстро. В мертвой тишине комнаты слышался лишь скрип пера. — Канонику деревни Ингельхайм, приветствие. Джоанна подняла голову. — Моему отцу? — Продолжай. — Ричилд говорила таким тоном, который исключал любые вопросы. — Ваша дочь, Джоанна, достигнув почти пятнадцати лет, не может более продолжать учение в школе. Джоанна перестала писать. — Как наставница девушки, обеспокоенная ее судьбой, — продолжала Ричилд, притворяясь, что диктует, — я взяла на себя труд выбрать супруга для вашей дочери — это сын коновала нашего города, человека весьма преуспевающего. Бракосочетание состоится через два дня. Условия соглашения следующие… Джоанна вскочила, опрокинув стул. — Зачем вы это делаете? — Потому что я так решила. — Уголки губ Ричилд приподнялись в зловещей улыбке. — И потому что я имею на это право. «Ей все известно», — подумала Джоанна, она знает про нас с Джеральдом. Щеки Джоанны вспыхнули так, что ей показалось, будто у нее загорелась кожа. — Да. Джеральд мне все рассказал о том печальном событии на берегу реки, — Ричилд угрожающе засмеялась. Она наслаждалась моментом. — Неужели ты действительно поверила, что твои неловкие поцелуи понравятся ему? Мы смеялись с ним всю ночь. Потрясенная Джоанна не издала ни звука. — Ты удивлена. Не удивляйся. Думаешь, ты у него единственная? Моя дорогая, ты лишь новая бусинка в длинном ожерелье любовных побед Джеральда. Не воспринимай его слишком серьезно. Откуда она знает, что было между нами? Неужели Джеральд рассказал ей? Джоанне вдруг стало невыносимо холодно, словно на нее дул холодный ветер. — Ты не знаешь его, — издевательски произнесла Ричилд. — Я его жена, ты же наивный ребенок. — Вы не любите его. — Нет, — призналась Ричилд. — Но я и не должна… беспокоиться о никчемной крестьянской девчонке. Джоанна попыталась привести в порядок свои мысли. — Вы не можете сделать этого без согласия епископа. Он направил меня в школу, без его разрешения вы не вправе запретить мне учиться. Ричилд протянула ей лист пергамента с печатью Фулгентиуса. Джоанна быстро прочла его, потом еще раз, но уже медленнее, желая убедиться, что не ошиблась. Не оставалось никаких сомнений. Фулгентиус запретил ей учиться в школе. На документе стояла также и подпись Одо. Джоанна представила, с каким удовольствием он поставил ее. Ричилд ликовала, наблюдая, как Джоанна читает. Наглая маленькая тварь только что поняла, насколько она ничтожна. — Не стоит больше обсуждать это. Садись и закончи письмо отцу. — Джеральд не позволит вам сделать это. — Решительно ответила Джоанна. — Глупый ребенок, это была его идея. — Если этот брак был идеей Джеральда, почему он не остался, чтобы устроить его? — У Джеральда чувствительное сердце… Ему не хватило смелости сообщить тебе об этом. Такое уже бывало с другими девушками. Он попросил меня решить этот вопрос за него. И я делаю это. — Я вам не верю. — Джоанна отступила к двери, стараясь удержать слезы. — Я вам не верю. Ричилд вздохнула. — Дело решенное. Ты сама закончишь письмо или же мне позвать Валу? Джоанна выбежала из комнаты. Не успела она добежать до главного зала, как услышала колокольчик Ричилд, призывающий капеллана. Лук поджидал ее там, где она оставила его. Джоанна упала на колени рядом с ним и прижалась к его теплому телу. Большая волчья голова ласково легла ей на плечо, и с его помощью Джоанна справилась со своими эмоциями. Я не должна паниковать. Именно этого она ждет от меня. Надо было подумать, что делать. Но мысли разбегались, хотя и приходили к одному. Джеральд. Где он? Если бы он был здесь, Ричилд не сделала бы этого. Конечно если только она не сказала правду, и выдать ее замуж предложил Джеральд. Джоанна отогнала предательскую мысль. Джеральд любит ее, он не позволил бы выдать Джоанну замуж без ее согласия за человека, которого она даже не знает. Он может вернуться вовремя, чтобы отменить свадьбу. Он может… Нет, нельзя, чтобы ее судьба зависела от случая. Сознание Джоанны, несмотря на потрясение и страх, было ясным, и она понимала это. Джеральд не вернется еще почти две недели. Свадьба должна состояться через два дня. Нужно спасаться. Этой свадьбе не бывать. Фулгентиус. Я должна добраться до Фулгентиуса, убедить его, что эта свадьба невозможна. Джоанна не сомневалась, что Фулгентиус подписал этот документ, скрепя сердце. Множество мелких любезностей, которые он оказывал Джоанне, говорили о том, что он симпатизировал ей, радовался ее успехам в школе, особенно потому, что это так не нравилось Одо. Возможно, Ричилд как-то повлияла на него, если он согласился. Если бы только Джоанне удалось поговорить с ним, убедить отменить свадьбу или хотя бы отложить до возвращения Джеральда. Но, возможно, он не захочет видеться со мной, если дал согласие на свадьбу. Наверняка в аудиенции ей откажут. Джоанна, стараясь подавить страх, пыталась рассуждать логично. В воскресенье Фулгентиус будет вести службу. Он приедет в кафедральный собор заранее. Я смогу подойти к нему и припасть к его ногам. Мне теперь все равно. Он услышит меня, я заставлю его. Она взглянула на волка. — Лук, поможет ли это спастись? Он склонил голову, словно пытаясь понять. Это всегда забавляло Джеральда. Джоанна обняла белого зверя, спрятав лицо в его густой шерсти.
Первыми показались нотариусы и другие церковные служащие, направляющиеся в процессии в сторону собора. За ними, на лошадях, ехали официальные представители церкви, дьяконы и подьячие в роскошных нарядах. Среди них был Одо в простой коричневой робе, с надменной и недовольной миной на лице. Когда он заметил Джоанну, стоящую в группе поджидавших епископа нищих и просителей, его губы расползлись в зловещей улыбке. Наконец появился епископ в белом шелковом одеянии, на величественном коне, покрытом алой попоной. За ним следовали верховные вельможи епископального дворца: казначей, хранитель гардероба и распределитель милостыни. Процессия остановилась, когда нищие нетерпеливо обступили его, прося подать им в честь Святого Стефана, покровителя всех нуждающихся… Распорядитель стал небрежно разбрасывать монеты. Джоанна быстро пробралась к епископу, лошадь которого нетерпеливо била копытом. Она упала на колени. — Ваше преосвященство, обращаюсь к вам с прось… — Знаю о чем ты просишь, — перебил Джоанну епископ, не глядя на нее. — Я уже вынес решение. Больше не желаю слышать об этом. Он пришпорил лошадь, но Джоанна схватилась за поводья, остановив его. — Это замужество погубит меня. — Она говорила быстро и тихо, так что никто не мог слышать ее. — Если ничего нельзя сделать, чтобы отменить его, то хотя бы отложите на месяц! Епископсделал попытку ехать дальше, но Джоанна крепко держала поводья. К ней бросились двое охранников, чтобы убрать с пути, но епископ отстранил их. — Две недели! — взмолилась Джоанна. — Умоляю, ваше преосвященство, дайте мне две недели! — Намереваясь держаться твердо, она, к своему ужасу, вдруг громко разрыдалась. У Фулгентиуса, слабого, многогрешного человека, было доброе сердце. Взгляд его смягчился, когда он наклонился, чтобы погладить Джоанну по золотистым волосам. — Дитя, я ничем не могу помочь тебе. Покорись своей судьбе, которая, в конце концов, совершенно естественна для женщины, — он склонился и прошептал, — я узнал про молодого человека, который должен стать твоим мужем. Он добрый парень, тебе с ним будет хорошо. Епископ подал сигнал стражникам, они оторвали руки Джоанны от поводьев и утащили ее в толпу. Перед ней расступились. Она шла, стараясь скрыть слезы, и слышала, как тихо посмеиваются крестьяне. Позади толпы Джоанна увидела Джона и направилась к нему, но он отшатнулся. — Не подходи! — крикнул он, — Я ненавижу тебя! — Почему? Что я сделала? — Ты знаешь, что сделала! — В чем дело, Джон? Что случилось? — Мне придется покинуть Дорштадт! — завопил он. — И все из-за тебя! — Не понимаю. — Одо сказал: «Ты больше не учишься в школе», — Джон передразнил гнусавый голос учителя. — Сказал, что мне разрешили учиться только ради сестры. Джоанна была потрясена. Она так сосредоточилась на своих проблемах, что не подумала о последствиях для Джона. Он был плохим учеником, и его держали только потому, что она привязана к нему. — Не я придумала эту свадьбу, Джон. Разве ты не слышал, что я только что сказала епископу? — Мне безразлично! Это ты во всем виновата. Ты всегда во всем виновата! Джоанна пришла в недоумение. — Тебе же так не нравится учиться. Почему ты боишься, что тебя выгонят из школы? — Ты не понимаешь. — Он посмотрел мимо нее. — Ты никогда ничего не понимала. Джоанна обернулась и увидала мальчиков из школы, стоявших группой. Один, показывая на них, что-то шептал другим. Раздался смех. «Значит, они уже все знают», — подумала Джоанна. Конечно, Одо не станет щадить ее чувства. Она пожалела брата. Ему, должно быть, трудно из-за того, что придется из-за нее расстаться с друзьями. Он всегда был на их стороне, и Джоанна понимала почему. Джону больше всего хотелось быть принятым в их общество. — Все будет хорошо, Джон, — ласково сказала она. — Теперь ты волен вернуться домой. — Волен? — резко рассмеялся Джон. — Вольный, как монах! — Что ты имеешь в виду? — Мне придется отправиться в монастырь в Фульде! Отец сообщил свое решение епископу, когда мы прибыли сюда в первый раз. Если со школой ничего пе получится, меня должны отправить в монастырь Фульды. Значит, вот почему недоволен Джон. Став монахом, он никогда не сможет покинуть монастырь. Теперь ему не быть воином, не служить в императорской армии, как он мечтал. Брат с ненавистью смотрел на нее, губы его шевелились: он искал слова, которые выразили бы его чувства. — Лучше бы… лучше бы тебя вообще не было на свеге! — И Джон убежал. В полном отчаянии Джоанна направилась в Вилларис.
* * *
Джоанна сидела у ручья, где обнималась с Джеральдом лишь несколько недель тому назад. С тех пор прошла целая вечность. Она взглянула на солнце, до шести часов оставался час-другой. Завтра в это время она будет уже замужем за сыном коновала. Если только… Она обвела взглядом вершины деревьев на краю леса. Дорштадт окружал густой и большой лес. В таком лесу можно прятаться много дней. До возвращения Джеральда оставалось не более двух недель. Удастся ли ей прожить в лесу так долго? Лес полон опасностей, там водятся дикие кабаны, зубры и… волки. Джоанна вспомнила, какой свирепой была мать Лука, когда бросалась на клетку, ее острые зубы, мерцающие в лунном свете. «Возьму Лука с собой, — подумала она, — он будет защищать меня и поможет охотиться». Молодой волк был уже опытным охотником на кроликов и другую мелкую дичь. «Джон, — подумала она. — Что же будет с Джоном?» Джоанна не могла убежать, не сообщив ему, где она. Он может убежать со мной! Конечно! Это отличное решение проблемы. Они спрячутся в лесу и дождутся возвращения Джеральда. Джеральд все правильно рассудит, найдет выход не только для нее, но и для брата. Ей надо связаться с Джоном. Они встретятся в лесу сегодня ночью, у него есть копье, лук со стрелами и меч. План был отчаянный, но ничего иного не оставалось.Дуоду она отыскала в дортуаре. Несмотря на свои десять лет, она была уже большой девочкой, хорошо развитой и очень похожей на свою сестру Гилзу. Девочка обрадовалась появлению Джоанны. — Только что узнала! Ты завтра выходишь замуж! — Нет, если удастся предотвратить это, — призналась Джоанна. Дуода очень удивилась. Гилзе так хотелось замуж. — Он что, старый? — Лицо ее исказил детский страх. — Беззубый! У него золотуха? — Нет, — Джоанна невольно улыбнулась. — Говорят, что он молодой и миловидный. — Так почему?… — Некогда объяснять, Дуода. Хочу попросить тебя кое о чем. Ты умеешь хранить секреты? — О да! — Дуода была заинтригована. Джоанна достала листок свернутого пергамента. — Это письмо для моего брата Джона. Передай ему. Я бы сама это сделала, но мне нужно примерить свадебное платье. Ты сделаешь это для меня? Дуода смотрела на записку. Так же как мать и сестра, она была неграмотна. — А что там написано? — Не могу сказать, Дуода. Но это очень важно, очень. — Тайная записка! — Лицо ее засветились от восторга. — До школы всего две мили. Ты обернешься за час, если поспешишь. Дуода схватила записку. — Успею еще раньше!
Дуода побежала через главный двор, стараясь не столкнуться со слугами и мастеровыми, которых всегда было много во дворе в это время дня. Ей так нравилось это приключение! Она ощущала в руке прохладный гладкий пергамент, и ей ужасно хотелось знать, что там написано. Умение Джоанны читать и писать восхищало ее. Такое таинственное приключение внесло оживление в монотонную жизнь в Вилларисе. Кроме того, ей хотелось помочь Джоанне, которая постоянно была мила с ней, не ленилась объяснять всякие интересные вещи, в отличие от мамы, вечно нетерпимой и сердитой. Она почти добралась до ограды, когда услышала крик. — Дуода! Голос матери. Дуода шла, словно не слышала ее, но, когда она проходила через ворота, стражник преградил ей путь и заставил подождать. Повернувшись, девочка увидела перед собой мать. — Дуода! Куда ты направляешься? — Никуда. — Дуода спрятала записку за спину. Ричилд заметила это. — Что там у тебя? — Н-ничего. — Дай мне. — Ричилд повелительно протянула руку. Дуода колебалась. Если отдать записку, то она выдаст секрет Джоанны. Если не послушаться… Мать пристально смотрела на нее, черные глаза пылали гневом. Взглянув на мать, Дуода поняла, что выбора у нее нет.
* * *
Ричилд настояла на том, чтобы последнюю ночь перед свадьбой Джоанна спала в маленькой теплой комнате, прилегающей к ее спальне. Такой привилегии удостаивались только больные дети или особо приближенные слуги. Это большая честь для невесты, сказала Ричилд, но Джоанна не сомневалась, что той просто хотелось держать ее под присмотром. Все равно, как только Ричилд заснет, Джоанна улизнет так же легко, как из дортуара. Эрментруда, одна их служанок, вошла в маленькую комнату с деревянной чашкой, наполненной ароматным красным вином. — От леди Ричилд, — сказала она. — Леди милостиво дарует. — Не хочу, — отмахнулась Джоанна. От врага ей не надо никаких милостей. — Но леди Ричилд велела проследить, чтобы вы все выпили, и только тогда унести чашку. — Эрментруда хотела все выполнить правильно, ей было всего двенадцать лет, и в услужение она попала недавно. — Тогда выпей сама, — раздраженно ответила Джоанна. — Или вылей на землю. Ричилд никогда не узнает. Эрментруда обрадовалась. Такая мысль не пришла ей в голову. — Да, госпожа. Благодарю, госпожа, — она повернулась, чтобы уйти. — Минуту! — позвала ее Джоанна. Вино в чашке заманчиво мерцало и казалось таким вкусным. Если придется оставаться в лесу две недели, лучше немного подкрепиться. Глупая гордость в этой ситуации неуместна. Взяв у служанки чашку, она залпом выпила вино. Вино оставило на губах странный кисловатый привкус. Джоанна вытерла рот рукавом и вернула чашку Эрментруде. Та быстро убежала. Джоанна задула свечу и улеглась. Пуховая перина была такой мягкой. Джоанна привыкла к соломенным матрасам в верхнем дортуаре. Но ей хотелось теперь в свою постель рядом с Дуодой, потому что, отдав девочке записку, Джоанна провела весь день в покоях Ричилд, в окружении служанок, которые суетились с подвенечным платьем и личными вещами, составившими ее приданое. Удалось ли Дуоде передать записку Джону? Джоанну терзали сомнения. Джона она дождется на лесной лужайке, если он не появится, придется уходить с Луком. В соседней комнате послышалось глубокое дыхание заснувшей Ручилд. Подождав еще четверть часа, чтобы не рисковать, Джоанна вылезла из постели. Она тихо вошла в комнату Ричилд, казалось, что та крепко заснула, и осторожно скользнула вдоль стены к выходу. Как только она вышла, Ричилд открыла глаза.Джоанна неслышно пробиралась через коридоры и залы, пока не вышла на центральный двор. Она глубоко вздохнула, ощутив легкое головокружение. Вокруг было тихо. Возле ворот, прислонившись к стене, сидел стражник, и, опустив голову на грудь, храпел. Через двор в лунном свете пролегла ее огромная тень. Она подняла руку, и гигантская тень повторила ее движение. Джоанна тихонько свистнула, подзывая Лука. Стражник заворочался во сне. Лук не появился, и Джоанна направилась к тому углу, где обычно спал Лук. Нельзя будить стражника, подавая сигналы. Вдруг земля ушла у нее из-под ног, подкатила тошнота, и она остановилась, чтобы не упасть. Господи, мне нельзя заболеть теперь. Борясь с головокружением, Джоанна пересекла двор и в дальнем углу увидела Лука. Молодой волк лежал на боку, опаловыми глазами уставившись в ночь и слегка высунув язык. Потрогав его, она почувствовала его остывшее тело под мягкой шерстью. Джоанна отпрянула. Взгляд ее упал на недоеденный кусок мяса на земле. На окровавленный кусок села муха, немного отведала крови, взлетела, покружила и упала на землю. В ушах Джоанны зашумело, воздух казался тяжелым, она сделала шаг, собираясь убежать, но земля снова ушла у нее из-под ног. Джоанна даже не почувствовала, как чьи-то руки грубо потащили ее в дом.
Колеса повозки, везущей Джоанну на венчание, скрипели, копыта лошадей ритмично стучали по дороге, ведущей в кафедральный собор. Утром Джоанну разбудили с большим трудом. Она была слишком одурманена, не понимала происходящего, и покорно стояла, пока слуги хлопотали вокруг нее, надевая свадебное платье и укладывая волосы. Но действие снотворного начинало проходить, и Джоанна все вспомнила. «Это вино, — подумала она, — Ричилд что-то подлила в вино». Джоанна вспомнила про мертвого Лука, лежавшего во дворе. Горло у нее сдавило. Он умер в одиночестве, но Джоанна надеялась, что без страданий. Ричилд, наверное, с удовольствием отравила приготовленное ему мясо: она всегда ненавидела Лука, видя, как сильно он сплотил ее и Джеральда. Ричилд ехала в повозке немного впереди. На ней было роскошное платье из сияющего голубого шелка, черные волосы, элегантно уложенные вокруг головы, украшала серебряная диадема с изумрудами. Как она прекрасна! «Почему? — думала Джоанна. — Почему она не убила и меня?» Сидя в повозке, везущей ее к собору, изнемогая душой и телом, лишенная поддержки Джеральда и возможности убежать, Джоанна мечтала о смерти.
Колеса шумно застучали по булыжникам кафедральной площади, и повозка остановилась. Рядом тотчас появились двое слуг Ричилд. С преувеличенным почтением они помогли Джоанне спуститься с повозки. У собора собралась огромная толпа. Был праздник Первых Мучеников, торжественный религиозный день, а также свадьба Джоанны, и на это событие пришли поглазеть почти все жители города. Перед толпой Джоанна увидела высокого рыжего, костлявого юношу, неуклюже стоявшего возле своих родителей. Сын коновала. Она заметила его хмурое лицо и понуро опущенную голову. Ему тоже не хочется жениться, не меньше чем ей. Зачем это ему? Отец подтолкнул его. Он подошел к Джоанне и протянул руку. Она взяла ее, и они стояли рядом, пока Видо, слуга Ричилд, оглашал список вещей, входивших в приданое Джоанны. Джоанна взглянула в сторону леса. Теперь убежать и спрятаться невозможно. Толпа плотно обступила их, и люди Ричилд внимательно следили за ней. В толпе Джоанна увидела Одо в окружении школьников, перешептывающихся, как обычно. Джона среди них не было. Она оглядела толпу и увидела, что он стоит в стороне от школяров. Теперь у них никого не осталось: только она и брат. Джоанна пыталась встретиться с ним взглядом, надеясь заметить сострадание. К ее удивлению, Джон не отвел глаз, а его лицо выражало боль. Долгое время они были чужими, но в этот момент они снова понимали друг друга. Джоанна не сводила глаз с Джона, опасаясь нарушить хрупкую связь. Слуга завершил перечисление приданого. Толпа замерла в ожидании. Сын коновала повел Джоанну в храм. Ричилд и ее домочадцы последовали за ними в сопровождении толпы. У алтаря их ждал Фулгентиус. Когда Джоанна и юноша подошли, он жестом велел им сесть. Прежде всего он отслужит праздничную мессу, затем совершит брачный обряд. Omnipotens sempiterne Deus qui me peccatoris. Как всегда, Фулгентиус путался в латыни, но Джоанна не обращала на это внимания. Епископ подал знак псаломщику приготовиться к сбору пожертвований и начал молитву на жертвоприношение. Suscipe sanctum Trinitas… Сидевший рядом сын коновала опустил голову. Джоанна пыталась молиться, но ничего не получалось: она чувствовала только пустоту. Приступили к смешению воды и вина. Deus qui humane substantiae… Вдруг двери собора с грохотом распахнулись. Фулгентиус прекратил бороться с латынью и удивленно уставился на двери. Джоанна повернула голову, пытаясь разглядеть причину его замешательства, но сидевшие позади нее заслоняли вид. Затем она увидела, что огромное существо, похожее на человека, но выше всех на делую голову, возникло в залитом светом дверном проеме, откинув тень в полумрак храма. Лицо его исказила зловещая улыбка, глаза Джоанне рассмотреть не удалось. На шлеме торчали золотые рога. В толпе закричала женщина. «Водан», — подумала Джоанна. Она давно перестала верить в богов матери, но теперь увидела Бодана, именно такого, как о нем рассказывала мама, и он смело шел между рядами прямо к ней. «Он пришел освободить меня?» — удивилась она. Когда он приблизился, Джоанна заметила, что лицо и рога были маской, частью сложного боевого шлема. Это был мужчина, а не бог. Из-под шлема на плечи ниспадали длинные золотые локоны. — Норманны! — крикнул кто-то. Пришелец шел, не сбавляя шаг. Подойдя к алтарю, он поднял тяжелый, обоюдоострый широкий меч и с силой опустил его на залысину церковного служки. Тот рухнул, заливаясь кровью. Воцарился хаос. Все вокруг Джоанны кричали и пытались убежать. Людской поток потащил Джоанну за собой и сдавил ее так сильно, что она не чувствовала под собой пола. Люди бросились к выходу, но вдруг замерли на месте. В проходе стоял еще один воин, одетый точно так же, как и первый, но в руке у него был не меч, а боевой топор. Толпа ринулась обратно. Джоанна слышала крики снаружи и видела не меньше дюжины норманнов, ворвавшихся в храм. Они хрипло кричали, размахивая на бегу огромными топорами. Люди в панике топтали друг друга, уклоняясь от смертельных ударов. Джоанну толкнули, и она упала, закрыв голову руками. Кто-то наступил на ее правую руку, и она вскрикнула от боли. — Мама! Спаси меня, мама! Пытаясь выбраться из-под метавшейся толпы, она отползла и выбралась на открытое место. Взглянув в сторону алтаря, она увидела Фулгентиуса, окруженного норманнами. Он отбивался от них огромным деревянным крестом, прежде висевшим позади алтаря. Нападавшие едва успевали уворачиваться от его мощных ударов. Один из норманнов получил такой сильный удар крестом, что отлетел очень далеко. Джоанна ползла, оглушенная шумом, задыхаясь от дыма. Неужели начался пожар? Она искала Джона. Со всех сторон доносились мольбы о помощи, стоны и плач. Собор был завален скамьями и мертвыми телами, залит кровью. — Джон! — кричала она. В этом углу дым был густым, разъедал глаза, и Джоанна не могла ничего разглядеть. — Джон! — В общем шуме она едва слышала свой голос. Ощутив сзади порыв воздуха, она инстинктивно откатилась в сторону. Норманн нацелил меч на ее голову, но рассек лишь щеку. Он навис над ней, сверкая голубыми глазами сквозь прорези в шлеме. Джоанна попятилась, пытаясь уйти от него, но это ей не удалось. Норманн снова занес над Джоанной меч, и она закрыла голову руками. Но удара не последовало. Открыв глаза, она увидела, как норманн выронил меч. Изо рта у него потекла кровь, и он медленно осел на пол. За ним стоял Джон, держа в руке окровавленный отцовский охотничий нож. Глаза его горели странным огнем. — Я прикончил его, ударил прямо в сердце! Ты видела? Он убил бы тебя! Ужас пронзил Джоанну. — Они убьют нас всех! — она схватила Джона. — Нужно бежать, спрятаться! Джон стряхнул ее с себя. — Я еще одного прикончил. Он напал на меня с топором, но я подскочил к нему и полоснул по горлу. Джоанна озиралась вокруг, ища место для укрытия. Неподалеку она заметила нишу из резного дерева, украшенную позолоченными панелями с изображением святого Германуса. За нишей было пустое пространство, там достаточно места, чтобы… — Быстро, — крикнула она Джону. — Иди за мной! — Она схватила его за рукав, стараясь уложить на пол рядом с собой. Поманив за собой брата, она поползла за нишу. Да! Там можно было спрятаться! Внутри было темно, лишь тонкий луч света пробивался через щель на стыке деревянных панелей. Джоанна забилась в угол, подобрав ноги, чтобы осталось место для Джона. Но он не появился. Она выглянула наружу. В нескольких футах от ниши Джон склонился над убитым норманном, пытаясь стащить с него что-нибудь из одежды. — Джон! — крикнула она. — Сюда! Скорее! Он посмотрел на сестру отсутствующим диким взглядом, продолжая возиться с трупом. Через мгновенье Джон издал восторженный вопль: он держал в руке меч. Она жестами пыталась привлечь его внимание. Ликуя, Джон поднял меч и убежал. «Нужно ли мне следовать за ним?» Джоанна начала выбираться наружу. Рядом раздался душераздирающий крик ребенка, но внезапно стих. От страха она забилась в угол и смотрела через щель в панели, пытаясь увидеть Джона. Прямо перед нишей происходило сражение. Джоанна слышала металлический звон, мельком заметила желтую одежду, сверкание поднятого меча и звук упавшего на пол тела. Бой переместился, Джоанна увидела проход в сторону кафедральных ворот. Тяжелые двери были широко распахнуты, повсюду лежали горы мертвых тел. Норманны уводили пленных в правую часть собора. Проход был открыт. «Теперь, — сказала она себе, — беги к выходу», — но так и не сдвинулась с места, руки и ноги у нее словно онемели. Джоанна разглядела мужчину, настолько обезображенного страхом, что не сразу узнала в нем Одо. Он шел к выходу, волоча левую ногу. В руках Одо сжимал библию из верхнего алтаря. Он почти добрался до двери, когда двое норманнов настигли его. Он встретил нападавших, подняв Библию над головой, словно отпугивая злых духов. Мощный удар рассек Библию пополам, затем меч вонзился ему в грудь. Мгновение Одо стоял, держа в руках две половинки книги, потом упал навзничь и замер. Джоанна отпрянула в темноту. Крики умирающих доносились отовсюду. Сжавшись она зажала уши руками. В висках пульсировала кровь.
Наконец крики смолкли. Джоанна слышала, как норманны переговаривались между собой на гортанном языке. До нее донесся звук разрубаемого дерева. Поначалу она не поняла, что происходит, потом догадалась, что они грабят собор, смеясь и перекрикиваясь. Настроение у них было веселое. Работа не заняла много времени. Норманны кряхтели под тяжестью награбленного. Постепенно голоса затихли. Застыв, Джоанна пыталась хоть что-то расслышать. Тишина. Она подобралась к выходу из ниши и посмотрела в щель. Собор был разграблен. Мебель перевернута, со стен сорвана вся утварь, статуи разбиты. Норманнов видно не было. Повсюду были мертвые тела. Неподалеку, у подножия ступеней, ведущих к алтарю, лежало тело Фулгентиуса рядом с огромным крестом, расколотым и залитым кровью, а рядом — тела двух норманнов с разбитыми черепами. Джоанна наполовину выбралась из укрытия. В дальнем углу зала что-то шевельнулось. Джоанна снова спряталась. Среди мертвых тел кто-то шевелился. Живой! Молодая женщина поднялась на ноги и, покачиваясь, направилась к дверям. Ее золотое платье было порвано и залито кровью, волосы выбились из-под чепца, а каштановые локоны рассыпались по плечам. Гилза! Услышав крик Джоанны, она повернулась к нише. Снаружи собора раздался громкий смех. Гилза попыталась убежать, но было слишком поздно. В собор вошли несколько норманнов. Они напали на Гилзу с радостным криком и, подняв ее над головами, отнесли на свободное место за алтарем, бросили на пол и связали руки и ноги. Она отчаянно извивалась, стараясь освободиться. Самый высокий из норманнов задрал ей платье и набросился на нее. Гилза завизжала. Мужчина вцепился в ее грудь, а потом стал насиловать под хохот и крики остальных. Джоанна зажала руками рот, чтобы не закричать. После первого норманна на Гилзу набросился второй. Теперь Гилза лежала неподвижно. Один из мужчин схватил ее за волосы, чтобы она поднялась. Потом ею овладел третий, четвертый; наконец, они оставили ее, перетаскивая тюки с награбленным, сложенные у дверей. Когда они переносили их, слышался металлический звон, возможно, там были кафедральные сокровища. Они вернулись именно за ними. Перед уходом один из норманнов вернулся к Гилзе, поднял ее и перекинул через плечо, словно мешок с зерном. Вышли они через дальнюю дверь. Сидя в своем укрытии, Джоанна слышала лишь тихий гул под сводами храма.
Луч света, пробивавшийся в щель, начал тускнеть, уже несколько часов до Джоанны не доносилось ни звука. Она решила покинуть свое убежище. Высокий алтарь остался на месте, но все золотые украшения с него сорвали. Джоанна прислонилась к алтарю и огляделась вокруг. Свадебное платье было залито кровью, но чья это кровь, она не знала. Рассеченная щека болела. Безуспешно она искала живых среди мертвых тел. В груде трупов возле дверей Джоанна нашла коновала и его сына. Они лежали в таких позах, словно пытались защитить друг друга. Мертвый юноша выглядел старым и дряхлым. Всего несколько часов назад он стоял перед ней высокий, румяный и полный сил. «Теперь свадьба точно не состоится», — подумала Джоанна. Вчера эта мысль порадовала бы ее, теперь же в душе не осталось ничего, кроме пустоты. Она продолжила поиски. Джона она нашла в углу с зажатым в руке норманнским мечом. У него был разбит затылок, но смерть не оставила на его лице страшного отпечатка. Его голубые глаза были открыты, а на губах застыло подобие улыбки. Он погиб смертью воина.
Спотыкаясь, Джоанна побежала к двери и открыла ее. Дверь рухнула, не удержавшись на разбитых петлях. Джоанна выбежала наружу и остановилась, глотая свежий сладкий воздух и пытаясь избавиться от запаха смерти. Перед ней предстала страшная картина. Над руинами, которые еще утром были уютными домами, окружающими собор, поднимались клубы дыма. Дорштадт был разрушен. Почти все население города, собравшееся в кафедральном соборе, было уничтожено. Джоанна взглянула на восток. Над лесом, скрывавшим постройки, поднимались черные клубы дыма, затмевая небо. Вилларис. Они сожгли его дотла. Джоанна опустилась на землю и обхватила голову руками. Джеральд. Как он был ей нужен, чтобы обнять и успокоить, чтобы мир снова стал узнаваемым. Глядя за горизонт пустыми глазами, Джоанна почти надеялась увидеть, как он скачет на Пестисе, с развевающимися, как знамя, рыжими волосами. Нужно дождаться его. Если он вернется и не найдет меня, то решит, что меня увели норманны, как бедную Гилзу. Но нельзя же оставаться здесь! Она со страхом огляделась. Норманнов видно не было. Они ушли совсем? Или вернутся в поисках новой добычи? А если они найдут меня? Джоанна видела, как безжалостны они к женщинам. Где же спрятаться? Она направилась к лесу, окружающему город, сперва медленно, потом бегом, все время ожидая, что ее схватят и перед ней снова появятся страшные металлические маски норманнов. Скрывшись среди деревьев, Джоанна упала на землю. Прошло много времени, прежде чем она заставила себя подняться. Надвигалась ночь. Лес выглядел густым и опасным. Шум листьев пугал ее. Норманны могут быть неподалеку. Следовало убежать из Дорштадта и как-то дать знать Джеральду о том, где она. Мама! Джоанна затосковала о матери, но домой возвращаться было нельзя. Отец не простит ее. Вернись она теперь с известием о смерти его единственного сына, он обязательно отомстит ей. Если бы я была мужчиной! Если бы… Всю жизнь она будет помнить этот момент и размышлять о том, какая сила, добро или зло натолкнуло ее на это. Но теперь думать было некогда. Другой возможности может не представиться. На горизонте сияло багровое солнце. Действовать приходилось незамедлительно. Джоанна отыскала Джона в полутемном соборе на прежнем месте. Он еще не окоченел. — Прости, — прошептала она, расстегивая накидку Джона. Сделав это, Джоанна накрыла брата своим разорванным платьем, закрыла ему глаза, и бережно уложила на пол. Потом она встала, неуверенно поправляя непривычный наряд, и провела пальцами по костяной рукоятке охотничьего ножа, который вынула из-за пояса Джона. Нож отца, старый, с потемневшей и потертой костяной рукояткой, но с острым лезвием. Подойдя к алтарю, Джоанна сняла чепец и опустила волосы на алтарь. Они рассыпались густыми золотистыми волнами на каменной поверхности. Джоанна взялась за нож. Медленно и уверенно она отрезала волосы. Во мраке лунной ночи на пороге разоренного собора появился человек, пристально осматривающий все серо-зелеными глазами. Он осторожно спустился с крыльца собора. В живых не осталось никого, поэтому никто не видел, как Джоанна направилась по дороге в сторону великого монастыря в Фулде. (обратно)
Глава 12

Просторная комната была заполнена людьми. Они прибыли издалека в небольшую вестфальскую деревню! чтобы присутствовать на суде. Люди стояли плечом к плечу, толкаясь и топчась на новых циновках, расстеленных на земляном полу, усыпанном мусором, залитым пивом, заваленным экскрементами животных. В душной тесноте поднимался густой неприятный запах, но никто не обращал на это внимания. Подобные запахи в жизни франков были привычным явлением. Кроме того, внимание толпы сосредоточилось на другом. Все смотрели на рыжего фризского графа, который прибыл с миссией, чтобы разрешить споры и восстановить справедливость от имени короля. Джеральд повернулся к Фрамберту, одному из семи судей, назначенных помогать ему. — Сколько еще на сегодня? Суд начался с первыми лучами солнца, а теперь был полдень. Разбирательства шли уже более восьми часов. Позади высокого стола, где сидел Джеральд, его дружинники устало склонились над своими мечами. Он взял с собой двадцать самых лучших воинов, на всякий случай. После смерти Карла Великого в империи начались беспорядки, и положение королевских миссионеров стало весьма шатким. Иногда им приходилось сталкиваться с неуважением надменных, молодых и сильных местных князей тех, кто не привык, чтобы их поступки обсуждались. Закон превращался в пустой звук, если за ним не стояла внушительная сила. Именно поэтому Джеральд привел такую большую дружину, хотя это означало, что Вилларис остался практически беззащитным. Но крепкая ограда поместья гарантировала безопасность от одиноких воров и бандитов, которые в течение многих лет угрожали только близлежащим хуторам. Фрамберт проверил список жалоб на пергаменте шириной в восемь дюймов, свернутый в свиток длинною в пятнадцать футов. — На сегодня еще три, милорд, — ответил Фрамберт. Джеральд печально вздохнул. Он устал и проголодался. После разбирательства бесконечных жалоб его терпение было на исходе. Очень тянуло в Вилларис, к Джоанне. Джоанна. Он сильно скучал по ней, по ее хрипловатому голосу, густому, глубокому смеху, по ее необыкновенным серо-зеленым глазам, которые смотрели на него с таким пониманием и любовью. Но думать о Джоанне он не должен. Именно поэтому Джеральд согласился отправиться с миссией. Это позволило ему отдалиться от нее и справиться с безудержными эмоциями. — Фрамберт, пригласите следующих, — сказал Джеральд, собравшись с мыслями. Фрамберт поднял свиток и громко, чтобы слышали все, прочел: — Або жалуется на своего соседа Хунальда, который незаконно и без соответствующей компенсации лишает его собственности. Джеральд понимающе кивнул. Ситуация была слишком обычна. При всеобщей безграмотности, люди редко имели опись своего имущества. При отсутствии такой описи все их земли становились доступны для жуликов и фальшивых сделок. Хунальд, крупный, цветущий мужчина, в щегольской красной полотняной рубахе, выступил вперед, чтобы отрицать факт незаконной сделки. — Скотина моя. Дайте мне реликвию. — Он указал на ларец со священными реликвиями, стоявший на высоком столе. — Клянусь перед Богом… — Хунальд эффектно воздел руки к небесам. — На этих священных костях клянусь, что я невиновен. — Коровы принадлежат мне, милорд, а не Хунальду, он сам это знает, — возразил Або, маленький, бедно одетый человек, полная противоположность Хунальда. — Хунальд может клясться, сколько ему угодно. А правда-то одна. — Что, Або, ты сомневаешься в Божественной справедливости? — возмутился Хунальд. В голосе его прозвучало благочестивое негодование, но Джеральд заметил, что триумф преждевремен. — Обратите внимание, господин граф, это богохульство! — У тебя есть доказательства того, что скот принадлежит тебе? — спросил Джеральд Або. Вопрос был задан неверно. У франков не существовало закона, обязующего предоставлять какие-либо доказательства или свидетельства. Хунальд уставился на Джеральда. Куда клонит этот странный фризский граф? — Доказательства? — удивился Або. Надо было подумать. — Ну, в общем, Берта… моя жена… знает их всех по именам, а также все мои четверо детей, потому что привыкли к ним с детства. Им известно, какая из коров брыкается, когда ее доят, а какая предпочитает клевер траве. — Ему в голову пришла еще одна мысль: — Да стоит мне позвать их, как они сразу бегут ко мне, потому что привыкли к моему голосу. — В глазах Або промелькнула искра надежды. — Ерунда! — взорвался Хунальд. — Неужели суд поверит безмозглой скотине, а не священным законам? Требую суда компургации! Принесите ларец со святой реликвией и дайте мне поклясться. Джеральд почесал бороду. Хунальд, обвиняемый, имел право требовать компургации. Бог не позволит принести ложную клятву, возложив руку на священную реликвию. Таким судам император придавал большое значение, но Джеральд сомневался в них. Многие, предпочитая радости бренного мира сомнительным благам загробной жизни, смело поклялись бы в чем угодно. «Пожалуй, и я на это способен, — подумал Джеральд, — особенно если дело того стоит». Ради спасения любимых людей, он солгал бы и поклялся на целой телеге священных реликвий. Джоанна! Снова ее образ встал перед его мысленным взором, но он отогнал его. После работы хватит времени подумать о ней. — Милорд! — шепнул ему Фрамберт, — Могу поручиться за Хунальда. Он хороший человек, щедрый, и обвинение против него несправедливое. Под столом, чтобы никто не видел, Фрамберт показал Джеральду большое серебряное кольцо с аметистом и выгравированным на нем орлом. Он покрутил его вокруг среднего пальца, чтобы Джеральд увидел как оно блестит. — О да, очень щедрый человек, — Фрамберт снял кольцо с пальца. — Хунальд просил передать, что оно ваше, Он признателен вам за поддержку. — На его губах заиграла хитрая улыбка. Джеральд взял кольцо. Такой красивой работы он прежде не видел. Он подержал его в руке, взвешивая и оценивая искусство мастера. — Благодарю, Фрамберт, — ответил он решительно. — Это облегчает принятие решения. Фрамберт широко улыбнулся. Джеральд обратился к Хунальду. — Ты хочешь отдать себя на суд Божий. — Да, милорд. — Хунальд почувствовал себя увереннее, увидев, что Джеральд принял кольцо у Фрамберта. Вперед выступил слуга со священной реликвией в руках, но Джеральд жестом остановил его. — Мы испытаем волю Бога через judicium aquae ferventis. Хунальд и Або растерялись. Как и другие в этой комнате, они не знали латыни. — Ловля в котле, — перевел Джеральд. — Ловля в котле! — Хунальд опешил. Об этом он не подумал. Испытание кипящей водой было распространенным приемом в этой части империи уже несколько лет. — Принесите котел, — приказал Джеральд. Воцарилось напряженное ожидание, но вскоре все оживленно заговорили. Несколько человек побежали в близлежащие дома, чтобы найти котелок кипящей воды. Через несколько минут они вернулись с черным железным котлом, наполненным с кипящей водой. На огне посередине комнаты вода сразу забурлила. Джеральд удовлетворенно кивнул. Учитывая склонность Хунальда к взяткам, можно было взять котелок и поменьше. — Господин граф, я протестую! — От страха Хунальд забыл про приличия. — А как насчет кольца? — Именно об этом я и подумал, Хунальд. — Джеральд показал всем кольцо и бросил его в котел. — По просьбе обвиняемого, это кольцо станет свидетелем Божественного провидения. Хунальд сглотнул слюну. Маленькое и скользкое кольцо чертовски трудно выловить. Но, отказавшись от испытания, он признает свою вину, и ему придется вернуть Або его коров, которые стоили больше семидесяти золотых. Он обругал про себя чужеземного графа, совершенно не понимающего общепринятых правил взаимовыгодных отношений, всегда помогавших ему с прежними судьями. Но, глубоко вздохнув, он все же сунул руку в кипящий котел. Лицо его исказилось от нестерпимой боли, когда кипяток обварил ему руку. Хунальд отчаянно шарил по дну котла в поисках кольца. С его уст сорвался мучительный стон, но, слава Богу, пальцы ухватились за кольцо. Он торжественно вынул руку и показал всем кольцо. — Ааааааааах! — простонала толпа, увидев багровую руку Хунальда, покрывшуюся волдырями. — Десять дней, — объявил Джеральд. — За это время Бог вынесет решение. В толпе послышался шум, но это был не ропот протеста. Закон знали все: если раны Хунальда через десять дней заживут, его невиновность будет доказана, и скот перейдет к нему. Если этого не произойдет, Хунальда обвинят в воровстве, и коров вернут Або, их владельцу. В душе Джеральд сомневался, что раны заживут так быстро. Именно этого он и добивался, потому что слабо верил в невиновность Хунальда. А если даже раны заживут, то в следующий раз он хорошенько подумает, прежде чем воровать соседский скот. Конечно, суд жестокий, но других законов нет, а это лучше, чем ничего. В те смутные века на таких законах держалось правосудие. Если бы их не было, не известно какие дикие правила воцарились бы на земле, карая как слабых, так и сильных. — Объявите следующее дело, Фрамберт. — Элфрик обвиняет Фулрада в отказе выплатить ему законную кровную компенсацию. Дело казалось вполне ясным. Сын Фулрада, Тенберт, шестнадцатилетний юноша, убил молодую женщину, одну из служанок Элфрика. Само преступление обсуждению не подлежало, вопрос состоял в цене компенсации. Закон по выплатам был прописан детально для каждого человека империи, в зависимости от его положения, собственности, возраста и пола. — Она сама виновата, — сказал Тенберт, высокий, рыхлый рябой юноша с угрюмым выражением лица. — Она всего лишь крепостная, и не должна была так сопротивляться мне. — Да он изнасиловал ее, — объяснил Элфрик. — Забрался в мой виноградник и стал приставать к ней. Она была хорошенькая и всего двенадцати зим от роду… еще ребенок, и не понимала, что делает. Она думала, что он хочет обидеть ее. Когда она отказалась подчиниться добровольно, Тенберт избил ее. — В толпе долго шептались, — Элфрик помолчал, дожидаясь тишины. — Она умерла на следующий день, в муках, призывая свою мать. — У тебя нет повода для жалобы, — вступился за сына Фулрад. — Разве я не выплатил тебе компенсацию через неделю, пятьдесят золотых, немалая сумма! А девчонка-то — простая крестьянка! — Девочка умерла и больше не сможет ухаживать за моим виноградником. А ее мать, одна из моих лучших ткачих, помешалась от горя и больше ни на что не годна. Требую справедливую компенсацию в сто золотых динариев. — Какое нахальство! — Фулрад взмахнул руками. — Ваше сиятельство, того, что я дал Элфрику, хватит на покупку двадцати дойных коров, которые, как всем известно, гораздо ценнее, чем одна дохлая девка и ее мать вместе с ткацким станком! Джеральд нахмурился. Торговля внушала ему отвращение. Девочка была почти того же возраста, что и его дочь Дуода. Мысль о том, что этот неприятный, мрачный парень пытался изнасиловать ее, казалась невероятной. Конечно, подобные истории случаются постоянно, любая бедная девушка, сохранившая невинность до четырнадцати лет, была либо везучей, либо уродливой, либо и то и другое. Джеральд не отличался наивностью, и знал закон жизни, но он не нравился ему. На столе перед ним лежал огромный свод законов в кожаном переплете с золотой императорской печатью. В этой книге были записаны законы империи, а также поправки и дополнения к закону, изданному Карлом. Джеральд знал закон и не нуждался в книге. Однако он торжественно раскрыл книгу, чтобы убедиться. Это должно было произвести впечатление на тяжущихся, поскольку он вынесет решение, опираясь на авторитет книги. — Салический закон по этому вопросу выражен очень ясно, — наконец произнес он. — Одна сотня золотых динариев — справедливая компенсация за слугу. Фулрад громко выругался, Элфрик усмехнулся. — Девушке было двенадцать лет, — продолжил Джеральд. — Следовательно, она достигла детородного возраста. По закону, цена ее крови должна возрасти до трех сотен золотых динариев. — Что, судья сошел с ума? — закричал Фулрад. — Эту сумму, — спокойно продолжал Джеральд, — нужно выплатить следующим образом: две сотни золотых Элфрику, законному хозяину девушки, и одну сотню ее семье. — Одна сотня динариев ее семье? — удивился Элфрик. — Слугам? Я хозяин земли, и компенсация за девушку принадлежит мне по праву! — Вы хотите разорить меня? — вмешался Фулрад, слишком поглощенный своими проблемами, чтобы насладиться горем врага. — Три сотни золотых, это же цена воина! Или за священника — Он грозно направился к столу, за которым сидел Джеральд. — Может быть, даже… — В его голосе слышалась угроза. — Может быть, даже за графа! Толпа издала короткий тревожный крик, когда сторонники Фулрада, вооруженные мечами, двинулись к столу. Люди Джеральда тоже выступили вперед, держа руки на рукоятках. Джеральд жестом остановил их. — Именем короля! — прозвучал голос Джеральда. — По этому делу вынесено решение. — Его синие глаза пристально смотрели на Фулрада. — Объявите следующее дело, Фрамберт. Фрамберт не ответил. Испугавшись, он спрятался под стол. Несколько мгновений прошли в полной тишине, даже беспокойная, говорливая толпа смолкла. Джеральд снова сел в кресло, всем своим видом демонстрируя уверенность в том, что делает. Но правая рука его небрежно коснулась рукоятки меча, а пальцы прошлись по холодной стали. Выругавшись и развернувшись на пятках, Фулрад схватил Тенберта за руку и потащил к двери. Люди Фулрада последовали за ним через расступившуюся толпу. В дверях Фулрад дал сыну увесистый подзатыльник. Юноша охнул от боли, и толпа разразилась хриплым, раскатистым смехом. Джеральд хмуро улыбнулся. Если он что-то понимает в людях, то Тенбергу предстоит хорошая порка. Возможно, это его кое-чему научит, а может быть, и нет. Вот только бедной девушке уже ничем не помочь. Но семья все же получит часть компенсации. Тогда они выкупят свою свободу и начнут новую жизнь. Джеральд дал знак своим людям, они вложили мечи в ножны и заняли места позади судейского стола. Фрамберт вылез из-под стола и сел, всем своим видом выражая попранное достоинство. Лицо его побледнело, голос дрожал, когда он зачитывал последнее дело. — Эрмуан, мельник, и его жена жалуются на свою дочь, которая добровольно и вопреки их воле вышла замуж за раба. Снова толпа расступилась, пропуская престарелую пару, седовласого мельника в красивой одежде, свидетельствующей о достатке. За ними вошел юноша в лохмотьях раба и, наконец, молодая женщина с покорно опущенной головой. — Милорд! — Эрмуан заговорил сразу, не дожидаясь разрешения. — Перед вами моя дочь. Хильдегарт, отрада наших сердец, единственный выживший ребенок из восьми. Мы так лелеяли ее, милорд, но, видимо, перестарались, к нашему огорчению. За нашу любовь и доброту она отплатила черной неблагодарностью и непослушанием. — Чего вы ожидаете от суда? — спросил Джеральд. — Конечно выбора, милорд, — удивленно сказал Эрмуан. — Веретено или меч. Она должна выбрать, как того требует закон. Джеральд помрачнел. В его судейской практике был только один похожий случай, и ему не хотелось наблюдать второй. — В законе, как вы заметили, оговорены подобные обстоятельства. Но это кажется слишком жестоким, особенно в отношении той, кого вы растили… так заботливо и нежно. Нет ли другого пути? Джеральдом овладели эмоции. Можно было выкупить юношу из рабства, и он стал бы свободным человеком. — Нет, милорд. — Эрмуан решительно покачал головой. — Что ж, — Джеральд кивнул. Избежать суда невозможно, родители девушки знают закон и потребуют выполнения страшной процедуры. — Принесите веретено, — приказал Джеральд и, обратившись к одному из своих воинов, попросил: — Хунрик, одолжи свой меч, — Он не хотел использовать свой, никогда еще не поражавший безоружного. Джеральд не допустит этого, пока он принадлежит ему. Пока искали в соседних домах веретено, толпа беспокойно роптала. Когда принесли веретено, девушка подняла голову. Отец резко обратился к ней, и она опустила глаза. Но в этот краткий миг Джеральд разглядел ее лицо. Она была прекрасна: огромные янтарные глаза на белоснежном лице, высокий нежный лоб, чувственные губы. Джеральд понимал негодование ее родителей. Такая красавица могла завоевать сердце лорда и приумножить благосостояние семьи. Джеральд положил одну руку на веретено, а другой поднял меч. — Если Хильдегарт выберет меч, — произнес он громко, чтобы услышали все, — то ее муж, раб по имени Ромуальд, умрет на месте от этого меча. Если же она выберет веретено, то сама станет рабыней. И то, и другое было страшно. Однажды Джеральд наблюдал, как другая девушка, далеко не такая красивая, стояла перед таким же выбором. Та девушка выбрала меч и смотрела, как умирал ее любимый. Но что еще могла она сделать? Кто отважится добровольно отдать себя в рабство, и не только себя, но и своих детей и внуков? Девушка стояла молча и неподвижно. Она была совершенно спокойна, пока Джеральд объявлял условия суда. — Понимаешь ли ты важность твоего выбора? — ласково спросил ее Джеральд. — Понимает, милорд, — отозвался Эрмуан, сжав руку дочери. — Она точно знает, что делать. Джеральд отлично представлял себе эту сцену. Решение было вырвано из девушки угрозами, проклятьями, возможно, ее даже били. Охранники, окружившие юношу, схватили его за руки, чтобы он не вырвался. Он смотрел на них с презрением. Лицо у него было приятное: невысокий лоб, обрамленный жесткими волосами, умные глаза, подбородок хорошо очерченный, красивый нос. Несомненно, в его жилах текла римская кровь. Конечно, он был рабом, но человеком отважным. Джеральд велел охранникам отойти. — Ну же, дитя, время настало, — обратился Джеральд к девушке. Отец что-то прошептал ей на ухо. Она кивнула, он отпустил ее руку и подтолкнул вперед. Девушка подняла голову и посмотрела на юношу. Любовь, светившаяся в ее глазах, потрясла Джеральда. — Нет! — Отец попытался остановить ее, но было слишком поздно. Не сводя глаз с мужа, она, не раздумывая, направилась к веретену, села и начала прясть.
* * *
На следующее утро, по дороге в Вилларис, Джеральд думал о том, что случилось. Девушка пожертвовала всем — семьей, достатком, даже свободой. Любовь, которую он увидел в ее глазах, воспалила его воображение и взволновала так глубоко, что он даже не понял этого до конца. Теперь Джеральд точно знал, чего ему хотелось. Он жаждал той чистоты и силы чувств, при которых все прочее казалось бледным и бессмысленным. Для него еще не поздно, да, совсем не поздно. Ему всего двадцать девять. Свою жену, Ричилд, он никогда не любил, да и она не притворялась, что любит его. Она ни за что не пожертвовала бы ради него даже своей расческой. Их брак был тщательно просчитан обеими семьями. Зная этот обычай, Джеральд до недавнего времени не ожидал ничего другого. Когда после рождения Дуоды, Ричилд заявила, что более не хочет детей, он принял это без сожалений. Найти сговорчивую женщину для удовлетворения своих желаний не составляло для него труда. Но теперь, когда появилась Джоанна, все изменилось. Джеральд представлял себе ее прекрасные белокурые волосы, нежно обрамляющие лицо, серо-зеленые глаза, не по возрасту проницательные. Его сердце изнывало от тоски по ней гораздо сильнее, чем от вожделения. Никогда прежде не встречал он такую, как Джоанна, с пытливым умом, стремлением испытать и познать то, что остальные принимали как истину с благоговейным страхом. С ней Джеральд мог разговаривать так, как ни с кем другим. Он полностью доверял ей. Сделать ее своей любовницей было просто. Их последняя встреча на берегу ручья не оставляла в этом никаких сомнений. Но вопреки всему, Джеральд сдержался, ему хотелось чего-то большего, хотя в тот миг он сам не знал этого. Теперь Джеральд понял все. Она нужна ему как жена. Освободиться от Ричилд будет трудно и, несомненно, весьма дорого, но это не имело значения. «Джоанна станет моей женой, если согласится». Приняв решение, Джеральд успокоился и глубоко вздохнул, наслаждаясь восхитительным ароматом весеннего леса и впервые за многие годы чувствуя себя счастливым и обновленным.* * *
Они почти достигли дома. В воздухе низко висело густое облако дыма, мешая Джеральду видеть Вилларис, где ожидала его Джоанна. Он пустил Пестиса галопом. В воздухе неприятно пахло. Дым. Над Вилларисом висел дым. Они беспокойно направились через лес, не обращая внимания на хлеставшие их ветви деревьев, выбрались на открытое место и резко остановили лошадей, смотря перед собой в недоумении. Виллариса больше не было. Под медленно поднимавшимся черным дымом лежало то, что осталось от дома, который они покинули совсем недавно. — Джоанна! — крикнул Джеральд. — Дуода! Ричилд! — Удалось ли им бежать, или они погибли, похороненные под обугленными развалинами? Его люди достигли уже центра пепелища. Они пытались найти хотя бы что-нибудь: обрывок одежды, кольцо, головной убор. Некоторые из них плакали, опасаясь найти под обломками то, что искали. С одной стороны, под грудой почерневших бревен, Джеральд увидел то, от чего сердце его оборвалось. Это была нога человека. Джеральд растаскивал бревна так усердно, что его руки начали кровоточить, но он не замечал этого. Постепенно удалось вытащить тело. Мужчина обгорел до неузнаваемости, но по амулету на шее Джеральд понял, что это Андульф, один из стражников. В правой руке он держал меч. Джеральд наклонился и хотел взять оружие, но рука мертвого человека не выпускала его. В огне рукоятка меча расплавилась и слилась с человеческой плотью. Андульф погиб в бою. Но с кем? Джеральд осмотрел окрестности опытным глазом воина. Вокруг не было ничего, что приоткрыло бы завесу тайны над случившимся. — Милорд! — Его люди отыскали тела еще двух стражников. Так же как и Андульф, они погибли с оружием в руках. Дальнейшие поиски ни к чему не привели. В доме больше никого не было. Где же все? В Вилларисе оставалось более сорока человек, не могли же они исчезнуть без следа! В сердце Джеральда появилась надежда. Джоанна жива, она должна быть жива. Возможно, она где-то рядом, скрывается в лесу со всеми остальными, или же они убежали в город! Он вскочил в седло, призвав своих людей. Они галопом направились в город и замедлили шаг, добравшись до пустынных улиц. Джеральд и дружинники молча разъехались, чтобы осмотреть длинные ряды безмолвных домов. Джеральд взял с собой Ворада и Амалвина и направился к собору. Тяжелые дубовые двери болтались на сломанных петлях. Они устало спешились и подошли к собору, держа наготове мечи. Поднявшись на крыльцо, Джеральд наступил на что-то скользкое. На деревянном полу растеклась лужа потемневшей крови. Джеральд вошел внутрь. На миг темнота милосердна скрыла от него страшную картину, но постепенно он увидел все. Стоявшего позади него Амалвина чуть не стошнило. Джеральда тоже мутило, но он заставил себя войти, закрыв нос и рот рукавом. Было трудно пройти, не наступив на мертвое тело. Он услышал, как выругались Ворад и Амалвин. Джеральд продолжал поиски среди окоченевших трупов. Возле алтаря он нашел свою семью и слуг. Здесь был капеллан Вала и слуга Видо. Рядом, обняв своего младенца, лежала служанка Ирминон. Не муж Ворад, увидев их, взвыл, как зверь. Упав на колени, он обнял их, ощупывая раны и пачкая одежду их кровью. Джеральд отвернулся. Его взгляд привлек знакомый блеск серебра и изумрудов. Диадема Ричилд. Его жена лежала на спине, укрытая рассыпавшимися черными волосами, словно саваном. Подняв диадему, он хотел возложить ее на голову Ричилд, но голова покачнулась и откатилась в сторону. Джеральд вздрогнул и, отпрянув, наступил на другое тело, едва не упав. У его ног лежала Дуода, скорчившись, словно пытаясь уклониться от удара. Со стоном Джеральд упал на колени рядом с дочерью и стал нежно гладить ее по мягким детским волосам. Уложив ее поудобнее, он поцеловал дочь в щеку и закрыл остекленевшие глаза. Как это несправедливо! Она должна была когда-нибудь сделать это. Джеральд мрачно поднялся и продолжил поиски, Джоанна должна быть где-то здесь. Ее необходимо найти. Он метался по залу, заглядывая в мертвые лица и узнавая почти в каждом соседей, жителей города, но Джоанны среди них не было. Неужели она каким-то чудесным образом избежала этой участи? Возможно ли такое? Джеральд не смел надеяться. Она обыскал помещение еще раз. — Милорд! Милорд! — послышались голоса снаружи. Джеральд вышел на крыльцо, когда подъехали его люди. — Норманны, милорд! Там на реке! Грузят свои корабли… Джеральд поспешил к Пестису. Они поскакали к реке во весь опор, не раздумывая ни минуты, одержимые жаждой мести. За изгибом реки стоял плоскодонный корабль с высоким носом в виде головы дракона с раскрытой пастью и кривыми клыками. Большинство норманнов были уже на борту, и лишь несколько воинов оставались на берегу, пока грузилось последнее награбленное добро. Издав яростный боевой крик, Джеральд с копьем бросился вперед. Его дружина не отставала. Спешившиеся норманны разбегались в стороны, уклоняясь от ударов; несколько человек завопили от боли, попав под копыта лошадей. Джеральд выхватил дротик и нацелился на огромного норманна в золотом шлеме. Верзила развернулся, подняв щит, и дротик вонзился в него. Вдруг в воздухе замелькали стрелы норманнов. Пестис отскочил назад и рухнул на землю. Стрела пробила ему глаз. Джеральд, спрыгнув с седла, неловко приземлился на левую ногу. Он выхватил меч и ринулся на гиганта, который пытался вытащить дротик из щита. Джеральд наступил на рукоятку дротика, пока норманн возился на земле, откинув щит в сторону. Верзила с удивлением взглянул на него и замахнулся топором, но было слишком поздно. Одним ударом Джеральд пронзил его сердце. Не дожидаясь, пока он упадет, Джеральд развернулся и рассек голову другого норманна. Кровь брызнула Джеральду в лицо, и ему пришлось вытереть глаза. Теперь он находился в центре сражения и неистово размахивал мечом. Злоба, накопившаяся за последний час, вырвалась наружу. Джеральд жаждал крови. — Они уходят! Они уходят! — послышались крики его людей. Он посмотрел в сторону реки и увидел, как полощется на ветру красный парус уплывающего корабля. Норманны бежали. В нескольких шагах от Джеральда нервно перебирал ногами гнедой конь с черной гривой. Джеральд вскочил в седло. Конь испугался и встал на дыбы, но Джеральд осадил его, крепко вцепившись в поводья. Конь резко развернулся и направился к берегу. Крикнув своим людям, чтобы следовали за ним, Джеральд вошел в воду. На седле болталось копье. Джеральд выхватил его и метнул с такой силой, что чуть не упал с коня. Копье пролетело, блеснув стальным наконечником, и упало в воду рядом с оскалившейся мордой дракона. С корабля донесся раскат дружного хохота. Норманны что-то выкрикивали на своем гортанном языке. Двое из них показывали Джеральду какой-то блестящий сверток, но это был не сверток, а женщина, беспомощно висевшая между ними, женщина с каштановыми волосами. — Гилза! — выкрикнул Джеральд, узнав дочь. Что она там делает? Ей нужно быть дома с мужем. Гилза подняла голову. — Папа! — закричала она. — Папа-а-а-а-а! — Ее крик пронзил его сердце. Джеральд хлестнул гнедого, но тот лишь заржал и попятился, отказываясь идти в темную воду. Сильный удар мечом по крупу лишь испугал коня, он заметался, колотя по воде копытами. Менее опытный всадник вылетел бы из седла, но Джеральд удержался и заставил коня подчиниться. — Милорд! Милорд! — Люди Джеральда собрались вокруг него, схватили коня под уздцы и потащили на берег. — Бесполезно, милорд, — сказал Джеральду его помощник Грифо. — Мы больше ничего не можем сделать. Красные паруса викингов ветер уже не трепал, но, наполнив их, уносил корабль далеко от берега. Преследовать их было невозможно, вокруг ни одной лодки, даже если бы Джеральд и его люди умели управлять ею. Б землях франков корабельное искусство забыли давным-давно. Молча Джеральд позволил Грифо вывести коня на берег. Крик Гилзы все еще звенел у него у ушах. Папа-а-а-а-а! Он потерял ее, потерял навсегда. Случаи похищения девушек норманнами бывали часты в государстве франков, но Джеральд никогда не представлял себе, что… Джоанна! Мысль поразила его как стрела и застучала в висках. Они и ее забрали! Джеральд снова заметался в поисках решения, но ни к чему не пришел. Варвары похитили Джоанну и Гилзу, обрекли на чудовищные мученья, и ничего, совершенно ничего нельзя сделать, чтобы спасти их. Взгляд его упал на одного из убитых норманнов. Джеральд спрыгнул с коня, выхватил из руки убитого длинный топор и стал в отчаянии рубить бездыханное тело так, что оно подпрыгивало с каждым ударом. Джеральд не мог остановиться, снова и снова поднимая топор, заливаясь кровью врага. Двое его людей попытались усмирить Джеральда, но Грифо остановил их. — Нет, — сказал он печально, — не мешайте ему. Через несколько минут Джеральд выронил топор и упал на колени, закрыв лицо руками. От теплой крови пальцы склеились, к горлу подступил ком, и он разрыдался. (обратно)Глава 13

КОЛМАР
24 нюня 833 года ПОЛЕ ЛЖИ
Настасий откинул полог в шатер Папы и осторожно вошел. Папа Григорий IV все еще молился. Он стоял на коленях на шелковых подушках, лежащих перед изумительной красоты изваянием Христа из слоновой кости. После опасного перехода по разбитым дорогам и мостам через высокие Альпы на этом сокровище не появилось ни единой царапины, и теперь, в чужой франкской земле в грубом шатре, оно сияло так же, как в уютной часовне Григория в Латеранском соборе в Риме. — Deus illuminatio mеа, Deus optimus et maximus, — истово молился Григорий. Молча глядя на него с порога шатра, Анастасий думал: был ли я когда-либо так же чист в своей вере? Возможно, только в самом раннем детстве, Но детская наивная вера умерла в тот день, когда дядю Теодора жестоко убили на его глазах в Латеранском дворце. «Смотри, — сказал ему отец тогда. — И учись». И Анастасий смотрел и учился скрывать свои истинные чувства, прикрываясь хорошими манерами, учился манипулировать и обманывать, даже предавать. Анастасий был уже хранителем гардероба, самым молодым из тех, кто когда-либо занимал столь высокое положение. Его отец Дрсений очень гордился сыном. Анастасий стремился, чтобы отец гордился им еще больше. — Господи Иисусе, дай мне мудрости на сей день, — продолжал Григорий. — Укажи мне, как избежать этой неправедной войны и помирить мятежных сыновей с их отцом императором. Возможно ли, что он до сих пор не догадывается, как не повезет ему сегодня? Анастасию не верилось в это. Папа безнадежно наивен. Девятнадцатилетний Анастасий был почти вдвое моложе Григория, но знал об этом мире гораздо больше. «Он не должен быть Папой». Эта мысль посетила Анастасия уже не в первый раз. Конечно, Григорий человек набожный, но нельзя переоценивать благочестивость. Характер его больше подходит для жизни в монастыре, чем для папского Двора, чья тонкая политика была за пределами понимания Григория. О чем только думал король Людовик, когда пригласил Григория проделать столь долгий путь из Рима в землю франков и стать посредником? Анастасий громко кашлянул, чтобы привлечь внимание Григория, но тот, поглощенный молитвой, смотрел на изваяние Христа. — Пора, ваше святейшество. — Анастасий, не колеблясь, прервал молитву Папы, потому что, она длилась уже более часа, его уже ожидал король. Вздрогнув, Григорий обернулся. Увидев Анастасия, он кивнул, перекрестился и встал, поправив широкое пурпурное облачение, надетое поверх папского далматика. — Вижу, облик Христа укрепил вас, ваше святейшество. — Анастасий помог Григорию надеть мантию. — Я тоже почувствовал его силу. — Да, он грандиозен, не так ли? — Конечно. Безусловно, он совершенен. Помните фразу из Первого Послания Коринфянам: «И глава Христа есть Бог». Превосходно сказано о том, что Христос соединяет в Себе два начала, божественное и человеческое. Григорий одобрительно улыбнулся. — Ты замечательный хранитель гардероба, твоя красноречивая речь полна вдохновения. Анастасий был польщен. Подобная похвала Папы означает новое повышение, возможно, до казначея. Да, он молод, верно, но такие высокие мечты вполне соответствуют его амбициям, На самом деле все это лишь этапы на пути к единственной цели Анастасия: он стремился стать Папой Римским. — Вы переоцениваете меня, сир. — Тон Анастасия должен был выражать скромность. — Вашей похвалы заслуживает безупречность скульптуры, а не мои недостойные слова. Григорий улыбнулся. — Сказано с искренней любовью. — Он ласково похлопал Анастасия по плечу и серьезно добавил: — Сегодня, Анастасий, нам предстоит сделать богоугодное дело. Анастасий всмотрелся в лицо папы. Он ни о чем не подозревает. Боже! Очевидно, Григорий верил, что способен восстановить мир между королем и его сыновьями, и не догадывался о тайных приготовлениях, которые Анастасий старательно и тихо провел, следуя подробным инструкциям отца. — Завтра на рассвете эта многострадальная земля обретет мир, — сказал Григорий. «Вполне соответствует истине, — подумал Анастасий. — Хотя мир будет не совсем тот, каким ты его представляешь». Если все пройдет, как запланировано, утром король проснется и узнает, что его войско исчезло, а он остался беззащитным перед армиями своих сыновей. Обо всем успели договориться и за все заплатили. Что бы ни сказал и ни сделал сегодня Григорий, ничего не изменится. Папа должен выступить в качестве посредника. Переговоры с Григорием в этот решительный момент отвлекут внимание короля. Пожалуй, разумно немного приободрить Григория. — Сегодня вы совершаете великое дело, ваше святейшество, — сказал Анастасий, — Господь будет взирать на вас с улыбкой. Григорий кивнул. — Знаю, Анастасий. В этот момент гораздо больше, чем когда-либо. — Вас назовут Григорием Миротворцем. Григорием Великим! — Нет, Анастасий, — возразил Григорий, — если я преуспею сегодня, это будет заслуга Бога, а не моя. Ныне решается будущее империи, от которой зависит безопасность Рима. Если мы победим, это будет только Его заслуга. Самоотверженная вера Григория восхитила Анастасия. Такую веру он считал чудом природы, подобным шестому пальцу на руке. Григорий истинно праведный человек, решил Анастасий. Но при таких талантах, у него есть все основания быть праведным. — Проводи меня в шатер короля, — попросил Григорий. — Хочу, чтобы ты находился рядом, когда я буду разговаривать с ним. «Все идет гладко, — подумал Анастасий. — Когда это закончится, останется только вернуться в Рим и ждать». Как только Лотар будет коронован, сменив отца, он наградит Анастасия за то, что он сделал. Григорий подошел к двери шатра. — Ну что ж, приступим к тому, что должны сделать. Они вышли на открытое место, где теснились палатки королевской армии. Едва верилось, что наутро от этой красочной суеты не останется и следа. Анастасий попытался представить себе выражение лица Людовика, когда он выйдет из шатра и увидит перед собой пустое поле. Миновав королевскую охрану, они приблизились к шатру. Григорий остановился и еще раз прочитал молитву. Анастасий нетерпеливо ждал, пока полные, женственные губы Григория беззвучно произносили слова пятого псалма: «…intende voci clamoris mei, rex meus et Deus meus…» Благочестивый дурак. В этот момент презрение Анастасия к Папе настолько усилилось, что он опасался, как бы голос не выдал его. — Не пора ли нам войти, сир? Григорий поднял голову. — Да, Анастасий, я готов. (обратно)Глава 14

ФУЛЬДА
В предрассветном сумраке братья из монастыря в Фульде медленно спускались цепочкой по темным ступеням во внутренний дворик храма. Их серые рясы почти сливались с ночной темнотой. Б полной тишине раздавалось лишь едва слышное шлепанье сандалий из грубой кожи. До пробуждения жаворонков оставалось еще несколько часов. Братья поднялись на клирос и разошлись по своим местам перед началом ночной службы. Брат Иоанн Англиканец преклонил колени вместе со всеми. Он ерзал на земляном полу, подыскивая удобное Положение. — Domine labia mea aperies… — начали они первый псалом, потом перешли ко второму, следуя порядку, установленному Святым Бенедиктом во времена его благословенного правления. Иоанну Англиканцу очень нравились эти ранние службы. Неизменность церемонии освобождала ум для размышлений, пока губы шептали знакомые слова. Некоторые из братьев уже начали клевать носом, но Иоанну Англиканцу спать совсем не хотелось. Все его чувства и мысли были открыты этому сокровенному миру, озаренному огнем свечей и окруженному крепкими стенами монастыря. Чувство принадлежности, единства было особенно сильно в эти ночные часы. Резкие очертания дня, так явно открывающие индивидуальные особенности братьев, их симпатии и антипатии, привязанности и вражду, растворялись в молчаливых сумерках и монотонности глуховатого хора голосов посреди ночной тишины. Те Deum laudamus… Иоанн Англиканец пропел Аллилуйя вместе с другими монахами, склонившими головы в капюшонах. Но Иоанн Англиканец был иным. Он не принадлежал к этому новому и особенному братству. И дело было не в его умственных способностях или характере. Не причуда судьбы и не прихоть жестокого, безразличного Бога противопоставили Иоанна Англиканца остальным. Он не принадлежал к братству монастыря в Фульде, потому что был женщиной, рожденной в Ингельхайме под именем Джоанна.С тех пор как Джоанна постучала в ворота аббатства, выдав себя за своего брата Джона, прошло четыре года. Прозвище «Англиканец» она получила как дочь (сын) англичанина, и даже среди этих умнейших людей проявила себя как выдающаяся личность. Те свойства ума, которые вызывали всеобщие насмешки и презрение, когда Джоанна жила под женским именем, здесь ценились очень высоко. Ее ум, знание Священного Писания и сообразительность в ученых спорах восхищали братство. Она могла без чьего-либо позволения развивать свои способности в полной мере. Среди новичков Джоанна сразу продвинулась, что открыло ей доступ в обновленную библиотеку Фульды — огромное хранилище более трехсот пятидесяти рукописных книг, включая выдающиеся собрания таких классических авторов, как Светоний, Тацит, Вергилий, Плиний, Марцелин и других. Ей доставляло истинное наслаждение находиться среди аккуратных свитков. Казалось, здесь собрана вся мудрость мира, и все было ей доступно. Однажды, застав Джоанну зачтением трактата Святого Хризостома, настоятель Джозеф очень удивился, что она знает греческий. Такими знаниями не обладал ни один из братьев в монастыре. Об этом доложили аббату Рабану, и тот немедленно засадил ее за перевод превосходного собрания греческих трактатов по медицине, куда входили пять из семи книг Гиппократа, полный тетрабиблос Аэция, а также фрагменты работ Орибасия и Александра Тралльского. Брата Бенжамина, монастырского лекаря, так восхитила работа Джоанны, что он сделал ее своей ученицей. Он научил Джоанну выращивать целебные травы в монастырском саду и открыл тайны их применения при различных недугах: сладкий укроп при запорах, горчица при кашле, кервель при геморрое, ивовая кора и полынь при лихорадках. В саду Бенжамина были средства от любого недуга. Джоанна помогала ему составлять различные припарки, слабительные, микстуры, и настойки, которыми пользовались в монастырях в те времена. Ей приходилось помогать ему ухаживать за больными в монастырском лазарете. Работа очень нравилась Джоанне, особенно потому, что давала пищу ее пытливому аналитическому уму. Помимо занятий и работы с братом Бенжамином и в промежутках между семью дневными молитвами, на которые созывал монахов звон колокола, каждая минута ее жизни была заполнена интересным занятием. В мужской жизни Джоанны, в отличие от прежней, была свобода. И ей это чрезвычайно нравилось. — Возможно, не стоит говорить тебе этого, чтобы ты не зазналась, — сказал ей привратник Хатто накануне, весело улыбаясь своей шутке, — но вчера я слышал, как наш отец Джозеф сказал, что ты самый умный из всех братьев и однажды прославишь всех нас. В памяти Джоанны возникли слова старой прорицательницы на ярмарке в Сэн-Дэни: «Тебе суждено стать великой, ты превзойдешь свои мечты». Не это ли имела она в виду? Старуха назвала ее «Дитя эльфов» и добавила: «Ты та, кем тебе не быть, но та, кем станешь ты, не та, кто ты есть». «Определенно, она была права», — грустно подумала Джоанна, погладив себя по тонзуре, выбритой у нее на макушке и почти незаметной в густых кудрявых белокурых волосах. Единственной гордостью Джоанны были унаследованные от матери волосы. Тем не менее она радовалась, что ее побрили. Монашеская тонзура и шрам на щеке, оставленный мечом норманна, только усиливали ее сходство с мужчиной. Впервые появившись в Фульде, она испытывала постоянный страх, что какое-то непредвиденное обстоятельство монастырской жизни вдруг разоблачит ее. Джоанна старательно имитировала поведение мужчин, но боялась выдать себя в мелочах, хотя никто ничего не заподозрил. К счастью, порядок жизни в Бенедиктинском монастыре всеми способами оберегал скромность его каждого члена, как аббата, так и послушников. Длинные просторные рясы бенедиктинцев полностью скрывали ее женские формы. Но на всякий случай Джоанна все же перетягивали грудь плотными холщевыми лоскутами. Закон Святого Бенедикта требовал, чтобы братья спали в рясах. Им позволялось оставлять открытыми только руки и ноги даже в самые жаркие летние ночи. Мыться в ванных было запрещено всем, кроме тяжело больных. Даже монастырские уборные были устроены так, что целомудрие монахов не могло пострадать никоим образом, благодаря перегородкам между холодными каменными стульчаками. По дороге из Дорштадта в Фульду Джоанна научилась скрывать свои месячные с помощью толстой прокладки из хорошо впитывающих кровь листьев, которые она потом закапывала. В монастыре же Джоанна выбрасывала эти листья в глубокие темные дыры уборной, где они смешивались с экскрементами. В Фульде все приняли ее за мальчика. Это была большая удача, поскольку разоблачение, означало бы неминуемую гибель. Именно эти опасения заставляли Джоанну поначалу отказаться от попыток разыскать Джеральда. Она не смела довериться никому, чтобы передать ему весточку, и покинуть монастырь тоже не могла, поскольку была новичком и за ней следили круглосуточно. Часами лежала Джоанна без сна на узкой койке в общей спальне, мучаясь сомнениями. Даже если бы она передала Джеральду весть о себе, захочет ли он увидеться с ней? Тогда, на берегу ручья, она страстно желала, чтобы он любил ее, при воспоминании об этом румянец заливал ее лицо, но он не посмел. Потом, на пути домой, Джеральд держался отчужденно и холодно, словно сердился. Тогда он воспользовался первой же возможностью и исчез. «Не стоит воспринимать его слишком серьезно, — сказала ей Ричилд. — Ты лишь новая бусинка в длинном ожерелье любовных побед Джеральда». Тогда Джоанна отказывалась поверить в это, но, возможно, Ричилд сказала ей правду. Глупо рисковать всем, даже жизнью, ради того, чтобы встретиться с мужчиной, которому она безразлична. Возможно, он никогда не питал к ней никаких чувств. Но все же…
Уже через три месяца жизни в Фульде произошло то, благодаря чему Джоанна приняла окончательное решение. Проходя в монастырь через амбарный двор в толпе новичков, она обратила внимание на оживленную сцену у ворот. В них въехала кавалькада всадников и элегантная женщина в богатом золотистом шелковом платье, грациозно сидевшая в седле. Как она была прекрасна! Нежное овальное лицо обрамляли волнистые светло-каштановые волосы, а в темных умных глазах светилась таинственная печаль. — Кто она? — спросила заинтригованная Джоанна. — Юдифь, жена виконта Вайфара, — ответил брат Рудольф, староста новичков. — Образованная женщина. Говорят, она пишет и читает на латыни, как мужчина. — Deo, juva nos. — Брат Гайло опасливо перекрестился. — Она ведьма? — Она слывет великой праведницей. Даже сама написала комментарии к жизни Святой Эстер. — Мерзость, — отрезал брат Томас, один из новичков. Простоватый молодой человек с овальным лицом, заячьей губой и тяжелыми веками, он свято верил в свою добродетель и не упускал случая проявить ее. — Ужасная ошибка природы. Что может знать о таких вещах женщина, существо низменное? Господь обязательно накажет ее за подобную наглость. — Уже наказал, — ответил брат Рудольф. — Хотя виконту очень нужен наследник, его супруга бездетна. Всего месяц тому назад она родила еще одного мертвого ребенка. Благородная процессия остановилась перед аббатской церковью. Джоанна наблюдала, как Юдифь сошла с коня и с печальным достоинством приблизилась к церковной двери, держа в руке свечу. — Не смотри так, брат Иоанн, — озабоченно предупредил Томас. Он частенько подлизывался к брату Рудольфу. — Хороший монах должен стыдливо опускать глаза перед женщиной, — ханжески процитировал он правило. — Ты прав, брат, — отозвалась Джоанна. — Но я никогда раньше не видел женщины, у которой один глаз голубой, а другой карий. — Не соединяй свою греховность с ложью, брат Иоанн. У этой леди оба глаза карие. — А откуда ты знаешь, брат, — лукаво спросила Джоанна, — если ты на нее не взглянул? Монахи рассмеялись. Даже брат Рудольф не смог подавить улыбки. Томас злобно посмотрел на Джоанну. Она выставила его дураком, но он был не из тех, кто прощает обиды. Их внимание привлек брат Гилдвин, ризничий церкви. Он поспешил преградить путь Юдифь. — Мир вам, леди, — сказал он на просторечии. — Et cum spiritu tuo, — ответила она ему на безупречной латыни. Брат Гилдвин нарочно обратился к ней так. — Если вам нужна пища и кров, мы всегда готовы предоставить их. Извольте пройти в дом для высокопоставленных гостей. Я извещу господина аббата о вашем прибытии. Несомненно, он пожелает приветствовать вас лично. — Вы чрезвычайно добры, отец. Но я не намерена останавливаться у вас, — снова ответила она на латыни. — Поставлю свечку в церкви за моего усопшего ребенка я продолжу свой путь. — Ах. Тогда как ризничий считаю долгом сообщить вам, дочь моя, что вы не должны входить в эти двери, пока еще… — он поискал нужное слово, — пока еще не очистились. Юдифь зарделась, но сохранила спокойствие. — Я знаю правила, отец, — спокойно произнесла она. — Я выждала необходимые тридцать три дня с момента родов. — Вы родили девочку, не так ли? — снисходительно осведомился брат Гилдвин. — Да. — Тогда для полного… очищения… нужно больше времени. Вы не можете входить в священное здание церкви в течение шестидесяти шести дней после родов. — Где это написано? Я об этом не читала. — А вам и не следовало читать, если вы женщина. Джоанна была потрясена дерзостью священника. Памятуя о своих унижениях, она глубоко прочувствовала всю глубину унижения Юдифи. Образованность женщины, ее ум, воспитание ничего не значили. Самый ничтожный попрошайка, безграмотный и грязный мог войти в церковь и помолиться, но для Юдифь путв был закрыт только потому, что она была «нечистой». — Возвращайся домой, дочь моя, — продолжал 6parfr Гилдвин, — и молись в своей часовне за душу твоего некрещеного ребенка. Господь не ирнемлет всего, что противно природе. Откажись от книг и возьми в руки иглу, как пристало женщине. Покайся в своей гордыне, и Он снимет бремя, которое возложил на тебя. Юдифь вспыхнула. — Такое оскорбление не сойдет вам с рук. Мой супруг узнает об этом немедленно, и ему это не понравится. — Это не возымело действия, поскольку в этих краях имя виконта Вайфара ничего не значило, и Юдифь об этом знала. Высоко вскинув голову, она пошла к своему коню. Джоанна направилась к ней. — Дайте мне вашу свечу, леди. — Она протянула руку. — Я поставлю ее за вас. В красивых глазах Юдифи мелькнуло удивление и недоверие. Неужели это еще одна попытка унизить ее? Долгое время женщины стояли, глядя друг на друга. Юдифь, воплощение женской красоты, с длинными волосами, прелестно обрамлявшими ее лицо, и Джоанна, высокая, мужеподобная, в простой монашеской рясе. Что-то в пристальных серо-зеленых глазах, смотревших на нее, тронуло Юдифь, и она молча дала свечу Джоанне. Затем села на коня и ускакала. Джоанна зажгла свечу перед алтарем, как обещала. Ризничий был в ярости. — Неслыханная наглость! — заявил он. И в ту ночь, к удовольствию брата Томаса, Джоанне приказали поститься в наказание за преступление.
После этого случая Джоанна окончательно решила забыть про Джеральда. Она никогда не была бы счастлива, посвятив себя ограниченной условностями жизни женщины. Кроме того, Джоанна убедила себя, что с Джеральдом у нее все равно ничего не получилось бы. Она еще ребенок, неопытный и наивный. Ее любовь была лишь романтической иллюзией, плодом одиночества и безысходности. Несомненно, Джеральд не любил ее, иначе никогда не покинул бы. «Aegra amans, — подумала она. — Воистину, Вергилий был прав: любовь всего лишь разновидность болезни». Она меняет людей, заставляет их вести себя странно и нерационально. Джоанна радовалась, что навсегда покончила с этим. «Никогда не отдавайся мужчине», — вспомнила она предупреждение матери. В детском страстном увлечении Джоанна забыла про него. Теперь Джоанна поняла, как ей повезло, что она избежала материнской участи. Снова и снова Джоанна повторяла себе эти слова, пока наконец не поверила в них. (обратно)
Глава 15

Братья собрались в покаянном доме, рассевшись по старшинству на границах, ярусных каменных сиденьях вдоль стен. В этом помещении происходили все самые важные религиозные события, здесь обсуждались текущие дела, решались административные, финансовые вопросы, велись диспуты. Здесь также каялись в совершенных грехах и нарушениях, за них определялись наказания или выслушивались обвинения других монахов. Джоанна всегда приходила сюда с трепетом в душе, опасаясь ненароком, неосторожным словом или жестом выдать себя. Если ее тайна будет раскрыта, она узнает об этом именно здесь. Собрание всегда начиналось с чтения главы из Правил Святого Бенедикта. По этой книге устанавливалась ежедневная духовная и бытовая жизнь монастыря. Правило зачитывали от начала до конца, каждый день по одной главе, чтобы в течение года монахи полностью ознакомились с ее содержанием. После чтения и благословления аббат Рабан спросил: — Братья, есть ли у вас грехи, в которых должно признаться? Не успел он закончить фразу, как брат Тедо вскочил. — Отец, я хочу признаться. — В чем, брат? — устало и обреченно произнес аббат Рабан. Брат Тедо всегда первым признавался в своих ошибках. — Я плохо выполнил свое задание. Переписывая житие Святого Амандуса, я заснул. — Опять? — Аббат Рабан изогнул бровь. Тедо понурил голову. — Отец, я грешен и ничтожен. Пожалуйста, назначьте мне самое тяжкое наказание. Аббат Рабан вздохнул. — Хорошо, В течение двух дней ты будешь каяться перед церковью. Монахи вяло заулыбались. Тедо так часто видели кающимся перед церковью, что он превратился в неотъемлемую часть ее украшения, в живое изваяние угрызений совести. Тедо был сильно разочарован. — Вы слишком милостивы, отец. За такой тяжкий проступок прошу о недельном наказании. — Господь не приветствует гордыни, Тедо, даже в страданиях. Помни об этом, прося о Его прощении за твои другие грехи. Эти слова попали в цель. Тео покраснел и сел на место. — Есть ли еще грехи? — спросил Рабан. Встал брат Хунрик. — Дважды я опоздал на ночное бдение. Аббат Рабан кивнул; медлительность Хунрика была известна, но он признался в своем проступке, не пытаясь скрыть его, поэтому наказание будет легким. — Отныне, до дня Святого Дэни, ты будешь бдеть по ночам. Брат Хунрик опустил голову. Праздник Святого Дэни всего через два дня. В течение двух ночей он должен не спать, следя за движением луны и звезд на небосклоне, чтобы как можно точнее определить приближение девятого часа, или двух часов ночи, а затем разбудить монахов для ночной службы. Это было чрезвычайно важно, поскольку время определялось только по солнечным часам, и конечно же по ночам от них не было никакой пользы. — Во время бдения, — продолжил Рабан, — постоянно молись, стоя коленями на крапивном снопе. Он будет напоминать тебе о твоей лености и предостережет от греховной сонливости. — Да, отец. — Брат Хунрик покорно принял приговор. За такой тяжкий проступок наказание могло быть хуже. По очереди вставали еще несколько монахов и каялись в таких мелких грехах, как разбитая посуда в трапезной, ошибки в чистописании, риторике и принимали наказание со всей кротостью. Когда они закончили, аббат Рабан помолчал, убедившись, что желающих больше нет. Потом спросил: — Есть ли другие грехи? Теперь пусть выскажутся те, кто обеспокоен спасением душ своих братьев. Этого Джоанна боялась всегда. Внимательно глядя на ряды монахов, она остановилась на брате Томасе. Его глаза с тяжелыми веками, смотрели на нее с нескрываемой враждебностью. Джоанна поежилась. Не собирается ли он в чем-то обвинить меня? Но Томас так и не встал. Поднялся брат Одило, сидевший в следующем ряду. — В постную Пятницу я видел, как брат Хуг взял в саду яблоко и съел его. Брат Хуг нервно вскочил. — Отец, это верно, я сорвал яблоко. Было очень трудно полоть сорняки, и я сильно ослаб. Но, святейший отец, я не съел яблоко, а откусил от него лишь маленький кусочек, чтобы набраться сил для работы. — Слабость плоти не оправдывает нарушения правил, — резко ответил аббат Рабан. — Это испытание ниспослано Богом, чтобы проверить силу веры. Подобно Еве, матери греха, ты не выдержал этого испытания, брат. Серьезное прегрешение, особенно потому, что ты не отважился признаться сам. В наказание ты будешь поститься в течение недели, отказавшись от всякой пищи до дня Богоявления. Неделя голодания были привычным наказанием для монахов. Они и без того питались лишь овощами, травами, бобами и только иногда рыбой до самой праздничной литургии! Эта неделя будет наиболее трудной, потому что в это время со всей округи в монастырь поступали продуктовые пожертвования, поскольку христиане каялись в своей сытости и опасались за свою душу. Медовые пироги, всевозможные пирожки, аппетитные жареные цыплята и прочие вкусные блюда на короткое время украсят столы аббатства. Брат Хуг свирепо взглянул на брата Одило. — Креме того, — продолжил аббат Рабан, — в благодарность брату Одило за его заботу о твоем духовном благополучии, ты сегодня ночью падешь ниц перед ним и кротко омоешь его ноги. Брат Хуг опустил голову. Он сделает так, как велел аббат Рабан, но Джоанна сомневалась, что с благодарностью. Наказание тела вынести легче, чем наказание души. — Есть ли другие прегрешения, о которых необходимо сказать? — спросил аббат Рабан. Все молчали, и он мрачно произнес: — Должен сообщить, что среди нас есть тот, кто погряз в грехе, в преступлении, омерзительном пред Богом и Небесами… — Сердце Джоанны дрогнуло. — В нарушении святой клятвы, данной Богу. С места вскочил брат Готшалк. — Отец, это была клятва моего отца, а не моя! — задыхаясь произнес он. Готшалк был молодым человеком, всего года на два или три старше Джоанны, с кудрявыми черными волосами и так глубоко посаженными глазами, что они казались двумя темными синяками. Подобно Джоанне, он был завещан монастырю с рождения отцом, саксонским аристократом. Теперь, став взрослым мужчиной, он решил покинуть монастырь. — Совершенно законно, когда христианин посвящает своего сына Богу, — решительно заявил аббат Рабан. — От такого пожертвования невозможно отказаться, не согрешив. — Не равный ли грех удерживать человека вопреки его природе и воле? — Если человек не оглянется, он обнажит свой меч, — высокопарно произнес аббат Рабан. — Он преклонит свой меч в ожидании. Он приготовит орудие убийства. — Это насилие, а не истина! — выкрикнул Готшалк. — Позор! Греховодник! Позор, брат! — послышались разгневанные голоса монахов. — Непослушание, сын мой, подвергает твою бессмертную душу опасности, — печально предупредил аббат Рабан. — От этой болезни есть лишь одно лечение… Справедливы и грозны слова Апостола: «Tradere hujusmodi hominem in interitum carnis, ut spiritus satvus sit in diem Domini» — такого человека необходимо принудить умерщвлять плоть, чтобы спасти его дух пред Всевышним. По знаку Рабана двое братьев, отвечающих за дисциплину в монастыре, схватили Готшалка и вытолкнули на середину комнаты. Он не сопротивлялся, когда они поставили его на колени и подняли рясу, обнажив ягодицы и спину. Из угла комнаты брат Гермар, старший дьякон, принес крепкую узловатую, витую плетку, хранившуюся специально для таких случаев. Встав поудобнее, он размахнулся и сильно хлестнул по спине Готшалка. Звук удара разнесся по комнате. Шрамы на спине Джоанны заныли. Кожа обладала собственной памятью. Брат Гермар снова размахнулся и ударил еще сильнее. Все тело Готшалка содрогнулось, и он плотнее сжал губы, чтобы аббат Рабан не насладился его криком. Плетка все хлестала Готшалка, но он молчал. После обычных семи ударов брат Гермар опустил плетку, но аббат Рабан приказал продолжить. Брат Гермар удивился, но повиновался. Еще три удара, четыре, пять, но тут раздался страшный звук. Плетка коснулась обнаженной кости. Готшалк откинул голову назад ивзвыл. Страшный, душераздирающий крик из самой глубины его существа повис в тишине, потом перешел в долгий, надрывный стон. Аббат Рабан удовлетворенно кивнул, и подал знак брату Гермару остановиться, Когда Готшалка подняли и полувывели, полувытащили из комнаты, Джоанна заметила посередине его багровой спины белое пятно. Одно из ребер Готшалка выступило наружу.
В лазарете было непривычно пусто. В этот теплый и безветренный день стариков и хронических больных перевели на улицу погреться на солнышке. Брат Готшалк лежал ничком на кровати в полубессознательном состоянии. Кровь из его открытых ран проступила на простыне. Лекарь, брат Бенжамин, склонился над ним, пытаясь остановить кровотечение, и наложил новую повязку. Но и та уже пропиталась кровью. Он посмотрел на подошедшую Джоанну. — Хорошо, что ты здесь. Передай мне еще повязки с полки. Джоанна поспешила на помощь. Брат Бенжамин снял старую повязку, бросил ее на пол и наложил новую. Через несколько минут и эта повязка пропиталась кровью. — Помоги повернуть его, — попросил Бенжамин. — Надо вправить ребро, иначе кровотечение никогда не остановится. Джоанна перешла на другую сторону кровати и умело поставила руки, чтобы одним быстрым движением вправить кость. — Теперь осторожно, — сказал Бенжамин. — Хотя он и не совсем в сознании, но будет больно. Только по моему знаку, брат, один, два, три! Джоанна потянула кость на себя, в то время как Бенжамин подтолкнул ее. Последовал выброс свежей крови, но кость скользнула в открытую рану. — Deo, juva mе! — Готшалк поднял голову в мучительном возгласе и потерял сознание. Они промокнули кровь и обработали раны Готшалка. — Ну, брат Иоанн, что следует делать дальше? — спросил брат Бенжамин, когда они закончили. — Наложить бальзам… из чернобыльника, возможно, смешанного с болотной мятой. Намочить повязки в уксусе и наложить их, как заживляющую примочку, — быстро ответила Джоанна. — Очень хорошо. Еще добавим немного любистока от инфекции. Они работали рядом, приготавливая смесь, и острый запах свежерастертых трав наполнил комнату. Когда повязки были пропитаны и готовы к применению, Джоанна передала их брату Бенжамину. — Лучше ты это сделай. — Отступив, он с удовольствием наблюдал, как его молодой ученик плотно стянул рваные куски кожи и ловко наложил повязку. Затем Бенжамин подошел и осмотрел больного. Повязка получилась отличная, пожалуй, лучше, чем у него самого. И все же ему не понравился вид брата Готшалка. Его кожа, холодная и липкая, побелела, как полотно. Дыхание было неглубоким, учащенный пульс едва прощупывался. «Он умирает, — с отчаяньем подумал брат Бенжамин, и тут же в голову пришла другая мысль: — отец аббат будет в ярости. Рабан превысил свои полномочия и отлично знал об этом. Смерть Готшалка приведет к большим неприятностям. А если известие об этом дойдет до короля Людовика… даже аббаты не избегут наказания». Брат Бенжамин пытался сообразить, что еще сделать. Возможности лечения ограничены: нельзя давать больному лекарства и даже воду, чтобы утолить жажду и избавить от обезвоживания, пока он без сознания. Голос Иоанна Англиканца вывел его из оцепенения. — Можно развести огонь и нагреть несколько камней? Бенжамин удивленно посмотрел на ученика. Обкладывание больного горячими камнями, завернутыми в тряпицы, применяли зимой, когда холод высасывал из больного все силы. Но теперь, в последние теплые дни осени?… — Лечение ран по Гиппократу, — напомнила Джоанна. В прошлом месяце она отдала ему свой перевод прекрасной работы великого грека. Брат Бенжамин нахмурился. Ему нравилось лечить, и он отлично знал свое дело. Но новшеств он не любил, ему было спокойнее пользоваться надежными, знакомыми средствами. — Шок при сильных ранах, — продолжила Джоанна с нетерпением. — По Гиппократу, при таком шоке человек умирает от пронизывающего холода, исходящего изнутри. — Это верно, я видел, как люди внезапно умирают от неопасных ран, — ответил брат Бенжамин. — Deus vult, думал я, Божья воля… Иоанн Англиканец ждал, что ему разрешат продолжить лечение. — Хорошо, — согласился брат Бенжамин. — Разведи огонь в жаровне. Брату Готшалку от этого хуже не будет, но вдруг поможет, как утверждает языческий лекарь. — Он уселся на скамью, с удовольствием давая отдых пораженным артритом ногам, а его энергичный молодой ученик засуетился, разводя огонь и нагревая камни. Когда камни накалились, Джоанна завернула их в толстую ткань и обложила ими Готшалка. Два самых больших камня она положила ему под ноги, чтобы слегка приподнять их, следуя рекомендациям Гишюкрата. После этого Джоанна накрыла больного легким шерстяным одеялом, чтобы сохранить тепло. Через некоторое время веки Готшалка затрепетали, он застонал и пошевелился. Брат Бенжамин подошел к кровати. Кожа Готшалка порозовела, дыхание восстановилось. — Слава Богу. — С облегчением вздохнул брат Бенжамин и улыбнулся Иоанну Англиканцу. «У него талант, — подумал брат Бенжамин почти с отеческой гордостью, но не без легкой зависти. — Мальчишка подает большие надежды». Именно поэтому Бенжамин и попросил его помогать ему, но не представлял себе, что тот преуспеет так быстро. За несколько лет Иоанн Англиканец усвоил то, на что брат Бенжамин потратил всю жизнь. — У тебя целительские способности, брат Иоанн, — сказал он благосклонно. — Сегодня ты превзошел своего учителя. Мне скоро нечему будет тебя учить. — Не говорите так. — Джоанна огорчилась, потому что любила Бенжамина. — Мне еще многому предстоит научиться у вас, я это знаю. Готшалк снова застонал, его потрескавшиеся губы зашевелились. — Он начинает чувствовать боль. — Брат Бенжамин быстро приготовил красное вино с шалфеем, добавив туда несколько капель макового сока. Этот препарат требовал соблюдения величайшей осторожности: в малых дозах он приносил облегчение от невыносимой боли, но мог и убить. Все зависело от искусства лекаря. Приготовив снадобье, брат Бенжамин передал полную чашу Джоанне, и та поднесла ее к губам Готшалка. Он оттолкнул ее и, сделав резкое движение, вскрикнул от боли. — Выпей, брат, — ласково попросила Джоанна и снова поднесла чашу к губам Готшалка. — Тебе нужно поправиться, чтобы завоевать свободу, — добавила она шепотом. Готшалк удивленно взглянул на нее. Отхлебнув сначала немного, затем он жадностью выпил все, словно человек, нашедший колодец после многодневного путешествия по пустыне. Позади раздался властный голос: — Не полагайся на травы и снадобья. Обернувшись, Джоанна увидела аббата Рабана в сопровождении монахов. Она опустила чашу и выпрямилась. — Господь дарует людям жизнь и разум. Только молитва способна укрепить этого грешника. — Аббат Рабан подал знак монахам, и те тихо обступили кровать. Аббат Рабан начал молитву о болящих. Готшалк не присоединился к ним. Он лежал неподвижно с закрытыми глазами, словно спал, хотя Джоанна видела по его дыханию, что Готшалк притворяется. «Его раны заживут, — думала она, — но искалеченная душа — нет». Всем сердцем Джоанна была на стороне молодого монаха. Она понимала, почему он упрямо отказывается подчиниться тирании Рабана. Джоанна отлично помнила свою отчаянную борьбу с отцом. — Прославление и благодарение Богу. — Голос аббата Рабана возвышался над хором монахов. Джоанна присоединилась к прославлению Бога, но в душе благодарила и язычника Гиппократа, идолопоклонника, чьи кости истлели задолго до рождества Христова, но чья мудрость спасла Его сына.
— Раны прекрасно заживают, — успокоила Джоанна Готшалка, сняв повязки и осмотрев его спину. После наказания прошло две недели, и сломанная кость срослась, а рваные края раны зарубцевались, хотя, так же как у нее, шрамы на спине Готшалка останутся навсегда. — Благодарю за заботу, брат, — ответил Готшалк. — Но думаю он непременно изобьет меня снова. — Открыто сопротивляясь ты провоцируешь его. Тебе удастся добиться большего, если проявишь осторожность. — Я буду противостоять ему до последнего дыхания. Он дьявол, — возмущенно произнес Готшалк. — Ты сообщил ему, что отказываешься от своей доли земли в обмен на свободу? — спросила Джоанна. Ребенка посвящали монастырю, давая в придачу солидный участок земли. Но если этот человек впоследствии желал уйти из монастыря, он мог забрать свою долю. — Неужели ты думаешь, что я не предлагал ему этого? Ему нужна не земля, ему нужен я, вернее, мое тело и душа. Но этого он не получит никогда, даже если убьет меня. Если это борьба характеров, Готшалку не выиграть ее. Лучше всего забрать его отсюда, пока не случилось непоправимое. — Я думал о твоей проблеме, — сказала Джоанна. — В следующем месяце в Майнце состоится собор синода. Туда съедутся все епископы Святой Церкви. Если бы ты подал петицию об освобождении, им пришлось бы рассмотреть ее, и их решение заставит аббата Рабана уступить. — Синод никогда не воспротивится воле великого Рабана Мора. Его власть велика, — возразил Готшалк. — Власть аббатов, даже архиепископов бывала повергнута и прежде. Ты имеешь сильный аргумент, потому что тебя завещали монастырю в младенчестве. Тогда ты не мог принимать решения самостоятельно. Я нашел в библиотеке несколько страниц у Джерома, который принимает такие аргументы. — Джоанна вынула свиток пергамента из-под рясы. — Вот, смотри, я переписал для тебя. Готшалк прочитал, и его глаза заблестели. Он радостно взглянул на нее. — Это же замечательно! Дюжине Рабанов не удастся опровергнуть такой превосходный аргумент! — Однако вскоре он снова помрачнел. — Но у меня нет возможности подать петицию в синод. Он никогда не разрешит мне покинуть монастырь даже на один день и, конечно же, не отпустит в Майнц. Зачем ты это делаешь? — спросил Готшалк. Джоанна пожала плечами. — Человек должен иметь свободу выбора. — А про себя добавила: «Женщина тоже».
Все прошло, как было задумано. Когда Бурхард зашел в лазарет, чтобы взять снадобье для жены, Джоанна передала ему петицию. Он вывез её, спрятав под седлом. Через несколько недель в монастырь явился неожиданный посетитель из Оргара, епископ Триер. После официальных приветствий в монастырском дворе епископ попросил о срочной аудиенции с аббатом и получил ее. Новость, которую привез епископ, ошеломила всех. Готшалка освобождали от клятвы, и он мог свободно покинуть Фульцу в любое время. Готшалк предпочел уйти немедленно, не желая оставаться в монастыре ни одной лишней минуты. Сборы были недолгими. Хотя он провел в монастыре всю жизнь, забирать ему было нечего, ибо у монаха не должно быть никакой собственностью. Брат Ансельм, монастырский повар, собрал котомку с провизией, чтобы Готшалк продержался в пути первые несколько дней. — Куда ты пойдешь? — спросила его Джоанна. — В Шпеер, — ответил он. — У меня там замужняя сестра, остановлюсь у нее на какое-то время. А потом… не знаю. Долго и безнадежно борясь за свободу, Готшалк ни разу не задумался о том, как поступит, если вдруг получит ее. Он не знал иной жизни, кроме монастырской; ее безопасность и предсказуемость была естественна для него, как дыхание. Хотя Джоанна видела, что Готшалк горд своей победой, в глазах его затаились страх и неуверенность. Братья не вышли проводить Готшалка всем миром, потому что Рабан запретил им. За тем, как он выходил за пределы монастыря, наблюдали только Джоанна и несколько монахов, оказавшихся в тот момент во дворе. Наконец-то свободен! Джоанна видела, как Готшалк направился по дороге. Его высокая, худая фигура постепенно исчезла из виду. «Будет ли он счастлив?» Джоанна очень надеялась на это. Но Готшалк походил на человека, постоянно стремившегося к чему-то недоступному, выбиравшего тернистый путь. Она будет молиться за него, как и за все печальные и мятежные души, в одиночестве бродившие по дорогам. (обратно)
Глава 16

В день Всех Святых монахи Фульды собрались в центральном дворе для separatio leprosorum, печальной церемонии отчуждения от общества больных проказой. В тот год в окрестностях Фульды было выявлено семеро несчастных — четверо мужчин и три женщины. Один из них — юноша не старше четырнадцати лет, с пока еще не явными признаками заболевания, другая — женщина лег шестидесяти, у которой не было век, губ и пальцев на руках. Всех семерых, облаченных в черное, ввели во двор монастыря, где они робко жались друг к другу. Торжественной процессией к ним приблизились монахи. Первым подошел аббат Рабан, высокий и величественный. Справа or него шел настоятель Джозеф, слева епископ Отгар. Позади шествовали остальные монахи в порядке старшинства. В конце процессии двое послушников тянули повозку с кладбищенской землей. — Отныне запрещаю вам входить в любую церковь, на мельницу, рынок, в пекарню или другое место, где собираются люди, — обратился аббат Рабан к прокаженным с истинной скорбью. — Запрещаю вам пользоваться общими дорогами и тропами, где ходят здоровые люди, не позвонив в колокольчик, чтобы предупредить их. Одна из женщин начала причитать. На шерстяном платье у нее проступили два темных влажных пятна. «Кормящая мать, — подумала Джоанна. — Где же ее ребенок? Кто позаботится о нем?» — Вы можете есть и пить только в обществе таких же прокаженных, как и вы, — продолжал аббат Рабан. — Навсегда запрещаю вам мыть лицо или любые предметы в реках, ручьях и родниках. Запрещаю вам совокупляться с супругами или другими людьми. Запрещаю вам рожать детей и воспитывать их. Женщина еще сильнее запричитала, по ее лицу прокатились слезы. — Как тебя зовут? — с едва скрываемым раздражением обратился к ней аббат Рабан на просторечье. Ее чрезмерное проявление эмоций противоречило торжественности церемонии, которой Рабан надеялся произвести впечатление на епископа. Было ясно, что епископ Отгар прибыл в Фульду не только ради того, чтобы сообщить о свободе, данной Готшалку, но и понаблюдать за работой Рабана и доложить о ней. — Мадалгис, — всхлипнув, ответила женщина. — Пожалуйста, господин, мне нужно домой. Я вдова и у меня дома четверо голодных детей. — О невинных позаботится Всевышний. Ты согрешила, Мадалгис, и Бог поразил тебя болезнью, — объяснил Рабан с преувеличенным терпением, словно обращаясь к ребенку. — Ты должна не плакать, а благодарить Бога, ибо будешь страдать меньше в следующей жизни. Мадалгис от удивления замерла, будто сомневалась, что правильно все расслышала. Но вскоре лицо ее исказилось от рыданий, гораздо более громких, а ее кожа побагровела от шеи до корней волос. «Странно», — подумала Джоанна. Рабан повернулся к женщине спиной. — De profundis clamavi ad te, Domine… — начал он молитву по усопшим. К нему присоединился стройный хор монахов. Джоанна механически повторяла слова, не сводя глаз с Мадалгис. Закончив молитву, Рабан перешел к финальной части обряда, отлучающей каждого прокаженного от мира. Он встал перед четырнадцатилетним мальчиком. — Sis mortuus mundo, vivens iterum Deo, — сказал Рабан. — Умри для мира, живи в Боге. — Он подал знак брату Магенарду, и тот, захватив лопатой немного кладбищенской земли, бросил ее в сторону мальчика, чтобы обсыпать его одежду и волосы. Пять раз в конце недолгого обряда несчастных присыпали могильной землей. Когда очередь дошла до Мадалгис, она попыталась убежать, но послушники преградили ей путь. Рабан нахмурился. — Sis mortuus mundo, vivens iter… — Остановитесь! — выкрикнула Джоанна. Аббат Рабат замолчал. Все повернулись к тому, кто осмелился прервать его. Под пристальным взглядом толпы Джоанна подошла к Мадалгис и быстро осмотрела ее. Затем повернулась к аббату Рабану. — Отец, эта женщина не прокаженная. — Что? — Аббат пытался сдержать гнев, чтобы епископ ничего не заметил. — Эти раны не характерны для проказы. Видите, как покраснела ее кожа, как наполнилась кровью изнутри? Ее раны не заразны, их можно вылечить. — Если она не прокаженная, то откуда взялись эти язвы? — возмутился Рабан. — Причин может быть несколько. Трудно судить без дополнительного обследования. Но какова бы ни была причина, несомненно одно: это не проказа. — Господь отметил греховность этой женщины. Мы не должны противоречить его воле! — Она поражена, но не проказой, — настаивала Джоанна. — Бог наделил нас знаниями. С их помощью мы отличаем тех, кому суждено нести это бремя, от тех, кому не суждено. Одобрит ли Он наше решение предать смерти при жизни ту, кого Он от этой участи избавил? Довод был веский. Рабан заметил, что это понравилось всем. — Как узнаем мы, что ты верно истолковал волю Бога? — спросил он. — Неужели твоя гордыня столь велика, что ты готов пожертвовать своими братьями… ибо заботясь об этой женщине, ты подвергаешь опасности всех. В толпе послышался озабоченный ропот. Ничто, кроме мук ада, не вызывало такого ужаса, отвращения и страха, как проказа. Взвыв, Мадалгис упала к ногам Джоанны. Женщина слушала разговор, ничего не понимая, потому что Рабан и Джоанна говорили на латыни, но она догадалась, что Джоанна вступилась за нее, и спор решался не в ее пользу. Джоанна похлопала женщину по плечу, желая успокоить. — Никто из братьев не должен рисковать. Когда вы удалитесь, отец, я пойду в дом этой женщины, взяв с собой все необходимые снадобья. — Один? С женщиной? — Рабан вскинул брови в праведном негодовании. — Иоанн Англиканец, твои намерения, возможно, невинны, но ты еще молод и можешь стать легкой добычей низменных плотских страстей. Я считаю своим долгом предостеречь тебя, как твой духовный отец. Джоанна открыла рот, но растерялась и смолчала. Никто не был в большей безопасности от соблазна, чем она, но Рабану этого не объяснишь. Послышался хриплый голос брата Бенжамина: — Я готов сопровождать брата Иоанна. Я стар, и такое искушение мне давно не грозит. Отец, если брат Иоанн говорит, что женщина не прокаженная, на него следует положиться, тем более когда он так уверен. Джоанна с благодарностью взглянула на него. Мадалгис прижалась к ней. Рыдания женщины перешли в жалобный плач, когда Джоанна ласково погладила ее. Аббат Рабан колебался. За вопиющее непослушание ему очень хотелось подвергнуть Иоанна Англиканца хорошей порке. Но здесь находился епископ Отгар. Рабан не мог показать свою непреклонность и жестокость. — Хорошо, — неохотно сказал он. — Брат Иоанн, после вечерни ты и брат Бенжамин можете уйти отсюда с этой грешницей и сделать все во имя Бога, чтобы вылечить ее. — Благодарю, отец, — ответила Джоанна. Рабан перекрестил их. — Да избавит вас Всемилостивый Господь от зла.
Нагруженный сумками со снадобьями, мул лениво плелся по дороге, не обращая внимания на палящее солнце. Дом Мадалгис находился в нескольких милях от монастыря. Если так плестись, до дома они доберутся только затемно. Джоанна нетерпеливо погоняла мула. Словно издеваясь над ней, животное сделало пять-шесть быстрых шагов и снова замедлило шаг. По дороге Мадалгис нервно и без умолку болтала. Такое обычно случается после сильного испуга. Джоанна и Бенжамин узнали всю ее печальную историю. Несмотря на лохмотья, она была свободной женщиной, женой фермера, владевшего почти двенадцатью гектарами земли. После его смерти она пыталась прокормить семью, работая на земле сама, но ее героические усилия внезапно пресек сосед, лорд Ратольд, которому приглянулась процветающая ферма. Лорд Ратольд донес о занятиях Мадаглис аббату Рабану, и тот запретил ей работать под страхом отлучения от церкви. — Непристойно женщине выполнять мужскую работу, — сказал он ей. Страх перед голодом заставил женщину продать землю и дом лорду Ратольду за бесценок. Она получила за все лишь несколько золотых и крошечную мазанку неподалеку с небольшим пастбищем для ее коров. Мадалгис занялась изготовлением сыра, сумев таким способом зарабатывать на жизнь. Она выменивала сыр на другие продукты питания и прочие товары. Едва завидев дом, Мадалгис радостно вскрикнула и побежала вперед. Через несколько минут Джоанна и брат Бенжамин нашли ее в объятьях детей, которые смеялись, плакали и одновременно все говорили. Увидев двух монахов, дети испуганно закричали и заслонили мать, опасаясь, что ее снова заберут у них. Мадалгис успокоила детей, и они снова заулыбались, хотя смотрели на монахов с настороженным любопытством. В дом вошла женщина, держа в обеих руках по младенцу. Учтиво поклонившись монахам, она передала одного ребенка Мадалгис. Та, радостно приняв его, сразу стала кормить грудью. Ребенок жадно сосал. Гостья показалась Джоанне немолодой, лет пятидесяти, но, присмотревшись, она заметила, что, несмотря на дряблую кожу лица, она была довольно молода, не старше тридцати. «Кормила ребенка Мадалгис вместе со своим», — догадалась Джоанна. Она сочувственно взглянула на отекшие груди женщины, ее отвисший живот и нездоровый цвет лица, Такие симптомы Джоанна встречала и раньше: женщины часто рожали первого ребенка лет в тринадцать, и с этого возраста вечно находились в состоянии беременности, рожая одного ребенка за другим. Часто женщина рожала по двадцать и более детей, хотя случались и выкидыши. К тому времени, когда ее организм начинал меняться, если ей удавалось прожить так долго, несмотря на роды, всегда связанные с риском для жизни, тело женщины было безнадежно изношено, а дух подавлен. Джоанна решила сделать для Мадалгис тонизирующее снадобье из дубовой коры и шалфея, чтобы укрепить ее организм перед грядущей зимой. Мадалгис обратилась к старшему ребенку, долговязому мальчику лет двенадцати. Он вышел и вернулся через минуту с хлебом и сыром, предложив Джоанне и брату Бенжамину. Брат Бенжамин взял хлеб, но отказался от сыра, который был явно не свежим. Джоанне сыр тоже не приглянулся, но, чтобы не обидеть хозяев, она отломила маленький кусочек и съела. К ее удивлению, сыр оказался восхитительным, пикантным, сытным, ароматным, гораздо лучше тех, что подавали на стол в Фульде. — Как вкусно! Мальчик улыбнулся. — Как тебя зовут? — спросила она. — Арн, — застенчиво ответил он. Джоанна огляделась. Маленький, без окон, дом Мадалгис был сооружен из прутьев, обмазанных глиной и смешанных с соломой и листьями. В стенах виднелись большие дыры, сквозь которые в дом проникал холодный ветер, разгонявший удушливый дым над очагом. В одном углу находился загон для скота. Через месяц Мадалгис придется взять коров в дом на зиму, как принято у бедняков. Так сберегали не только ценный домашний скот, но и тепло в доме. К сожалению, кроме тепла, от животных в доме заводились, клопы, вши и блохи. Они обитали в щелях и в постелях. Тела большинства бедняков покрывали ранки от укусов паразитов и расчесы. Это было запечатлено на стенах местных церквей, изображавших простолюдинов, покрытых язвами. У некоторых людей, а Джоанна подозревала, что Мадалгис относилась именно к ним, развивалась сильная реакция на укусы насекомых. В этих случаях кожа покрывалась сыпью. Грубая грязная шерстяная одежда способствовала распространению сыпи, превращавшейся в гнойные раны. Чтобы подтвердить свой диагноз, Джоанне придется подождать, поскольку совсем стемнело. «Завтра, — решила Джоанна, готовясь ко сну, — приступим завтра».
На следующий день они хорошенько вычистили лачугу. Старые подстилки, лежавшие на земляном полу, вынесли из дома и тщательно выбили, пол вымели и выскоблили. Старую солому из матрасов сожгли, заменив ее новой. Заменили даже старую прогнившую и провисшую соломенную крышу. Труднее всего было заставить Мадалгис вымыться. Как и все, она регулярно мыла только лицо, руки и ноги, но вымыть все тело казалось ей странным и даже опасным. — Я простужусь и умру, — вопила она. — Ты умрешь, если не вымоешься, — решительно заявила Джоанна. — Прокаженные — это живые мертвецы. От холодных ветров сентября вода в ручье за поселением стала ледяной. Пришлось натаскать ее в дом, согреть на огне и наполнить ею лохань для белья. Пока монахи стояли, повернувшись к ней спиной, Мадалгис опустилась со страхом в теплую лохань, но все же старательно вымылась. После ванны Мадалгис надела чистую рубаху, которую Джоанне выдал брат Конрад, монастырский келарь, проникнувшись сочувствием к ее затее. Плотное теплое полотно позволит Мадалгис пережить зиму. Кроме того, гладкая ткань раздражала меньше, чем шерсть. Когда Мадалгис отмылась, и дом заблестел чистотой, здоровье ее пошло на поправку. Раны подсохли и стали заживать. Брат Бенжамин пришел в восторг. — Ты был прав! — сказал он Джоанне. — Это действительно не проказа! Надо вернуться и показать остальным! — Еще несколько дней, — осторожно заметила Джоанна. Когда они вернутся в монастырь, выздоровление не должно вызывать сомнений.
— Покажи еще, — попросил Арн. Джоанна улыбнулась. За последние несколько дней она обучала мальчика считать на пальцах по методу Беде. Он оказался способным учеником. — Прежде покажи мне, как ты запомнил то, что уже выучил. Что это означает? — Джоанна показала ему три последних пальца левой руки. — Означает единицы, — не раздумывая ответил мальчик. — А это, — он показал ей левый большой и указательный пальцы. — Это десятки. — Хорошо. А на правой руке? — Это означает сотни, а это тысячи. — Мальчик поднял нужные пальцы для наглядности. — Отлично. Какие числа ты выбрал? — Двенадцать, это мой возраст, и еще триста шестьдесят пять, столько дней в году! — гордо произнес он, показав, что запомнил еще кое-что. — Двенадцать раз по триста шестьдесят пять. Посмотрим… — Пальцы Джоанны быстро задвигались, изображая сумму. — Это четыре тысячи триста восемьдесят. Арн радостно захлопал в ладоши. — Теперь ты попробуй, — предложила Джоанна, повторяя все с начала, но более медленно, и давая ему возможность воспроизвести каждое ее движение. Потом она заставила его сделать все самостоятельно. — Отлично! — воскликнула она, когда он выполнил задание. Довольный похвалой Арн расплылся в улыбке. Но вдруг его маленькое круглое лицо стало серьезным. — Насколько большие числа ты можешь использовать? Можешь работать с сотнями и тысячами? С… тысячей и еще одной тысячей? Джоанна кивнула. — Просто коснись груди, вот так… видишь? Это означает десятки тысяч, А если прикоснуться к большому пальцу, получатся сотни тысяч. Так что… — Ее пальцы снова зашевелились. — Тысяча сто на тысячу триста, получается один миллион четыреста тридцать тысяч! От удивления у Арна расширились глаза. Такие большие числа он едва мог осознать. — Покажи еще! — взмолился он. Джоанна рассмеялась. Ей нравилось учить этого жадного к знаниям мальчика. Он так был похож на нее в детстве. «Как жаль, что такой замечательный ум, — подумала она, — вынужден прозябать во тьме невежества». — Если мне удастся это устроить, хотел бы ты учиться в монастырской школе? Там ты научишься не только счету, но чтению и письму. — Чтению и письму? — с удивлением повторил Арн. Эти замечательные знания были доступны только священникам и лордам. Он с тревогой спросил: — А мне обязательно становиться монахом? Джоанну это позабавило. Мальчик был в том возрасте, когда появляется сильное влечение к противоположному полу, и непорочная жизнь отталкивала его. — Нет, — ответила она. — Ты будешь учиться в открытой школе. Но, чтобы жить в аббатстве, тебе придется покинуть дом. И учиться придется очень усердно, потому что учитель строгий. Арн не колебался ни минуты. — О да! Да, пожалуйста! — Хорошо. Завтра возвращаемся в Фульду. Поговорю с учителем.
— Наконец-то! — с облегчением вздохнул брат Бенжамин. Впереди, где вымощенная булыжником дорога уходила за горизонт, поднимались серые стены Фульды, а за ними виднелись две башни монастырского храма. Путешественники выдержали утомительный путь от дома Мадалгис, и от холодного влажного воздуха ревматизм Бенжамина так обострился, что каждый шаг давался ему с трудом. — Скоро мы будем на месте, — заверила его Джоанна. — Через час вы согреете ноги у жаровни в теплой комнате. Вдали послышался звон, оповещающий об их прибытии, потому что никто не мог приблизиться к Фульде без оповещения. При этом звуке Мадалгис прижала к себе младенца. Джоанна и брат Бенжамин уговорили ее вернуться в монастырь, разрешив ей взять с собой всех детей. Монахи собрались во внутреннем дворе, церемониально выстроившись по старшинству во главе с аббатом Рабаном, седовласым, величественным и стройным. Мадалгис испуганно спряталась за Джоанну. — Выйди вперед, — приказал Рабан. — Все хорошо, Мадалгис, — успокоила ее Джоанна. — Делай, как велит аббат. Дрожащая Мадалгис встала перед монахами, которые, увидев ее, восторженно ахнули. Открытые раны и язвы полностью исчезли, осталось лишь несколько подсохших пятен. Загоревшая кожа лица и рук была совершенно чистой, сияла здоровьем. Никаких сомнений быть не могло; даже непосвященный сказал бы, что перед ними стояла не прокаженная. — Чудесное знамение! — воскликнул епископ Отгар. — Подобно Лазарю, она воскресла к жизни! Монахи обступили Мадалгис, оттеснив остальных путешественников к церкви.
* * *
Выздоровление Мадалгис было воспринято как чудо. Фульда ликовала и восхваляла Иоанна Англиканца. Когда ночью во сне скончался престарелый брат Олдвин, один из двух священников монастыря, ни у кого не было сомнений в том, кто станет его преемником. Однако аббат Рабан придерживался иного мнения, Слишком самонадеянный Иоанн Англиканец не нравился ему. Рабан предпочел брата Томаса. Тот хотя был и не столь умен, но более предсказуем, а это качество Табан ценил больше всего. Но приходилось считаться с мнением епископа Отгара. Епископ знал о том, что Готшалка забили почти до смерти, и это выставило аббатство Рабана в невыгодном свете. Если бы Рабан предпочел Иоанна Англиканца менее достойному монаху, возникли бы и другие вопросы о его управлении монастырем. А если король получит плохой отзыв, то Рабан может потерять свое место, что было немыслимо для него. «В выборе священника лучше поступить благоразумно, — решил Рабан, — хотя бы в данный момент». На собрании каноников он объявил: — Как ваш духовный отец, я беру на себя право назначить священника. После долгих молитв и раздумий я остановился на том, кто соответствует этому предназначению по праву своей учености. Это брат Иоанн Англиканец. Монахи отнесились к этому одобрительно. Джоанна зарделась от смущения и радости. Я — священник! Допущена к святому таинству, к святому причастию! Отец так мечтал, чтобы священником стал Мэтью, а после смерти Мэтью Джон. Сколь иронична судьба, если его заветное желание осуществилось через дочь! Брат Томас злобно взглянул на Джоанну из другого конца комнаты, «Это место мое, — с горечью думал он, — Рабан рассчитывал на меня, всего несколько недель тому назад он сказал мне об этом! А когда Иоанн Англиканец вылечил женщину от проказы, все изменилось. Это же возмутительно! Мадалгис — никто, рабыня, или немногим лучше. Кому какое дело до того, отправили бы ее в лепрозорий или если бы она умерла». То, что выгодная должность досталась Иоанну Англиканцу, крайне оскорбило Томаса. Он возненавидел Иоанна за его ум, потому что это заставляло Томаса часто чувствовать себя дураком. Его раздражало, что учение давалось Иоанну так легко. Томас одолевал науки с большим трудом. Чтобы выучить неправильные формы глаголов и запомнить правила, ему приходилось много работать. Но то, что Томасу не давалось умом, он наверстывал усердием и фанатичной верой. Всякий раз после трапезы Томас старательно укладывал нож и вилку так, чтобы получился Святой Крест. Он никогда не пил вино сразу, как другие, но небольшими троекратными глотками, изображая чудо Святой Троицы. Иоанн Англиканец ничем подобным себя не утруждал. Томас с ненавистью смотрел на своего врага, который выглядел совершенным ангелом со своими белокурыми локонами. «Да испепелит пламя ада его и чрево, его родившее!»Монастырская трапезная представляла собой просторное каменное строение в сорок футов шириной и сотню футов длинной. Оно вмещало всех триста пятьдесят монахов Фульды. Это здание, с его семью окнами на юг и шестью на север, куда солнечный свет проникал в течение всего дня, было самым приятным в монастыре. Широкие деревянные балки были ярко расписаны сценами из жизни Святого Бонифация, покровителя Фульды, от чего помещение казалось таким же приятным в холодные короткие дни декабря, как и летом. Настал полдень, и братья собрались на обед в одной из двух монастырских трапезных. Аббат Рабан сидел за длинным Y-образным столом возле восточной стены; слева и справа от него расположились двенадцать монахов, олицетворявших апостолов Христа, На длинных дощатых столах стояли простые чаши с хлебом, бобами и сыром. Под столами бегала мышь, подбирая крошки. Б соответствие с правилами Святого Бенедикта, за обеденным столом царило полное молчание. Тишину нарушал лишь стук ножей и чашек, а также голос дежурного чтеца, который, стоя на возвышении, читал Псалмы или Жития Святых. — Пока бренная плоть вкушает плоды земные, — говаривал аббат Рабан, — душа должна пребывать в покое. Regula taciturnitis, или закон молчания, считался идеалом, к которому стремились все, но соблюдали немногие. Монахи придумали сложный язык мимики и жестов, и с его помощью общались во время трапез. Между ними происходили настоящие беседы, особенно когда чтец был плохой. У брата Томаса был хриплый голос с сильным акцентом, из-за чего почти полностью терялась напевность псалмов. Кроме того, Томас читал всегда очень громко, оглушая монахов. Но аббат Рабан часто просил делать это именно Томаса, а не других, более опытных чтецов, говоря, что «слишком сладкие голоса открывают сердца для демонов». — Псс. — Едва слышное шипенье привлекло внимание Джоанны. Она подняла голову от тарелки и увидела, что брат Адалгар подает ей знак через стол. Он показал Джоанне четыре пальца. Это был номер главы в правилах Святого Бенедикта, средство для общения монахов, которое использовало иносказание и выразительные сравнения. Джоанна вспомнила первые строки четвертой главы: «Omnes supervenientes hospites tamquam Christus suscipiantur», — что означало: «Всех приходящих почитай как Христа». Джоанна сразу поняла, что хотел сказать брат Адалгар. В Фульду прибыл посетитель, кто-то очень важный, иначе брат Адалгар не упомянул бы о нем. Каждый день в Фульду приходило много людей, богатых и бедных, в драгоценных мехах и в лохмотьях. Усталые путники были уверены, что им не откажут в гостеприимстве; и на несколько дней они здесь найдут отдых, кров и пищу перед тем, как снова отправиться в путь. Джоанна сгорала от любопытства. — Кто? — спросила она, слегка приподняв брови. В этот момент аббат Рабан подал знак, и монахи все встали, выстроившись по старшинству. Выходя из трапезной, брат Адалгар повернулся к ней. — Parens. — Он вздохнул и пристально посмотрел на нее. — Твой родитель.
Спокойным шагом и с постным выраженйем лица, как подобает монаху Фульды, Джоанна вышла из трапезной следом за остальными братьями. Ничто в ней не выдавало смятения. Неужели брат Адалгар не слукавил? Действительно ли кто-то из ее родителей пришел в Фульду? Мать или отец? Адалгар сказал parens, это значило, что их двое. А что, если это отец? Он ожидает увидеть Джона, а не ее. От этой мысли Джоанна содрогнулась. Если отец разоблачит ее, то обязательно донесет на дочь. Но, возможно, это мать. А Гудрун ни за что не выдаст ее. Она поймет, что это будет стоить Джоанне жизни. Мама. Прошло десять лет с тех пор, как она видела мать в последний раз, и расстались они плохо. Вдруг Джоанне страшно захотелось увидеть знакомое, обожаемое лицо Гудрун, обнять ее, услышать, как она рассказывает сказки на старинном языке. Брат Сэмюэль, госпитальер, остановил Джоанну у дверей трапезной. — Сегодня ты освобожден от обязанностей. К тебе кое-кто пришел. Джоанна ничего не ответила, одновременно испытывая надежду и страх. — Не надо быть таким серьезным, брат. Не дьявол же пришел за твоей бессмертной душой, — доброжелательно рассмеялся брат Сэмюэль, славный веселый человек» любивший пошутить. Аббат Рабан пользовался его качествами, держа в должности, как нельзя лучше подходившей брату Сэмюэлю, всегда готовому позаботиться о посетителях. — Здесь твой отец, — оживленно сообщил Сэмюэль, довольный, что первым донес до нее такую радостную весть. — Ждет тебя в саду, желая приветствовать. От страха Джоанна едва не упала в обморок. Она попятилась и покачала головой. — Не хочу видеться с ним… Я не могу. Улыбка исчезла с лица Сэмюэля. — Ну же, брат, напрасно ты так. Отец проделал такой долгий путь из Ингельхайма, чтобы побеседовать с тобой. Следовало придумать какую-то отговорку. — У нас не сложились отношения. Мы… поругались… когда я уходил из дома. Брат Сэмюэль обнял ее за плечи. — Понимаю, — ласково сказал он. — Но это твой отец, и пришел он издалека. Прояви милосердие, поговорив с ним хотя бы немного. Не зная, как возразить, Джоанна промолчала. Брат Сэмюэль принял это за согласие. — Пойдем. Отведу тебя к нему. — Нет! — Джоанна высвободилась из его рук. Брат Сэмюэль удивился. Так обращаться с госпитальером, одним из семи управляющих лиц монастыря, было нельзя. — Твоя душа в смятении, брат, — резко заметил он. — Тебе необходимо духовное наставление. Завтра мы обсудим это на собрании каноников. «Что же мне делать?» — горестно подумала Джоанна. Скрыть от отца свой обман ей вряд ли удастся. Но и обсуждение на собрании тоже губительно. Ее поведению нет объяснения. Если признают, что она не подчинилась, то как Готшалк… — Прости меня, Nonmus, — почтительно обратилась Джоанна к монаху. — Прости за дерзость и непочтение. Я был в растерянности и забылся. Покорнейше прошу простить меня. Извинение прозвучало весьма убедительно. Лицо брата Сэмюэля расплылось в улыбке, он не умел долго хранить обиду. — Ну конечно же, брат, с радостью. Пойдем. Я провожу тебя до сада.
По пути из монастыря, проходя мимо скотного двора, мельницы и кирпичных печей, Джоанна быстро оценивала свои шансы. В последний раз отец видел ее ребенком двенадцати лет. За десять лет она сильно изменилась. Возможно, он не узнает ее, возможно… Они подошли к саду, где тянулись аккуратные грядки, которых было всего тринадцать. Это число символизировало Христа и его Апостолов. Каждая грядка семь футов в ширину, что тоже очень важно, поскольку было именно семь даров Святого Духа, символизирующих целостность всего созданного на земле. В дальнем углу сада, между грядками марсилии и кервеля, спиной к ним стоял отец. Она сразу узнала его невысокую коренастую фигуру, толстую шею и надменную осанку. Джоанна спрятала лицо в просторном капюшоне так, чтобы плотная ткань свисала посередине, полностью закрыв его. Услышав шаги, каноник повернулся. Его темные волосы и нависшие брови, наводившие на Джоанну ужас, совсем поседели. — Deus tecum. — Брат Сэмюэль ободряюще похлопал Джоанну по плечу. — Да будет с тобою Бог, — И удалился.
Отец, прихрамывая, направился к ней. Теперь он показался Джоанне гораздо меньше, чем прежде. С удивлением она заметила в его руке костыль. Когда отец приблизился, она повернулась и, не говоря ни слова, знаком позвала его за собой подальше от яркого полуденного солнца, в часовню рядом с садом, в спасительную темноту. Там Джоанна дождалась, пока отец сядет на скамью, а сама устроилась подальше от него и низко склонила голову, чтобы капюшон скрывал ее лицо. — Pater Noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum… — начал молиться отец старческим дрожащим голосом. Его парализованная рука дрожала. Джоанна присоединилась к молитве, и их голоса эхом отдавались в маленькой каменной часовне. Закончив молитву, они несколько минут сидели молча. — Сын мой, — наконец-то произнес каноник. — Ты отлично преуспел. Брат госпитальер рассказал, что ты собираешься стать священником. Значит, не посрамил чести нашей семьи. Я надеялся, что твой брат удостоится такой же чести. Мэтью. Джоанна прикоснулась к медальону Святой Екатерины, висевшему у нее на шее. Отец заметил этот жест. — Я стал плохо видеть. Это медальон твоей сестры Джоанны? Джоанна отпустила медальон, проклиная себя за глупость. Не догадалась даже спрятать его! — Взял его на память… потом. — Она не могла заставить себя говорить об ужасах набега норманнов. — Твоя сестра умерла… Она не была обесчещена? Джоанна вдруг вспомнила Гилзу, кричавшую от боли и страха, когда норманны по очереди насиловали ее. — Она умерла непорочной. — Deo gratias, — перекрестился каноник. — Значит так было угодно Богу. Упрямый, ненормальный ребенок. Она никогда не обрела бы покоя в этом мире. Так гораздо лучше. — Она не сказала бы этого. Если каноник заметил в ее голосе иронию, то виду не показал. — Мать очень страдала, узнав о ее смерти. — Как поживает моя мать? Каноник долго молчал. — Ее больше нет, — ответил он дрожащим голосом. — Нет! — В аду, — отрезал каноник. — Горит в вечном огне. — Нет! — Осознав, о чем он говорит, Джоанна едва не лишилась рассудка. — Нет! Нет, только не ее мать, такая красивая, с такими добрыми глазами, нежными руками, дарившими утешение и радость… мама, которая так любила ее. — Умерла месяц назад, — сообщил каноник. — Непокорная и необращенная ко Христу, призывая своих языческих богов. Когда повитуха сказала, что она умирает, я сделал все, что мог, но она отказалась принять святые дары. Я положил ей в рот облатку, а она выплюнула ее. — Повитуха? Ты хочешь сказать… — Матери было больше пятидесяти лет, слишком поздно для родов. После рождения Джоанны у нее не было детей. — Мне не разрешили похоронить ее на церковном кладбище вместе с некрещеным младенцем в ее утробе. — Он расплакался, его тело содрогалось от рыданий. Неужели он любил ее? Как странно выражал отец свою любовь: грубыми скандалами, жестокостью. Его эгоистичная похоть убила ее! Рыдания каноника постепенно затихли, и он помолился об усопшей. На этот раз Джоанна не присоединилась к нему. Просебя она произносила клятву, взывая к священному имени Тора Громовержца, как учила ее мать в детстве. Отец смущенно откашлялся. — Есть дело, Джон. Миссия в Саксонии… как ты думаешь… захотят ли братья воспользоваться моей помощью в работе с язычниками? Джоанна удивилась. — А как же твоя работа в Ингельхайме? — Дело в том, что мое положение в Ингельхайме осложнилось. Недавняя… беда… с твоей мамой… Джоанна сразу все поняла. Закон о женатых священниках, при короле Карле соблюдавшийся весьма условно, ужесточился в правление его сына, прозванного Людовиком Благочестивым за религиозное рвение. Недавний парижский синод утвердил закон безбрачия. Беременность Гудрун — явное свидетельство нецеломудрия каноника — случилась в самое неподходящее время. — Ты потерял свое место? Отец неохотно кивнул. — Но, Deo volente, у меня еще остались силы для службы Богу. Если бы ты замолвил за меня словечко перед аббатом Рабаном?… Джоанна молчала. Переполненная горем, гневом и болью. В ее сердце не осталось места для сострадания к отцу. — Ты не ответил мне. Стал слишком гордым, сын мой. — Он поднялся, в голосе его послышались знакомые повелительные нотки. — Помни, именно мне ты обязан тем, что находишься здесь и занимаешь такое положение. Contritionem praecedit superbia, et ante ruinam exaltatio spiritus, — сказал он решительно. — Гордыня — признак скорого упадка, надменность предвещает крах. Притчи, глава шестнадцатая. — Bonum est homini mulierem nоn tangere, — парировала Джоанна. — Хорошо человеку не касаться жены. Первое Послание Коринфянам, глава седьмая. Отец взмахнул клюкой, чтобы ударить ее, но потерял равновесие и упал. Джоанна протянула руку, чтобы помочь ему. Она схватил ее за руку и дернул к себе. — Сын мой, — умоляюще и плаксиво прошептал каноник, — Сын мой, не оставь меня. Ты все, что у меня есть. Джоанна с отвращением отпрянула от него, и капюшон соскользнул с ее головы. Она поспешно надела его, но было слишком поздно. Отец ужаснулся, узнав ее. — Нет, — выдохнул он, содрогнувшись. — Нет, этого не может быть. — Папа… — Дочь Евы, что ты натворила? Где твой брат Джон? — Погиб. — Погиб? — Его убили норманны в храме в Дорштадте. Я пыталась спасти его, но… — Ведьма! Колдунья! Демон ада! — Каноник перекрестил перед собой воздух. — Папа, пожалуйста, позволь объяснить… — взмолилась Джоанна в отчаянии. Отца надо было успокоить, пока на его голос не сбежались монахи. Каноник попытался опереться на клюку и встать. Он дрожал всем телом. Джоанна поспешила помочь ему, но он оттолкнул ее и сердито произнес: — Ты убила старшего брата. Почему не пожалела младшего? — Я любила Джона, папа. Я никогда не сделала бы ему ничего плохого. Это норманны, они напали неожиданно. — Джоанна схватилась за горло, чтобы не вырвались рыдания. Надо было выдержать спокойный тон, чтобы отец понял. — Джон сопротивлялся, но они убили всех, всех. Они… Каноник повернулся к двери. — Я должен остановить это, остановить тебя, пока ты не наделала больше зла. Джоанна схватила его за руку. — Отец, не надо, пожалуйста, они убьют меня, если… Он резко повернулся к ней. — Дьявольское отродье! Тебе следовало умереть в языческой утробе твоей матери! — Он пытался высвободиться. Лицо его побагровело. — Отпусти меня! Джоанна отчаянно вцепилась в него. Если он выйдет отсюда, ее жизнь кончится. — Брат Джон? — На пороге послышался голос брата Сэмюэля. Его доброе лицо выражало озабоченность. — Что-то не так? Вздрогнув, Джоанна отпустила руку отца, и он направился к брату Сэмюэлю. — Отведите меня к аббату Рабану. Я должен… Я должен… — вдруг каноник замолчал. Вид у него был странный. Лицо стало еще краснее, причудливо исказилось, левый глаз опустился ниже правого, рот перекосило на сторону. — Отец? — Джоанна поспешила к нему. Он потянулся к ней, но правая рука непослушно задергалась. Джоанна отпрянула в ужасе. Каноник выкрикнул что-то невнятное и упал, будто срубленное дерево. Брат Сэмюэль позвал на помощь. На пороге часовни сразу же появились пять монахов. Джоанна встала на колени возле отца и обхватила его руками. Седая голова каноника беспомощно лежала у нее на плече. Взглянув ему в глаза, Джоанна ужаснулась: в них застыла лютая ненависть. Губы его что-то шептали: — М… м… м!.. — Ничего не говори, — сказала Джоанна. — Тебе нехорошо. Он свирепо взглянул на нее. Из последних сил он тихо произнес единственное слово. — М… m… m… Mulier! Женщина! Голова его качнулась и замерла, глаза застыли. Джоанна склонилась над отцом, пытаясь уловить дыхание, прощупать пульс на шее. Через мгновение она закрыла ему глаза. — Умер. Брат Сэмюэль и другие перекрестились. — Мне показалось, будто он что-то произнес перед смертью, — заметил брат Сэмюэль. — Что он сказал? — Он… он призывал Марию, Богородицу. Брат Сэмюэль печально кивнул. — Святой человек, — Он обратился к братьям: — Отнесите его в храм. Мы подготовим его тело к погребению.
— Terra es, terram ibis, — произнес аббат Рабан. Вместе со всеми Джоанна наклонилась, взяла горсть земли и бросила в могилу. Комья темной влажной земли тяжело падали на крышку гроба, в котором упокоился ее отец. Он всегда ненавидел ее. Даже когда она была совсем маленькой. Перед тем, как между ними зародилась вражда, Джоанна никогда не ждала от него ничего кроме скупой снисходительности, Для отца она всегда оставалась тупой, никчемной девчонкой. Однако Джоанну потрясло, как легко он готов был выдать ее, как неистово жаждал ее смерти. Тем не менее, когда на могилу отца упал последний ком земли, Джоанне вдруг стало невыразимо грустно. Каждое мгновение своей жизни она либо противостояла отцу, либо боялась его и даже ненавидела. Но чувство тяжелой утраты осталось. Мэтью, Джон, мама — все ушли в мир иной. Отец оставался последней связью с домом, с той девочкой, которой она когда-то была. Больше нет Джоанны из Ингельхайма. Есть только Иоанн Англиканец. Священник и монах бенедиктинского монастыря в Фульде. (обратно)
Глава 17

ФОНТЕНО, 841 год
В дымке жемчужного света раннего утра нежно мерцала долина, посередине которой пролегла извилистая нить серебристого ручья. «Неподходящее место для сражения», — с грустью подумал Джеральд. Прошел всего год после смерти короля Людовика, но непримиримая вражда между его тремя сыновьями переросла в настоящую гражданскую войну. Самый старший, Лотар, унаследовал титул императора, но земли королевства были разделены между ним и его младшими братьями, Чарльзом и Людвигом. Это непродуманное и опасное решение превратило братьев во врагов. Даже в этой ситуации войны можно было бы избежать, но Лотар не отличался дипломатичностью. Надменный и деспотичный, он держался с младшими братьями высокомерно, что заставило их объединиться против него. И вот все трое сошлись здесь, в Фонтено, чтобы решить спор кровью. Преодолев длительные сомнения, Джеральд занял сторону Лотара. Он хорошо знал, что у него тяжелый характер, но помазанный император был единственной надеждой франков. Междоусобица, сотрясавшая государство последний год, выявила страшную истину: норманны пользуясь неустойчивой политической ситуацией, участили набеги на франкский берег и сеяли повсюду разрушения. Если Лотар одержит здесь решительную победу, его братьям придется поддержать его. Тиран лучше, чем полное безвластие. Послышались удары колокола, созывавшего людей. Лотар хотел, чтобы служба вдохновила его воинов перед боем. Джеральд, оторвавшись от размышлений, вернулся в лагерь. Облаченный в золотые одежды епископ Оксер стоял на высокой повозке, чтобы его все видели. — Libera mе, Domine, de morte aeterna, — пропел он баритоном, пока дюжина псаломщиков ходили между воинами, раздавая священные дары. Многие из воинов были зависимые и крестьяне, не привыкшие к оружию, те, кого обычно освобождали от королевской военной службы. Но времена настали другие. Их вырвали из привычной жизни, дав не больше часа на последние распоряжения по хозяйству, сборы и прощание с родными. Эти приняли священные дары без особого энтузиазма. Они не были готовы идти на смерть. Их все еще занимала жизнь земная, от которой их так грубо оторвали. Они продолжали думать о своих полях, хозяйстве, о женах и детях. Недоумевающие и растерянные, они пока не понимали всей важности своего предназначения, не верили, что им суждено воевать и умирать в этой незнакомой земле за короля, чье имя еще недавно было для них пустым звуком. «Сколько этих невинных душ увидит рассвет следующего дня?» — думал Джеральд. — О владыка душ! — взмолился епископ. — Защитник от недругов, Победитель, спаси и защити нас, подними Свой меч возмездия на наших врагов. Аминь! — Аминь! — Воздух загудел тысячами голосов. Спустя мгновение на горизонте сверкнул первый рассветный луч, осветив долину, сверкая на копьях и стрелах, как драгоценная россыпь. Послышались радостные возгласы воинов. Епископ снял мантию и передал ее псаломщику. Распустив ризу он позволил ей свободно упасть, обнажив воинские доспехи: рубаху из толстой кожи в железных нашивках, пропитанную горячим воском, а также металлические наколенники. «Он тоже собирается сражаться», — подумал Джеральд. Вообще-то, епископу запрещалось проливать кровь, но в реальной жизни этим благочестивым правилом часто пренебрегали. Епископы и священники сражались плечом к плечу со своими королями и другими вассалами. Один из псаломщиков подал епископу меч с выгравированным на нем крестом. Епископ взмахнул мечом, и золотой крест засиял на солнце. — Во славу Иисуса Христа! — крикнул он. — Вперед, благочестивые христиане, в бой!* * *
Джеральд командовал левым флангом, расположившимся на склоне холма на границе южного края поля. На противоположном холме Пипин, племянник Лотара, командовал правым флангом, большим, хорошо вооруженным отрядом аквитанцев. Авангард, во главе которого стоял сам Лотар, находился внизу, за деревьями, обрамлявшими восточный край поля, прямо перед противником. Гнедой под Джеральдом нетерпеливо гарцевал и ржал. Наклонившись, Джеральд погладил его по крепкой шее, чтобы успокоить. Лучше сохранить силы для боя, когда настанет время. — Скоро, мальчик, — прошептал он. — Скоро. Джеральд посмотрел на небо. Было около шести утра. Низкое солнце светило прямо в глаза противника. «Отлично, — подумал Джеральд. — Это преимущество нужно использовать». Он следил, когда Лотар подаст сигнал к атаке. Прошла четверть часа, но никакого сигнала не последовало. Противники стояли по краям зеленого поля, глядя друг на друга. Прошла еще четверть часа. Потом еще, и еще. Джеральд направился с холма к передней линии авангарда, где под развевающимися знаменами стоял Лотар. — Ваше величество, почему такая отсрочка? Люди с нетерпением ждут атаки. Лотар повернул к иему свой длинный нос и раздраженно ответил: — Я император, еще не время наступать. — Джеральд не нравился ему своей независимостью, обретенной за годы, которые он провел среди язычников и варваров во время северного похода. — Но, сир, взгляните на солнце! Пока преимущество на нашей стороне, но через час это закончится! — Верь в Бога, граф Джеральд, — высокомерно ответил Лотар. — Я Богом помазанный император. Он не допустит, чтобы мы проиграли битву. По уверенному тону Лотара Джеральд понял, что спорить бесполезно. Он быстро поклонился, развернул коня и ускакал на свою позицию. Возможно, Лотар прав. Бог действительно дарует им победу. Но разве не надеялся Он на небольшую помощь людей?Время близилось к десяти, солнце стояло почти в зените. «Проклятье, — выругался Джеральд про себя. — О чем, в самом деле, думает Лотар?» Они ждали уже почти четыре часа. Солнце припекало их железные кольчуги так, что воины начали ворчать. Тем, кто хотел справить нужду, рекомендовалось делать это, не сходя с места, чтобы не нарушить строя. В воздухе повис тяжелый запах мочи. В таких невыносимых условиях Джеральд с удовольствием заметил, что прибыл небольшой отряд с бочками вина. Всех мучили жара и жажда. Чтобы поднять боевой дух, потребовалась лишь хорошая чаша крепкого вина. Когда слуги начали раздавать густое франкское вино, по войску прокатился удовлетворенный гул. Джеральд выпил и почувствовал себя лучше. Если небольшое количество вина делает человека отважным, его избыток превращает воина в бешеное и тупое животное, опасное как для себя самого, так и для товарищей. Казалось, Л отару это было безразлично. Он щедро продолжал раздавать вино. Весело болтая и подшучивая друг над другом, воины авангарда хвалились оружием, удалью и соревновались за честь стоять в первых рядах. Они толкались и спорили, словно упрямые мальчишки, какими они на самом деле и были. За исключением нескольких опытных ветеранов, большинству воинов едва исполнилось восемнадцать. — Они наступают! Они наступают! По шеренгам пронесся ропот. Противник надвигался на них, пока медленно, так что пешие воины и лучники находились на близком расстоянии от кавалеристов, скакавших перед ними. Торжественные и величественные, они походили скорее на религиозную процессию, чем на людей, идущих в сражение. Среди авангарда Лотара началась паника. Воины поспешно приводили себя в порядок, надевали шлемы, хватались за копья и щиты. Едва они успели сесть на коней, как вражеская кавалерия начала стремительную атаку. Земля содрогнулась от топота копыт. Знамена в королевском авангарде поднялись и опустились, сигнализируя ответную атаку. Вперед понеслась кавалерия, топча копытами нежную зеленую траву. Конь Джеральда тоже рванулся вперед. Но Джеральд осадил его. — Не время, мальчик! — Джеральду и его людям следовало подождать. Левый фланг должен был вступить в бой последним, после Лотара и Пиппина. Армии противников сошлись, словно две большие волны. Сорок тысяч воинов, гордость франкской аристократии, мчались плотными рядами, растянувшимися на полмили и на такое же расстояние в глубину. С бешеным криком группа королевского авангарда вырвалась вперед, нарушая шеренги, подгоняя лошадей, пытаясь пробиться в первые ряды и сразиться с врагом на глазах своего императора. Джеральд смотрел на это с досадой. Если они продолжат в том же духе, то доберутся до ручья раньше противника, и им придется сражаться в воде, тогда как противник будет бить их с берега. Опьянев от вина и молодого задора, воины сразу вошли в воду и вступили в схватку с противником. Они заняли крайне невыгодную позицию: им приходилось отбиваться от противника, находившегося на берегу. Лошади скользили на мокрых камнях и падали в воду, увлекая за собой всадников. Попытки поднять лошадей только пугали животных. Скакавшие за ними всадники все видели, но двигались с такой скоростью, что не могли остановиться, подгоняемые следовавшими за ними лошадьми. Они сражались в воде, красной от крови. Выживших в первой атаке течение несло прямо на копья противника. Только последние кавалерийские ряды, в которых оказался теперь Лотар, сориентировались. Развернув своих лошадей, они направились обратно через поле бешеным галопом прямо на ряды пеших воинов, маршировавших позади. От неожиданности те в панике рассыпались, уходя от мощных ударов всадников. Бой был почти проигран. Осталась единственная надежда на фланги, которыми командовали Пипин и Джеральд. С той позиции, где они стояли, можно было спуститься на поле позади ручья и ударить прямо в центр войска принца Людвига. Взглянув на противоположный склон, Джеральд заметил, что Пипин и его аквитанцы развернулись и сражались шиной к полю. Принц Чарльз мог окружить их и зайти сзади. Им никто не поможет. Джеральд посмотрел в сторону поля. Самая большая часть войска Людвига перешла через ручей, чтобы нагнать отступавшего Лотара, и рискованно обнажила свои ряды, оставив короля не защищенным. Это был один шанс из тысячи, но нужно было рисковать. Джеральд встал на стременах и поднял меч. — Вперед! — крикнул он. — Именем короля! — За короля! — Крик взвился к небу, словно лай гончих, и еще долго висел в воздухе, когда они мчались вниз по склону — огромный летящий клин, нацеденный прямо в то место, где в лучах летнего солнца развевался красно-голубой штандарт Людвига, Небольшой отряд, сгруппировавшийся вокруг короля, попытался заслонить его, но Джеральд со своими людьми обрушился на него, пробиваясь сквозь ряды. Первого воина Джеральд сразил копьем, пронзив ему грудь. От сильного удара копье сломалось. Воин вылетел из седла, увлекая за собой и колье. Вооруженный только мечом Джеральд бросился в бой сломя голову, размашисто отбиваясь и упрямо продвигаясь в сторону штандарта. Его люди сражались по бокам и сзади, расширяя проход. Ярд за ярдом, дюйм за дюймом, охрана Людвига сдавала свои позиции под напором противника. Вдруг впереди образовалось открытое пространство. Прямо перед Джеральдом поднимался королевский штандарт, красный грифон, вышитый на голубом поле. Перед ним, на белом коне, стоял сам принц Людвиг.[511] — Сдавайся! — изо всех сил крикнул Джеральд. — Сдавайся и будешь жить! Вместо ответа Людвиг обрушил на Джеральда свой меч. Этот беспощадный бой двух одинаково сильных, и ловких воинов длился, пока соседняя лошадь, сраженная стрелой, не упала на Джеральда, отчего его конь метнулся в сторону. Людвиг воспользовался минутным преимуществом и ударил Джеральда по шее. Джеральд увернулся от удара, поднырнул под поднятую руку короля и вонзил свой меч ему между ребер. Людвиг закашлялся, изо рта у него пошла кровавая пена. Тело изогнулось и вывалилось из седла, упав на вытоптанную землю. — Людвиг умер! — победно закричали люди Джеральда. — Людвиг сражен! — разнесся по шеренгам крик. Нога Людвига запуталась в стремени. Его конь, встав на дыбы, потащил тело короля по земле. Островерхий шлем с защитной планкой для носа съехал на бок, открыв широкое, совершенно незнакомое лицо. Джеральд выругался. Это была трусливая уловка, недостойная воина. Перед ними был не Людвиг, а его двойник, одетый как принц, чтобы ввести их в заблуждение. Времени на размышления не было, потому что их сразу окружили люди Людвига. Прикрывая фланги друг друга, Джеральд и его воины отчаянно пробивались сквозь окружение. В просвете показалась зеленая трава. У Джеральда сжалось сердце: еще несколько ярдов, и они на свободе, в широком поле. Перед Джеральдом появился человек, огромный, как дерево. Джеральд быстро смерил его взглядом — здоровенный мужчина, грузный, с большим животом и сильными руками размахивал огромной булавой, оружием мощным, но не позволяющим использовать боевое мастерство. Джеральд метнулся влево. Когда воин повернулся, чтобы напасть на него, Джеральд отпрянул назад, чтобы нанести удар по его руке. Воин выругался и перекинул булаву в левую руку. Сзади послышался шум, похожий на хлопанье птичьих крыльев. Джеральд почувствовал тупую боль в спине, когда стрела пронзила его правое плечо. Он беспол мощно выронил меч из онемевшей руки. Великан размахнулся булавой. Отклонившись от удара, Джеральд понял, что опоздал. У него в голове словно что-то лопнуло, и от сокрушительного удара потемнело в глазах.
Звезды безмятежно сияли над полем брани, усеянным телами погибших. Двадцать тысяч человек, лежали мертвыми или умирающими в ночных сумерках: аристократы, вассалы, фермеры, ремесленники, отцы, сыновья, братья — прошлая гордость империи и несостоявшаяся надежда на ее будущее. Джеральд пошевелился и открыл глаза. Минуту он лежал, глядя на звезды; ему не удалось вспомнить, где он и что случилось. Он почувствовал знакомый тошнотворный запах. Кровь! Джеральд поднялся и сел. От движения сильно заболела голова, и память восстановилась. Он коснулся правого плеча, в нем все еще торчала стрела. Надо было вытащить ее, чтобы предотвратить заражение. Джеральд отломил железный наконечник и быстрым движением левой руки вытащил древко. От обжигающей боли перехватило дыхание, и он выругался, стараясь не потерять сознание. Через некоторое время боль начала утихать, и Джеральд огляделся. На земле валялись мечи, сломанные щиты, отрубленные конечности, изорванные в клочья знамена и остывающие трупы. С холма, где стояли войска Чарльза и Людвига, доносились радостные голоса и веселый смех. Пиршество победителей освещал мерцающий свет костров и факелов. На противоположном холме, где находилось войско императора, царили полная тишина и мрак. Лотар был повержен. Остатки его войска скрылись в окрестных лесах. Джеральд встал, стараясь подавить тошноту. В нескольких шагах лежал его гнедой конь. Задние ноги судорожно подергивались, а из страшной раны в животе вывалились внутренности. Когда Джеральд направился к нему, рядом мелькнула небольшая тень бродячей собаки. Трусливо прячась, она пришла поживиться, Джеральд угрожающе замахнулся на нее, и собака убежала, поджав хвост. Встав на колени рядом с конем, он ласково погладил его по шее. Услышав знакомый голос конь на мгновение перестал дергаться, в его глазах застыла предсмертная агония. Джеральд вынул из-за пояса нож, нащупал вену и полоснул по ней. Он обнимал коня, пока тот не замер. За спиной раздались тихие голоса. — Смотри! За этот шлем можно будет взять не меньше золотого динария! — Брось его, — отозвался другой голос, более низкий и властный. — Он никчемный, треснул сзади, неужели не видишь? Сюда, ребята, здесь есть чем поживиться! Мародеры! После сражения со всех дорог и пролесков собирались эти гнусные типы, охотясь за пожитками мертвецов. Они украдкой передвигались в темноте, беря оружие, одежду и драгоценности покойников все, что имело хотя бы какую-то ценность. Неподалеку послышался голос: — А этот еще живой! Раздался шум удара и внезапно прерванный крик. — Если увидишь еще, — послышался другой голос, — делай с ними то же самое. Свидетели нам не нужны. Через мгновение они доберутся до него. Джеральд еле стоял на ногах, но под прикрытием темноты он направился к лесу. (обратно)
Глава 18

Феодальная война между сыновьями покойного Людовика мало занимала монахов монастыря в Фульде. Подобно камню, брошенному в середину пруда, сражение при Фонтено подняло большие волны в цитадели власти, но здесь, на восточной окраине империи, волнение было едва заметным. Некоторые из крупных лендлордов этой местности пошли служить в армию Людовика. По закону о свободных владельцах, каждый, имеющий более четырех домов, обязан был служить в армии короля. Но стремительная и решительная победа Людовика означала, что каждый второй из этих людей вернулся домой целым и невредимым. Монашеская жизнь осталась прежней. Несколько урожайных лет обеспечили сытное существование. Монастырские закрома ломились от изобилия, и даже тощие австразийские свиньи растолстели от хорошей кормежки. Но вдруг наступили тяжелые времена. Непрерывные дожди за несколько недель уничтожили посевы. Хуже всего было то, что сырость проникла в амбары и почти все зерно сгнило. Голод зимой оказался самым тяжелым за всю историю этих земель. К ужасу церковников, появились случаи каннибализма. Дороги стали чрезвычайно опасными, потому что на путников охотились не только из-за их пожитков, но и ради пропитания. При публичной казни через повешенье в Лорше голодная толпа свалила виселицу и растащила на куски еще теплые тела казненных. Ослабленные голодом люди стали легкой добычей для болезней. Симптомы были одни и те же: головная боль, озноб, дезориентация; за ними следовало повышение температуры и тяжелый кашель. В этих случаях больного раздевали и обертывали влажной прохладной простыней, чтобы снизить температуру. У тех, кому удавалось перенести жар, появлялась надежда на выздоровление. Но выживали очень немногие. Даже стены монастыря не спасали от эпидемии. Первым заболел брат Сэмюэль, госпитальер, которому приходилось часто контактировать с людьми из внешнего мира. Он умер спустя два дня. Аббат Рабан счел это результатом его чрезмерной общительности и нескромной шутливости. Он заявил, что заболевание плоти стало лишь внешним проявлением морального и духовного упадка. Следующим был брат Алдоард — само воплощение монашеского благочестия и добродетели. Его участь разделили брат Гилдвин, монастырский ризничий, и еще несколько братьев. К удивлению монахов, аббат Рабан объявил о намерении совершить паломничество к усыпальнице Святого Мартина, чтобы вымолить спасение от эпидемии у святых мучеников. — В мое отсутствие, меня заменит приор Джозеф, — сказал Рабан. — Слушайте Джозефа, ибо слово его равносильно моему. Внезапное решение Рабана и его поспешный отъезд вызвали немало толков. Одни превозносили аббата за предпринятое им паломничество, другие утверждали, что аббат попросту сбежал. У Джоанны не было времени на размышления. Она работала от рассвета до зари, проводя мессы, выслушивая исповеди и постоянно приходя кому-то на выручку. Однажды Джоанна заметила, что брата Бенжамина нет на заутрене. Этот благочестивый человек никогда не пропускал ни одной службы. Сразу по окончании мессы Джоанна поспешила в лазарет. Войдя в длинную прямоугольную комнату, она почувствовала едкий запах гусиного жира и горчицы, которую использовали при заболеваниях легких. Лазарет был переполнен, койки стояли плотными рядами, и на каждой лежал больной. Между кроватями сновали монахи, назначенные в этот день помогать в лазарете, подносить больным питье, поправлять одеяла или молиться над теми, кому уже нельзя было помочь. Брат Бенжамин полулежал в кровати, объясняя брату Додату, одному из молодых монахов, как лучше накладывать горчичник. Слушая его, Джоанна вспомнила день, когда он учил ее тому же. При этом воспоминании она ласково улыбнулась. Если Бенжамин еще способен отдавать распоряжения, значит его состояние пока не критическое. Джоанна поспешила к кровати Бенжамина. Намочив тряпицу в розовой воде, она приложила ее к горячему лбу Бенжамина. Боже мой! Как ему удается сохранить сознание при таком сильном жаре? Наконец Бенжамин перестал кашлять. Он лежал с закрытыми глазами и хрипло дышал. Его седые волосы, словно нимб, обрамляли бледное лицо. Его крестьянские руки, большие и грубые, но удивительно нежные и чуткие, беспомощно покоились на одеяле. Открыв глаза, брат Бенжамин увидел Джоанну и улыбнулся. — Ты пришел. Это хорошо, — сказал он. — Как видишь, мне требуется твоя помощь. — Немного тысячелистника с протертой ивовой корой поставит вас на ноги. — Джоанна говорила довольно уверенно, хотя его состояние сильно тревожило ее. Бенжамин покачал головой. — Теперь ты нужен мне как священник, а не как лекарь. Помоги мне отойти в лучший мир, братишка, на этом свете для меня уже нет места. Джоанна взяла его за руку: — Без боя я вас не отдам. — Ты знаешь все, чему я мог научить тебя, теперь учись смирению. — Никогда не смирюсь с вашим уходом. Два следующих дня Джоанна боролась за жизнь Бенжамина, пустив в ход все, чему он научил ее, испробовав все возможные снадобья, но жар так и не спал. Бенжамин быстро терял вес, и его плотное тело обвисло, будто из него выпустили воздух. Сквозь лихорадочный румянец на лице начала проступать зловещая бледность. — Исповедай меня, — умолял Бенжамин. — Хочу быть в сознании, принимая святые дары. Джоанна больше не могла ему отказывать. — Quid mе advocasti? — начала она обряд причастия. — Чего ты хочешь от меня? — Ut mihi unctionem trades, — ответил он. — Дай мне утешение. Обмакнув большой палец в смесь пепла с водой, Джоанна поставила знак креста на груди брата Бенжамина и поверх положила кусочек рубища — символ смирения. Бенжамин снова сильно закашлялся, и Джоанна увидела, как на губах у него выступила кровь. Испугавшись, она поспешила прочесть семь покаянных псалмов и совершила ритуал помазания глаз, ушей, губ, рук и ног. Казалось, обряд длился вечно. Б конце Бенжамин уже лежал с закрытыми глазами совершенно неподвижно. Джоанна не понимала, в сознании ли он. Подошел момент причастия. Джоанна поднесла к губам Бенжамина облатку, но Бенжамин не отреагировал. «Слишком поздно, — подумала она. — Я не успела». Когда она коснулась просфорой губ Бенжамина, он открыл глаза и принял Святые Дары. Джоанна благословила его. Дрожащим голосом она приступила к священной молитве: — Corpus et Sangius Domini nostri Jesu Christi in vitam aeternam te perducat… Он умер на рассвете, когда утренний воздух наполнился нежными звуками нового дня. Печаль переполняла Джоанну. С того дня, когда Бенжамин взял ее под свое крыло, он был ее наставником в другом. Даже когда обязанности священника лишили Джоанну возможности работать в лазарете, Бенжамин продолжал помогать ей и поддерживать ее. Он стал настоящим отцом для Джоанны. Не найдя утешения в молитве, она полностью отдалась работе. На дневной службе людей было больше обычного: когда вокруг свирепствовала смерть, оставшиеся в живых потянулись в церковь. Однажды, поднеся потир к губам пожилого прихожанина, Джоанна обратила внимание на его слезящиеся глаза и лихорадочный румянец на щеках. Следующей была худенькая молодая женщина с миловидным ребенком на руках. Женщина поднесла ребенка принять святые дары. Крошечные розовые губки открылись, чтобы испить из общей чаши, как раз в том месте, где прикасались к потиру губы старика. Джоанна убрала потир. Взяв кусочек просфоры, она обмакнула его в вино и подала ребенку. Девочка удивленно посмотрела на мать, и та одобрительно кивнула. Это было отступление от привычного обряда, но священник должен знать, что делает. Джоанна продолжила погружать хлеб в вино до окончания причастия. Сразу после службы приор Джозеф вызвал ее к себе. Джоанна обрадовалась, что ей придется держать ответ перед Джозефом, а не перед Рабаном, Джозеф не очень строго придерживался правил, особенно если нововведения хорошо объясняли. — Ты сегодня допустил изменения во время службы, — заметил Джозеф. — Да, отец. — Почему? — В вопросе прозвучало любопытство, а не возмущение. Джоанна объяснила. — Больной старик и здоровый младенец, — задумчиво повторил Джозеф. — Согласен, это несовместимо. — Более чем несовместимо, — ответила Джоанна. — Уверен, это один из путей распространения болезни. Джозеф задумался. — Неужели? Несомненно, болезненный дух витает повсюду. — Возможно, не один только дух вызывает болезнь. Заболевание может распространяться через физический контакт с больными или через предметы, к которым они прикасались. Идея была новой, но не лишенной смысла. То, что иные болезни передавались через непосредственный контакт, было давно известно. Именно поэтому прокаженным строжайше запрещали жить среди здоровых людей. Не подлежало сомнению, что болезни часто распространялись среди родственников, и люди вымирали целыми семьями в течение нескольких дней, даже часов. Но причина этого явления была загадкой. Передается через физический контакт? Но каким способом? — Не знаю, — призналась Джоанна. — Но сегодня у больного прихожанина я видел открытые раны на губах и подумал… — Она замолчала, расстроенная. — Не могу объяснить, отец, по крайней мере сейчас. Но пока я не узнаю больше, буду причащать, обмакивая хлеб в вино, и не позволю прихожанам пить из одной чаши. — Ты хочешь ввести этот порядок, полагаясь только на интуицию? — удивился Джозеф. — Если я не прав, от моей ошибки никто не пострадает, потому что верующие все равно будут вкушать от плоти и крови Христовой, — настаивала Джоанна. — Но если моя… интуиция не подведет меня, это позволит спасти многие жизни. Джозеф размышлял. Нельзя было так легко вносить изменения в церковную службу. С другой стороны, Иоанн Англиканец — человек ученый, опытный лекарь. Джозеф хорошо помнил, как он вылечил прокаженную. Тогда, как и теперь, полагались только на «интуицию» Иоанна Англиканца Джозеф подумал, что к подобным проявлениям интуициилучше относиться внимательно, ибо они исходят от Бога. — Продолжай в том же духе, — сказал он. — Вернувшись, аббат Рабан выразит свое мнение по этому поводу. — Благодарю, отец. — Джоанна почтительно поклонилась и быстро удалилась. Погружение хлеба в вино было названо mtuictio, и, кроме самых строгих приверженцев старых методов, нововведение охотно и повсеместно приняли все, поскольку, не нарушая эстетики мессы, оно позволяло соблюдать правила- гигиены. Монаху из Корби, остановившемуся в монастыре по дороге домой, так понравилась эта идея, что он предложил ее своему аббатству, где новшество сразу одобрили. Постепенно эпидемия пошла на убыль, но не прекратилась. Джоанна стала вести подробные записи случаев заболевания, изучая их, чтобы выявить причину распространения инфекции. Ее исследования прекратились после возвращения аббата Рабана. Он сразу вызвал Джоанну к себе и высказал свое неодобрение. — Канон церковной службы неколебим. Как смеешь ты менять его? — Отец аббат, изменилась только форма, но не содержание. И я уверен, что это спасает жизни. Джоанна начала излагать свои наблюдения, но Рабан резко остановил ее. — Твои наблюдения бесполезны, потому что они результат неверия, умозаключения, которым нельзя доверять. Этими методами дьявол искушает людей и, отвращая их от Бога, вселяет в них гордыню. — Если Господь не желает, чтобы мы изучали материальный мир, — не унималась Джоанна, — то зачем Он дал нам глаза, которые видят, уши, которые слышат, и нос, который чувствует запахи? Не считаю грехом пользоваться тем, что сам Господь даровал нам. — Вспомни слова святого Августина: «Вера состоит в том, чтобы верить в то, чего нельзя видеть». — Августин также говорил, что мы не обладали способностью верить, если бы не могли увидеть. Мы не нужны Ему, бесчувственные и неразумные, — возразила Джоанна. Рабан разозлился. Человек косный, тривиально мыслящий, не наделенный воображением, он не любил аргументированных споров, предпочитая подавлять оппонента своим авторитетом. — Прими суд Отца Своего и повинуйся Ему, — процитировал он из Правил. — Вернись к Богу трудным путем послушания, ибо предал Его, следуя своей собственной воле. — Но, ваше преподобие… — Все, я сказал свое слово! — сердито воскликнул Рабан, покраснев от злости. — Иоанн Англиканец, с этого момента ты свободен от выполнения обязанностей священника. Будешь учиться человеколюбию, работая в лазарете, помогая брату Одило, прислуживая ему с должным послушанием. Джоанна хотела возразить, но не стала. Рабан терял терпение, и протест грозил ей тяжелыми последствиями. Она опустила голову. — Как прикажете, аббат.
Позднее, размышляя о случившемся, Джоанна поняла, что Рабан был прав. Она слишком горда и непослушна. Но кому нужно послушание, если от этого страдают люди? Погружение спасало жизни, Джоанна в этом не сомневалась. Но как убедить в этом аббата? Он не потерпит ее возражений. Убедить его можно лишь сославшись на авторитетное мнение. Поэтому теперь, наряду со своими дневными обязанностями и работой в лазарете, Джоанна начала посещать библиотеку, пытаясь отыскать в текстах Гиппократа, Орибаса и Александра Траллского хоть что-то, подтверждающее ее гипотезу. Она работала без устали, отдавая сну только два-три часа в сутки и доводя себя до изнеможения. Однажды, читая текст Орибаса, Джоанна нашла то, что искала. Переписывая переведенный отрывок, она вдруг почувствовала, что ей очень трудно писать, голова болела, и рука с трудом держала перо. Решив, что это лишь следствие переутомления, Джоанна продолжила работу. Но вдруг перо выпало из руки на страницу, закапав ее чернилами. «Какая неудача, — подумала она. — Придется выскоблить дочиста и начать сначала». Ее пальцы дрожали так, что она не могла снова приступить к работе. Встав, она ухватилась за край стола, и почувствовала сильное головокружение. Качаясь, Джоанна добралась до двери и буквально выпала наружу, встав на четвереньки. Ее стошнило. Каким-то образом она добралась до лазарета. Брат Одило уложил Джоанну на кровать и прикоснулся рукой к ее раскаленному лбу. Джоанна удивленно заморгала. — Ты из прачечной? Брат Одило покачал головой. — У меня не холодные руки, брат Иоанн. У тебя высокая температура. Боюсь, ты тоже заболел. «Заболела! — пронеслось в затуманенном сознании Джоанны, — Нет, этого не может быть! Просто устала, вот и все. Мне бы только отдохнуть немного…» Брат Одило положил ей на лоб тряпицу, намоченную в розовой воде. — Лежи тихо, пока я намочу новые тряпицы. Вернусь через минуту. Его голос прозвучал словно издалека. Джоанна закрыла глаза. Прохладная повязка на голове благоухала розой, помогая ей погрузиться в блаженную темноту. Но вдруг Джоанна широко распахнула глаза. Они завернут ее во влажные простыни, чтобы сбить температуру. Для этого им придется раздеть ее. Этого нельзя допустить. Джоанна поняла, что как бы она ни сопротивлялась, они все равно это сделают. Любые протесты сочтут лихорадочным бредом. Она села на кровати, свесив ноги. Голова снова заболела. В висках застучало и заныло. Джоанна направилась к двери. Перед глазами все поплыло, но она заставила себя выйти наружу и быстро направилась к крепостным воротам. Перед тем как пройти мимо привратника Хатто, Джоанна выровняла походку. Он подозрительно взглянул на нее, но остановить не решился, Джоанна шла прямо к реке. Слава Богу, маленькая монастырская лодка стояла на месте, привязанная веревкой к ветке дерева. Джоанна отвязала лодку, залезла в нее и оттолкнулась от берега ногами. Как только лодка отошла, она потеряла сознание. Лодка долго стояла в воде неподвижно. Затем ее подхватило течение, развернуло и унесло.
* * *
Небо медленно вращалось, высокие белые облака расплывались по небу экзотическими узорами. Темно-красное солнце коснулось горизонта, и его лучи опаляли лицо Джоанны, выжигая глаза. Она с удивлением смотрела, как его края засияли и растворились, образовав силуэт человека. Перед ней поплыло лицо отца. Под густыми бровями появилась страшная улыбка черепа. Безгубый рот открылся и произнес: «Женщина!», но голос принадлежал не отцу, это был голос ее матери. Рот открылся еще шире, и Джоанна увидела, что это вовсе не рот, а страшная пропасть в бездну. Там полыхали огромные сине-красные языки огня. В пламени горели люди, их тела извивались от боли. Один из них взглянул на Джоанну. С ужасом Джоанна узнала голубые глаза и золотистые саксонские волосы. Мать звала ее, протянув руки. Джоанна направилась к ней, но вдруг земля под ногами исчезла, и она начала падать в страшную бездну. «Мамааа!» — кричала она, падая в огонь… Джоанна очутилась в заснеженной долине. Вдали сиял Вилларис, и на крышах его под солнцем таял снег, а талые капли сверкали, как драгоценные камни. Она услышала топот копыт, обернулась и увидела Джеральда. Он скакал к ней на Пестисе. Джоанна побежала к нему по снежному полю, он склонился, обхватил ее и посадил перед собой в седло. Она прильнула к нему, наслаждаясь силой его объятий. Она была в безопасности, теперь ей ничто не угрожало, Джеральд этого не допустит. Они вместе направились к сияющим башням Виллариса, слушая, как стучат копыта коня, и плавно раскачиваясь в седле… Движение прекратилось. Джоанна открыла глаза. Над боргом лодки возвышались верхушки деревьев, темные и неподвижные на фоне сумеречного неба. Лодка остановилась. Над ней послышались голоса, но Джоанна не могла разобрать ни слова. Чьи-то руки вытащили ее из лодки. Она смутно вспомнила, что нельзя позволять им делать это, пока она больна, нельзя, чтобы ее отнесли обратно в Фульду. Джоанна отчаянно отбивалась. Услышав, как кто-то выругался, она почувствовала сильную острую боль в челюсти и больше ничего.* * *
Из темной бездны Джоанна выбиралась очень медленно. В голове стучало, горло пересохло и саднило. Она облизнула сухие губы и ощутила вкус крови. Челюсть болела. Ощупав ее, Джоанна вздрогнула. Ее посетила мысль, о том, где она. Джоанна лежала на пуховом матрасе в незнакомой комнате. Судя по количеству и качеству мебели, хозяин дома был человеком богатым. Кроме огромной кровати, в которой она лежала, в комнате стояли скамьи, покрытые мягкой тканью, кресло с высокой спинкой и мягкими подушками, длинный дощатый стол, письменный столик, несколько сундуков и комодов, украшенных прекрасной резьбой. Рядом горел камин, а на жаровне лежали две булки, источая приятный аромат. Неподалеку, спиной к ней, стояла пышная молодая женщина, замешивая тесто. Закончив месить, она стряхнула муку с фартука и повернулась к Джоанне. Затем она быстро подбежала к двери и позвала: — Муженек! Иди скорее. Твоя гостья проснулась! В комнату вбежал румяный молодой человек, долговязый и неуклюжий, похожий на цаплю. — Как она? — спросил он. Она? Услышав это слово, Джоанна вздрогнула. Посмотрев на себя, она увидела не монашеское одеяние, а женскую рубашку из мягкого голубого полотна. Они все знают. Джоанна попыталась подняться с кровати, но руки и ноги словно налились свинцом. — Не напрягайтесь. — Молодой человек осторожно прикоснулся к ее плечу, укладывая в постель. У него было приятное, честное лицо и большие голубые глаза, напоминающие васильки. Кто он? Недоумевала Джоанна. Донесет ли он аббату Рабану и другим про то, что я… или он уже сделал это? Действительно ли я его «гостья»? Или пленница? — П-п-пить, — прохрипела она. Молодой человек опустил чашку в деревянный бочонок рядом с кроватью и подал Джоанне воды. Он осторожно поднес чашку к ее губам, чтобы она могла напиться не захлебнувшись. Джоанна схватила чашку и с жадностью стала пить. Прохладная влага показалась самым волшебным напитком, какой ей когда-либо случалось отведать. Молодой человек предостерег ее: — Лучше пить понемногу. Прошла неделя пока вам удалось съесть больше нескольких ложек. Неделя с лишним! Неужели она здесь так долго? Джоанна помнила только, как залезла в лодку, больше ничего. — Г-где… Где я? — спросилаона. — Вы в поместье лорда Рикульфа, в пятидесяти милях от Фульды. Мы нашли вас в лодке, застрявшей в прибрежном валежнике. Вы были в беспамятстве от лихорадки, но при этом очень сильно отбивались от нас. Джоанна потрогала болезненный синяк на челюсти. Молодой человек улыбнулся. — Простите. По-другому с вами нельзя было обойтись, Хотя и в тяжелом состоянии, но сдачу дали. — Он завернул рукав и показал большой безобразный синяк на правом плече. — Вы спасли меня, — сказала Джоанна. — Спасибо. — Пожалуйста. Долг платежом красен. Это за все, что вы сделали для меня и моих родных. — Неужели… я знаю вас? — удивилась она. Молодой человек улыбнулся еще шире. — Похоже, я сильно изменился после нашей последней встречи. Мне тогда было двенадцать, почти тринадцать лет. Посчитаем… — И он начал считать на пальцах по классическому методу Беде. — Это было лег шесть назад. Шесть лет на триста шестьдесят пять дней… как же… две тысячи сто девяносто дней! Джоанна от удивления вытаращила глаза, узнав юношу. — Арн! — воскликнула она и сразу попала в его объятья.В тот день они больше не разговаривали, поскольку Джоанна была очень слаба и Арн не хотел, чтобы она изнуряла себя. Съев несколько ложек бульона, она тотчас заснула. На следующий день Джоанна почувствовала себя гораздо лучше, и главное — она очень проголодалась. Быстро поглощая хлеб и сыр, Джоанна внимательно слушала рассказ Арна о том, что случилось с момента их последней встречи. — Как вы и предвидели, аббату так понравился наш сыр, что он принял нас как пребендариев,[512] обещая достойное содержание в обмен на сотню фунтов нашего сыра в год. Но вы должны знать об этом. Джоанна кивнула. Сыр с голубыми прожилками, неприятный на вид, но божественный на вкус, стал любимейшим лакомством в монастырской трапезной. Гостям монастыря как светского, так и духовного звания этот сыр пришелся весьма по вкусу, поэтому спрос на него неуклонно возрастал. — Как поживает твоя матушка? — спросила Джоанна. — Отлично. Она снова вышла замуж за хорошего человека, фермера с собственным дойным стадом, и все молоко идет на изготовление сыра. Дело их растет с каждым днем, живут они счастливо и процветают. — Не меньше, чем ты. — Джоанна указала на обстановку ухоженной комнаты. — Своим благополучием я обязан вам, — сказал Арн. — В монастырской школе я научился читать, писать и отлично считать. Все это пригодилось мне, когда дело стало расти и пришлось вести тщательный учет. Узнав о моих способностях, лорд Рикульф взял меня на должность управляющего. Я веду его хозяйство здесь и слежу за охотничьими угодьями, поэтому и нашел вас в лодке. Джоанна покачала головой, вспоминая, как Арн и его мать шесть лет назад прозябали в убогой лачуге, словно крепостные. Тогда казалось, что они обречены на нищету и полуголодное существование. Теперь же Мадалгис снова вышла замуж, стала процветающей хозяйкой, а ее сын — управляющим могущественного лорда! «Vitam regit fortuna, — подумала Джоанна. — Воистину, человеческой жизнью управляет случай». — Вот, — гордо сказал Арн. — Это моя жена Бона и наша дочь Арнальда. — Прелестная молоденькая Бона весело улыбнулась. У семнадцатилетней Боны уже есть дочь, а округлившийся живот свидетельствовал о том, что скоро появится второй ребенок, Арнальда походила на херувима: огромные голубые глаза, светлые локоны, розовые щеки. Восхитительная девочка! Когда она радостно улыбалась Джоанне, на ее нежных щечках обозначились прелестные ямочки. — Прекрасная семья, — сказала Джоанна. Арн засиял и подозвал жену и дочь. — Подойдите и поприветствуйте… — Он смутился. — Как мне называть вас теперь? «Брат Иоанн» как-то не подходит. — Джоанна. — Имя показалась ей одновременно чужим и знакомым. — Называйте меня Джоанной, потому что это мое настоящее имя. — Джоанна, — повторил Арн, довольный, что ему так доверяют. — Расскажите нам, как вы стали монахом в бенедиктинском монастыре Фульды, потому что такое едва ли возможно. Как вам это удалось? Что заставило вас так поступить? Кто-нибудь еще знает о вашей тайне? Неужели никто не догадывался? Джоанна рассмеялась. — Вижу, время не притупило твоей любознательности. Скрываться не имело смысла. Джоанна рассказала Арну все, начиная с неортодоксального обучения в школе Дорштадта до жизни в Фульде и принятия духовного сана. — Значит, монахи до сих пор не знают про вас, — задумчиво проговорил Арн, когда она закончила свой рассказ. — Мы подумали, что вас разоблачили, и вам пришлось бежать… Собираетесь ли вы вернуться в монастырь? Вы можете это сделать, совершенно ничего не опасаясь. Я скорее умру на дыбе, чем открою вашу тайну! Джоанна улыбнулась. Несмотря на мужественный вид, Арн остался мальчиком, которого она знала прежде. — К счастью, твоя жертва никому не понадобится, — ответила она — Я ушла из монастыря вовремя. Меня никто ни в чем не заподозрил. Но… едва ли я вернусь туда. — Что же вы будете делать? — Хороший вопрос. В самом деле, очень хороший вопрос. Но ответа я пока не знаю. Арн и Бона заботились о Джоанне, не разрешая ей вставать с постели несколько дней. — Вы еще очень слабы, — настаивали они. Джоанне оставалось только подчиниться им. Долгими часами она обучала Арнальду писать буквы и цифры. Девочка унаследовала отцовские способности и с жадностью впитывала все, чему учила ее Джоанна, радуясь обществу такой почетной гостьи. Когда в конце дня Арнальду уводили спать, Джоанна долго не смыкала глаз, размышляя о своем будущем. Стоит ли возвращаться в Фульду? В монастыре она провела почти двенадцать лет, выросла в его стенах, и ей трудно было представить жизнь вне монастыря. Но факты — вещь безжалостная. Ей двадцать семь лет, она уже не молода. В условиях сурового климата, спартанской диеты и неотапливаемых помещений монастыря Фульды монахи редко доживали до сорока. Самому старому, брату Деотату, было всего сорок четыре. Долго ли сможет она сопротивляться возрасту, скоро ли ее снова свалит болезнь, когда опять придется скрываться, чтобы избежать неминуемой смерти? Кроме того, нельзя забывать про аббата Рабана, который очень недолюбливал ее, а он не из тех, кто меняет свое мнение. Если она вернется, какие трудности и наказания ждут ее? Все существо Джоанны стремилось к переменам. В библиотеке Фульды не осталось ни одной не прочитанной книги, не было ни одной незнакомой трещинки на потолке общей спальни. Прошли годы с тех пор, когда Джоанна просыпалась с восхитительным чувством, что должно произойти что-то интересное. Ей хотелось узнать мир. Куда же идти? В Ингельхайм? Теперь, когда умерла мать, ей нечего там делать. Дорштадт? Что она там найдет — Джеральда, все еще ожидающего ее и сохранившего любовь к ней все эти годы? Какая глупость! Наверняка, он снова женился и не обрадуется внезапному появлению Джоанны. Кроме того, она давно уже выбрала другую жизнь, в которой для любви мужчины нет места. Нет. Джеральд и Фульда принадлежат ее прошлому. Надо смело смотреть в будущее, что бы ее ни ожидало. — Мы с Боной решили, — сказал Арн, — что вы останетесь у нас. Хорошо, когда в доме есть еще одна помощница по хозяйству и подруга для Боны. Особенно теперь, когда мы ожидаем ребенка. Его предложение прозвучало неловко, но оно шло от чистого сердца, поэтому Джоанна ласково ответила: — Боюсь, что толку от меня в доме будет мало. Я никогда не отличалась домовитостью, у меня обе руки левые, и повариха я неважная. — Бона с радостью научит вас… — Я слишком долго жила как мужчина, и женщина из меня получится очень плохая, если я вообще когда-либо была ею! — возразила она. — Нет, Арн, мужская жизнь подходит мне больше, мне нравятся ее преимущества. Арн задумался. — Тогда придется скрывать, что вы женщина. Это не важно, можете работать в саду… или учить маленькую Арнальду. Она в восторге от ваших игр и занятий, точно так же, как и я когда-то. Заманчивое предложение. Нельзя представить себе более безопасную и благополучную жизнь, чем в их семье. Но этот уютный и безопасный мир был слишком тесен для проснувшегося в Джоанне стремления к приключениям. Она не хотела сменить одни стены на другие. — Благослови тебя Господь за твое доброе сердце, Арн. Но у меня другие планы. — Какие? — Хочу стать паломником. — В Тур или к могиле Святого Мартина? — Нет, в Рим, — призналась Джоанна. — Рим! — изумился Арн. — Да вы с ума сошли! — Теперь, когда война закончилась, многие пойдут туда. Арн покачал головой. — Лорд Рикульф говорит, что Лотар не отказался от короны, несмотря на поражение при Фонтено. Он вернулся в королевский дворец в Аазене и собирает новую армию. По словам милорда, он даже обратился к саксонцам, сказав, что разрешит им поклоняться языческим богам, если они перейдут на его сторону! «Как бы посмеялась моя мама» — подумала Джоанна, узнав о таком неожиданном обороте дел: христианский король готов реставрировать старых богов. Она представила, что бы сказала ее мать: «В мирные времена слабый Бог христиан вполне годится для простых дел, но для победы приходится звать на помощь Тора и Одина, а также других богов- воинов моего народа». — Рискованно отправляться в путь в такой обстановке, — заметил Арн. У него были свои соображения. Конфликт в королевской семье привел к полному беспорядку. На неохраняемых дорогах свирепствовали банды грабителей и убийц. — Я буду в безопасности, — сказала Джоанна. — Кому нужен бедный странствующий монах, не имеющий ничего, кроме рясы? — Эти разбойники готовы убить из-за любой тряпки, не говоря уже о рясе! Запрещаю вам отправляться в путь одной! — Арн произнес это с такой уверенностью, какой не допустил бы в разговоре с мужчиной. На что она так же уверенно ответила: — Я сама себе хозяйка, Арн, Уйду, когда пожелаю. Поняв свою ошибку, Арн сразу уступил. — Обождите хотя бы три месяца, — попросил он. — Торговцы будут продавать здесь пряности. У них хорошая охрана, потому что они не хотят рисковать своим дорогим товаром. С ними вы спокойно доберетесь до Лангре. — Лангре! Путь, конечно, не самый прямой? — Да, — согласился Арн. — Но зато самый безопасный. В Лангре есть пристанище для пилигримов, идущих на юг. Там вы без труда найдете попутчиков. Джоанна задумалась. — Пожалуй, ты прав. — Милорд Рикульф несколько лет назад сам прошел этот путь паломником, даже карту составил. Она хранится у меня. — Арн открыл запертый шкафчик, вынул из него лист пергамента и осторожно развернул его. Лист потрепался и потемнел от времени, но чернила сохранили яркость. Дорога в Рим была обозначена на нем очень четко. — Благодарю тебя, Арн. Поступлю, как ты советуешь. Три месяца — срок небольшой. Дольше позанимаюсь с Арнальдой. Она очень умненькая и отлично преуспела! — Значит, договорились. — Арн стал сворачивать пергамент. — Позволь мне изучить карту получше. — Конечно. Я иду в овчарню присмотреть за стрижкой овец. — Арн улыбаясь удалился. Он был очень доволен тем, что уговорил Джоанну. Джоанна глубоко вдохнула ароматный воздух ранней весны. Дух ее вострил, словно сокол, избавленный от пут. Она внезапно ощутила восхитительную свободу ветра и открытого неба. В этот час монахи Фульды должно быть собрались в исповедальне, рассевшись на каменных сиденьях, слушали бухгалтерский отчет брата Келлара. А она здесь, свободная и независимая, и впереди жизнь, полная приключений. Джоанна увлеченно принялась изучать карту. До Лангре дорога была широкая и хорошая. Вот здесь она поворачивала на юг через Безаньон и Обре, спускаясь по берегу озера Святого Мориса к Ле-Вале. У подножия Альп находилась монастырская гостиница, где паломники могли отдохнуть и приготовиться к трудному переходу по дороге Святого Бернарда — самому удобному и проторенному пути через Альпы. За Альпами начиналась прямая и широкая дорога Виа Францигена, она вела через Аосгу, Павию и Болонью в Тасканию и дальше в Рим. Рим. В этом древнем городе живут величайшие умы мира, в его храмах сокрыты немыслимые сокровища, в его библиотеках собрана мудрость веков. Несомненно, там, среди священных могил Апостолов, Джоанна найдет то, что ищет. Именно там ее судьба.
Арн настоял на том, чтобы она не отправлялась в путешествие пешком, и когда на рассвете Джоагат крепила котомку к седлу мула, к ней подбежала маленькая Арнальда. Ее белокурые локоны были еще в беспорядке после сна. — Куда ты уезжаешь? — спросил прелестный херувим. Джоанна опустилась перед девочкой на колено, чтобы разговаривать с ней на равных. — В Рим. В волшебный город, где живет Римский Папа. — Ты любишь Папу Римского больше, чем меня? Джоанна рассмеялась. — Никогда не видела его. На свете нет никого, кого я любила бы больше, чем тебя, моя перепелочка — Она погладила мягкие волосы девочки. — Тогда не уезжай. — Арнальда обняла Джоанну за шею. — Не хочу, чтобы ты уезжала. Маленькое детское тело прижалось к Джоанне, переполнив нежностью ее сердце. У меня тоже могла бы быть такая девочка, если бы я выбрала другой путь. Я бы обнимала, укачивала… и учила ее. Джоанна вспомнила, как тосковала по Анастасию, когда он ушел. Он оставил ей книгу, чтобы она продолжила учение. Но она сбежала из монастыря в чем была, и теперь ничего не могла подарить этой девочке на прощанье. Кроме… Джоанна достала из-под рясы медальон, который носила с тех пор, как Мэтью повесил его ей на шею. — Это Святая Екатерина. Она была очень умная и сильная, как ты. — И Джоанна рассказала девочке историю Святой Екатерины… У Арнальды расширились глаза. — Она была девушкой и сделала это? — Да. И ты тоже сделаешь, если хорошо выучишь буквы. — Джоанна сняла медальон и надела его на Арнальду. — Теперь она твоя. Позаботься о ней. Арнальда зажала медальон в кулачке, стараясь не расплакаться. Джоанна попрощалась с Арном и Боной. Бона протянула ей сверток с провизией и промасленный бурдюк с элем. — Там хлеб, сыр и немного сушеного мяса. Хватит недели на две, а к тому времени вы уже доберетесь до монастырской гостиницы. — Спасибо, — сказала Джоанна. — Никогда не забуду вашей доброты. — Помните, Джоанна, — произнес Арн, — в этом доме вы всегда желанный гость. Это ваш дом. Джоанна обняла его. — Продолжай обучение девочки, она умная и жадная до знаний. Она села на мула. Семейство обступило ее, их лица выражали печаль. Возможно, такова ее судьба, всегда расставаться с теми, кого она любит. Это расплата за странную жизнь, которую она выбрала. Но Джоанна сознательно приняла ее и сожалеть об этом не стоило. Она пустила мула мелкой рысью. В последний раз махнув рукой на прощанье, Джоанна направилась в сторону южной дороги на Рим. (обратно)
Глава 19

РИМ, 844 год
Анастасий опустил перо, разминая усталые пальцы. Он с гордостью рассматривал только что переписанный лист, еще одно дополнение к его шедевру, Liber pontificalis, «Книге Римских Пап», подробное описание всех современным понтификов. Анастасий ласково погладил чистый белый пергамент; его еще предстояло заполнить. Когда-нибудь на этих свободных страницах появится описание триумфа и славы его самого как Папы Римского. Как будет гордиться им его отец, Арсений! Хотя за многие годы члены семьи Анастасия занимали разные почетные должности и носили благородные титулы, трон Папы Римского пока был им недоступен. Однажды Анастасию показалось, что он достиг своей цели, но время и обстоятельства помешали ему. Теперь настал черед Анастасия. Он оправдает надежды отца, став Папой. Конечно, это произойдет не сразу. Чрезмерные амбиции Анастасия не затмили его ума, и он понимал, что время еще не пришло. Ему всего тридцать три, и должность премицерия, хотя и влиятельная, все же была слишком мирской, чтобы начинать с нее восхождение на заветный Престол Святого Петра. Но скоро его положение изменится. Папа Григорий на смертном одре. Как только закончится официальный траур, начнутся выборы нового Папы. Анастасий приложил все свои дипломатические усилия, использовал все свое искусство подкупа и угроз, чтобы эти выборы прошли так, как ему нужно. Следующим Папой будет Сергий, кардинал собора Святого Мартина, слабый и коррумпированный потомок благородного римского рода. В отличие от Григория Сергий понимал, как устроен мир и знал, как выразить благодарность тем, кто помог ему. Анастасий сразу после избрания Сергия будет назначен Епископом Кастеллы — отличная должность, открывающая путь к трону, когда закончится время правления Сергия. Картина вырисовывалась прекрасная, и только одно нарушало ее полноту: Григорий был все еще жив. Подобно старой виноградной лозе с глубокими корнями, питающими ее из недр земли, старик упрямо цеплялся за жизнь. Рассудительный и благоразумный Григорий во всем проявлял медлительность, даже в переходе в лучший мир. Он правил семнадцать лет, дольше всех прежних Пап, после незабвенного Льва III. Доброго, скромного, доброжелательного, благочестивого Григория римляне очень любили. Заботливый покровитель множества нищих паломников, он давал им необходимый кров и убежище. Он следил, чтобы во время священных праздников и процессий милостыню раздавали очень щедро. Анастасий относился к Григорию со смешанным чувством, включавшим удивление и презрение. Удивляясь искренности благочестия и веры Григория, он презирал его за простоту и тугодумие: они позволяли легко манипулировать Папой и обманывать его. Анастасий сам нередко пользовался доверчивостью Папы, но никогда так успешно, как на Поле Лжи, когда он подстроил поражение франкского короля Людовика прямо под носом Григория во время мирных переговоров. Маленькая хитрость оказалась очень прибыльной. Лотар, сын Людовика, отлично знал, как выразить свою благодарность звонкой монетой, и теперь Анастасий был весьма состоятельным человеком. Более того, Анастасию удалось завоевать доверие и получить поддержку Лотара. Какое-то время Анастасий действительно опасался, что союз с франкским наследником ни к чему не приведет. Поражение Лотара при Фонтено могло разрушить все планы. Но Лотар достиг соглашения со своим мятежным братом, заключив Верденский договор, превосходный пример дипломатического мошенничества, позволившего ему вернуть и корону, и земли. Лотар снова был императором. Это должно принести Анастасию немало выгод в будущем. Звук колокола отвлек Анастасия от размышлений. Колокол прозвонил один раз, второй, третий. Анастасий радостно хлопнул себя по бедрам. Наконец-то! Он уже облачился в траур, когда послышался долгожданный стук в дверь. В комнату неслышно вошел папский нотариус. — Папа предстал перед Богом, — сообщил он. — Премицерий, необходимо ваше присутствие у одра. Они молча шли по лабиринтам Латеранского дворца в личные покои Папы. — Святой был человек, — прервал молчание нотариус. — Миротворец. — На самом деле святой, — ответил Анастасий. Про себя же подумал, что лучше места, чем на небесах для него нет. — Когда еще появится такой же? — Голос нотариуса дрогнул. Анастасий заметил, что нотариус плакал. Искреннее проявление чувства заинтриговало его. Сам он был гораздо артистичнее и вечно следил за тем, какое впечатление производит каждое его слово и поступок, чтобы проронить слезу в нужней момент. Тем не менее эмоциональность нотариуса напомнила ему, что следует проявить скорбь. Когда они подошли к дверям папской опочивальни, Анастасий глубоко вздохнул и сморщил лицо так, чтобы в глазах собрались слезы. Этой уловкой он пользовался всегда, когда надо было заплакать. Такое случалось нечасто, но всегда производило впечатление. Опочивальня была открыта для всех скорбящих. Григорий лежал на огромной пуховой постели с закрытыми глазами. В руки, скрещенные на груди, был вложен золотой крест. Остальные высокопоставленные вельможи папского двора, обступили его кровать. Анастасий увидел среди них Аршгиса, главного управляющего, Компулуса, номенклатора, и Стефана, хранителя папского гардероба. — Премицерий Анастасий, — объявил секретарь, когда вошел Анастасий. Все взглянули на его искаженное горем, залитое слезами лицо.Джоанна подняла голову, подставляя лицо теплому римскому солнцу. Она еще не привыкла к такой приятной, мягкой погоде в уинтарманте, или январе, как этот зимний месяц называли на юге империи, где царили римские, а не франкские порядки. Рим оказался не таким, каким она его себе представляла. Джоанна мечтала о сияющем городе, украшенном золотом и мрамором, с сотнями базилик, поднимающихся к небесам в прославление существования истинного Civitas Dei, Божественного Города на земле. В реальности все было иначе. Огромный, зловонный, перенаселенный город, с узкими разбитыми улицами, которые больше подходили для ада, чем для рая на земле. Его древние памятники, те, что не были переделаны в христианские церкви, стояли в руинах. Храмы, амфитеатры, дворцы и бани, открытые всем стихиям, остались без золотого и серебряного убранства. Среди обшарпанных колонн росли деревья и кусты, в разрушающихся портиках бродили свиньи, козы и огромные быки. Статуи императоров валялись на земле, разоренные саркофаги героев были приспособлены под корыта для свиней. Это был город древних и явно непримиримых противоречий: загадка мира и разлагающийся отголосок истории, место паломничества христиан, где величайшее искусство прославляло языческих богов; хранилище книг и мудрости; люди здесь прозябали в невежестве и предрассудках.
Несмотря на эти противоречия, а возможно, и благодаря им Джоанна полюбила Рим. Шум и суматоха его улиц бодрили ее. В этих коридорах толпились люди из самых отдаленных уголков мира. Здесь царило многоязычие: римляне, ломбардийцы, германцы, византийцы и мусульмане; здесь соединились прошлое и настоящее, язычество и христианство. В этих древних стенах прекрасное и страшное было неотделимо одно от другого. В Риме Джоанна открыла для себя мир возможностей и приключений, которых искала всю жизнь. Большую часть времени она проводила в Борго, где находились многочисленные школы. Прибыв сюда более года назад, Джоанна направилась во франкскую школу, но ее туда не приняли, поскольку все было переполнено франкскими паломниками и переселенцами с других земель. Тогда она пошла в англиканскую школу, где ее радушно встретили благодаря происхождению отца и прозвищу Англиканец. Глубина и объем знаний Джоанны вскоре заставили всех признать в ней блестящего ученого. Теологи всего Рима приходили сюда вести с ней ученые диспуты и уходили, потрясенные ее мудростью и искусством вести споры. «Каково было бы их негодование и отвращение, если бы они узнали, что спор выиграла женщина», — думала Джоанна, про себя улыбаясь. В ее обязанности входило ассистирование при ежедневных службах в маленькой церкви рядом со школой. После полуденной трапезы и короткого сна (на юге было принято спать в знойные дневные часы) Джоанна отправлялась в лазарет, где проводила остаток дня, ухаживая за больными. Искусство лекаря укрепило ее авторитет, поскольку местная медицина сильно отставала. Римляне почти ничего не знали о целебных свойствах трав и растений, не имели представления о диагностике и лечении мочой. Лекарские способности Джоанны сделали ее очень популярной. Она вела активную и насыщенную жизнь, к чему и стремилась. Здесь Джоанна пользовалась всеми преимуществами монашества без его недостатков. Она в полную силу использовала свои знания, и никто не осуждал ее за это. Джоанна имела свободный доступ в местную библиотеку, где была собрана небольшая, но прекрасная коллекция, состоящая из пятидесяти с лишним томов, и никто не стоял над ее душой, не задавал вопросов, почему она выбрала Цицерона или Светония, а не Августина. Джоанна свободно перемещалась когда и куда хотела, думала о том, о чем хотела, высказывала свои мысли, не опасаясь наказания. Время текло незаметно. Жизнь ее оставалась бы неприметной, если бы вновь избранный Папа Сергий внезапно не заболел. На девятое воскресенье перед Пасхой у Папы появились странные симптомы: несварение желудка, бессонница, ощущение тяжести в конечностях и отеки. Незадолго до Пасхи у него начались сильные, почти невыносимые боли. По ночам во дворце люди не смыкали глаз из-за его истошных криков. Общество врачей направляло многочисленных специалистов лечить Папу. Были испробованы все возможные методы. Одни принесли ему кусочек черепа Святого Поликарпа, чтобы он прикоснулся к нему. Другие втирали масло из лампады, всю ночь горевшей в гробнице Святого Петра, в больные конечности Папы. Это средство помогало даже в самых безнадежных случаях. Ему многократно пускали кровь и давали столько рвотного, что все его тело содрогалось от спазмов. Поскольку не помогли даже эти мощные средства, врачи попытались снять боль контрмерами, прокладывая горящие льняные жгуты вдоль воспаленных вен на ногах. Все напрасно. Когда состояние Папы ухудшилось, римляне встревожились: если Сергий умрет вскоре после своего предшественника, и трон Святого Петра опять опустеет, то франкский король Лотар, воспользовавшись случаем, нападет на город и установит свое правление. Бенедикт, брат Сергия, был тоже обеспокоен. Однако не родственные чувства вызывали его тревогу. Смерть брата угрожала интересам Бенедикта. Убедив Сергия назначить его папским представителем, Венедикт воспользовался своим новым положением, чтобы завладеть папской канцелярией. Таким образом, пять месяцев Сергий правил лишь формально, вся реальная власть сосредоточилась в руках Бенедикта, что способствовало его обогащению. Бенедикт хотел бы занять папский престол, но знал, что это для него недостижимо. Для такой должности у него не было образования. Он был вторым сыном в семье, а в Риме не делили имущество и титул между наследниками, в отличие от франков. Как первенец, Сергий пользовался всеми семейные привилегиями, дорогой одеждой, частными учителями. Не имея возможности изменить эту страшную несправедливость, Бенедикт перестал сокрушаться и нашел утешение в светских удовольствиях, в которых в Риме не было недостатка. Мать, часто упрекая Бенедикта за недостойное поведение, не предпринимала серьезных попыток остановить его. Все свои надежды она возлагала на Сергия. Теперь, наконец-то, долгие годы пристального надзора прошли. Убедить Сергия назначить брата папским представителем не составило труда. Сергий постоянно испытывал чувство вины за то, что в детстве ему отдавали предпочтение. Бенедикт знал, как слабохарактерен брат, но не предполагал, что настолько. После долгих лет упорной учебы и монашеского аскетизма Сергий с радостью отдался наслаждениям жизни. Бенедикт не искушал его женщинами, поскольку Сергий свято соблюдал непорочность. В этом он проявлял истинный фанатизм, и Бенедикт старательно скрывал от него свои любовные похождения. Но у Сергия была другая слабость — чревоугодничество. Захватив власть, Бенедикт отвлекал внимание брата разнообразными гастрономическими удовольствиями, Сергий алчно предавался обжорству и возлияниям. Он прославился тем, что мог съесть пять форелей, двух жареных цыплят, дюжину пирожков с мясом и ногу оленя за один присест. После одной из таких оргий он явился на утреннюю мессу в таком состоянии, что, ко всеобщему ужасу его стошнило прямо на алтарь. После этого позорного случая Сергий заставил себя вернуться к привычным с детства хлебу и овощам. От строгой диеты его здоровье поправилось, и он снова заинтересовался государственными делами. Это мешало планам Бенедикта, но он выжидал удобного случая. Решив, что Сергию больше не стоит заниматься благочестивым самоистязанием, Бенедикт опять начал соблазнять его экзотическими сладостями, пирожками, жареной свининой и крепким тосканским вином. Вскоре Сергий вновь предался обжорству. Теперь, однако, аппетит его зашел слишком далеко. Сергий тяжело заболел. Жалости к старшему брату Бенедикт не испытывал, но и смерти ему не желал, ибо это положило бы конец его власти. Надо было что-то делать. Врачи, толпившиеся вокруг Сергия, считали, что болезнь на него наслали могущественные демоны, противостоять которым может только молитва. Кровать Сергия окружали священники и монахи, молившиеся за его здоровье день и ночь, но это не принесло облегчения. Состояние Сергия продолжало ухудшаться. Бенедикт не собирался доверять свое будущее бесполезным молитвам. Что-то надо было предпринять. Но что? — Господин? Размышления Бенедикта прервал тихий, неуверенный голос Целестина, одного из папских казначеев. Как большинство его коллег, Целестин происходил из богатого аристократического римского рода. Его семья щедро заплатила за то, чтобы их юный отпрыск служил у Папы казначеем. Бенедикт взглянул на юношу с презрением. Что этот изнеженный избалованный мальчишка знал о жизни, о том, как трудно подняться из низов? — В чем дело? — Господин Анастасий просит у вас аудиенции. — Анастасий? — Бенедикт не помнил, кому принадлежало это имя. — Епископ Кастеллы, — напомнил Целестин. — Как смеешь ты напоминать мне? — В бешенстве Бенедикт дал Целестину увесистую пощечину. — Это научит тебя уважать старших. Теперь убирайся и позови епископа. Целестин поспешил удалиться, схватившись за щеку. После пощечины ладонь горела, и Бенедикт потер ее, но почувствовал себя лучше, чем когда-либо. Через мгновение в дверь величественно вошел Анастасий. Высокий и утонченный, воплощение аристократической элегантности, он знал, какое впечатление производит на Бенедикта. — Pax vobiscus, — приветствовал его Бенедикт на ужасной латыни. Анастасий отметил его плохое произношение, но не выказал своего презрения. — Et cum spiritu tuo, — вежливо ответил он. — Как чувствует себя его святейшество Папа? — Неважно. Очень неважно. — Печально слышать. Озабоченность Анастасия была искренней. Пока он считал смерть Сергия совершенно несвоевременной. Анастасию еще не исполнилось тридцати пяти, а только с этого возраста он мог бы претендовать на папский престол. Если Сергий умрет теперь, то будет избран кардинал на год старше его, и придется ждать лет двадцать, а то и более, пока трон Святого Петра освободится вновь. Анастасий хотел бы поскорее осуществить свою мечту. — Надеюсь, вашему брату обеспечили достойное лечение? — Святые отцы молятся за его выздоровление круглые сутки. — Ах! — Наступила пауза. Они оба сомневались в эффективности таких мер, но ни один не осмеливался выразить сомнения вслух. — В англиканской школе есть кое-кто, — осторожно начал Анастасий. — Священник, известный как отличный лекарь. — О? — Иоанн Англиканец, кажется, так его зовут, иностранец. Вероятно, он весьма ученый человек. Говорят, способен творить чудеса. — Возможно, следует послать за ним, — ответил Бенедикт. — Возможно, — согласился Анастасий, но тактично перевел разговор на другую тему. Ему казалось, что Бенедикта не стоит подгонять. Когда прошло необходимое количество времени, Анастасий поднялся. — Dominus tecum, Benedictus. — Deus vobiscus, — снова исковеркал латынь Бенедикт. «Тупой урод», — подумал Анастасий. То, что этот человек занял столь высокое положение, он считал недоразумением, позором для церкви. Поклонившись и элегантно повернувшись, Анастасий удалился. Бенедикт смотрел, как он уходит. Неплохо для аристократа. «Я пошлю за лекарем, за этим священником Иоанном Англиканцем. Возможно, появление во дворце того, кто не принадлежит к обществу врачей, вызовет проблемы, но теперь это неважно». Бенедикт что-нибудь придумает. Когда знаешь, чего хочешь, решение всегда приходит само.
* * *
В ногах огромной кровати, на которой лежал Сергий, горели три дюжины свечей. За ними стояли коленопреклоненные монахи в черном, хором читая молитвы. Эннодий, главный врач Рима, поднял ланцет и ловко провел им по левой руке Сергия, вскрыв вену. Из раны хлынула кровь и закапала в серебряную чашу, подставленную ассистентом Эннодия. Исследовав кровь в чаше, Эннодий покачал головой. Кровь была густая и темная. Болезнетворные соки, причина недуга Папы, содержались в его теле, и никому не удавалось извлечь их. Эннодий оставил рану открытой, чтобы крови вышло больше, чем обычно. Кровопускание нельзя будет делать в течение нескольких дней, поскольку Луна вошла в созвездие Близнецов, и кровопускание в этот период недопустимо. — Какова кровь на ваш взгляд? — спросил Флор, коллега Эннодия. — Плохая. Очень плохая. — Выйдем, — прошептал Флор. — Нужно поговорить. Эннодий зажал рану, соединив ее края и сдавив рукой. Перевязать рану смазанными жиром листьями руты, завернутыми в полотно, он предоставил своим помощникам. Вытерев руки, он вышел из спальни вслед за Флором. — Они за кем-то послали, — торопливо сообщил Флор, едва они остались вдвоем. — Лекарь из англиканской школы. — Нет! — воскликнул раздосадованный Эннодий. Медицинской практикой в пределах города должны были заниматься только члены общества врачей, хотя к сомнительному лечению городского населения прибегало множество непризнанных лекарей. Это терпели, поскольку они работали с беднотой. Но открытое признание одного из них, исходившее из самого папского дворца, представляло несомненную угрозу. — Его зовут Иоанн Англиканец, — сказал Флор. — Ходят слухи, что он обладает необычайной силой. Говорят, он умеет выявлять болезни, изучая мочу больного. — Шарлатан, — фыркнул Эннодий. — Очевидно. Но некоторые из этих шарлатанов чрезвычайно умелы. Если этот Иоанн Англиканец проявит хотя бы видимость знаний, это может быть опасно. Флор был прав. В их профессии, когда результаты разочаровывают и почти всегда непредсказуемы, от репутации зависит все. «Если этот чужак преуспеет в том, в чем они потерпели неудачу…» Эннодий минуту подумал. — Вы сказали, что он определяет болезни по моче? Ну что ж, мы предоставим ему образец. — Конечно, не помогать же иностранцу! Эннодий улыбнулся. — Я сказал, что мы предоставим ему образец, Флор. Но не сказал, у кого возьмем его. В окружении папской охраны Джоанна быстро прошла в огромный дворец, где находилась резиденция Папы, а также административные учреждения, составлявшие правительство Рима. Миновав базилику Святого Константина с высокими овальными окнами, они поднялись по короткой лестнице, ведущей в большой зал дворца, отделанный еще при Папе Льве III. Пол зала был выложен мрамором и мозаикой такой красоты и совершенства, что у Джоанны захватило дух. Никогда еще не видела она таких ярких цветов и столь реалистично выполненного изображения. Никто в земле франков: ни епископ, ни аббат, ни граф, ни даже сам король — не знали такого великолепия. В центре триклиния стояла группа людей. Один из них, темноволосый с выпуклыми лукавыми глазами, вышел вперед, чтобы приветствовать ее. — Вы священник Иоанн Англиканец? — спросил он. — Да. — Я Бенедикт, папский представитель и брат Папы Сергия. Я вызвал вас сюда, чтобы вы излечили его святейшество. — Постараюсь сделать все, что смогу, — ответила Джоанна. Бенедикт понизил голос. — Здесь есть те, кому ваш успех придется не по вкусу. Джоанна поверила в это. Многие среди собравшихся принадлежали к особому, избранному, обществу врачей. Чужаку они не обрадуются. К ним присоединился еще один человек, высокий, стройный с пронзительными глазами и горбатым носом. Бенедикт представил его как Эннодия, главного в обществе врачей. Эннодий приветствовал Джоанну едва заметным кивком. — Вы сами поставите диагноз, если обладаете необходимым мастерством. Его святейшество одержим демонами, от чьего разрушительного воздействия невозможно избавиться медицинскими методами. Джоанна промолчала. Такие теории не вызывали у нее доверия. Зачем винить во всем сверхъестественные силы, когда существует так много вполне определенных, причин заболеваний. Эннодий протянул ей бутылочку с желтой жидкостью. — Это моча его святейшества, взятая менее часа назад. Нам интересно знать, что вам удастся выявить. «Стало быть, меня собираются проэкзаменовать. Ну что ж, начало неплохое». Джоанна взяла бутылочку и посмотрела содержимое на свет. Ее обступили полукругом. Горбатый нос Эннодия приподнялся, когда он следил за Джоанной с коварным любопытством. Она вертела бутылочку так и эдак, пока не разглядела содержимое как следует. Странно. Джоанна понюхала мочу, задумалась, снова понюхала, опустила в нее палец и попробовала на вкус. Напряжение в зале было почти физически ощутимо. Джоанна еще раз понюхала и попробовала жидкость. Не оставалось никаких сомнений. Умная уловка! Они предложили ей мочу беременной женщины, выдав ее за мочу Папы. Перед Джоанной стояла сложная дилемма. Простой священник, к тому же иностранец, она не могла прямо уличить их в обмане. С другой стороны, если она не докажет подмену, ее обвинят в мошенничестве. Ловушка расставлена очень искусно. Как избежать ее? Подумав, Джоанна объявила: — Господь совершил чудо. Через тридцать дней его святейшество должен родить.Провожая ее из триклиния, Бенедикт трясся от хохота. — Ну и физиономии были у этих стариков! Едва сдержал смех! — Случившееся доставило ему огромное удовольствие. — Вы доказали свое мастерство и разоблачили их обман, не произнеся ни единого слова обвинения. Превосходно! Подойдя к спальне Папы, они услышали за дверью хриплый крик: — Негодяи! Вурдалаки! Я пока не умер! — Послышалось, как что-то упало. Бенедикт открыл дверь. Сергий сидел на кровати. Его лицо побагровело от гнева. Посередине комнаты валялись осколки разбитой вазы. Священники стояли, испуганно прижавшись друг к другу. Сергий схватил золотую чашу с прикроватного столика и собирался швырнуть ее в несчастных прелатов, но Бенедикт успел предотвратить это. — Довольно, брат. Знаешь, что сказали врачи? Ты болен, тебе нельзя нервничать. — Проснулся от того, что они мазали меня елеем. Хотели соборовать, — обиженно проговорил Сергий. Прелаты возмущенно поправили свои рясы. Это были важные особы. Один из них, в мантии архиепископа, произнес: — Мы полагали, так будет лучше, учитывая ухудшающееся состояние здоровья его святейшества… — Уходите немедленно! — прервал его Бенедикт. Джоанна была потрясена. «Бенедикт, вероятно, могущественный человек, если так грубо обращается с архиепископом». — Подумайте, Бенедикт, — промолвил архиепископ, — не подвергаете ли вы опасности бессмертную душу вашего брата? — Вон! — Бенедикт взмахнул руками, словно прогоняя стаю ворон. — Все вон! Прелаты с негодованием удалились. Сергий беспомощно откинулся на подушки. — Больно, Бенедикт. Не могу больше терпеть эту боль. Бенедикт налил вина из кувшина в золотую чашу и поднес ее к губам Сергия. — Выпей. Это поможет. Сергий жадно выпил. — Еще, — потребовал он, осушив чашу, Бенедикт налил ему еще, а потом и в третий раз. Вино полилось по подбородку Сергия. Он был невысок, но очень тучен. Все его тело было округлым: круглое лицо, круглый подбородок, круглые глаза в отекших складках век. — Вот, — сказал Бенедикт, когда Сергий утолил жажду — Смотри, что я сделал для тебя, брат! Привел того, кто поможет тебе. Это Иоанн Англиканец, знаменитый лекарь. — Еще один врач? — недоверчиво спросил Сергий. Но когда Джоанна откинула покрывала, чтобы осмотреть его, он не сопротивлялся. Ноги у Сергия сильно распухли, растянутая кожа потрескалась. Он страдал тяжелой формой воспаления суставов. Джоанна догадалась о причине, но хотела проверить. Она осмотрела уши Сергия. Да, так и есть: характерные отложения, мелкие известковые наросты, напоминающие глазки краба. Это свидетельствовало о том, что у Сергия острый приступ подагры. Как же врачи не заметили этого? Джоанна легонько коснулась пальцами покрасневшей, лоснящейся кожи, прощупывая источник воспаления. — По крайней мере, у этого руки не как у пахаря, — заметил Сергий. Странно, что он не потерял сознания при такой сильной лихорадке. Джоанна проверила его пульс, обратив внимание на ранки на руке от многократных кровопусканий. Сердцебиение было слабое, а цвет лица, после того как прошла истерика, стал синюшно-бледный. «Господи, — подумала она. — Неудивительно, что у него такая жажда. Они чуть не убили его кровопусканием». Джоанна обратилась к слуге: — Принесите воды. Быстро. Необходимо снять отек, пока он не убил его. Слава Богу, она принесла с собой корень зимовника. Джоанна достала из своей сумки маленький сверток вощеного пергамента и развернула его, стараясь не рассыпать драгоценный порошок. Слуга вернулся с кувшином воды. Джоанна налила немного в бокал, развела в нем две драхмы растертого корня — рекомендованная доза. Затем добавила очищенного меда, чтобы не слишком горчило, и немного белены: это поможет Сергию заснуть. Сон для него — наилучшее средство от боли, а покой даст надежду на выздоровление. Она протянула бокал Сергию, и тот начал с жадностью пить. — Ой! Да это же вода! — Он выплюнул лекарство. — Пейте, — уверенно произнесла Джоанна. К ее удивлению, Сергий повиновался. — А теперь что? — спросил он, осушив бокал. — Собираетесь очистить меня? — Полагаю, вы достаточно настрадались. — Хотите сказать, что это все? — удивился Сергий. — Выпил, и больше ничего? Джоанна вздохнула. В ее практике случались такие реакции. В искусстве врачевания здравый смысл и умеренность не ценят. Люди требуют более впечатляющих методов. Чем тяжелее заболевание, тем более жестокими должны быть методы лечения. — У его святейшества подагра. Я дал ему порошок зимовника, — отличное средство для лечения подагры. Через несколько минут он заснет. Даст Бог, боль и отек пройдут через несколько дней. Словно в подтверждение ее правоты, дыхание Сергия нормализовалось, он обмяк на подушках и мирно закрыл глаза. Дверь с грохотом распахнулась. Вошел невысокий, скрюченный человек с лицом задиристого петушка, готового к атаке. Он развернул свиток пергамента перед носом Бенедикта. — Вот документы, необходима только подпись. — По его одеянию иманере говорить, было видно, что он купец. — Нет, не сейчас, Айо, — ответил Бенедикт. Айо энергично затряс головой. — Нет, Бенедикт, теперь от меня так просто не отделаетесь. Весь Рим знает, что Папа опасно болен. А что если он умрет ночью? Джоанна с тревогой взглянула на Сергия, но он не слышал этого. Пана безмятежно спал. Купец потряс перед носом Бепедикта кошельком с монетами. — Тысяча золотых динариев, как договорились. Подпишите теперь и вот еще. — Он вынул кошелек поменьше. — Тоже ваше. Бенедикт отнес пергамент к кровати и развернул его на простыне. — Сергий? — Он спит, — вступилась Джоанна. — Не будите его. Бенедикт не обратил на нее внимания. — Сергий! — Схватив брата за плечо, он резко встряхнул его. Сергий растерянно заморгал глазами, Бенедикт взял со столика перо, обмакнул его в чернила и вложил в руку Сергия. — Подпиши это. Сонный Сергий опустил перо на пергамент. Его рука дрожала, чернила растеклись на пергаменте неровными каракулями. Бенедикт положил на руку брата свою и помог ему вывести подпись. Джоанна все отлично видела. Этот документ, назначал Айо епископом Алатри. Сделка была заключена на глазах Джоанны, и дана взятка за место епископа! — А теперь отдохни, брат. — Бенедикт был доволен: он получил то, что хотел, — Останьтесь с ним. Джоанна кивнула. Бенедикт и Айо покинули комнату. Джоанна укрыла Сергия, легонько поправив одеяла. Она была настроена решительно. Совершенно ясно, что дела в папском дворце обстоят не лучшим образом. И, похоже, к лучшему ситуация не исправится, пока Сергий доверяет управление своему продажному брату. Задача ее проста: поставить Папу на ноги, вылечив его как можно скорее. В течение нескольких дней состояние Сергия оставалось тяжелым. Постоянные молитвы священников мешали ему заснуть, и, по настоянию Джоанны, их бдениям был положен конец. Лишь один раз Джоанна ненадолго отлучилась в англиканскую школу за лекарствами; все остальное время она находилась рядом с Сергием. Джоанна пристально наблюдала за его состоянием днем, а по ночам спала на подушках возле кровати Папы. На третий день отек начал спадать, а кожа — шелушиться. Ночью Джоанна проснулась и увидела, что Сергий вспотел. «Слава Богу, — подумала она. — Лихорадка прошла». На следующее утро он проснулся. — Как вы себя чувствуете? — спросила она. — Я… не знаю, — рассеянно ответил Сергий. — Наверное, лучше. — Выглядите гораздо лучше. — Отечность на лице прошла, синюшно-серый цвет кожи исчез. — Ноги… очень чешутся! — И Сергий начал отчаянно скрести их ногтями. — Если появился зуд, значит, все хорошо: жизнь возвращается. Но не стоит раздражать кожу, поскольку еще осталась опасность заражения. Сергий оторвал ногти от ноги, но зуд был таким сильным, что через минуту он снова начал чесаться. Джоанна дала ему дозу белены, чтобы он успокоился и заснул. На следующий день, открыв глаза, Сергий уже полностью понимал, что происходит вокруг. — Боль… прошла! — Он посмотрел на свои ноги. — И отек тоже! — Это взбодрило его. Он самостоятельно, сел и, заметив у двери дворецкого, сказал: — Хочу есть. Принесите свиной окорок и вина. — Тарелку овощей и кувшин воды, — возразила Джоанна. Дворецкий убежал, не дожидаясь протестов Сергия. Брови Папы взметнулись от удивления. — Кто ты? — Мое имя Иоанн Англиканец. — Ты не римлянин. — Я родился во Франконии. — Северная страна! — Сергий пристально взглянул на нее. — Она действительно варварская, как говорят? Джоанна улыбнулась. — Там не так много церквей, если вы это имеете в виду. — Почему тебя прозвали Англиканцем? — спросил Сергий. — Ты же родился в земле франков. — Он был очень наблюдателен, несмотря на то, что ему пришлось перенести. — Мой отец был англичанином, — объяснила Джоанна. — Он проповедовал веру среди саксонцев. — Саксонцев? — Сергий нахмурился. — Безбожное племя. Мама. Джоанна почувствовала привычный стыд и любовь. — Теперь большинство из них христиане… придя к вере через огонь и смерть, — ответила она. Сергий пристально взглянул на нее. — Тебе не нравится, что язычников обращают в христианство? — Чего стоит обет, добытый силой? Под пытками каждый скажет что угодно, лишь бы избавиться от мучений. — Тем не менее наш Бог обязывает нас распространять слово Господне: «Идите, и проповедуйте во всех народах, крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа». — Верно, — согласилась Джоанна — Но… — Она замолчала. Снова за старое, позволяет втянуть себя в бесполезный, а возможно, и опасный спор… теперь с самим Папой! — Продолжай, — попросил Сергий. — Простите меня, ваше святейшество. Вам нездоровится. — Не настолько, чтобы я ничего не соображал, — нетерпеливо ответил Сергий. — Продолжай. — Ну хорошо… Возьмем наставления Христа: прежде просвещайте народы, потом крестите их. Мы не вправе крестить, пока сознание не примет веру с полным пониманием. Прежде просвещайте, сказал Христос, потом крестите водой. Сергий слушал ее с интересом. — Хорошо говоришь. Где обучался? — В детстве меня учил грек по имени Эскулапий, человек величайшего ума и знаний. Потом меня направили в кафедральную школу в Дорштадте, а потом в Фульду. — А, Фульда! Только недавно получил том от Рабана Мора, прекрасно выполнено, со стихами его собственного сочинения на тему Святого Креста Иисуса Христа. Когда буду благодарить его, обязательно упомяну в письме о твоей службе нам. Ей казалось, что аббат Рабан остался в прошлом. Неужели его ненависть будет преследовать ее повсюду, разрушая ту новую жизнь, которую она себе создала? — Боюсь, обо мне там не очень хорошего мнения. — Почему так? — Аббат считает послушание величайшей религиозной добродетелью. Однако мне это всегда очень трудно давалось. — А твои другие обеты? — не унимался Сергий. — Как насчет их? — Я рожден в нищете и привык к ней. Что же касается целомудрия… — Джоанна старалась, чтобы в голосе не прозвучала ирония. — Всегда противостоял соблазну женщин. Выражение лица Сергия смягчилось. — Рад слышать, поскольку в этом вопросе расхожусь с аббатом Рабаном. Из всех религиозных обетов величайший — обет целомудрия, и он наиболее угоден Богу. Джоанна удивилась, что он так думает. Обет целомудрия среди священников в Риме соблюдали не все. Церковнослужители часто имели жен, поскольку женатым мужчинам не возбранялось становиться священниками, если они обязались прекратить все интимные связи в будущем. Однако этого соглашения придерживались скорее формально, чем на практике. Жена редко противилась тому, чтобы ее муж стал священником, поскольку разделяла престижность его положения: к попадье или к дьяконице относились весьма почтительно. Папа Лев III был женат, когда взошел на папский престол, и хуже к нему относиться не стали. Дворецкий вернулся с серебряным подносом; на нем лежали хлеб и овощи. Как только он поставил поднос перед Сергием, тот отломил большой ломоть хлеба и стал жадно есть. — А теперь расскажи мне о себе и Рабане Море. (обратно)
Глава 20

Джоанна поняла, что существует два разных Сергия: один беспутный, вульгарный и ничтожный, другой изысканный, умный и рассудительный. Она читала об этом у Цельса, он назвал это явление animae divisae, раздвоение личности. Значит, Сергий страдал именно этим недугом. Но в его случае причиной метаморфозы было вино. Деликатный и добрый в трезвом состоянии, выпив вина, он становился невыносим. Дворцовые слуги, всегда готовые посплетничать, рассказали Джоанне, что Сергий однажды приговорил одного из них к смерти только за то, что он не вовремя подал завтрак. Но, вскоре протрезвев, Сергий отменил казнь. Однако беднягу успели побить палками и приковать к позорному столбу. Врачи Сергия не сильно ошибались в отношении него, решила Джоанна: Сергий действительно одержим, хотя завладевших им демонов наслал не дьявол; они жили в нем самом. Узнав лучшие качества Папы, Джоанна задалась целью вылечить его. Она посадила Сергия на строжайшую диету и ключевую воду. Сергий ворчал, но подчинялся, опасаясь возвращения болей. Решив, что Папа готов к этому, она начала регулярно гулять с ним в саду Лютеранского дворца. Поначалу к месту прогулки Сергия выносили в кресле трое слуг, кряхтя под его тяжестью. В первый день он сделал лишь несколько шагов и сразу упал в кресло. По настоянию Джоанны и с ее одобрения, каждый день Сергий гулял немного больше, и в конце месяца мог самостоятельно обойти весь сад. Остаточная отечность его суставов уменьшилась, и кожа восстановила здоровый розовый цвет. Отеки на глазах исчезли, и когда более четко обозначились контуры его лица, Джоанна увидела, что он гораздо моложе, чем она предполагала, не старше сорока пяти лет. — Чувствую себя новым человеком, — однажды сказал Сергий Джоанне во время их очередной прогулки. Была весна, и сирень стояла в полном цвету, наполняя воздух густым ароматом. — Ничего не болит, голова не кружится, никакой боли? — спросила Джоанна. — Ничего такого. Воистину, Господь сотворил чудо. — Именно так, ваше святейшество, — задумчиво улыбнулась Джоанна. — Но вспомните, как вы чувствовали себя, когда один только Бог был вашим лекарем! Сергий игриво потрепал Джоанну за ухо. — Господь прислал мне тебя, чтобы ты помог ему сотворить это чудо! Они улыбнулись друг другу. «Момент настал», — подумала Джоанна. — Если вы действительно чувствуете себя хорошо… — она умолкла. — Да? — Я как раз подумал… сегодня заседает папский суд. Ваш брат Бенедикт будет председательствовать во дворце, как обычно. Но если вы чувствуете себя лучше… Сергий неуверенно ответил: — Бенедикт привык председательствовать. Вообще-то нет надобности… — Люди выбрали Папой не Бенедикта, а вас. Им нужны вы, ваше святейшество. Сергий нахмурился. Наступило долгое молчание. Джоанна подумала, что слишком поспешила и была прямолинейна. Но Сергий произнес: — Ты прав, Иоанн Англиканец. Я очень долго пренебрегал такими делами. — Печаль придала ему умудренный вид. Джоанна тихо ответила: — Лекарство в том, чтобы действовать. Сергий задумался над ее словами и внезапно направился к калитке сада. — Пойдем! — позвал он ее. — Чего же ты ждешь? Она поспешила за ним.
У дверей зала заседаний, прислонившись к стене, стояли два гвардейца. Завидев Сергия, они вытянулись и распахнули дверь. — Его святейшество Папа Сергий, епископ Рима и митрополит Римской провинции, — звонким голосом произнес один из них. В зал вошел Сергий в сопровождении Джоанны. На мгновение все изумленно умолкли, слышался только шум передвигаемых скамей, когда члены папского суда встали. Бенедикт сидел в папском кресле с раскрытым ртом. — Закрой рот, брат, если не собираешься ловить мух, — сказал Сергий. — Ваше святейшество! Разумно ли это? — воскликнул Бенедикт. — Не стоит рисковать здоровьем, наблюдая эти заседания! — Благодарю, брат, но я чувствую себя отлично, — ответил Сергий. — Пришел, не наблюдать, а председательствовать. Бенедикт встал. — Я, как и весь Рим, рад это слышать. — Голос его прозвучал далеко не радостно. Сергий поудобнее уселся в кресло, выложенное подушками. — Какое дело слушается сегодня? Нотариус быстро изложил суть дела. Некий Мамерт, преуспевающий негоциант, просит разрешения обновить здание приюта и школы для сирот. Это полуразрушенное здание прилегало к Латеранскому дворцу. Мамерт предлагал перестроить его под ночлег для паломников. — Приют, — задумался Сергий. — Знаю это место очень хорошо. Сам жил там какое-то время, когда умерла моя мать. — Ваше святейшество, здание превратилось почти в руины, — вставил Мамерт. — Смотреть больно, позор для всего города. Я же готов превратить его во дворец! — А что станет с сиротами? — осведомился Сергий. Мамерт пожал плечами. — Они найдут приют где-нибудь еще. Есть много благотворительных домов, которые примут их. — Очень тяжело, когда тебя выгоняют из собственного дома, — заметил Сергий. — Ваше святейшество, новая гостиница станет украшением Рима! Герцоги и даже короли будут рады останавливаться в ней! — Для Бога сироты не менее дороги, чем короли. Не Христос ли сказал: «Блаженны нищие, ибо им принадлежит царствие Небесное»? — Ваше святейшество, прошу учесть мое предложение. Подумайте, сколько пользы Риму принесет такое здание! Сергий покачал головой. — Не допущу сноса сиротских приютов. Прошение отклоняется. — Я протестую! — решительно заявил Мамерт. — Ваш брат и я уже обо всем договорились. Все проплачено. — Проплачено? — Сергий изогнул бровь. Бенедикт сделал знак, чтобы Мамерт замолчал. — Я… я, — Мамерт поднял глаза, подыскивая слова. — Я сделал пожертвование, очень щедрое пожертвование алтарю Святого Серватия, чтобы ускорить строительство. — Тогда ты получил благословение, — заметил Сергий. — Такая щедрость всегда вознаграждается, и ты будешь меньше страдать в жизни вечной. — Но… — Благодарим тебя, Мамерт, за то, что обратил наше внимание на плохое состояние приюта. Ремонт его станет нашей первостепенной задачей. Мамерт открывал и закрывал рот, словно рыба на берегу. В последний раз взглянув на Бенедикта, он вышел из зала. Сергий подмигнул Джоанне, и она улыбнулась ему в ответ. Бенедикт заметил, как они переглянулись. «Так вот откуда дует ветер», — подумал он и отругал себя за то, что не обратил на это внимание раньше. Сейчас было самое подходящее время года для сбора урожая с папского суда. Бенедикт, увлеченный делами, упустил из виду, что этот иноземный священник стал оказывать значительное влияние на его брата. «Ничего, — успокоил он себя. — То, что сделано, можно переделать. У каждого свои слабости. Главное — выяснить, в чем его слабости». Джоанна спешила по коридору в главный зал триклиния. Как личный врач Сергия она должна была ужинать за его столом. Эта привилегия позволяла ей внимательно следить за всем, что ел и пил Папа. Состояние его здоровья все еще оставалось неустойчивым. Переедание могло привести к новому приступу подагры. — Иоанн Англиканец! Она оглянулась и увидела Аригия, мажордома дворца. Он направлялся к ней. — В Трасгевере сильно заболела женщина. Вас вызывают к ней. Джоанна вздохнула. Уже трижды за неделю ее вызывали по таким делам. Новость о том, что она лечит самого Папу Сергия, разлетелась по всему городу. К величайшему неудовольствию общества врачей, Джоанна стала пользоваться популярностью. — Почему не вызвать врача из школы? — предложила Джоанна. Аригий нахмурился. Он не привык, чтобы ему противоречили. Как мажордом дворца Аригий имел право контролировать все вопросы. Но этот молодой и дерзкий чужестранец, казалось, не желал ничего понимать. — Я уже дал слово, что вы придете. Джоанна рассердилась. Он слишком самоуверен. Строго говоря, как личный врач Сергия она не должна подчиняться Аригию. Но спорить Джоанна не стала, поскольку вызов был срочный, хотя и несвоевременный. — Хорошо, — согласилась она. — Возьму сумку с лекарствами. Прибыв по указанному адресу, Джоанна увидела большой дом в стиле старинного римского дворца. Слуга провел ее через несколько смежных двориков и сад во внутреннее, помещение, богато украшенное мозаикой, лепниной и росписями, создающими эффект удаленных комнат и большого пространства. В необычной комнате приятно и сладко пахло спелыми яблоками. В дальнем ее конце стояла кровать с пуховыми перинами, окруженная горящими свечами, как алтарь. На кровати томно возлежала женщина. Такой красавицы Джоанна никогда не видела. Она была прекраснее, чем Ричилд, и даже чем ее мать Гудрун. — Я Мариоза, — пропела женщина сладким словно мед голосом. — Госпожа, — запнулась Джоанна, онемев перед такой безупречной красотой. — Я Иоанн Англиканец, пришел по вашему вызову. Мариоза улыбнулась, довольная произведенным впечатлением. — Подойди ближе, Иоанн Англиканец, — манил ее сладостный голосок. — Или ты собираешься осмотреть меня оттуда? У кровати сладкий яблочный запах был сильнее. Этот аромат был знаком ей, но точно сказать, что это, она не могла. Мариоза протянула ей бокал вина. — Не выпьешь ли за мое здоровье? Джоанна вежливо отпила вина, согласно обычаю. Вблизи Мариоза выглядела еще прекраснее. Кожа у нее была нежного белого цвета, глаза огромные, темно-фиолетовые, с густыми черными ресницами, но зрачки были сильно расширены. «Слишком расширены», — вдруг подумала Джоанна. Такое неестественное расширение зрачков ненормально. Обследование избавило Джоанну от чар Мариозы. — Скажите мне, пожалуйста, в чем ваше недомогание? — спросила Джоанна. — Такой хорошенький, — вздохнула та, — и такой серьезный? — Хочу помочь вам, госпожа. Почему меня вызвали так срочно? — Раз уж ты настаиваешь… — промурлыкала Мариоза. — Это сердце. Необычная жалоба для женщины ее возраста. Мариозе было не более двадцати двух лет. Такие случаи известны. Иногда дети рождаются под несчастливой звездой с червем в сердце. Каждое мгновение своей короткой жизни они страдают и борются за выживание. Но страдающие этим заболеванием выглядят не так, как Мариоза, чей внешний вид, за исключением расширенных зрачков, свидетельствовал о завидном здоровье. Джоанна взяла руку Мариозы, послушала пульс и нашла, что он ровный. Она осмотрела руки Мариозы. Они были здорового цвета, кончики пальцев под ногтями розовые. При нажатии на коже не оставались бесцветные пятна. Осмотрев ноги и ступни Мариозы очень внимательно, Джоанна не обнаружила признаков некроза. Кровообращение у Мариозы было явно хорошим. Мариоза откинулась на подушки и наблюдала за ней, слегка опустив веки. — Ищешь мое сердце? — дразнила она. — Там его нет, Иоанн Англиканец! — Распахнув шелковый халат, Мариоза обнажила белоснежную грудь. «О Боже, — подумала Джоанна, — это, должно быть, легендарная Мариоза, самая знаменитая гетера, или куртизанка, Рима! Ходили слухи, что среди ее клиентов были самые высокопоставленные граждане города. Она пытается соблазнить меня», — догадалась Джоанна. Нелепость этой затеи заставила ее улыбнуться. Поняв это по-своему, Мариоза приободрилась. Соблазнить монаха не слишком трудно. Так приказал Бенедикт, заплатив ей за это. Священник он или нет, Иоанн Англиканец прежде всего мужчина, а на земле нет мужчины, способного устоять перед ней. С показным равнодушием Джоанна сосредоточилась на обследовании. Она прощупала бока Мариозы, стараясь выявить ушибы на ребрах, ибо часто боль от ушибов принимали за боль в сердце. У Мариозы болевых ощущений не было. — Какие у тебя прекрасные руки! — промурлыкала она и улеглась, обнажив все прелести своего тела. — Какие прекрасные сильные руки. Джоанна выпрямилась. — Дьявольское яблоко! «Благочестивый священник, — подумала Мариоза, — вспоминает о грехе в такой момент». Ну что ж, ей приходилось иметь дело со священниками. Она отлично знала, что делать с этими последними приступами благочестия. — Дай волю своим чувствам, Иоанн, потому что они естественны и богоугодны. Не сказано ли в Библии: «И станут двое одной плотью»? — Вообще-то Мариоза точно не знала, откуда эти слова, но надеялась, что из Библии. Эти слова она слышала в похожей ситуации от епископа. — Кроме того, — прибавила Мариоза, — никто никогда не узнает, что происходит между нами. Джоанна покачала головой. — Я не это имел в виду. Запах в комнате… это мандрагора… иногда называемая Дьявольским яблоком, — Желтый плод был наркотиком. Вот почему у Мариозы расширены зрачки. Но откуда исходит этот запах? Джоанна понюхала свечу рядом с кроватью. — Что вы сделали, смешали воск с соком растения? Мариоза вздохнула. Она не раз видела, как ведут себя девственные молоденькие прелаты. Смущенные и неуверенные, они пытались перевести разговор на более безопасную тему. — Ну же, — сказала она, — хватит говорить о лекарствах. У нас есть лучший способ провести время. — Мариоза провела рукой по рясе Джоанны вниз, стараясь добраться до ее интимных частей. Догадавшись о ее намерениях, Джоанна отскочила от кровати. Загасив свечу Джоанна решительно взяла женщину за руки. — Послушайте, Мариоза, Мандрагора… вы используете это как возбуждающее средство, я знаю. Но не советую продолжать, эти пары ядовиты. Мариоза нахмурилась. В ее план это не входило. Но нужно было как-то отвлечь священника он врачевания. Внизу в холле послышались шаги. На убеждения времени не осталось. Мариоза схватила верхний край халата и резким движением разорвала его до низу. — Ах! — воскликнула она. — Вот теперь больно! Послушайте! Обхватив голову Джоанны, она сильно прижала ее к своей груди. Джоанна попыталась вырваться, но Мариоза крепко держала ее. — О, Иоанн! — голос ее теперь был словно патока. — Не могу сопротивляться твоей страсти! Дверь распахнулась. В комнату вбежали около дюжины папских гвардейцев и, схватив Джоанну, грубо оторвали ее от кровати. — Так, так, батюшка, как странно вы общаетесь! — шутливо произнес начальник охраны. — Эта женщина больна, — возразила Джоанна. — Меня вызвали, чтобы я вылечил ее. Мужчина ухмыльнулся. — Неужели, и много ли женщин вы излечили подобным способом? Раздался дружный хохот. Джоанна обратилась к Мариозе: — Скажите им правду. Мариоза пожала плечами, и разорванный халат соскользнул с ее плеч. — Они видели нас. К чему отрицать? — В шеренгу становись, батюшка! — пошутил один из гвардейцев. — У Мариозы столько любовников, что они не уместятся в Колизее! Снова раздался оглушительный хохот, к которому присоединилась и Мариоза. — Да ладно, батюшка. — Начальник охраны взял Джоанну за руку и развернул ее к двери. — Куда вы ведете меня? — осведомилась Джоанна, хотя ответ был известен ей. — В Латеранский дворец. За это придется отвечать перед Папой. Джоанна вывернулась из его рук и сказала Мариозе: — Не знаю, зачем вы это сделали и для кого, но предупреждаю вас: не возлагайте больших надежд на мужчин, ибо они столь же непостоянны, как ваша красота. Смех Мариозы замер на губах. — Варвар! — презрительно крикнула она. Под раскаты смеха Джоанну вывели из комнаты. В сопровождении гвардейцев Джоанна молча шла по темнеющим улицам. Она не питала ненависти к Мариозе. Джоанна могла сама стать такой же, если бы судьба не вывела ее на другую дорогу. На улицах Рима было много женщин, предлагавших себя всего лишь за еду. Многие пришли в Рим целомудренными паломницами, даже монахинями, но, оказавшись без крова и не имея средств, чтобы вернуться домой, они встали на этот путь. С высоты своих кафедр священники проклинали этих «приспешниц дьявола». Лучше умереть непорочной, говорили они, чем жить в грехе. «Но они никогда не знали голода», — думала Джоанна. Нет, нельзя винить Мариозу. Она всего лишь инструмент. Но в чьих руках? Кому необходимо избавиться от меня? На такое, несомненно, пошли бы Эннодий и члены общества врачей. Но они скорее постарались бы дискредитировать ее, как врача. Если не они, то кто же? Ответ нашелся сразу: Бенедикт. С момента неудавшейся сделки с приютом, он невзлюбил Джоанну, завидовал ее влиянию на брата. Эта мысль принесла облегчение. По крайней мере, она знала своего врага и не собиралась прощать ему. Конечно, он брат Сергия, ее друга. Ему она раскроет всю правду. В Латеранском дворце Джоанну провели мимо триклиния, где обедал Сергий с высокопоставленными вельможами папского суда, в личные апартаменты Папы. — Так, так. Что мы имеем? — усмехнулся Бенедикт, когда гвардейцы ввели Джоанну. — Иоанн Англиканец под стражей, словно обычный вор? — Он обратился к начальнику охраны: — Говори, Тарасий, расскажи, в чем виновен этот священник. — Господин, мы взяли его в доме блудницы Мариозы. — Мариозы! — Бенедикт изобразил глубочайшее негодование. — Его нашли в постели проститутки, в ее объятиях, — прибавил Тарасий. — Все это подстроено, — заявила Джоанна. — Меня вызвали под ложным предлогом, сказав, что Мариозе нужна помощь. Зная, что появится стража, она прижала меня к груди перед тем, как гвардейцы вошли. — Думаешь, я поверю, что женщина пересилила тебя? Как не стыдно, лживый священник! — Это вам должно быть стыдно, Бенедикт, а не мне! — с чувством ответила Джоанна. — Вы подстроили все это, чтобы дискредитировать меня. Вы договорились с Мариозой, чтобы она притворилась больной, и послали стражу, зная, что я буду у нее. — Охотно признаюсь. Его признание застало Джоанну врасплох. — Вы сознаетесь в своем обмане? Бенедикт взял со стола бокал вина и сделал глоток. — Зная, как вы порочны, и не поощряя чрезмерную доверчивость брата, я постарался добыть доказательства вашего предательства, вот и все. — У вас нет повода сомневаться в моей порочности. — Вы непорочны, — усмехнулся Бенедикт. — Расскажи мне еще раз, как ты его нашел, Тарасий. — Господин, он лежал в объятиях блудницы в ее постели, и она была обнажена. — Ц-ц-ц. Только подумайте, как расстроится мой брат, услышав такое сообщение. Тем более что он так доверял вам! Джоанна осознала серьезность своего положения. — Не делайте этого, — сказала она. — Я нужен вашему брату, потому что он еще в опасности. Без должного медицинского ухода приступ повторится, и на этот раз он умрет. — Отныне брата будет лечить Эннодий, — ответил Бенедикт. — Ваши грешные руки немало навредили ему. — Я навредил ему? — От негодования Джоанна потеряла контроль над собой. — Как вы смеете мне это говорить… вы, кто принес собственного брата в жертву своей алчности и зависти? Джоанна вдруг захлебнулась. Бенедикт выплеснул вино из бокала прямо ей в лицо. Вино разъедало глаза, вызывая слезы, попало в горло, отчего она задохнулась. — Отведите его в темницу, — приказал Бенедикт. — Нет! — крикнула Джоанна, пытаясь вырваться из рук стражников. Необходимо было добраться до Сергия до того, как Бенедикт отравит его сознание. Она быстро побежала по коридору в сторону триклиния. — Остановите его! — закричал Бенедикт. За спиной послышался топот гвардейцев. Джоанна завернула за угол и отчаянно помчалась к освещенному триклинию. За несколько ярдов до двери ее схватили и скрутили. Джоанна выпрямилась, пытаясь подняться, но гвардейцы крепко держали ее за руки и ноги. Беспомощную Джоанну потащили прочь. Ее несли по незнакомым коридорам и лестницам, спускавшимся так глубоко, что Джоанне казалось, они никогда не кончатся. Наконец, стражники опустили ее перед дубовой, окованной железом дверью, подняли засов и распахнули дверь. Поставив Джоанну на ноги, они втолкнули ее внутрь. Она окунулась в кромешную темноту и почувствовала под ногами воду. Со страшным треском дверь захлопнулась и наступил полный мрак.
* * *
Шаги гвардейцев затихли вдалеке. Джоанна сделала шаг, вытянув руки вперед. Она нащупала сумку. К счастью, они не догадались отобрать ее. Повезло! В сумке были свертки и пузырьки, и она узнавала каждый на ощупь. Наконец Джоанна отыскала то, что нужно — коробочку с огнивом, запалом и небольшой свечой, которую использовала для нагревания препаратов. Ударив огнивом по железной коробочке, она высекла искру; от этой искры запал быстро воспламенился, и Джоанна зажгла свечу. Темный каземат осветился слабым тусклым огнем. Она осмотрелась. Стены большой комнаты, футов тридцать в длину и двадцать в ширину, были выложены из крупных камней, потемневших и замшелых от времени. Скользкий пол тоже казался каменным, хотя в этом Джоанна сомневалась, поскольку его покрывал слой липкой, затхлой воды. Подняв свечу, она увидела в дальнем углу неясный, словно привидение, силуэт человека. «Я не одна». Она вздохнула с облегчением, но тут же встревожилась. В конце концов, это место заключения. Возможно это сумасшедший или убийца… или и тот и другой? — Dominus tecum, — неуверенно сказала она. Человек не отозвался. Джоанна повторила приветствие на просторечии, добавив: — Я Иоанн Англиканец, священник, лекарь. Могу ли чем-нибудь помочь, брат? — Человек сидел неподвижно у стены, вытянув руки и ноги. Джоанна подобралась ближе. Свет упал на лицо человека… Но лица не было. Она увидела череп, покрытый остатками гниющей кожи и волосами. С криком Джоанна побежала к двери и стала биться о дубовые доски. — Выпустите меня отсюда! — Она стучала в дверь кулаками, пока не разбила их в кровь. Ответа не последовало. Никто не придет. Они решили уморить ее здесь. Обхватив себя руками, Джоанна пыталась не дрожать. Постепенно приступ страха и отчаянья начал проходить, и внутри зародилось другое чувство — упрямая решимость выжить, сопротивляться той несправедливости, которая привела ее сюда. Оправившись от страха, Джоанна начала размышлять. Нельзя отчаиваться. Сергий не допустит, чтобы я осталась здесь навечно. Поначалу он разозлится, но через несколько дней успокоится и пошлет за мной. Мне остается только продержаться до этого момента. Джоанна начала не спеша обследовать темницу. Здесь она нашла останки еще троих узников, чьи кости давно освободились от плоти. Джоанна сделала еще одно важное открытие. Пол в темнице с одной стороны был выше: там грязная вода не доходила до стены на несколько футов, оставляя длинную сухую полосу. У стены лежали старые дырявые шерстяные лохмотья. Их можно использовать для защиты от пронизывающего холода подземелья. В другом углу Джоанна нашла еще кое-что. На воде плавал соломенный тюфяк, толстый, сделанный на совесть, и так плотно набитый, что верхняя часть его осталась сухой. Джоанна перетащила его на полосу и уселась, поставив свечу рядом. Из сумки она достала пакетик с чемерицей и густо насыпала ядовитый черный порошок вокруг матраса для защиты от крыс и других паразитов. Затем вынула пакетик с тертой дубовой корой и немного шалфея. Эти снадобья Джоанна развела в небольшом пузырьке вина, смешанного с медом. Выпив из пузырька драгоценный напиток, она защитила себя от холода и сырости. Потом легла на тюфяк, задула свечу и укрылась лохмотьями. Оставалось только лежать в темноте. Джоанна сделала все, что могла. Теперь следовало отдохнуть и сохранить силы до тех пор, когда Сергий пошлет за ней. (обратно)Глава 21

В праздник Вознесения служба должна была проходить в титулярной церкви Санта-Прасседе. Хотя солнце только что взошло, зрители уже собрались, заполнив улицу возле дворца шумной и пестрой толпой. Вскоре огромные бронзовые двери открылись. Первыми появились псаломщики и другие низшие церковные чины. Они шли пешим ходом. За ними следовали конные гвардейцы. Они зорко следили за толпой, высматривая возможных бунтовщиков. За ними выехали деканы и судьи семи римских провинций. Перед каждым из них шествовал служка со знаменем, на котором красовался их герб. Затем появились архиепископ и иремицерий со своими свитами. И наконец, выехал сам Папа Сергий, облаченный в торжественные ризы из золота и серебра, на высоком чалом коне, покрытом белой шелковой попоной. Сразу за ним ехали оптиматы, верховные слуги папского двора в порядке старшинства: Аригис, мажордом, хранитель папского гардероба, секретарь, казначей и номенклатор. Длинная процессия пересекла пространство Латеранского двора и величественно проследовала мимо огромной бронзовой статуи волчицы, mater romanorum, — матери римлян, которая, по преданию, выкормила Ромула и Рэма. По поводу этой статуи время от времени велись споры. Одни считали ее богохульным языческим идолом, не имевшим права стоять у стен папского дворца, но другие любили волчицу, восхищаясь красотой скульптуры. Сразу за статуей волчицы процессия повернула на север, пройдя под великой аркой акведука Клавдия, выложенной превосходной кирпичной кладкой, и далее на Виа Сакра, священный путь, по которому шествовали римские папы с незапамятных времен. Солнце слепило Сергию глаза. Голова болела, а ритмичная поступь коня укачивала. Он схватился за поводья, чтобы удержаться в седле. «Это цена, которую я плачу за чревоугодие». Сергий снова согрешил, съев жирную пищу и вино. Презирая себя за слабость, уже в который раз он поклялся исправиться. С сожалением Оргий вспомнил об Иоанне Англиканце. Как хорошо он чувствовал себя, когда этот иностранец лечил его! Но ведь не вернешь его обратно после того, что он натворил. Иоанн Англиканец — ничтожный грешник, священник, нарушивший свой обет. — Благослови Господь святейшего Папу! — Крики толпы привели Сергия в чувство. Он перекрестил толпу, борясь с тошнотой, когда процессия торжественно двинулась по узкой Виа Сакра. Они миновали монастырь Гонория, когда к ним на взмыленном коне подъехал мужчина. Вид у всадника и коня был ужасный. Одежда на всаднике была порвана, лицо, опаленное солнцем, покрыто дорожной пылью, как у сарацина. Придержав коня, он спешился. — Как смеешь ты мешать священной процессии? — возмутился первосвященник Евстафий. — Стража, свяжите этого человека и выпорите хорошенько. Пятьдесят ударов научат его почтению! — Он… он наступает… — Мужчина так задыхался, что едва говорил. — Постойте! — Сергий поднял руку. — Кто наступает? — Лотар, — выдохнул мужчина. — Император? — изумился Сергий. Мужчина кивнул. — Во главе огромной армии франков. Ваше святейшество, он готов жестоко отомстить вам и этому городу за все причиненные ему обиды. По толпе прошелся испуганный ропот. — Обиды? — Сергий не сразу понял, что это значило. Но вдруг он догадался: рукоположение! После избрания Сергия город поспешил с рукоположением, не дождавшись одобрения императора. Это было нарушением манифеста, его 824-й главы, в которой Лотару давалось право утверждать избранного Палу до его рукоположения. Тем не менее это нарушение приветствовалось, поскольку люди усмотрели здесь проявление независимости Рима от далекой франкской короны. Для Лотара это значило неуважение. Ни разу не случалось, чтобы император не утвердил избранного Папу, поэтому процедура была не более чем формальностью. Никто не предполагал, что Лотар отнесется к этому так серьезно. — Где сейчас император? — пересохшими губами прошептал Сергий. — В Витербо, ваше святейшество. Послышались встревоженные голоса. От Витербо, расположенного на Римской равнине, было не более десяти дней пути до Рима. — Ваше святейшество, он исчадие ада, — проговорил гонец. — Его солдаты уничтожают все на своем пути, сжигают фермы, грабят, рубят виноградники. Берут все, что им надо, а что не надо сжигают. Всех, кто встает на их пути, они безжалостно уничтожают: женщин, стариков, грудных детей, — не щадят никого. Ужас… — Голос его дрогнул. Напуганные и растерянные люди смотрели на Папу, но утешения они не нашли. На глазах всего Рима Сергий обмяк, глаза его закатились и он свалился на шею коня. — Ах, он умер! — Крик отчаянья разнесся по толпе. Папская охрана обступила Сергия со всех сторон. Его сняли с коня и унесли во дворец. Следом отправилась вся процессия. Испуганная толпа устремилась во двор. Казалось, вот-вот начнется паника. Гвардейцы с кнутами и обнаженными мечами направляли людей в узкие темные улочки, разгоняя по домам.
Переполох усилился, когда из окрестных земель через городские ворота хлынули беженцы из Фарфы и Парни, Лоренты и Чивитавеккьи. Они шли толпами, неся на себе весь свой скарб. Покойников везли на телегах, Все рассказывали о зверствах франков. Услышав страшные рассказы, римляне поспешно укрепляли свои стены. Они работали день и ночь, разгребая скопившиеся за многие столетия кучи мусора вокруг городских стен, чтобы противнику было труднее взобраться на них. Священники от зари до зари проводили службы, выслушивали исповеди. Церкви были переполнены, в толпе появились новые лица, потому что страх превратил в фанатиков даже не слишком благочестивых людей. Они зажигали свечи и молились за безопасность своих домов и семей, а также за выздоровление больного Сергия, на которого все возлагали надежды. «Да укрепит Господь нашего Папу, — молились они, — ибо ему понадобится немало сил, чтобы защитить город от дьявола Лотара».
Голос Сергия поднимался и затихал среди нежных мелодий сладкозвучнейшего хора мальчиков. Регент улыбнулся ему. Воодушевленный Сергий запел еще громче, его молодое сопрано летело все выше и выше в радостном экстазе, и казалось, он скоро вознесется к небесам. Сон закончился, и Сергий проснулся. Страх, смутный и невнятный, снова заполнил его сознание, сердце бешено колотилось, но пока он не понимал, почему. Но вдруг смутно вспомнил. Лотар! Сев на кровати, Сергий почувствовал, как стучит у него в висках, какой неприятный привкус во рту. — Селестин! — позвал он хриплым голосом. — Ваше святейшество! — Сонный Селестин поднялся с пола. Его нежное розовое лицо, круглые детские глаза и взлохмаченные светлые волосы делали его похожим на херувима. В свои десять лет он был самым молодым из тех, кто спал в покоях Папы. Отец Селестина считался одним из влиятельнейших людей города, именно поэтому в Латеранский дворец мальчик попал раньше всех. «Он не моложе меня, когда меня забрали из родительского дома», — подумал Сергий. — Позови Бенедикта. — приказал он. — Хочу говорить с ним. Целестин кивнул и поспешил удалиться, скрывая зевоту. Вошел слуга с подносом, на котором лежали хлеб и бекон. Сергий не должен был нарушать пост до следующей мессы, потому что руки, касавшиеся святых даров, должны быть чисты от всего мирского. Но тайком он эти правила часто нарушал. Однако в то утро от запаха свинины Сергия затошнило. Он жестом велел унести поднос. — Уберите это. Вошел нотариус и объявил: — Его светлость Первосвященник ожидает вас в триклиниуме. — Пусть подождет, — ответил Сергий. — Прежде хочу поговорить с братом. Здравый смысл Бенедикта в этой ситуации был очень ценен. Это он подсказал взять деньги из казны, чтобы откупиться от Лотара. Пятьдесят тысяч золотых динариев успокоят даже ущемленное самолюбие императора. Селестин вернулся без Бенедикта, но с мажордомом Аригием. — Где мой брат? — спросил Сергий. — Бежал, ваше святейшество, — ответил Аригий. — Бежал? — Привратник Иво видел, как он выехал из города перед рассветом с дюжиной сопровождающих. Мы думали, что вы знаете. — У Сергия перехватило дыхание. — С ним было одиннадцать сундуков, когда он уезжал. — Нет! — Сергий хотел возразить, но знал, что это правда. Бенедикт предал его. Он беспомощен. Придет Лотар, и Сергий ничего, совершенно ничего не сможет сделать, чтобы остановить его. Снова почувствовав приступ тошноты, он успел склониться с кровати и выплеснул содержимое желудка на пол. Сергий попытался подняться, но не смог. Ноги сковала нестерпимая боль. Селестин и Аригий подбежали к нему, подняли и усадили в кровати. Уткнувшись в подушку, Сергий расплакался как ребенок. — Побудь с ним, а я в подземелье, — обратился Аригий к Селестину.
Джоанна уставилась на поставленную перед ней еду. В миске лежал маленький высохший кусочек хлеба и несколько серых, странных кусочков мяса, явно тухлых и разъеденных личинками червей. Она не ела уже несколько дней, потому что охранники из-за невнимательности или нарочно еду приносили нерегулярно. Джоанна смотрела на мясо, подавляя голод здравым смыслом. Наконец, она отодвинула миску. Взяв корочку хлеба, Джоанна откусила крошечный кусочек и медленно разжевала его, чтобы хватило надолго. Давно ли она в этом подземелье… две недели? Три? Джоанна потеряла ощущение времени. От кромешной тьмы она утратила ориентацию. Свечу Джоанна использовала очень экономно, зажигая ее только во время еды или для приготовления снадобий. И все же свеча стала совсем маленькой, ее хватит не более чем на час. Страшнее темноты было одиночество. Полная тишина стала невыносима. Чтобы не сойти с ума, Джоанна задавала себе умственные задачи, читая наизусть правила Бенедиктинского монастыря, все сто пятьдесят псалмов, и Книгу Деяний. Но эти упражнения, слишком рутинные, уже не занимали ее ума. Она вспомнила, как великий теолог Боэций, заключенный так же, как она, нашел силы и утешение в молитве. Часами Джоанна стояла на холодном полу темницы, стараясь молиться. Но в душе у нее не было ничего, кроме пустоты. Зерно сомнения, посеянное матерью в детстве, проросло глубоко. Джоанна пыталась искоренить его, подняться до утешительных высот всепрощения, но не могла. Слышал ли ее Бог? Есть ли он вообще? День за днем не было никаких вестей от Сергия, и надежда стала угасать. Джоанна вздрогнула, услышав металлический звон поднимаемого засова. Дверь широко распахнулась, и в темноту ворвался яркий свет. Прикрыв глаза рукой, Джоанна зажмурилась. На пороге стоял человек. — Иоанн Англиканец? — неуверенно спросил он в темноту. Голос казался смутно знакомым. — Аригий! — У Джоанны закружилась голова, когда она встала и направилась по тухлой воде к папскому мажордому. — Вы от Сергия? Аригий покачал головой. — Его святейшество не желает видеть вас. — Тогда почему?… — Он очень болен. Вы однажды дали ему лекарство, которое помогло. У вас есть с собой? — Есть. — Джоанна вынула из сумки пакетик с порошком зимовника. Аригий потянулся за ним, но Джоанна быстро спрятала его. — Что? — удивился Аригий. — Неужели вы так сильно ненавидите его? Не забывайте, Иоанн Англиканец, что желая вреда избранному Христом священнику, вы обрекаете свою душу на вечные муки. — Я не питаю к нему ненависти. — Джоанна знала, что Сергий хороший, но слабый человек. И он слишком доверял брату. — Я не дам это снадобье тому, кто несведущ в медицине. Сила его велика, и неверная доза может оказаться смертельной. — Джоанна лукавила: корень не обладал такой силой. Чтобы он причинил вред, нужно принять очень большую дозу. Но в этом она видела шанс освободиться. Она не допустит, чтобы дверь снова захлопнулась. — Кроме того, — добавила Джоанна, — откуда мне знать, та ли у Сергия болезнь,что и прежде? Что бы вылечить его святейшество, я должен осмотреть его. — Аригий колебался. Освободить узника означало нарушить субординацию, прямое неподчинение приказу Папы. Но еще хуже, если Сергий умрет, когда франкский император стоит у ворот города, угрожая Риму. — Пойдемте, — сурово сказал он, приняв решение. — Провожу вас к его святейшеству.
Сергий лежал в кровати на мягких шелковых подушках. Страшная боль утихла, он совсем ослаб. Дверь открылась, и вошел Аригий в сопровождении Иоанна Англиканца. Сергий в негодовании уставился на него. — Что делает здесь этот орешник? — Он пришел с лекарством, которое поправит ваше здоровье, — ответил Аригий. Сергий затряс головой. — Истинное лечение исходит от Бога. Его целебная сила не может прийти через оскверненный сосуд. — Я вовсе не оскверненный сосуд, — возразила Джоанна. — Бенедикт обманул вас, ваше святейшество. — Ты был в постели блудницы, — укоризненно произнес Сергий. — Стража видела тебя там. — Они видели то, что им велели увидеть. — Джоанна быстро объяснила, как Бенедикт устроил ей ловушку. — Я не хотел туда идти, но Аригий настоял. — Это верно, ваше святейшество, — подтвердил Аригий. — Иоанн Англиканец просил меня отправить к ней другого врача. Но Бенедикт потребовал, чтобы туда отправился именно Иоанн Англиканец. Сергий молчал очень долго. Наконец он произнес: — Если это правда, то тебя жестоко оклеветали. — Сергий впал в отчаянье. — Нашествие Лотара послано мне в наказание за мои грехи! — Если бы Бог хотел наказать вас, Он выбрал бы более простой способ, — заметила Джоанна. — Зачем жертвовать жизнями тысяч невинных, если можно уничтожить вас одним ударом? Сергий растерялся: такое не приходило ему в голову. — Нашествие Лотара не наказание, — продолжала Джоанна, — это всего лишь испытание, испытание веры. Вы должны подать людям пример. — Я слаб телом и душой. Дайте мне умереть. — Если вы умрете, вместе с вами в людях умрет вера. Вы должны быть сильным ради них. — Что от этого изменится? — обреченно спросил Сергий. — Мы не можем устоять против сил Лотара. Это было бы чудом. — Тогда придется совершить это чудо, — твердо сказала Джоанна.
После Пятидесятницы, в день ожидаемого прибытия Лотара, площадь перед базиликой Святого Петра заполнилась представителями городских школ, разодетых в праздничные одежды. Официально Лотар не сделал враждебных заявлений, поэтому было решено оказать ему прием, достойный его высокого положения. Неожиданное гостеприимство может обезоружить его довольно надолго, а это позволит перейти ко второму плану Джоанны. К полудню все было готово. Сергий подал знак, и первой выехала группа вельмож с развевающимися над ними желтыми знаменами. За ними следовали подьячие и деканы, далее пешим ходом различные чужеземцы — фризцы, франки, саксонцы, ломбардийцы и греки. Они радостно приветствовали друг друга, направляясь на Виа Триумфалис мимо разрушенных языческих храмов, стоящих вдоль древней дороги. «Слава Богу, что они идут не на смерть», — подумала Джоанна и сосредоточила внимание на Сергии. За последние несколько дней ему стало немного лучше. Хватит ли у него сил выдержать напряжение дня? Джоанна попросила мажордома принести кресло, и Сергий с благодарностью уселся в него. Для укрепления сил Джоанна дала Сергию лимонной воды с медом. Перед дверями базилики собрались пятьдесят самых влиятельных людей Рима: все главные официальные лица Латеранского двора, группа избранных кардиналов, графы и князья, а также их кортеж. Первосвященник Евегафий прочитал им короткую молитву, и все замерли в молчании. Оставалось только ждать. С напряженными лицами, настороженно прислушиваясь, они не сводили глаз с дороги, уходившей за горизонт вдоль зеленой долины Нерона. Время тянулось невыносимо медленно. На безоблачном небе солнце стояло почти в зените. Утренний ветерок стих, потом совсем исчез, знамена беспомощно повисли на древках. Над головами кружили тучи мух, нарушая тишину однообразным жужжанием. Прошло более двух часов с момента выхода процессии. Они должны были давно вернуться. Послышался нарастающий шум и пение. «Благословение Богу», — вздохнул Евстафий, когда вдали на горизонте, словно желтые паруса на море, показались знамена. Через несколько минут появились первые всадники, за которыми шествовали представители различных школ. За ними шел темный, нескончаемый поток людей. Это была армия Лотара. У Джоанны перехватило дыхание: никогда еще не видела она так много гостей. Сергий поднялся с кресла, опираясь на посох. Авангард процессии приблизился к базилике и расступился, освобождая путь для императора. Появился Лотар. Взглянув на этого человека, Джоанна поверила рассказам о его чудовищной жестокости. Он был коренаст, с толстой шеей и крупной головой. Его широкое плоское лицо и маленькие глаза свидетельствовали о злобности. Две группы людей противостояли друг другу — одна темная, покрытая дорожной пылью, другая светлая и сияющая в своих белых священнических одеждах. Позади Сергия поднималась крыша базилики Святого Петра, сверкая серебром под палящим солнцем — духовное сердце Церкви, маяк мира, святейшая усыпальница всех христиан. Перед таким величием склонялись даже императоры. Лотар сошел с коня, но не преклонил колен, чтобы с традиционным почтением поцеловать первую ступень, ведущую в базилику. Он гордо поднялся по ступеням в сопровождении вооруженных людей. Прелаты, толпившиеся у открытых дверей базилики, в страхе отпрянули. Папская стража обступила Сергия, положив руки на мечи. Вдруг двери базилики дрогнули и начали закрываться. Лотар отскочил назад. Ею люди выхватили мечи и замерли в недоумении, испуганно оглядываясь по сторонам. Но никого поблизости не было. Двери медленно закрылись, словно движимые сверхъестественной силой, и замкнулись. Время! Джоанна решила, что Сергию пора действовать. Словно услышав ее мысли, он выпрямился и эффектно воздел руки. Слабого и больного человека больше не было; в своей белой камилавке и золотом облачении он выглядел необычайно величественно. Сергий заговорил на франкском языке, чтобы Лотар понял его: — Прими руку Господа, которая закрыла перед тобой Его святейший алтарь. Люди Лотара испуганно вскрикнули. Настороженный и подозрительный император не двинулся с места. Теперь Сергий перешел на латынь: — Si purа mente et pro salute Republicae huc advenisti… Если ты пришел с чистыми помыслами и Доброй волей в эту страну, войди и будь с нами, если же нет, то никакая земная сила не откроет для тебя эти двери. Лотар колебался, все еще не веря случившемуся. Неужели Сергий сотворил чудо? Лотар сомневался, но уверенности не было. Пути Господни неисповедимы. Кроме того, положение Лотара теперь не слишком надежно, потому что его дружинники начали в ужасе падать на колени, роняя оружие. С натянутой улыбкой Лотар распахнул объятия навстречу Сергию, и они обнялись, ознаменовав примирение поцелуем. — Benedictus qui venit in nominee Domini, — радостно запел хор. — Благословен пришедший во имя Бога. Двери снова пришли в движение. Все с изумлением следили за серебряными вратами, пока они не распахнулись. Рука об руку, под радостные крики «Осанна», Сергий и Лотар вошли в базилику, чтобы помолиться перед ракой Святого Апостола.
Проблемы с Лотаром пока не закончились. Он все еще хотел объяснений, извинений, выгодных предложений и уступок. Но непосредственная опасность миновала. Джоанна подумала о том, как обрадовался бы Джеральд, увидев работу гидравлических дверей. Она представила себе, как лукаво засияли бы его глаза цвета индиго, как рассмеялся бы он, откинув голову назад. Странно устроено сердце. Можно прожить долгие годы, привыкнув к утрате, смириться с ней и вдруг в одно мгновение снова ощутить пронзительную и невыносимую боль разлуки. (обратно)
Глава 22

Джеральд вздохнул с облегчением, когда Альпы остались позади, один из самых ужасных переходов закончился. Впереди пролегла безупречно ровная Виа Франчигена. На ней до сих пор сохранилась древняя каменная мостовая, уложенная еще римлянами в незапамятные времена. Джеральд пустил коня в галоп. Возможно, теперь они успеют наверстать время. Необычно поздний снегопад сделал узкие альпийские тропы почти непроходимыми и опасными. В пути погибли двое воинов: их лошади не удержались на тропе и сорвались в пропасть. Джеральду пришлось ждать, когда улучшатся условия. Из-за этой остановки они отстали от авангарда королевской армии, которая теперь, должно быть, приближалась к Риму. Тем не менее Лотар не слишком нуждался в них. Этот дивизион насчитывал всего двести человек, в основном мелкопоместных князей, примкнувших к армии позднее, в Марчфилде. Для Джеральда, человека именитого, командовать таким войском было унизительно. За три года после сражения при Фонтено отношения Джеральда с королем Лотаром сильно ухудшились. Лотар становился все более деспотичным, окружив себя раболепствующими сторонниками, готовыми постоянно льстить ему. Он совершенно не терпел возражений, тогда как Джеральд по-прежнему открыто и честно выражал свое мнение. Например, он не одобрил кампанию против Рима. — Наши войска необходимы на фризском берегу, — возмущался Джеральд, — чтобы защищаться от норманнов. Их набеги все чаще и опустошительнее. Это было именно так. В прошлом году норманны напали на Сент-Вандриль и Утрехт. В предыдущую весну они спустились на кораблях по Сене и сожгли Париж! Всю страну охватил страх. Если такой большой город, как Париж, в самом сердце, империи, подвергся нападению варваров — значит миру пришел конец. Однако внимание Лотара было обращено к Риму, который осмелился выбрать Папу, не спросив его согласия. Лотар воспринял это как личное оскорбление. — Сообщи Сергию о том, что ты не доволен, — посоветовал Джеральд. — Покарай римлян, удержав выплату долгов. Но не уводи войска отсюда, где они так нужны. Лотар считал поход вопросом чести. Чтобы наказать Джеральда, он назначил его командиром самого отсталого дивизиона. По мощеной дороге они продвигались очень быстро, пройдя до заката почти сорок миль, но по пути им не встретилось ни одной деревни или города. Собираясь устроить привал у обочины, Джеральд заметил дым, поднимавшийся над лесом. Благодарю тебя, Господи! Значит впереди деревня или хотя бы хутор. Теперь Джеральд и его люди могли надеяться на приличный ночлег. Они еще не достигли границы папских земель. Королевство Ломбардия, через которое они теперь проезжали, входило в состав империи, и закон требовал, чтобы путников принимали гостеприимно. Если не хватало места в доме, им предлагали сеновал. Свернув, они увидели, что дым поднимался не из печной трубы, а с пепелища до основания сожженного дома. Это было добротное хозяйство, Джеральд насчитал развалины около пятнадцати построек. Пожар, вероятно, вспыхнул от случайной искры лампы или очага. Такое нередко случалось там, где дома строили из дерева. Проезжая мимо обугленных бревен, Джеральд вспомнил о Вилларисе. В тот далекий день, когда его сожгли норманны, все выглядело почти так же. Он вспомнил, как искал на пепелище Джоанну, искал и боялся найти. Удивительно, прошло пятнадцать лет с тех пор, как он в последний раз видел ее, но, казалось, это было вчера. Ореол белокурых локонов, низкий грудной голос, глубоко посаженные серо-зеленые глаза, умные не по летам. Он заставил себя не думать о ней. Есть многое, о чем трудно вспоминать. В миле от разрушенного поселения, на перекрестке большой дороги, попрошайничала женщина с пятью детьми одетыми в лохмотья. Когда Джеральд со своим дивизионом подъехал ближе, женщина и ее дети в испуге отбежали. — Не бойся, добрая женщина, — успокоил ее Джеральд. — Мы не причиним вам зла. — У вас есть пища, господин? — спросила она. — Для детей? Четверо из детей подбежали к Джеральду, протягивая руки и глядя на него голодными глазами. Хорошенькая девочка лет тринадцати осталась с матерью, прижавшись к ней. Джеральд достал из-под седла сумку из промасленной овечьей кожи, в которой лежал его паек на несколько дней: кусок хлеба, головка сыра и несколько сушеных соленых кусков оленины. Он хотел отломить половину хлеба, но, посмотрев на детей, отдал им все. До Рима оставалось лишь дня два пути, ему хватит бисквитов, что хранятся в обозе. С радостным криком дети набросились на еду, словно стайка голодных птиц. — Вы из этой деревни? — спросил Джеральд женщину, показав на пепелище. Женщина кивнула. — Мой муж мельник. Джеральд не выказал удивления. Эта женщина никак не могла быть женой преуспевающего мельника. — Что случилось? — Три дня назад, после весеннего посева, пришли солдаты. Люди императора. Они хотели, чтобы мы немедленно присягнули Лотару, сказав, что иначе погибнем на месте от их мечей. Поэтому мы присягнули. Джеральд кивнул. Сомнения Лотара по поводу этой части Ломбардии были отчасти оправданы, поскольку эти земли сравнительно недавно присоединил еще дед Лотара, великий король Карл. — Если вы присягнули ему, почему же он сжег вашу деревню? — удивился Джеральд. — Они не поверили нам. Назвали нас обманщиками и забросали дома факелами. Когда мы попытались погасить огонь, они пригрозили нам мечами. Сгорели даже амбары с зерном, хотя мы умоляли их не делать этого ради детей. Они засмеялись и обозвали детей предательским отродьем, заслужившим голодной смерти. — Негодяи! — возмутился Джеральд. Много раз он пытался внушить Лотару, что доверие подданных нельзя завоевать одной силой, но лишь с помощью закона. Как обычно, его слов никто не услышал. — Они забрали всех наших мужчин, — продолжала женщина, — кроме самых юных и стариков. Император шел на Рим, они сказали, что им нужны люди, пополнить войско. — Женщина заплакала. — Они забрали мужа и двоих сыновей, младшему всего одиннадцать. Джеральд выругался. Дела обстоят совсем плохо, если Лотару для войны понадобились даже дети. — Господин, что это значит? — спросила женщина. — Неужели император собирается воевать против Святого Города? — Не знаю. — До этого момента Джеральд полагал, что Лотар намерен лишь устрашить Папу Сергия и римлян, продемонстрировав им свою силу. Но разорение этой деревни было плохим знаком. В таком мстительном расположении духа Лотар был способен на все. — Собирайся, матушка, — сказал ей Джеральд. — Мы отвезем вас в другую деревню. Здесь для детей не безопасно. Она покачала головой. — Не двинусь с этого места, Как найдут нас муж и сыновья, когда вернутся? «Если вообще вернутся», — с грустью подумал Джеральд. Черноволосой девочке он сказал: — Уговори свою маму, чтобы она пошла с нами. Девочка молча уставилась на Джеральда. — Она не хочет обидеть вас, господин, — извинилась женщина. — Она бы ответила, если бы могла, но не может говорить. — Не может говорить? — удивился Джеральд. На вид девочка была совершенно "нормальная и неглупая. — Ей отрезали язык. — Боже милостивый! — Ворам и другим преступникам язык отрезали в наказание без суда и следствия. Но эта невинная девочка не могла совершить никакого преступления. — Кто это сделал? Не может быть, чтобы… Женщина печально кивнула. — Люди Лотара обесчестили ее, а потом отрезали язык, чтобы она не могла обвинить их в этом и рассказать другим об их позорном поведении. Джеральд был потрясен. Подобные зверства совершают язычники-норманны или сарацины, но не воины императора, защитники христиан и справедливости. Джеральд быстро отдал приказ. Его люди достали из обоза мешок с бисквитами, небольшой кувшин вина, поставили все это на землю перед женщиной. — Благослови вас Господь, — растроганно произнесла жена мельника. — И тебя тоже, матушка, — ответил Джеральд. По пути они проезжали другие разоренные поселения. После себя войска Лотара оставили только руины. Как верный слуга имперской короны, Джеральд считал долгом чести преданно служить императору. Но достойно ли служить такому жестокому человеку, как Лотар? Император легко забывал о законе и человечности, и это сводило на нет все обязательства. Джеральд приведет свой арьергард императорской армии в Рим, как обещал. Но потом, твердо решил он, оставит службу у Лотара навсегда.
За Непи дорога ухудшилась. На твердой почве возвышенности она стала узкой и разбитой, вся в трещинах и ухабах. Римская мостовая закончилась, древние камни растащили для других нужд, поскольку такой прочный строительный материал в этих местах был редкостью в древние времена. Повсюду Джеральд видел следы, оставленные армией Лотара. Дорога была изрыта копытами лошадей и колесами повозок. Приходилось вести коней очень осторожно, чтобы они не поранились. Ночью хлынул ливень, превратив дорогу в непроходимую топь. Не останавливаясь на привал, Джеральд решил пересечь открытое пространство полей и зайти на Виа Палестрина, которая приведет их в Рим через восточные ворота Святого Иоанна. Они быстро скакали через весенние долины и зеленеющие леса, благоухающие молодой порослью. Выехав из густого подлеска, они внезапно натолкнулись на группу всадников, которые сопровождали тяжелую повозку, запряженную четверкой лошадей. — Приветствую вас, — обратился Джеральд к тому, koго принял за главного, темноволосому мужчине с узкими, заплывшими глазами. — Не скажете ли, мы на Правильном пути к Виа Палестрина? — Да, — ответил мужчина и попытался проехать мимо. — Если вы направляетесь на Виа Фламиния, — предупредил Джеральд, — будьте осторожны. Дорога размыта, ваша повозка застрянет по самые оси. — Нам не туда, — отозвался мужчина. Странно. Кроме дороги в том направлении не было ничего, только пустынная земля. — Куда же вы направляетесь? — поинтересовался Джеральд. — Я сказал все, что вам нужно знать, — отрезал мужчина. — Продолжайте свой путь и оставьте честного купца в покое. Ни один нормальный купец не посмеет обратиться к господину так неучтиво. Джеральду это показалось подозрительным. — Чем вы торгуете? — Джеральд подъехал к повозке. — Возможно, у вас есть то, что я хотел бы купить. — Оставьте нас в покое! — крикнул мужчина. Джеральд откинул покрывала и увидел содержимое повозки: дюжину бронзовых сундуков с тяжелыми железными замками и на каждом папская эмблема. «Люди Папы. Их, наверное, отослали из города, чтобы перевезти папскую казну подальше от Лотара», — решил Джеральд. Он подумал о том, чтобы доставить сокровища Лотару, но не стал делать этого. Пусть, римляне сохранят то, что могут. Папа Сергий найдет гораздо более достойное применение деньгам, чем Лотар, который пустит их на новую жестокую войну. Джеральд собирался отъехать, но тут один из римлян спрыгнул с лошади и упал перед ним ниц. — Помилуйте, господин! — воскликнул он. — Спасите нас! Мы не можем умереть с таким тяжелым грехом на душе! — С грехом? — повторил Джеральд. — Замолчи, дурак! — Их вожак поднял лошадь на дыбы и растоптал бы этого человека, но Джеральд остановил его, выхватив меч. Мгновенно люди Джеральда тоже схватились за оружие и окружили римлян. Те не осмелились обнажить мечи, поняв, что они в меньшинстве. — Во всем виноват Бенедикт! — яростно закричал мужчина, лежащий на земле. — Это он придумал украсть деньги, а не мы! — Украсть деньги? Тот, кого авали Бенедикт, уклончиво заговорил: — Мы не желаем вам зла, господин, не собираемся ссориться с вами, Дайте нам мирно уйти, и в благодарность возьмите один из этих сундуков. — Он заговорщически улыбнулся Джеральду. — В нем достаточно золота, чтобы разбогатеть. Предложение и то, как оно было сделано, развеяло все сомнения. — Схватить его! — приказал Джеральд. — Остальных тоже. Доставим их и эти сундуки в Рим.
Триклиний сиял огнями сотен факелов. Армия слуг стояла вдоль стола, за которым сидел Папа Сергий в окружении высокопоставленных вельмож города: священники всех семи округов Рима слева, их мирские двойники, семеро защитников, справа. Перпендикулярно этому столу располагался другой, такой же большой. За ним на почетных местах сидели Лотар и его свита. Остальные, человек двести, устроились на жестких деревянных скамьях за длинными столами посередине зала. Столы были заставлены блюдами с яствами, кувшинами и кубками, а скатерти уже залиты вином. Поскольку это происходило не в постный день, угощение состояло не только из хлеба и рыбы, но из мяса и других жирных кушаний. Даже на пиршественном столе Папы были блюда с поросятами в белом соусе с зернами граната и алыми цукатами, чаши с супами из кролика и вальдшнепа, заливные раки и рыба голец, жареные косули, козлята и гуси. В центре стола, за которым сидел Лотар, красовался лебедь с позолоченным клювом, и его окружали фрукты, уложенные в виде волн. Сидя за одним из столов в центре зала, Джоанна с тревогой смотрела на это изобилие. Перед такими деликатесами Сергий едва ли устоит. — Тост! — Граф Маконский, сидевший рядом с Лотаром, поднялся с кубком в руке. — За мир и дружбу двухвеликих христиан! — За мир и дружбу! — подхватили все и осушили кубки. Слуги сновали вдоль столов, наливая еще. Последовали многочисленные тосты, и, наконец, когда темы для них были исчерпаны, началось застолье. Джоанна с ужасом наблюдала, как много ест Сергий. Глаза его посоловели, речь стала невнятной, кожа потемнела. «Вечером придется дать ему хорошую дозу зимовника, чтобы предотвратить приступ подагры». Двери триклиния открылись, вошел отряд гвардейцев и быстро проследовал в центр зала. Гости сразу же смолкли, заинтересовавшись причиной внезапного вторжения. По залу пронесся ропот удивления, когда все увидели мужчину со связанными руками, окруженного стражей. Это был Бенедикт. Лицо Сергия исказилось. — Ты! — выкрикнул он. Старший охранник Тарасий пояснил: — Отряд франков нашел его в поле. С ним была казна. По пути в Рим Бенедикт размышлял как оправдаться. Он решил не отрицать, что вывез папскую казну. Не придумал он и достойного объяснения своему поступку, несмотря на все ухищрения изворотливого ума. Бенедикту оставалось лишь положиться на милость брата. Он знал, что у Сергия доброе сердце. Презирая это качество, сейчас Бенедикт охотно воспользовался бы им. Упав на колени, он возопил: — Прости меня, Сергий! Я согрешил, но искренне и смиренно каюсь. Однако Бенедикт забыл о том, что вино плохо воздействовало на характер брата. Лицо Сергия побагровело от ярости. — Предатель! — воскликнул он. — Негодяй! Вор! — Каждое слово Сергий сопровождал ударом кулака по столу. Бенедикт побледнел. — Брат, умоляю тебя… — Уберите его отсюда! — приказал Сергий. — Куда прикажете, ваше святейшество? — спросил Тарасий. У Сергия помутилось в голове, думать было трудно. Он знал одно: его предали, и ему хотелось отомстить так, чтобы причинить предателю боль. — Он вор! — с горечью произнес он. — Пусть будет наказан, как вор! — Нет! — крикнул Бенедикт, когда стражники потащили его из зала. — Сергий! Брат! — Это слово было последним. Сергий упал в кресло, его лицо побледнело, голова откинулась, глаза закатились, руки и ноги непроизвольно подергивались. — Это сглаз! — крикнул кто-то. — Бенедикт сглазил его! — Люди в зале зашумели и стали испуганно креститься. Джоанна бросилась к столу Сергия. Лицо его начало синеть. Обхватив голову Сергия, она разжала ему челюсти. Язык запал и он перестал дышать. Взяв со стола нож, Джоанна засунула тупой конец в рот Сергию, подцепила им запавший язык и вытащила его. Сергий охнул и задышал. Джоанна осторожно прижимала язык, чтобы облегчить дыхание. Через минуту приступ прошел, Застонав, Сергий успокоился. — Отнесите его в постель, — сказала Джоанна. Слуги подняли Сергия и направились к двери. — Посторонитесь! Посторонитесь! — кричала Джоанна, когда Сергия выносили из зала.
Когда Сергия принесли в спальню, сознание вернулось к нему. Джоанна дала ему черной горчицы, смешанной с горечавкой, чтобы его вырвало. Сергию значительно полегчало. Затем она дала ему большую дозу зимовника, добавив немного макового сока, чтобы он сразу заснул. — Будет спать до утра, — сказал она Аригию. Тот кивнул. — У вас очень усталый вид. — Да, переутомился, — призналась Джоанна. День был трудный, а она еще не оправилась после заключения в темнице. — Эннодий и остальные члены медицинского общества ожидают вас за дверью. Хотят поговорить с вами о приступе его святейшества. Джоанна вздохнула. Ей не хотелось выслушивать недоброжелательные вопросы, но уклониться она не могла. Джоанна устало направилась к двери. — Один момент, — Аригий позвал ее за собой. В дальнем конце комнаты он отодвинул один из гобеленов и толкнул стену снизу. Стена отодвинулась, и перед ними открылся проход шириной фута в два с половиной. — Что это? — удивилась Джоанна. — Тайная дверь, сделанная еще во времена правления языческих императоров на случай, если придется бежать от неприятелей. Теперь ход ведет из папской опочивальни в его личную часовню. Это позволяет ему спокойно молиться в любое время суток. Пойдемте. — Аригий взял свечу и пошел вперед. — Этим путем можете уйти от преследования шакалов хотя бы сегодня. Джоанну тронуло, что Аригий поделился с ней этой тайной. Доверительные отношения между ними укреплялись. Они спустились по крутой винтовой лестнице. Она заканчивалась перед стеной, в которой торчал деревянный рычаг. Аригий повернул рычаг, и стена отодвинулась. Джоанна прошла вперед, и мажордом снова повернул рычаг. Стена встала на место так, что никто не догадался бы о существовании тайного хода. Джоанна оказалась позади одной из мраморных колонн в дальней части Священной Часовни. Возле алтаря слышались голоса, что удивляло, поскольку в этот час здесь никто не бывал. — Это было давно, Анастасий, — послышался хриплый, с сильным акцентом голос Лотара. Тот, кого он назвал Анастасием, вероятно, был епископ Кастеллы. Наверное, мужчины удалились в часовню, чтобы поговорить с глазу на глаз. «Что делать? Если я попытаюсь проскользнуть в дверь часовни, они могут заметить меня», — подумала Джоанна. Ей не удалось бы вернуться и в покои Папы, поскольку рычаг находился с другой стороны. Значит, она должна затаиться, пока эти двое не закончат беседу. Тогда можно будет уйти незаметно. — Сегодняшний приступ у его святейшества внушает беспокойство, — заметил Лотар. — Папа очень болен. Едва ли он протянет до конца года, — ответил Анастасий. — Большая потеря для Церкви. — Очень большая, — согласился Анастасий. — Его преемник должен быть человеком сильным и мудрым. Таким, кто сумеет оценить историческое значение… взаимопонимания между нашими народами. — Вы должны использовать все ваше влияние, сир, чтобы следующим понтификом стал именно такой человек. — Полагаете… это должен быть такой человек, как вы? — Есть ли у вас основания сомневаться во мне, сир? Услуга, которую я оказал вам при Колмаре, доказывает мою бесконечную преданность вам. — Возможно, — уклончиво ответил Лотар. — Но времена меняются, а с ними и люди. Теперь, епископ, вашу преданность следует проверить снова. Готовы ли вы подтвердить ее присягой? — Люди неохотно согласятся присягнуть вам, сир, после всех неприятностей, причиненных им вашей армией. — Ваша семья в силах изменить это, — ответил Лотар. — Если присягнете вы и ваш отец Арсений, за вами последуют и другие. — Вы просите об очень большой услуге. Она потребует столь же большого вознаграждения. — Знаю. — Присяга — всего лишь слова. Людям необходим Папа, способный вернуть их к прежним традициям… В лоно франкской империи и к вам, сир. — Не вижу никого более подходящего для этого, чем вы, Анастасий. Сделаю все, что в моей власти, чтобы выехали следующим Палой. Наступило молчание. Затем Анастасий произнес: — Народ принесет присягу, сир. Я позабочусь об этом. Джоанну охватила ярость. Лотар и Анастасий заключили сделку, решающую судьбу папского престола, словно два торгаша на базаре. В обмен на власть Анастасий согласился передать римлян под контроль франкского короля. В дверь постучали, и вошел слуга Лотара. — Граф прибыл, сир. — Пусть войдет. Мы с епископом закончили наше дело. Вошел мужчина в военном снаряжении. Высокий с огненно рыжими волосами и глазами цвета индиго. Джеральд! (обратно)
Глава 23

С уст Джоанны сорвался испуганный крик. Когда она спохватилась было уже поздно. — Кто там? — насторожился Лотар. Джоанна вышла из-за колонны. Лотар и Анастасий с удивлением взглянули на нее. — Кто вы? — спросил Лотар. — Иоанн Англиканец, сир. Священник и врач его святейшества Папы Сергия. — Давно ли вы здесь? — осведомился Лотар. — Несколько часов, сир. Зашел помолиться за выздоровление его святейшества. Я очень устал, внезапно заснул и только что проснулся. Лотар недовольно уставился на Джоанну. Скорее всего, маленький прелат находился здесь, когда они с Анастасием вошли. Ему некуда было бежать и спрятаться тоже негде. Но это не имело значения. Главное — что он слышал, а еще важнее, понял ли что-нибудь? Хотя вряд ли. Человек этот не опасен, поэтому лучше всего не обращать на него внимания. Анастасий, однако, придерживался иного мнения. Не исключено, что Иоанн Англиканец подслушивал. Но зачем? Не шпион ли он? Только не Сергия, нет, нет, Папа не пользовался услугами соглядатаев. Но если он работает не на Сергия, то на кого же? И почему? Отныне, решил Анастасий, за маленьким чужеземцем придется внимательно следить. В это время Джеральд тоже внимательно разглядывал Джоанну. — Кажется, вы знакомы мне, отец, — сказал он. — Мы виделись прежде? — Он нахмурился, пытаясь рассмотреть ее в тусклом свете часовни. Вдруг лицо Джеральда изменилось так, словно он увидел привидение. — Боже! Не может быть… — Вы знакомы? — спросил Анастасий. — Мы виделись в Дорштадте, — быстро ответила Джоанна. — Я несколько лет учился в кафедральной школе, моя сестра… — она слегка подчеркнула это слово, — жила в то время в доме графа. Взглядом она просила Джеральда молчать. — Конечно. — Джеральд кивнул. — Очень хорошо помню вашу сестру. Лотар нетерпеливо перебил их: — Довольно. Что вы имеете сообщить мне, граф? — Мое сообщение предназначено только для вас, сир. Лотар склонил голову. — Хорошо. Все свободны, Еще поговорим, Анастасий. Джоанна повернулась, чтобы уйти, но Джеральд коснулся ее руки. — Подождите меня. Хочу услышать больше… о вашей сестре. Выйдя из часовни, Анастасий направился по своим делам. Джоанна ждала Джеральда под мрачным взглядом охранника Лотара. Ситуация внушала ей серьезные опасения. Одно непродуманное слово, и она разоблачена. «Лучше бы уйти сейчас, пока не вышел Джеральд», — сказала она себе. Но ей так хотелось видеть его! Она стояла, словно прикованная, умирая от страха и надежды. Дверь часовни открылась, и появился Джеральд. — Значит, это ты? — изумленно произнес он. — Но как?… — Не здесь. — Джоанна повела его в комнату, где хранила свои травы и снадобья. Там она зажгла небольшие масляные лампы, и они осветили их теплым светом. Они с восторгом смотрели друг на друга. За пятнадцать лет Джеральд изменился, в густых рыжих волосах появилась седина, а вокруг глаз и крупного чувственного рта появились морщины. Но он остался самым красивым мужчиной, какого видела Джоанна. Ее сердце забилось неистово, как прежде. Джеральд сделал шаг к ней и заключил Джоанну в объятья. Она прильнула к нему всем телом и ощутила его кольчугу. — Джоанна! — прошептал Джеральд. — Моя родная, моя жемчужинка. Не думал, что снова встречу тебя. — Джеральд. — При звуке этого имени все другие мысли исчезли. Он нежно коснулся шрама на ее левой щеке. — Норманны? — Да. Джеральд коснулся шрама теплыми губами. — Они не овладели тобой тогда, когда вы с Гилзой?… Гилза. Джеральд никогда не узнает правды, она не скажет ему о том, что постигло его старшую дочь. — Они увели Гилзу, а мне удалось бежать. — Как? Куда? Я и мои люди обыскали все в округе, но от тебя не осталось никаких следов. Джоанна быстро рассказала о том, что случилось: о бегстве из Виллариса, о том, как стата Иоанном Англиканцем, как едва избежала разоблачения, о бегстве из монастыря. Рассказала о паломничестве в Рим и о том, как ей удалось занять должность личного врача Папы. — И за все эти годы, — удивился Джеральд, — ты ни разу не пыталась дать о себе весточку? Джоанна услышала боль в его голосе. — Я… я… думала, что не нужна тебе. Ричилд сказала, что выдать меня замуж за сына коновала предложил ты, и попросил ее все устроить. — И ты поверила ей?! — Он отпрянул от Джоанны. — Великий Боже, неужели мы не поняли друг друга? — Я… я не знала, что думать. Ты уехал, неизвестно почему. А Ричилд кто-то донес на нас о том, что случилось на берегу ручья. Кто же, если не ты? — Не знаю. Но я тебя любил так, как никого и никогда — ни раньше… ни потом. Я загнал Пестиса по дороге домой, спешил в Вилларис, потому что ты была там, мне так хотелось увидеть тебя… просить выйти за меня замуж. — Замуж? Но… Ричилд?… — Когда я уехал, со мной что-то случилось… мне стало понятно, что брак лишен смысла, как важна для меня ты. Я спешил сказать тебе, что разведусь с Ричилд, мы поженимся, если ты согласишься. Джоанна покачала головой. — Все так запуталось. — В голосе ее прозвучало сожаление. — Все получилось неправильно. — Так много нужно исправить. — Джеральд обнял и поцеловал ее. Джоанна таяла от его слов, от его тепла. И им казалось, что они стоят, обнявшись, на берегу ручья неподалеку от Виллариса, залитые весенним солнцем, молодые и опьяневшие от любви. Джеральд долго не отпускал ее. — Послушай, сердце мое. Я хочу уйти со службы у Лотара. Только что сообщил ему об этом в часовне. — И он согласился отпустить тебя? — Едва ли Лотар легко расстанется с тем, кто ему обязан. — Поначалу он не согласился, но я своего добился. За свободу мне придется заплатить: отдать Вилларис со всеми его землями. Я больше не богач, Джоанна. Но у меня крепкие руки и надежные друзья, которые не оставят меня. Один из них Зиконалф, принц Беневенто. Я подружился с ним, когда мы вместе сражались против ободритов. Теперь он нуждается в надежном человеке, потому что ему мешает его противник Раделхис. Пойдешь со мной, Джоанна? Будешь моей женой? Услышав громкие шаги за дверью, они отпрянули друг от друга. Спустя мгновение дверь открылась, и в комнату заглянул Флоринтин, один из дворцовых нотариусов. — Ах! — воскликнул он. — Вот вы где, Иоанн Англиканец! Искал вас повсюду. — Он пристально посмотрел на Джоанну и Джеральда. — Я… не помешал? — Ничуть, — быстро ответила Джоанна. — Чем могу помочь, Флоринтин? — У меня ужасно болит голова. Не приготовите ли для меня одно из ваших снадобий? — Охотно. Флоринтин ждал у двери, беззаботно болтая с Джеральдом, пока Джоанна приготовила смесь из ивовой коры и лепестков фиалки, растворив все в чае из розмарина. Она подала лекарство Флоринтину, и он сразу же исчез. — Здесь поговорить не удастся, — сказала она, как только Флоринтин ушел. — Слишком опасно. — Когда мы снова увидимся? Джоанна подумала. — На Виа Аппиа есть храм Весты, сразу за городом. Увидимся там завтра после третьей стражи. Джеральд страстно обнял ее. — До завтра, — прошептал он. Когда Джеральд ушел, у Джоанны от волнения долго кружилась голова.
Аригий всматривался в предрассветный мрак, проверяя двор Латеранского дворца. Все готово. Рядом с бронзовой статуей волчицы была установлена жаровня. Пара прочных железных прутьев, закрепленных внутри жаровни, уже раскалились до красна. Рядом стоял палач с наточенным мечом. Горизонт осветился первыми лучами солнца. Час для публичной казни был необычный. Как правило, такие события происходили после мессы. Несмотря на раннее утро, толпа любопытных уже собралась. Такие люди обычно приходили пораньше, чтобы занять самые лучшие места. Многие являлись с детьми, и те бегали вокруг толпы, предвкушая забавное зрелище. Аригий назначил именно на этот час казнь Бенедикта, опасаясь, что проснется Сергий и изменит свое решение. Многие осудили бы Аригия за проведение казни с такой поспешностью, но он хорошо знал, что делает и почему. Должность мажордома Аригий занимал уже более двадцати лет, посвятив жизнь служению церкви, обеспечивая безотказную работу всего огромного и сложного правительственного аппарата Рима. С годами Аригий стал относиться к папскому двору, как к живому существу, чье благополучие целиком зависело от его добросовестного отношения к своим обязанностям. Теперь этому благополучию угрожали. Менее чем за год Бенедикт превратил церковь в рассадник взяточничества и беззакония. Жадный и коварный Бенедикт угрожал институту папства. Чтобы спасти организм, следовало ампутировать его больную часть. Бенедикт должен был умереть. Сергий решиться на такое не мог. Потому Аригий взял ответственность на себя. Он пошел на это без колебаний, зная, что действует во спасение Святой Церкви. Все было готово. — Приведите узника, — приказал Аригий страже. Ввели Бенедикта, усталого и грязного после бессонной ночи в темнице. Он с надеждой оглядел двор. — Где Сергий? Где мой брат? — Его святейшество нельзя тревожить, — сказал Аригий. Бенедикт бросил на него гневный взгляд. — Вы понимаете, что делаете, Аригий? Вы видели моего брата прошлой ночью. Он же был пьян и не отдавал себе отчет в том, что говорит. Дайте мне поговорить с ним, и вы увидите, он никогда не согласится на мою казнь. — Приступайте, — приказал Аригий страже. Стражники вытащили Бенедикта на середину двора и принудили опуститься на колени. Схватив его за руки, они уложили их на «пьедестал» волчицы. Лицо Бенедикта исказилось от страха. — Нет! Остановитесь! — Устремив глаза в сторону дворца, он завопил: — Сергий! Сергий! Серг!.. Меч полоснул по его рукам, и Бенедикт закричал, когда отрубленные кисти упали на землю. Толпа ликовала. Палач положил отрубленные кисти рядом с волчицей. По древнему обычаю, они будут лежать так целый месяц в назидание всем, кому захочется украсть. К узнику подошел врач Эннодий. Вынув из жаровни раскаленные прутья, он крепко прижал их к кровоточащим ранам Бенедикта. Запахло горелым мясом. Бенедикт взвыл и потерял сознание. Эннодий склонился над ним. Аригий внимательно наблюдал за Бенедиктом. Как правило, люди умирали после такой казни, если не сразу от болевого шока, то медленно от заражения или потери крови. Но тех, кому удавалось выжить, можно было видеть на улицах Рима. Тип уродства соответствовал характеру их преступления: изуродованные губы — наказание за лжесвидетельство, изуродованные ноги у рабов, за то, что они пытались убежать от хозяев, выколотые глаза — у тех, кто посмел возжелать жен и дочерей своих господ. Аригий очень боялся, что Бенедикт выживет, поэтому пригласил на освидетельствование Эннодия, а не Иоанна Англиканца. Эннодий выпрямился. — Свершилось Божье правосудие, — мрачно объявил он. — Бенедикт умер. «Благословение Христу, — подумал Аригий. — Папство спасено». Джоанна стояла в очереди в купальню, готовясь к ритуалу омовения рук перед мессой. Глаза у нее болели и опухли от бессонной ночи. Она так и не сомкнула глаз, думая о Джеральде. Прошлой ночью чувства, которые, как ей казалось, давно умерли, воскресли вновь с такой силой, что удивили и даже напугали Джоанну. Появление Джеральда в ее жизни воскрешало желания молодости. «Что будет, если я вернусь к жизни женщины?» — гадала она. Джоанна уже привыкла отвечать за себя и быть хозяйкой своей судьбы. Но по закону, жене следовало полностью посвятить жизнь супругу. Можно ли доверять мужчине… даже Джеральду? «Никогда не отдавайся мужчине», — слова матери прозвучали в голове как предупреждение. Чтобы сердце успокоилось, нужно время. Но именно времени у Джоанны не было. За ее спиной появился Аригий. — Пойдемте, — нетерпеливо произнес он, — Его святейшество нуждается в вас. — Он болен? — встревожилась Джоанна и последовала за Аригием в папскую спальню. Прошлой ночью, хорошо очистив организм Сергия от вина и пищи, она дала ему дозу зимовника, чтобы предотвратить приступ подагры. — Заболеет, если будет продолжать в том же духе. — Что случилось? — Бенедикт мертв. — Мертв! — Приговор был приведен в исполнение сегодня утром. Он умер мгновенно. Бенедикт! Джоанна ускорила шаги. Она представляла, какое впечатление это произведет на Сергия. Но даже Джоанна испугалась, увидев его. Она едва узнала Сергия в человеке с растрепанными волосами, красными и опухшими от слез глазами, исцарапанными щеками. Он стоял на коленях возле кровати, раскачиваясь из стороны в сторону и всхлипывая, как ребенок. — Ваше святейшество! — громко произнесла Джоанна. Он продолжал раскачиваться, ослепший и оглохший от горя. Когда Сергий в таком состоянии, с ним невозможно было разговаривать. Достав немного настойки зимовника из сумки, Джоанна отмерила дозу и поднесла к его губам. Он рассеянно выпил. Через несколько минут Сергий перестал раскачиваться и взглянул на Джоанну, словно увидев ее впервые. — Поплачь за меня Иоанн. Моя душа проклята! — Ерунда! — решительно возразила Джоанна. — Вы действовали в соответствии с законом. Сергий покачал головой. — Не будь Каином, который убил своего брата, — процитировал он из первого Послания Иоанна. Джоанна вспомнила ответ. — Но почему Каин убил его? Потому что Авель был праведником. Бенедикт не был праведным, ваше святейшество. Он предал и вас, и Рим. — А теперь он мертв, и убить его приказал я! О Боже! — Сергий стая бить себя в грудь и завыл от боли. Надо было отвлечь его от горя, чтобы он не довел себя до нового приступа. Джоанна крепко взяла его за плечи. — Вы должны тайно исповедаться. — Тайная исповедь была распространена среди франков. Но Рим придерживался старых правил, когда исповедовались публично только раз в жизни. Сергий ухватился за эту идею. — Да, да, я исповедаюсь. — Пошлю за одним из кардиналов, — сказала Джоанна. — Нет ли у вас какого-то предпочтения? — Я исповедаюсь тебе. — Мне?! — Простой священник и к тому же чужестранец, Джоанна была самой неподходящей кандидатурой для этого. — Вы уверены, ваше святейшество? — Не хочу никого другого. — Хорошо, — она повернулась к Аригию, — оставьте нас. Аригий благодарно взглянул на нее и удалился. — Peccavi, impie egi, iniquitatem feci, miserere mei Domine… — произнес Сергий ритуальные слова покаяния. — Джоанна с сочувствием слушала его длинную исповедь о печали, сожалениях и угрызениях совести. Неудивительно, что обремененный такой ношей и мукой, Сергий искал утешения в вине. Исповедь подействовала так, как и ожидала Джоанна. Постепенно отчаянье прошло, Сергий устал, но уже не мог причинить себе вреда. Теперь настал сложный момент, предшествовавший отпущению греха. Сергий ожидал, что его наказание будет тяжелым: публичное порицание, возможно, на ступенях базилики Святого Петра. Но такой акт лишь ослабит Сергия и папство в глазах Лотара, а этого следовало избежать любой ценой. Тем не менее Джоанне следовало подвергнуть Сергия такому наказанию, которое для него не было бы слишком легким. Ее посетила отличная мысль: — В наказание вы должны отказаться от всякого вина и мяса животных отныне и до вашего последнего дня. Посты были обычным наказанием, но, как правило, длились лишь несколько месяцев, от силы год. Воздержание в течение всей жизни было тяжким наказанием, особенно для Сергия. К тому же такой пост спасет Папу от его дурных привычек. Сергий склонил голову в знак согласия. — Помолись со мною, Иоанн. Джоанна встала рядом с ним на колени. Во многом Сергий был словно ребенок — слабый, импульсивный, капризный, требовательный. Она знала, что он способен на добрые поступки. И в этот момент один Сергий стоял между Анастасием и престолом Святого Петра. Помолившись, Джоанна встала. Сергий прильнул к ней. — Не уходи, — взмолился он, — не могу оставаться один. Джоанна взяла его руки в свои. — Я не оставлю вас, — торжественно пообещала она. Пробравшись через разрушенные порталы древнего храма Весты, Джеральд разочарованно заметил, что Джоанны там нет. «Ничего, — подумал он, — еще рано». Джеральд сел, прислонившись к гранитной колонне. Подобно тому, как это произошло с большей частью памятников Рима, драгоценные металлы, украшавшие этот храм, давно растащили, исчезли позолоченные розетки купола, позолоченные барельефы на фронтоне. Ниши в стенах опустели, ибо мраморные статуи вывезли, разбили и использовали для строительства христианских храмов. Поразительно, что статуя самой богини сохранилась и осталась в своей нише. Одна рука у нее отвалилась, а мраморные одежды со временем обветшали, но статуя сохранила свое величие и форму, свидетельствуя о замечательной работе языческого мастера. Веста, древняя хранительница домашнего очага и здоровья, воплощала все, что значила для него Джоанна: жизнь, любовь, возрожденную надежду. Джеральд глубоко вдохнул утренний воздух, впервые за многие годы почувствовав себя прекрасно. В последнее время жизнь казалась ему тусклой, бессмысленной, однообразной. Он подчинился ей, убедив себя, что это следствие возраста, ему скоро исполнится сорок три года, немало для мужчины. Теперь Джеральд понял, что заблуждался. Он еще не устал от жизни, он жаждал ее. Джеральд чувствовал себя молодым, бодрым, радостным, словно напился из легендарной чаши Христа. Перед ним была жизнь, яркая и многообещающая. Он женится на Джоанне, они отправятся в Беневенто и будут жить в согласии и любви. У них даже могут быть дети. Еще не поздно. В этот момент Джеральду казалось, что возможно все. Он вздрогнул, услышав приближающиеся шаги. Ее ряса развевалась от быстрой ходьбы, щеки раскраснелись от возбуждения, коротко остриженные светлые волосы венцом обрамляли лицо, оттеняя серо-зеленый цвет глаз. И как только ей удавалось скрываться под мужской одеждой? Джеральд не представлял себе этого. На его взгляд, она была очень женственной и бесконечно желанной. — Джоанна! — Имя прозвучало как призыв и мольба. Джоанна старалась держаться на расстоянии. Стоит ей оказаться в объятиях Джеральда, ее решимость мгновенно исчезнет. — Я привел для тебя коня, — сказал Джеральд. — Если мы уедем сейчас, то будем в Беневенто через три дня. Она глубоко вздохнула. — Я не поеду с тобой. — Не поедешь?! — Не могу оставить Сергия. Джеральд растерялся, но совладал с собой. — Почему? — Я нужна Сергию. Он… слабый. — Он Папа Римский, Джоанна, а не ребенок, которого следует нянчить. — Я не нянчу, а лечу его. Врачи из школы не умеют лечить болезнь Сергия. — Он прекрасно жил до того, как ты пришла в Рим. Эти слова задели Джоанну. — Если я уеду теперь, Сергий сопьется в течение полугода. — Не мешай ему, — резко возразил Джеральд. — Какое это имеет отношение к тебе и мне? — Как можешь ты говорить такое? — возмутилась она. — Боже Милостивый, неужели мало наших жертв? Весна нашей жизни уже прошла. Не нужно терять время, которое у нас осталось! Джоанна отвернулась, чтобы он не видел, как подействовали на нее эти слова. Джеральд схватил ее за руку. — Джоанна, я люблю тебя. Пойдем со мной теперь, пока не поздно. От его прикосновения она вспыхнула, ей хотелось обнять его, почувствовать его губы на своих. Устыдившись своей слабости, Джоанна вдруг разозлилась на Джеральда за то, что он разбудил в ней страсть. — Чего ты ждал? — крикнула она, — Что я убегу с тобой по первому твоему зову? Я наладила свою жизнь здесь, и это хорошая жизнь. Я независима и меня уважают. В миру я никогда не имела бы таких возможностей. Зачем мне все это бросать? Ради чего? Чтобы провести остаток жизни в тесных комнатах, готовя пищу и вышивая? — Если бы от жены мне было нужно только это, я бы женился давным-давно. — Так сделай это! Не буду мешать тебе! — Джоанна, что случилось? Что-то не так? — с недоумением спросил Джеральд. — Все так, но я изменилась. Я уже не та наивная, влюбленная девочка, которую ты знал в Дорштадте. Я хозяйка своей судьбы. И я не променяю ее… ни на тебя, ни на любого другого мужчину! — А разве я просил тебя об этом? — резонно заметил Джеральд. Но Джоанне было не до резонов. Близость Джеральда, влечение к нему терзали ее. Джоанна отчаянно пыталась избавиться от этих пут. — Ты же не примешь этого, не так ли? Не смиришься с тем, что я не посвящу тебе жизнь? И с тем, что твои мужские чары безопасны для меня? Она хотела ранить его и преуспела в этом. Джеральд смотрел на Джоанну так, словно увидел в ее лице что-то новое. — Я думал, что ты любишь меня, но видно ошибался. Прости, больше не потревожу тебя. — Он отошел к порталу, но вернулся. — Значит, мы никогда больше не увидимся. Именно этого ты хочешь? «Нет! Я не этого хочу! Я вообще не хочу этого!» — хотелось крикнуть Джоанне. Но внутренний голос предостерег ее, и она ответила: — Именно этого я и хочу. Одно его слово, и Джоанна бросилась бы ему в объятия. Но Джеральд повернулся и вышел из храма. Она слышала, как он сбежал со ступенек. Через мгновение Джеральд уйдет из ее жизни навсегда. Она устремилась за ним. — Джеральд! — крикнула она. — Подожди меня! Топот копыт заглушил ее крик. Джеральд уже мчался по дороге. Через минуту он свернул и исчез. (обратно)
Глава 24

В Риме наступило лето. Солнце беспощадно палило, к полудню мостовые накалялись так, что обжигали ноги. Запах гниющего мусора и навоза витал в неподвижном воздухе и висел над городом душной пеленой. Чума начала расползаться среди бедноты, жившей в сырых и смрадных болотах по берегам Тибра. Опасаясь заразы, Лотар и его армия покинули город. Римляне радовались их уходу, поскольку содержание столь многочисленных гостей опустошило казну. Сергия прославляли как героя. Поклонение людей помогло ему пережить смерть Бенедикта. Вдохновленный приливом сил и энергии, появившихся благодаря строжайшей диете, которую предписала Джоанна, Сергий стал новым человеком. Как и обещал, он начал реконструкцию приюта для сирот. Ветхие стены укрепили, сделали новую крышу. Мраморными плитами, снятыми с языческого храма Минервы, выложили полы большого зала. Из них же построили новую часовню в честь Святого Стефана. Если прежде Сергию с трудом удавалось провести мессу, теперь он вел службу каждое утро. Кроме того, его часто видели молящимся в собственной часовне. Он истово отдался вере, с той же страстью, с какой прежде отдавался чревоугодию. Сергий был не из тех, кто делал что-либо наполовину. Два года мягких зим и обильного урожая привели ко всеобщему процветанию. Даже бедняки, наводнявшие улицы города, казались не слишком несчастными, потому что карманы более успешных братьев открывались для них гораздо охотнее. Римляне возносили благодарственные молитвы в церквях, благословляя свой город и Папу Римского. Они даже не подозревали, что надвигается катастрофа.
Джоанна была рядом с Сергием на одной из встреч с городскими князьями, когда вбежал гонец. — В чем дело? — сердито спросил Сергий. — Ваше святейшество! — Гонец опустился на колено. — Принес весть огромной важности из Сиены. Большой флот сарацинов направляется к нам из Африки. Они идут прямо на Рим. — На Рим? — тихо переспросил один из князей. — Это, конечно, ошибка. — Никакой ошибки, — возразил гонец. — Сарацины будут здесь через две недели. Воцарилось молчание. Все пытались постичь эту неслыханную новость. — Возможно, стоит перенести священные реликвии в более надежный дворец? — проговорил один из князей, имея в виду мощи апостола Петра, самую священную реликвию христианского мира, хранившуюся в базилике вне крепостной стены. Ромуальд, самый знатный из князей, рассмеялся: — Не думаете же вы, что язычники нападут на Святого Петра! — А что может остановить их? — спросила Джоанна. — Хотя они и варвары, но все же не глупцы, — ответил Ромуальд. — Они знают, что рука Бога покарает их, как только они ступят на порог священной гробницы! — У них собственные святыни, — заметила Джоанна. — Их не страшит кара нашего христианского Бога. — Что за языческое богохульство? — возмутился Ромуальд. Джоанна продолжала стоять на своем. — Несомненно, базилика и есть цель их нападения, если не сокровища, которые хранятся в ней. Ради безопасности следует перенести священные реликвии и саркофаг святого в крепость. Сергий колебался. — Бывали и прежде подобные предупреждения, но ничего не произошло. — В самом деле, — насмешливо проговорил Ромуальд, — если испытывать страх при каждом появлении сарацинского корабля, придется перетаскивать священные кости, словно пару челноков на ткацком станке! Хмурый взгляд понтифика оборвал взрыв смеха. — Господь защитит то, что принадлежит ему. Святой апостол останется там, где он есть. — Давайте обратимся к окрестным поселениям, чтобы мужчины помогли защитить город. — Теперь время подрезания лозы, — сказал Сергий. — Крестьянам дорог каждый работник на винограднике. Не вижу нужды рисковать урожаем, от которого зависит все, когда не грозит опасность. — Но, ваше святейшество… Сергий резко оборвал Джоанну: — Верь Богу, Иоанн Англиканец. Христианская вера и молитва надежнее всякого оружия. Джоанна склонила голову, ее одолевали непокорные мысли: когда сарацины будут у ворот, понадобится отряд хороших воинов. Спасет он, а не молитва. Джеральд и его войско стояли лагерем вблизи Беневенто. В палатках безмятежно спали дружинники после долгой ночной пирушки, разрешенной им Джеральдом в благодарность за победу накануне. Последние два года Джеральд командовал армией князя Зиконалфа, который воевал за трон с амбициозным Раделхисом. Опытный военачальник, постоянно муштровавший своих солдат, Джеральд полностью полагался на них и наносил поражение за поражением войску Раделхиса. Вчерашняя победа оказалась такой сокрушительной, что, видимо, навсегда прекратила притязания Раделхиса на беневентинский трон. Хотя часовые были расставлены вокруг всего лагеря, Джеральд и его люди спали, не выпуская из рук мечей и щитов, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Джеральд не хотел рисковать, ибо знал, что враг опасен и после поражения. Страх перед поражением часто заставляя людей совершать опрометчивые поступки. Джеральду были известны случаи внезапных нападений и полного уничтожения спящих в лагере людей, которые даже не успевали проснуться. Но в этот момент Джеральда занимали совсем другие мысли. Он лежал на спине, закинув руки за голову. Рядом, закутавшись в его плащ, спала женщина, ровно дыша и слегка похрапывая. На рассвете Джеральд пожалел, что, поддавшись мимолетному влечению, затащил ее к себе в постель. Такие встречи случались и прежде, и каждый раз они доставляли ему все меньше радости, все быстрее забывались. Джеральд хранил в душе воспоминание о той любви, которую так и не смог забыть. Он нетерпеливо покачал головой. Бессмысленно думать о прошлом. Джоанна не разделила его чувств, иначе не прогнала бы его. Женщина повернулась на бок. Джеральд коснулся ее плеча, и она проснулась, открыв карие глаза и тупо посмотрев на него. — Уже утро, — сказал Джеральд. Вынув из сумки несколько монет, он дал их женщине. Она взяла монеты и радостно улыбнулась. — Мне прийти сегодня ночью? — Нет. Она изобразила разочарование. — Не понравилась? — Ну что ты, конечно понравилась, но мы сегодня уходим. Немного позднее Джеральд видел, как женщина шла через поле, шлепая сандалиями по сухой траве. Облачное небо стало серым. Скоро пойдет дождь. Зиконалф и его вассалы уже собрались в большом зале, когда вошел Джеральд. Покончив с приветствиями, Зиконалф вдруг объявил: — Только что получил сообщение с Корсики. Семьдесят три корабля сарацинов отошли от берегов Африки. На них около пяти тысяч всадников. Все удивленно умолкли. Такой большой флот трудно было представить. Эбурис, один из вассалов Эйконалфа, тихо присвистнул. — Что бы они ни задумали, это не простой набег на наш берег. — Они идут на Рим, — сказал Зиконалф. — Рим! Не может быть! — воскликнул другой князь. — Абсурд! — отозвался третий. — Они не посмеют! Джеральд едва слышал их. Он напряженно размышлял. — Папе Сергию, вероятно, понадобится наша помощь. Но думал он не о Сергии. Весть о приближении сарацинов пробудила в нем всю горечь и боль непонимания за последние два года. Для него имело значение только одно: увидеть Джоанну и защитить ее. — Что вы предлагаете, Джеральд? — спросил Зиконалф. — Мой принц, позвольте направить войско на защиту Рима. Зиконалф нахмурился. — Наверняка, у священного города есть свои защитники. — Только отряд Святого Петра, небольшой и плохо обученный отряд папской охраны. От сабель сарацинов они падут, как скошенная трава. — А как насчет стены Аурелия? Сарацины способны преодолеть ее? — Стена довольно крепкая, — признал Джеральд, — но несколько ее ворот плохо укреплены. Они не выдержат натиска сарацинов. Кроме того, гробница святого Петра совсем не защищена, потому что она вне крепостных стен. Зиконалф задумался. Он хотел использовать войско только в своих целях. Но как христианин и благородный принц он с большим уважением относился к Священному Городу и его святыням. Мысль о том, что язычники могут захватить гробницу Святого Петра, ужасала его. Кроме того, Зиконалф вдруг решил, что защита Рима может принести ему пользу. Возможно, благодарный Папа Сергий вознаградит его, пожаловав одну из богатых папских провинций, граничащих с землями Зиконалфа. Джеральду он сказал: — Возьмите три дивизиона. Сколько времени нужно для подготовки к походу? — Войска вооружены и готовы выступить. Можем отбыть сейчас же. Если погода не испортится, в Риме будем через десять дней. — Помолимся, чтобы этого хватило. Да благословит вас Господь, Джеральд.
На Рим спустилась зловещая тишина. После первого предупреждения из Сиены, поступившего две недели назад, вестей о сарацинах не было. Римляне постепенно начали успокаивать себя тем, что слухи о вражеском флоте сильно преувеличены, если не фальшивы. Светлым и обнадеживающим утром 23 августа, мессу провели в кафедральном соборе Святой Девы Марии и великомучеников, в языческие времена известном, как Пантеон, самом прекрасном храме Рима. Служба стала особенно красивой, когда солнечные лучи проникли через круглые окна большого купола базилики и залили все золотом. Вернувшись во дворец, хор радостно запел: Gloria in excelsis Deo. Звуки замерли у них на устах, когда, войдя в залитый солнцем Латеранский дворец, они увидели людей, окруживших усталого и грязного с дороги гонца. — Язычники высадились на берег, — мрачно сообщил гонец. — Город Порто пал, все жители уничтожены, а храмы разрушены. — Господи, спаси и сохрани! — крикнул кто-то. — Что будет с нами? — возопил другой. — Они нас всех убьют! — закричал третий. Началась паника. — Тихо! — раздался голос Сергия. — Прекратите эту недостойную панику! Все умолкли. — В чем дело? — продолжал Сергий. — Разве мы овцы, чтобы так бояться? Или беззащитные дети? — Он сделал эффектную паузу. — Нет! Мы римляне! А Рим находится под защитой Святого Петра, хранителя ключей от Рая! «Ты, Петр, — сказал Христос, — есть камень, на котором я поставлю свой храм». К чему бояться? Неужели Господь отдаст Его священный алтарь на поругание? Толпа зашумела. В ответ послышались отдельные голоса: — Да! Слушайте Папу Сергия! Сергий прав! — У нас есть наша стража и милиция, — Сергий указал на гвардейцев, и те, обнажив мечи, воинственно взмахнули ими. — В их жилах течет кровь наших предков, они вооружены мощью Всесильного Бога! Кто может противостоять им? Толпа издала радостный крик. Великим прошлым Рима все еще гордились, о военных победах Цезаря, Помпея и Августа знал каждый житель города. Джоанна с изумлением смотрела на Сергия. Неужели этот героический муж и тот больной, капризный, неуравновешенный старик, с которым она познакомилась два года назад, — один и гот же человек? — Пусть язычники посмеют прийти! — воскликнул Сергий. — Пусть они сломают свои мечи о святую крепость! Наш город, хранимый Богом, уничтожит их сердца. Джоанна видела, что толпу охватили восторг и воодушевление. Сама она не ликовала, трезво оценивая ситуацию. Как усердно ни молись, мир не такой, каким кажется. Люди вокруг Джоанны возбужденно говорили, то тут, то там раздавались восторженные восклицания: — Сергий! Сергий! Сергий! Сергий! По приказу Сергия два последующих дня все постились и молились. Алтари всех храмов ярко сияли при свете свечей. Повсюду распространялись слухи о чудесах. Нашлись даже свидетели того, как позолоченная статуя Мадонны в часовне Святого Косьмы повела глазами и пропела молитву. На кресте алтаря Святого Адриана выступили кровавые слезы. Все чудеса толковали как знаки Божественного благословения. В церквях день и ночь пели Осанну: священники откликнулись на призыв Папы Сергия встретить врага, укрепленными силой христианской веры. 26 августа, едва рассвело, как с крепостных стен донеслись крики: — Они приближаются! Они приближаются! Эти громкие, испуганные голоса проникли даже через толстые стены дворца. — Я должен выйти к людям, — заявил Сергий. — Увидев меня, они поймут, что бояться нечего. Аригий и другие священники воспротивились этому, предупреждая Папу об опасности, но Сергий остался непреклонен. Повинуясь Сергию, они неохотно повели его на крепостную стену и выбрали место с самыми высокими и безопасными защитными укреплениями. Когда Сергий появился на ступенях, послышались радостные голоса. Потом все взоры обратились на запад. Там, вздымая тучи пыли, мчались сарацины. Их свободные одежды развевались, словно крылья, страшный боевой клич, долгий и пронзительный, приводил в ужас. — Deo, juva nos, — произнес дрожащим голосом один из священников. Сергий поднял небольшой крест, усыпанный драгоценными камнями, и крикнул: — Христос наш Спаситель и наша защита. Ворота города открылись, и папская гвардия отважно вышла навстречу врагу. — Смерть язычникам! — кричали гвардейцы, размахивая мечами и копьями. Раздался оглушительный грохот мечей, но уже через минуту стало ясно, что силы безнадежно неравны. Кавалерия сарацинов смяла ряды пеших римских воинов, уничтожая их своими кривыми саблями. Гвардейцы в задних рядах не видели того, что происходило впереди. Но, уверенные в победе, они устремились вперед, подгоняя тех, кто шея перед ними. Строй за строем воины гибли под ударами сарацинов, горы их тел преграждали путь тем, кто следовал за ними. Это была кровавая резня. Разбитые и напутанные римские войска отступили в полном беспорядке. — Бегите! — кричали воины, рассыпавшись по полю, словно семена, уносимые ветром. — Бегите, спасайтесь! Сарацины не преследовали их, победа принесла им более внушительную добычу: базилику Святого Петра. Они окружили ее. Не сходя с лошадей, они въехали по ступеням в священную гробницу. Стоя на крепостных стенах, римляне наблюдали за ними. Прошла минута, другая. Ни грома небесного, ни пламени. А между тем из базилики донесся грохот разрубаемого дерева и металла. Сарацины крушили священный алтарь. — Этого не может быть, — прошептал Сергий. — Боже милостивый, этого не может быть! На крыльце базилики появилась группа сарацинов, размахивающих золотым крестом Константина. Говорили, что люди умирали, едва коснувшись его. Но теперь сарацины бесстыдно оседлали его. Застонав, Сергий выронил свой крест и опустился на колени. — Ваше святейшество! — Джоанна бросилась к нему. Лицо его исказилось мукой, и он прижал руку к груди. «Сердечный приступ», — подумала Джоанна. — Поднимите его, — сказала она. Аригий и несколько гвардейцев подняли Папу и осторожно понесли в ближайший дом, где уложили на толстый соломенный матрас. Сергий тяжело дышал, Джоанна, приготовив настой из ягод боярышника и корня валерианы, напоила его. Ему полегчало, обычный цвет лица восстановился, и дыхание выровнялось. — Они у ворот! — кричали люди. — Спаси нас Бог! Они у ворот! Сергий попытался встать, но Джоанна сказала: — Вам нельзя двигаться. Он с трудом пробормотал: — Говори с ними за меня. Обрати их мысли к Богу… Помоги им… Подготовь их… — Рот Сергия открывался, но с губ его не слетало ни звука. — Хорошо, ваше святейшество, — согласилась Джоанна. Другой ответ не успокоил бы его. — Сделаю все, как вы сказали. Но теперь успокойтесь. Сергий кивнул и лег, веки его затрепетали и закрылись: лекарство подействовало. Оставив Сергия под присмотром Аригия, Джоанна вышла. Воинственные крики и звон оружия слышались совсем близко. Джоанна испугалась. — Что происходит? — обратилась она к проходившим мимо гвардейцам. — Эти варвары атакуют ворота! — ответил один из них. Она направилась к площади. От страха толпа неистовствовала. Мужчины рвали свои бороды, женщины причитали и царапали лица до крови. Монахи аббатства Святого Иоанна стояли на коленях плотной стеной, с непокрытыми головами, воздев руки к небу. Некоторые из них, разорвав свои рясы, истязали себя палками в надежде успокоить Божий гнев. Напуганные паникой дети плакали. «Помоги им, подготовь их», — молил ее Сергий. Но как? Джоанна поднялась на ступени крепостной стены. Взяв крест, оброненный Сергием, она высоко воздела его, чтобы видели все. Крест засиял на солнце. — Hosanna in excelsis! — громко произнесла Джоанна. Высокие чистые ноты священного песнопения сильные, сладкозвучные и уверенные разнеслись над толпой. Находившиеся рядом люди, услышав знакомые звуки, повернули к Джоанне свои заплаканные лица. К ней присоединились священники и монахи, упав на колени рядом с простолюдинами. - Christus qui venit nomine Domini… Раздался еще один удар, сопровождающийся треском ломающегося дерева. Борота пробили и в образовавшуюся щель проник луч света. «Боже милостивый, — подумала Джоанна. — Что если они сломают ворота?» Еще минуту назад это казалось немыслимым. На Джоанну нахлынули воспоминания. Она увидела норманнов, ворвавшихся в двери храма в Дорштадте и размахивавших мечами. Она услышала душераздирающие крики умирающих… увидела Джона с проломленной головой… и Гилзу… Гилзу… Голос ее затих. Люди смотрели на Джоанну с тревогой. «Продолжай, — сказала она себе, — продолжай». Но внезапно забыла слова. — Hosanna in excelsis, — прозвучал рядом с ней густой баритон. Это был Лев, настоятель церкви Санто-Куаттро-Коронати. Он тоже поднялся на стену. Его голос вывел Джоанну из оцепенения, и они вместе продолжили песнопение. — Бог и Святой Петр! — С востока послышался громкий крик. Стражу на стенах охватило ликование. — Хвала Богу! Мы спасены! Джоанна посмотрела в ту сторону. К городу приближалась огромная армия, ее развевающиеся знамена были украшены эмблемами Святого Петра и креста. Оставив осадные орудия, сарацины бросились к лошадям. Джоанна щурилась от солнца. Когда войско приблизилось, она вскрикнула. Во главе авангарда, с копьем наперевес, скакал высокий воин, похожий на древнего бога ее матери. Это был Джеральд. Завязался короткий и стремительный бой. Беневентинцы застали сарацинов врасплох. Их оттеснили из города и вынудили отступить через долину до самого моря. На берегу язычники погрузили награбленное и бежали. В спешке они бросили огромное количество людей. Неделями Джеральд и его солдаты прочесывали берег, охотясь за разбежавшимися мародерами. Рим был спасен, но к радости римлян примешивалось отчаяние. Они горевали о том, что базилика Святого Петра разрушена до неузнаваемости. Древний золотой крест с гробницы Апостола исчез, как и большой серебряный стол с византийской реликвией — подарок короля Карла Великого. Язычники сорвали серебряные панели с дверей базилики и золотые пластины с пола. Они унесли даже сам алтарь. Не сумев сдвинуть бронзовый гроб, в котором покоились останки Апостола Апостолов, они вскрыли его я разбросали священный прах. Весь христианский мир погрузился в траур. Эта древнейшая и святейшая, никогда прежде не осквернявшаяся гробница, хранила историю христианства в течение веков, Нескончаемый поток паломников, а среди них и великие цари, смиренно припадали к этим священным плитам. Все Папы были захоронены в этих стенах. Запад не знал более священного места на земле. Тем не менее колыбель Истинной Веры, посягнуть на которую ни разу не осмелились ни готы, ни вандалы, ни греки, ни ломбардийцы, пала под натиском африканцев. В катастрофе Сергий винил только себя. Удалившись в свои апартаменты, он отказался принимать всех, кроме Джоанны и ближайших советников. Сергий снова запил, осушая бокал за бокалом тосканское вино, пока не впал в спасительное забвение. Возлияния имели предсказуемое воздействие. Подагра обострилась и, чтобы заглушить боль, Сергий пил все больше. Он плохо спал, просыпался с криками, его мучили кошмары, в которых ему являлся призрак Бенедикта. Джоанна опасалась, что перенапряжение скажется на его сердце. — Вспомните о послушании, которое вы приняли на себя, — сказала она ему. — Теперь это не имеет значения, — обреченно ответил Сергий. — Надежды на спасение нет: Бог покинул меня. — Не вините себя в том, что случилось. Не все во власти смертных. Сергий покачал головой. — Против меня вопиет душа моего покойного брата! Я согрешил, и это мое наказание. — Если вы не думаете о себе, — возмутилась Джоанна, — подумайте о людях! Теперь, как никогда, вы нужны им для того, чтобы объединить и вразумить их! Она говорила это, чтобы успокоить его, но правда состояла в другом. Люди ополчились против Сергия. О том, что нападут сарацины, не раз предупреждали, поэтому хватило бы времени перенести мощи Святого Петра в безопасное место. Веру Сергия во всемогущество Бога, прежде восхищавшую людей, теперь считали проявлением его гордыни. Джоанна увещевала, порицала и обхаживала Сергия, но тщетно. Состояние его быстро ухудшалось. Джоанна сделала для Сергия все, что могла, но все было напрасно. Он желал умереть. Однако смерть не приходила. Много времени после того, как Сергий впал в беспамятство, его тело отказывалось расстаться с жизнью. Но однажды пасмурным утром он умер так тихо, что поначалу никто не заметил этого. Джоанна искренне горевала. Сергий был не таким хорошим человеком и Папой, как следовало бы. Но она знала, какими демонами он был одержим и как боролся с ними. И то, что Сергий потерпел поражение в этой борьбе, не делало его менее достойным. Сергия похоронили в разоренной базилике рядом с его предшественниками, оказав ему столь мало почестей, что это граничило со скандалом. Положенные дни траура почти не соблюдались, потому что римляне уже обратили свои мысли в будущее, к избранию нового Папы. С январского холода Анастасий вошел в теплое и уютное родовое гнездо. Это было самое грандиозное здание в Риме, уступавшее только папскому дворцу, и Анастасий очень гордился этим. Высокий сводчатый потолок приемного зала покрывали плиты из белоснежного мрамора Равенны. Яркие фрески на стенах, изображали сцены из жизни предков Анастасия: консула, выступающего в сенате, полководца на черном коне, возглавляющего войско, кардинала, принимающего мантию архиепископа из рук Папы Адриана. Чистая панель на передней стене ждала того момента, когда на ней изобразят то, чего с нетерпением ожидала семья: восхождения одного из сыновей на престол Папы Римского. Обычно в зале кипела жизнь. Сегодня здесь не было никого, кроме домоправителя. Презрительно взглянув на него, Анастасий направился в комнату отца. В этот час Арсений обычно обсуждал в большом зале с городскими вельможами вопросы власти. Но в последнее время он тяжело болел, и, обессилев от лихорадки, находился в своей комнате. — Сын мой! — Арсений поднялся с кушетки, когда вошел Анастасий. Лицо его побледнело и осунулось. При виде больного отца Анастасий ощутил прилив молодых сил и энергии. — Отец! — Анастасий приблизился, и они тепло обнялись. — Какие новости? — спросил Анастасий. — Выборы назначены на завтра. — Благодарение Богу! — воскликнул Арсений, Епископ Орте, следуя традиции. Он не отличался особым благочестием. Получив епископат, Арсений счел это политическим признанием его огромной власти в городе. — Настанет день, когда мой сын взойдет на престол Святого Петра. — Результат не столь определенный, как мы предполагали, отец. — Что ты имеешь в виду? — спросил Арсений. — Лотар поддержит мою кандидатуру, но боюсь этого недостаточно. То, что он отказался защитить Рим от сарацинов, настроило многих против него. Люди интересуются, зачем оказывать гостеприимство императору, который не защищает нас. Распространяется мнение, что Рим должен быть независим от франкского трона. Арсений внимательно обдумал его слова и сказал: — Ты должен порвать с Лотаром. Анастасий пришел в ужас. Острый и сильный ум отца, похоже, начал сдавать. — Если я сделаю это, — сказал он, — то потеряю поддержку императора, на которую мы возлагаем надежды. — Нет. Ты объяснишь, что исходишь из политической необходимости. Убеди их, что какие бы слова тебе ни пришлось произнести, ты всегда остаешься человеком императора, а после избрания достойно отблагодаришь всех. — Лотар придет в ярость. — К тому времени это не будет иметь никакого значения. Сразу после избрания мы перейдем к церемонии утверждения, не дожидаясь королевского приказа. При таких условиях никто не станет возражать. Рим не может оставаться без власти ни одного дня, когда ему угрожает опасность нападения сарацинов. Когда Лотар получит известие о том, что случилось, ты уже будешь Папой Римским, и ему ничего не удастся изменить. Анастасия восхитили эти слова. Отец сразу оценил обстановку. «Старый лис поседел, но нюх пока не потерял». Арсений протянул сыну длинный железный ключ. — Иди в подвал и возьми столько золота, сколько нужно, чтобы завоевать их расположение. Если бы не проклятая лихорадка, я бы сам сделал это. Холодный и тяжелый ключ в руке Анастасия, давал ему ощущение власти. — Отдохни, отец. Я обо всем позабочусь. Арсений схватил его за рукав. — Будь осторожен, сын мой. Это опасная игра. Помнишь, что стало с твоим дядей Теодором? — Помню! — Убийство дяди в Латеранском дворце было самым страшным воспоминанием его детства. Лицо Теодора, когда папская стража выколола ему глаза, будет преследовать Анастасия до конца дней. — Я буду очень осторожен, папа. Положись на меня. — Именно этого я хочу. «Ad te, Domine, levavi animam mеаm…» — Джоанна молилась, преклонив колени на холодном каменном полу часовни дворца. Но как бы горячо она ни молилась, ей не удавалось подняться до высот блаженства, ибо на земле ее держали сильные путы бренных забот. Она любила Джеральда и не сомневалась в этом. Когда Джоанна увидела, как он скачет к городу во главе беневентинского войска, все ее существо устремилось к нему. Тридцатитрехлетняя Джоанна ни разу не испытала интимной близости. Необходимость скрываться исключала сближение с мужчиной. Возможно, так Бог проявлял свою волю? Желал ли Он, чтобы Джоанна перестала скрываться и начала вести жизнь женщины, для которой была рождена? После смерти Сергия ей незачем оставаться в Риме. Следующим папой выберут Анастасия, а при его дворе Джоанне не было места. Она так долго боролась с чувством к Джеральду. Какое счастье просто отдаться этому чувству, следуя зову сердца, а не разума. Что произойдет, когда они с Джеральдом снова встретятся? Джоанна улыбнулась, предвкушая радость. Теперь возможно все. К полудню назначенного дня выборов на большой площади к юго-западу от Латеранского дворца собралась огромная толпа. По древней традиции, официально утвержденной конституцией 824 года, в выборах папы участвовали все римляне, лица светские и духовного звания. Джоанна приподнялась на цыпочки и оглядела колышущееся море голов и рук. Где же Джеральд? Ходили слухи, что он вернулся после кампании против сарацинов, продлившейся месяц. Если так, Джеральд должен быть здесь. Неужели он вернулся в Беневенто, не повидавшись с ней? Толпа почтительно расступилась, когда на площади появились первосвященник Евстафий, архиепископ Дезитерий и премицерий Паскаль. Этот триумвират, по традиции, правил городом в период между кончиной одного Папы и избранием другого. Евстафий прочел короткую молитву: — Отец небесный, помоги нам в том, что мы должны свершить, наставь нас на путь истины и чести, не допусти, чтобы ненависть помутила наш разум, а любовь увела нас от истины. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь! Следующим заговорил Паскаль: — Господин наш предстал перед Богом, что вынуждает нас выбрать его преемника. Каждый римлянин, здесь присутствующий, может высказать то, что Господь вложил в уста его, и через всех да исполнится воля Всевышнего. — Господин премицерий, — вдруг заговорил Тассило, один из людей Лотара. — Есть одно достойнейшее имя. Я говорю об Анастасии, епископе Кастельском, сыне благородного Арсения. Этот человек обладает всеми необходимыми качествами, достойными престола: благородным происхождением, исключительной образованностью, безупречным благочестием. Анастасий станет защитником не только христианской веры, но и наших интересов. — Хочешь сказать, твоих личных интересов! — раздался голос из толпы. — Вовсе нет, — ответил Тассило. — Щедрость и великодушие Анастасия сделают его истинным отцом для всех нас. — Он человек императора! — не унимался кто-то. — Ни к чему нам Папа, который станет орудием в руках императора! — Верно! Верно! — послышалось несколько голосов. Анастасий поднялся на помост и эффектно воздел руки, успокаивая толпу. — Римляне, вы судите обо мне неверно. В моих жилах течет такая же благородная кровь римских предков, как и у вас. Я не преклоню колена перед франкским королем! — Слушайте! Слушайте! — с энтузиазмом закричали его сторонники. — Где был Лотар, когда во врата нашего города ломились язычники? — продолжал Анастасий. — Отказав нам в помощи, он лишился права называться «Защитником владений Святого Петра!» Я преклоняюсь перед его высоким положением, уважаю его христианскую веру, но подчиняюсь только родному Риму! Выступил Анастасий отлично. Сторонники снова приветствовали его, и на этот раз к ним присоединились люди из толпы, Анастасию начали симпатизировать. — Это ложь! — выкрикнула Джоанна, и все удивленно посмотрели на нее. — Кто это сказал? — Паскаль вгляделся в толпу. — Пусть обвинитель выйдет. Джоанна колебалась. Она выкрикнула, не подумав, ее возмутило лицемерие Анастасия. Но отступать было некуда. Джоанна решительно взошла на помост. — О, это Иоанн Англиканец! — послышался чей-то голос. Толпа зашумела, узнав ее. Все знали или слышали о том, что Джоанна была на крепостных стенах, когда атаковали сарацины. Анастасий преградил ей путь. — У тебя нет права обращаться к этому собранию. Ты не римский гражданин. — Пусть говорит! — прозвучал чей-то голос. Остальные кричали до тех пор, пока Анастасий не пропустил ее. — Выскажи свое обвинение открыто, Иоанн Англиканец, — произнес Паскаль. Расправив плечи, Джоанна сказала: — Епископ Анастасий заключил сделку с императором. Я слышал, как он обещал вернуть Рим под франкскую корону. — Лживый священник! Обманщик! — выкрикивали люди императора, пытаясь заглушить ее слова. Повысив голос, Джоанна рассказала, как Лотар обещал Анастасию помочь взойти на папский престол, если тот заставит римлян присягнуть королю, и как Анастасий согласился на это в обмен на поддержку Лотара. — Это серьезное обвинение, — промолвил Паскаль. — Что скажешь на это, Анастасий? — Клянусь Богом, священник лжет, — ответил Анастасий. — Уверен, мои соотечественники не поверят ни слову этого чужестранца. — Ты был первым, кто поддержал идею присяги! — выкрикнул кто-то. — Ну и что? — отозвался другой. — Это ничего не доказывает! Завязался спор, и предпочтения толпы то и дело менялись. Одни из выступающих поддерживали кандидатуру Анастасия, другие отвергали ее. — Господин премицерий! — заговорил Аригий, до сих пор хранивший молчание. — Мажордом! — приветствовал Аригия Паскаль удивленно, но с большим почтением. Преданный слуга папского престола, Аригий никогда не вмешивался в политику. — Вы хотите что-то добавить? — Да. — Аригий обратился к толпе: — Граждане Рима, опасность еще не отступила от наших стен. Весной сарацины могут попытаться снова напасть на город. Мы должны объединиться, ибо нам грозит опасность. Нам нужно преодолеть противоречия. Кого бы мы ни выбрали Папой, этого человека должны принять все. Толпа одобрительно зашумела. — Кто же этот человек? — спросил Паскаль. — Такой человек есть, — ответил Аригий. — Человек понимающий и сильный, а также многомудрый и благочестивый. Это Лев, настоятель церкви Санкти-Куаттро-Коронати. Предложение встретили молчанием. Все так настроились спорить о преимуществах и недостатках кандидатуры Анастасия, что ни о ком другом не подумали. — Происхождение Льва столь же благородно, как и. Анастасия, — продолжал Аригий. — Его отец уважаемый член сената. Лев выполнял обязанности настоятеля весьма успешно. — Аригий припас самый веский довод к концу своего выступления. — Разве может кто-нибудь забыть, как стоял он на крепостной стене во время набега сарацинов, укрепляя наш дух? Он послан нам Богом, новый Святой Лоренс, тот, кто будет защищать нас от язычников! Необходимость пробудила в Аригии небывалое красноречие. В ответ на его эмоциональный поры? многие в толпе возликовали. Почуяв, что ситуация изменилась, члены панской фракции подхватили клич. — Лев! Лев! — кричали они. — Выбираем Льва нашим повелителем! Сторонники Анастасия попытались перехватить инициативу, но толпа проявила решительность. Поняв, что они проиграли, представители императора поддержали Льва. Лев был провозглашен Папой Римским. Против него голосовал лишь один человек. Льва подхватили на руки и торжественно вознесли на помост. Это был человек невысокий, но крепко сложенный, в расцвете лет, с выразительным, умным и добродушным лицом, обрамленным густыми кудрявыми каштановыми волосами. Паскаль торжественно простерся перед ним и поцеловал его туфлю. Евстафий и Дезитерий поспешили сделать то же самое. Взоры всех обратились к Анастасию. Мгновение он колебался, но заставил себя склониться и поцеловать туфлю Папы. — Встань, благородный Анастасий. — Лев протянул ему руку, помогая подняться на ноги. — Отныне ты настоятель храма Святого Марцелла. — Это было великодушно. Церковь Святого Марцелла считалась одной из самых престижных синекур Рима. Толпа одобрительно зашумела. Анастасий через силу улыбнулся, испытывая горечь поражения.
* * *
— Magnus Dominus et laudibilis nimis. — В окно маленькой комнаты, где Джоанна хранила свои снадобья, донеслись слова псалма. Поскольку базилика Святого Петра была разрушена, церемония посвящения проходила в Латеранской базилике. Джоанне следовало находиться в церкви вместе со всеми священниками и наблюдать радостную церемонию коронации нового Папы. Но ей предстояло многое сделать здесь: развесить собранные травы для просушки, наполнить флаконы и бутыли снадобьями, привести все в порядок. Закончив, Джоанна оглядела полки с аккуратно расставленными и разложенными препаратами. Здесь хранилось все, чем она пользовалась, научившись лекарскому искусству. С легким сожалением она подумала, что будет скучать по этой работе. — Решил, что найти тебя можно именноздесь, — послышался за спиной голос Джеральда. Сердце Джоанны радостно дрогнуло. Она повернулась к нему, и глаза их встретились. — Ты! — тихо произнес Джеральд. — Ты! Они улыбнулись друг другу, ощутив вновь обретенную близость. — Странно, — сказал он, — я почти забыл. — Забыл? — Всякий раз, когда вижу тебя… открываю заново. Джоанна подошла к нему, и они обнялись, нежно прильнув друг к другу. — В прошлый раз я наговорила тебе всего… — прошептала она. — Я не хотела… Джеральд прижал палец к ее губам. — Давай прежде все обсудим. Это была и моя вина. Я поступил неправильно, предложив тебе уйти со мной. Теперь я вижу. Я не понимал, чего ты здесь добилась… кем стала. Ты была права, Джоанна. То, что могу предложить тебе я, не идет ни в какое сравнение с этим. Кроме любви, подумала Джоанна, но вслух произнесла: — Не хочу снова потерять тебя. — Никогда. Я не вернусь в Беневенто. Лев попросил меня остаться в Риме в качестве главнокомандующего. Главнокомандующий! Это была большая честь, самая высокая военная должность в Риме: главнокомандующий гвардейцев Папы. — Еще многое предстоит сделать, очень важная работа. Сокровища, которые сарацины награбили в базилике Святого Петра, вдохновят их на новый поход. — Думаешь, они вернутся? — Да. — Любой другой женщине Джеральд солгал бы, не задумываясь. Но Джоанна не такая как все. — Льву понадобится наша помощь, Джоанна, твоя и моя. — Чем же могу помочь я? — А разве никто тебе не сказал? — удивился он. — Что? — Что ты назначена номенклатором. — Что?! — Не ослышалась ли она? Должность номенклатора была одной из семи самых высоких в Риме — министр благотворительности, защитник увечных, сирот и вдов. — Но… я же чужестранец. — Для Льва это не имеет значения. Он не из тех, кто связан бессмысленными традициями. Джоанне представилась неслыханная возможность. Но, приняв эту должность, она должна оставить надежду на счастье с Джеральдом. Разрываемая на части своими страстями, Джоанна не смела заговорить. Неправильно истолковав ее молчание, Джеральд сказал: — Не беспокойся, Джоанна. Я не стану звать тебя замуж. Но замечательно, что мы будем работать вместе, как прежде. Мы всегда были отличной командой, не так ли? У Джоанны закружилась голова. Реальность совершенно отличалась от того, что она себе представляла. — Да. Мы были отличной командой, — прошептала Джоанна. — Sanctus, Sanctus, Sanctus. — В открытое окно до них донеслись звуки священного гимна. Церемония посвящения закончилась. Теперь начнется месса. — Пойдем, — Джеральд протянул ей руку. — Давай вместе поздравим нового Папу. (обратно)Глава 25

Новый понтифик взялся за дело с юношеским задором. сильно удивив всех. За ночь дворец превратился в кипучий улей. По коридорам бегали нотариусы и секретари с охапками пергаментов, содержащих планы, уставы, реестры и списки льгот. Первым приказом стало укрепление городских оборонительных сооружений. По просьбе Льва Джеральд возглавил завершение строительства крепостных стен вокруг города, тщательно изучив все слабые стороны. По его совету были составлены планы, и работа по восстановлению и укреплению стен и башен закипела. Трое ворот и пятнадцать башен полностью перестроили. На противоположном берегу Тибра, где река втекала в город, у ворот Порту соорудили две новые башни. Между противостоящими башнями натянули крепкие железные цепи, препятствующие судоходству. Хотя бы с этой стороны сарацины не могли войти в город. Оставался вопрос как защитить базилику Святого Петра? Чтобы решить проблему, Лев собрал совещание высшего духовенства и руководства, включая Джеральда и Джоанну. На повестке дня стояло несколько вопросов: назначение постоянной охраны гвардейцев вокруг базилики, закрытие ее портика, укрепление дверей и окон железными решетками. Лев слушал без особого энтузиазма. — Эти меры лишь отсрочат вторжение, но не предотвратят его. — При всем моем уважении, ваше святейшество, — заметил Анастасий, — отсрочка и есть наша лучшая защита. Если нам удастся удерживать варваров, пока подойдут войска императора… — Если они вообще подойдут… — вмешался Джеральд. — Надо полагаться на Бога, главнокомандующий, — возразил Анастасий. — То есть на Лотара? На него я не полагаюсь. — Простите, главнокомандующий. — Анастасий говорил с преувеличенной вежливостью. — Простите, что упоминаю об очевидном, но тут ничего нельзя сделать, поскольку базилика расположена за пределами крепостных стен. — Надо перенести ее в крепость, — вмешалась Джоанна. Темные брови Анастасия саркастически изогнулись. — Что вы предлагаете, Иоанн… перетащить все здание камень за камнем? — Нет, — ответила Джоанна. — Предлагаю обнести базилику Святого Петра крепостной стеной. — Новой стеной! — заинтересовался Лев. — Совершенно непрактично! — возмутился Анастасий. — Такого грандиозного проекта не было с древнейших времен. — Значит, теперь пора, — сказал Лев, — построить новую стену. — У нас нет средств! — запротестовал Граций, казначей, хранитель папских сокровищ. — Казна разорится, а работа не будет сделана и наполовину! Лев задумался над его словами. — Поднимем налоги. В конце концов, все заинтересованы, в том, чтобы появилась новая стена, которая защитит их. Джеральд напряженно размышлял. — Начать можно отсюда, — он показал на карту города. — У башни Святого Ангела. Затем стена пойдет в сторону по Ватиканскому Холму. — Он провел пальцем воображаемую линию. — Обогнет базилику Святого Петра, и прямо к Тибру. Подковообразная линия, которую нарисовал Джеральд, огибала не только базилику, церкви и монастыри вокруг, но и весь район Борго, где находились поселения саксонцев, фризцев, франков и ломбардийцев. — Это как, самостоятельный город! — воскликнул Лев. — Civitas Leonina, — сказала Джоанна. — Город Льва. Анастасий и другие взглянули на Льва с ненавистью.
После нескольких недель консультаций с мастерами и строителями амбициозный проект стены был завершен. Сложенная из туфа и отделанная черепицей, стена должна была составлять сорок футов в высоту и двенадцать в ширину. Укрепить ее решили сорока четырьмя сторожевыми башнями. Такой заслон устоял бы и перед самыми отчаянными набегами врагов. По призыву Льва в город стекались рабочие со всех папских земель. Они собирались в тесных и жарких обителях Борго, истощая ресурсы города. Хотя все они желали помочь, их неумелость и недисциплинированность только мешала делу. Они приходили на стройку каждый день, не зная, чем заняться, поскольку не хватало людей, способных организовать их. На майские иды рухнул отсек стены, придавив насмерть нескольких рабочих. Священники, во главе с настоятелями, умоляли Льва прекратить работы. Падение стены сочли явным предупреждением: Бог не одобряет этого проекта, утверждали они. Сама идея бессмысленна. Такая высокая конструкция не устоит, но даже если стену возведут, завершить ее строительство вовремя, чтобы защититься от сарацинов, все равно не удастся. Гораздо разумнее направить усилия людей на усердную молитву и пост, чтобы отвратить Божий гнев. — Мы будем молиться так, словно все зависит только от Бога, и работать так, словно все зависит от нас самих, — упрямо отвечал Лев. Каждый день он объезжал строительство, желая видеть, как продвигается дело, и ободрять рабочих. Он твердо решил довести дело до конца. Джоанна восхищалась тем, как непреклонен Лев по отношению к скептикам. Он разительно отличался от Сергия и по характеру, и огромной силой воли. Но восхищались Львом не все. Горожане разделились на тех, кто одобрял строительство стены, и тех, кто противился этому. Вскоре стало ясно, что продолжительность правления Льва во многом зависит от того, увенчается ли это успехом. Анастасию ситуация была хорошо известна. Увлеченность Льва строительством стены делала его чрезвычайно беззащитным. Если проект провалится и поднимется волна недовольства в народе, у Анастасия, возможно, появится необходимый ему шанс. Сторонники императора войдут тогда в Латеранский дворец, сместят дискредитированного Папу и назначат на его место своего кандидата. Став Папой, Анастасий защитит базилику Святого Петра тем, что укрепит связь Рима с франкским троном. Армия Лотара будет гораздо более надежной защитой от язычников, чем Стена Льва. Но Анастасий напомнил себе, что действовать следует осторожно. Лучше не противостоять Льву открыто, пока люди еще ждут результатов смелого предприятия понтифика. Самое разумное поддерживать Льва публично, но делать все, чтобы помешать осуществлению его проекта, На тот момент Анастасий уже сумел организовать обрушение части стены. Это не доставило ему особых хлопот. Несколько преданных людей подкопали ночью фундамент. Но это должно было стать лишь началом неприятностей. Нужно придумать что-то более грандиозное. Большая катастрофа положит конец этой нелепой авантюре. Коварный ум Анастасия работал непрестанно, подыскивая момент для удара. Но в голову не приходило ничего стоящего. Будь у него огромная длань, он смел бы с лица земли все сразу одним ударом, испепелил бы адским огнем. Адский огонь… Анастасий оживился: ему пришла идея. Наутро Джоанна проснулась с трудом. Минуту она лежала в недоумении, глядя на незнакомые очертания деревянных балок на потолке. Потом вспомнила: это не общая спальня, а ее собственные апартаменты — одна из привилегий нового поста номенклатора. У Джеральда также появились собственные апартаменты во дворце, но он не спал в них уже несколько недель, предпочитая оставаться во франкской школе в Борго, чтобы быть поближе к строительству. Джоанна видела издалека, как Джеральд разъезжает по стройке на коне, подгоняет рабочих или склоняется над столами, обсуждая планы с мастерами. Им удавалось только обмениваться мимолетными взглядами. Но всегда, когда Джоанна видела его, сердце ее радостно билось. «Это женское тело — настоящий предатель», — думала она. Джоанна старательно пыталась сосредоточиться на работе и ежедневных обязанностях. В окнах уже забрезжил свет. С испугом Джоанна поняла, что проспала. Если не поспешить, она опоздает на совещание с главой приюта Святого Михаила. Джоанна выскочила из постели и тут догадалась, что свет за окном вовсе не утренний. Солнце всходит с другой стороны, ее окна выходили на запад. Она подбежала к окну. За темным силуэтом Палатинского холма, в дальнем конце города, в безлунное небо поднимались языки пламени. Пожар! Горело в Борго. Забыв надеть туфли, Джоанна побежала через зал. — Пожар! — кричала она. — Пожар! Пожар! Двери распахнулись, и в зал вбежали люди. К Джоанне подошел Аригий, протирая сонные глаза. — Что это значит? — спросил он. — Борго горит! — Deo juva nos! — Аригий перекрестился, — Нужно разбудить его святейшество. — Он поспешил в папскую опочивальню. Джоанна сбежала по лестнице на улицу. Отсюда было плохо видно, бесчисленные капеллы, монастыри и храмы вокруг дворца загораживали обзор, но она понимала, что огонь разгорался: об этом свидетельствовало зарево на небе. За Джоанной из портика вышли и другие люди. Они падали на колени, рыдая, взывая к Богу и Святому Петру. Наконец появился Лев, с непокрытой головой и в простой накидке. — Вызовите охрану, — приказал он слуге. — Поднимите конюхов. Пусть приготовят все повозки и всех лошадей. — Мальчик убежал выполнять распоряжение. Подвели лошадей, беспокойных и испуганных тем, что их потревожили среди ночи. Лев оседлал коня. Аригий пришел в ужас. — Надеюсь, вы не поедете туда сами? — Поеду. — Лев натянул поводья. — Ваше святейшество, я протестую! Это слишком опасно! Вам подобает остаться здесь и провести службу о спасении! — Молиться я с успехом могу и вне церковных стен, — ответил Лев. — Отойдите, Аригий. Аригий неохотно повиновался. Лев пришпорил коня и поскакал по улице. Джоанна и несколько гвардейцев, сев на лошадей, последовали за ним. Аригий смотрел на них с осуждением. Он не был наездником, но знал, что его место рядом с Папой. Если Лев, сломя голову, помчался на пожар, Аригий должен сопровождать его. Он неуклюже взобрался на коня и отправился в путь. Лошади мчались галопом. Их факелы отбрасывали страшные тени на стены домов, а тени преследовали друг друга, словно неприкаянные призраки. Когда они подъехали ближе к Борго, запах гари стал невыносим, слышался страшный рев, словно выли тысячи зверей. Свернув, прямо перед собой они увидели пожар. Это напоминало сцену из ада. Большой район был охвачен огнем. Сквозь пламя виднелись деревянные постройки, пожираемые огнем, силуэты мечущихся людей. Лошади заржали и отпрянули назад. Из облака дыма к ним вышел священник, все его лицо было в саже. — Ваше святейшество! Слава Богу, вы пришли! — По акценту и одежде Джоанна поняла, что это был франк. — Дела плохи? — спросил Лев. — Очень, — ответил священник. — Адрианий и приют Святого Перегрина разрушены. Поселения чужеземцев уничтожены, саксонская школа сгорела дотла вместе с церковью. Здание школы франков догорает. Ом едва успел спастись. — Вы видели Джеральда? — нетерпеливо спросила Джоанна. — Главнокомандующего? — священник покачал головой. — Он спал на одном из верхних этажей с каменщиками. Сомневаюсь, что кто-то из них спасся, огонь распространяется так быстро. — Есть уцелевшие? — спросил Лев. — Где они? — Многие спрятались в базилике Святого Петра. Но огонь повсюду. Если не остановить его, базилика окажется в опасности! Лев протянул руку. — Иди с нами. Именно туда мы направляется. — Священник запрыгнул в седло, и они поскакали к базилике. Джоанна поехала в другую сторону на поиски Джеральда. Перед ней поднималась стена огня. Пройти сквозь нее было невозможно. Обведя все глазами, Джоанна увидела почерневшую выгоревшую улицу, откуда огонь уже ушел, и повернула к франкской школе. По обеим сторонам еще тлели отдельные очаги, дым стал гуще. От страха у Джоанны перехватило дыхание, но она двинулась дальше. Конь не желал повиноваться. Она пришпорила его, и он устремился вперед. Джоанна проехала через страшное пепелище с обгоревшими деревьями, обугленными трупами лошадей и людей, пытавшихся спастись от огня. У нее сжалось сердце. В таком аду не мог выжить никто. Вдруг перед ней появилась стена дома. Это было невероятно. Франкская школа! Церковь и стоявший рядом дом сгорели до основания, но школа чудесным образом осталась невредима. Джоанну охватила надежда. Возможно, Джеральду удалось спастись! Или он еще внутри, раненый, и нуждается в ее помощи. Конь остановился, не желая идти дальше. Она снова пришпорила его, но теперь он встал на дыбы, сбросил ее на землю и ускакал. Джоанна лежала совершенно обессиленная рядом с трупом человека. Блики огня играли на обугленном теле, изогнувшимся в смертельной агонии. Вздрогнув, Джоанна вскочила и побежала к школе… Надо было отыскать Джеральда, остальное не имело значения. Горящие угли были повсюду. Пепел покрыл землю, одежду, волосы, кружился вокруг Джоанны густым удушливым облаком. Головешки обжигали ноги. Слишком поздно она сообразила, что забыла обуться. Завидев дверь школы, Джоанна бросилась к ней. — Джеральд! — кричала она. — Где ты? Неуправляемый и дикий, раздуваемый ветром огонь изменил направление, метнув искры на соломенную крышу здания. Солома воспламенилась и спустя мгновение все здание охватил огонь. Перед Джоанной заметались красные языки пламени. — Джеральд! — закричала она снова, отскочив от наступавшего огня.
Джеральд засиделся до поздней ночи, размышляя над планом крепостной стены. Он так устал, что, задув свечу, мгновенно забылся глубоким сном. Проснулся Джеральд от запаха дыма. Подумав, что коптит лампа, встал, чтобы погасить ее. Вздохнув глубже, он почувствовал сильную боль в груди и упал. Из-за дыма ничего не было видно. Пожар?! Но где? Рядом послышались испуганные крики детей. Джеральд пополз в их направлении. Из темноты показались испуганные лица: мальчик и девочка, не старше четырех-пяти лет. Они подбежали и прижались к нему жалобно плача. — Все хорошо, — попытался успокоить их Джеральд, охваченный тревогой. — Мы скоро выберемся отсюда. Когда-нибудь играли в лошадки? Дети кивнули, глядя на него расширившимися от страха глазами. — Хорошо. — Он посадил их на спину и скомандовал. — Держитесь крепче. Поехали. Дым становился все гуще, дети закашлялись. С трудом передвигаясь в темноте и дыме, Джеральд пытался подавить нарастающий страх, он не мог разглядеть дверь. Многие погибали на пожаре от удушья.
— Джеральд! — послышался голос из темноты. Низко наклонившись, чтобы хватило воздуха, он пополз на голос.
У стен базилики Святого Петра шла неравная борьба с огнем. Вокруг собрались люди, чтобы защитить ее, — монахи в черных рясах из соседнего монастыря святого Кирилла, священники, алтарные служки, проститутки и нищие, мужчины, женщины и дети из всех школ Борго: саксонцы, ломбардийцы, англичане и франки. Усилия разрозненных групп приносили мало пользы. Люди беспорядочно пытались собрать кувшины и другие сосуды, чтобы принести воды из ближайших колодцев и бочек. Один колодец окружила огромная толпа, а о другом забыли. Крича на разных языках, люди толкались, чтобы наполнить сосуды, кувшины разбивались, драгоценная вода проливалась на землю. В суматохе сломали подъемный механизм колодца, оставалось только спуститься в колодец и передавать ведра наверх, но процесс этот был настолько долгий, что от него быстро отказались. — Река! Река! — закричали люди, кинувшись к Тибру. В панике многие побежали с пустыми руками, другие тащили огромные котлы, которые не смогли поднять, когда в них набрали воды. Они бросали свою неподъемную ношу, рыдая от отчаянья. Посреди всего этого хаоса перед дверями базилики Святого Перта стоял Лев, несгибаемый и уверенный, словно камень этой самой базилики. Его присутствие вдохновляло людей. Пока Папа с ними, не все потеряно, еще остается надежда. И уставшие люди продолжали сражаться с огнем, который наступал, как морской прилив, оттесняя их. Справа от базилики пылала библиотека монастыря Святого Мартина. Из открытых окон вырвались языки пламени и, подхваченные ветром, устремились на крышу базилики Святого Петра. Аригий потянул Льва за рукав. — Вы должны уйти, ваше святейшество, пока не поздно. Не обращая на него внимания, Лев продолжал молиться. «Надо позвать гвардейцев, заставить их увести Папу силой», — тревожно подумал Аригий. Как мажордом он имел право сделать это, но сомневался. Может ли он воспротивиться воле понтифика, даже ради его спасения? Аригий всегда чувствовал опасность раньше всех. Из стен монастыря вылетел большой кусок горящей ткани, его подхватил ветер и понес прямо на Льва. Аригий бросился к Папе и оттолкнул. Через мгновение горящая ткань полностью закрыла лицо Аригия, выжигая глаза, обернувшись вокруг головы и тела, одежда и волосы мгновенно вспыхнули. Ослепший и охваченный огнем, он побежал вниз по ступеням базилики, пока не упал. В последний момент, когда тело горело, но мозг еще жил, Аригий вдруг понял: именно в этом было его призвание, именно ради этой жертвы он прожил свою жизнь. — Господи Иисусе! — крикнул он, когда нестерпимая боль пронзила его сердце. Облако дыма слегка приподнялось, и Джеральд увидел впереди дверной проем и силуэт Джоанны; ее золотистые волосы сверкали в бликах пламени. Сделав последнее усилие, Джеральд поднялся вместе с детьми и бросился к двери. Увидев, как он выскочил из дымовой завесы, Джоанна бросилась к нему. Она сняла с него плачущих детей, прижала их к себе, не сводя глаз с Джеральда. Он едва стоял на ногах и молчал. — Слава Богу, — воскликнула Джоанна. Но взгляд ее сказал гораздо больше. Они оставили детей на попечение монахинь и поспешили к базилике, где Джеральд сразу понял, что люди борются пожаром не с той стороны: огонь полыхал слишком близко к ним. Джеральд возглавил тех, кто тушил пожар. Он приказал всем отойти подальше от огня и сделать защитную полосу, выкорчевывая кустарник, траву и все, что могло воспламениться, взрыхлить землю и полить ее водой. Увидев, что искры летят в сторону базилики, Джоанна схватила бадью с водой у пробегавшего мимо монаха и забралась на крышу. Остальные последовали за ней. Люди образовали живую цепочку, передавая ведра с водой снизу на крышу. Полные бадьи поднимали наверх, пустые опускали вниз, люди работали плечом к плечу, до боли в руках, измазанные с головы до ног сажей, задыхаясь от жара. Огонь подбирался по земле все ближе, пожирая сухую траву. Джеральд и остальные отчаянно пытались увеличить защитную полосу. Стоя на ступенях базилики, Лев сделал крестное знамение в воздухе и выкрикнул в небеса: — О, Господи! Не оставь нас теперь, когда мы просим Тебя! Огонь добрался до крайней черты и уже лизал землю, пытаясь перебраться через защитную полосу. Джеральд и его помощники обильно поливали землю водой. Огонь замер, злобно зашипел и начал угасать. Базилика была спасена. По щекам Джоанны катились слезы. Первые несколько дней после пожара хоронили погибших, тех, чьи тела нашли. Страшный огонь оставил от многих лишь горсть обугленных костей и пепел. Похороны Аригия, как и соответствовало его высокому положению, прошли с величайшими почестями. После панихиды в Латеранском дворце его тело похоронили в склепе маленькой часовни рядом с могилами Папы Григория и Сергия. Джоанна тяжело пережила эту утрату. Поначалу они с Аригием не очень ладили, но со временем прониклись друг к другу огромным уважением. Ей будет недоставать его деловитости, безупречного знания мельчайших подробностей сложной внутренней жизни дворца. Джоанна с тоской вспоминала даже несколько высокомерную горделивость, с какой Аригий выполнял свои обязанности. Она считала совершенно справедливым, что теперь он упокоился рядом с понтификами, которым так преданно служил. После официальных дней траура начали внимательно изучать потери, нанесенные пожаром. Стена Льва устояла. Там, где начался пожар, нашли небольшие повреждения, но были полностью уничтожены почти три четверти района Борго: от храмов и домов остались лишь руины. То, что базилика Святого Петра не пострадала от пожара, казалось чудом, и это сразу признали все. Папа Лев выиграл битву с огнем, говорили люди, вовремя перекрестив надвигавшийся огонь. Рассказы о событиях уже разошлись по Риму, жители которого очень нуждались в свидетельстве того, что Бог не отвернулся от них. Чудо, свершенное Львом, укрепляло веру людей, о чем охотно говорили все, кто находился рядом с ним. Число свидетелей росло с каждым днем, и уже казалось, что почти все горожане были возле базилики в ту несчастную ночь. Льву сразу простили все. Он стал героем, пророком, святым, живым воплощением духа Святого Петра. Люди превозносили его, потому что Папа, сотворивший подобное чудо, способен спасти их от сарацинов. Однако восторг разделяли не все. Когда весть о чуде Льва дошла до церкви Святого Марселла, двери ее немедленно заперли на крепкий засов, отложили все крещения, отменили все мероприятия, а любопытным отвечали, что в церковь никого не допускают, поскольку священник Анастасий внезапно занемог. Джоанна круглые сутки работала, распределяя одежду, лекарства и другие необходимые вещи по приютам и богадельням города. Все было забито пострадавшими от пожара, катастрофически не хватало врачей, чтобы ухаживать за людьми, поэтому она принимала помощь от всех. Одни так сильно обгорели, что спасти их было невозможно, оставалось лишь давать настойки мака, мандрагоры и белены, чтобы облегчить страдания перед смертью. У других были огромные ожоги, чреватые заражением крови. Таким больным Джоанна делала примочки из меда и алоэ, проверенное средство от ожогов. Многие, не имевшие на теле ни единого повреждения, страдали от того, что надышались дыма, они боролись за жизнь с каждым вдохом. Потрясенная таким страшным горем, Джоанна снова усомнилась в своей вере. Как милостивый и всесильный Бог допустил такое? Как Он допустил гибель, страдания детей и младенцев, еще не успевших согрешить? В сердце Джоанны затаилась тревога, когда тень прежних сомнений посетила ее. Однажды утром, когда она встретилась со Львом, чтобы попросить разрешения открыть папские склады для жертв пожара, к ним вошел Валдиперт, новый мажордом. Это был высокий худой мужчина; его бледная кожа и светлые волосы свидетельствовали о том, что он из Ломбардии. Джоанну уязвило, что этот незнакомый человек одет так же, как Аригий. — Ваше святейшество, — почтительно обратился Валдиперт к Папе. — Двое горожан просят вашей аудиенции. — Пусть подождут, — ответил Лев. — Выслушаю их позднее. — Простите, ваше святейшество. Уверен, вам лучше поскорее выслушать их. Лев изогнул бровь. Если бы это был Аригий, он принял бы посетителей немедленно, ибо всегда доверял его, мнению. Неопытный Валдиперт не знал пока пределов своих полномочий, но пытался превысить их. Подумав, Лев согласился: — Хорошо. Пусть войдут. Валдиперт поклонился и вышел, вернувшись через минуту со священником и юношей. В смуглом и коренастом священнике Джоанна сразу узнала истового поборника веры, одного из тех, кто честно и незаметно трудились в небольших церквях Рима. Юноша, судя по одежде, был служкой у лектора или псаломщика. Это был приятный мальчик лет пятнадцати, стройный и миловидный о большими открытыми глазами, полными грусти. Они оба простерлись ниц пред Папой. — Встаньте, — велел им Лев. — Скажите, по какому делу вы здесь. Первым заговорил священник. — Я — Павел, ваше святейшество, милостью Божьей и вашей служу священником в храме Святого Лоренса в Дамаске. Этот юноша, Доминик, пришел сегодня в часовню исповедаться. То, что он мне рассказал, потрясло меня, и я привел его сюда. Выслушайте его. Лев нахмурился. — Нельзя нарушать тайну исповеди. — Ваше святейшество, мальчик пришел сюда по собственной воле, поскольку его ум и дух в величайшем смятении. Лев обратился к Доминику: — Это правда? Говори честно. Нет ничего постыдного в том, чтобы отказаться поведать тайну, произнесенную на исповеди. — Я хочу все рассказать вам, Отец, — дрожащим голосом ответил мальчик. — Я должен рассказать вам ради спасения моей души. — Продолжай, сын мой. Глаза Доминика наполнились слезами. — Я не знал, ваше святейшество! — воскликнул он. — Клянусь мощами всех святых, я не знал, что случится, иначе никогда не сделал бы этого! — Не сделал бы чего, сын мой? — ласково спросил Лев. — Не поджег бы. — Мальчик разрыдался. Воцарилось молчание, нарушаемое только рыданиями Доминика. — Ты устроил поджег? — тихо спросил Лев. — Да, я, и молю Бога простить меня! — Зачем ты это сделал? Мальчик проглотил слезы, пытаясь успокоиться. — Он сказал мне, будто строительство стены — великое зло› потому что деньги и время, затраченные на это, можно использовать на ремонт церквей и облегчение жизни бедных. — Он? — удивился Лев. — Тебе кто-то приказал устроить пожар? Мальчик кивнул. — Кто? — Кардинал Анастасий. Ваше святейшество, у него, должно быть, дьявольский язык. Он говорил так убедительно, что все его слова казались мне правильными и добрыми. Снова наступило молчание. Потом Лев серьезно произнес: — Осторожно выбирай слова, сын мой. Ты уверен, что именно Анастасий приказал тебе устроить поджог? — Да, святейший. Пожар предполагался маленький, — запинаясь сказал Доминик. — Только, чтобы сгорели леса на стене. Это было совсем нетрудно, я просто пропитал маслом тряпки, засунул под леса с краю и поджег. Поначалу горели только леса, так, как говорил кардинал. Но тут налетел ветер, и все вспыхнуло… и… — Он упал на колени. — О Боже! — в отчаянии плакал мальчик. — Невинная смерть! Я никогда больше не сделаю этого, даже если тысячи кардиналов попросят меня! Мальчик подполз к ногам Льва. — Помогите мне, святейший отец. Помогите! — Он поднял к Папе свое измученное лицо. — Я не могу жить после того, что натворил. Накажите меня. Готов на любые муки, даже самые страшные, чтобы душа моя очистилась! Джоанна замерла от ужаса и жалости. К злодеяниям Анастасия теперь добавилось и дьявольское искушение мальчика. Эта простая, честная и добрая душа никогда не совершила бы такого преступления, и не Могла она нести тяжкий груз без ущерба для сознания. Лев положил руку на голову мальчика. — Смертей уже предостаточно, сын мой. Какая польза миру в том, что будет еще одна? Нет, Доминик, твое наказание не в смерти, но в жизни — жизни, которую ты проведешь в искуплении и раскаянии. Отныне ты изгоняешься из Рима. Соверши паломничество в Иерусалим и молись перед Святой Гробницей о божественном прощении. Мальчик поднял на него удивленные глаза. — И это все? — Дорога искупления никогда не бывает легкой, сын мой. Тебя ждет трудное путешествие. Вспомнив о своем паломничестве из Франконии в Рим, Джоанна подумала, что Доминик даже не представляет себе, как верны эти слова. Отныне он должен жить вдали от родины, семьи и друзей, от всего, к чему привык. По пути в Иерусалим его ждет немало опасностей — непреодолимые горы и глубокие ущелья, дороги, кишащие грабителями и разбойниками, ему предстоит испытать голод, жажду и тысячи других невзгод. — Проведи свою жизнь в бескорыстном служении людям, — продолжал Лев, — во всем руководствуйся тем, чтобы твои добрые дела перевесили свершенное тобою зло. Доминик упал ниц перед Львом и поцеловал край его одежды. Он встал бледный и решительный, лицо его изменилось, словно омытое небесным дождем. — Я принимаю ваше наставление, святейший отец. Сделаю все именно так, как вы сказали. Клянусь телом Христовым и кровью Его. Лев перекрестил мальчика, благословляя: — Иди с миром, сын мой. Доминик и священник покинули комнату. Лев мрачно произнес: — Кардинал Анастасий происходит из могущественной семьи. Необходимо действовать в строгом соответствии с законом. Я должен написать мои обвинения против него. Иоанн, пойдем со мной. Мне понадобится твоя помощь. И Валдиперт… — Да, ваше святейшество? Лев одобрительно кивнул ему.
— Молодец. — Правильно сделал, что сообщил мне об этом, — сказал Арсений, Он сидел в одной из комнат своего дворца вместе с Валдипертом. Тот только что рассказал ему все подробности встречи Папы Льва с Домиником. — Позволь выразить тебе мою благодарность. Арсений открыл небольшой бронзовый ларец, стоявший на столе, вынул двадцать золотых динариев и передал Валдиперту, который быстро спрятал их. — Рад услужить, епископ. — Наспех откланявшись, Валдиперт удалился. Арсения не обидел поспешный уход Валдиперта. Мажордом должен был вернуться во дворец прежде, чем заметят его отсутствие. Арсений поздравил себя с тем, что предусмотрительно выбрал Валдиперта много лет назад, когда он был еще совсем молодым человеком в должности управляющего папского дома. Держать его своим сторонником стоило ему немалых денег все эти годы. Но теперь, когда Валдиперт стал мажордомом, затраты окупятся с лихвой. Арсений позвонил слуге. — Отправляйся в церковь Святого Марселла и попроси моего сына, чтобы пришел немедленно.
* * *
Услышав новость, Анастасий тяжело опустился в кресло. Неприятно, что отец узнал о его оплошности. — Кто мог знать, что мальчик заговорит? — оправдывался он. — Предав меня, он должен сильно раскаиваться. — Нельзя было оставлять его в живых, — заметил Арсений. — Следовало перерезать ему горло, как только дело было сделано. Но теперь все кончено. Нужно подумать о будущем. — О будущем? — недоуменно повторил Анастасий — О каком будущем? — Отчаянье — удел слабых, сын мой, не таких, как мы с тобой. — Но что мне делать? Ведь ситуация сложная! — Тебе придется покинуть Рим. Немедленно. Сегодня ночью. — О Боже! — Анастасий закрыл лицо руками. Мир вокруг него рушился. — Хватит! Помни кто ты есть, — решительно сказал Арсений. Анастасий выпрямился в кресле, пытаясь справиться с собой. — Отправляйся в Аахен ко двору императора. Анастасий опешил. Страх, переполнявший его, мешал трезво думать. — Но… Лотар знает, что я осудил его во время выборов Папы. — Да, и знает также, почему ты был вынужден так поступить. Он понимает, что такое политическая необходимость. А как, по-твоему, он вырвал трон у своих братьев? Кроме того, ему очень нужны деньги. — Арсений достал из стола кожаный кошелек и протянул его Анастасию. Если отцы императорской партии все еще сомневаются, это убедит их. Анастасий тупо уставился на тяжелый кошелек. Действительно ли нужно уехать из Рима? Мысль о том, что остаток жизни придется провести среди варваров-франков внушала ему отвращение. Возможно, лучше умереть и покончить со всем этим. — Считай, что это твой шанс, — проговорил Арсений. — Шанс приобрести могущественных друзей при императорском дворе. Они понадобятся тебе, когда ты станешь Папой. «Когда стану Папой». — Слова рассеяли тяжелый туман отчаянья. Значит, его отсылают не навечно. — Я позабочусь о твоих интересах здесь, ничего не бойся, — сказал Арсений. — Лев не всегда будет пользоваться всеобщим расположением. Постепенно оно достигнет предела и пойдет на убыль. Тогда я и пошлю за тобой. Тошнота, мучившая Анастасия начала проходить. Отца не покинула надежда, значит, не все потеряно. — Тебя будут сопровождать двенадцать моих лучших людей, — добавил Арсений. — Пойдем, провожу тебя на конюшню.Двенадцать воинов, вооруженные мечами, копьями и булавами, уже сидели на конях и ждали. На опасных дорогах охрана Анастасию была обеспечена. Его конь стоял рядом, нетерпеливо перебирая ногами. Анастасий узнал любимого скакуна отца. — До заката осталось часа два или три, достаточно для хорошего начала, — сказал Арсений. — Сегодня они за тобой не придут, поскольку не знают, что ты о чем-то догадываешься. Лев постарается выдвинуть официальные обвинения для твоего ареста. Раньше утра о тебе не спохватятся. Тогда отправятся сразу в церковь святого Марселла. Только после этого они догадаются прийти сюда, но ты будешь уже далеко. Вдруг Анастасию пришла в голову тревожная мысль. — А как же ты, отец? — У них нет оснований подозревать меня. Если только они посмеют допрашивать меня о тебе, то быстро поймут, что тянут волка за хвост. Отец и сын обнялись. «Неужели это происходит на самом деле», — подумал Анастасий. Все так быстро менялось, что голова шла кругом. — Да будет с тобой Бог, сын мой, — произнес Арсений. — И с тобой, отец. — Анастасий сел на коня и быстро погнал его, чтобы отец не видел его слез. Перед воротами он оглянулся в последний раз. Солнце клонилось к западу, отбрасывая длинные тени на пологие склоны Римского холма, заливая золотисто-красным светом величественные развалины Форума и Колизея. Рим! Все, ради чего он работал, все, что было ему дорого, находилось в этих священных стенах. Последнее, что запомнил Анастасий, это лицо отца, выражавшее боль и решимость, такое же родное и успокаивающие, как камень Святого Петра.
— Membrum putridum et insanibile, ferro excommunicationis a corpore Ecclesiae abscidamus… В прохладной темноте Латеранской базилики Джоанна слушала, как Лев произносит торжественные и страшные слова, навечно отлучая Анастасия от Святой Матери церкви. Она заметила, что Лев выбрал excommuniciato minor, самую слабую форму отлучения, когда проклятому не разрешают свершать обряды или принимать святые дары, но его не лишают последних прав, которых не может быть лишена ни одна живая душа. Однако Анастасию позволялось общаться с братьями-христианами. «Истинно, у Льва доброе сердце», — подумала Джоанна. Все священники Рима присутствовали на торжественной церемонии. Здесь был даже Арсений, не желавший рисковать своим положением епископа Хорты, вступая в бессмысленное публичное противостояние. Конечно, Лев подозревал, что Арсений причастен к бегству сына, но не имел доказательств, а других обвинений против него не было. Быть отцом преступника — не преступление. Когда свеча, символизирующая бессмертную душу Анастасия, была перевернута и погашена в грязи, Джоанна почувствовала грусть. «Трагическая бессмыслица замечательный ум Анастасия пригодился бы для добрых дел, если бы только не его чрезмерные амбиции», — подумала она. (обратно)
Глава 26

Строительство Стены Льва, как теперь называли её все, шло ускоренными темпами. Пожар должен был разрушить стену, но почти не причинил ей вреда. Сгорели лишь деревянные леса и обуглился один из крепостных валов. Проблема, мешавшая проекту с самого начала, теперь исчезла. Работа не прекращалась всю зиму и весну, погода стояла на редкость умеренная. Дни были прохладные, солнечные и без дождей. Из каменоломен стал поступать камень хорошего качества, и рабочие из разных частей папских владений добросовестно и слаженно работали. На Троицу высота стены достигала уже человеческого роста. Теперь никто не называл проект безрассудным, никому не приходило в голову жалеть время и деньги на строительство. Римляне гордились своей работой, вспоминали о древних временах, когда подобные чудесные дела творились повсеместно. Стена станет грандиозным, укрепленным дозорными башнями защитным сооружением, которое не удастся ни преодолеть, ни разрушить даже сарацинам. Но в начале июля в город прибыли гонцы со страшной вестью: сарацины собирали свой флот у Тотариума, маленького острова у восточного берега Сардинии, готовя новое нападение на Рим. В отличие от Сергия, возлагавшего все надежды на силу молитвы, Лев предпочел решительные действия. Он немедленно послал гонцов в великий морской город Неаполь, с просьбой о помощи с моря боевыми кораблями. Идея была смелая и многообещающая. Неаполь формально все еще был на стороне Константинополя, хотя на самом деле оставался независимым в течение многих лет. Придет ли герцог Неаполитанский на помощь Риму в час опасности? Или, присоединившись к сарацинам, воспользуется возможностью расправиться с Римом с моря ради восточной Патриархии? План был рискованный, но выбора не оставалось.
В течение десяти дней город находился в напряженном ожидании. Когда наконец в Порто прибыл неаполитанский флот и встал в устье Тибра, Лев направился на встречу с большой свитой вооруженных гвардейцев под предводительством Джеральда. Все опасения рассеялись, когда Цезарий, командующий флотом, простерся ниц перед Львом и смиренно поцеловал край его одежды. Скрывая облегчение, Лев благословил Цезария и торжественно доверил ему защищать священные останки Петра и Павла. Они выдержали первое испытание судьбы. От того, выстоят ли они теперь, зависело их будущее.
Флот сарацинов прибыл на следующее утро. Широкие и длинные суда заняли пространство до самого горизонта. Джоанна попыталась пересчитать их — пятьдесят, пятьдесят три, пятьдесят семь, а суда все прибывали — восемьдесят, восемьдесят пять, девяносто — столько кораблей не наберется в целом мире! Сто, сто десять, сто двадцать! Неаполитанцы располагали всего шестьдесят одним кораблем. Вместе с римскими галерами, находившимися в довольно сносном состоянии, набиралось шестьдесят семь. Сарацины превосходили силой почти вдвое. Лев стоял на ступенях церкви Святого Аурея и благословлял тех, кто отправлялся в Порто. — Господи, Который спас Петра из морских пучин, услышь нас. Дай силы верным слугам Твоим, которые сражаются против врагов Твоей церкви, ибо через их победу прославится Твое святое имя во всех народах. Воздух наполнился голосами людей, повторивших за ним: — Аминь! Цезарий отдавал приказы на мостике флагманского корабля. Неаполитанцы налегли на весла, напрягаясь до предела. На мгновение тяжелые весла застыли в воде, затем громко заскрипели уключины, и корабли пришли в движение. Двойные ряды весел поднимались и опускались, сверкая как драгоценности; ветер наполнил паруса, и огромные галеры вырвались вперед, разрезая бирюзовые волны обшитыми железом носами. Корабли сарацинов приготовились встретить атаку, но не успели начать бой, как прогремел гром. Потемневшее небо заволокло черными тучами. Тяжелые неаполитанские корабли спокойно вернулись в гавань. Но сарацинские плоскодонные весельные суда, маневренные в бою, оказались слишком легкими, чтобы противостоять шторму. Их бросало на волнах, как древесную кору. Они ударялись друг о друга и разбивались в щепки. Несколько кораблей заплыли в порт, но едва они приблизились к берегу, с ними безжалостно расправились. Вдохновленные яростью, сменившей пережитый страх, римляне уничтожали команды сарацинских кораблей, стаскивая их с бортов и вешая на спешно сооруженных виселицах вдоль берега. Видя судьбу своих товарищей, остальные корабли сделали попытки выйти в открытое море, но там с ними расправлялись гигантские волны. В момент неожиданной победы Джоанна следила за Львом. Он стоял на ступенях церкви, воздев руки, глядя в небо и читая благодарственную молитву. Лев походил на святого. «Возможно, он действительно способен совершить чудо», — подумала Джоанна. Ее колени подогнулись сами собой, и она склонилась перед ним в низком поклоне. — Победа! Победа в Остии! — Радостная весть звучала на улицах Рима. Горожане высыпали из домов, папские кладовые были открыты, и вино лилось рекой. В течение трех дней город предавался дикому ликованию. Перед улюлюкающей и кричащей толпой по улицам города прогнали пятьсот плененных сарацинов. Многих из них забили камнями насмерть. Оставшихся в живых, около трехсот человек, заковали в цепи и отправили в лагерь в долине Нерона, на строительство Стены Льва. С появлением дополнительной рабочей силы стройка ускорилась и была полностью завершена уже через три года — шедевр инженерной мысли, самое невероятное сооружение в городе за последниечетыреста лет. Всю территория Папской области теперь окружала стена высотой двенадцать футов, укрепленная сорока четырьмя массивными башнями. Здесь были две независимые галереи. Они располагались одна над другой, нижнюю поддерживали изящные арки. Вход в крепость преграждали хорошо укрепленные ворота; врата Святого Ангела, Саксонские врата и Врата Паломников, ставшие главными. Через них в течение веков в город входили короли и принцы, чтобы помолиться мощам Святого Петра. Как бы ни прекрасна была великая стена, амбиции Льва простирались еще дальше. Задумав реставрировать все святые сооружения, Лев взялся за грандиозный план перестройки. В городе день и ночь раздавался звон наковален, потому что постоянно шел ремонт какой-нибудь из церквей. Сгоревшую саксонскую базилику восстановили, как и фризскую церковь Святого Михаила и церковь Санти-Кваттро-Коронати, кардиналом которой когда-то был Лев. Но главное — Лев приступил к реконструкции базилики Святого Петра. Обгоревший и почерневший портик переделали полностью, Двери, с которых сарацины содрали драгоценные серебряные панели с мастерски выгравированными сценами из жизни святых, заменили. Высокий алтарь снова покрыли серебром и золотом и украсили тяжелым золотым крестом, усыпанным жемчугом, изумрудами и бриллиантами. Над ним водрузили серебряный балдахин, весом более тысячи фунтов. Его поддерживали четыре высокие колонны из чистейшего травертинового мрамора, украшенные позолоченными лилиями. Алтарь освещался лампадами на серебряных цепях, украшенными золотыми шарами. Мерцание их огней освещало драгоценные потиры, усыпанные камнями, изящные аналои, богатые гобелены и шелковые драпировки. Великая базилика сияла роскошью, затмившей даже прежнее убранство.
Видя, как щедро текут деньги из папской сокровищницы, Джоанна встревожилась. Лев создал гробницу невероятной красоты. Но большинство живущих рядом с этой сияющей красотой, прозябали в невежестве и нищете. Одна только серебряная пластина на дверях базилики Святого Петра, перелитая в монеты, могла бы кормить и одевать население всего Кампуса Маритуса целый год. Неужели для поклонения Богу необходимы все эти пожертвования? В целом мире был лишь один человек, с кем Джоанна отваживалась обсуждать эти вопросы. Когда она поделилась с Джеральдом своими мыслями, он надолго задумался. — Я слышал, как о том же судачат люди, — наконец ответил он. — Говорят, что красота святой гробницы дает людям иную пищу, пищу для души, а не для тела. — Трудно услышать голос Бога на фоне урчания пустого желудка. Джеральд насмешливо покачал головой. — Ты не изменилась. Помнишь, как ты спросила Одо о том, почему нужно верить в Воскресение Христа, если этому не было свидетелей? — Помню. Особенно то, что он мне ответил. — Когда я увидел рану от удара Одо, мне захотелось избить его… и я бы сделал это, если бы не опасался причинить тебе больший вред. Джоанна улыбнулась. — Ты всегда был моим защитником. — А у тебя, — добродушно заметил Джеральд, — всегда было сердце еретика. Они разговаривали непринужденно. Именно это сблизило их с самого начала. Теперь Джеральд смотрел на нее с обычной теплотой. Джоанна всегда чувствовала присутствие Джеральда. Но Джоанна научилась скрывать свои чувства. Она указала на кипу прошений, лежавшую на столе между ними. — Нужно выслушать всех просителей. — А разве не Лев должен это делать? В последнее время Лев все больше дел перекладывал на Джоанну, посвящая себя перестройке. Она стала посредником между Львом и народом. Все так привыкли к тому, что Джоанна занималась благотворительностью в разных концах города, что ее прозвали «маленьким Папой» и обращались к ней почти с таким же уважением, как к самому Льву. Когда Джоанна потянулась к пергаментам, Джеральд погладил ее руку. Она резко отдернула ее, словно обожглась. — Я… Мне надо идти, — смущенно сказала она. Джоанна сразу же ушла, но была немного разочарована тем, что Джеральд не последовал за ней.
Популярность Льва, закрепленная успехом строительства стены и реставрацией базилики Святого Петра, стала безграничной. Его прозвали реставратором города. Лев стал новым Адрианом, новым Аурелием, как говорили люди. Всюду, где он появлялся, его восторженно приветствовали. Рим возносил ему громкие похвалы. Везде, но только не во дворце на Палатинском холме, где Арсений с нарастающим нетерпением ждал дня, когда сможет призвать домой Анастасия. Дела шли не так, как ожидалось. Сместить Льва, вопреки надеждам Арсения, оказалось трудно, и совсем не осталось шансов на то, что папский престол освободится в результате несчастного случая или смерти Папы, Здоровый и энергичный, Лев производил впечатление человека, намеренного жить вечно. Беда следовала за бедой. Семья понесла еще одну утрату. Неделю назад Арсений похоронил второго сына, Элютерия. Тот ехал на коне по Виа Ректа, когда под ноги коню выскочила свинья, конь испугался, сбросил Элютерия и поранил бедро. Поначалу никто не обратил на это никакого внимания: рана была небольшая. Но состояние здоровья сына ухудшалось. Началось заражение крови. Вызвали Эннодия, который сделал Элютерию обильное кровопускание. Это не помогло. Через два дня Элютерий умер. Отыскали хозяина свиньи, и Арсений перерезал ему горло от уха до уха. Но месть не принесла утешения, поскольку не могла вернуть умершего сына. Отец и сын не очень любили друг друга. Элютерий был полной противоположностью Анастасия — мягкий, ленивый и беспутный с детских лет, он не захотел получить духовное образование, а предпочел удовольствия земной жизни — женщин, вино, азартные игры и другие развлечения. Нет, Арсений сокрушался не о том, каким мог стать Элютерий. Его удручала утрата еще одной ветви фамильного древа, которая могла принести многообещающие плоды. Веками их семья занимала главенствующее положение в Риме. Арсений мог проследить свой род до Августа Цезаря. Однако блистательный род преследовали неудачи, и ни один из благородных сыновей Арсения не получил главного римского приза: престола Святого Петра. «Этот престол занимало множество ничтожных людей, — с горечью думал Арсений, — и каковы трагические последствия? Рим, некогда бывший чудом света, теперь обратился в руины, пришел в упадок. Византийцы насмехались над ним, гордясь сверкающим великолепием Константинополя. Неужели ни одному из потомков Арсения, наследников Цезаря, не суждено вернуть городу его прежнее величие?» Теперь, когда умер Элютерий, Анастасий остался последним в роду, кто имел шанс восстановить честь семьи и Рима. Но Анастасий вынужден жить в земле франков. Арсением овладевало глухое отчаянье, но он старался преодолеть его. Великие люди не ждут благоприятных возможностей, они завоевывают их. Тот, кто желает править, должен платить за власть, какой бы высокой ни была цена. Во время мессы в праздник Святого Иоанна Крестителя Джоанна впервые заметила: со Львом происходит что-то неладное. Его руки дрожали, когда он принимал святые дары, и Папа странно запнулся, произнося Nobis quoque peccatoribus. Когда позднее Джоанна спросила его об этом, Лев сказал, что дело в перегреве и несварении желудка. Ни в один из последующих дней Льву не стало лучше. У него постоянно болела голова, и он жаловался на жгучую боль в руках и ногах. Лев слабел, и с каждым днем ему становилось все труднее подняться с постели. Джоанна встревожилась. Она испробовала все, но ничего не помогало. Лев медленно угасал.
Хор громко запел Те Deum финального псалма мессы. Лицо Анастасия по-прежнему ничего не выражало, он лишь пытался не морщиться от шума. Анастасий так и не привык к франкскому песнопению; непривычные интонации раздражали, как кудахтанье кур. Вспомнив чистые, нежные звуки римского хора, Анастасий невыносимо затосковал по дому. Нет, в Аахене он не провел время попусту. Следуя советам отца, Анастасий решил заручиться поддержкой императора. Он начал обхаживать друзей Лотара и его близких, старался понравиться Эрменгард, жене короля, Анастасий очаровал франкскую знать, поразив всех своими знаниями Священного писания и особенно редким в ту пору владением греческим языком. Эрменгард и ее друзья заинтересовали им Лотара, и Анастасий был приближен к нему. Хотя прежде Лотар усомнился в Анастасии, теперь король забыл об этом, и Анастасий снова завоевал доверие и поддержку императора. Я сделал все, о чем просил отец и даже больше. Но когда же я буду вознагражден? Временами Анастасию казалось, что он навсегда останется в этой холодной варварской дыре. Вернувшись к себе после мессы, он нашел адресованное ему письмо. Узнав почерк отца, Анастасий быстро распечатал письмо и, прочитав несколько строк, радостно вскрикнул. «Пора. Приди и заяви о себе», — писал отец.
Лев лежал на боку в своей постели, подогнув колени. Он страдал от болей в желудке. Джоанна приготовила смягчающее средство из яичных белков, взбитых с подслащенным молоком, куда добавила немного фенхеля, ветрогонного средства. Лев выпил все. — Это вкусно, — сказал он. Джоанна ждала действия лекарства. Лев заснул спокойно, чего не было уже несколько недель. Проснувшись, он почувствовал себя лучше. Джоанна решила поить его этим напитком, запретив все остальное. Валдиперт протестовал: — Папа очень слаб, ему нужно что-то более существенное для поддержания сил. — Лечение ему на пользу. Он не должен принимать ничего, кроме этого напитка, — решительно возразила Джоанна. Валдиперт уступил: — Как скажете, номенклатор. В течение недели Льву стало лучше. Боль прошла, цвет лица восстановился. Казалось, к нему вернулась его прежняя энергия. Когда Джоанна принесла ему вечернюю порцию лекарства, Лев грустно взглянул на молочную смесь. — Нельзя ли вместо этого съесть пирожок с мясом? — К вам вернулся аппетит… хороший признак. Лучше не нарушать режима. Проведаю вас утром. Если проголодаетесь, разрешу съесть простую похлебку. — Тиран, — улыбнулся Лев. Джоана радовалась тому, что он снова начал шутить.
* * *
Рано утром она узнала, что Льву снова стало хуже. Он так сильно страдал от боли, что не отвечал на вопросы Джоанны. Она быстро приготовила новую порцию смягчающего напитка. Вдруг взгляд ее упал на пустую тарелку с остатками пищи, стоявшую возле кровати. — Что это? — спросила она Ренатуса, юного слугу Льва. — Это, это пирожки с мясом, которые вы ему прислали, — ответил мальчик. — Я ничего не посылал. Ренатус смутился. — Но… мажордом сказал, что вы их специально заказали. Джоанна взглянула на корчившегося от боли Льва. В голову закралось страшное подозрение. — Беги, — приказала она Ренатусу, — позови командующего и гвардейцев. Валдиперт не должен покинуть дворец. Мальчик выбежал из комнаты. Дрожащими руками Джоанна приготовила сильное рвотное из горчицы и корня бузины и ложечкой влила смесь в рот Льву. Рвотное быстро подействовало. Лев содрогался от конвульсий, но вышла только зеленоватая жидкость. Слишком поздно. Яд покинул желудок и уже действовал, сжимая мышцы челюстей, горла и всего тела. Джоанна пыталась что-нибудь придумать и спасти Льва.Джеральд приказал обыскать все комнаты дворца. Валдиперт исчез. Его сразу объявили преступником. Валдиперта искали в городе и в окрестностях, но тщетно. Он словно сквозь землю провалился. Уже потеряв надежду, люди нашли его тело в Тибре. Горло Валдиперта было перерезано от уха до уха.
Священники и высшее руководство Рима собрались в спальне Папы. Они столпились в ногах кровати, словно прячась друг за друга. В серебряных лампадах горел огонь. С первыми лучами солнца слуга вошел и загасил их. Джоанна видела, как старик осторожно опускал их, ослабив цепочки, чтобы драгоценное содержимое не пострадало. Привычные обыденные движения казались неуместными в этой печальной обстановке. Джоанна не ожидала, что Лев протянет до утра. Он давно не реагировал на голое и прикосновение. В течение четырех часов его дыхание становилось все более шумным, потом внезапно затихало. Наступала пауза, во время которой никто не дышал, но все начиналось с начала. Джоанна услышала шум одежды. Через комнату шел Евстафий, первосвященник, зажимая рот рукавом, чтобы скрыть рыдания. Лев шумно выдохнул и затих. Тишина длилась бесконечно. Джоанна подошла к кровати. Жизнь покинула Льва. Закрыв ему глаза, она упала на колени возле него. Ефстафий заплакал в голос. Епископы и вельможи преклонили колени. Премицерий Паскаль перекрестился и вышел, чтобы сообщить печальную новость тем, кто ждал снаружи. — Лев, Pontifex Maximus, Servus Servorum Dei, верховный епископ церкви, Папа апостольской епархии Рима, умер.
Похоронили Льва в базилике Святого Петра, перед алтарем новой часовни, посвященной ему. В это время года похороны проводили быстро. Какой бы святой ни была душа усопшего, тело неумолимо разлагалось на июльской жаре. Сразу после похорон правящий триумвират сообщил, что в трехдневный срок состоятся выборы понтифика. Когда Лотар стоит на севере, с юга угрожают сарацины, а между ними ломбардийцы и византийцы, Рим не мог допустить, чтобы престол Святого Петра пустовал долго.
«Слишком быстро, — с сожалением подумал Арсений, услышав новость. — Слишком быстро должны пройти выборы. Анастасий не успеет приехать раньше. Валдиперт, этот идиот, все испортил. Он получил подробные инструкции: давать яд постепенно, маленькими дозами. Так Лев протянул бы еще месяц. И тогда его смерть не вызвала бы подозрений». Но Валдиперт запаниковал и дал Льву слишком большую дозу, убив его сразу. А потом имел наглость явиться к Арсению, прося о защите. «Но теперь он недосягаем для закона, хотя и не так, как было задумано», — размышлял Арсений. Он и прежде приказывал убивать людей, это была цена за власть, и только слабые не решались платить ее. Но никогда еще Арсений не убивал тех, кого знал так хорошо, как Валдиперта. Это было неприятно, но иначе он поступить не мог. Если бы Валдиперта схватили и допросили, он признался бы под пытками во всем. Арсений сделал все, чтобы защитить себя и свою семью. Он уничтожит любого, кто осмелится угрожать безопасности семьи, раздавит ногтем, словно вшей. И все же смерть Валдиперта оставила в его душе неприятное чувство и страх. Такие жестокие события, несмотря на их необходимость, неизбежно вызывали реакцию в обществе. Усилием воли Арсений заставил себя думать о насущных делах. Отсутствие сына осложняло ситуацию. Прежде всего следовало заставить первосвященника Евстафия отменить отлучение Анастасия. Для этого придется воспользоваться политическими уловками. Подняв со стола драгоценный пояс, Арсений вызвал секретаря. За слишком короткое время предстояло сделать очень многое. Джоанна стояла у стола в своей комнате и растирала сушеные цветы иссопа в тонкую пудру. Перемешать, растолочь, перемешать, растолочь, привычные движения руки смягчали боль утраты. Лев умер. Это казалось невозможным. Он был таким бодрым, сильным, жизнелюбивым. Останься Лев жив, он вытащил бы Рим из трясины невежества и нищеты, в которых город прозябал в течение столетий. У него было для этого желание и воля, но не хватило времени. Дверь открылась и вошел Джеральд. Джоанна встретилась с ним взглядом. Она чувствовала его присутствие так, словно он прикоснулся к ней. — Сейчас получил сообщение, что Анастасий покинул Аахен, — быстро сказал он. — Неужели едет сюда? — Да. Но зачем ему покидать дворец императора так внезапно? Он возвращается, чтобы претендовать на престол, которого не получил шесть лет назад. — Но Анастасий не может быть избран, он же отлучен. — Арсений делает все, чтобы отменить приговор. — Benedicite! — Новость была неприятная. После того, как Анастасий провел столько лет при королевском дворе, никто не сомневался, что он человек императора. Если Анастасия изберут, власть Лотара распространится на Рим и все его территории. — Анастасий не забыл, как ты выступила против него на выборах Папы, и если сейчас изберут его, оставаться в Риме тебе будет опасно. Он не из тех, кто прощает обиды. Джоанне, скорбевшей по Льву, эта мысль показалась невыносимой. Глаза ее наполнились слезами. — Не плачь, сердце мое, — Джеральд обнял Джоанну сильными, уверенными и ласковыми руками. Он коснулся губами ее висков, щек, всколыхнув в ней бурю чувств. — Ты многое сделала, многим пожертвовала, пойдем со мной, будем жить вместе, как муж и жена. — Джеральд покрыл поцелуями лицо Джоанны. — Скажи да, — нетерпеливо просил он. — Скажи да. В глазах у Джоанны помутилось. — Да, — прошептала она, — да. Она импульсивно отреагировала на его порыв. Но едва слова сорвались с ее уст, в душе воцарился покой. Решение было принято; оно казалось правильным и неизбежным. Джеральд склонился, чтобы снова поцеловать ее. Именно в этот миг зазвонил колокол, созывая всех на полуденную трапезу. Через мгновение послышались голоса и торопливые шаги за дверью. Они быстро отпрянули друг от друга, поклявшись встретиться снова после избрания Папы.
В день выборов Джоанна пошла помолиться в небольшую английскую церковь, где служила, только прибыв в Рим. Сгоревшая дотла во время пожара, она была выстроена заново из того, что взяли с развалин древних храмов и памятников. Преклонив колена перед высоким алтарем, Джоанна заметила, что на мраморном пьедестале сохранился символ Magna Mater, древней богини земли, почитаемой языческими племенами в незапамятные времена. Под грубой резьбой было высечено на латыни: «На этом камне возносился фимиам Богине». Вероятно, когда этот кусок мрамора принесли сюда, никто не понял этого символа или его не заметили. В этом не было ничего удивительного, многие римские священники почти не знали грамоты. Несовместимость святого алтаря с его языческим пьедесталом, как казалось Джоанне, символизировало ее сущность. Она по-прежнему мечтала о языческих богах матери; общество считало ее мужчиной, а женское сердце желало веры, она разрывалась между стремлением познать Бога и страхом, что его нет. Разум и сердце, вера и сомнение, воля и страсть. Успокоится ли когда-нибудь ее противоречивая натура? Джоанна любила Джеральда, в этом не было сомнений. Но могла ли она стать его женой? Всегда скрываясь под личиной мужчины, способна ли она начать жить как женщина? — Господи, помоги мне! — молилась Джоанна, подняв взор к серебряному распятью на алтаре. — Укажи мне путь. Дай знать, что делать. Господи милостивый! Просвети меня Твоим вечным светом! Слова ее вознеслись, но дух остался недвижим, отягченный сомнением. Вдруг дверь в церковь приоткрылась. Джоанна обернулась и увидела в дверях лицо, которое быстро исчезло. — Он здесь! — крикнул кто-то. — Я нашел его! Сердце ее заколотилось от страха. Неужели Анастасий расправится с ней так быстро? Джоанна поднялась. Двери распахнулись, и вошли семеро предводителей в сопровождении служек, несущих знамена их епархий. За ними следовали кардиналы и семеро верховных вельмож города. Только теперь, заметив среди них Джеральда, Джоанна поняла: они пришли не для того, чтобы арестовать ее. Процессия медленно двинулась вдоль прохода и остановилась перед ней. — Иоанн Англиканец! — Торжественно обратился к ней премицерий Паскаль. — Волею Бога и римлян, ты избран Папой Римским, епископом римской епархии. Он простерся у ног Джоанны и поцеловал край ее одежды. Она в недоумении уставилась на него. Неужели это злая насмешка? Или попытка спровоцировать ее на проявление нелояльности к новому Папе? Джоанна взглянула на Джеральда. Его лицо было напряжено, печально и серьезно. Он тоже упал на колени перед ней.
Результат выборов стал неожиданностью для всех. Имперская фракция, которую возглавил Арсений, уверенно стояла на стороне Анастасия. Папская фракция собиралась выбрать Адриана, настоятеля церкви Святого Марка. Он не был лидером, вызывавшим доверие. Толстый и невысокий, рябой, с покатыми плечами, он выглядел так, словно уже обременен ответственностью, возложенной на него. Немногие выбрали бы Адриана, человека благочестивого, хорошего священника, духовным лидером мира. Очевидно, Адриан согласился с общим мнением всех, потому что неожиданно снял свою кандидатуру, сообщив собравшимся, что после долгой молитвы и глубоких размышлений решил, что не достоин такой великой чести. Это посеяло панику в рядах папской партии, поскольку Адриан не предупредил никого заранее. Сторонники империи возликовали. Победа Анастасия казалась решенной. Но вдруг собравшиеся выразили недовольство, особенно миряне. — Иоанн Англиканец! — кричали они. — Иоанн Англиканец! Премицерий Паскаль направил на их усмирение гвардейцев, но они не отступали. Миряне знали: Конституция 824 года давала всем римлянам, лицам светским и духовным, низкого и высокого происхождения, равные права голоса при избрании Папы. Арсений пытался предотвратить это, открыто подкупая людей. Его агенты сновали в толпе, предлагая людям взятки в виде вина, женщин и денег. Но даже такие сильные средства не помогли. Люди не хотели Анастасия, потому что их любимый Папа Лев отлучил его от церкви. Они неистово требовали избрания Иоанна Англиканца, «маленького Папы», друга и помощника Льва; отступать никто не собирался. Но, несмотря на Конституцию, им не удалось бы добиться своего, поскольку правящая аристократия все равно настояла бы на своем. Однако папская партия, почуяв возможность не допустить Анастасия на престол, присоединила свои голоса к голосам народа. Дело было сделано, и Джоанну избрали Папой Римским.
Анастасий и его люди остановились вблизи Перуджи, приблизительно в девяноста милях от Рима, когда прибыл курьер с новостью. Едва дочитав письмо до конца, Анастасий издал крик отчаянья и боли. Не сказав ни слова изумленным спутникам, он скрылся в своем шатре, плотно закрыв за собой занавес, чтобы никто не вошел за ним. Из шатра до охранников доносились громкие рыдания. Через какое-то время рыдания стали походить на вой дикого животного. Они продолжались всю ночь.
В пурпурной мантии с золотом, на белом коне с золотой сбруей, Джоанна отправилась к месту коронации. Все двери и окна вдоль Виа Сакра были украшены яркими вымпелами и знаменами, земля благоухала, усыпанная миртом. Ликующие зрители толпами стояли вдоль улицы, желая взглянуть на Папу. Погруженная в свои мысли, Джоанна едва слышала шум толпы. Она думала о Мэтью, о своем старом учителе Эскулапии, о брате Бенжамине, Все они верили в нее, вдохновляли, но никто не предполагал, что настанет такой день. Джоанна сама едва верила в это. Когда она впервые выдала себя за мужчину и была принята в монастырь Фульды, Бог не противился этому. Но позволит ли он женщине взойти на трон Святого Петра? Этот вопрос мучил ее. Папская гвардия под предводительством Джеральда ехала рядом с Джоанной. Джеральд пристально следил за толпой, стоявшей вдоль дороги. Время от времени кто-то прорывался через строй гвардейцев, и всякий раз Джеральд хватался за меч, готовый защитить Джоанну от нападения, Но повода обнажить меч не представилось, поскольку люди пытались лишь припасть к одежде Папы, поцеловать ее и получить благословение. Медленно, с остановками, длинная процессия продвигалась к Латеранскому дворцу. Солнце стояло в зените, когда они остановились перед папским кафедральным собором. Когда Джоанна сошла с коня, епископы и кардиналы выстроились за ней. Поднявшись по ступеням, она вошла в сияющий зал великой базилики. Церемония коронации, ритуал сложный и древний, проходила в течение нескольких часов. Двое епископов проводили Джоанну в ризницу, где ее торжественно облачили в стихарь далматик и фелонь перед тем, как она должна была приблизиться к высокому алтарю для подписания Литании, а также перед долгим ритуалом посвящения, или помазания. Во время чтения vere dignum архиепископ Дезитерий и двое других архиепископов держали над головой Джоанны открытое Евангелие. Затем началась месса, которая длилась гораздо дольше обычного из-за дополнительных многочисленных молитв и обрядов, подчеркивавших важность события. Все это время Джоанна торжественно стояла под тяжестью золотых литургических одеяний. Несмотря на величественный наряд, Джоанне казалось, что она очень мала и не соответствует огромной ответственности, отныне возложенной на нее. Она убеждала себя, что те, кто стоял на этом месте до нее, тоже трепетали и сомневались, однако все же справились. Но все они были мужчинами. Первосвященник Евстафий приступил к финальному благословлению. — Всесильный Боже, простри Свою десницу в знак благословления раба твоего Иоанна Англиканца, излей на него дар Твоей милости… «Неужели Господь благословит меня теперь? — думала Джоанна. — Или меня поразит Его гнев в тот самый миг, когда на мою голову опустится панская корона?» Вперед вышел епископ Остийский, неся на подушке из белого шелка папскую корону. Джоанна затаила дыхание, когда он поднял корону перед ней. Затем она почувствовала на своей голове тяжесть золотого обруча. Ничего не случилось. — Долгие лета нашему прославленному господину Иоанну Англиканцу, избранному Богом нашим верховным епископом и всемирным Папой! — воскликнул Ефстафий. Хор запел Laudes, и Джоанна повернулась к собравшимся. Когда она вышла на крыльцо базилики, ее приветствовал хор ликующих голосов. Тысячи людей стояли долгие часы на палящем солнце, чтобы приветствовать нового Папу. По их воле ее увенчали короной. Теперь они выражали свою волю радостными возгласами: — Папа Иоанн! Папа Иоанн! Папа Иоанн! Джоанна простерла к ним руки, чувствуя, как возвышается ее дух. Божественное прозрение, которого лишь вчера она тщетно пыталась достичь, внезапно снизошло на нее. Господь допустил, чтобы это случилось, следовательно на то Его Воля. Все сомнения и страхи сменила великая радостная уверенность: в этом мое предназначение и это мой народ. Джоанна благословляла любовь, которую она несла им. Она будет защищать их всю жизнь. И, возможно, в конце Господь простит ее.
Стоя рядом, Джеральд с удивлением смотрел на Джоанну. Она вся сияла, преображенная неизъяснимой радостью, ее лицо излучало свет. Только он, знавший Джоанну очень хорошо, догадывался о том, что происходило в ее душе. А это было гораздо важнее торжественной церемонии. Когда Джеральд наблюдал, как Джоанна принимает поздравления толпы, сердце его разрывалось от боли: женщина, которую он так любил, была потеряна для него навсегда. Но никогда еще Джеральд не любил ее так сильно, как теперь. (обратно)
Глава 27

Вступив на папский престол, прежде всего Джоанна посетила город. В сопровождении свиты и гвардейцев она обошла каждый из семи церковных округов, приветствуя людей и выслушивая их жалобы и просьбы. В конце маршрута первосвященник Дезитерий повел ее по Виа Лата, подальше от реки. — Как насчет Кампус Маритус? — спросила она. Люди из свиты Папы с ужасом переглянулись. Кампус Маритус, самый бедный район Рима, находился в нижней долине Тибра. Это было болотистое и глухое место. В славные времена Римской Республики в этом месте молились языческому богу Марсу. Теперь по некогда прекрасным улицам бродили только голодные псы, оборванные нищие и воры. — Мы не осмеливаемся ходить туда, ваше святейшество, — сказал Дезитерий. — Место заражено тифом и холерой. Но Джоанна уже направилась в сторону реки в сопровождении Джеральда и его гвардейцев. Дезитерию и свите пришлось следовать за ними. Ряды тесных перенаселенных бараков для бедных тянулись вдоль грязных улиц до самого берега реки. Гнилые стены давно покосились. Некоторые бараки рухнули, и полусгнившие деревья завалили улицы. Над головами тянулись полуразрушенные арки акведука Марса, когда-то считавшегося одним из чудес света. Теперь с его полуразрушенных стен капала зловонная жижа. Она скапливалась внизу в черных, протухших лужах, где плодились болезнетворные микробы. Несколько нищих собрались у котелка. На костре, сложенном из хвороста и сухого помета, готовили зловонную еду. На улицах лежала липкая тина, оставшаяся здесь после разливов Тибра. Канавы были заполнены отбросами и экскрементами. Горячий летний воздух издавал зловоние, повсюду жужжали назойливые мухи, под ногами сновали крысы и прочие грызуны. — Божье проклятье! — прошептал Джеральд. — Это сущая клоака. Джоанна очень хорошо знала, что такое нищета, но увиденное было выше ее понимания. Перед костром, на котором готовилась пища, съежившись, сидели двое маленьких детей. Сквозь дыры в одежде Джоанна заметила, какие они тощие. Их голые ножки были обмотаны грязными тряпками. Самого маленького, несомненно, лихорадило. Несмотря на жару, он дрожал всем тельцем. Джоанна сняла свою льняную фелонь и осторожно завернула в нее малыша. Мальчик потерся щекой о тонкую ткань, которая показалась ему самой нежной на свете. Она почувствовала, как кто-то потянул ее за одежду. Рядом стояла совсем маленькая девочка. Глазастый херувим вопросительно смотрел на нее. — Ты ангел? — прозвучал нежный голосок. Джоанна взяла ребенка за подбородок. — Это ты ангел, малышка. В котелке варили мясо сомнительного вида. Молодая усталая женщина с редкими светлыми волосами принесла ведро воды. «Мать детей», — подумала Джоанна, Она сама почти ребенок, ей не более шестнадцати лет. При виде Джоанны и других прелатов глаза женщины засветились надеждой. — Подайте Христа ради, святые отцы! — Она протянула грязную руку. — Подайте монетку на пропитание малышей. — Джоанна кивнула эконому Виктору, и тот положил в руку женщины серебряный динарий. Обрадованная, она опустила ведро и спрятала монету. В ведре плескались нечистоты. «Benedicite!» — подумала Джоанна, не сомневаясь, что мальчик заболел от грязной воды. Но если источник воды в таких развалинах, у его матери нет выбора. Она вынуждена пользоваться грязной водой Тибра, чтобы не умереть от жажды. Теперь на Джоанну и ее свиту обратили внимание и другие обитатели трущоб. Люди, окружив их, приветствовали нового Папу. Джоанна старалась прикоснуться к ним, раздавая благословение. Но вскоре толпа так увеличилась, что стало трудно передвигаться. Джеральд приказал гвардейцам оттеснить людей, чтобы папская процессия могла вернуться на Виа Лата, на солнечный свет и свежий воздух Капитолийского холма.
— Нужно перестроить акведук Марса, — сказала Джоанна на следующее утро при встрече с верховным духовенством. Премицерий Паскаль удивленно поднял брови. — Реставрация христианских сооружений была бы более достойным началом правления, ваше святейшество. — Какая польза беднякам, если церквей станет больше? — возразила она. — В Риме их предостаточно. Но отремонтированный акведук спасет немало жизней. — Проект рискованный, — заметил эконом Виктор. — Вполне возможно, что он неосуществим. Отрицать этого Джоанна не могла. Перестройка акведука, вероятно, невозможна при его нынешнем плачевном состоянии. Древние книги, содержавшие сведения о таких сложных сооружениях, уничтожены столетия назад. Пергаменты с драгоценными чертежами и описанием выскоблены и исписаны христианскими текстами, житиями святых и мучеников. — Надо попытаться, — решительно сказала Джоанна. — Нельзя, чтобы люди жили в таких ужасных условиях. Все молчали, но это не означало согласия. Верховное духовенство понимало, что бессмысленно возражать, если Святейший так решительно вознамерился осуществить этот проект. Через минуту Паскаль спросил: — Кто, по вашему мнению, может возглавить строительство? — Джеральд, — ответила Джоанна. — Главнокомандующий? — удивился Паскаль. — Кто же еще? Он руководил строительством Стены Льва. Многие не верили в успех этого дела. Через неделю после коронации Джоанна заметила, что Джеральд несчастен. Постоянно находиться рядом было трудно для них обоих. Она, по крайней мере, занималась важными делами, ясно понимала свою миссию и предназначение. Джеральд же скучал и нервничал. Джоанна знала об этом. Они и прежде без слов, понимали друг друга. Когда Джеральд однажды подошел к ней, она рассказала ему о своей идее перестройки акведука Марса. Он задумчиво нахмурился. — Возле Тиволи акведук уходит под землю, его тоннели проходят под несколькими холмами. Если в этом месте он разрушен, восстановить его будет нелегко. Джоанна улыбнулась: значит, Джеральд размышляет над ее проектом, учитывая все проблемы, связанные с ним. — Если это можно осуществить, только ты справишься с такой задачей. — Ты уверена, что хочешь именно этого? — Джеральд смотрел на нее не в силах скрыть охватившую его страсть. Джоанна ответила ему таким же взглядом, но не осмелилась дать волю своим чувствам. Близость с ним даже теперь, когда они наедине, стала бы катастрофой. Как бы между прочим, она ответила: — Не знаю ничего, что принесло бы людям большую пользу. — Хорошо, но имейте в виду, я ничего не обещаю. Постараюсь привести акведук в рабочее состояние. — Это все, что мне нужно. Джоанна по-новому осознала, что значило быть Папой. Она обладала огромной властью, но положение ко многому обязывало ее. Много времени Джоанна посвящала литургиям. В День Вхождения Иисуса Христа в Иерусалим она благословляла пальмовые ветви и раздавала их перед базиликой Святого Петра. В Великий Четверг омывала ноги бедным и прислуживала им за столом. В праздник Святого Антония стояла перед кафедральным собором Святой Марии Маджиоре и окропляла святой водой ослов, лошадей и мулов, приведенных для этого их владельцами. На третий день Рождественского поста Джоанна возлагала руки на каждого, кто постригался в священники. Приходилось ежедневно служить мессу. В определенные дни перед престольными праздниками процессия шла через город к церкви, где должна была состояться служба, останавливаясь по пути, чтобы выслушать просителей, поэтому процессия и служба занимали весь день. Таких престольных служб насчитывалось более девяноста, включая праздники Святой Девы Марии, постные дни, Рождественские службы, праздничные службы во время Великого Поста и большую часть воскресных дней и праздников во время других постов. Каждый из христианских праздников отмечали не менее четырех дней. Всего их насчитывалось более ста семидесяти, и все они требовали сложных и продолжительных церемоний. У Джоанны оставалось совсем мало времени для управления и для того, чтобы улучшить жизнь бедняков и повысить образование священников. В августе напряженная литургическая жизнь была прервана собранием синода. В Рим съехались шестьдесят семь прелатов, включая всех провинциальных епископов, а также франкских епископов, присланных королем Лотаром. Два вопроса, представленных на рассмотрение синода, имели для Джоанны особое значение. Прежде всего внедрение в практику погружения евхаристического хлеба в вино, а не причащение Святыми Дарами по отдельности. За двадцать лет, минувших с того дня, когда Джоанна предложила осуществить это в Фульде, чтобы предотвратить эпидемию, идея приобрела популярность, а в земле франков это стало традицией. Римские священники, конечно не знавшие о том, что именно Джоанна ввела эту методику, отнеслись к ней с подозрением. — Это нарушение Божественного закона, — негодовал епископ Касгельский. — Ибо в Святом Писании ясно сказано, что Христос дал тело Свое и кровь Свою апостолам отдельно. Все закивали. — Епископ говорит истину, — сказал Пото, епископ Тревильский. — О подобной практике не упоминают писания Апостолов, следовательно, она должна быть запрещена. — Неужели нужно отказаться от идеи только потому, что она новая? — спросила Джоанна. — Мы во всем должны руководствоваться мудростью древних, — мрачно ответил Пото, — тем, что проверено веками. — Старое когда-то было новым, — заметила Джоанна. — Новое всегда предшествует старому. Не глупо ли искоренять то, что чему-то предшествует, и поощрять то, что за чем-то следует? Пото нахмурился, пытаясь постичь столь сложную диалектику. Подобно большинству его коллег, он не умел вести классические дебаты, полагаясь на цитаты из авторитетных авторов. Обсуждали это долго. Джоанна, конечно, могла бы навязать свою волю декретом, но предпочла тирании убеждение. Ей все-таки удалось убедить епископов. Обряд погружения отныне будут совершать в земле франков, хотя бы в ближайшее время. Следующий вопрос касался самой Джоанны, поскольку речь шла о ее старом друге Готшалке, монахе, которому она когда-то помогла обрести свободу. Франкский епископ доложил, что у Готшалка снова возникли неприятности. Новость опечалила, но не удивила Джоанну. Теперь против Готшалка выдвинули серьезное обвинение в ереси. Рабан Мор, аббат Фульды, став архиепископом Майнца, прослышал, что Готшалк распространяет радикальные теории. Желая отомстить своему давнему противнику, архиепископ приказал заключить Готшалка под стражу и жестоко избить. Джоанна нахмурилась. Жестокость, с которой такие якобы благочестивые люди, как Рабан, обращались со своими братьями-христианами, всегда поражала ее. Язычники-норманны пробуждали в них меньшую ярость, чем верующие христиане, посмевшие хотя бы слегка отступить от строгих доктрин Церкви, «Почему мы более всего ненавидим ближних?» — думала она. — В чем сущность этой ереси? — спросила она Вулфрама, главу франкской церкви. — Прежде всего монах Готшалк утверждает, что Бог разделяет людей на тех, кто должен жить, и тех, кто обречен на гибель. Во-вторых, что Христос умер на кресте не за всех людей, а только за избранных. И, наконец, будто падшие люди умеют лишь сострадать и не проявляют свободу воли ни в чем, кроме зла. «Вполне в духе Готшалка», — подумала Джоанна. Убежденный пессимист, он закономерно придет к теории о неотвратимости судьбы. Но в его идеях не было ничего еретического и особенно нового. Блаженный Августин говорил то же самое в своих великих работах De civitate Dei и Enchiridion. Однако никто из собравшихся не знал этого. Хотя многие и ссылались на Августина, едва ли кто-то потрудился почитать его работы. Нигротий, епископ Ананский, поднялся и сказал: — Это гибельное и греховное отступничество. Ибо хорошо известно, что воля Божья предопределяет судьбы избранных, но не проклятых. Такой довод имел серьезный изъян, поскольку предопределение судьбы одной группы людей, неизбежно ведет к предопределению другой. Но Джоанна умолчала об этом, поскольку проповеди Готшалка вызывали сомнения и у нее. Опасно убеждать людей в том, что они не заслужат спасения, если не поддадутся греху и последуют принципам справедливости. В конце концов, зачем творить добро, если на небесах все предопределено заранее? Вслух Джоанна произнесла: — Я согласен с мнением Нигротия. Божья милость это не предопределенный выбор, но сила Его любви, распространяющаяся на все живущее. Епископам понравился ее ответ, поскольку он совпадал с их точкой зрения. Было принято единодушное решение опровергнуть теории Готшалка. Однако побуждаемые Джоанной, они также осудили архиепископа Рабана за «жестокое и нехристианское» отношение к заблудшему монаху. Синод принял сорок два канона, в основном относящиеся к реформе церковной дисциплины и образования. В конце недели собрание синода завершилось. Все согласились с тем, что заседания прошли успешно, а Папа Иоанн председательствовал с необычайным достоинством. Римляне гордились, что их духовный лидер наделен такими исключительными знаниями.
Однако синод не долго симпатизировал Джоанне. В следующем месяце все церковное сообщество потрясло ее решение открыть школу для женщин. Даже представители папской партии, поддержавшие Джоанну на выборах, были шокированы; какого Папу они возвели на престол? Джордан, секундицерий, публично выступил против Джоанны по этому вопросу во время еженедельной встречи оптиматов. — Ваше святейшество, — сказал он, — вы совершаете большую ошибку, пытаясь обучать женщин. — Почему? — спросила Джоанна. — Вы сами знаете, ваше святейшество, что размеры женского мозга и ее матки обратно пропорциональны, следовательно, чем больше учится женщина, тем меньше вероятность, что она сможет рожать детей. «Лучше бесплодие тела, чем ума», — подумала Джоанна, но ограничилась вопросом: — Где вы это вычитали? — Это общеизвестно. — Настолько общеизвестно, наверное, что никто не удосужился записать и дать возможность всем научиться этому. — Незачем учиться тому, что и так очевидно. Никто не писал о том, что шерсть получают от овец, но все знают об этом. Все улыбнулись. Джордан даже приосанился, довольный своим остроумным ответом. — Если то, что вы говорите правда, не объясните ли чрезвычайную плодовитость столь образованных женщин, как Лета, которая переписывалась со святым Джеромом, и, по его свидетельствам, благополучно родила пятнадцать здоровых детей? — Отклонение от нормы! Редкий случай исключения из правила. — Насколько я помню, Джордан, ваша сестра Джулиана умеет читать и писать. Джордан растерялся. — Совсем немного, ваше святейшество. Не более чем необходимо для ведения домашнего хозяйства. — Тем не менее, согласно вашей теории, учение даже в малом объеме плохо влияет на плодовитость женщины. Сколько детей у Джулианы? Джордан покраснел. — Двенадцать. — Еще одно отклонение от нормы? Наступило долгое неловкое молчание. — Очевидно, ваше святейшество, — быстро отозвался Джордан, — вы решили этот вопрос. Поэтому я умолкаю. Он так и сделал, по крайней мере на заседании.
— Не стоило унижать Джордана публично, — заметил позже Джеральд. — Он может сблизиться с Арсением и сторонниками империи. — Но он не прав, Джеральд, — не унималась Джоанна. — Женщины так же способны к учению, как и мужчины. Разве я сама не доказала этого? — Да, конечно, но людям нужно время. Мир нельзя переделать за один день. — Мир никогда не будет переделан, если никто не попытается изменить его. Изменения должны когда-то начаться. — Верно. Но не теперь, не здесь… не тебе начинать их. — Почему же не мне? «Потому что я тебя люблю и боюсь за тебя», — хотелось сказать ему, но вместо этого он произнес: — Ты не должна наживать врагов. Забыла, кто ты и что ты? Я могу защитить тебя от многого, Джоанна… но только не от тебя самой. — Конечно… все не так серьезно. Неужели мир рухнет, если несколько женщин научатся читать и писать. — Твой старый учитель… Эскулапий, не так ли? Что он сказал тебе однажды? — Некоторые идеи опасны. — Вот именно. Воцарилось долгое молчание. — Хорошо, — уступила она. — Поговорю с Джорданом и постараюсь успокоить его. И обещаю впредь быть осторожнее. Но школа для женщин очень важна. Я не отступлюсь от своего решения. — А я и не думал, что ты отступишься. — Джеральд улыбнулся.
Школу для женщин официально открыли в сентябре. Джоанна назвала ее школой Святой Екатерины в память о своем любимом брате, который первым познакомил ее с ученой святой. Всякий раз, проходя мимо небольшого здания на Виа Мерулана, она слышала девичьи голоса, и сердце ее ликовало от радости. Слово, данное Джеральду, она сдержала. С Джорданом и другими оптиматами она держалась предельно дипломатично и ласково. Ей даже удалось промолчать, когда верховный священник Цитронат сказал на проповеди, что при воскресении «несовершенство» человечества будет преодолено, ибо все возродятся мужчинами! Вызвав к себе Цитроната, Джоанна осторожно предложила ему исключить эти строки из его проповеди, чтобы произвести лучшее впечатление на женскую часть прихожан. Это замечание Цитронат воспринял доброжелательно и даже был польщен вниманием Папы. Он никогда больше не повторял этой мысли в своих проповедях. Терпеливо и смиренно Джоанна служила ежедневные мессы, выслушивала просителей, проводила обряды крещения и рукоположения. И длинные холодные осенние дни проходили вполне обычно.
В середине ноября небо потемнело и на весь день зарядил сильный дождь. Он обрушился на черепичные крыши с такой силой, что люди зажимали уши, лишь бы не слышать страшного шума. Древняя канализационная система города вскоре переполнилась, вода стала собираться на улицах, образуя огромные лужи; стремительные потоки превратили базальтовые мостовые в скользкие дороги. Дождь лил не переставая. Вода в Тибре поднялась, вышла из берегов, затопила поля, размывая посевы и унося скот. В пределах крепостных стен города более других пострадал район Марса, где проживало самое бедное население. Как только вода начала подниматься, кое-кто перебрался на возвышенное место, но многие остались в низине, не подозревая о том, какие последствия их ждут из-за того, что они не решились покинуть дома и бросить скудные пожитки. Вскоре ситуация ухудшилась. Вода поднялась выше человеческого роста, и у людей уже не было возможности спастись. Сотни людей оказались на небольшом островке. Если бы вода продолжала прибывать, они все утонули бы. В таких условиях Папа обычно удалялся в Латеранский собор и молился о спасении города, простершись пред алтарем. К удивлению и ужасу священников, Джоанна поступила иначе: она призвала Джеральда, чтобы обсудить план спасения людей. — Что можно сделать? — спросила она его. — Должен быть какой-то способ спасти людей. — Улицы вокруг района Марса полностью затоплены. Добраться туда можно только на лодках. — А как насчет лодок на причале у Рипа Гранде? — Эти легкие рыбацкие ялики для такой воды не годятся. — Стоит попробовать, — нетерпеливо возразила Джоанна. — Нельзя равнодушно наблюдать, как гибнут люди! Джеральда охватила нежность к ней. Ни Сергий, ни даже Лев не проявили бы столько заботы о людях, живущих в районе Марса. Джоанна была другая, она не видела различия между бедными и богатыми, считая, что все люди заслуживали ее заботы и внимания. — Надо срочно вызвать гвардию, — сказал он. Они отправились в док Рипа Гранде, где Джоанна, воспользовавшись своим авторитетом, приказала собрать все лодки, способные держаться на воде. Джеральд и его люди сели в лодки. Джоанна произнесла несколько напутственных слов и благословила их, стараясь говорить громко, чтобы шум дождя не заглушил ее слов. Потом она удивила всех, забравшись в одну из лодок вместе с Джеральдом. — Что ты делаешь? — встревожился он. — А на что это похоже? — Ты же не собираешься отправиться с нами? — Почему бы и нет? Он смотрел на нее, как на безумную. — Это слишком опасно! — Я нужна там, куда иду. Первосвященник Евстафий сердито смотрел на Джоанну с причала. — Ваше святейшество, вспомните о своем высоком положении! Вы же верховный Папа, Епископ Римский. Неужели вы готовы рисковать жизнью ради нескольких нищих? — Они дети Божьи, Евстафий, такие же, как вы и я. — Но кто будет молиться за них? — печально осведомился он. — Вы, Евстафий. Делайте это усердно, потому что нам нужны ваши молитвы. — Джоанна нетерпеливо обратилась к: Джеральду: — Теперь, главнокомандующий, извольте сесть на весла или это сделать мне? Увидев упрямый огонь в серо-зеленых глазах, Джеральд взялся за весла. Спорить было некогда, поскольку вода быстро прибывала. Он начал мощно грести, и лодка отошла от причала. Евстафий что-то крикнул им вдогонку, но ветер и шум дождя заглушил его. «Флотилия» направилась в сторону района Марса, Вода сильно поднялась. От Порта Септимания до подножья Капитолийского холма были затоплены все церкви и дома. Колонна Марка Аврелия наполовину ушла под воду, волны плескались у верхних дверей Пантеона. Приблизившись к району Марса, они увидели свидетельства страшной разрушительной силы наводнения. Повсюду плавали деревянные обломки, остатки разрушенных домов; тела утопленников уносило течением. Испуганные обитатели уцелевших лачуг перебрались на крыши. Они протягивали руки, призывая на помощь. Лодки распределились между домами, по одной или по две у каждого. Волны мешали удерживать их. Одни люди в панике выпрыгивали из окон слишком рано и, пролетая мимо них, поднимали волну. Другие прыгали слишком близко к краю лодок, переворачивая их. В воде тоже царила неразбериха, те, кто не умел плавать, отчаянно цеплялись за тех, кто держался на воде, а гребцы огибали их, стараясь не перевернуться. Заполненные лодки, направлялись в сторону Капитолийского холма, где людей высаживали на берег. Отсюда было легче перебраться в безопасное место. Затем флотилия возвращалась обратно спасать оставшихся людей. Лодки сновали туда и обратно, промокшие до костей, гребцы работали на износ, изнывая от усталости. Наконец, показалось, что спасены все. На пути к Капиталийскому холму Джоанна услышала детский крик, зовущий на помощь. Повернувшись, она увидела в одном из окон силуэт маленького мальчика. Возможно, он спал и только теперь проснулся или был слишком испуган, чтобы подойти к окну раньше. Джоанна и Джеральд взглянули друг на друга. Не говоря ни слова, Джеральд развернул лодку и направив ее к дому, подогнал под окно, в котором был мальчик. Джоанна встала, протянув руки. — Прыгай! — крикнула она. — Прыгай, я поймаю тебя! Мальчик остался на месте, глядя широко распахнутыми испуганными глазами на лодку, качающуюся внизу. Она пристально смотрела на ребенка, пытаясь заставить его пошевелиться. — Прыгай немедленно! Мальчик осторожно перекинул ногу через подоконник. Джоанна потянулась к нему. В этот момент раздался оглушающий грохот. Северные ворота стены Аурелия, Постерула-Санта-Агата, рухнули под напором воды. Тибр ворвался в город. Джоанна увидела, как мальчик от ужаса открыл рот, потому что все здание начало разваливаться на части. В тот же момент она почувствовала, как лодка под ней поднялась и завертелась, подхваченная потоком. Джоанна вскрикнула, схватившись за борт лодки, готовой перевернуться в любой момент. Вода хлынула через борта. Подняв голову, она мельком взглянула на Джеральда, склонившегося над веслом. Вдруг лодку тряхнуло и Джоанну отбросило в сторону. Какое-то время она лежала, не понимая, где находится. Наконец, осмотревшись, увидела стены, стол, стулья. Она была в комнате. Мощная волна внесла лодку через окно. Джеральд лежал в лодке ничком. Джоанна подползла к нему. Он был без сознания и не дышал. С трудом вытащив Джеральда из лодки на пол, она перевернула его на живот и начала давить на спину, чтобы вытолкнуть воду из легких. «Он не должен умереть. Бог не может быть так жесток». Но вспомнив про обреченного мальчика, поняла, что Бог способен на все. Надавить, отпустить, надавить, отпустить. Изо рта хлынула вода. Слава Богу! Он задышал! Джоанна внимательно осмотрела его. Кости целы, никаких открытых ран. На лбу, у самых волос, большой синяк. Удар пришелся именно сюда. Вероятно, именно от этого Джеральд потерял сознание. «Он должен прийти в себя», — подумала она. Но Джеральд по-прежнему оставался в обмороке: бледная, влажная кожа, неглубокое дыхание, слабый и учащенный пульс. Что случилось? Джоанна испугалась. Что же ей делать? «Шок при сильной травме может убить человека пронизывающим холодом», — слова Гиппократа, которые однажды спасли Готшалка, снова вспомнились ей. Надо срочно согреть Джеральда. Через дыру в стене, куда влетела лодка, дул сильный ветер и тянуло холодом. Поднявшись, Джоанна обыскала небольшое помещение. За первой комнатой находилась вторая, поменьше, без окон, а потому более теплая и сухая. И посередине комнаты стояла небольшая железная жаровня с несколькими головешками. Рядом на полке нашлось огниво и ветошь для разжигания огня. В угловом шкафу она обнаружила шерстяное одеяло, ветхое, но сухое. Вернувшись в переднюю комнату, Джоанна подхватила Джеральда подмышки, перетащила в маленькую комнату и уложила рядом с жаровней. Когда она разводила огонь, ее руки так дрожали, что она едва высекла искру. Солома разгорелась, огонь охватил головешки. Отсыревшее дерево зашипело, не желая разгораться. Наконец появились слабые язычки пламени, но сквозняк из соседней комнаты загасил их. Джоанна в отчаянии смотрела на холодные поленья. Ветоши больше не осталось, значит огня не раздобыть. Джеральд все еще не пришел в себя, кожа его приобрела синеватый оттенок, глаза запали. Оставалось только одно. Джоанна быстро сняла с него мокрую одежду, обнажив его стройное мускулистое Тело с несколькими боевыми шрамами, и закутала в шерстяное одеяло. Она встала и, дрожа на холодном ветру, начала раздеваться: сняла фелонь, далматик, нижние одежды, стихарь, палий и пояс. Раздевшись донага, Джоанна залезла под одеяло и прижалась к Джеральду. Она обняла его, согревая своим теплом, вдыхая в него силу и жизнь. «Не сдавайся, Джеральд, мой родной! Борись!» Закрыв глаза, Джоанна усилием воли пыталась установить с ним связь. Мир перестал существовать. Не было ни маленькой комнаты, ни погасшего огня, ни лодки, ни бури. Существовали лишь они. Они выживут или умрут. Веки Джеральда затрепетали, по телу прошла дрожь. Взмахнув руками, словно отбрасывая невидимую вуаль, он очнулся. Его синие глаза смотрели на Джоанну без удивления. Он знал, что она рядом с ним. — Жемчужинка моя, — прошептал он. Они долго лежали молча. Затем Джеральд прижал ее к себе, и его пальцы коснулись шрамов на ее спине. — Следы от плетки? — тихо спросил он. — Да, — покраснела она. — Кто это сделал? Джоанна рассказала о побоях отца, когда она отказалась уничтожить книгу Эскулапия, Джеральд слушал стиснув зубы. Склонившись над ней, он поцеловал каждый шрам. За многие годы Джоанна научилась управлять своими эмоциями, терпеть боль, не плакать. Теперь же слезы сами хлынули из глаз. Джеральд нежно обнимал ее, шепча ласковые слова, пока слезы не высохли. Потом он поцеловал ее губы, его ласка наполнила Джоанну теплом. Она обняла его и закрыла глаза, позволив себе забыться в сладкой истоме. «Боже милостивый! — подумала она. — Я не знала! Не знала!» Неужели от этого предостерегала ее мама, от этого бежала она все эти годы? Это была не капитуляция, но восхитительное, волшебное познание себя, молитва не слов, но глаз, рук, губ, всего тела. — Я люблю тебя! — воскликнула Джоанна в момент восторга, и слова эти были священны.
В большом зале дворца Арсений ждал новостей вместе с оптиматами и членами высшего духовенства Рима. Впервые услышав о том, что совершил Папа Иоанн, Арсений с трудом поверил в это. Но чего еще можно ждать от чужеземца, к тому же простолюдина. Радоин, второй командир папской гвардии, вошел в зал. — Какие новости? — нетерпеливо спросил премицерий Паскаль. — Нам удалось спасти несколько десятков обитателей трущоб, — сказал Радоин. — Но боюсь, его святейшество пропал. — Пропал? — тихо повторил Паскаль. — Что ты имеешь ввиду? — Он был в лодке с главнокомандующим. Мы думали, они следуют за нами, но, должно быть, они повернули обратно, чтобы спасти кого-то еще. Это было как раз перед тем, как рухнули ворота Святой Агаты, подняв огромную волну. Раздались тревожные, испуганные возгласы. Некоторые прелаты перекрестились. — Есть ли надежда на их спасение? — спросил Арсений. — Никакой, — ответил Радоин. — Сильный поток смыл все на своем пути. — Господи, помилуй их, — мрачно произнес Арсений, стараясь не выказать радости. — Отдать ли приказ, чтобы объявили траур? — осведомился первосвященник Евстафий. — Нет, — ответил Паскаль. — Не стоит спешить. Иоанн Богом избранный Папа. Возможно, Господь сотворит чудо и спасет его. — Пожалуй, нужно вернуться и поискать их, — предложил Арсений, желая убедиться, что трон Святого Петра опять свободен. — После падения северных ворот на территорию невозможно пройти. Мы ничего не сможем сделать, пока не спадет вода, — ответил Радоин. — Тогда будем молиться, — сказал Паскаль. Все, склонив головы, присоединились к нему. Арсений повторял заученные слова, но мысли его были заняты другими вопросами. Если Папа Иоанн погиб при наводнении, у Анастасия появился новый шанс занять престол. Теперь он использует всю свою власть, чтобы кандидатура его сына прошла на выборах. — …et metuant eum omnefines terrae. Amen! — Аминь! — повторил Арсений. Он с нетерпением ждал новостей.
* * *
Проснувшись утром, Джоанна улыбнулась. Джеральд спал рядом с ней. Она медленно обвела глазами строгое, гордое и красивое лицо. Таким Джоанна запомнила его, впервые увидев, когда он сидел за банкетным столом двадцать восемь лет назад. «Неужели я знала уже тогда, — подумала она, — в самый первый миг? Неужели я знала тогда, что люблю его?» Наконец, она призналась себе в том, что так долго отрицала: Джеральд часть ее, он принадлежал ей каким-то непостижимым образом, и это невозможно ни объяснить, ни отрицать. Они — тонкие натуры, две половинки одного целого, которое никогда не будет гармоничным без обеих частей. Джоанна не стала размышлять над последствиями этого удивительного открытия. Ей было достаточно жить моментом и испытывать счастье от того, что она здесь, с ним. Будущего не существовало. Джеральд лежал на боку, слегка приоткрыв рот. Длинные, рыжие волосы разметались по подушке. Когда он спал, он казался почти мальчиком. Переполненная невыразимой нежностью, Джоанна ласково убрала с его щеки локон. Джеральд открыл глаза и посмотрел на Джоанну с такой любовью, что у нее перехватило дыхание. Он открыл объятия, и она прильнула к нему. Они снова задремали, обняв друг друга. Вдруг Джоанна вздрогнула, услышав странный звук. Она замерла, прислушиваясь. Все было тихо. Затем она поняла, что проснулась не от шума, а от тишины. Дождь уже не стучал по крыше. Джоанна встала и подошла к окну. Серое небо заволокло тучами, но впервые за десять дней появились голубые просветы, освещенные солнцем, пробивающимся сквозь облака. «Слава Богу, — подумала она. — Теперь наводнение прекратится». Джеральд подошел к Джоанне и обнял ее. Она прижалась к нему, наслаждаясь его близостью. — Как ты думаешь, они скоро за нами прибудут? — спросила она. — Очень скоро, поскольку дождь прекратился. — О, Джеральд! — Она спрятала лицо у него на плече. — Я никогда не была так счастлива и так несчастна. — Знаю, сердце мое! — Мы никогда уже не сможем быть вместе так, как теперь. Он погладил ее светлые волосы. — Нам не обязательно возвращаться, ты это знаешь. Джоанна удивленно взглянула на него. — Что ты имеешь в виду? — Никто не знает, что мы здесь. Если мы не откликнемся, когда придут спасательные лодки, они уйдут ни с чем. Через день или два, когда вода спадет, мы ночью убежим из города. Нас никто не станет преследовать, все решат, что мы оба погибли во время наводнения. Мы обретем свободу и независимость… и будем вместе. Она молча смотрела в окно. Джеральд ждал ее ответа, от которого зависели его жизнь и счастье. Джоанна повернулась к нему. Глядя в эти грустные серо-зеленые глаза, Джеральд понял, что потерял ее. — Я не могу уйти от великой ответственности, возложенной на меня. Люди верят мне. Я не брошу их. Сделав это, я стану другим человеком, не тем, которого ты любишь. Джеральд знал, что никогда не будет иметь над ней больше власти, чем сейчас. Если он обнимет и поцелует Джоанну, она, может быть, согласится уйти с ним. Но это будет несправедливо. Даже если она согласится, это не продлится долго. Он не вправе убедить ее сделать то, о чем она потом пожалеет. Джоанна должна отдаться ему по собственной воле, или этого не произойдет никогда. — Понимаю, — сказал он. — И больше не стану принуждать тебя. Но хочу, чтобы ты кое-что знала. Скажу это только раз. Ты моя единственная жена на этом свете, а я твой единственный муж. Что бы ни случилось, сколько бы ни прошло времени и как бы ни обошлась с нами судьба, так будет вечно. Они оделись, чтобы быть готовыми, когда подоспеет помощь. Потом они сидели рядом, обнявшись. Джоанна положила голову на плечо Джеральда. Они так и сидели, когда подошла помощь.* * *
Когда их везли в лодке в сторону дворца, Джоанна не поднимала головы, словно молилась. Под пристальными взглядами гвардейцев она не смела посмотреть на Джеральда, не зная, сможет ли сдержать чувства. По прибытии они были сразу же окружены радостной толпой. Лишь однажды, в последний раз, они взглянули друг на друга, перед тем как их торжественно развели в разные стороны дворца. (обратно)Глава 28

Ее прозвали народным Папой. Снова и снова рассказывали истории о том, как Папа покинул свой дворец во время наводнения, и, рискуя жизнью, спасал людей. Когда бы Джоанна ни появлялась в городе, ее радостно приветствовал народ. Путь Джоанны всегда был усыпан благоуханными лепестками аканта, а из каждого окна ее благословляли. Любовь народа давала ей силы и умиротворение, и она посвящала себя людям со все большей страстью. Оптиматы и высшее духовенство, напротив, пришли в ужас от выходки Джоанны во время наводнения. Папа Римский бросается на спасение бедняков. Это было недостойно папского звания! Высшее духовенство относилось к ней все более настороженно. Подозрительность усиливалась из-за того, что она была чужестранкой, а они коренными римлянами, она верила в силу разума и учения, они — в силу святых реликвий и божественного чуда; она придерживалась передовых взглядов, они, скованные привычкой и традициями, проявляли консерватизм. Многие из них служили церкви с детства. Повзрослев, они привыкали к латеранской традиции и не терпели изменений. В их сознании укоренились представления о том, что правильно, и что неправильно, и они следовали только тому, что считали правильным. Понятно, что всем им очень не нравился стиль правления Джоанны. Когда бы она ни выявляла проблему — необходимость открытия приюта, несправедливость и взяточничество чиновников, недостаточные продуктовые поставки — она сразу же старалась решить ее. Джоанна часто сталкивалась с противостоянием папской бюрократии, с огромной и неуклюжей системой управления, за несколько столетий превратившейся в лабиринт. Существовали сотни департаментов, и каждый имел свою иерархию и собственные ревниво охраняемые обязанности. Пытаясь что-то сделать, Джоанна искала возможность обойти сложности неэффективной системы. Когда у Джеральда закончились деньги на строительство акведука, она взяла средства из казны, миновав обычную процедуру подачи прошения в казначейство. Арсений, всегда готовый воспользоваться любым ее промахом, постарался извлечь пользу из этой ситуации, Отыскав Виктора, эконома, он поставил вопрос с политической виртуозностью. — Опасаюсь, что его святейшество не вполне понимает наши римские правила. — Но он и не может понимать их, поскольку не рожден римлянином, — уклончиво ответил Виктор. Как человек осторожный, он никогда не выдавал своих мыслей, пока Арсений не раскрывал своих. — Меня потрясло, когда я услышал, что он взял деньги из казны, не заручившись вашим согласием. — Это несколько… не соответствует… — согласился Виктор. — Не соответствует! — воскликнул Арсений. — Мой дорогой Виктор, на вашем месте я бы не был столь благодушным. — Нет? — Будь я на вашем месте, я позаботился бы о своих тылах. Виктор заинтересовался. — Вы что-нибудь слышали? — спросил он. — Его святейшество собирается сместить меня? — Кто знает? Возможно, он просто хочет упразднить должность эконома, чтобы брать из казны столько, сколько ему нужно, не отвечая ни перед кем. — Он никогда не посмеет! — Неужели? Виктор промолчал. Арсений плел свою интригу. — Боюсь, избрав Иоанна, мы совершили ошибку. Серьезную ошибку, — заметил Арсений. — Эта мысль приходила мне в голову, — признался Виктор. — Некоторые идеи его святейшества… к примеру, школа для женщин… — Виктор покачал головой. — Пути Господни неисповедимы. — На престол Иоанна возвел не Бог, Виктор, это сделали мы. И мы же можем его сместить. Это было слишком. — Иоанн — служитель Бога, — встревожился Виктор. — Допускаю, что он… странный. Но сместить его силой? Нет… нет… — Ну, ну, возможно, вы правы. — Арсений понял, что продолжать бесполезно. Но он посадил зерно и знал, что скоро оно прорастет.
С того момента, как они расстались после наводнения, Джеральд не виделся с Джоанной. Строительство акведука переместилось в Тиволи, расположенном в двадцати милях от города. Джеральд был очень занят, следил за строительством, управлял рабочими. Часто он сам включался в работу, помогая поднимать тяжелые камни и покрывать их известковым раствором. Рабочие удивлялись, когда главнокомандующий выполнял такую тяжелую работу, но Джеральду она нравилась, потому что физическая нагрузка заглушала мучительную тоску. «Было бы лучше, — думал он, — если бы мы никогда не знали друг друга, как мужчина и женщина. Возможно, тогда нам удалось бы жить как прежде. Но теперь…» Ему казалось, что прежде он жил словно слепой. Все дороги, по которым путешествовал Джеральд, все опасности, которые пережил, все, что он делал, вело к Джоанне. Когда строительство акведука будет завершено, она захочет, чтобы Джеральд снова возглавил папских гвардейцев. Но быть рядом с ней каждый день, видеть ее и знать, что она недосягаема для него… это невыносимо. «Придется покинуть Рим, как только закончится работа над акведуком, — подумал он. — Вернусь в Беневенто и возглавлю армию Зиконалфа. Жизнь воина проста, враг всегда известен, а цель предельно ясна». Джеральд работал до изнеможения и заставлял так же работать строителей. Через три месяца строительство закончилось.
Восстановление акведука формально было приурочено к празднику Благовещения. Под предводительством Джоанны псаломщики, привратники, лекторы, экзорсисты, священники, кардиналы и епископы окружили массивные каменные арки. Торжественная процессия кропила их святой водой и распевала молитвы, псалмы и гимны. Процессия остановилась, и Джоанна произнесла несколько слов благословения. Она посмотрела туда, где в конце самой дальней арки в ожидании стоял Джеральд. Он был выше всех на целую голову. Она кивнула ему, и он, потянув рычаг, открыл шлюзы. Люди радостно зашумели, когда впервые за триста лет холодная, чистая вода ручьев Субьяко, находившихся в сорока пяти милях от города, потекла через район Марса.
Папский трон, исполненный в имперском стиле, был массивным, с высокой спинкой, богато украшенной резьбой по дубу и усыпанной рубинами, жемчугом, сапфирами и другими драгоценными камнями, — и столь же неудобный, сколь красивый. Джоанна сидела на нем уже пять часов, принимая нескончаемый поток просителей. Ей было неудобно, и она ерзала, пытаясь избавиться от усиливающейся боли в спине. Ювиан, старший дворецкий, назвал следующего просителя. — Магистр Милитум Даниэль. Джоанна нахмурилась, Даниэль, тяжелый, язвительный, вспыльчивый человек, был близким другом епископа Арсения. Его появление могло означать только неприятности. Даниэль вошел быстро, приветственно кивнув папским служащим. — Ваше святейшество! — Поклонившись он сразу приступил к делу. — Верно ли, что в марте, при рукоположении, вы намерены назначить Ницефора епископом Треви? — Да. — Он же грек! — возмутился Даниэль. — Какое это имеет значение? — Такое важное положение должен занимать римлянин. Джоанна вздохнула. Ее предшественники использовали епископат как политическое оружие, распределяя епископские места между родовитыми римскими семьями, Джоанне это не нравилось, ибо приводило к тому, что среди епископов было слишком много неграмотных, которые насаждали предрассудки и невежество. Как мог епископ правильно толковать слово Божье, не умея читать? — Такое важное положение, — спокойно ответила она, — должен занимать тот, кто лучше образован. Ницефор — человек глубоких знаний и благочестия. Он станет прекрасным епископом. — Вы так считаете, потому что вы чужеземец, — заметил Даниэль, употребив унизительное слово barbarus, а не более нейтральное peregrinus. Все присутствующие затаили дыхание. Джоанна посмотрела Даниэлю прямо в глаза. — Это не имеет отношения к Ницефору. Вы руководствуетесь личными мотивами, Даниэль, ибо желаете, чтобы епископом стал ваш сын Петр. — А почему бы и нет? — ответил Даниэль. — Петр отлично подходит для этой должности по происхождению и положению. — Но не по способностям, — отрезала Джоанна. Даниэль открыл рот от удивления. — Вы смеете… вы смеете… мой сын… — Ваш сын, — прервала его Джоанна, — даже не поймет, что текст перевернут, поскольку не знает латыни. Он заучил наизусть несколько фраз из Писания. Люди заслуживают большего. И в лице Ницефора они это получат. Даниэль оскорбился: — Запомните мои слова, ваше святейшество, еще неизвестно, чем все кончится. И он удалился. Джоанна подумала, что он пойдет прямо к Арсению, а тот, несомненно, найдет способ устроить новые неприятности. В одном Даниэль был прав, она не знала, чем все закончится. Внезапно Джоанна почувствовала невероятную усталость. Казалось, воздух в этой комнате без окон душил ее. Ее затошнило, закружилась голова. Она оттянула на шее палий, чтобы было легче дышать. — Господин главнокомандующий, — объявил Ювиан. Джеральд! Джоанна встрепенулась. Они не разговаривали с того дня, когда их спасли. Она надеялась, что он придет сегодня, но боялась встречи. Помня о внимательных взглядах присутствующих, Джоанна старалась скрыть свои чувства. Когда Джеральд вошел, ее измученное сердце дрогнуло. На его лице играл мерцающий свет лампад, освещая красивый лоб и скулы. Их глаза встретились, и на короткий миг показалось, что они в комнате одни. Он подошел и преклонил колено перед троном. — Встаньте, главнокомандующий, — сказала Джоанна. — Сегодня вы увенчаны славой. Весь Рим благодарен вам. — Спасибо, ваше святейшество. — Сегодня вечером мы торжественно отметим завершение строительства. Вы будете сидеть на почетном месте за моим столом. — Увы, сожалею, но не смогу присутствовать. Сегодня я покидаю Рим. — Покидаете Рим? — Джоанна растерялась. — Что вы имеете в виду? — Теперь, когда великое строительство, которое вы мне доверили, завершено, я слагаю с себя обязанности главнокомандующего. Принц Зиконалф просит меня вернуться в Беневенто и возглавить его армию. Я принял его предложение. Джоанна невозмутимо сидела на престоле, но ее руки вцепились в подлокотники. — Вы не сделаете этого, — резко произнесла она, — Я не разрешаю. Прелаты удивленно переглянулись. Отказаться от столь высокого поста, действительно, странно, но Джеральд свободный человек и волен служить там, где считает нужным. — Помогая Зиконалфу, я буду служить интересам Рима. Ведь владения Знконалфа — мощный бастион от лонгобардов и сарацинов. Джоанна стиснула зубы. Посмотрев на собравшихся, она сказала: — Оставьте нас. Ювиан и другие покорно покинули комнату. — Разве ты поступила мудро? — спросил Джеральд, когда они остались наедине. — Теперь могут возникнуть подозрения. — Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз, — Нервно ответила она. — Покидаешь Рим? О чем, в самом деле, ты думаешь? Но это не имеет значения, я не разрешаю тебе. Пусть Зиконалф найдет кого-то другого для своего войска. Ты нужен мне здесь. — О, жемчужинка моя! — ласково произнес Джеральд. — Мы же не можем смотреть друг на друга, не выдавая наших чувств. Один неосторожный взгляд, необдуманное слово, и твоя жизнь кончена! Я должен уйти, неужели ты не видишь? Джоанна понимала, о чем он говорит, даже отчасти была согласна с ним. Но его уход приводил ее в отчаянье. Джеральд — единственный, кто по-настоящему знает ее, на кого она полностью полагалась. — Без тебя я буду совершенно одинока, — сказала Джоанна. — Не уверена, что выдержу это. — Ты сильнее, чем тебе кажется. — Нет. — Она поднялась с трона, чтобы подойти к нему, но пошатнулась от головокружения. Джеральд сразу оказался рядом и подхватил под руку. — Ты не здорова! — Нет, нет, просто… переутомилась. — Ты слишком много работаешь. Тебе нужно отдохнуть. Пойдем, отведу тебя в твои апартаменты. Джоанна схватилась за него. — Обещай, что не уйдешь, пока мы снова не поговорим. — Конечно, я никуда не уйду. — Он озабоченно смотрел на нее. — Нет, не уйду. Пока тебе не станет легче.
Джоанна тихо лежала на кровати. «Неужели я действительно заболела? — думала она. — Если так, нужно выяснить причину и поскорее лечиться, пока не пронюхали Эннодий и другие врачи». Она размышляла, задавая себе вопросы, как своим пациентам. Когда появились первые симптомы? Джоанна вспомнила, что чувствует себя плохо уже несколько недель. Какие это симптомы? Усталость, скверный аппетит. Ощущение вздутия, особенно после пробуждения… Вдруг Джоанна испугалась. Она припоминала, когда были последние месячные. Два месяца назад, возможно, три. Джоанна была так занята, что не обратила на это внимания. Все симптомы сходятся, но убедиться можно лишь одним способом. Она наклонилась и достала ночную вазу, которая стояла на полу рядом с кроватью. Через некоторое время Джоанна дрожащими руками поставила ее на пол. Ошибки быть не могло. Она беременна. Анастасий сбросил бархатные туфли и улегся на диван. «Отличный день, — подумал он, довольный собой. — Да, день удался на славу». В то утро он блистал при королевском дворе, пленив Лотара и всю его свиту мудростью и знаниями. Император спросил мнение Анастасия о De corpore et sanguine Domini, трактате, вызвавшем столько споров среди местных богословов. Паскасий Радберт, аббат Корби, написавший его, выдвигал смелую теорию, что Евхаристия содержит истинное Тело и истинную Кровь Христа Спасителя. Не символические тело и кровь, но настоящую, историческую плоть, «которую родила Мария, плоть, которая страдала на кресте и воскресла из мертвых». — Что вы думаете, кардинал Анастасий? — спросил у него Лотар. — Действительно ли святое тело Христа символ или истина? — Символ, сир, — ответил Анастасий. — Поскольку это свидетельствует, что у Христа два тела: первое родила Мария, второе представлено символически в Евхаристии. «Нос est corpus meum», — сказал Христос о хлебе и вине во время тайной вечери. «Сие есть тело мое». Он еще был во плоти перед своими учениками, когда говорил это. Поэтому подчеркнул, что слова его имеют образный смысл. Сказано было так умно, что когда Анастасий закончил, ему зааплодировали. Император назвал его «новым Алкуином». Вырвав несколько волос из бороды, он подарил их Анастасию — знак величайшего признания варваров. Вспоминая блаженные мгновенья, Анастасий улыбнулся. Он налил вина из графина в серебряный кубок и взялся за письмо от отца. Вскрыв печать, он развернул прекрасный белый пергамент и стал читать с большим интересом. Анастасий задержался на эпизоде похищения с кладбища тел Святых Марцеяла и Петра. Нет, похищение тел из их склепов не было явлением необычным. На христианских кладбищах во всем мире постоянно поднималась шумиха вокруг святых реликвий, чтобы привлекать верующих чудесами. В течение веков римляне составили приличный капитал на этом, организовав торговлю ими. Паломники, приходившие нескончаемым потоком в Святой Город, готовы были выложить огромные суммы за палец Святого Дамиана, ключицу Святого Антония или ресницу Святой Сабины. Но тела Святых Марцелла и Петра не были проданы, их украли, вытащили ночью из могил и вывезли из города. Furta sacra — кража святынь — именно так назывались подобные преступления. Это необходимо было пресечь, потому что город лишался своих величайших сокровищ. «После такой ужасной кражи, — писал отец, — мы обратились к Папе Иоанну с просьбой удвоить число гвардейцев для охраны церковных дворов и кладбищ. Но он сказал, что гвардейцы больше нужны для охраны живых, чем мертвых». Анастасий знал, что Иоанн использовал гвардейцев на строительстве школ, приютов и домов для переселенцев. Он посвящал время и внимание мирским проектам, а также тратил на них большую часть папской казны, тогда как городские церкви оставались беззащитными. С того времени, как Иоанн занял папский трон, церковь его отца по5гучила всего лишь золотую лампу и серебряный канделябр. Между тем гордостью Рима всегда были именно многочисленные церкви, часовни, баптистерии и молельни. Если их постоянно не украшать и не совершенствовать, Рим не сможет соревноваться со своим соперником Константинополем, который теперь бесстыдно называл себя Новым Римом. Если… нет, Анастасий поправил себя… когда он станет Папой, все будет иначе. Он вернет Риму прежнее величие. Под его заботливым руководством церкви города снова засияют сказочной роскошью, превосходящей самые прекрасные дворцы Византии. Именно ради этого Господь привел его в мир. Анастасий снова начал читать письмо, но уже с меньшим интересом, потому что в последней его части речь шла о менее важных делах: список тех, кому предстоит рукоположение на предстоящую Пасху, наконец-то оглашен; его кузен Косьма снова женился, теперь на вдове епископа; некий Даниэль, начальник стражи, сильно расстроился из-за того, что вместо его сына епископом назначили какого-то грека. Анастасий сел на диване. Грек станет епископом! Его отец считал это подтверждением того, что Папа Иоанн крайне далек от римских традиций. Неужели он не заметил, какие возможности это открывает? «Это, — подумал Анастасий с нарастающим возбуждением, — именно тот шанс, которого я ждал». Наконец-то удача шла ему в руки. Он быстро поднялся, подошел к столу и стал писать: «Дорогой отец, получив это письмо, не теряйте времени даром, направьте магистра Даниэля ко мне».
Джоанна ходила по спальне. Как, спрашивала она себя, как могла я быть так слепа? Ей просто не пришло в голову, что она забеременеет. Джоанне уже перевалило за сорок, и детородный возраст давно прошел. Но мама была еще старше, когда рожала в последний раз. И умерла при родах. «Никогда не отдавайся мужчине…» Сердце Джоанны сжалось от страха. Она старалась успокоиться. В конце концов, то, что случилось с матерью, не обязательно случится с ней. Она сильная и здоровая, у нее есть все шансы выжить во время родов. Но даже если она выживет, что потом? Во дворце, этом суетливом улье, нельзя родить тайно, а тем более спрятать новорожденного. Несомненно, скрыть, что она женщина, не удастся. Какую казнь придумают за такое преступление? Никаких сомнений, это будет страшная казнь. Они могут выжечь ей глаза раскаленным железом и снять с нее кожу. Или ее медленно четвертуют и сожгут, пока она еще жива. Когда родится ребенок, ужасный конец неизбежен. Если это случится. Она положила руки на живот. Ребенок притаился. Нить жизни еще слишком тонка. Прервать ее несложно. Джоанна подошла к запертому шкафчику, где хранила свои снадобья. Сразу после рукоположения она перенесла их сюда, чтобы всегда иметь под рукой. Она перебрала всевозможные флакончики и бутылочки, пока не нашла то, что нужно. Джоанна растворила порцию спорыньи в чаше крепкого вина. В малых дозах это было хорошее лекарство, но в больших препарат мог вызвать самопроизвольный выкидыш. Впрочем, это не всегда срабатывало, и женщина сильно рисковала здоровьем, принимая такое зелье. Но у нее нет другого выбора! Если не прервать беременность, смерть ее будет ужасна. Джоанна поднесла чашу к губам. В голову пришли слова Гиппократа: искусство врачевания основано на доверии. Врач должен пользоваться своим искусством, чтобы помогать больным, собственным способностям и суждениям, но никогда не действовать во зло. Джоанна решительно отбросила эту мысль. Всю жизнь это женское тело было для нее источником неприятностей и боли, препятствовало всему, что она хотела делать и кем быть. Она не позволит ему отобрать у нее жизнь. Поднесла чашу к губам и выпила. «Не действовать во зло. Не действовать во зло. Не действовать во зло…» Слова обожгли ее сердце. С рыданием она бросила на пол пустую чашу, и та откатилась, каплей прочертив на полу красную линию.
Джоанна лежала в кровати и ждала, когда подействует спорынья. Время шло, но она ничего не чувствовала. «Не действует», — подумала она, испугавшись, но вместе с тем испытала большое облегчение. Сев на кровати, Джоанна заметила, что дрожит. Сердце бешено колотилось. Джоанна ощутила сильную боль. Она вертела головой из стороны в сторону, кусая губы, чтобы не закричать и не привлечь внимания папской прислуги. Еще несколько часов Джоанна провела в полусознании. Потом начались галлюцинации. Джоанне казалось, что рядом сидит мать, называя ее перепелочкой, и поет одну из своих саксонских песенок, как обычно, положив прохладные руки на ее раскаленный лоб. Перед рассветом она проснулась, слабая, вялая, и долго лежала неподвижно. Затем начала медленно обследовать себя. Пульс нормализовался, сердце билось ровно, кожа была нормального цвета, никаких кровавых выделений, никаких признаков нарушений. Джоанна пережила это испытание. Но и ребенок тоже.
Теперь она могла обратиться только к одному человеку. Когда Джоанна сказала Джеральду о своем положении, он поначалу не поверил. — Великий Боже! Неужели это возможно! — Очевидно, — сухо ответила Джоанна. Минуту Джеральд молчал, глядя на нее пристально и задумчиво. — Это и есть причина твоей болезни? — Да. — Она утаила от него, что пыталась избавиться от ребенка. Джеральд не понял бы ее. Нежно обняв Джоанну, он прижал ее к себе. Они долго стояли молча, переживая свои чувства. Наконец он тихо спросил: — Помнишь, что я сказал тебе в день наводнения? — Тогда мы многое говорили друг другу — ответила она, зная, что он имел в виду. — Я сказал, что ты моя единственная жена на земле и я твой единственный муж. Джеральд взял ее за подбородок, и она посмотрела ему в глаза. — Понимаю тебя больше, чем кажется, Джоанна. Знаю, как разрывается твое сердце. Но теперь судьба решила все за нас. Мы убежим отсюда и будем вместе, как и предназначено нам судьбой. Она знала, что он прав. Все дороги, открытые перед ней, теперь сошлись в одну узкую тропинку. Джоанне стало грустно и страшно, но вместе с тем она испытала странный восторг. — Можем уйти завтра, — предложил Джеральд. — Отпусти своего слугу на ночь. Когда все заснут, покинуть дворец несложно. Я буду ждать тебя у потайной двери с женским платьем, чтобы за городом ты переоделась. — Завтра! — Джоанна согласилась убежать, но не сразу осознала, что делать это нужно так срочно. — Но… они будут искать нас. — Когда они спохватятся, мы будем уже далеко. И они станут искать двух мужчин, а не простого странника и его жену. План был смелый, но вполне осуществимый. Тем не менее она не приняла его. — Не могу уйти прямо сейчас. Так много еще надо закончить, столько необходимо сделать. — Знаю, сердце мое, — нежно проговорил он. — Но выбора нет, пойми. — Подождем пока пройдет Пасха. Тогда я отправлюсь с тобой. — Пасха! Но это же почти через месяц! Ждать, пока кто-нибудь догадается о твоем положении? — У меня всего четыре месяца. Под этими одеждами можно скрывать беременность еще месяц. Джеральд нетерпеливо покачал головой. — Нельзя так рисковать, Ты должна исчезнуть, пока есть время. — Нет, — возразила Джоанна с той же уверенностью. — Не оставлю свой народ без Папы на самый святой день в году. «Она напугана и расстроена, — решил Джеральд, — поэтому не способна трезво мыслить». Ему пока придется остаться с ней, но постепенно он подготовит все для того, чтобы незаметно и быстро исчезнуть. При малейшей опасности, он спасет ее… возможно, даже применив силу. Когда наступила Великая Пасхальная ночь, тысячи людей собрались внутри Латеранского дворца и вокруг него на пасхальное бдение, крещение и мессу. Большая служба началась в субботу вечером и должна была продолжиться до пасхального утра. На пороге святого храма Джоанна зажгла пасхальную свечу и передала ее Дезитерию, архиепископу, который торжественно понес свечу в темную церковь. Джоанна и другие священнослужители последовали за ним, распевая lumen Christi, гимн, прославляющий Христа. Трижды процессияостанавливалась, пока Дезитерий зажигал свечи верующих от пасхальной свечи. Когда Джоанна приблизилась к алтарю, вся церковь осветилась тысячами огней. Они радостно мерцали, отражаясь на мраморе стен и колонн, символизируя тот свет, который Христос принес в мир. Дезитерий радостно запел, древний хорал, и прекрасная выразительная мелодия отозвалась в сердце Джоанны особенной остро. «Никогда больше не буду я стоять перед этим алтарем и не услышу этих сладостных звуков», — подумала она. От этой мысли ее охватила невыносимая тоска. Здесь, среди вдохновенного торжества искупления и надежды, Джоанна глубже всего почувствовала истинную веру в Бога. — О vere beata nох, quae expoliavit Aegyptios, ditavit Hebraeos! Nox, in qua terrenis caelestia junguntur…
Выйдя из храма после мессы, Джоанна увидела на ступенях мужчину в оборванных лохмотьях. Приняв его за нищего, она подала знак Виктору, чтобы он подал ему милостыню. Мужчина отверг предложенную монету. — Мне не нужна милостыня, ваше святейшество, я гонец, пришел со срочной новостью. — Что скажешь? Император Лотар и его армия быстро продвигаются через Патерно. Они будут в Риме через два дня. Прелаты встревоженно зароптали. — Верховный священник Анастасий с ним, — добавил гонец. «Анастасий! То, что он с людьми императора, — очень плохой знак». — Почему ты называешь его верховным священником? — с упреком спросила Джоанна. — Анастасий ведь отлучен. — Простите, ваше святейшество, но я слышал, что император обращался к нему именно так. Это было хуже всего. Император игнорировал то, что Анастасий отлучен от церкви, а значит, категорически не признавал авторитет Папы. Лотар настроенный таким образом, способен на все. Вечером, обсуждая неожиданный поворот событий, Джеральд потребовал, чтобы Джоанна сдержала обещание. — Я ждал до Пасхи, как ты хотела. Мы должны исчезнуть до появления Лотара. Джоанна покачала головой. — Застав папский престол пустым, Лотар воспользуется своей властью, и новым Папой изберут Анастасия. Джеральд тоже не хотел видеть на папском престоле Анастасия, однако считал, безопасность Джоанны важнее. — Ты всегда найдешь причину, чтобы отложить побег, но этого делать нельзя. — Не могу предать людей, — упрямо ответила она. Джеральду хотелось схватить Джоанну и унести подальше от опасности. — Всего несколько дней, — поспешила успокоить его Джоанна. — Какую бы цель ни преследовал Лотар, он не задержится здесь дольше, чем ему нужно. Как только он уйдет, я уеду с тобой. — И тогда не будешь противиться? — Не буду, — пообещала Джоанна.
На следующий день Джоанна стояла на крыльце базилики Святого Петра, Джеральд отправился приветствовать Лотара. Вдоль Стены Льва были выставлены часовые, которым приказали наблюдать за происходящим. Внезапно со стены послышался крик: — Император прибыл! Джоанна велела открыть ворота Сан-Перегринуса. Лотар въехал первым. Анастасий в кардинальский мантии был рядом с ним. Его лицо было надменным. Джоанна вела себя так, словно Анастасия не существовало. Она ждала, когда император сойдет с коня и приблизится к ней. — Добро пожаловать, сир, в священный город Рим. — Она протянула правую руку, украшенную папским перстнем. Лотар не преклонил колена, но лишь слегка склонился, чтобы поцеловать символ духовной власти. «Ну что ж, отлично», — подумала она. Первые ряды войска Лотара раздвинулись, и Джоанна увидела Джеральда со связанными руками и искаженным гневом лицом. — Что это значит? — возмутилась Джоанна. — Почему главнокомандующий связан? — Его арестовали по обвинению в государственной измене, — ответил Лотар. — Государственная измена? Главнокомандующий мой верный помощник. Я никому не доверяю больше, чем ему. — Государственная измена не против вас, ваше святейшество, но против империи, — пояснил Анастасий. — Джеральд обвинен в попытке вернуть Рим грекам. — Ерунда! Кто посмел выдвинуть такое глупое обвинение! Из-за спины Анастасия выехал на коне Даниэль и посмотрел на Джоанну с торжеством. — Я обвиняю, — сказал он.
Позднее, оставшись одна, Джоанна пыталась решить, как действовать в этой ситуации. Она понимала, что это дьявольски умный заговор. Как понтифик она не могла быть осуждена, но если Джеральда признают виновным, тень падет и на нее. План, несомненно, был разработан Анастасием. «Хорошо, мы еще повоюем. — Джоанна упрямо вздернула подбородок. — Пусть Анастасий делает то, что задумал. У него ничего не получится». Я все еще Папа, и обладаю властью и силой. (обратно)
Глава 29

Большой Триклиний, относительно новая постройка во дворце, имел уже историческое прошлое. Росписи на этих стенах только высохли, когда Карл Великий, дед Лотара, и Папа Лев III встретились здесь, чтобы заключить договор, благодаря которому Карл, король Франции, стал императором Священной Римской империи. Это навсегда изменило ход истории. За пятьдесят пять лет, минувших с тех времен, великолепие и блеск этого зала не совсем поблекли. Поверх мраморной отделки стены были покрыты настенной росписью, изображавшей сцены из жизни апостола Петра и выполненные с удивительным мастерством. Но все затмевала мозаика, расположенная над аркой центральной апсиды. На ней был изображен Святой Петр; он величественно восседал на троне с нимбом вокруг головы. Справа от него стоял коленопреклоненный Папа Лев, а слева — император Карл. Над головой каждого был квадратный нимб, признак живых, поскольку в период строительства Триклиния они еще здравствовали. В передней части зала сидели Джоанна и Лотар на двух тронах, украшенных драгоценностями. Оба трона установили рядом на одном уровне. Это означало, что ни Папа, ни король не имеют преимуществ. Архиепископы, кардиналы, епископы и аббаты сидели лицом к ним на обитых зеленым бархатом стульях с высокими спинками византийского образца. Другие знатные вельможи, стояли позади, заполнив большой зал до отказа. Когда все расположились, люди Лотара ввели в зал Джеральда со связанными руками. Джоанна стиснула зубы, увидев на его лице и шее синяки и кровоподтеки. Несомненно, его били. Лотар обратился к Даниэлю: — Выйдите вперед и выскажите свое обвинение, чтобы его слышали все. Даниэль произнес: — Свидетельствую, как главнокомандующий говорил Папе Иоанну, что Рим должен сойтись с греками, дабы избавиться от владычества франков. — Лжец! — бросился Джеральд и получил тяжелый удар от одного из стражников. — Отойдите! — резко приказала Джоанна стражниками. А Джеральду она сказала: — Вы отрицаете эти обвинения, главнокомандующий? — Да. Это недостойная ложь. Джоанна глубоко вздохнула и громко сказала: — Я подтверждаю слова главнокомандующего. Прелаты недоуменно зашумели. Выступив с таким заявлением, Папа Иоанн превратился из обвинителя в обвиняемого и поставил себя перед судом на один уровень с Джеральдом. Премицерий Паскаль осторожно вмешался. — Ваше святейшество, вы не должны ни подтверждать обвинение, ни опровергать его. Вспомните слова великого Карла. Здесь совершается суд не над вами, ибо никто на земле не смеет судить вас. — Я знаю, Паскаль, но готов отвечать по этим обвинениям по своей воле, чтобы избавить людей от несправедливых подозрений. — Джоанна кивнула Флорентину, хранителю гардероба. Следуя заранее оговоренному сигналу, он сразу вышел вперед с большой книгой в роскошном переплете. Это было Евангелие, содержащее святое слово апостолов Иоанна, Луки, Марка и Матфея. Джоанна, взяв книгу, объявила: — На этом священном Евангелии, в котором запечатлено слово Божье, я клянусь перед Богом и Святым Петром, что такого разговора никогда не было. Если я говорю неправду, пусть Бог покарает меня на месте. Эффектный жест, казалось, произвел впечатление. Воцарилась полная тишина. Анастасий выступил вперед, встав рядом с Даниэлем. — Готов поручиться за этого человека. Сердце Джоанны дрогнуло. Маневр Анастасия был хорошо продуман. Он воспользовался законом, по которому вина или невиновность могла быть доказана стороной, представившей больше поручителей или лиц, подтверждающих слово того, кто поклялся. Не теряя времени, с места поднялся Арсений и присоединился к сыну. За ним поднялись остальные, становясь рядом друг с другом. Среди них был и секундицерий Иордан, выступавший против открытия школы для женщин, а также эконом Виктор. С сожалением Джоанна вспомнила слова Джеральда о том, что нужно действовать осторожнее и вести себя более дипломатично со своими оппонентами. Пытаясь действовать быстро, она не уделила должного внимания этому совету. Час расплаты настал. — Я готов поручиться за главнокомандующего, — послышался голос из последних рядов собравшихся. Джоанна и все остальные повернулись и увидели Радоина, второго командира папских гвардейцев. Пробравшись сквозь толпу, он встал рядом с Джеральдом. Его поступок вдохновил многих. Вскоре Джеральда поддержал Ювиан, старший мажордом, за ним верховные священники Джозеф и Теодор, шесть провинциальных епископов и двенадцать человек из низшего духовенства. Они были ближе всего к народу и лучше других знали, что Джоанна сделала для них. Остальные не выказывали своих предпочтений. Когда решение приняли все желающие, суд завершился: пятьдесят три человека на стороне Джеральда, и семьдесят четыре на стороне Даниэля. Лотар откашлялся: — Свершилось Правосудие Бога. Подойдите, главнокомандующий, и выслушайте приговор. Стражники направились к Джеральду, но он заявил: — Суд несправедливый. Сколько бы ни было ложных свидетелей, я требую Божьего испытания. Джоанна испугалась. Здесь, в южной части империи, испытание проводилось огнем, а не водой. Обвиняемый должен был пройти босой по раскаленным углям. Если ему это удавалось, обвинение с него снимали. Но выживали после такого испытания очень немногие. Джеральд взглядом просил Джоанну не останавливать его. Он решил пожертвовать собой ради нее. Если ему удастся пройти по углям, то его невиновность и ее тоже будет доказана. «Точно такой же, как Хротруд», — подумала Джоанна. Воспоминание о страшной смерти повитухи вдруг вдохновило ее. — Перед тем как продолжить, хочу задать несколько вопросов начальнику гвардии, — сказала она. — Вопросы? — Лотар нахмурился. — Это совершенно недопустимо, — заявил Анастасий. — Если главнокомандующий готов пройти испытание, это его право. Неужели его святейшество сомневается в справедливости Божественного суда? — Ничуть, — ответила Джоанна. — Равным образом не вижу причин отвергать то, что предложено Богом. Какой вред могут нанести несколько вопросов? Не найдя резонного ответа, Анастасий пожал плечами и замолчал, но лицо его выразило досаду. Джоанна нахмурилась, сосредоточившись на шести доказательных вопросах Цицерона. Quis. — Кто, кроме вас, был свидетелем этого сомнительного разговора? — спросила она Даниэля. — Никто, — ответил он. — Но поддержка поручителей свидетельствует, что мои слова правдивы. Джоанна перешла к другому вопросу. Quomodo. — Как вам удалось подслушать конфиденциальный разговор? Мгновение Даниэль колебался. — Я проходил мимо триклиния по пути в опочивальню. Увидев, что дверь приоткрыта, я подошел, чтобы закрыть ее. Именно тоща я и услышал, как говорил главнокомандующий. Ubi. — Где стоял главнокомандующий в тот момент? — Перед троном. — Там же, где и теперь? — Да. Quatido. — Когда это случилось? Даниэль нервно перебирал край одежды. Вопросы следовали слишком быстро. — Э-э… на праздник Святой Агаты. Quid. — Что именно вы слышали? — Я уже сказал суду. — Это были именно те слова, которые произнес главнокомандующий, или приблизительный пересказ содержания разговора? Даниэль усмехнулся. Неужели Папа считает его глупцом и надеется, что он попадет в такую явную ловушку? Он решительно ответил: — Я пересказал слова главнокомандующего именно так, как он произнес их. Джоанна подалась вперед. — Позвольте разобраться, правильно ли я понял вас, Даниэль. Согласно вашему признанию, на праздник Святой Агаты вы стояли снаружи двери триклиния и слышали каждое слово разговора, когда главнокомандующий сказал мне, что Рим должен заключить союз с Грецией. — Верно, — ответил Даниэль. Джоанна обратилась к Джеральду: — Где были вы на праздник Святой Агаты, главнокомандующий? — Я был в Тиволи, завершая строительство акведука Марса. — Есть ли свидетели этого? — Десятки людей работали со мной бок о бок. Все они могут подтвердить, где я был в тот день. — Как вы объясните это, магистр? — спросила Джоанна Даниэля. — Несомненно, человек не может быть в двух местах одновременно. Даниэль побледнел. — А… э-э… — Он безнадежно подыскивал ответ. — Может быть, вы ошиблись датой, магистр? — выступил Анастасий. — Прошло столько времени, вы могли упустить детали или забыть. Даниэль ухватился за предложенную возможность. — Да, да. Теперь я вспоминаю, это случилось раньше… на праздник Святого Амброзия, а не Святой Агаты. Непростительная ошибка. — Там где одна ошибка, могут быть и другие, — заметила Джоанна. — Вернемся к вашему заявлению. Вы говорите, что, стоя за дверью, слышали каждое слово? — Да, — ответил Даниэль очень осторожно. — У вас хороший слух, магистр. Пожалуйста, продемонстрируйте нам ваш исключительный слух, повторив ситуацию. — Что? — Даниэль совершенно растерялся. — Идите, встаньте за дверью, как прежде. Главнокомандующий произнесет несколько слов. Вернувшись, вы расскажете, что слышали. — Что это за ерунда? — запротестовал Анастасий. Лотар с неодобрением взглянул на Джоанну. — В самом деле, ваше святейшество, подобные приемы подрывают серьезность процедуры. — Сир, то, что я делаю, не уловка, а проверка. Если Даниэль говорит правду, то услышит командующего так же хорошо теперь, как и тогда. — Сир, я протестую! — воскликнул Анастасий. — Это противоречит традиции суда. Лотар задумался. Анастасий прав. Использование свидетельств для доказательства или опровержения представляло собой странное новшество. С другой стороны, Лотар не имел оснований не доверять Даниэлю. Конечно, он выдержит необычную «проверку» Папы Иоанна, что лишний раз докажет его правоту. Слишком многое зависело от результатов этого суда, чтобы оставлять сомнения в его справедливости. Лотар нетерпеливо махнул рукой. — Проверяйте! Даниэль неохотно прошел через огромный зал и встал по ту сторону двери. Джоанна поднесла палец к губам, приказывая Джеральду молчать. — Ratio in lege summa justitia est, — произнесла она высоким чистым голосом. — Здравомыслие — великая сила закона. — Она кивнула стражнику у двери: — Приведите Даниэля. Ну? — спросила Джоанна, когда снова он предстал перед ней. — Что вы слышали? Даниэль искал подходящий ответ. — Главнокомандующий повторил, что не виновен. Все, кто выступил в поддержку Даниэля, испуганно вскрикнули. Анастасий разочарованно отвернулся. Лотар стал еще мрачнее. — Произнесены были не эти слова. И говорил не главнокомандующий, а я. Загнанный в угол, Даниэль злобно выкрикнул: — Какая разница, слышал я разговор или нет? Ваше поведение выразило ваши истинные симпатии! Разве не вы назначили грека Ницефора епископом? — А, — отозвалась Джоанна. — Это приводит нас к последнему вопросу: Сur. Почему? Почему вы лжесвидетельствуете, сообщая о таком разговоре императору? Вами руководила не истина, Даниэль, но месть. Потому что место, которое вы хотели получить для сына, было отдано Ницефору! — Позор! — раздался голос из толпы и был подхвачен другими. — Предатель! Лжец! Мошенник! Даже поручители Даниэля присоединились к хору оскорблений, желая откреститься от него. Джоанна подняла руку, чтобы успокоить толпу. Все замолкли в ожидании ее приговора Даниэлю. За такое серьезное преступление наказание должно быть строгим: прежде всего положено отрезать язык, посмевший лжесвидетельствовать, затем, вероятнее всего, Даниэль будет четвертован. Джоанна не желала, чтобы он платил такую страшную цену. Она сделала то, что хотела, и защитила Джеральда. Незачем отнимать у Даниэля жизнь. Этот неприятный маленький человек, коварный и трусливый, был не хуже и не опаснее тех, кого она знала. Кроме того, Джоанна понимала, что Даниэль лишь орудие в руках Анастасия. — Магистр Даниэль, — произнесла она, — отныне и навсегда вы лишаетесь вашего титула, всех земель и привилегий. Вы должны покинуть Рим сегодня и никогда больше не входить в священный город и его святые церкви. Толпа была потрясена таким удивительным проявлением милосердия. Евстафий, верховный священник, воспользовался моментом. — Хвала Богу и Святому Петру, князю апостолов, через кого была открыта истина! И долгие лета нашему господину и верховному понтифику Папе Иоанну! — Долгие лета! — закричали остальные. Их голоса эхом отозвались под сводами зала.
— Чего ты ожидал? — Арсений беспокойно ходил по комнате перед сыном, развалившимся на диване. — Папа Иоанн, возможно, простодушен, но не глуп. Ты недооценил его. — Верно, — признал Анастасий. — Но это не имеет значения. Я снова в Риме. И меня полностью поддерживает император и его войско. Арсений остановился. — Что ты хочешь этим сказать? — Что теперь я могу завладеть тем, чего нам не удалось получить с помощью выборов. — Занять трон силой оружия? Теперь? — Почему нет? — Ты отсутствовал слишком долго, сын мой. Поэтому не знаешь, как обстоят дела теперь. У Папы Иоанна есть враги, но слишком много тех, кто поддерживает его. — Что ты предлагаешь? — Запасись терпением. Вернись во Франконию и жди. — Чего? — Пока ветер не поменяет направление. — Когда же это случится? Я ждал достаточно долго и вправе потребовать то, что принадлежит мне по праву! — Опасно действовать слишком резко. Вспомни, что случилось с кардиналом Иоанном. Кардинал Иоанн был соперником Сергия во время выборов на папский престол. После выборов разочарованный Иоанн явился во дворец с большой группой вооруженных слуг и силой занял трон. Но князья города восстали против него. В течение нескольких часов дворец был отвоеван, а Иоанн смещен. На следующий день Сергия торжественно провозгласили Папой, а отрубленную голову Иоанна водрузили на шесте перед Латеранским дворцом. — Со мной этого не случится, отец, — уверенно заявил Анастасий. — Я все хорошо продумал. Одному Богу известно, сколько я размышлял, прозябая в той дикой стране. Арсений услышал в словах сына невысказанный упрек. — Что конкретно ты предлагаешь? — В среду праздник Вознесения. В базилике Святого Петра будет служба. Папа Иоанн поведет процессию к базилике. Мы подождем, пока он отойдет на достаточное расстояние, и захватим дворец. Все будет кончено прежде, чем Иоанн поймет, что случилось. — Лотар не допустит, чтобы его войско атаковало дворец. Он знает, что это настроит римлян против него, даже его сторонников. — Нам не нужны люди Лотара, чтобы захватить дворец. Это сделают наши собственные охранники. Как только я завладею троном, Лотар придет ко мне на помощь, я убежден в этом. — Возможно. Но взять папский дворец будет не просто. Главнокомандующий — грозный противник, и папские гвардейцы ему полностью доверяют. — Он заботится только о личной безопасности Папы. Когда в городе Лотар со своим войском, Джеральд будет охранять процессию вместе с большей частью своих людей. — А что потом? Ты должен понимать, что Джеральд будет противостоять тебе всеми силами. Анастасий улыбнулся. — Не беспокойся о Джеральде, отец. Я сам позабочусь о нем. Арсений покачал головой. — Это слишком рискованно. Если у тебя ничего не получится, все наше семейство потерпит крах, это положит конец всему, над чем мы работали долгие годы. «Он боится», — подумал Анастасий и, поняв это, испытал большое удовлетворение. Всю жизнь полагаясь на помощь отца и его советы, он не мог смириться с этим. Впервые Анастасий почувствовал себя сильнее. «Возможно, — подумал Анастасий, глядя на старика со смешанным чувством любви и жалости, — возможно, именно из-за страха, неспособности проявить волю в критический момент испытания он так и не стал великим». Отец странно посмотрел на него. В глубине этих знакомых любимых глаз, потускневших от возраста, Анастасий увидел тревогу, и заботу, и еще что-то, чего никогда не замечал прежде, — уважение. Анастасий положил руку на плечо Арсения. — Верь мне, отец. Ты будешь гордиться мною, обещаю. Праздник Вознесение всегда приходился на 25 апреля. Корни этой традиции уходили в языческие времена. В древнем Риме 25 апреля был днем Робигалии, праздником в честь Робиго, бога мороза, который именно в это время мог нанести огромный вред урожаю, если его не задобрить подарками и жертвоприношениями. Веселый праздник Робигалия, сопровождался красочной процессией, направляющейся через весь город на засеянные поля. Там приносили в жертву животных, а затем происходили соревнования и народные гулянья. Первые Римские Папы не боролись с этой испытанной временем традицией. Чтобы не отвратить тех, кто стремился к истинной вере, они мудро предпочли сохранить праздник, приурочив его ко дню Вознесения. Процессия во время праздника по-прежнему отправлялась на засеянные поля, но прежде останавливалась у базилики Святого Петра, где совершалась торжественная месса, чтобы Бог благословил новый урожай. Погода в тот день была подстать празднику. Голубое небо было безоблачным, солнце озаряло все своими золотыми лучами, а жару смягчал прохладный северный ветерок. Джоанна ехала на белой лошади за псаломщиками и гвардейцами, которые шли пешим строем, а также за семью архиепископами, восседавшими на конях. За ней следовали другие вельможи Апостольского дворца. Когда длинная процессия с красочными знаменами и гербами проходила через Латеранский двор, мимо бронзовой статуи римской волчицы, Джоанна беспокойно заерзала в седле. Ей показалось, что седло плохо закреплено, потому что в спине появилась сильная пульсирующая боль. Джеральд скакал вдоль процессии с другими гвардейцами. Теперь он ехал рядом с ней, высокий и неотразимо красивый в гвардейской униформе. — Как ты себя чувствуешь? — заботливо спросил он. — Ты очень бледна. Джоанна улыбнулась, внезапно ощутив прилив сил. — Прекрасно. Длинная процессия повернула на Виа Сакра, и сразу же гром голосов приветствовал Джоанну. Сознавая, как опасно присутствие Лотара и его армии, люди с особым воодушевлением старались выказывать любовь и поддержку своему Папе. Они стояли вдоль дороги в несколько рядов с обеих сторон, приветствуя Джоанну и выкрикивая благословения, поэтому гвардейцам приходилось сдерживать толпу, чтобы она не мешала продвигаться процессии. Если Лотару были нужны доказательства популярности Джоанны, он получил их сполна. Распевая и воскуряя фимиам, псаломщики шли по древней дороге, по которой шествовали Папы с незапамятных времен. Продвигались медленнее, чем обычно, из-за огромного числа просителей. По традиции, процессия довольно часто останавливалась, чтобы Джоанна могла выслушать всех. Во время одной остановки перед ней пала на колени старая седовласая женщина с лицом, изуродованным шрамами. — Прости меня, Святой Отец, — взмолилась женщина. — Прости меня за все зло, что я причинила тебе! — Встань, матушка, и успокойся, — ответила Джоанна. — Я знаю, ты ничего плохого мне не сделала. — Я так изменилась, что ты не узнаешь меня? Что-то в ее изуродованном лице показалось Джоанне знакомым. — Мариоза? — воскликнула она. Знаменитая куртизанка состарилась на тридцать лет. — Великий Боже, что с тобой случилось? Мариоза печально поднесла руку к своему обезображенному шрамами лицу. — Следы от ножа. Прощальный подарок ревнивого любовника. — Deus misereatur! — Не возлагайте больших надежд на мужчин, ибо они столь же непостоянны, как ваша красота, — с горечью произнесла Мариоза. — Вы были правы. Любовь мужчин погубила меня. Это мое наказание… Божье наказание за то зло, которое я причинила вам. Простите меня, святейший отец, или я буду проклята навечно! Джоанна благословила ее. — Прощаю тебя охотно, всем сердцем. Мариоза припала к руке Джоанны и поцеловала ее. Люди одобрительно зашумели. Процессия двинулась дальше. Когда они проходили церковь Святого Клементина, Джоанна вдруг услышала шум слева. Позади толпы несколько бунтовщиков шумели и бросали камни в процессию. Один камень попал в коня Джоанны, отчего он встал на дыбы, Джоанна ударилась о седло. Все ее тело пронзила нестерпимая боль. Задохнувшись, она схватилась за поводья, и епископы поспешили к ней на помощь. Джеральд выследил группу бунтовщиков первым. Повернув коня, он поскакал за ними еще до того, как они успели бросить камни. Видя, что он приближается, бунтовщики убежали. Джеральд устремился за ними. Перед крыльцом храма Святого Клементина они развернулись и, выхватив спрятанные под одеждой мечи, ринулись на Джеральда. Джеральд тоже выхватил меч, дав знак гвардейцам следовать его примеру. Но он не услышал топота копыт у себя за спиной. Джеральд был один в окружении бунтовщиков. Он работал оружием, экономя силы, считая каждый удар. Четверых из нападавших ему удалось сразить, получив лишь одну ножевую рану в бедро. Однако они стащили его с лошади. Притворившись, что потерял сознание, Джеральд крепко сжимал в руке меч. Не успев коснуться земли, он вскочил. Вскрикнув от удивления, ближайший к нему мятежник кинулся на него с мечом. Джеральд отскочил, сделав ему подножку, и когда тот падал, отсек ему руку. Мужчина упал, истекая кровью. На Джеральда напали еще несколько человек, но он услышал крики своих гвардейцев. Они приближались к ним сзади. Еще мгновение и помощь подоспеет. Держа перед собой меч, Джеральд отступал, не спуская глаз с нападавших. Тут в его спину между ребрами вонзился кинжал. Не успев сообразить, что случилось, Джеральд упал на землю. Он удивился, что боли нет, только по спине течет что-то теплое. Над головой Джеральда раздавался звон металла. Гвардейцы пришли на выручку и бились с бунтовщиками. «Надо им помочь», — подумал Джеральд и попытался дотянуться до меча, но не смог пошевелить рукой.
Джоанна подняла голову и увидела, как Джеральд устремился за возмутителями спокойствия. Она заметила, что остальные гвардейцы последовали за ним, но группа людей из толпы преградила им путь и окружила, словно действуя по чьему-то указанию. «Это ловушка!» — поняла вдруг Джоанна. Она закричала, чтобы предупредить Джеральда, но крик ее заглушила взволнованная толпа. Джоанна повернула коня, чтобы последовать за Джеральдом, но епископы держали его под уздцы. — Отпустите! Отпустите! — кричала она, но они держали коня. Джоанна беспомощно наблюдала, как мятежники окружили Джеральда, схватили его за пояс и стащили с коня. Она видела, как взметнулись его рыжие волосы, когда он упал. Соскочив с коня, Джоанна побежала, пробиваясь через толпу испуганных псаломщиков. Когда она добралась до обочины дороги, толпа уже расступилась, давая дорогу гвардейцам, которые положили перед ней безжизненное тело Джеральда. Она опустилась перед ним на колени. Из уголка его губ тонкой струйкой текла кровь. Джоанна быстро сняла палий и приложила к ране на спине Джеральда, пытаясь остановить кровотечение. Бесполезно. За несколько минут плотная ткань пропиталась кровью насквозь. Их глаза встретились. Его проникновенный взгляд был полон любви и понимания. Джоанна испугалась, как никогда в жизни. — Heт! — крикнула она, схватив Джеральда за руки, словно ее прикосновение могло предотвратить неизбежное. — Не умирай, Джеральд! Не оставляй меня! На губах его появилась улыбка. — Моя жемчужинка! — произнес он слабым голосом, будто доносившимся издалека. — Держись, Джеральд! Держись! Мы отнесем тебя во дворец, мы… Джоанна почувствовала, что он уходит еще до того, как началась агония, и тело обмякло у нее в руках. Она склонилась над ним, гладя его волосы, лицо. Он лежал с приоткрытыми губами, глядя неподвижными глазами в небо. Невообразимо, что он ушел. Даже теперь его дух удалялся от нее, словно череда зеркальных отражений. Она увидит ею снова, если постарается. Джоанна подняла голову и огляделась. Если Джеральд рядом, он подаст ей знак. Где бы он ни был, Джеральд даст ей знать. Джоанна ничего не видела и ничего не чувствовала. — Он предстал перед Богом, — сказал Дезитерий. Джоанна не шелохнулась. Пока она держала Джеральда за руки, он все еще был с ней. Дезитерий взял ее за руку. — Давайте отнесем его в церковь. Услышав его слова, она тупо повиновалась. Джеральду не следует лежать здесь, на дороге, на виду любопытствующей толпы. Нужно воздать ему почести, которых он достоин. Это все, что она могла сделать для него теперь. Джоанна осторожно опустила его на землю, закрыла ему глаза и сложила руки на груди, чтобы гвардейцы могли унести его. Поднимаясь на ноги, Джоанна почувствовала такую боль, что, задыхаясь, рухнула на землю. Все тело содрогнулось от судорог. Внутри она ощутила сильное давление, словно на нее свалился огромный груз. Давление переместилось ниже, пока Джоанне не показалось, что она разорвется пополам. Ребенок! Он хочет выйти. — Джеральд! — Из груди ее вырвался страшный крик боли. Джеральд не мог ей помочь. Она осталась совсем одна. — Deus Mistreatur! — воскликнул Дезитерий. — Папа одержим дьяволом! Люди завыли и закричали от ужаса. Ауриан, изгоняющий дьявола, поспешил к ней. Окропив Джоанну святой водой, он торжественно произнес: — Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, оmnе phantasma… Все обратили взоры к Джоанне, ожидая, что злой дух выйдет из нее через рот или ухо. Она издала последний крик, боль внезапно прекратилась, и под ней растеклась огромная красная лужа. Голос Ауриана затих, наступило напряженное молчание. Из-под подола просторной белой рясы Джоанны, теперь пропитанной кровью, появилось маленькое синюшное тельце преждевременно рожденного младенца. Первым пришел в себя Дезитерий. — О чудо! — крикнул он, упав на колени. — Колдовство! — крикнул кто-то другой. Все стали креститься. Люди напирали со всех сторон, желая увидеть, что случилось, толкаясь и забираясь на спины соседей. — Прочь! — кричали епископы, размахивая крестами, словно булавами, чтобы отогнать любопытных. Завязалась потасовка, гвардейцы начали наводить порядок, выкрикивая грубые команды. Джоанна все это слышала словно издалека. Лежа на дороге в луже крови, она вдруг ощутила невероятный покой. Дорога, толпа, красочные знамена процессии проплывали в ее сознании с необычайной ясностью, словно разноцветные нити гобелена, рисунок которого она только что разглядела. Дух ее разрастался внутри, заполняя пустоту. Она плавала в ярком, сияющем свете. Вера и сомнение, воля и страсть, сердце и разум — наконец Джоанна увидела и поняла, что все едино и это единое — Бог. Свет усилился. Улыбаясь, она направилась к нему, а цвета и звуки мира померкли, словно луна на рассвете. (обратно)
Эпилог

Сорок два года спустя
Анастасий сидел за столом в скриптории и писал письмо. Его руки, изуродованные полиартритом, болели при каждом движении. Несмотря на боль, он продолжал писать. Это чрезвычайно срочное письмо следовало отправить немедленно. «Его императорскому величеству, всесвятейшему императору Арнульфу», — вывел он. Лотар умер, через несколько месяцев после того, как покинул Рим. Трон сперва перешел к его сыну Людовику II, а затем, после смерти Людовика, Карлу Толстому, племяннику Лотара, но оба они оказались слабыми правителями. Со смертью Карла Толстого в 888 году династия Каролингов, основанная Карлом Великим, или Карлемангом, как теперь называли его, закончилась. Арнульф, герцог Каринфский, сумел вырвать трон у нескольких претендентов. В целом Анастасий считал, что череда изменений была удачной. Арнульф был умнее Лотара и сильнее его. Анастасий рассчитывал на это, поскольку нужно было что-то делать с Папой Стефаном. В прошлом месяце, к ужасу и позору Рима, Стефан приказал извлечь из могилы тело своего предшественника Папы Формозы и принести его во дворец. Усадив труп в кресло, Стефан председательствовал на потешном «суде», забросал его лживыми обвинениями и закончил суд, отрубив ему три пальца на правой руке, те, которыми Папа благословляет, в наказание за «признанные» преступления Формозы. «Я взываю к вашему величеству, — писал Анастасий, — чтобы вы пришли в Рим и положили конец недостойному поведению Папы». От внезапной боли рука Анастасия задрожала, и чернила расплескались по чистому пергаменту. Выругавшись, Анастасий промокнул кляксы, отложил перо и размял пальцы, растирая их, чтобы прошла боль. «Странно, — подумал он с грустной иронией, — что такой человек, как Стефан, стал Папой, тогда как мне, идеально подходящему для этой роли по рождению, воспитанию и образованию, было отказано». Он был совсем близок к заветной цели. После шокирующего разоблачения и смерти Папы, который оказался женщиной, Анастасий занял дворец, захватив трон с благословения императора Лотара. Что мог бы свершить он, если бы удержался на троне! Но этому не суждено было случиться. Небольшая, но влиятельная группа священников нагло противостояла ему. Б течение нескольких месяцев преемственность папского престола обсуждалась очень активно. Преимущества получала то одна сторона, то другая. В конце концов, было принято решение, что влиятельные римляне никогда не примут Анастасия как Папу. Лотар в той ситуации отказал ему в поддержке. Анастасия сместили и с позором сослали в монастырь в Трастевере. «Тогда все решили, что со мною покончено, — подумал Анастасий, — но они недооценили меня». Терпеливо, осторожно и дипломатично он предпринимал шаги к тому, чтобы вернуться. Наконец, Анастасий завоевал доверие Папы Николая. Тот назначил его папским библиотекарем, и эту привилегированную должность Анастасий занимал уже более тридцати лет. Теперь восьмидесятисемилетнего Анастасия уважали и почитали за его великие знания. Ученые и священники со всего мира приезжали в Рим, чтобы повидаться с ним и выразить восхищение его творением, Liber pontificalis, папской хроникой. Не далее как в прошлом месяце франкский архиепископ Арнальдо просил разрешения сделать копию манускрипта для его собора, и Анастасий великодушно разрешил. Liber pontificalis была для Анастасия пропуском в бессмертие, его посланием миру. Так он напоследок отомстил ненавистному сопернику, тому, чье избрание в 835 году помешало ему достичь славы, которой Анастасий так жаждал. Он вытравил из официальных документов все упоминания о Папе Иоанне, и в Liber pontificalis тот даже не упоминался. Конечно, Анастасий стремился к другому, но и это было кое-что. Слава библиотекаря Анастасия и его великий труд будут жить в веках, а Папу Иоанна предадут забвению. Судорога в руке прошла, и, снова взявшись за перо, Анастасий продолжил письмо.В скриптории епископального дворца в Париже архиепископ Арнальдо трудился над последней страницей своей копии Liber pontificalis. В узкие окошки проникал солнечный свет, и в нем кружилась пыль. Арнальдо сделал последнюю запись на странице, прочел ее и устало отложил перо. Полная переписка Папской хроники была тяжелым и долгим трудом. Дворцовые писари очень удивились, что епископ сам принялся за работу, а не поручил это им. Но у Арнальдо были свои причины. Он не просто скопировал знаменитый манускрипт, но исправил его. Между хрониками жития Папы Льва и Папы Бенедикта теперь было вставлено житие Папы Иоанна, что восполняло историю папства. Арнальдо сделал это из личного уважения к Папе Иоанну, а также желая восстановить правду. Подобно Джоанне, епископ был не тем, кем казался. Арнальдо, а вернее Арнальда, на самом деле была дочерью франкского слуги Арна и его жены Боны, у которых Джоанна жила после бегства из Фульды. Арнальда тогда была совсем маленькой девочкой, но помнила добрые и умные глаза Джоанны, которые смотрели на нее так внимательно, ежедневные совместные уроки, общую радость, когда Арнальда начала читать и писать. Она чувствовала себя обязанной Джоанне. Именно Джоанна указала ей путь из тьмы невежества к свету знаний и дала возможность достичь высокого положения. Вдохновленная примером Джоанны, Арнальда также скрыла, что она женщина, желая достичь своих амбициозных целей. «Сколько еще таких, как мы?» — размышляла Арнальда уже не в первый раз. Сколько еще женщин отважились на такой решительный шаг, отказавшись от семьи, чтобы добиться того, чего в женском обличье им не дано? Кто знал? Вполне возможно, что Арнальда встречалась с другими переодетыми священниками в соборе или монастыре, и они тоже скрывали свою принадлежность к женскому полу. Она улыбнулась при этой мысли. Под мантией архиепископа Арнальда нащупала деревянный медальон Святой Екатерины, висевший у нее на груди. Она никогда не снимала его, а с тех пор, как Джоанна подарила медальон, прошло более пятидесяти лет. Завтра манускрипт переплетут в кожу с золотым тиснением и поместят в архив кафедральной библиотеки. В нем сохранится запись о Папе Иоанне. Он был женщиной, но вместе с тем достойным и благочестивым служителем Христа. Когда-нибудь об этой истории вспомнят и перескажут ее. «Долг возвращен, — подумала Арнальда. — Покойся с миром, Папесса Иоанна». (обратно)
Примечание автора

Существовала ли Папесса Иоанна?
«Во всякой легенде, если докопаться до сути вещей, всегда можно найти историю».
ВАЛЕ-ВИРИВИЛЛЬ Папесса Иоанна — одна из удивительных, экстраординарных фигур западной истории и наименее известная. Большинство людей никогда не слышали о Папессе Иоанне, а те, кто слышал, считали ее историю легендой. Тем не менее в течение столетий, до середины XVII века, папство Иоанны было хорошо известно и принималось, как подлинный исторический факт. В XVII веке католическая церковь, под возрастающим давлением протестантизма, начала уничтожать нежелательные исторические записи об Иоанне. Сотни манускриптов и книг в Ватикане исчезли. Исчезновение Папессы Иоанны из современного сознания свидетельствует об эффективности этих мер. В настоящее время католическая церковь предлагает два принципиальных возражения против того, что Иоанна занимала папский престол: отсутствие каких-либо упоминаний о ней в документах тех времен и недостаточный для ее правления период времени между смертью ее предшественника Льва IV и вступлением на престол. Однако эти аргументы неубедительны. Нет ничего удивительного в том, что Иоанна не упоминается в современных ей документах. В ту пору, по признанию самой церкви, усердно уничтожалось все, что напоминало об Иоанне. То, что она жила в IX веке, самом темном из мрачных веков, лишь облегчило задачу ее противников. В этот век всеобщей безграмотности рукописи хранили плохо. Современные исследования того периода основаны на отрывочных, неполных, противоречивых и ненадежных документах. Отсутствуют придворные записи, земельный учет, хозяйственные счета или описания повседневной жизни. За исключением одной сомнительной исторической книги Liber pontificalis (которую ученые тех времен прозвали «пропагандистским документом»), нет никаких хронологически последовательных записей папства в IX веке: кто были эти люди, когда правили, что делали. Кроме Liber pontificalis, почти нет упоминаний о Папе Бенедикте III, последователе Иоанны, хотя вовсе не о нем стремились искоренить память. Но существует одна копия Liber pontificalis, содержащая информацию о правлении Иоанны. Более поздняя запись об этом периоде неумело вставлена в основной текст книги. Однако это не означает, что стоит сомневаться в подлинности той записи. Некий хронолог и исследователь, на основании менее политизированных хроник, возможно, счел себя морально обязанным внести дополнения в официальные записи. Блондель, протестантский историк, изучивший текст в 1647 году, пришел к заключению, что дополнение об Иоанне написано в XIV веке. Он положился на различие стиля и почерка, а это весьма субъективное суждение. Но еще остаются важные, вопросы, связанные с этим документом. Когда был написан этот отрывок? Кем? Повторное изучение текста с использованием современных методов датирования, не применявшихся прежде, не могут дать дополнительную информацию. Отсутствие упоминаний об Иоанне в церковных документах тех времен вполне объяснимо. Римские священники, оскорбленные таким великим обманом, были готовы на все, чтобы скрыть письменные свидетельства об этом неприятном эпизоде. Возможно, они посчитали это своим долгом. Хинкмар, современник Иоанны, в своих письмах и хрониках часто утаивал информацию, способную повредить церкви. Даже великий богослов Алкуин допускал искажение фактов. В одном из своих писем он признается в уничтожении доклада о прелюбодеянии Папы Льва III и о торговле церковными должностями. Есть основания подозревать, что современники Иоанны не желали признавать ее. Римские прелаты имели личные основания исказить правду. В редких случаях, когда папство признавалось недостойным, как это произошло с разоблаченной Иоанной, все ее назначения становились недействительными. Все кардиналы, архиепископы и священники, посвященные Папой в духовный сан, были лишены должностей. Поэтому, ведя записи или переписывая документы, эти люди не упоминали об Иоанне. Нужно лишь взглянуть на недавний пример Никарагуа и Сальвадора, чтобы увидеть, насколько решительны и скоординированы усилия правительства при «уничтожении» свидетельств неприятных событий. Только по истечении времени обнаруживается правда, хранимая в памяти народа. В более поздние века документов с упоминанием о папскомправлении Иоанны появилось предостаточно. Фредерик Шпангейм, известный германский историк, широко исследовавший этот вопрос, приводит не менее пятисот древних манускриптов, содержащих сведения о папстве Иоанны. Писали о ней и великие Петрарка и Боккаччо. В настоящее Время церковь заняла такую позицию в отношении Иоанны, что, якобы, эту историю придумали протестантские реформаторы с целью разоблачения папской коррупции. Однако история Иоанны стала впервые известна за сотни лет до рождения Мартина Лютера. Большинство ее хроникеров были католиками, часто занимавшими высокое положение в церковной иерархии. Папство Иоанны признано даже в официальных исторических документах, посвященных римским Папам. Скульптурное изображение Иоанны стояло в одном ряду с такими же изображениями других Пап в кафедральном соборе в Сиене до 1601 года, когда по приказу Папы Клемента VIII, произошла внезапная «метаморфоза», и скульптура Иоанны превратилась в изображение Папы Захария. В 1276 году, после основательного изучения папских хроник, Папа Иоанн XX превратился в Папу Иоанна XXI, когда было официально признано правление Иоанны, как Папы Иоанна VIII. История Иоанны, включенная в официальный церковный справочник Рима, использовалась паломниками в течение трехсот лет. Другое поразительное доказательство этого исторического факта было найдено в хорошо документированном протоколе суда над еретиком Яном Гусом в 1413 году. Гуса обвиняли в распространении еретической доктрины о возможной порочности Папы. В свою защиту Гус приводил многочисленные примеры, когда Папы грешили и совершали преступления против церкви. По каждому из его обвинений судьи (все они были священниками) подробно опровергали обвинения Гуса и называли их богохульством. И только одно заявление Гуса не было опровергнуто: «Много раз Папы грешили и совершали ошибки, например когда Папой был избран Иоанн, оказавшийся женщиной». Ни один из двадцати восьми кардиналов, четырех патриархов, тридцати митрополитов, двухсот шести епископов и четырехсот сорока богословов не выступил против этого заявления Гуса. Утверждения, что между правлением Льва IV и Бенедикта III прошло слишком мало времени, и Иоанна не успела бы править в этот период, вызывает возражения. Хроника Liber pontificalis печально знаменита своими несоответствиями: нельзя полагаться на приведенные в ней даты вступления римских пап на престол и их кончин. Многие даты, как известно, не соответствуют истине. Поскольку современники очень хотели скрыть факт правления Иоанны, не стоит удивляться, что дата смерти Льва перенесена с 853 на 855 год. Это позволяло утаить сведения о двух годах правления Иоанны. Выходит, что Папа Бенедикт III вступил на престол сразу после кончины Папы Льва.[513] История предоставляет много других примеров фальсификации в хрониках. Сторонники Бурбонов определили дату правления Людовика XVIII с момента кончины его брата, проигнорировав правление Наполеона. Однако они не могли изъять Наполеона из исторических записей, поскольку его правлению уделено много мест в бесчисленных хрониках, дневниках, письмах и других документах. Для сравнения: в IX веке утаить факт правления Иоанны было гораздо легче. Существуют также трудно объяснимые косвенные доказательства того, что действительно существовал Римский Папа женского пола. Один из таких примеров — так называемая проверка стулом. Это входило в процедуру церемонии папского посвящения в течение почти шести веков. После Иоанны каждый вновь избранный Папа должен был сесть на sella stercoraria (буквально: «стульчак») с отверстием посередине. Это позволяло осмотреть его гениталии и убедиться в его принадлежности к мужскому полу. Затем проверяющий торжественно объявлял собравшимся, что «Mas nodis nominum» — «Наш избранник мужчина». Только после этого Папе вручались ключи от базилики Святого Петра. Эта церемония соблюдалась до XVI века. Даже Александру Борджа пришлось подчиниться правилу и пройти это испытание при избрании, хотя к тому моменту его жена уже родила четверых сыновей, которых он с гордостью признал! Католическая церковь не отрицает существования особого стула с отверстием, поскольку он сохранился в Риме до настоящего времени. Никто не отрицает и того, что его использовали в течение столетий для церемонии посвящения Пап. Но многие утверждают, что стул использовался только из-за того, что он красив по форме. Тот факт, что на сидении имеется отверстие, они считают несущественным. Название sella stercoraria, предположительно, происходит от слов, адресованных Папе, сидевшему на этом стуле: «Suscitans de pulvere egentem, et de stercore erigens pauperem ut sedeat cum principibus… — [Бог] поднимает страждущих из праха и нищих из грязи, чтобы сидели рядом с царями…» Такое объяснение неубедительно. Возможно, когда-то этот стул использовался для отправления физиологических нужд или же служил акушерским креслом. Трудно предположить, что предмет такой необычной формы, вызывающий столь пикантные ассоциации, использовался в качестве папского трона без какого-либо исключительного повода. Но если проверка стулом выдумка, чем объяснить многочисленные поговорки и песни о нем, популярные у римлян в течение веков? Принимая во внимание, что в те времена царили невежество и суеверия, а средневековый Рим представлял собой довольно тесное сообщество (люди жили в нескольких ярдах от папского дворца), многие из их отцов, братьев, сыновей и кузенов были прелатами, следовательно, присутствовали на посвящениях Пап и знали правду о sella stercoraria. Есть даже свидетельство очевидца такой проверки. В 1404 году валлийский путешественник Адам из Юска, прожив в Риме два года, вел записи своих наблюдений. Его подробнейшее описание коронации Папы Иннокентия VII содержит сведения и о проверке стулом. Другое интересное косвенное свидетельство — «запретная улица». Дворец, папская резиденция и епископальный собор (базилика Иоанна Латеранца) находятся в части Рима, противоположной базилике Святого Петра. Между этими двумя сооружениями часто проходят папские процессии. Даже беглый взгляд на карту города показывает, что Виа Сакра (теперь называемая Via S.Giovanni) — самый короткий и прямой путь маршрута, используемого в течение столетий (отсюда и название Via Sacra — святой путь). Именно на этой дороге Иоанна родила мертвого ребенка. Впоследствии папские процессии намеренно обходили Святой Путь стороной, чтобы не вспоминать об этом постыдном событии. Церковь утверждала, что отклонение от маршрута произошло потому, что улица была слишком узкой для процессии до XVI века, когда ее расширил Папа Сикст V. Но это объяснение совершенно неверное. В 1486 году Иоанн Буркардт, Епископ Хорты и папский церемониймейстер, занимавший эту должность при правлении пятерых пап, человек безукоризненно знавший порядки папского двора, описал в своем журнале то, что случилось, когда процессия нарушила традицию и повернула на Виа Сакра: На обратном пути [Папа] с процессией прошел мимо Колизея по той прямой дороге,…где Иоанна Англиканка родила ребенка… По этой причине… папы, и их кавалькады никогда не проходят по упомянутой улице. Папа был обвинен архиепископом Флорентийским, епископом Массанским и Хуго де Бенчи… За сто лет до этого улица была расширена, и папская процессия прошествовала по Виа Сакра без каких-либо затруднений. Запись Буркардта подтверждает, что папство Иоанны признавалось в то время высочайшими официальными лицами папского двора. Учитывая смутность и нестабильность тех времен, невозможно с уверенностью определить, действительно ли существовала Папесса Иоанна. О том, что на самом деле произошло в 855 году от Рождества Христова, возможно, мы не узнаем никогда. Именно поэтому ваша покорная слуга написала роман, а не исторический трактат. Хотя в основе его лежат исторические факты, запечатленные в древних документах, книга не более чем художественный вымысел. Крайне мало известно о детстве Иоанны, кроме того, что она родилась в Ингельхайме в семье англичанина, а потом была монахом в монастыре Фульды. Пришлось немного пофантазировать, чтобы заполнить пробелы в ее биографии. Однако основные события взрослой жизни Иоанны в романе «Папесса Иоанна» приведены с максимальной точностью. Битва при Фонтено действительно произошла 25 июня 841 года. Сарацины ограбили базилику Святого Петра в 847 году, а затем были разбиты в морском сражении в 849 году. В 848 году в Борго случился сильный пожар, а в 854 году Тибр затопил город. В IX веке обряд погружения действительно широко распространился во Франконии. Анастасий был отлучен от церкви Папой Львом IV. Позднее, когда Папа Николай назначил его библиотекарем, Анастасий получил признание, как автор Liber pontificalis. В этой книге он привел жития всех современных понтификов. В Латеранском дворце были убиты Теодор и Лев, а также состоялся суд, на котором военный магистр Даниэль обвинял папского главнокомандующего. Чревоугодничество и пьянство папы Сергия упоминается в исторических записях, а также перестройка приюта для сирот. Анастасий, Арсений, Готшалк, Рабан Мор, Лотар, Бенедикт и Папы Григорий, Сергий и Лев — все они лица исторические. Подробности и детали быта IX века были тщательно изучены: информация об одежде, питании и методах лечения абсолютно достоверна. Чтобы история получилась интересной, пришлось дать волю воображению. Поэтому набег викингов перенесен на 828 год, хотя на самом деле это произошло в 834 году. Точно так же в романе император Лотар приходит в Рим с карательными целями дважды, хотя в действительности в первый раз он поручил это своему сыну Людовику, итальянскому королю. Тела Святых Марцеялина и Петра были похищены из могил в 827 году, а не в 855. Иоанн, соперник и предшественник Папы Сергия, после свержения не был убит, а заключен в каземат и забыт. Анастасий умер в 878 году, а не в 897. Следует признаться, что эти вольности — исключения, но в целом автор старался придерживаться исторической точности. Современному человеку много из того, что описано в романе, может показаться шокирующим, но в те далекие времена все воспринималось иначе. Падение Римской империи, а вследствие этого упадок права и порядка привели к беспрецедентному варварству и жестокости. Как сетовал один из современных хроникеров, «это было время меча, время ветра и время волка». Население Европы сократилось почти вдвое из-за ряда страшных голодных и чумных моров, гражданских войн и набегов «варваров». Средняя продолжительность жизни была очень короткой: менее четверти населения доживало до пятидесяти лет. Больше не существовало истинных городов, в самых больших населенных пунктах проживало не более трех тысяч человек. Римские дороги разрушались, мосты, от которых они зависели, исчезли. Социально-экономический строй, теперь называемый феодальным, еще не сформировался. Европа была единым государством. Еще не существовало самостоятельной Германии, не было и Франции, Испании, Италии. Романские языки еще не выделились из материнской латыни. В IX веке общество только переходило от одной формы цивилизации, давно погибшей, к другой, еще не рожденной. Жизнь в те тревожные времена была особенно трудна для женщин. Этот женоненавистнический век находился под влиянием таких отцов церкви, как Святые Павел и Тертуллиан: Разве не знаешь ты, Ева, что ты есть?… Ты есть врата дьявола, нарушившая запрет, первый нарушитель Божественного Закона. Ты есть та, кто соблазнила того, к кому дьявол не осмелился приблизиться… во искупление твоего смертного греха должен был умереть Сын Божий. Считалось, что от менструальной крови может прокиснуть вино, погибнуть урожай, заржаветь железо, а собачьи укусы становятся отравленными. К женщинам относились очень презрительно, они не имели никакой собственности и других гражданских прав. По закону их могли избивать мужья. За изнасилование судили как за мелкую кражу. Не одобрялось обучение женщин, поскольку считалось, что образованная женщина — явление не только противоестественное, но и опасное. Неудивительно, что женщины предпочитали выдавать себя за мужчин, стремясь избежать такой судьбы. Не только Иоанна, но и другие женщины успешно скрывали свой обман. В III веке Евгения, дочь префекта Александрии, выдав себя за мужчину, стала монахом, а затем аббатом. Она скрывала свою тайну, пока ей не пришлось признаться, что она женщина, поскольку ее обвинили в изнасиловании девственницы. В XII веке Святая Хильдегунда, под именем Езефа, стала монахом аббатства Шонау и не была разоблачена до самой смерти.[514] Свет надежды, зажженный этими женщинами, слабо мерцал во тьме, но никогда не угасал. Те из них, кто умел мечтать, осуществили свои надежды. Книга о Папессе Иоанне — это история одной из таких мечтательниц. (обратно)
Хронология событий в романе

Год 814 Карл Великий умер 28 января. Иоанна родилась в тот же день. Людовик Благочестивый коронуется императором.
Год 823 В Риме, в папском дворце, убиты премицерий Теодор и номенклатор Лев. Папа Паскаль заступается за убийц и предает анафеме жертв убийства, провозглашая, что их смерть — акт справедливости.
Год 824 Римское Уложение дает франкскому императору право утверждать вновь избранного Папу.
Год 828 Викинги грабят Дорштадт.
Год 829 Синод освобождает Майнца Готшалка от монашеского обета.
Год 833 Лотар, сын Людовика Благочестивого, выступает со своими братьями против отца. Преданный и потерпевший поражение в битве на Поле Лжи, Людовик свергнут с престола.
Год 834 Новое восстание возвращает Людовику его трон. Людовик прощает сыновей, возвращая им земли и привилегии.
Год 840 Людовик Благочестивый умирает. На троне Лотар.
Год 841 Карл и Людвиг, братья Лотара, восстают против него. Королевские войска сражаются 25 июня при Фонтено, кровавая бойня оставляет империю беззащитной перед викингами.
Год 844 Умирает Папа Григорий. Сергий избран Папой Римским. Франкские войска наступают на Рим, чтобы утвердить Римское Уложение. Викинги грабят Париж.
Год 846 Сарацины нападают на Рим и грабят собор Святого Петра.
Год 847 Умирает Папа Сергий. Лев избран Папой Римским. Начинается строительство Стены Льва.
Год 849 Сарацины разбиты в морском сражении при Остии.
Год 852 Завершение строительства и освящение Стены Льва 27 июня.
Год 853 Папа Лев умирает. Иоанна избрана Папой Римским.
Год 854 Римский синод. Тибр выходит из берегов.
Год 855 Умирает Иоанна. Анастасий захватывает папский трон, но его изгоняют через два месяца. Папой Римским избран Бенедикт. (обратно)
Об авторе
Донна Вулфолк Кросс в 1969 году закончила с отличием филологический факультет Пенсильванского университета; член привилегированного общества студентов и выпускников колледжей «Фи Бета Каппа», После окончания университета переехала в Лондон, где работала помощником редактора в небольшом издательстве W.H.Allen & Со. После возвращения в США, перед окончанием Калифорнийского университета, где она в 1972 году получила степень магистра по литературе, будущая писательница работала в рекламной компании Yung and Rubicam на Мэдисон-Авеню. В 1973 году Вулфолк Кросс с мужем переехала в Сиракузы, штат Нью-Йорк, и начала преподавать английский язык в нью-йоркском колледже. Она автор двух книг по лингвистике, «Бранная лексика» и «Язык средств массовой информации», а также соавтор книги «Разговорный язык». Роман «Папесса Иоанна», над которым она работала в течение семи лет, — ее первое художественное произведение. В настоящее время писательница работает над новым романом, действие которого происходит во Франции XVII века. (обратно) (обратно)М. Кроун Казнь королевы Анны
Глава I Царь мрака
Время близилось к полуночи. Сатана летел быстро, стремительно в беспредельности заоблачного пространства. Земной шар тонул в непроходимом мраке, а высоко над ним блестели мириады светил, таинственных миров, которых не достигла даже мысль человека. Владыка ада не мог оторвать взгляд от этого торжественного, величественного зрелища, и в нем вспыхнуло ярче чувство смертельной ненависти к Создателю Вселенной. Он вдруг остановился, и его исполинские, чудовищные крылья раскинулись по воздушным волнам и замерли в полнейшей неподвижности. Царь Тьмы взглянул на солнце: оно как будто погружалось в дремоту и втягивало в себя огненные лучи; он окинул взглядом и полную луну, и золотые звезды, горевшие на небе, и не сдержал восторженного восклицания. – Этот волшебный мир – творение Его рук! – произнес сатана с яростью. Он не мог произнести имя Господа – оно жгло ему губы. – Да! – продолжал он с тем же суровым озлоблением. – Он создал эти дивные, таинственные страны; Он присвоил себе верховное владычество над Вселенной, а мне отдал только темные бездны. Зная о моих темных помыслах, Он ограничил мою волю и сковал силу. Моя судьба плачевнее, чем судьба человека – ничтожного творения, возникшего из праха, чтобы обратиться в прах; последний вправе относиться ко мне с полным пренебрежением, если он не поддался никаким искушениям; мне нет прощения, он же, прощаясь с жизнью, прожитой в беззакониях, должен лишь воззвать к Создателю, и раскаяние снимает с него все преступления! Опустившись ниже, сатана сел на облако и погрузил взор в непроницаемый мрак, окутавший Землю. – Ночь – славная пора, – прошептал он со злорадством. – Это пора разгула всех порочных наклонностей, которые свойственны человеку: преступная любовь, предательство, измены, убийства, грабежи, засады и дуэли – этот бич человечества, когда людское самолюбие превращает чувство задушевной приязни в жажду крови и мести. В освещенные залы входят под звонкие песни, скандальные оргии; азартные игры собирают своих приверженцев, и темные притоны, где минута решает участь человека, наполняются светом и суетой; золото лежит грудами на карточных столах, и вокруг них толпятся люди с бледными лицами и горящими глазами. А число тех, кто умрет сегодняшней ночью, особенно велико, и среди них немало личностей, занимавших прекрасное положение в обществе. Заглянем в этот дом с мраморными лестницами, уставленными статуями и дорогими тропическими растениями. На шелковых подушках молочной белизны, под темно-алым пологом из лионского бархата лежит седой дипломат, отходящий в вечность. Не пройдет и двух минут, как он предстанет перед грозным судилищем, где ему придется держать ответ за интриги и предательства своей гнусной политики. А там – богач, ворочавший миллионами, умирает, окруженный своими земными сокровищами. Яркий свет канделябров освещает его лицо, искаженное мукой и беспредельным ужасом. Ликуй, мой темный ад, это твоя добыча! Его казна и сердце были всегда закрыты для бедных и страждущих! Ничей вздох не проводит отходящую душу, и ничья молитва не смягчит приговор, который покарает адское бессердечие этого человека. У изголовья стоит его наследник – он еще полон жизни, но мне известно будущее моих земных рабов: он кинется, как коршун, на золото отца и расточит его в попойках и разгуле; но смерть сразит его в расцвете лет, и у него останется от всех сокровищ только богатый саван, если жадный могильщик не сочтет его роскошью, совершенно излишней для остывшего трупа. Сатана задумчиво помолчал, затем продолжил после минутной паузы: – Вот еще смертный одр, но все здесь выглядит иначе. Тусклый свет ночника не в силах разогнать непроглядный мрак в тесной и сырой каморке; на железной кровати с изодранным матрацем в предсмертных муках корчится убежденный атеист. Для него нет спасения – он осужден заранее. Но что это? Дверь открывается, и к нему входит женщина с печальным, прекрасным и спокойным лицом; она тихо склоняется над ложем умирающего и старается вызвать в очерствевшем сердце раскаяние. Он обращает к ней угасающий взор, и в нем светится чувство, ему прежде не свойственное. Появляется священник с распятием в руках; он подходит к одру смирившегося грешника и дарует ему после короткой исповеди полное отпущение всех его прегрешений – вольных и невольных. По лицу умирающего промелькнула спокойная и ясная улыбка… Его дух отлетел с последним вздохом… Он уже в царстве славы, уготованном Богом всем любящим Его… – Этой женщине стоило сказать несколько слов, чтобы смягчить это сердце, окаменевшее от долгого и упорного неверия, и отнять у меня законную добычу! – проревел сатана, задыхаясь от бешенства. – Она уже не раз вырывала у меня из рук рабов моих! Будь она проклята, эта Благотворительность! Христос призвал ее к подножию креста и заповедал ей облегчить все печали человечества. Творец, Твое могущество превышает мое! Я это сознаю, но ненависть к Тебе разгорается больше от сознания моего бессилия перед Твоей властью. Глаза владыки обратились с угрозой на спокойное небо: он взмахнул гневно крыльями и стал в ту же минуту опускаться на землю, словно ястреб, который устремляется на добычу. Перед ним промелькнули неприступные горы и шумные потоки, обширные пустыни, обожженные солнцем, страны, города и столицы, и хотя на земле свирепствовали голод и мор, они не привлекли внимания сатаны. Он пролетел, как молния, когда она пронзает неподвижную тучу и озаряет сразу и запад и восток, и сдержал свой полет над берегами Англии, погруженной во влажный и глубокий туман. Окинув страну холодным и безучастным взглядом, сатана опустился на вершину большого отлогого холма, в одной из самых дальних местностей королевства. На нем возвышался древний, величественный замок с зубчатыми стенами и высокими башнями; исполинское здание стояло на самом берегу глубокой, но спокойной реки; за ней тянулись вдаль цветущие равнины и богатые села, а вековые леса овевали прохладой это замечательное родовое поместье одной из самых древних и известных фамилий Англии. На его массивных дверях, окованных железом, красовался герб непобедимых Перси: лев с косматой гривой – символ чести и мужества – стоял на задних лапах; царь зверей поднял кверху свою умную голову и открыл свою страшную, воспаленную пасть, как будто ожидая приближения врага; спокойная отвага, которая исходила от неподвижно застывшего льва, его одиночество на голубом поле герба по воле случая вполне верно олицетворяли и нравственные достоинства, и земной удел последнего потомка угасающего древнего и доблестного рода. Сатана облетел исполинское здание с зубчатыми стенами и высокими башнями, и мрачное лицо его побледнело от злобы: он повис на мгновение над светлыми водами неподвижной реки и проскользнул без шума к высокому окну – это было единственное из многих окон замка, которое светилось в эту глухую пору. Уцепившись когтями за подоконник, сатана с глубочайшим вниманием уставился на разноцветные стекла массивных рам. Он увидел обширную и высокую комнату, озаренную светом алебастровой лампы. У яркого огня, пылавшего в камине, в кресле сидел мужчина представительной и прекрасной внешности, с длинной остроконечной бородой. Его ноги покоились на большой волчьей шкуре; он был в глубоком трауре. Человек этот был еще крепок и молод, но яркий румянец юности на его лице заменила матовая белизна, переходящая в бледность; его черные, слегка вьющиеся, глянцевые волосы спадали на затылок из-под бархатной шапочки, прикрывающей темя; на широкой груди блестела золотая массивная цепочка превосходной работы. Он казался печальным и смотрел на огонь, но мысли этого человека витали, очевидно, далеко. – Я не смог вызвать в нем ни малейшего ропота, – прошептал сатана, злобно и мрачно глядя на его симпатичное и грустное лицо, – хотя и не щадил ни усилий, ни средств, чтобы восстановить его против Творца. Я сгубил безвозвратно его земное счастье, я отнял у него надежды. Он пытался бороться, и победа осталась не на моей стороне: я обольщал его страстями – он не поддался им. Я вонзил в его сердце острое жало ревности – но он вырвал его, облитое кровью, и отрекся от мщения у подножия креста. Я пробовал не раз вселить в него сомнение – он призывал на помощь свою твердую веру во всемогущество Божье и был неуязвим. Я терзал беспощадно этого человека: ни один светлый луч не упал на его грустную, одинокую жизнь – и дружба, и любовь, и семейное счастье остались для него лишь пустым звуком. Но все мои усилия не привели к желаемому результату: с его губ не слетело ни проклятия горькой судьбе, ни жалобы на Создателя. Глаза владыки ада сверкнули в темноте, как два горячих угля; уступая порыву непосильного бешенства, он вонзил в тело свои острые когти, и несколько капель крови попало на стекло; предание утверждает, что ничто не могло уничтожить эти багровые брызги. Но каковы бы ни были те великие силы, которые природа дарует своим избранникам, а близость искусителя начинала угнетать его жертву: ужасное смущение охватило Генри Перси, какой-то странный холод сковал его члены, сердце заныло тревожно и болезненно и перестало биться. – Что со мной, боже мой! – воскликнул он с испугом. – Это яркое пламя не дает тепла… Я не могу дышать… кровь застывает в жилах… Неужели я способен поддаться этой слабости и свалиться без чувств? Гарри, дай мне вина! Но никто не отозвался. Поняв, что его старого и верного слуги не было в комнате, лорд Перси встал не без усилия и подошел к изящному резному буфету, который стоял под большим балдахином в другом конце зала; в нем было несколько очень широких полок, покрытых полотняной, белой как снег тканью с кружевной отделкой. На них стояли блюда с паштетами и дичью и пирамиды сочных оранжерейных фруктов, целая батарея бутылок и стаканов, сосудов из металла и слоновой кости и коллекция кубков всевозможных размеров. Лорд Перси взял одну из самых драгоценных и тяжеловесных чаш и, наполнив ее до краев вином, вернулся и сел, как прежде, у камина. – Всегда один! Что может быть ужаснее! – произнес он печально. Сатана читал в сердце своей несчастной жертвы и задрожал от радости. За оконной рамой раздался легкий треск, но Перси погрузился в глубокое раздумье и не слышал его. – Бог создал человека не для одиночества, – продолжал он все с той же мечтательной грустью. – Мир кажется пустыней, когда не слышишь голосов живых существ. Огонь в камине греет, когда дом оживляется присутствием семьи и песнями детей. Крики новорожденного заставляют невольно думать о будущем. Блажен тот, кто имеет семейство и детей! Жизнь отказала мне в этом великом даре; мои земные радости осыпались, как лепестки цветов, оставив обнаженный, полуиссохший стебель… Куда я дел вино?.. Перси отпил глоток из драгоценной чаши и, слегка приподняв ее, стал молча любоваться чудесной работой. На нижней ее части был изображен дракон, уснувший в букете маковых цветов, листья которых падали на его безобразное чешуйчатое тело; крылья его поддерживали объемистую чашу из горного хрусталя с легкими инкрустациями из жемчуга и золота; хвост страшного дракона обвивал чашу доверху и спускался вниз причудливыми изгибами; на свободном пространстве между лапами дракона была выгравирована старинным шрифтом коротенькая надпись: «Я дарую забвение!» Верхнюю часть сосуда отделяла от нижней металлическая лента с фантастическим бантом, украшенным гербом благородных, неустрашимых Перси – лев с разинутой пастью приподнимал кверху графскую корону, унизанную крупными, сверкающими бриллиантами. Нужно заметить, что художники того времени не придавали, видимо, никакого значения обработке подобных драгоценностей, их шлифовке: они, конечно, думали, что их уникальность и ценность исключают необходимость искусственной отделки. Генри Перси хотел было выпить еще глоток, но в ту же минуту почти с отвращением отвел чашу от губ. – Нет! Я не в силах пить! Ты не дашь мне забвения! – прошептал он с тоской и поставил на столик около камина сверкающий сосуд. – Ты лжешь! – продолжал граф. – Ты не дашь мне желаемого. Я пришел к убеждению, что мне не найти покоя в этой жизни! Бог создал человека вовсе не для земли… не для того, чтобы пить и питать это тело, которое раньше или позже разрушается, эту глину, которая высыхает и валится на землю. Нет, во мне есть иное существо – моя душа, над которой не властны законы разрушения, мое сердце, исполненное беспредельной любви, мой разум, отличающий дурное от хорошего, моя совесть, которая охраняет меня от соблазнов порока. Да, вот что не погибнет, вот что сотворено не для земной, но для вечной жизни. Все, что я здесь вижу, мелко и ничтожно, пусто и изменчиво. Все наводит на мысль, что гоняться за счастьем – все равно что преследовать звук: обстоятельства разлучают нас с людьми, близкими нашему сердцу; но и, кроме того, их постигают болезни и несчастья… смерть сводит их в могилу. В настоящем нет прочности; если заглянешь в прошлое, то вспомнишь о промахах, несбывшихся надеждах, горьких разочарованиях, а будущее покрыто непроходимым мраком. Генри Перси замолк, и его выразительное, симпатичное лицо исказилось; он стиснул руки и произнес чуть слышно с мучительной, беспредельной тоской: – Прошел уже год, с тех пор как Томас Мор погиб на эшафоте, и еще день после казни Рочестера… Прошел уже целый год, с тех пор как вина за эту ужасную казнь возлагается на нее. На нее! Боже мой, мог ли я думать… что Анна Болейн… моя милая Анна!.. Эта мысль разрывает мне сердце! Всемогущий Создатель! Облегчи это страшное, непосильное бремя или пошли мне смерть! Сатана выпустил свои острые когти, как будто готовясь запустить их в добычу. – Я не просил Тебя, – продолжал тихо Перси, – дать мне жизнь! Иов тоже оплакивал день своего рождения, но Иов не роптал!.. И я, всесильный Боже, сомкну свои уста и покорюсь безропотно Твоей священной воле! Мне думалось сначала, что Ты открыл для меня источник покоя и счастья, который не иссякнет до конца моей жизни; но он превратился в источник жгучих слез. Да будет на все Твоя святая воля! За этим восклицанием графа последовал резкий крик или, вернее, свист; лорд Перси вскочил с места и обвел взглядом комнату; он не увидел никого, кроме Гарри, шедшего от дверей своей обычной неверной походкой. – Это ты свистнул, Гарри? – спросил поспешно Перси. Слуга взглянул на графа. – Нет, – сказал он спокойно. – Это довольно странно. Но ведь ты слышал свист? – Я ничего не слышал. Граф подошел к окну с разноцветными стеклами и открыл его: он увидел во мраке только лучистый след и услышал в глубокой тишине всплеск – как будто очень грузное тело упало в спокойную реку. – Я, признаюсь, не думал, что наши рыбаки занимаются ловлей в такую позднюю пору, – проговорил лорд Перси, всматриваясь в темноту ночи. Но он не увидел ничего необычного: над сияющим пространством царило, как и прежде, полнейшее безмолвие, лес утопал во мраке, спокойная река отражала небесный свод, усеянный блестящими звездами; только где-то вдали слышался мерный стук колес водяной мельницы. Граф открыл окно. – Я, однако же, слышал довольно резкий свист, – с уверенностью сказал он, подходя к старику, который приютился между тем у камина. – Не желаешь ли, Гарри, выпить это вино? И лорд Перси подал ему чашу, взглянув сострадательно на обнаженный череп и на сгорбленный стан своего старого и верного слуги. Гарри схватил ее дрожащими руками, но, когда он увидел при ярком свете пламени крылатого дракона и сверкающий герб, он тотчас возвратил ее своему господину. – Милорд, ведь эта чаша принадлежала вашему достойному отцу, – проговорил старик. – Избави меня Боже прикасаться к ней иначе, как с чувством уважения. Ваша мать принесла ее в дар своему супругу в день вашего рождения; он подарил ей дорогое ожерелье; меня тоже призвали, и ваш отец в порыве невыразимой радости взял вас из колыбели и сказал мне приветливо: «Бог дал мне сына, Гарри, я хочу, чтобы и ты полюбовался им, дорогим моим первенцем!» Он схватил эту самую драгоценную чашу и, налив в нее превосходное вино, осушил ее залпом. Дом наполнился радостным и шумным ликованием, каждый хотел взглянуть на вас, полюбоваться вами. Как теперь вижу: вы лежите в прекрасной колыбели, а кормилица ваша, покойная моя жена, обезумев от радости, повторяет без устали: «Это наследник славы Нортумберлендских графов!» – На земле есть народы, которые оплакивают рождение человека и предаются радости в минуту его смерти… Эти люди умнее, чем мы думаем, Гарри, – произнес Генри Перси. – Зачем вы постоянно говорите о смерти? – сказал старик с упреком и досадой. – Мысль о ней отравила последние годы моей жизни, хотя вся моя молодость прошла в шуме битв и праздновании побед вашего благородного и храброго отца. Я, как верный слуга, гордился его славой, благодарил Творца за все его удачи, радовался успехам его, как своим собственным. Король Ричард погиб у меня на глазах на равнинах Босворта. Когда он посмотрел на вашего отца и встретил его взгляд, исполненный глубокой, непримиримой ненависти, он приказал схватить его, но мы все отступили, и никто не дерзнул посягнуть на свободу отважного вождя. Взбешенный нашей непокорностью, король бросился на своего врага, но не прошло и минуты, как он упал с коня, пораженный бесчисленными смертельными ударами. Сражение при Стоке, по прошествии двух лет после того события, усилило еще нашу ратную славу: граф Линкольн был убит, мы одержали полную, блестящую победу! Но… ведь вы равнодушны и к упоению битвы, и к торжеству победы, хотя первые опыты ваши на ратном поле и обещали иное!.. – Неужели ты думаешь, что я стану сражаться за Генриха Восьмого?! – воскликнул с гневом Перси. – Вспомнил ли он хоть раз, что граф Ричмонд обязан королевским венцом графу Нортумберленду?[515] – Нам не пришлось повторять с той радостью, с которой мы твердили у вашей колыбели: «У графа есть наследник его славы и имени!» – сказал с сердцем старик. – Ваши вассалы видят с душевным сокрушением, как угасает род непобедимых Перси! Вы осыпаете их щедротами, так что, потеряв вас, они потеряют все! Благородное самолюбие, желание сохранить ваше славное имя не смогли взять верх над той роковой печалью, которая затмила, как туча, вашу молодость. – Я не буду оспаривать эту печальную истину, – отвечал Генри Перси. – В судьбе моей действительно есть что-то роковое; на мне лежит тяжелый и непосильный гнет… имя Анны Болейн разрывает мне душу. Я готов думать, Гарри, что на свете есть люди, обреченные расплачиваться за чужие грехи, но нам не дано постичь эту странную и великую тайну; наш слабый ум не может понять цели благого провидения! Мы должны покоряться и уповать на милость всемогущего Бога… И если я не оставлю след на земле, что же в этом особенного? Что слава? Пустой звук!.. Что такое сражение? Уничтожение друг друга людьми, которые даже не знакомы. Наша жизнь проходит так быстро, что о ней не стоит размышлять, Гарри! Можно утолить жажду, голод, но нет средств, чтобы унять нравственные страдания. Я не был обуреваем никакими химерами; одиночество научило меня видеть вещи в истинном свете, без прикрас; я понял, что если в человеке и есть что-нибудь достойное внимания, так это его сердце, а его-то и рвут безжалостно на части!.. Нет, мне нужно иное!.. Мне нужны крылья, Гарри, чтобы улететь отсюда, но я хочу унести с собой ее. – Кого это – ее? – спросил старик, потерявший от старости способность понимать, о ком идет речь, без ясных указаний на имена или фамилии. – Кого? О, Гарри, Гарри! Тебе ли еще спрашивать? – сказал с упреком лорд. – Ну, понятно, кого: ее, Анну Болейн, единственную женщину, которая была и будет мной любима до конца моей жизни! Выслушай меня, Гарри! Только с тобой я могу говорить откровенно, хотя знаю, что тебе не понять всего, что я скажу. Что за беда? Мне нужно излить наболевшее, что облегчит, несомненно, исстрадавшееся сердце! Ты любишь вспоминать о своей молодости, но моя унеслась еще быстрее твоей. Когда я впервые увидел эту женщину, я был глубоко тронут ее детской грацией, ее скромностью; мне показалось, что мы с ней не чужие, что я знал ее прежде. Она была чиста в то блаженное время, она ценила все возвышенное, сопереживала всем страждущим и облегчала страдания всех мучеников. Она казалась ангелом, спустившимся на землю, чтобы напомнить людям о забытом небе! Я ее полюбил, и мне не приходилось стыдиться этого чувства: оно было таким честным! Все, чего я желал, так это оберегать нежное, прелестное создание от всех невзгод. Я смотрел на нее почти с благоговением, как на великий дар, ниспосланный мне Господом; скажу более, Гарри: я пришел к убеждению, что ответствен за ее настоящее и будущее. Я был в расцвете сил, мне были доступны любые наслаждения, но чувство к Анне оградило меня от всех соблазнов: оно даже переродило меня. Я стал смотреть на жизнь по-другому и понял, что мы призваны в нее не для пиров и веселых попоек. Я начал понемногу отдаляться от придворной молодежи и удивлялся способности товарищей проводить дни и ночи в пустых развлечениях. Святые узы брака и семейная жизнь стали конечной целью моих дум и желаний; мне открылось истинное назначение жизни; я не узнавал себя! Анна Болейн была единственной владычицей моей души и мыслей. Я старался развить в ней природные дарования и сформировать ее религиозные верования. Честолюбие было отличительной чертой ее родни, и я один любил ее бескорыстно. Для них же она была не более как средством к достижению целей; все они спекулировали на ее красоте, уповая на то, что брак с влиятельным лицом придаст им больше веса при дворе. Я понял их расчеты и решил просить без всяких отлагательств руки Анны Болейн. Славное имя предков и мое солидное положение в обществе ослепили ее надменного отца: он представил меня собравшимся вассалам в качестве жениха своей прекрасной дочери. Не забыть мне, Гарри, этих блаженных дней! Анна Болейн казалась мне еще очаровательнее в уединении древнего родового поместья, куда ее отец после нашей помолвки разрешил мне являться на правах родственника; когда она входила в темные залы замка, мне казалось, старик, что они наполняются ослепительным светом; когда зной спадал и сменялся вечерней прохладой, мы садились на скамью в тени дубов, недалеко от старого замка; его серые башни казались величавыми на фоне темнеющего неба; воздух наполнялся благоуханием множества растений и цветов, ящерицы скользили по раскаленным камням высокого крыльца и прятались в расщелинах, поросших травой. Птицы весело пели, а я сидел и слушал, как очарованный, сладкие речи Анны и ее нежные клятвы в вечной любви. Ночь спускалась на землю: с колоколен церквей окрестных деревень разносился далеко тихий и мерный благовест, и уста моей милой, ненаглядной невесты произносили набожно вечернюю молитву. Мрак становился гуще и тишина торжественнее, я не мог уже видеть нежное личико Анны, и только ее платье белело в темноте… Ты не в силах понять, насколько тяжелы эти воспоминания! Упоительно время нашей золотой молодости, когда мы верим в счастье, но оно пролетает слишком быстро! И мое счастье, Гарри, постигла та же участь!.. Но кому не известно, чем закончилось мое сватовство? К чему вспоминать те страшные дни, когда в Анне Болейн вдруг заглохли все лучшие чувства, и она нашла в браке с английским королем не власть, а цепи рабства! Ее родной отец, уступая корысти и тщеславию, благословил ее на этот страшный шаг… Бессердечная мать примирилась охотно с ее позором ради громкого титула и пышности, за которой попытались скрыть двусмысленное положение дочери, а младшая сестра взирала с чувством зависти на бесславие старшей! Какое сцепление пороков! Кто в силах описать такое? Подобные события не печалят, но заставляют негодовать, что и происходило со мной в течение многих лет. Но все прошло, и я уже могу молиться за нее. Пусть смеются философы, но я знаю по опыту, что в душе человека существует, помимо дружбы и любви, загадочное чувство, которое нельзя описать: в нем нет ни ревности, ни непостоянства, присущего нашим чувствам; нет земной грязи, эгоистических порывов и желаний; две души как бы сливаются в одну, так что готовы делить и горе, и радость, и позор. Вот чувство, с которым я буду относиться к Анне Болейн до конца моей жизни! Если бы ты спросил, Гарри, почему я живу этим, я бы ответил – не знаю! Кто может читать в нашем сердце? За что, например, мать любит свое дитя? Почему она умирает от горя, потеряв его? Почему даже птица тоскует без своего друга? Я знаю, что подобное чувство испытывают даже неразумные создания. Я помню до сих пор, как в замок принесли пару горлинок; их посадили в клетку, и они легко свыклись с жизнью в неволе; они быстро росли, и их темные перья стали длинными и блестящими; не испытав блаженства вольной жизни, птицы клевали корм и были совершенно довольны. Но как-то летним днем, когда обе они прыгали беззаботно по жердочкам, одна из них упала и повредила ножку; не прошло и двух часов, как она умерла; ее тотчас убрали и присматривали за оставшейся гораздо внимательнее; но птица захирела, перестала клевать корм и вскоре умерла. Скажи мне теперь, Гарри, чем это объяснить? Я бы не мог ответить, точно так же, как и ты, на подобный вопрос, но я уверен, что птицы были связаны неразрывной связью и имели одну общую душу. Ты поймешь теперь, Гарри, почему я всегда на заходе солнца иду, заслышав благовест, в наш деревенский храм. Войдя под его древние своды, я пробираюсь в темный угол и, в то время как аббат совершает вечерний обряд богослужения, склоняю смиренно колени перед Господом и молюсь за нее. Когда нищий появляется у этого замка, завидуя, конечно, по простоте душевной счастью его владельца, я кладу ему в руку щедрую милостыню, и когда его бледное, изнуренное горем и нуждой лицо загорается ярким румянцем, я говорю ему: «Моли Бога за ту, от имени которой я одарил тебя, моли, чтобы Он простил ей все прегрешения!» Нужно признать, Гарри, что положение Анны действительно печально: в этом обширном мире один я принимал в ней сердечное участие, все же вообще настроены против нее враждебно; все проклинают ее имя; все считают ее виновницей роковых несчастий. Кровь неповинных жертв вопиет о возмездии; ответственность за казнь епископа Рочестерского, а еще того более за казнь Томаса Мора возлагается всеми на королеву, а она забыла в водовороте пышных и непрерывных празднеств, что ни один из нас не уйдетот суда Всемогущего Бога! – Ни один, это верно, – сказал бесстрастно Гарри, придвигаясь к огню. – А она, королева, сделала и нам тоже немало зла! Я и шага не могу ступить из замка без того, чтобы кто-нибудь из ваших вассалов не подошел с вопросом: «Как здоровье милорда?» или: «Есть ли надежда, что милорду наскучит жить затворником в замке?» Иные же, прости Господи, я готов иногда разорвать их на части, качают головой, как будто сомневаются в вашем рассудке! Как хотите, милорд, а ведь это обидно старому слуге. – Бедный Гарри! – сказал с состраданием граф. – Так они говорят тебе, что я сошел с ума? – Нет! Они не осмелятся сказать такую дерзость! – воскликнул гневно Гарри, побледнев при мысли об этом. – Почему же нет? – спросил с улыбкой Перси. – И вы мне задаете такой вопрос, милорд? – Ну перестань сердиться! Люди вообще так мелочны, что придают значение даже пустой фантазии, которая взбредет в голову их соседу! – Их соседу, милорд? – проговорил старик с насмешливой улыбкой. – Вы могли бы сказать: «Их господину!» Вассалы должны видеть в вас своего повелителя и покровителя! Я только повторяю то, что слышал не раз от нашего аббата, когда он объяснял обязанности господина по отношению к вассалам. – Аббат говорит дело, – перебил Генри Перси, – и я тебе признателен за то, что ты напомнил мне об этом. Но мне кажется, Гарри, – продолжал он задумчиво после минутной паузы, – что я выполнял эти обязанности. Вассалы мои пользуются всеми благами мирной, обеспеченной жизни… Они ограждены от всяких притеснений… Я делаю для них все, что могу!.. – Все это так, милорд, – продолжал в том же тоне непреклонный старик, – но вы еще обязаны заботиться о том, чтобы интересы их не расходились с вашими. Я предан вам всей душой, вы это сами знаете, я могу сказать вам то, что считаю нужным, и вас не оскорбит моя откровенность. – Ты можешь говорить все, что тебе угодно, – сказал Нортумберленд. – Мне даже часто кажется, что не я, а ты, Гарри, владелец замка! – Думайте что хотите! Я говорил вам, кажется, уже не раз, милорд, что я был в невозвратные времена моей молодости самолюбив и пылок. Следуя неотлучно за вашим благородным и отважным родителем в блистательных походах, стяжавших ему славу, я пристрастился к шуму и волнениям битв. Раз… это было осенью, в сырой ненастный вечер… наше войско спустилось после кровопролитного и упорного боя в широкую лощину. Ночь уже наступила, и все небо закрыла темная туча. Ваш отец отдыхал под холщовой палаткой на пуховых подушках; мы же, грешные люди, стояли под проливным дождем; мы не ели весь день и не могли рассчитывать и на минутный отдых в этом топком болоте. Продрогнув до костей, я печально поглядывал на звездочки, мелькавшие из-за туч, и думал: «Отчего одним людям живется хорошо и привольно, а другим суждено страдать и любоваться на чужое счастье?» Не сердитесь, милорд!.. Мало ли какие мысли заползают в башку голодным и холодным! – Продолжай, – сказал Перси. – Итак, я против воли задавался вопросом: почему у одних целые груды золота, а другие нуждаются в хлебе насущном? – Ну и нашел ты ответ, старик? – спросил лорд с любопытством. Он и сам не раз был, разумеется, морально, в положении Гарри и завидовал людям, жизнь которых проходила без борьбы и тревог. – Да, – отвечал с уверенностью Гарри. – Господь создал богатых и бедных для того, чтобы люди помогали друг другу и не жили бы порознь. Ваш отец, например, нуждался в моей преданности, я же в свою очередь не мог ничего сделать без его покровительства; если бы все были знатны, богаты, умны и избавлены от всяких притеснений, то каждый стал бы жить для себя, и благодарность, преданность, взаимная поддержка – все, что роднит и связывает нас, стали бы совершенно лишними. С той поры, милорд, я решил довольствоваться тем скромным положением, которое Господь избрал для меня в жизни, но это не мешает мне думать, как и прежде, что знатным и богатым не следует чураться неимущих и слабых. – То, что ты сказал, великая, непреложная истина, но ты судишь меня чересчур строго, Гарри! – отвечал Генри Перси. – Я всегда исполнял свой долг и сочувствовал всем, за кого должен отвечать перед Богом. Ты ведь знаешь и сам, что я о них забочусь и поступаю с ними по справедливости!.. Я только не хочу, чтобы ты и они имели притязания на мои чувства к других людям. – А все-таки, – заметил Гарри с назойливым упорством большинства стариков, – все мы были бы счастливее, если бы вы были семейным человеком! – И я первый из всех, – прошептал Генри Перси. Что-то похожее на светлую слезинку мелькнуло и исчезло в его черных глазах. – Неужели, – с горечью промолвил он после недолгой паузы, – ты считаешь меня обязанным сделать для вашей выгоды то, что я не делаю для себя самого? – Как знать! – воскликнул Гарри, любивший бесполезные и пространные прения. – На такие вопросы сразу не отвечают! – Полно спорить, старик! Выпей лучше вина, – сказал с улыбкой Перси. – С удовольствием, милорд, но не из этой чаши!.. Он взял с буфета кубок из оленьего рога с золотым ободком и подал его графу. Лорд наполнил его почти до краев. – Довольно! – сказал Гарри. – Не скромничай, старик! Ты выпивал гораздо больше, когда летел в сражение вслед за моим отцом! – Вы ошибаетесь! – возразил Гарри с большим воодушевлением. – Я вел самую строгую и воздержанную жизнь! О, милорд, это было благодатное время, мне его не забыть! Все радости – ничто в сравнении с минутой, когда войско вступает в покорившийся город под громкие звуки труб и бой барабанов! Везде толпы народа, из всех окон выглядывают любопытные лица, все ликует и движется, офицеры гарцуют на боевых конях, знамена развеваются, а сердце так и рвется из груди! Милорд, в такие дни люди забывают про холод и жажду! – А забывал ли ты в эти минуты, Гарри, о товарищах, которых потерял в сражении, и о тех людях, которых убил? – Их жаль, душевно жаль! Но что же делать? Каждому свой черед: нынче мне, завтра вам! Люди не вечны… Все мы, грешные, смертны. – К счастью, да, – со вздохом сказал Перси. (обратно)Глава II Екатерина Арагонская
Английской город Кимблтон раскинулся на склоне зеленого холма, от подножия которого тянулась огромная плодородная равнина, испещренная быстрыми и светлыми ручьями. Население этой благословенной местности занималось исключительно обработкой земли да еще овцеводством; красильное искусство доведено было почти до совершенства, и пурпурный цвет одежды местных женщин придавал красоте их еще больше блеска. Нрав у жителей был мирный, и никакие смуты не нарушали покой в этом укромном уголке. Кимблтон считался едва ли не самым непопулярным и отдаленным городом Старой Англии, и, когда на политической арене происходили события, привлекавшие всеобщий интерес, он принимал в них только пассивное участие. Живя без смут, крамол, интриг, мирные обыватели понятия не имели не только о дворцовых нравах, но и об особе своего короля. Совершенно довольные своей скромной долей, они считали, что обязаны ему своим благоденствием, и только предписания о взносе податей, вывешиваемые изредка в самых людных местах администрацией, напоминали им о том, что повелитель Англии – король Генрих VIII. Настал, однако, день, когда в тихом Кимблтоне обнаружились признаки всеобщего смятения; горожане суетливо сновали по улицам, дома гудели от шумных, оживленных толков, и женщины были сильно взволнованы и словно обижены. – Королева!.. В Кимблтоне? – восклицали одни с состраданием. – Да, кто бы мог подумать, – говорили другие, – что она, Екатерина, супруга короля и королева Англии, переселится когда-нибудь в Кимблтон? – Королева? – допытывались изумленные девушки. – Она, верно, красавица!.. Король приедет, верно, тоже скоро в Кимблтон? – Зачем ему Кимблтон? – возражали с негодованием женщины. – Он развелся со своей законной женой и вступил в брак с другой!.. Но первая была и будет английской королевой, а вторая останется, что там ни говори, просто наложницей!.. – Чего вы расшумелись? – унимали мужчины расходившихся женщин. – Нам ли судить нашего короля? Негодование женщин усилилось от этих замечаний. – А почему же и не нам? – возражали они. – Королева останется законной женой, пока она жива, но она так слаба, худа и бледна, что ей не перенести такого испытания! Но время, примиряющее бедное человечество с любым положением, усмирило и бурю негодования, вызванную в мирном городке приездом королевы; сострадание к ней было, как и прежде, глубоко и сердечно, но оно проявлялось менее эмоционально. Королева жила в уединенном домике. Она была больна и телом и душой, но никогда не жаловалась. Когда она входила по воскресеньям в церковь, горожане почтительно расступались, и она принимала эту дань уважения с той мягкой благосклонной и обворожительно-приветливой улыбкой, которая, бывало, вызывала восторженные и радостные крики у народа, когда она появлялась на роскошных празднествах, окруженная разодетыми придворными, во всем очаровании красоты и блеске власти. Но счастье переменчиво, и теперь королева Англии одна, без свиты, шла в церковь по извилистым улицам, нередко спотыкаясь о камни жалкой городской мостовой; иногда у нее не хватало сил дойти от домика до церкви. Прошло уже несколько дней, как никто не встречал Екатерину на улицах, но это не привлекло внимания обывателей. Была в разгаре страда, все уходили в поле еще до восхода солнца и возвращались к ночи, разбитые от усталости; городские события в это время никого не интересовали. Время близилось к полудню. Огонь в очагах уже давно погас, дети угомонились и спали крепким сном после сытного завтрака, а пожилые женщины, не ходившие в поле, прикрыли все ставни и сели кто за прялку, кто за плетение кружев; улицы опустели, в городе воцарилась тишина, и человек заезжий легко мог счесть его вымершим. Такая же тишина была в доме, где жила Екатерина. Королева спустилась со второго этажа и медленно шла к выходу. Она была одета в шитое серебром темно-красное платье – богатое, но уже изношенное. Королева несла плетеную корзинку с клубками шерсти различных цветов и вязальными спицами; она шла, опираясь на молодую девушку с чрезвычайно нежным, симпатичным лицом, исполнявшую при ней обязанности служанки. – Вы сегодня заметно свежее, ваше величество! – промолвила девушка, не отрывая глаз от лица королевы. – Напротив, – печально возразила Екатерина, – я сегодня слабее, чем была в эти дни, и опираюсь на плечо твое слишком бесцеремонно, так что даже боюсь… – Нет, – перебила девушка, – опирайтесь сильнее! Я молода, здорова и готова отдать вам половину своих сил и здоровья! Девушка подняла на королеву прекрасные, голубые как небо глаза, во взгляде этом читалось уважение, нежность, живое сострадание. Видно было, что девушка испытывала к королеве не только почтение, но и была привязана к ней. Отбросив со лба великолепные светло-русые волосы, она быстро открыла дверь небольшой столовой, выходившую в сад; но, когда яркий свет полуденного солнца озарил фигуру королевы и ее исхудалое и бледное лицо, глаза девушки выразили глубокую тревогу. – Я вижу, что вам хуже! – заметила она. – Я принесу вам кресло, вы будете сидеть, а я стану работать! – С удовольствием, Элиа, – сказала королева. – Я чувствую сегодня такой упадок сил, что не могу ходить. Элиа побежала, проворная, как птичка, и принесла глубокое соломенное кресло, захватив при этом и подушку. По губам королевы промелькнула улыбка. – Ты была бы искусным декоратором, Элиа! – произнесла она. – Я готова сделаться всем на свете, лишь бы вам было удобно и покойно. Девушка пододвинула кресло к стене, увитой снизу доверху виноградом, и, заботливо усадив в него больную, села у ее ног на густую траву. – Посмотрите! – сказала она, указывая на дальний конец сада. – Я посадила там много фиалок: я думала, вы полюбуетесь ими. – Благодарю тебя, Элиа! Я увижу их завтра, если мне будет лучше! – Мне обещали прелестный белый розан с алой сердцевиной. Я его посажу под вашим окном; у меня будут к осени семена всех цветов, мне их обещали дать… Очень грустно, что у меня нет средств!.. – проговорила девушка, надув алые губки. – Будь у меня деньги, я бы сумела так украсить этот садик, что вы бы не узнали его! – И ты полагаешь, что из него вышло бы восьмое чудо света? – спросила королева. – Нет, – отвечала тихо и задумчиво девушка. – Но он бы стал хорошеньким, уютным уголком. Я вполне сознаю, что все это выглядит жалко после той роскоши, к которой вы привыкли! Мне не раз рассказывали о Гринвичском дворце и его садах… – Не напоминай мне о прошлом, дитя! – сказала королева. – У меня и без того тяжело на душе! Я так страстно желаю увидеть мою дочь… но мне снова откажут в этом великом счастье. Страшно подумать, Элиа, что я не видела ее уже несколько лет и что на все мои просьбы хоть взглянуть на это дорогое и милое создание нет ответа. Ты упомянула о Гринвичских садах!.. Она бегала в них – беленькая, веселенькая и легкая, как птичка, и садилась потом, как ты, у моих ног; русые кудри спадали ей на плечи, а я гладила с нежностью и гордостью эти чудесные волосы!.. – Так вы любите дочь свою больше всего на свете? – спросила резко Элиа, и даже человек не совсем проницательный подметил бы в тоне ее ревность. – Люблю ли я ее? Какой странный вопрос! – сказала королева. – Она – моя жизнь, хотя жизнь эта быстро клонится к закату; она – моя надежда, хотя мои надежды опали, как лепестки увядшего цветка!.. Все чувства меняются, Элиа, но только не это; оно крепнет с годами, вмещая в себя и сочувствие, и терпимость, и готовность на всевозможные жертвы. Нет, Всевышний вложил частицу Своей любви в материнскую любовь, и когда наступает торжественный момент расставания с жизнью, отец и мать поднимают с усилием руку, чтобы благословить в последний раз детей. Королева была не в силах продолжать; ей стало трудно дышать; она плотно прижалась к высокой спинке кресла и закрыла глаза. Но не прошло и минуты, как рыдания Элиа заставили ее изменить позу. – Что с тобой, дитя? – спросила Екатерина с очевидной тревогой. – У меня никогда не было матери, – отвечала девушка, – и я почти свыклась с отрадной мыслью, что вы замените ее… Когда вы засыпали, я садилась возле вашей постели и невольно думала: «Это не королева. Она бедна так же, как и я; у нее, как и у меня, нет никого на свете. Если бы она нуждалась в хлебе насущном, я сумела бы добыть его и поделиться с нею, но у нее есть средства на пропитание, и мне остается только любить ее с беспредельной преданностью!» Вы постоянно говорите о дочери, но я ее не знаю, а любить незнакомого человека едва ли возможно. Неужели вы думаете, что, живя в сиротском приюте, я не знала, что обязана вам всем? Я была привязана к вам уже в те далекие времена, когда вы приезжали в приют в белом атласном платье, подбитом горностаем, ослепляя блеском бриллиантов. Вы скрывали от нас, что мы, дети, существуем только благодаря вашим заботам, но это открылось помимо вашей воли. Когда вы потеряли власть в королевстве, нас выгнали на улицу, не заботясь о том, что у нас нет ни крова, ни хлеба насущного; я оказалась счастливее других: мне представился случай добраться до Кимблтона. Когда я пришла к вам в этот маленький домик и вы согласились взять меня в услужение, вы спросили: «Скажи, милая, сколько бы ты желала получать за свой труд?» Я уже готова была сказать вам: «Мне ничего не нужно!», но рассудок подсказывал мне, что вы не захотите принять меня в свой дом на подобных условиях, и я ответила: «Один фунт в месяц». Вы, конечно, не знали, что я испытывала, когда получала от вас это скромное жалованье! Ведь вы могли подумать, что мною руководит корысть, а я, не задумываясь, отдала бы за вас жизнь! Рыдания мешали девушке говорить. – Ты совершенно права! – сказала королева, тронутая печалью и преданностью Элиа. – Когда ты явилась с предложением услуг, я действительно подумала, что видела тебя когда-то прежде!.. Зачем ты скрыла это? С той поры все изменилось, я столько пережила и передумала… – Что вам, естественно, было не до меня! – докончила девушка с горечью. – Ты упрекаешь меня? Но, насколько помню, я никогда не обидела тебя ни словом, ни поступком. – Никогда! – воскликнула с воодушевлением девушка. – Но объясните мне, кто была моя мать? – Я не могу ответить на подобный вопрос: ее имя, дитя мое, известно только Богу… В Лондоне на самых людных улицах часто находили подкинутых младенцев, и… я делала все, что от меня зависело, для этих беспомощных и несчастных созданий. Больше я ничего не могу сказать, Элиа!.. – Так и меня нашли на улице? Королева хранила молчание. – Вы не отвечаете, – продолжала все так же пылко девушка, – но вы не отрицаете, что нашли меня на улице, что вы дали мне кров, одежду, пищу и даже позаботились, насколько можно, о моем образовании. Кого же мне считать матерью? Разумеется, вас! Кому я обязана всем? Исключительно вам! Уступая порыву, Элиа обвила обеими руками стройный стан Екатерины. – Никто в мире не посмеет разлучить меня с вами! – воскликнула она. – Мне нет дела до вашего королевского звания, я обязана вам настоящим и будущим, я буду вас любить помимо вашей воли, я готова мести улицы и таскать камни, лишь бы вы могли жить спокойно и не испытывать лишений. Печальная улыбка промелькнула по лицу королевы; притянув к себе девушку, она поцеловала ее в лоб. – Так скажите же мне, что я имею право считать вас матерью! – настаивала Элиа, держа в руках мелкие коралловые четки, прикрепленные к пряжке кушака королевы. – Дайте честное слово, что с этого дня вы не станете платить мне деньги и что я постоянно буду жить при вас. – Я даю тебе слово, – сказала королева, – но ведь ты видишь, что судьба против нас: я слабею чуть ли не с каждым днем; на прошлой неделе я могла добраться до места, где, по твоим словам, теперь цветут фиалки, а сегодня я не в силах пройти и двух шагов; пройдет некоторое время, и меня похоронят на Кимблтонском кладбище! – Нет, вы будете жить! Вам нельзя умирать! – перебила ее встревоженная девушка. – Господь послал мне мать не для того, чтобы взять ее обратно! – Да, но смерть не разлучит верующих в Господа: она не помешает мне молиться за тебя! И когда я уйду от земных испытаний, ты должна будешь передать моей дочери прощальный привет, и она позаботится о тебе! – Если вас не станет, – проговорила девушка с невольным содроганием, – я буду странствовать, не ведая утром, где мне придется преклонить голову вечером. Случалось ли вам видеть отставшую собаку? Она рыщет по улицам, отыскивая след своего господина: в первое время она еще не чуждается людей; но дни идут за днями, хозяина нет, и собака становится свирепой и дикой; со мной будет то же, что с бродячей собакой!.. – Я надеюсь, дитя мое, что ничего подобного не случится, – заметила спокойно и строго королева. – Я верю от души, что ты займешь иное положение в жизни, и сделаю все от меня зависящее! Элиа промолчала. Две слезинки скатились с ее длинных ресниц. (обратно)Глава III Виндзор
В Виндзоре, летней королевской резиденции, находившейся в нескольких милях от Лондона, царило необычайное оживление: в обширный двор один за другим въезжали огромные фургоны, наполненные кладью, а слуги выгружали ее и вносили во дворец. На королевской кухне тоже кипела работа; главные повара с чувством собственного достоинства отдавали приказы, и вокруг них вился целый рой поварят. В королевских покоях было не менее шумно. Обойщики, взобравшись на высокие лестницы, драпировали окна ярким и дорогим бархатом, прислуга расстилала роскошные ковры и наполняла вазы букетами живых душистых цветов. Зимний холод сменился теплом наступающей весны; обширные сады Виндзорского дворца оделись яркой зеленью; чащи густых лесов, опоясывавших местность, огласились веселым щебетанием птиц, беготней резвых ланей и воркованием горлинок, вивших себе гнезда в ветвях старых дубов. Широкая терраса Виндзорского дворца спускалась прямо к величественной Темзе; на большой круглой башне, которая возвышалась над всеми бельведерами и маленькими башнями, развевался английский национальный флаг; королевский дворец был обнесен валом, его входы и выходы охраняла стража, и король мог спать совершенно спокойно на своем пышном ложе. Но какие бы блага ни предоставила жизнь немногим избранным, они не могли заглушить голос совести: он перекрывает звуки веселой бальной музыки, шум застольных разговоров, держит в напряжении рассудок, мешая найти хоть на время спокойствие и забвение. Совесть повторяет непрестанно роковые слова: «Дни нечестивого сочтены!» Преследуемый мрачными и грозными видениями, король Генрих VIII, супруг Анны Болейн, перебрался поспешно из Лондона в Виндзор. Он окинул рассеянным взглядом прекрасные сады, окружавшие это летнее прелестное убежище; проходя через двор, он отвернулся, чтобы не видеть богато и изящно отделанной часовни Святого Георгия – места его погребения; он вдруг подумал, что под ней уже вырыта глубокая могила; наступает неминуемо, и, может быть, очень скоро, то роковое время, когда в эту могилу опустят тяжелый гроб, обитый черным бархатом с вышитыми на нем блестящими гербами Тюдоров, и холодным останкам, лежащим в этому гробу, воздадут последний раз королевские почести, чтобы предоставить их потом тлению! Он слегка побледнел и ускорил шаги. Минуты через две Генрих VIII уже сидел в своей роскошной спальне; у его ног лежали две большие собаки; яркий солнечный свет смягчали шелковые шторы, искусно разрисованные букетами и птицами всевозможных пород; свежий чистый воздух, пропитанный душистыми испарениями, наполнял комнату. Король был явно печален и расстроен. – Я думал найти здесь покой и отдых, – прошептал он с унынием, – но ничуть не бывало: Лондон переселился вместе со мной в Виндзор. Я уже успел заметить на одном из фургонов герб милорда Кромвеля… графа Эссекского… и главного викария всех церквей королевства… этого антиримлянина и антихристианина… нахального грабителя с четырьмя, нет, что я говорю, с тысячью рук, с тысячью карманов, с тысячью мошеннических непостижимых фокусов… негодяя и выскочку, наделенного, кроме того, счастливой способностью поглощать груды золота, не подавившись им… Интригана, задавшегося целью нажить себе богатство на тот случай, если я сокрушу его и втопчу в грязь, из которой он вышел! И как это случилось, что я сделал его моим первым министром и, помимо того, еще графом Эссекским, что на гербе его теперь военные доспехи и он самое важное, могущественное, влиятельное лицо после моей особы!.. Не грезятся ли мне такие чудеса? Нет, тысяча проклятий, это истина! Генрих VIII ударил себя с негодованием в лоб, и по лицу его пробежала какая-то тень. – Ах, как бы я желал вылезти из своей шкуры! – воскликнул он внезапно после короткой паузы. – Скука душит меня. А я вообразил, что вздохну свободнее в Виндзоре! Эта рана, открывшаяся у меня на ноге, не дает мне покоя, и она, без сомнения, сведет меня в могилу. Король невольно провел рукой по ноге. – Сверху бархат и пряжка, унизанная жемчугом и крупными бриллиантами, а под ними – клочок ветхого полотна, весь пропитанный черной, испорченной кровью! Язва не поддается никаким врачеваниям и идет вглубь – скоро обнажится кость! Нет, тысяча чертей!.. Я не позволю Екатерине увидеть хоть на минуту дочь. Король небрежно вынул из левого кармана измятое письмо, написанное, по-видимому, не совсем твердым почерком, и посмотрел внимательно на адрес и на подпись. – Она опять подписывается: «Ваша жена». Экая упрямица! Ведь я не двоеженец! Нет, я не дам ей увидеться с дочерью: она вполне способна подогреть в ней врожденную склонность к властолюбию. А она намекает на моего преемника!.. Но рана – это еще не смертельная болезнь!.. Я могу прожить годы, если буду относиться к ней с надлежащим вниманием. Король схватил сонетку и позвонил. За тяжелой портьерой, маскирующей дверь, послышались шаги; вошел молодой паж и молча поклонился своему повелителю. – Приехал ли Клемент? – спросил Генрих VIII. – Он здесь, ваше величество, и просил доложить, что он явится к вам, как только освободится. – Освободится? – повторил с непритворным изумлением король. – Да, будьте снисходительны к нему, ваше величество, – произнес робко паж. – Мастеровой, работавший в гостиной королевы, упал с высокой лестницы, и доктор оказывает ему помощь. Король нахмурил брови. – Клемент не подчиняется придворным правилам и презирает лесть! – проворчал он сквозь зубы. – Черт бы их всех побрал! Их присутствие наводит на меня нестерпимую скуку, а как только их нет – в них появляется надобность. Нужно прожить тысячу лет, чтобы избавить себя от разных неудобств!.. Вот наконец и доктор! Действительно, за дверью послышались шаги, и в комнату вошел главный придворный медик. – Вам угодно было призвать меня, ваше величество, и я поспешил явиться, – произнес он почтительно. – Вы спешили, но не очень! – сказал резко король. – Прошу вас извинить меня за это промедление: один мастеровой упал и получил жестокие ушибы, бедняга сильно страдал. – А я не страдаю? – Вы, конечно, страдаете, – торопливо ответил доктор, – но я все-таки думаю, что все ваши страдания – ничто перед страданиями этого горемыки. – И вы вполне уверены, что не ошибаетесь? – Я от всей души желаю, чтобы это было истиной, – ответил мягко врач. – Браво, браво, мистер Клемент! Вы сегодня любезнее, чем обычно! – Ваш комплимент не лестен, и вашему величеству следовало бы оставить меня при госпитале; я, право, не гожусь на роль придворного врача, и вы знаете это точно так же, как я. Я говорил вам об этом уже несколько раз. – Да, говорили, клянусь святым Георгием! – сказал с сердцем король. – И потому я не могу проникнуть в ваши мысли. Вы скрытны, несмотря на кажущуюся открытость! Вы, например, хотите вернуться в госпиталь, хотя знаете, что я ежеминутно нуждаюсь в вашей помощи! – Вот я и стою перед вашим величеством с душевной готовностью служить вам чем могу! – сказал полушутя-полупечально доктор, скрестив на груди руки. – Клемент, эта рана не дает мне покоя! – проговорил король. – А вы, ваше величество, приложили тот пластырь, который я вчера приготовил для вас? – Приложил, разумеется! – В таком случае нужно подождать, когда он начнет действовать. – Ждать, только ждать! – воскликнул с нетерпением и досадой король. – А скажите, Клемент, сколько в вашем госпитале мест? – Я уже раз пятьдесят имел честь вам докладывать, что у нас двести коек, не считая шестидесяти, устроенных недавно королевой Екатериной, – ответил ему доктор с невозмутимым видом. «А ее продолжают величать королевой», – подумал с озлоблением король, а вслух сказал: – Как это недавно? Ведь с той поры прошло почти двенадцать лет? – Ну да, ваше величество, и если я говорю «недавно», то потому, что вот уже сорок лет как служу в госпитале Святого Томаса. Здоровье королевы, то есть принцессы Галльской, – поспешил он добавить, – находится, как слышно, в печальном положении, и я был бы вам много и много благодарен, если бы вы позволили мне поехать в Кимблтон!.. – Я убежден, что вы бы собрались навестить Екатерину скорее, чем явились ко мне. – Но я, ваше величество, пришел в ту же минуту. – Да, когда вы сочли, что свободны. Но довольно. Раз вы всегда проявляете сочувствие к королевам, то скажите мне кстати, какого вы мнения об Анне Болейн? Старый врач рассмеялся. – Что вы, ваше величество! – отвечал он веселым и добродушным тоном. – Да разве я осмелюсь высказывать суждение о моей повелительнице? Ведь это то же самое, что подставить голову под удар топора! Я не настолько глуп, чтобы позволить себе подобную дерзость. – Без шуток и без вольностей! – крикнул гневно король, устремив на врача сверкающий взор. – Я позволяю их только в известной степени, да и то не сегодня, примите это к сведению! Я требую, чтобы вы объяснили мне, какое впечатление производят на вас поступки королевы? Доктор сразу понял, что разговор принимает весьма скверный оборот. – Меня удивляет приказ вашего величества… Я не могу понять… – сказал он нерешительно. – И я, мессир Клемент, тоже должен признаться, что не понимаю вашего удивления! Мне отлично известно, что вы были недавно на тайном совещании у королевы Анны. – Это ложь! – отрывисто произнес Клемент. – И тот, кто сообщил вам такую небывальщину, презренный клеветник! – Но Анна тем не менее присылала за вами и спрашивала, сколько мне осталось жить?.. – Повторяю опять: это наглая ложь! – отвечал старый врач с негодованием. – Вы, верно, и в самом деле думаете, что у меня нет глаз! – воскликнул, задыхаясь от бешенства, король Генрих VIII. – Вы, верно, воображаете, что я не замечаю гнусного поведения Анны Болейн и толпы поклонников, которых привлекают ее непринужденные и вольные манеры! Или вы полагаете, что я дам опозорить свое имя и звание женщине, которую возвел на престол и которая была до того лишь смиренной верноподданной? Если я надел на нее королевскую корону, то не затем, конечно, чтобы она позволила себе омрачить ее блеск; если я дал ей скипетр, то не затем, чтобы она втоптала его в прах! – Этот скипетр тяжел для таких нежных рук! Его в силах удержать только женщины королевского рода! – произнес старый доктор сурово, обнаружив все свои симпатии и убеждения. Благородный старик не мог свыкнуться с мыслью, что скипетр перешел из рук Екатерины, дочери короля, в руки Анны Болейн. – Ваш ответ равносилен прямому порицанию моих распоряжений, – заметил вскользь король. – Зачем вы меня спрашиваете? – ответил старый доктор, проклиная в душе свою неосторожность. – Затем, сэр Клемент, – сказал король с угрозой, – что я спрашивал вас не о том, что мне следует или не следует делать… Доктор стоял и слушал, не поднимая глаз. – Я требую от вас, – продолжал повелительно и надменно король, – рассказать без утайки, что хотела узнать от вас Анна Болейн? – Не знаю, – отвечал с нетерпением Клемент, – что хотела услышать от меня королева, так как она действительно присылала за мной, но знаю твердо, что я не был у нее!.. – А почему вы не были? – спросил Генрих VIII, взглянув на медика пристально и подозрительно. – Потому что мне некогда ходить на совещания, где обсуждается состав румян или помады, – возразил старый доктор. – Королеве лучше обратиться к различным шарлатанам и своим камеристкам: они найдут цвет, который она хочет придать своим бровям, волосам и ногтям. Король расхохотался, но веселость его была непродолжительна, и на лице вдруг появилось выражение презрения и даже отвращения. – И эту женщину я возвел на престол! – сказал Генрих VIII с глухим негодованием. – Рассудите, Клемент, достойна ли она носить королевскую корону? – Человека не переделать, – возразил старый доктор. – А королева Анна – хорошенькая женщина в полном смысле этого слова. И ничего более! Но король не расслышал этого замечания. – Другая, не такая тщеславная и мелочная и более достойная титула королевы, займет ее место! – проговорил он с угрозой. – Она не станет предметом всеобщих порицаний, не навлечет позор на мой трон и мое имя! – Опять другая! – проговорил Клемент, но так тихо и робко, что сам не расслышал собственных слов. – Итак, Анна Болейн присылает за вами исключительно для обсуждения состава румян или помады? – спросил его король. – Приблизительно да, но она, кроме того, заставляла меня уже несколько раз смотреть вместе с другими, как наряжают кошку или чешут собаку и вообще тратить время на другие, не менее бессмысленные вещи. – Мне с трудом верится, что Анна призывает вас для таких пустяков, – сказал сухо король. – Но так как вы решили быть скромным до конца, то знайте, сэр Клемент, что мне известно больше, чем воображают Анна и ее приверженцы! Агенты, на которых я могу положиться, следят за каждым шагом этой безмозглой куклы. Он схватил руку доктора и сжал ее так сильно, что старик побледнел от боли. – Осторожнее, ваше величество! – произнес он со стоном. – Вы чересчур изнежены, – сказал колко король, – но вы не проявляете особенной чувствительности, когда перевязываете мою больную ногу. Доктор не возражал на это замечание. – Я уже несколько раз говорил вам, Клемент, и повторяю с таким же убеждением: Анна Болейн желает всем сердцем моей смерти; она надеется благодаря смазливому личику привлечь на свою сторону всех лордов королевства и управлять народом от имени заморыша, который родился от нашего союза! И как я мог надеяться, что от подобной женщины может родиться сын?.. – Все эти обвинения чрезвычайно важны! – проворчал сэр Клемент, озадаченный откровенностью и пылкостью, с которой говорил в это утро король. Как и все приверженцы изгнанной королевы, старый доктор считал семейство Болейн, не исключая Анны, способным на любые поступки и не стал возражать своему повелителю. – Не далее чем вчера, – продолжал король с тем же негодованием, – она вдруг обратилась к одному из придворных юнцов и спросила шутливо, не хочет ли он обуться в сапоги мертвеца, то есть вступить с ней в брак после моей кончины? Несчастная рассчитывает на эту рану! – воскликнул он с отчаянием. – Но если она случайно ошибется в расчете, то какое средство она выберет, чтобы скорее достичь своей заветной цели? Старый врач побледнел, и лицо его выразило глубокую тревогу. – У вашего величества есть преданные слуги, которые сумеют оградить вас от козней ваших тайных врагов! – отвечал он неровным, но решительным голосом. – О, Клемент! – возразил взволнованный король. – Сколько принцев, имевших точно таких же преданных и неподкупных слуг, стали жертвами неожиданной насильственной смерти! Убийца заверял их в своей преданности в ту самую минуту, когда его кинжал наносил им смертельный удар; дружеская рука подносила им чашу с отравленным вином на оживленном пиру! Клемент, ты никогда не давал мне повода усомниться в тебе, ты меня не обманывал и не льстил мне! Я верю в твою честность, неподкупную преданность: присматривай же за ними! Я не дам прикоснуться к моей больной ноге ни одному врачу, кроме тебя. Мне надоела жизнь, но я буду отстаивать ее с отчаянным упорством. Если бы я мог пасть со славой в бою, я не стал бы жалеть ни о чем, что оставил на земле, даже о престоле; но умереть в засаде или от руки врага, который будет смеяться надо мной, наслаждаться моими предсмертными мучениями и оскорблять меня безнаказанно, который возьмет скипетр, стоящий около моей постели, и завладеет моей королевской короной, – это выше моих сил, мысль об этом отравляет мое существование! И когда эта женщина предлагает мне блюдо с моего же стола и смотрит на меня с веселой улыбкой, я только в редких случаях отвечаю согласием на такую любезность. Я смотрю подозрительно и на того, кто подает мне хлеб, и на того, кто подносит вино; я сажусь за обед иногда раньше, а иногда позже назначенного времени, но отлично знаю, что подобные меры – плохая гарантия, если враги мои действительно решили завладеть моим троном! Генрих VIII замолчал и откинулся на высокую спинку кресла, как будто обессилев после длинной и эмоциональной речи. Но не прошло минуты, как он внезапно и стремительно вскочил с места. – Клемент! – воскликнул он повелительным тоном. – Не смейте говорить никому о нашем разговоре! Да притом… почем знать? И вы тоже, быть может, принадлежите к партии моих тайных врагов? Кровь прилила к сердцу старого доктора, и его всегда кроткое, спокойное лицо запылало от гнева. – Ваше величество! – сказал он изменившимся голосом, изобличавшим силу его негодования. – Вы, верно, в лихорадке… Только этим я могу объяснить такое оскорбительное для меня заключение! Ваша жена, ваш врач, весь ваш придворный штат, не исключая этой бедной собаки, которая дремлет около кресла, вступили в общий заговор против вашей особы! – Ну, извините, доктор, – проговорил чуть слышно сконфуженный король. Он был втайне доволен гневом сэра Клемента, а еще того более пылающим румянцем, покрывшим бледное, спокойное лицо старого медика. «Кровь никогда не лжет! – рассуждал подозрительный Генрих. – Язык может лукавить… Люди умеют плакать притворными слезами… Но кровь не подчиняется никаким приказаниям; румянец вызывают только сильные чувства, но нельзя забывать, что человек краснеет иногда от стыда, от сознания своей страшной испорченности!» – Сомнение – самый злой из бичей человечества! – воскликнул, уступая невольному порыву, раздраженный король. Он подошел к кушетке, которая стояла на другом конце комнаты, и упал на нее так грузно и стремительно, что раздался довольно сильный треск. Тогда доктор Клемент приблизился к нему и сказал с достоинством: – Государь! Я лечил вашего уважаемого покойного родителя и вашу августейшую, благородную мать Елизавету Йоркскую; я присутствовал при кончине вашего деда. Я служил так же честно и вам, ваше величество. Я хотел служить вам до конца моей жизни, но одно ваше слово все перевернуло, и я клянусь своей совестью, что с этой минуты никогда не появлюсь во дворце! Старик снял с шеи орден, данный ему за верную и усердную службу, и, положив его почтительно у ног своего повелителя, вышел медленным шагом из королевской спальни. Генрих VIII молчал, и лицо его оставалось бесстрастным, но, когда доктор вышел, он произнес невнятно какое-то проклятие и оттолкнул носком своего сапога орден сэра Клемента. Но вспышка гнева уступила место печальному раздумью. – Я его заподозрил совершенно напрасно, – прошептал он уныло, – он один из всех был мне душевно предан; никакие сокровища не смогли бы заставить его поступить против совести; я могу обвинить его только в преувеличенной приверженности Екатерине! Он, как и все почитатели этой властолюбивой и надменной принцессы, не простил мне моего брака с Анной. Но я и сам, черт возьми, сознаю все безумие подобного союза!.. Эй, Клемент, вернись! – крикнул громко король. Убедившись, что доктор не слышал его зова, Генрих VIII привстал и потянул порывисто и сердито сонетку. Паж быстро вошел в спальню. – Сэр Клемент еще здесь? – спросил его король. – Он только что уехал. – А есть ли кто в приемной? – О да, ваше величество, там находятся граф Кромвель Эссекский и испанский посланник! – Как? Испанский посланник? Он уже опять здесь! – проговорил король с большим воодушевлением. – Пусть он ждет, если хочет, а мне хочется спать… Нет, впрочем, попроси ко мне графа Эссекского! И Генрих лениво растянулся на кушетке. Кромвель почтительно, но торопливо вошел в спальню. Худоба его и зловещий огонь, горевший во впалых и лживых глазах, привлекли в это утро более обычного внимание короля. «Да, природа умеет метить ядовитых ехидн: их никогда не откормишь!» – подумал он невольно, посмотрев исподтишка на своего министра. – Ну, что нового, граф? – спросил он вслух с добродушной шутливостью. – О чем вы толковали с посланником? Он явился, конечно, опять с просьбой Испанского двора улучшить по возможности участь принцессы Галльской?! – Я даже заметил у него в кармане какой-то пакет: это, верно, прошение! – отвечал Кромвель, подражая шутливо-добродушному тону своего повелителя. – Ну да, старая песня! – сказал Генрих VIII. – И я знаю заранее, что прочту в прошении неизменную фразу: «Имеем честь поставить еще раз на вид английскому монарху, что принцессе испанского королевского дома нельзя жить без слуг, без экипажа, в простом и бедном домике в отдаленном Кимблтоне!» Они бы завопили еще сильнее, если бы этот домишко не был моей собственностью. Да и кто принуждал ее жить в этом захолустье? Разве я ей мешал вернуться в Испанию? Да, нечего сказать: тяжелую обузу взвалили вы мне на плечи! – Я?! – воскликнул Кромвель не без испуга. – Но я, ваше величество, только выполнял ваши приказания! – Так! – возразил король с язвительной насмешкой. – Позвольте же спросить, не эти ли советы нашептывал мне ваш лукавый язык? Уж не я ли придумал систему разрушения, к которой вы сумели склонить меня силой вашего красноречия? – Но я, ваше величество… – начал было Кромвель. – Пожалуйста, без «но»! – перебил повелительно и надменно король. – Не спорю, в казну мою поступило две-три пригоршни золота от всех наглых захватов, совершенных милордом графом Эссекским с моего разрешения, исторгнутого у меня помимо воли под предлогом поправить финансы королевства и вывести мой корабль в золотое море. – За что вы оскорбляете меня, ваше величество? – проговорил Кромвель изменившимся голосом. – Я говорю вам, граф, – перебил снова Генрих, наслаждаясь мучениями человека ему антипатичного, которого, однако, он считал невозможным удалить от себя, – и говорю, заметьте, с глубоким убеждением, что принятые меры обогатили только вашу особу! Начнем хотя бы с сокращения числа монастырей. Что мне это дало? Сущие пустяки, так как все поземельные церковные угодья достались лордам! Ведь только подкуп склонил их отречься от римско-католической церкви и признать меня папой! Но нельзя же отрицать, что сам сатана не дал бы за их души и сотой доли той суммы, за которую я купил их голоса! А сколько мне пришлось выделить вам как главному викарию моего королевства? Ведь доход с четырех богатейших епархий, земли дюжины упраздненных обителей, права, титулы, пенсии, ну одним словом, все, потому что вы были голы и ничтожны, как земляной червяк, и остались бы им, если бы я вас не вытащил из болота!.. Лицо Кромвеля вспыхнуло, он опустил глаза. – Я ни на минуту не забываю о великих милостях, которыми вы удостоили меня, ваше величество! – произнес он почтительно. – Ну еще бы! – воскликнул запальчиво король. – Вы и лорды всегда должны помнить, что я незаменим во многих отношениях, что вы сильны до тех пор, пока я этого хочу! Да, я слежу за всем, я проникаю в глубь человеческой мысли, я смело встречу любую опасность и смещу не задумавшись неверного министра при первом доказательстве его недобросовестности! Граф Эссекский не поднимал глаз, он был ужасно бледен; ему пришло на ум, что король собирается обвинить в измене и предать суду его и других лордов, которые горячо поддерживали его на заседаниях Совета. МилордКромвель не знал, на что ему решиться и что ответить на эти не совсем прямые обвинения; положение было довольно щекотливым; он решил молчать. – А сколько возмутительных проступков и наглых грабежей, – продолжал мрачно Генрих, – которые навлекли на меня порицание народа, так как совершались, конечно, от моего имени. Чего только не придумывали! С икон снимали ризы, из обителей брали церковные сосуды под предлогом, что при их учреждении не соблюдены формальности закона! Подумаешь невольно: «Какой великолепный и святой человек этот милорд Кромвель!..» Хотелось бы только узнать, сколько денег вы заполучили от всех этих захватов. Да, нечего сказать, мы отважно вступили на путь нововведений, отринув католическую церковь… даже слишком отважно! – Все, что я выслушал от вашего величества, удивляет меня в высочайшей степени! – промолвил граф Эссекский. – Удивляет? – повторил с ядовитой усмешкой король. – Ну так что же? Удивление – неплохой путь к отступлению, да, нечего ответить! Скажите мне, каковы размеры вашего состояния! А, вы не знаете! Но я-то знаю лучше, чем вы. Запомните, милорд Кромвель, что я иду на обман только в экстренных случаях, когда вижу в этом свою личную выгоду, и учтите: мое снисхождение покупается исключительно рабским повиновением моей железной воле! – Я подчинялся ей без всяких оговорок не из боязни, но потому что глубоко и непритворно предан вам, – проговорил Кромвель. Он вздохнул с облегчением, и лицо его приняло свое обычное невозмутимое выражение. «Король еще нуждается в моем повиновении, а это доказывает, что я не впал в немилость!» – рассудил граф Эссекский. – Посланник еще здесь? – спросил Генрих VIII. – Да, он в приемной. – Чего он добивается? Постарайтесь избавить меня от этого свидания! – Это довольно трудно, – ответил граф Эссекский. – Он заявил, что намерен добиться аудиенции у вашего величества во что бы то ни стало, он и так уже жалуется на вашу недоступность. – Какой он назойливый! – проговорил король. – Он будет опять говорить о Екатерине! – Да, вероятно. – Так введите его скорее! – вскричал Генрих VIII с нетерпением. – И внушите ему, что я сегодня чувствую себя не совсем хорошо и ему не следует испытывать мое терпение! Кромвель вышел из комнаты, а король растянулся на подушках кушетки. (обратно)Глава IV Король Генрих VIII и посланник Шапюис
– Ну-с, о чем вы хотели поговорить со мной? – спросил Генрих VIII вошедшего посланника. – Я хотел, разумеется, прежде всего выразить вашему величеству чувство моего глубочайшего уважения, – отвечал Шапюис, подходя к королю со всем высокомерием истинного испанца. Его своеобразный национальный наряд из дорогого бархата с причудливыми вышивками ослеплял своей роскошью. – Я не в силах смотреть без отвращения на эту пестроту! – проворчал король. – Каждый раз, когда я вижу перед собой испанца, мне приходит на ум, что я вижу дьявола! Я старался убедить Екатерину одеваться проще, но она продолжала следовать своей глупой национальной моде. – Вы, по-видимому, чувствуете себя не совсем хорошо? – спросил Шапюис. – Да, у меня немного болит голова… – отвечал сонно и нехотя король. – Но это пустяки, – поспешил он добавить, встревожившись при мысли, что его могут счесть больным. – Я устал от охоты, я пять часов провел в седле, а это, как хотите, довольно утомительно! – Я желал от души застать ваше величество в полном здравии и в хорошем настроении духа, так как спешил явиться к вам с весьма радостной вестью… – Какая же это весть? – спросил быстро король. – Император Карл Пятый одержал новую блестящую победу: он взял штурмом Гулетту! Тунис сдался ему, Барбарусса бежал, и десять тысяч христианских семейств, попавших в неволю, получили свободу! – Как? Он вступил в Тунис и овладел Гулеттой? – вскричал Генрих VIII, вскочив с кушетки. – Да, император сделал это, – отвечал посланник, скрывая радость под маской адской невозмутимости. – Ну, поздравляю вас, – сказал холодно Генрих, делая над собой громадное усилие, чтобы подавить досаду, вызванную известием об этом славном подвиге, и глубокую зависть к славе императора Карла. – Вы знаете, вероятно, подробности этих важных событий? – К сожалению, нет. Мне известны пока только главные факты… Позвольте изложить их вашему величеству. Когда флот наш выступил из порта Калиори, командование им было поручено Антонио Дориа, а сухопутные силы возглавил маркиз дю Гваста… – Я все это знаю, рассказывайте дальше! – перебил король нетерпеливо. Посланник помолчал и продолжал все тем же невозмутимым тоном: – Несмотря на упорное сопротивление турок, запершихся в форте, и почти беспрерывное нападение мавров на лагерь осаждающих, Гулетту взяли штурмом. В ней нашли триста пушек. – Триста пушек? – воскликнул изумленный король. – Испанцы овладели неприятельским флотом, и им досталось ровно восемнадцать кораблей. Узнав об этом громадном поражении, Барбарусса решил выступить из Туниса и дать нам бой. Когда стало очевидно, что испанцы побеждают, он решил вернуться и запереться в городе, но местные жители, спасавшиеся беспорядочным бегством, преградили ему дорогу, а христиане, пользуясь благоприятным случаем освободить себя от неволи и плена, успели в это время овладеть цитаделью. Барбарусса понял полную безвыходность своего положения и бежал в город Бонну. – Да, нельзя отрицать, что смелость и находчивость христианских невольников оказали испанцам громадную услугу! – сказал с улыбкой Генрих, обрадованный случаем бросить тень на славу императора Карла. – Все дело заключалось в успехе при Гулетте! – возразил посол. – Тунис слишком обширен, укрепления его недостаточно прочны, а его население состоит из людей разных национальностей. У Барбаруссы не было возможности выдержать осаду! – Ну а на что рассчитывает мавританский султан, который шел все время за испанской армией с протянутой рукой? – спросил Генрих VIII с презрением. – Мавританский султан никоим образом не унижался! – отвечал Шапюис. – Император отнесся к нему с уважением и вернул потерянный престол. Король расхохотался, но это был принужденный смех. – Как! Вы возвели на трон Мулей-Гассана? – воскликнул он насмешливо. – Вы заставили драться сицилийцев и немцев ради магометанина? В результате оказывается, что император Карл, руководствуясь желанием вернуть на престол этого неизвестного и ничтожного мавра, созвал под свои знамена весь цвет благородного испанского дворянства, что он ради него обратился к сокровищнице папы, призвал на помощь флот Генуэзской республики и самого известного из его адмиралов и предложил участвовать в предстоящем походе даже мальтийским рыцарям! Я начинаю думать, что ваши сообщения не более как шутка, но, право, эта шутка не остроумна! Шапюис был оскорблен до глубины души. – Император Карл Пятый, – отвечал он надменно, – позволяет себе смеяться и шутить только при своих победоносных войсках, это знает весь свет!.. – И я узнаю это, когда французский король завладеет Миланом! – заметил колко Генрих. Он взглянул на посланника и сделал ему знак, что время аудиенции подошло к концу и что ему остается лишь выразить благодарность, откланяться и уйти! Посланник понял знак, но он еще не высказал всего того, что хотел сообщить королю. – Вы, кажется, желаете, чтобы я немедленно ушел, – произнес он почтительно, – а потому позвольте просить ваше величество определить мне час, в который я бы мог, не беспокоя вас, явиться к вам по делу, которое касается в одинаковой степени и чести и спокойствия моего повелителя. «Я знал, что мне придется испить эту горькую чашу!» – подумал с досадой король, но счел более удобным для себя дослушать до конца сообщение посланника, а не назначать ему вторую аудиенцию. – Говорите! Я слушаю! – произнес он отрывисто. – Повинуясь желанию моего повелителя, я должен против воли просить ваше величество улучшить положение королевы Екатерины… – Вы опять называете ее королевским титулом! – крикнул гневно король и ударил с размаху кулаком по подушке. – Искренне сожалею, что слова мои вызвали у вас раздражение, но мой долг заставляет меня повторить еще раз, что вы, ваше величество, поступаете с ней несправедливо, – сказал твердо Шапюис, не обратив, по-видимому, никакого внимания на гнев короля. – Августейшая дочь Фердинанда Испанского и супруги его Изабеллы Кастильской и тетка Карла Пятого не должна жить в изгнании и почти в нищете. Она просит, как милостыни, у вашего величества позволения увидеть единственную дочь, но вы не обращаете никакого внимания на ее мольбы, и скорбь сведет ее в могилу! Шапюис остановился в ожидании ответа, но король продолжал капризничать, дуться и молчать. Зная его упорство, посланник продолжал тем же бесстрастным тоном: – Зачем ваше величество отказывает этой августейшей принцессе в желаемом свидании, которое вдобавок не сопряжено ни с какими неудобствами! – Ни с какими неудобствами! – воскликнул Генрих. – Вам, мессир Шапюис, очень легко сказать: «Это не сопряжено ни с какими неудобствами!» Вам неизвестен характер этих дам, а я знаю наклонности и матери и дочери… Пусть Екатерина даст торжественную клятву называться не иначе, как принцессой Галльской, и, если она хочет склонить меня на уступки, пусть она не подписывается так, как она подписывается сейчас в своих письмах ко мне. – Вы должны извинить ее, ваше величество, и принять во внимание, что особе с такими возвышенными чувствами трудно свыкнуться с мыслью, что она перестала быть законной женой и заняла двусмысленное положение в свете: эта мысль оскорбительна для ее самолюбия! – Пусть! Это не убедит меня исполнить ее просьбу! – сказал с сердцем король. – Пусть она уезжает скорее в Аранжую! Южный климат полезен для больных! Посол был возмущен бессердечием английского монарха. – Хоть юг и полезен для подобных больных, – отвечал он с надменно-презрительной улыбкой, – но вашему величеству, вероятно, известно, что принцесса не в силах совершить путешествие: ее дни сочтены, и если вы не знаете, что королева при смерти, то я считаю долгом доложить вам об этом прискорбном обстоятельстве и прошу вместе с тем у вашего величества позволения отправиться немедленно в Кимблтон. У вас нет, разумеется, ни малейшего повода отказать мне в этой просьбе? – Конечно, – отвечал апатично король. – Поезжайте в Кимблтон навестить Екатерину, и когда вернетесь, расскажете мне, как она поживает. Он быстро отвернулся к стене, и испанский посланник вышел тотчас из комнаты. (обратно)Глава V Отъезд Нортумберленда
День был сырой и сумрачный, с севера дул холодный порывистый ветер, и тяжелые тучи заволокли небо. Лес глухо шумел; белые маргаритки в цветниках, окружавших старинный замок Перси, прятали свои бледные махровые головки в высокую траву, а фиалки от наступившей стужи сжимали свои нежные листья; песчаные дорожки были густо усыпаны лепестками розового шиповника, ветки ломались с треском и падали на землю, а порывистый ветер разносил их в разные стороны. Это был первый из тех мрачных, неприветливых дней наступающей осени, когда сердце без причины сжимается от безотчетной тоски. Старый Гарри взбирался уже несколько раз на площадку высокой величественной башни, чтобы взглянуть на небо, задернутое тучами, на полет резвых ласточек и узнать по приметам, нет ли предвестников настоящей бури. Утомленный хождением по лестнице, старик вернулся в свою комнату и сел около деревянной кровати. На полочке, приделанной над ее изголовьем, лежала освященная, иссохшая верба и стоял под стеклом образ Пресвятой Девы в простой картонной раме, расписанной, согласно вкусам сельских жителей, чрезвычайно ярко. На задней стороне этой вычурной рамки можно было прочесть коротенькую надпись от руки: «Гарри в дар от Алисы в месяце мае 1482 года». Прямо под этой надписью находилась другая, сделанная другим, хотя таким же неровным почерком: «Брак Гарри и Алисы был отпразднован в мае 1490 года». Внизу, с краю, была третья надпись, не менее простая и не менее трогательная: «Благословенно имя Пресвятой Богородицы: Ее рука хранила меня среди жарких битв и послала мне счастье обвенчаться с Алисой!» Но теперь от былого безоблачного счастья остались только образ Всенепорочной Девы да хилый старичок, сидевший у постели. Алиса уже давно покоилась в могиле, и за ней последовали и трое сыновей, родившихся от этого благодатного брака, освященного церковью. У Гарри никого не осталось на земле. Все радости его, все надежды на будущее померкли и угасли; все его ровесники незаметно переселились в вечность, а время шло и шло, оставляя свой разрушительный след: его память слабела и прошлое окутывалось все более и более в непроглядный туман; старику нужно было поднять свою седую голову к необъятному небу, чтобы припомнить дорогие черты близких ему людей, сошедших преждевременно в холодную могилу, и только образок над его изголовьем вызывал у него живое, благотворное чувство. Даже ничего не смыслящий в живописи человек заметил бы погрешности этого изображения: его бы озадачил темно-розовый цвет тела Иисуса и бахрома, которой художник счел нужным украсить покрывало Марии; он не мог бы взглянуть без досады на огромный букет ярко-алых роз, лежащий у ног Пресвятой Девы. Но этот образок пробуждал в сердце Гарри совсем другие чувства: старик считал его сокровищем Вселенной и даже самой жизни. Когда мрак ночи опускался на землю и древний замок Перси погружался в безмолвие, Гарри склонял колени перед заветным образом и начинал молиться. Молитвы оживляли воспоминания о дорогой подруге его блаженной молодости; перед ним вставал образ цветущей девушки в живописном наряде английской поселянки и церковный алтарь, убранный цветами. Старик произносил незабвенное имя своей жены Алисы и продолжал молиться с удвоенным усердием Создателю Вселенной. Но в этот бурный день наступающей осени мысли старого Гарри не обращались в прошлое, его волновали сегодняшние заботы. Две слезинки скатились по бледному лицу его, изрытому морщинами. Он посмотрел на образ и прошептал с тоской: – Не оставь, храни его, Святая Богородица! Заметно успокоенный этой теплой молитвой, Гарри привстал с усилием и взял толстую палку, без которой он не мог бы пройти и десяти шагов. Открыв дверь на узкую, страшно крутую лестницу, он спустился по ней с крайней осторожностью, прошел большую комнату с потемневшими сводами, потом несколько залов и очутился в спальне графа Нортумберленда. Генри Перси стоял перед открытым шкафом огромных размеров, в котором размещалась блестящая коллекция самого превосходного дорогого оружия. Граф был в дорожном платье, и в спальне его царил печальный беспорядок, сопровождающий сборы в дальнее путешествие: на полу около двери стоял уже уложенный походный чемодан, перетянутый тонкими, но крепкими ремнями; на столике стояли серебряный стакан и дорожная фляга; на окне, рядом с сумкой со съестными припасами, лежал набитый золотом вязаный кошелек ярко-синего цвета; различные ненужные бумаги, брошенные в камин, превратились в груду черного пепла, в котором еще мелькали, как змейки, огоньки; красивый плащ, опушенный мехом, свешивался со спинки старомодного кресла. Сердце Гарри заныло, когда он увидел эти приготовления. – Вы уже собрались! – произнес он со вздохом. – Вы, стало быть, хотите отправиться сегодня? – Да, – отвечал лорд Перси, разбирая оружие. Знакомое лязганье железа оживило старика: он приблизился к шкафу и посмотрел на лежавшие в нем драгоценные панцири такой великолепной и искусной работы, что они мало отличались по мягкости и гибкости от холщовой рубашки, на ножи, кинжалы, сабли и на шпаги всевозможных размеров. На бледном лице Гарри вспыхнул яркий румянец, и на губах его появилась улыбка, исполненная гордой, торжествующей радости. – Вот секира, с которой ваш покойный отец не разлучался в битвах, возьмите ее, граф! – сказал он с несвойственным ему воодушевлением. На лезвии секиры было столько зазубрин, что решительно невозможно было вынуть ее из раны, не лишив жизни противника. Старый Гарри взмахнул ею несколько раз и подал Перси. – Полюбуйтесь, милорд! – произнес он с восторгом. – Вы на ней не увидите и тени ржавчины. Ваш отец приобрел ее у собаки-жида, который наотрез отказался объяснить, где он ее добыл! Антонио ди Сандро, знаменитый учитель Бенвенуто Челлини, сделал эти ножны и эту рукоять. Всмотритесь хорошенько в это великолепие: серебро нежное и прозрачное, как кружево на груди знатной леди. – Да, – сказал Генри Перси, – это работа талантливого художника, но никак не Челлини. На свете не было, да и не может быть второго Бенвенуто. – Все дело в лезвии! – заметил старый Гарри, качая головой. – Рукоять же нужна для красоты; о ней не думаешь, когда идешь в сражение. Вы должны взять с собой эту длинную шпагу, – продолжал он, – а вот эту коротенькую можно привесить к поясу; секиру, разумеется, мы прикрепим к седлу. – Ты хочешь превратить меня в ходячий арсенал! – сказал со смехом Перси. – Оружие никогда не помешает! – отвечал с глубочайшим хладнокровием Гарри. – Пусть оно не понадобится, это не важно, но оно может понадобиться! Необходимо взять и теплый плащ. А вы не забыли захватить с собой золото? Ведь оно – нерв войны, как гласит пословица. Пословицы не лгут. Вассалы следуют за своим повелителем из чувства долга, но наемное войско повинуется его воле только за деньги… – Ты сошел с ума, Гарри! – перебил его граф. – Ты вообразил, по-видимому, что я уезжаю, чтобы возглавить чуть ли не целую армию вассалов и наемников, между тем как я, в сущности, отправляюсь на время в простое путешествие по частному делу. – Простое путешествие! – проворчал сердито Гарри. – Вы не сказали даже, куда уезжаете. Нужды нет, я придерживаюсь еще старых порядков и повторяю вам: запаситесь всем необходимым, помолитесь поусерднее Богу, взовите к предстательству святого Михаила и святого Георгия, поручите себя Пречистой Богородице и отправляйтесь смело на все четыре стороны. Вас никто не тронет! – Еще бы! При таком количестве заступников! – сказал с улыбкой Перси. – Я поступал всегда точно так же, – отвечал ему Гарри с глубоким убеждением. – И ты отлично делал! Я охотно воспользуюсь твоим благим советом, – сказал серьезно граф. Старый Гарри вздохнул и пригладил рукой клочки седых волос, уцелевших на его лысом черепе. – Ваша лошадь готова, я кормил ее сам, – произнес он печально. – На войне жизнь всадника зависит от его коня. – А ты не говорил ничего нашим конюхам? – спросил с живостью Перси. – Конечно, ничего! Что я мог им сказать? Я ничего не знаю… Я знаю только то, что у меня ужасно тяжело на душе! Я хотел бы отправиться вместе с вами, милорд… и хотя вы вчера сказали мне, что я надоедаю вам своими наставлениями, повторяю, что не понимаю, зачем вы уезжаете без провожатого… и в такой день! Ведь самый незначительный дворянин королевства постыдился бы выйти из своего домишка в таком убогом виде… Это непостижимо и даже неприлично!.. – Моя лошадь готова! Я тоже! – сказал Перси. Он хотел было выйти, но старик встал в дверях и протянул к нему худые руки. – Они там, внизу! – произнес он с испугом. – Я не могу при них прощаться с вами! – Кто они? – Понятно, ваши слуги, – сказал он тихим шепотом, как будто опасаясь, что его услышат. Старик схватил порывисто руки Нортумберленда. – Прощай, Генри, дитя мое, – произнес он с усилием. – Прощай, мой господин! Даст ли Всевышний нам свидеться еще в жизни? Голос его дрожал от сильного волнения, и горячие слезы застилали глаза. – Почему ты сомневаешься, Гарри? – отвечал Генри Перси, тронутый этой искренней, несокрушимой преданностью. – Я вернусь скорее, чем ты, может быть, думаешь, и вернусь, конечно, несравненно более счастливый, чем сейчас. – Да услышит вас Бог! – сказал набожно Гарри. – Но если вы замешкаетесь, вы меня не застанете. Я уже слишком стар. – Ну, не печалься, Гарри, я еду ненадолго, – успокаивал граф и, наклонившись внезапно к старику, шепнул ему на ухо: – Я доверю тебе тайну, сохрани ее в сердце! Королева умирает… Я отправляюсь к ней! Я умолю ее простить Анну Болейн… А теперь прощай, Гарри! – Святая Богородица! – вскричал с изумлением и ужасом старик. – Так вы едете к этой заштатной королеве? – То есть к моей единственной законной повелительнице! – возразил Генри Перси. – Вы, верно, не подумали о гневе короля? А ведь ему доложат о вашем путешествии. – Будет, Гарри! Прощай и охраняй мой замок! Лорд пожал еще раз с задушевностью руку своего старого и верного слуги и поспешил к парадному подъезду, выходящему во двор. Конюх подвел поспешно своему господину чистокровного, статного и гордого коня с длинной, волнистой гривой. Прекрасное животное задрожало от радости при виде лорда Перси и огласило воздух продолжительным ржанием. Вскоре копыта коня застучали о брусья подъемного моста, и не прошло и минуты, как всадник скрылся из глаз в густом облаке пыли. (обратно)Глава VI Олен и гарри
Открыв окно в спальне, Гарри не спускал глаз с удаляющегося графа. Но когда Генри Перси скрылся в тумане, старик закрыл окно. – Уехал… – прошептал он с сокрушением. Он подошел к шкафу и начал разбирать дорогое оружие. Нужно сказать, что за этим приятным делом Гарри забыл даже на время об отсутствии Перси; но когда все было приведено в порядок, когда он прикрыл окованные медью плотные дверцы шкафа и запер их на ключ, им овладело прежнее неутешное горе. – Уехал, – повторил он с той же глубокой грустью, – и в такую ненастную погоду! Он собрал так же тщательно и остальные вещи, разбросанные по комнате, поставил на буфет початую бутылку испанского вина, собрал до клочка все бумаги, валявшиеся на письменном столе, и, когда спальня графа приняла прежний вид, старый Гарри приблизился к погасшему камину и прошептал тоскливо: – Он уже теперь далеко! Да хранит его Бог! Он поспешил уйти из опустевшей комнаты и хотел, очевидно, вернуться в свою уютную каморку, но потом передумал и пошел быстро, как только мог, по длинной галерее в очень большой зал, который назывался с незапамятных времен зал Совета. В давно минувшие времена, когда шотландцы очень часто совершали набеги на английские владения, английские бароны, проживавшие ближе к северной границе королевства, съезжались в замок Перси и обсуждали именно в этом большом зале, какие меры принять против непрошеных гостей. На обоях этого огромного помещения были изображены сцены из жизни Александра и его полководцев – Антипатра, Лизимаха, Пармениона и прочих, – при помощи которых он покорил Персию, Индию и Грецию. Мрачные картины разрушения, большие города, объятые пожаром, и равнины, покрытые трупами воинов, заполняли стены зала. Надписи у бордюров объясняли подробно сюжеты этих печальных сцен. На небольшом пространстве той же комнаты была запечатлена сцена далеко не такого зловещего характера: надменная Юнона отказывалась покориться могуществу великого Юпитера; богиня восседала на золотом павлине среди зелени плодов и цветов. В центре зала стоял огромный стол, покрытый дорогой старомодной тканью: на ней были изображены исторический конь, под защитой которого греки проникли в Трою, и ее разрушение; со стен валились раскаленные камни и тяжелые бревна, охваченные пламенем; Андромаха стояла на большой башне, обливаясь слезами, а главная причина всей этой катастрофы, Прекрасная Елена, готовилась вернуться в самом недалеком будущем к разлученному с ней несчастному супругу. Нетрудно догадаться, что спартанский царь должен был неминуемо найти на лице жены следы времени, так как акт похищения прекрасной королевы совершился, к несчастью, двадцать лет назад! Гениальный Гомер счел за лучшее не касаться этого обстоятельства, предоставив прозаикам свободу трактовать его, как им будет угодно. Тот, кто создавал древнюю ткань, покрывавшую стол, последовал примеру великого поэта и не изобразил спартанскую царицу; ее место занял убитый горем знаменитый Приам, а сбоку от него шла мудрая Гекуба с целой группой троянок, призывающих мщение всех богов и богинь на предателей греков. На столе стояла железная, позолоченная, массивная чернильница, но чернила в ней высохли и паук давно заткал паутиной ее отверстие; вокруг нее лежали реестры в толстых папках с железными застежками; в крепких дубовых ящиках громадного стола хранились, как сокровища, плохо выполненные карты северной части Англии и шотландских границ. Кроме различных хартий, контрактов и вообще всевозможных бумаг, касающихся управления и владения обширными родовыми поместьями знатной фамилии Перси, в зале еще хранились описания осад, выдержанных их замком, и битв с шотландцами; из них образовались объемные рукописи в массивных переплетах. Этот труд взяли на себя монахи из аббатства Витби, основанного графом Уильямом Перси, соратником и другом Вильгельма Завоевателя. Одна из этих рукописей отличалась особенно изящным оформлением, и переплет из слоновой кости поражал тонкостью резьбы, выполненной художником с изумительным совершенством. Фолиант хранился в малиновом чехле, обшитом превосходной золотой бахромой, а на белой подкладке его, затканной серебром, были вышиты шелком фамильные гербы непобедимых Перси. Гарри медленно обошел зал Совета, присел к столу и бережно снял с рукописи малиновый чехол. Он очень долго смотрел на переплет, восхищаясь, по-видимому, фестончатым бордюром, не уступавшим по прозрачности и нежности кружевам, а потом открыл книгу. Составленное из разноцветных букв своеобразной формы, покрывавших плотный, голубоватый титульный лист, заглавие свидетельствовало о том, что рукопись посвящена родословной знаменитого влиятельного в Англии древнего дома Перси. – Жаль, что я не могу добраться до колдуньи Шевиотской вершины, – рассуждал старый Гарри. – Это недалеко… а про нее рассказывают диковинные вещи… и у меня есть деньги!.. Он скрестил на груди руки, покрытые глубокими морщинами, и крепко задумался; его седые брови сдвигались все плотнее, и видно было, что он пытается отогнать какую-то неотвязную мысль. – А дьявол-то, пожалуй, хитрее, чем мы думаем! – воскликнул он внезапно. – И ведьма, чего доброго, рассказала бы мне, увижу ли я моего господина… и женится ли он? Ведь они прибегают к различным заклинаниям! Там, говорят, летают злые черные кошки с зелеными глазами, ведьма чертит в воздухе какие-то круги, и они начинают гореть, как огонь; она сжигает всевозможные ядовитые зелья, и человеку достаточно посмотреть в ее зеркало, чтобы узнать, что с ним будет. Все это, может быть, только пустые россказни, и аббат говорит, что всякое гадание – непростительный грех! Он даже читал нам по этому поводу очень длинную проповедь! А все же знать заранее все, что случится, чрезвычайно приятно! Гарри развернул книгу, и внимание его всецело переключилось на переплет. – Жаль, что я не могу прочесть это сокровище! – прошептал он со вздохом. – Я никак не пойму эти мудреные знаки. Все они на вид как будто одинаковые и стоят рядами! Одни только писцы разбирают их сразу. Старик второй раз в жизни осознал, как плохо быть неграмотным, – он печально опустил свою седую голову. – Придется обратиться к Олену, – проворчал он сквозь зубы. – А об этом узнают! Ведь когда моя Алиса подарила мне образ Пресвятой Богородицы, все узнали, что написано на задней части рамки… Я дам ему два пенса, и он не проболтается. Олен – славный мальчишка! Мне жаль, что его учат только грамоте… Я уже не раз говорил милорду, что из него мог бы выйти расторопный солдат, даже отважный воин, а при таком раскладе он не сможет, пожалуй, перевязать как следует и раненого осла! Старый Гарри прошел на другой конец зала и отодвинул крепкие железные засовы на двери, выходившей прямо на вал. Этот вал представлял собой причудливое зрелище: на нем стояли группы языческих богов и вооруженных воинов: Геркулес со своей страшной смертоносной палицей и Аполлон с колчаном, наполненным стрелами; неподвижные витязи как будто угрожали с высоты осаждающим, а несколько поодаль толпа слуг волокла тяжеловесный камень с очевидным намерением подтащить его к краю и столкнуть вниз на неприятеля. Гарри спокойно прошел мимо этих озлобленных и неподвижных воинов и, спустившись по лестнице, находившейся в башне, вошел в светлую комнатку, где мальчик прилежно чертил цифры на аспидной доске. На голове его была легкая шапочка, а платье было сшито из тонкого сукна пурпурного цвета, подобного цвету кардинальских мантий. Когда дверь открылась, он быстро поднял голову и устремил на Гарри прекрасные глаза, сверкавшие умом. В комнатке находилось всего только два стула; на одном из них сидел Олен, а на другом лежала целая груда нот, тетрадей и бумаг. Тут же стоял орган очень грубой работы, а за ним находилась маленькая кровать; в изголовье ее, на пуховой подушке, покоился внушительных размеров латинский словарь, труд Роберта Эстиенна, который Генри Перси подарил любознательному и смышленому мальчику. Олен в одно мгновение освободил стул, заставленный бумагами, и подал его Гарри. Выполняя обязанности вежливого хозяина, ребенок задавался в то же время вопросом, чем вызвано это посещение. Хотя Олен и Гарри были, каждый по-своему, влиятельными персонами среди челяди, состоящей при графе, но им не приходилось еще ни разу в жизни оставаться с глазу на глаз. Олен был сиротой, и Генри Перси взял его под свое покровительство; он снабжал мальчика всем необходимым и, заметив его отличные способности, помогал ему заняться образованием. Прислуга постоянно обращалась к Олену, когда было нужно подсчитать издержки или написать родным. Познания в арифметике, грамматике, а больше всего в музыке сделали мальчика весьма популярным не только в замке Перси, но и в его окрестностях. Он даже удостаивался чести в случае нездоровья старого капеллана читать на сон грядущий графу Нортумберленду разные эпизоды из Старого и Нового Завета. Все эти обстоятельства, а еще того более убеждение, что у Олена нет воинственных наклонностей, восстановили Гарри против бедного мальчика, и он не упускал случая отозваться о нем как о глупом ребенке, на которого не следует обращать внимания. Олен понял, что только какое-то исключительное обстоятельство могло побудить Гарри заглянуть в его комнатку. Старый слуга, казалось, был не менее Олена удивлен своей выходкой. Он уселся на стул, не говоря ни слова. Мальчик тоже молчал и вопросительно смотрел на старика. – Что ты писал, Олен, на аспидной доске? – спросил наконец Гарри. – Я делал расчеты. – А! – промычал старик. – Скажи же мне теперь: ты умеешь читать? – Пожалуй, да! – отвечал мальчуган с плутоватой улыбкой. – Я должен, вероятно, прочитать вам письмо? – Нет, я зашел к тебе совсем не для того. – Так вы, видно, желаете продиктовать письмо? – Мне некому писать. – Вам угодно, быть может, чтобы я что-нибудь подсчитал? – Нет! Какое сложение! – Так что же я должен сделать? – Ничего, – отвечал отрывисто старик, – пока ты мне не скажешь, такой же ли ты болтун, как и все мальчуганы? – Вы знаете, господин Гарри, – возразил очень кротко, но серьезно Олен, – что я делаю все, что от меня зависит, чтобы не вызвать вашего недовольства, хотя и замечаю, что вы меня не любите! «Он действительно добрый и послушный мальчик!» – подумал старый слуга, но спросил тем не менее с напускной суровостью. – Так я могу рассчитывать на то, что ты не проболтаешься? – Разумеется! – отвечал уверенно Олен. – Ну, так тебе придется прочесть мне одну рукопись, там… в зале наверху, но не смей говорить об этом никому! – продолжал он торжественным и таинственным тоном, наклоняясь к уху мальчика. – Мне захотелось прочитать родословную нашего господина, хотя я ее знаю… – Ну так в чем же дело? Идемте! Я готов! – перебил его мальчик. Обрадованный случаем увидеть дорогие рукописи, к которым он не смел прикоснуться, Олен взбежал легко и проворно, как кошка, по лестнице на вал. – Эй! Тише, мальчуган! – крикнул старик, шагая вслед за ним по крутым ступеням. Гарри был еще на полпути, а Олен уже успел обежать раза три бессменный гарнизон, столетия стоявший на крепостном валу. Минуты через две ребенок и старик сидели у круглого стола в большом зале Совета. Олен торопливо взял драгоценную рукопись и любовался ею, а Гарри положил перед собой на стол клочок чистой бумаги, на которую намеревался накалывать кресты концом острой иглы, чтобы вспомнить по ним самые интересные места из родословной. Олен приступил к чтению. В начале родословной говорилось о том, как Менеррой, от которого происходили Перси, прибыл с герцогом Роллоном из Дании в Нормандию, как преемники его славы, Уильям и Серло, переселились в Англию с Вильгельмом Завоевателем и как Уильям, любимец этого государя, получил от него после битвы в 1067 году тридцать два поместья и, отправившись на поклонение гробу Господню, умер в Иерусалиме. Гарри наколол крест и сказал с умилением: – Кончить жизнь у гроба Иисуса Христа… благодатная смерть!.. Я бы тоже желал умереть таким образом!.. Читай дальше, Олен! И мальчик продолжал с тем же воодушевлением: – «Сын Уильяма, Олен, наследовал ему; он подарил немало земельных угодий аббатству Витби, основанному отцом его, и был в нем погребен, оставив после себя пятерых сыновей от брака с Эммой Гентской. Его сын, Уильям, построил очень много обителей и храмов и был в свою очередь похоронен в Витби. Ричард, его наследник, основал в 1133 году аббатство Кимблтон. Его наследник Уильям вел страшную войну с мятежными шотландцами и овеял себя славой. Он женился на дочери короля Генриха и часто одаривал храмы. Одна из дочерей его была выдана замуж за графа Варвикского, другая обвенчалась с Гослином Лорренским, братом Аделидисы, английской королевы, и сыном Годфрида, герцога Брабантского. Четыре сына Уильяма умерли, не оставив потомства, и Агнесса, жена Гослина Лорренского, пожелала, чтобы дети носили ее девичью фамилию и соединили бы фамильные гербы Перси и Брабанта. Агнесса была тоже погребена в Витби. Ричард, ее наследник, имел много земель и богатых поместий; он был одним из двадцати пяти влиятельных баронов, которые защищали великую хартию свободы от всех покушений Иоанна Безземельного; он принимал участие в возмущении, вызванном жестокостью последнего, и всеми силами помогал Людовику Французскому, призванному баронами управлять государством вместо Иоанна. После его кончины младший брат его, Генри, увеличил число их родовых поместий и получил вдобавок и замок Ликинфилд, вблизи от Веверлея. У сына его Уильяма было более тридцати ленных угодий, не считая его наследственных владений, и король Генрих III выдал ему концессию на учреждение рынков. Он передал много земель госпиталю Сандоу и аббатству Салли, вменив им в обязанность молиться за него, и был похоронен в этом самом аббатстве. Его сын и наследник уплатил королю девятьсот фунтов стерлингов за право вступить в брак по собственному выбору. Король взял с него слово участвовать в войне, которую он вздумал начать против Шотландии, но Генри встал на сторону непокорных баронов. Это не помешало ему на следующий год вернуть себе милость своего повелителя: он прославился многими блистательными подвигами и женился на дочери графа Сюррейского. И он был, как и отец его, похоронен в Салли. Старший сын его, Генри, был назначен правителем Голловея в Шотландии; он участвовал в знаменитом сражении при Думбаре и во многих других и получил в награду за верность и за храбрость обширные поместья Ингельрама Баллиота, умершего бездетным. Он приобрел впоследствии у епископа Дургемского живописное и богатое поместье Альнвик». – Да, это тот самый замок, в котором мы живем! – перебил его Гарри. – Я знаю! – отвечал торопливо Олен. – Это произошло в третье лето царствования короля Эдуарда, приблизительно в тысяча триста десятом году. – Да, это было чудесное время! – воскликнул ветеран с пылким воодушевлением. – Представь себе, Олен, картину этих битв, эту доблесть и славу! Лестно даже служить у подобных господ!.. Но мальчик не промолвил ни слова и продолжал читать: – «Он перестроил замок, приобрел вслед за тем поместье Корбридж и получил по воле короля Эдуарда знаменитое графство Каррик со всеми находившимися в нем имениями и замками Роберта Брюса. Он ревностно заботился об украшении храмов, строил часовню и был похоронен под алтарем известного аббатства де Фунтен. Его наследник, Генри, был сделан губернатором нескольких городов за услуги, оказанные им в то время королю и давшие последнему возможность сокрушить обоих смелых Спенсеров. Ему была доверена и охрана границ со стороны Шотландии. Король нуждался в нем и в его присутствии даже в мирное время и в награду за эту непрерывную службу отдал ему все замки сэра Джона Клеверинга; он отправлял его и в качестве посланника к шотландскому двору, а шотландский король дал ему в свою очередь богатое поместье со значительным доходом. Этот Перси участвовал несколько раз в войне с Шотландией и Францией; он присутствовал и при осаде Нанта. Когда шотландцы, пользуясь присутствием короля при осаде Кале, снова внезапно напали на Англию, Перси разбил их наголову и взял при этом в плен их короля Давида…» – Ну, признайся, Олен, – перебил снова Гарри, – может ли самый доблестный и благородный род сравниться с родом Перси? Разве не приятнее защищать свою родину, одерживать победы и брать в плен королей, а не выводить каракули на аспидной доске, как это делаешь ты? Мальчуган улыбнулся. – Ведь я не дворянин, – сказал он добродушно. – Знаю, дерзкий мальчишка! – крикнул старик. – Но ты мог бы по милости нашего господина сделаться пажом, воином и следовать примеру порядочных людей! – Мне не нравятся шум и бряцание оружия, – сказал кротко Олен. – Я люблю мирный труд, люблю мирную жизнь. Бог не вложил мне в душу воинственных наклонностей, и не могу же я переделать себя! – Ну да, ты происходишь от овечьей породы, но хитер, как лиса: я давно это понял. Продолжай же читать! Тебя не вразумишь, не придашь тебе храбрости!.. Старик начал с досадой колоть иглой бумагу, а Олен продолжал: – «Генри Перси скончался вскоре после возвращения из похода во Францию и был похоронен в Альнвикском прибратстве. Его сын, тоже Генри, сопровождавший его во всех походах и бывший в знаменитом сражении при Кресси, наследовал поместья и должности отца и приумножил славу знатной фамилии Перси. Его сын и наследник снарядил на свой счет и отправил в Пуату до тысячи стрелков и три сотни отлично вооруженных солдат; его личная стража состояла из сотни конных стрелков, сорока семи конюхов и двенадцати рыцарей. Возведенный в достоинство маршала Англии, он был следом затем назначен губернатором Кале и его фортов. Он получил титул графа Нортумберлендского во время коронации Ричарда III. Он сражался с шотландцами и взял город Бервик; он был несколько раз посланником при разных иностранных дворах и сопровождал короля, когда тот отправился во Францию для личного свидания с Карлом VI. Сын Перси отличался такой дерзкой храбростью, что шотландцы, которым он не давал покоя, присоединили к имени его прозвище Готспур. Король Ричард, узнав, что этот Готспур, как и отец его, отзывались о нем не с должной почтительностью, приказал им немедленно явиться ко двору и, когда граф ослушался этого приказа, осудил его на изгнание из Англии. Перси был возмущен подобным приговором и, пользуясь своим богатством и влиянием, взял Ричарда в плен, а герцог Ланкастер без труда завладел английской короной. Новый король, именовавшийся Генрихом IV, возвел Нортумберленда в звание коннетабля, подарил ему остров Мэн и вообще окружил его всевозможными почестями. Но волею судьбы он не смог воспользоваться выгодами такого положения. Почти сразу же после этого Готспур, негодовавший неизвестно за что на Генриха IV, восстал против него и пришел с целым войском к городу Шрюсбери; король встретил его во главе своей армии и предложил ему полнейшее прощение, но Готспур не воспользовался его великодушием. Закипел жаркий бой, и Готспур был убит. Узнав о смерти сына, граф Перси удалился в Веркуртское поместье, но был вызван оттуда предписанием парламента как соучастник сына. Он был оправдан лордами, но отрешен от всех своих почетных должностей приказом короля; он пробовал бороться, но напрасно – и умер в изгнании. После смерти Готспура его единственный малолетний сын Генри бы вывезен дедом в дальнее поместье. Генрих V, вступив на английский престол, приказал лордам Грею и Джону Невиллу съездить за ним и привезти его в Лондон. Он вернул ему все владения деда, а впоследствии даже все должности. Желая защитить Альнвикское поместье от набегов шотландцев, Генри обнес его высокими стенами. Он был предан всем сердцем династии Ланкастеров и погиб в Сент-Олбенской кровопролитной битве. Его сын оказал много важных услуг королю и отечеству и сражался с шотландцами, как и все его предки. Ему были дарованы все земли и все замки сэра Роберта Огля, лишенного всех прав специальным законом. Генри Перси участвовал в кровопролитных войнах Алой и Белой розы и был убит в Йоркшире». Родословная, из которой здесь приведены исключительно главные факты, чтобы показать читателю богатство и могущество английского дворянства в ту далекую пору, была почти прочитана. Олен хотел перейти к следующему параграфу, он даже произнес: «Его сын и наследник…» – когда Гарри схватил его неожиданно за руку. – Довольно! – сказал он. – Неужели ты думаешь, что я не знаю о жизни и блестящих подвигах моего господина, за которым следовал во всех его походах и который способствовал восшествию на престол отца нашего, нынешнего английского монарха! Нет, милый, мне известны малейшие подробности!.. Ты читаешь отлично… Остается узнать, что бы тебе хотелось получить за свой труд? – Вы действительно хотите вознаградить меня? – спросил Олен, прищурив лукаво-прекрасные глаза, сверкающие умом. – Да, – отвечал старикнерешительно. – И вы серьезно думаете оплатить этот труд? – спросил опять Олен. Мальчик знал о скупости Гарри, который тем не менее сочувствовал нуждам всего человечества. – Серьезно, разумеется! Я не люблю болтать! – проворчал старик не без досады. – В таком случае, – сказал мальчик, – позвольте мне хоть изредка приходить сюда и читать эти чудесные рукописи. – Как? – воскликнул с испугом ошеломленный Гарри. – И ты дерзнул подумать, что я доверю ключ от зала Совета такому сорванцу, ключ, который я чищу почти каждый день и берегу как зеницу ока? Нет, милый, ты затеял невозможное дело! Если бы ты, например, пожелал получить от меня медовую лепешку или банку варенья, то я бы с удовольствием исполнил твою просьбу. – Я, к несчастью, не лакомка, – сказал Олен. – Тем хуже, милый мой! Дети должны любить всякого рода сладости, и я не виноват в том, что ты исключение из общего правила. И Гарри, продолжая развивать свою мысль, вывел из зала мальчика, задвинул массивные железные засовы и запер дверь на ключ. (обратно)Глава VII В дороге
Графство Нортумберленд, отделенное от Шотландии цепью Шевиотских гор, граничило с графством Дургемским, с востока – с Северным морем, а с запада – с графством Кумберлендским и орошалось многими широкими реками, в том числе Альном, Кокетом и Вернбиком. Выехав из замка, Генри Перси поехал в Норпет легкой рысью. Хотя дорога была довольно широкой, страшная небрежность, с которой относились в те далекие времена к путям сообщения, привела бы любого из наших современников в содрогание. Погонщикам с тяжеловесной кладью часто приходилось терять время на то, чтобы засыпать чем попало колеи и ямы, преграждавшие путь. Тот, кто, понадеявшись на ловкость и выносливость лошади, думал обойтись без этого, нередко обращался за помощью в ближайшие селения, чтобы поднять и вытащить из грязи опрокинутый воз. Надвинув до бровей поярковую шляпу с широкими полями и закутавшись в плащ с меховой опушкой, граф ехал, погруженный в глубокое раздумье. Славное имя, огромное богатство и даже уважение представителей всех слоев общества – все это не имело для него никакого значения. Роковые обстоятельства разбили ему сердце, когда он был в самом расцвете сил, когда судьба сулила ему блистательную будущность, когда он, отважный и прекрасный, волновал воображение всех красавиц, блиставших при английском дворе. Лорд Перси не оправился от этого удара: его земное счастье безвозвратно ушло. Думать об интересах Анны Болейн, молиться за нее, помогать, не жалея ни времени, ни средств, страждущим стало с тех пор его единственной целью, единственным, к чему устремлялись его чувства и мысли. Следуя все тем же бескорыстным стремлениям, граф решил отправиться в чрезвычайно долгий и неприятный путь. Ему предстояло проехать через всю Англию, чтобы добраться до Кимблтона. Он не взял провожатого из осторожности, так как знал, что слух о путешествии может легко достичь ушей короля, державшего громадное количество шпионов, а подобный поступок мог навлечь на него гнев государя и даже обвинение в открытом неподчинении державной воле. Но возможность такого опасного исхода не испугала Перси: он был храбр от природы, да и жизнь потеряла для него уже давным-давно свое значение. Когда слух об опасной болезни Екатерины дошел до замка Перси, граф решил немедленно отправиться в Кимблтон, чтобы вымолить у законной королевы прощение той женщине, которая дерзнула занять бесправно ее место на английском престоле. «Екатерина добра, – рассуждал Генри Перси, – она великодушна и способна простить, а прощение ее смягчит, быть может, гнев правосудного Бога против Анны Болейн». Эта мысль успокоила и ободрила лорда: ему представилась возможность принести пользу прелестному созданию, которое из тщеславия отвергло его несокрушимую, безумную любовь. Но хотя эта мысль успокоила его больную душу, он не мог, несмотря на все старания; справиться со странным, безотчетным чувством, которое давило и мучило его с первых минут отъезда. Генри Перси казалось, что будущее закрылось внезапно темной, непроглядной тучей. Он смотрел безучастно и рассеянно на ландшафт, сменяющийся почти ежеминутно: к дороге прилегали обширные луга, орошаемые прозрачными и быстрыми ручьями; на них еще пестрели осенние цветы; охваченные стужей вербы склоняли низко пожелтевшие ветви, и молодые козы ощипывали их с видимым наслаждением. В иных местах сучья, положенные, конечно, человеком, преграждали путь ручью, и он, стремясь вперед, разделялся на несколько небольших ручейков. На межах, отделявших владение от владения, возвышались прекрасные величавые тополя. Пейзаж быстро преображался: почва делалась суше, луга сменялись высокими равнинами с разбросанным по ним разнородным кустарником. Мирно паслись стада, а в стороне белела палатка пастуха, у входа которой лежала косматая собака. За этими равнинами следовали поля, с которых поселяне уже успели снять обильную жатву, а вдалеке виднелись неясно, как в тумане, очертания гор. Поля чередовались с лесами и долинами, с пустырями, покрытыми бледной, тощей растительностью, зыбучими песками и топкими болотами. Вскоре на горизонте ясно обозначилась синяя полоса, сливавшаяся с небом, и, хотя море было еще далеко от дороги, Генри Перси услышал грозный шум волн, разбивавшихся с яростью о прибрежные скалы. Подъехав ближе, всадник остановился на несколько минут, чтобы полюбоваться этим великолепным зрелищем. Сплошная туча, закрывавшая небо, постепенно раздвинулась, и пронзительный ветер, дувший с утра, заметно ослаб. Солнце уже погрузилось до половины в волны, окрашивая пурпуром легкие облака, слетевшиеся к западу. Море приняло темный, металлический цвет. Не подлежит сомнению, что не один смельчак, гнавший свою ладью по этой необъятной движущейся массе, смотрел так же, как Перси, на картину заката, задаваясь вопросом, что она предвещает: затишье или бурю? Скользя над бездной, при свете заходящего солнца он зорко смотрит в синюю, бесконечную даль, пытаясь понять, куда стремится его легкий челн: к спасительной пристани или к грозному берегу, где волны разобьют его о подводные камни. Солнце погрузилось в темную пучину моря; беловатый туман стлался над водами и быстро окутал легкие паруса, мелькавшие над поверхностью волн. Генри Перси вздохнул и отправился дальше; дорога становилась уже; Шевиотские горы закрыли бушующее море. Лорд Перси спустился по скату высокого холма в глубокую долину; ему не раз пришлось свернуть с дороги, чтобы не помешать окрестным хлебопашцам, возвращавшимся с поля с боронами и сохами, и резвым ребятишкам, бежавшим им навстречу; вдали слышался радостный лай деревенских собак, почуявших, вероятно, приближение хозяев. С наступлением сумерек графу пришлось проехать обширное селение: двери убогих домиков были открыты настежь, в каждом очаге блестел яркий огонь, грелся котелок с едой. В кузницах стук молотов сливался с шипением раскаленного железа, опущенного в воду; безобразный, исполинский мех раздувал все ярче и ярче огонь, все краснее становилась наковальня, над которой работало несколько дюжих рук; сверкающие искры, взлетающие в воздух, освещали массивные фигуры кузнецов и их мужественные, покрытые копотью лица. Но хижины и кузницы скрылись из виду, а Перси продолжал ехать дальше и дальше по пустынной дороге в сгущавшемся мраке наступающей ночи. (обратно)Глава VIII Уединенный трактир
Когда солнце взошло, лорд Перси ехал шагом по высокой равнине; перед ним расстилалось необъятное море: седые волны разбивались о голые, высокие утесы и падали обратно с оглушительным ревом. Легкокрылые чайки кружились над водой, издавая отрывистые и жалобные звуки, и взлетали все с той же стремительностью на высокие скалы, в углублениях которых вили гнезда. В лучах восходящего солнца их темно-серые перья отливали серебром. Мохнатые лапки темно-красного цвета с большими перепонками давали им возможность легко летать и плавать по волнам. Разноцветные раковины всевозможных размеров пестрели на отмелях, а на мокром песке около расщелин утесов ползали стаи крабов, почти не отличающихся от больших пауков. Этот песчаный берег имел свою особенность: он был гладким и чистым, но при отливе покрывался камнями, расположенными правильными уступами, а иногда симметричными рядами – явление обычное для тех, кто жил по соседству с морем. Дальше песок сменялся голой кремнистой почвой, и обрывки канатов, сломанные доски, ржавые гвозди, лежащие на берегу, служили доказательством того, что о него разбилось уже немало судов. «Я сбился с дороги, – подумал Генри Перси. – Мне следовало взять проводника в Норпете». Граф повернул от берега по узенькой тропинке, которая виднелась в мелкой поросли, покрывавшей почву; он не терял надежды отыскать прямой путь к цели, но его ожидания оказались напрасными. Время близилось к полудню, но вокруг было все так же пустынно и дико. Лорд слез с коня, чтобы немного отдохнуть и дать передышку усталому животному: он все еще надеялся, что кто-нибудь выведет его на торную дорогу. Но прежнее безмолвие царило над равниной, и глухой рокот волн вдали был единственным звуком, который доносился до Генри Перси. Он вскочил на коня и отправился дальше. Между тем облака, бродившие по небу, собирались в сплошную тучу, воздух стал сырым и холодным, ветер сделался резче. Лорд ехал все по той же бесконечной тропинке, но вскоре заметил, что местность изменилась: кое-где появился кустарник; мелкий дождик, накрапывавший уже некоторое время, перешел в ливень, и порывистый ветер превратился в бурю. Вода ручьями лилась по плащу Генри Перси; он чувствовал, что конь его дрожит под чепраком ярко-красного цвета, но смелый путешественник сохранял присутствие духа. Наступившие сумерки еще более осложнили путь, но он ехал вперед ровным, медленным шагом; мрак становился гуще, ничто не показывало, что он приближается к населенным местам. В довершение всего Генри Перси заметил, что сбился с тропинки, по которой ехал. Он хотел сойти с лошади, но в ту же минуту увидел вдали небольшой огонек, блеснувший как звездочка в темноте. Через некоторое время лорд поравнялся с домиком самой жалкой наружности; по безвкусно размалеванной вывеске, приделанной к фронтону, он узнал, что этот дом – трактир. Сойдя поспешно с лошади, он постучался в дверь, и ему открыли. У пылавшего очага стояла молодая и красивая женщина. Она пододвигала уголья к большой сковороде, на которой поджаривалась рыба. Невдалеке на деревянном стуле сидел мальчуган с неприятным, болезненным лицом. Он был горбат. Когда дверь открылась, он обратил на Перси глаза, светившиеся умом и любопытством. Мужчине, открывшему дверь, было под пятьдесят: это был человек самой антипатичной наружности; шрамы, изрезавшие его угрюмое лицо, усиливали неприятное впечатление, которое оно произвело на Перси. Он тоже, по-видимому, вернулся домой недавно; у него были мокрые волосы и сапоги, покрытые невысохшей грязью. – Позволите ли вы мне остаться у вас до завтрашнего дня? – спросил лорд Перси. – Конечно! – отвечал отрывисто хозяин, внимательно оглядывая коня, лицо и платье путешественника. Конь был великолепен, костюм, наоборот, чрезвычайно скромен, а голос и манеры обличали человека, занимавшего почетное положение в жизни. Мистер Алико, трактирщик, перевидал немало людей всяких сословий, он прошел огонь и воду и смело причислил лорда к лицам выдающимся. – Потрудитесь войти, – проговорил он вежливо и заметил как будто вскользь: – Ваш конь великолепен! Но Перси отвечал на это замечание лишь совершенно рассеянным и апатичным взглядом. «Он или не знаток, или не дорожит этим чудесным животным», – подумал Алико и спросил вслух: – У этого коня есть, вероятно, кличка? – Называйте его как сочтете удобным, но отведите поскорее в конюшню, – отвечал Генри Перси, несколько раздосадованный любопытством хозяина, – и дайте ему корм… Я заплачу за него и за себя. – Все будет исполнено, – проговорил трактирщик, уводя утомленное и продрогшее животное. – Мама! – сказал уродец, обращаясь к красивой женщине, стоявшей у огня. – Нужно добавить рыбы. Приезжий, верно, голоден, и нам придется остаться без ужина. – Молчи, болтун! – ответила женщина с улыбкой. – Ваш сын говорит правду, – вмешался Генри Перси. – Вам следует действительно подумать о себе, так как я страшно голоден! – Мы предложим вам все, что у нас есть, – ответила хозяйка, осторожно сняв сковороду и проходя в соседнюю неказистую комнату, которая служила буфетом и столовой. Генри Перси и мальчик остались с глазу на глаз; ребенок продолжал внимательно смотреть на путешественника. Догоравшее пламя придавало какой-то фантастический вид этой детской фигурке с безобразным горбом. Мальчуган грыз орех и сильно походил на обезьянку. Граф Перси всецело погрузился в свои думы, забыв о присутствии этого странного создания. Он снял перчатки из буйволовой кожи, и ребенок приметил, как на левой руке блеснуло золотое кольцо. Граф вынул из кармана письмо, уведомлявшее его о состоянии здоровья Екатерины, и так как оно промокло насквозь, то он бросил его в огонь. Когда граф снял плащ и вынул из него зеленый кошелек, мальчуган рассмотрел в нем браслет, несколько золотых и ключик из того же дорогого металла. Ни одна подробность не укрылась от зорких и умных глаз уродца, и, когда Перси сел и погрузился в думу, ребенок проскользнул, как тень, в другую комнату. Через несколько минут молодая хозяйка поспешно вошла в комнату и доложила графу голосом, выдававшим сильное волнение, что ужин на столе. Граф Перси последовал за ней в столовую, где застал хозяина, который вошел с другого хода. – Вы покормили лошадь? – спросил спокойно граф. – Да, милорд, – отвечал почтительно трактирщик. Но граф Нортумберленд был слишком осторожен, чтобы попасться на удочку. – Кто же из нас милорд? – произнес он насмешливо. Трактирщик не отвечал на этот искусно поставленный вопрос. – Ну, кто же, вы или я? – продолжал Перси все с тем же невозмутимым видом. – Не думаю, что вы имеете право на подобный титул. Не хитрите, мистер Джон! Я, конечно, не знаю, Джон ли вы или Джек. Я вовсе не так прост, как вы думаете, и хотя роль шпиона имеет свои выгоды, предупреждаю вас, что это напрасный труд в отношении меня! Ужин прошел в молчании. Алико и его жена сидели вместе с сыном на другом конце стола и ели то же самое, что подавалось Перси. Но в то время как трапеза подходила к концу, Алико попытался опять заговорить с молчаливым приезжим. – Если вы не милорд, – сказал он, подозрительно посмотрев на Нортумберленда, – то вы, вероятно, торговец, сбившийся с пути, так как к нам заезжают только люди рабочего сословия. – А вы хотите знать, не могу ли я продать вам хорошее сукно? – спросил Генри Перси, которого забавляла возможность сыграть роль бродячего разносчика и сильно озадачивало любопытство трактирщика. – Конечно! – отвечал спокойно Алико, толкнув ногой жену. – Я бы хотел купить для праздничного платья хорошего сукна темно-алого цвета, в котором щеголял в давно прошедшие времена… Но вы, очевидно, распродали товар, так как при вас нет короба, с которым разъезжают все прочие разносчики? – Да, я действительно продал все, что взял с собой из дома! – сказал с улыбкой Перси. – Как, абсолютно все? – воскликнул Алико с явной тревогой. – Положительно все, – спокойно подтвердил лорд. – И теперь сожалею, что так случилось, потому что хотел бы подарить вашей милой и радушной жене штуку самого тонкого испанского сукна в знак благодарности за хороший ужин и ласковый прием. Граф приветливо посмотрел на молодую хозяйку: это была действительно симпатичная женщина с прекрасным, искренним и правильным лицом. Густые светло-русые волосы при нежных, выразительных темно-карих глазах придавали ей еще больше миловидности. Хозяйка отвечала молчаливым поклоном на слова гостя. Когда ужин кончился, Перси собрался встать и проститься, но Алико хотел продлить, насколько можно, начатый разговор. – Поешьте еще, – произнес он приветливо. – Вам бы не помешало выпить глоток вина. – Я не пью, – отвечал Генри Перси, вставая из-за стола. – Так вы, значит, желаете сейчас же лечь в постель? Вы даже не хотите погреться у огня? – спросил трактирщик с опечаленным видом. – Нет, – отвечал лорд Перси. – Неужели вы откажетесь выпить несколько капель хорошего ликера? – приставал Алико. – Положительным образом! Я хочу лечь в постель, если это возможно! Тон его был столь повелительным, что Алико счел нужным исполнить волю гостя без дальнейших возражений. Он взял медный подсвечник с восковой свечой и провел лорда Перси по деревянной лестнице в одну из дальних комнат – в ней стояла кровать и полдюжины стульев. – Так это моя комната? – спросил Нортумберленд. – Да, – сказал Алико. – И я имею право занять эту кровать? – Конечно! – отвечал отрывисто хозяин. – Отлично! – сказал Перси. Тон, которым он это произнес, ясно подразумевал: «Ты можешь убираться!» Но Алико стоял неподвижный, как статуя, и, когда Перси скинул с себя полукафтанье, он подошел, чтобы взять его и повесить на гвоздь. – Благодарю, – сказал холодно граф. – Я привык раздеваться без посторонней помощи. Я прошу об одном: просушите мой плащ и разбудите меня завтра на рассвете. – Слушаю, – отвечал спокойно Алико, исчезая за дверью, – Ты просишь разбудить тебя завтра на рассвете? – проворчал он сквозь зубы, спускаясь по лестнице. – Но проснешься ли ты, это еще пока неизвестно! – Наконец-то он ушел, – прошептал Генри Перси. – Какое у него зловещее лицо! Мне жаль, что я попал в подобную трущобу. Из всего, что я здесь видел, ясно, что трактирщик – шпион, и будет досадно, если король проведает о моем путешествии. А впрочем… будь что будет! Но в то самое время, как Перси стоял, призадумавшись над этим обстоятельством, изувеченный стул, на который он кинул свое платье и вещи, свалился под их тяжестью. Замочек кошелька открылся при падении, и золотой браслет, украшенный рубинами, покатился по комнате. Когда Перси нагнулся, чтобы поднять его, он заметил, что пол покрыт в этом месте брызгами темной крови. Он побледнел и вздрогнул. – Браслет Анны Болейн упал прямо в кровь! – произнес он тоскливо. – Что это, боже мой? Простая случайность или предупреждение? Неужели для нее наступил день суда, день кары за ее безумные поступки? Нет, Творец мой, Ты милостив к заблудшему грешнику! Дай и ей срок опомниться и искупить прошлое раскаянием. Лорд преклонил колени в надежде отогнать набожной молитвой тяжелые предчувствия, которые теснились в его больной душе. Но нервы его были слишком напряжены, и воображение рисовало ему с убийственной отчетливостью безмолвную толпу, ожидавшую казни, роковой эшафот и бледную головку, лежащую на плахе в волнах золотистых волос. Поняв, что ему не отогнать эти мысли, Генри Перси привстал и положил браслет в свой дорожный портфель. Он получил браслет в дар от Анны Болейн, когда застал ее за обменом у еврея разных старинных вещей на модные безделушки. Убрав реликвию, граф внимательно всмотрелся в красно-бурые брызги, покрывавшие пол. – Это уже не грезы, – прошептал он чуть слышно. – Это кровь, и вдобавок свежая кровь!.. Здесь случилось несчастье или же совершилось страшное преступление! Последнее вернее… Достаточно вспомнить лицо этого человека! Однако, допуская подобную возможность, я неизбежно должен считать его жену сообщницей… Нет, это невозможно… У нее слишком нежные и кроткие глаза… Нет, она ангел-хранитель этого человека, и он бы не решился совершить у нее на глазах грабеж или убийство. Граф старался припомнить малейшие подробности прошедшего вечера, чтобы получить, насколько можно, ясное представление об их нравственных качествах, и счел разумным и полезным принять самые тщательные меры предосторожности. Он подошел к двери и осмотрел замок: в нем не было ключа; он внимательно осмотрел пол, затем потолок и увидел довольно большой трап, который позволял спускаться в эту комнату с пустого чердака и уходить из нее точно таким же образом; мебель не могла служить защитой в случае нападения, а свеча догорала и должна была скоро погаснуть; положение было опасным и безвыходным. «Ну что же, – подумал Перси. – Моя кончина будет такой же печальной, как и вся моя жизнь! Я умру в западне, от ножа негодяя, и никто не узнает, где и как завершилось мое земное странствование… Они желали знать, не торговец ли я. Они, видно, привыкли резать гуртовщиков и несчастных разносчиков… а торговец-суконщик – лакомая добыча!.. Тем не менее досадно умирать таким образом! Мой бедный старый Гарри!.. Он один был мне искренне предан… Ну мог ли он представить, что ему суждено оплакивать меня? На все Божья воля! Нужно только взглянуть, в порядке ли кинжал». Перси вынул из ножен длинный острый кинжал: он был его единственным оружием, все другое было приторочено к седлу. – Я попался, как крыса в мышеловку, и моя жизнь зависит от этого кинжала! – прошептал Генри Перси. – Она недорого стоит, но я буду отстаивать ее как дворянин и рыцарь. Пресвятой Михаил укрепит мою руку! «Надежда и Перси!» – как восклицал отец мой на равнинах Босворта! Граф поспешно оделся, выдвинул кровать на середину комнаты и лег на нее. Минуты через две мерцающее пламя свечи совершенно погасло, и Перси очутился в непроглядном мраке. Им овладел тот беспредельный ужас, который появляется у самых неустрашимых перед лицом наступающей смерти. Граф напрасно старался переломить себя, уснуть и забыть о печальной действительности. «Боже мой! – думал он со странным и мучительным замиранием сердца. – Для чего Ты призвал меня в эту пустую, жалкую, безотрадную жизнь? Зачем я не стал тем блаженным творением Твоих рук, которые не знают ни конца ни начала?» Граф еще не успел прошептать эти слова, как нервное возбуждение сменилось благотворным спокойствием: веки его сомкнулись, и он уснул глубоким непробудным сном, полным причудливых, таинственных видений. Перси казалось, что дух его внезапно отделился от плоти, и темная завеса, которая мешала ему проникнуть в тайны земного бытия, как будто отодвинулась. Он знал, что он находится в той же комнате, но загадочный свет позволял ему видеть на огромном расстоянии и придавал прозрачность даже твердым телам. В это время перед ним предстало прелестное и светлое видение: шелковистые, длинные и густые ресницы придавали особенное выражение нежности чудесным глазам; венок из белых лилий украшал лоб; темные волосы ниспадали на плечи волной кудрей, и золотой кушак блестел на белом, воздушном одеянии. Безмятежное и кроткое лицо этого существа дышало непорочностью и неземной любовью. Перси начало чудиться, что воздух наполняется нежным благоуханием и что присутствие этого воздушного создания наполняет его душу ощущением странного, необъятного счастья. Душа Генри Перси рвалась неудержимо к этому симпатичному, прекрасному видению. – Кто ты, друг? – спросил он. Райский гость улыбнулся и, подняв на него свои великолепные нежные глаза, указал на свой золотой кушак. – Прочти сам мое имя, – произнес он приветливо, мелодичным голосом. Взор графа упал на золотой кушак. На нем было написано таинственными буквами одно слово: «Генри». – Мое имя! – воскликнул с удивлением Перси. – Вернее, мне дали его в твою честь, мой хранитель? – Нет, я принял твое в день твоего крещения, – возразил райский житель. – В этот памятный день Господь призвал меня из ангельского хора, где я вместе с другими возносил Ему хвалы. «Я исполнил желание благородного Перси и дал ему наследника, – сказал мне мой Творец. – Поручаю тебе охранять эту душу на скользком пути жизни, оберегать ее от всяких заблуждений, ободрять в дни тяжелых испытаний, для того чтобы она, исполнив свое скорбное земное назначение, воспользовалась счастьем, которое ждет всех любящих Меня». Я спустился на землю и стал с тех пор любить и охранять тебя. – Светлый ангел-хранитель! Повтори еще раз эти отрадные слова, повтори, что Господь любит грешное человечество, такое непокорное Его святым велениям! – попросил тронутый Перси. – Он любит его больше, чем уста мои могут сказать тебе и чем разум твой в силах понять! Когда Он сотворил первого человека и окружил его всеми земными благами, а человек этот, утопая в блаженстве, дерзнул нарушить закон повиновения Его премудрой воле, все мы затрепетали, все ожидали страшной, неумолимой кары, но милосердие Божие непостижимо даже и для бесплотных сил! В печальный час падения человека, когда все голоса замолкли на небе, у престола Всевышнего появилась белоснежная ароматная лилия, а над ней засиял животворящий крест. Тогда Господь послал ангела правосудия возвестить человеку, что он будет наказан за свое преступление скорбью и болезнями, но что среди его потомков будет Искупитель, который ценой крови своей откроет ему путь в бесконечную жизнь. Века шли за веками, а люди продолжали испытывать долготерпение Божие, и мы, всегда сочувствующие печалям человечества, начинали бояться, что Господь устанет от их постоянного ропота, их страшной непокорности Его святым законам. Но любовь Всевышнего к людям превыше их грехов: настал великий день, и на землю явился Тот, Кто пришел спасать не праведных, а грешных. Он исцелял больных и воскрешал умерших, он врачевал душевные и телесные раны, он поучал народ, погрязший в беззакониях, и слова, выходившие из Его чистых уст, проникали в сердца самых ожесточенных и самых бессердечных. И когда, завершив свое благословенное земное бытие томительной агонией и смертью на кресте, Он вознесся на небо, у мучеников жизни осталась утешительная, блаженная уверенность в том, что всякий, кто безропотно несет свой крест с любовью, смирением и сочувствием к ближнему, займет место в чертогах, уготованных Господом в царствии славы Его для алчущих и жаждущих, для верующих сердцем, словами и делом в Евангельские истины. Взгляни сам и уверься, что лишь пресытившимся, наделенным с избытком всеми земными благами, не слышащим голос человеческой скорби, закрыт путь в эти райские, блаженные обители! Все они поклонялись золотому тельцу, забыв, что беспристрастная и неподкупная смерть повергает во прах и бедных и богатых. Когда ангел замолчал, взору спящего графа Нортумберленда предстало внезапно обширное пространство, озаренное мягким светом; в роскошных садах всевозможные цветы, окутанные дымкой золотых облаков, наполняли воздух душистыми испарениями; сонмы ангелов прославляли имя Создателя Вселенной, а толпы легких призраков в белоснежных одеждах скользили над спокойными и светлыми водами и сидели в кущах чудесных райских садов; их лица выражали безмятежное счастье и торжество победы над смертью и грехом. Генри Перси созерцал эту дивную картину, но мысль, которой он был одержим, предъявила права свои даже в этом странном сне. – Прекрасный мой хранитель! – сказал он нерешительным, умоляющим тоном. – Ты читаешь в душе моей, ты знаешь, как глубоко, как горячо и искренне я люблю Анну Бо-лейн… Меня мучит вопрос: не закрыт ли для нее бесповоротно доступ в эти блаженные обители? Лицо райского гостя омрачилось. – Ты знаешь, – отвечал он, – что, ослепленная блеском земного счастья, она забыла о небе. Две жаркие слезы пробились сквозь сомкнутые ресницы Генри Перси, но они не нарушили его крепкий сон. – Значит, у нее нет надежды на помилование? – прошептал он печально. – Нет, пока в человеке есть еще искра жизни, он может уповать на милосердие Божие, – ответил ангел с Кроткой и светлой улыбкой. – Не уставай молиться за эту грешную душу: искренняя молитва всесильна перед Господом. – Твои слова вливают живительную струю в мою больную душу, – сказал радостно Перси. – Они дают мне силы на борьбу с испытанием! Твой голос приносит уже давно забытое, блаженное спокойствие. Я бы смелее пошел навстречу ударам, которые мне, несомненно, готовит будущее, если бы мог видеть изредка твое нежное, кроткое и светлое лицо. – Ты меня не видишь и не можешь увидеть, пока дух твой закован в земную оболочку, – сказал печально ангел, – однако я всегда с тобой. Когда ты начал жить сознательной жизнью и принимать страдание, я старался внушить тебе, что не нужно возлагать надежды на земное блаженство, но привязанность к жизни, присущая каждому человеку, заставляла тебя держаться за нее всеми силами; тебя пугала смерть, хотя в сущности смерть – только минутный сон и переход в бессмертие. Не имея понятия о целях провидения, ты роптал на то, что вынужден страдать. Ты видел этих призраков в белоснежных одеждах?! Они так же, как и ты, изведали всю тяжесть земного бытия, они так же, как и ты, не видели выхода из тяжких жизненных смут и сгибались под непосильной ношей, но время это минуло, подобно сновидению, и они забыли о своем скорбном прошлом в необъятности счастья, которое Всевышний дает своим избранникам. Иди смело навстречу грядущим испытаниям и уповай на Бога! В этой надежде нет обмана и измены. (обратно)Глава IX Ночной убийца
В то время как Перси спал таким странным непробудным сном, трактирщик и его жена поднимались осторожно по лестнице, которая вела в его темную комнату. Женщина была чрезвычайно бледна. – Послушай! – сказала она голосом, выдававшим сильное волнение. – Бог покарает нас за такое преступное и кровавое дело! – Ба! – процедил сквозь зубы ее суровый спутник. – Ты привыкла вмешиваться в то, во что не следует, и мешать всяким полезным предприятиям! Уволь на этот раз от своих скучных проповедей! – Я знаю, что трачу понапрасну и время и слова: ты ни во что не веришь, – прошептала печально женщина. – Но этот человек – я не сомневаюсь в том – не торгует сукном! – добавила она. – Тем лучше! – перебил отрывисто трактирщик. – Если он не суконщик, то, значит, ювелир. – Все равно! Кто бы он ни был, но сердце мое обливается кровью при мысли о таком вопиющем предательстве! – произнесла она с невольным содроганием. – Ну не кисни! Этот будет последним, клянусь тебе! – Ты давал ту же клятву относительно прежнего постояльца и не сдержал ее! – Еще бы! Ведь ты знаешь, что у него, к несчастью, не оказалось денег! – А ты уверен, что у этого они есть? – Вне всяких сомнений! Ведь ребенок заметил у него кошелек, и мы оба видели у него на руке массивное золотое кольцо. – Эти кольца бывают по большей части дутыми, и в них немного толку. – Перестань пороть чушь! – сказал в сердцах трактирщик и оттолкнул жену так неожиданно и сильно, что она свалилась бы, если бы не ухватилась за старые перила. Эта грубая выходка острой болью отозвалась в душе молодой женщины – из груди ее невольно вырвалось рыдание. – Замолчи же, змея! – прошипел Алико. – Ты хочешь разбудить уснувшего кота? – Да, честно говоря, я от души желаю, чтобы этот кот проснулся! – отвечала она. – Конечно, для того, чтобы дать ему возможность убить твоего мужа? Трактирщик наклонился к жене, и взгляд его был исполнен таким бешеным гневом, что она побледнела еще сильнее и закрыла лицо дрожащими руками. Ее горе мгновенно смягчило Алико: он обожал жену. – Тебе, право, не следует бояться моих вспышек! – произнес он заметно спокойнее. – Ты можешь оставаться, я пойду один… если ты боишься. – Я вовсе не боюсь, и ты сам это знаешь, – возразила она, окинув его гордым и презрительным взглядом. – Вспомни свою стычку с пограничной стражей! Я рисковала жизнью, чтобы спасти тебя, я отбила тебя у таможенных сыщиков и требую, чтобы ты пощадил этого человека. Глаза молодой женщины излучали решимость: она повелительно протянула руку и преградила мужу путь. – Это мягкосердечие вызвано, разумеется, любезностью приезжего и тем, что он пожелал подарить тебе алое испанское сукно? – произнес Алико с насмешкой. – Хватит переливать из пустого в порожнее; можешь оставаться или идти со мной, но ты не заставишь меня изменить решение. Он отстранил жену и взбежал по лестнице. Подойдя к двери Перси, он приложил ухо к одной из многих трещин и начал прислушиваться. Тишина была полная. Слышалось только совершенно спокойное и ровное дыхание спящего человека. По губам Алико промелькнула горькая улыбка. Он слегка перегнулся через перила, чтобы посмотреть на жену, но она продолжала стоять на прежнем месте, неподвижная как статуя. Трактирщик с досадой отвернулся и вынул два кинжала. Осмотрев их внимательно, он положил поспешно один кинжал в ножны, висевшие у пояса, и, взяв с пола фонарь, отворил тихо дверь в комнату путешественника. Он сейчас же заметил, что кровать отодвинута на середину спальни и что приезжий спит одетым. «А, он подозревал, что возможно нападение!» – подумал Алико. Он невольно смутился и не знал, очевидно, на что ему решиться. Бледный свет фонаря озарял утомленное, но спокойное лицо Нортумберленда. Он спал глубоким сном. Убийца неслышно подошел и застыл, во власти безотчетного чувства, в ногах его кровати. «У него благородное, прекрасное лицо! – подумал он невольно. – В нем есть что-то особенное, мягкое, симпатичное, но вместе с тем повелительное!.. Что, если я ошибся в своих предположениях?» Но пока Алико искал ответ на последний вопрос, Перси открыл глаза и увидел человека, стоящего в ногах его кровати. Руки его судорожно вцепились в простыню. – Предатель! – воскликнул он. – Ты, конечно, надеялся застать меня врасплох? Он соскочил с кровати и налетел, как тигр, на своего врага. Но Алико, заметив, что Перси безоружен, обхватил своей сильной мускулистой рукой стан смелого противника и занес над ним острый, сверкающий кинжал. Только тут Генри Перси увидел, что его собственный кинжал выскользнул из руки во время сна. Он заревел от бешенства. – Ко мне, нортумберлендские длинногривые львы! – крикнул он громко. Этот воинственный крик непобедимых Перси при встрече с неприятелем вернул ему мужество: он сжал Алико с невероятной силой, свалил противника на пол и придавил его. Завязалась безмолвная, но страшная борьба; злоумышленник был сломлен тяжестью и, еще того более, изумительной ловкостью графа Нортумберленда. Алико задыхался; его губы покрылись кровавой пеной; но он еще пытался противостоять Генри Перси. Не прошло минуты, как граф ловко овладел запасным кинжалом, висевшим на кушаке трактирщика, и вонзил в руку, все еще продолжавшую угрожать его жизни. Алико застонал от боли и от злобы и выпустил кинжал. Тогда Перси привстал и, упершись коленом в грудь наглого разбойника, занес над ним оружие, которое должно было вонзиться в его собственную беззащитную грудь, если бы случай не спас его. Но в тот самый момент, когда жизнь Алико висела на волоске, молодая жена его вбежала в комнату. – Пощадите! – воскликнула она с мольбой, подняв на Генри Перси свои обворожительные печальные глаза. – Да, спасите меня от казни, ожидающей нераскаявшихся грешников! – теряя силы, прошептал Алико. – И если вы не в силах простить его, то убейте и меня! – произнесла решительно молодая жена. – Я сознаю всю низость его поступка, но Алико мой муж, и я люблю его! Непритворное чувство, с которым были произнесены эти простые слова, тронуло Генри Перси. – Бедная! – прошептал он невольно, посмотрев с состраданием на молодую женщину. Он отбросил кинжал и встал, выпрямив свой стройный стан. – Поднимайся, презренный убийца! – сказал он повелительно. – Я не казню тебя за твое преступление, но не смей забывать ни на минуту, что граф Нортумберлендский пощадил твою жизнь лишь для того, чтобы ты раскаялся и искупил прошлое! Алико встрепенулся при этих словах и вскочил, забыв о своей ране. – Вы граф Нортумберлендский? – воскликнул он с испугом. Он постоял с минуту в оцепенении и вдруг упал к ногам Перси. Почти сразу же молодая жена его, обезумев от ужаса и жестоких волнений, пережитых в течение этой ночи, растянулась со стоном на полу перед графом. Бледное лицо Перси запылало ярким румянцем; он смерил надменным и презрительным взглядом мужа и жену. – Презренные создания! – сказал он с омерзением. – Что побуждает вас пресмыкаться передо мной? Вас ослепил мой титул… вас испугала мысль, что вы могли зарезать человека, столь почитаемого в обществе! Вы, вероятно, воображаете, что убить лорда Перси – больший грех, чем умертвить несчастного проезжего разносчика, как вы это сделали весьма недавно… Его кровь не успела еще высохнуть на полу. – Да, я убил его! – воскликнул Алико. – Я зарезал его из-за нескольких мелких серебряных монет; я совершил этот кровавый грех, но даже не знаю, кем был несчастный… Вы же – другое дело, милорд; я был вашим вассалом, я участвовал в битвах с вашим благородным и храбрым отцом. Но мои дурные наклонности… – Вы служили отцу? – перебил его Перси изменившимся голосом. – Да, ему и потом другим, – отвечал Алико, – но мои дурные наклонности вынуждали меня менять профессии и вызывали порицание тех, кому я служил или с кем имел дело! Моя жена, глубоко преданное мне нежное создание, старалась изменить меня, – продолжал он, взглянув с любовью на молодую женщину. – Она жила смирно и счастливо, пока случайно не столкнулась со мной. Я увез ее хитростью из родных гор, от старой матери, которая зачахла с горя и тоски, узнав, что дочь повенчалась с разбойником! Скажу больше, милорд: ваш достойный отец был для меня образцом, а ведь я бы убил вас, если бы случай не спас вас от моего кинжала! – Если вы сознаете, что поступали дурно, так живите, как все добрые люди! – заметил Генри Перси. – Да, он должен отречься от своего прошлого и сделаться другим человеком! – воскликнула молодая хозяйка. – Вы так добры, милорд, но вы не в силах понять, сколько я вынесла с тех пор, как он увел меня из родного дома. Я жила беззаботно и весело, как птичка, когда он неожиданно явился в наши горы для закупки овчины; он начал нашептывать мне про любовь и про счастье, и я скоро почувствовала влечение к нему. Иногда, признаюсь, его взгляд вызывал у меня какой-то смутный ужас, но, когда я говорила ему, что он меня пугает, глаза его делались безмятежными и кроткими, и мои сомнения бесследно исчезали. Моя старая мать тоже считала Алико хорошим человеком. В один прекрасный день он весело предложил мне прогуляться… Так я навсегда рассталась с родиной и с матерью. Моя бедная мать не вынесла удара… однако я все еще люблю его! Слова молодой женщины произвели, видимо, сильное впечатление на Алико. Он помолчал с минуту и сказал мрачно и отрывисто: – Я поступал бесчестно, я это сознаю, но я всегда заботился о твоем счастье, Мэри, ты должна признать это! – Да, ты воображал, что я довольна жизнью, потому что я переносила без жалоб и ропота все испытания. Но тебе никогда не приходило в голову, что несчастья нашего ребенка было совершенно достаточно для того, чтобы отравить мне жизнь и разбить душу: это кара Господня за твои преступления, а ты еще стараешься подготовить его к профессии грабителя! Я знаю, что ты храбр, но ведь этого мало для семейного счастья! Граф не мог сдержать усмешки при этом панегирике, вызванном беспредельной любовью. Он взглянул на разбойника; кровь из глубокой раны текла струей’, но Алико, по-видимому, не обращал на это никакого внимания. «Хотя храбрость и низость несовместимые качества, но нельзя отрицать, что он мужественно выносит телесные страдания», – подумал Генри Перси. Уступая порыву врожденной доброты, граф подошел к трактирщику и сказал почти ласково: – Нужно остановить кровь и сделать перевязку. Он заботливо усадил его на стул. – Боже мой! Да ты ранен? – воскликнула, бледнея, испуганная Мэри. Она бросилась к мужу и застыла при виде его страшной, почти мертвенной бледности. – Милорд! Он умирает! – произнесла она с отчаянием. – Что же будет с нами, кто защитит нас? – Не думайте о будущем! – сказал мягко Перси. – Если ваш муж решит стать честным человеком, я сумею устроить его и вашу судьбу. – Я буду им, милорд! – прошептал Алико, теряя силы. – У меня, конечно, дурные наклонности, но нужда превратила меня из капризного и дурного человека в убийцу… Вы великодушны, если я умру… не покиньте мою жену!.. Алико с усилием перевел дыхание и свалился без чувств на пол, залитый кровью. Жена бросилась к нему с криком отчаяния и ужаса, но граф отстранил ее и, приподняв больного, перенес на постель. Около постели лежал его острый кинжал; он разрезал простыни на несколько бинтов и перевязал Алико руку. Через некоторое время раненый пришел в чувство и уснул вскоре крепким и благотворным сном. Когда первые лучи солнца осветили равнину, Перси сел на коня, повторив еще раз Алико и жене его, что примет их в число своих вассалов, если они пожелают изменить образ жизни. Отъехав на полмили от гостиницы, он поднял глаза к светлому, безоблачному небу и произнес с горячей мольбой: – Боже мой! Я простил от души человека, который покушался на мою жизнь, и если я, ничтожный и слабый человек, отказался от мести и пощадил убийцу ради Анны Болейн, прости и Ты ее, милосердный отец, и помяни ее, как помянул разбойника во царствии Твоем! (обратно)Глава Х Королева Англии
В то осеннее время, когда великодушный и благородный Перси проезжал по бесконечным, пустынным равнинам, рискуя своей жизнью и своим положением из любви к Анне Болейн, королева, отдавшись всецело удовольствиям и роскоши, совершенно забыла о прошлом и о графе. То же самое солнце, что блестело над головой всадника, скакавшего по дороге, испорченной осенней непогодой, освещало и роскошные Виндзорские сады. В конце длинного ряда великолепных комнат молодой королевы находился ее изящный кабинет. Он был совсем недавно отделан и обставлен с баснословной роскошью; драпировки на окнах были из легкой ткани молочной белизны. Корабль привез эту чудесную ткань из Индии. Узницам, что ткали белоснежные занавеси в темнице, было приказано, чтобы нити были такими же тонкими и нежными, как нити паутины, покрывающей стены подземелья. Темнокожаяиндианка чистым золотом вышила чудесные арабески, а кайма из павлинов яркого шелка придавала работе еще большую прелесть; гребешки на головках горделивых птиц были убраны жемчугом и мелкими сапфирами. Множество экзотических растений и цветов распространяли по комнате свой легкий аромат; восточные ковры не уступали в роскоши и красоте мебели, обитой белым штофом; на полках этажерки из пальмового дерева с инкрустациями из золота и слоновой кости стояло много книг – произведений лучших иностранных писателей; на одном из столов стояли всевозможные приспособления для рисования – кисти, краски – и начатые рисунки. К бронзовому кольцу на потолке была прикреплена золотая клетка превосходной работы: в ней порхал колибри, опуская время от времени миниатюрный носик к искусственным цветам, мастерски сделанным из корней какого-то китайского кустарника, и выпивая каплю подслащенной воды, наполнявшей их чашечки. Пташка с нежным щебетанием перелетала с ветки на ветку, тоскуя под серым небом Англии о цветущих лугах родной Бразилии. Молодая обворожительная женщина стояла около клетки; прекрасные глаза ее, голубые как небо, были прикованы к миниатюрному узнику, ее мелодичный голос произносил с нежностью: – Ты не хочешь, ленивец, петь сегодня для Анны? А ведь ты поешь лучше, чем я! Но пташка относилась с глубоким равнодушием к увещаниям своей прекрасной госпожи и продолжала прыгать в золотой клетке, напоминая яркостью и цветом перышек изумруд и рубин. Убедившись в бесполезности своих упреков, молодая красавица взяла со стола лютню: светло-русые ее волосы падали в беспорядке на дорогое кружево, которым был отделан ее белый пеньюар; ее нежные ручки бегали с изумительной быстротой и легкостью по струнам, и ангельское пение слилось с мелодией. – Ты поешь вдвое лучше, чем твоя птица, Анна, – заметил граф Уилширский, сидевший в это время на бархатных подушках пурпурного цвета. – Вы находите? – отвечала небрежно Анна Болейн. – Впрочем, это все так говорят. Королева положила лютню на стол; прелестные глаза ее обратились к отцу; ее поза была полна небрежной, непринужденной грации. – Ты, Анна, поешь лучше, чем кто-либо в мире! – произнес старый граф, на суровом, угрюмом лице которого честолюбие, зависть и подозрительность давно оставили неизгладимый след. – Я сама это знаю, но это не мешает мне скучать довольно часто, – сказала королева. – И, вообще говоря, вы же не любите музыку! – добавила она с лукавой улыбкой. – Что за беда! У тебя великолепный голос! – возразил граф с досадой. – Не сердись, отец, – сказала Анна Болейн. – Я вовсе не сержусь! Послушать тебя, так я действительно нетерпим. Королева взяла со стола лютню и исполнила трудный и блестящий пассаж; но музыка, по-видимому, не доставляла ей удовольствия. – Вы не сказали мне ни словечка о матери! Как она себя чувствует? – спросила она равнодушно, обернувшись к отцу. – Не знаю, – проворчал с неудовольствием граф. – Вам хорошо известно, что у матери вашей нестерпимый характер, и мы по целым дням не говорим друг с другом. Анна скрыла улыбку, закусив алые, хорошенькие губки; она встала с дивана и положила лютню на прежнее место, подумав, что и отец и мать одинаково вздорны и капризны… – Вы сегодня расстроены и чем-то недовольны! – заметила она совершенно спокойно. – Да, – сказал граф Уилширский, – и ты отлично знаешь, чем вызвано такое настроение! – Неужели вас действительно встревожило то, что на вчерашнем балу король заговорил сначала с моим дядей Норфолком, а потом с вами? – спросила королева. – А разве ты не знаешь громадного значения этого обстоятельства? – воскликнул старый граф, побагровев от гнева. – Или ты не понимаешь, что отец королевы не должен иметь равного в английском королевстве? – Но король говорил до этого с моим братом!.. – Да, но ваш брат – не я! – Это понятно! – сказала Анна Болейн. – Я хотела лишь сказать, что это обстоятельство доказывает, что король обратился к моему дяде Норфолку без всякой задней мысли. – Вы не можете знать мысли его величества! – перебил граф Уилширский. – Вы сильно ошибаетесь: я их отлично знаю! – сказала королева с заметной досадой. – Из чего же вы это заключили? – Когда я танцевала, король проходил мимо и спросил у кого-то из придворных: «А где же граф Уилширский?» Стало быть, он вспомнил о вас прежде, чем о других. – Да, твое заключение верно, – проворчал старый граф и снова погрузился в раздумье. В комнате воцарилось на несколько минут глубокое молчание, но колибри запел, и его восхитительное, мелодичное пение рассеяло тяжелое оцепенение графа. – Признаюсь тебе, Анна, – обратился он к дочери, – я от души желаю, чтобы эта Екатерина поскорее умерла! Мы не можем упрочить наше положение, пока она жива! – А моя дочь? – ответила со смущением королева. – Твоя дочь! – повторил с презрением граф Уилширский. – Что твоя дочь? Ничто! И ты сама виновата, раз не сумела произвести на свет сына!.. Это бы изменило положение дел! Королева стремительно вскочила с дивана, глаза ее сверкали, а щеки вспыхнули ярким румянцем гнева. – Я, кажется, не раз выражала желание, чтобы вы меня избавили от подобных упреков! – воскликнула она с живым негодованием. Но граф не обратил никакого внимания на слова дочери и продолжал все с той же холодной беспощадностью: – Печальна участь женщины, не имеющей сына, но участь королевы в таком положении несравненно плачевнее! – Но ведь Елизавета наследует престол?! Этот вопрос решен королем и парламентом?! – Да уж, вопрос решен: наследник трона в юбке! – воскликнул старый граф с досадой. – А разве ты забыла, что принцесса Мария не уступит без боя свои права на престол? Если король разлюбит тебя и влюбится в другую, то мы все погибнем бесповоротно… имей это в виду! – Вы любите пугать и тревожить меня, – сказала Анна Болейн. – Что побуждает вас угрожать мне погибелью? Я жена короля и была коронована открыто, перед всеми! – Так же, как Екатерина! – произнес граф глухим и едва слышным голосом. – Король меня не бросит, как он бросил ее: моя власть и влияние не только не слабеют, но все увеличиваются, и если можно верить уверениям и клятвам, то Генрих никогда не любил меня так, как любит сейчас. – Король очень фальшив, ему нельзя верить! – ответил граф Уилширский. – Он начинает стареть… Он становится заметно тучнее… его может внезапно прихлопнуть апоплексия, да и рана на ноге не поддается лечению… Если бы ты родила сына, тогда мы были бы вправе настоять на регентстве… Граф говорил все это отрывисто, вполголоса, не заботясь о том, доходят ли его слова до слуха королевы. Ненасытное честолюбие этого человека не давало ему ни минуты покоя, и мысль о смерти Генриха и ее последствиях заставляла его дрожать за свое будущее и за свое блестящее положение в жизни. – Скажите по крайней мере, – обратился он неожиданно к дочери, – удалось ли, по моему совету, найти себе приверженцев в кругу самых могущественных и влиятельных лордов? – Относительно этого вы можете быть совершенно спокойны: лорды преданы мне! – сказала королева с надменной небрежностью. Вообще Анна Болейн не задавалась мыслью, чем вызваны льстивые слова и уверения в преданности окружавшей ее блестящей молодежи, и считала их абсолютно искренними; ее самонадеянность была так велика, ей так часто твердили о ее красоте и ее достоинствах, что она слепо верила: любой, не задумываясь, отдаст за нее жизнь, если она потребует этой великой жертвы. – Ты неосторожна, – продолжал граф Уилширский, – не думаешь о будущем, ты не веришь, что власть может внезапно смениться унижением! Анна Болейн презрительно пожала плечами в ответ на это замечание. – Ты никогда не задумываешься о бесчисленных трудностях нашего положения, – продолжал старый граф. – Духовенство настроено против нас: католики твердят, что ты восстановила против них короля и что ты – причина его разрыва с римской церковью. Они видят в тебе не жену, а наложницу; они говорят во всеуслышание, что ты сводишь в могилу законную жену и королеву Англии и что только дочь Екатерины имеет право на престол… а заметь, между лордами и членами парламента очень много католиков! Если король умрет или охладеет к тебе, то увидишь тогда, как все наши враги дерзко поднимут головы и объединятся, чтобы погубить нас всех! Анна Болейн стремительно вскочила с дивана и отбросила гневно кисть, которую держала в это время в руке. – Я пришла к убеждению, что вы не в состоянии пользоваться дарами провидения, а стараетесь мучить и себя и меня. Вы и все наши родственники пользуетесь щедротами вашего государя, почестями, богатством… Нам все пока удавалось, мы не знали неудач. Но это не мешает вам вечно быть недовольным и выводить меня каждый день из терпения, так что я все чаще проклинаю минуту, когда сделалась английской королевой! Анна Болейн замолчала и отошла к окну, чтобы положить конец наставлениям графа. Почти в ту же минуту в комнату вошел стройный молодой человек – ловкий, статный, высокий, с открытым и красивым лицом; он был одет богато, но вместе с тем изысканно. – Здравствуй, Анна! – сказал он, подходя к королеве, продолжавшей стоять спиной к графу Уилширскому. – Ну как ты себя чувствуешь? – Спроси лучше об этом у нашего отца, – ответила она, не меняя позы. – Пусть он скажет тебе, что заставляет его мучить меня. Джордж Рочфорд подошел еще ближе к сестре и схватил ее за руку. – Тебя опять рассердили, моя бедная Анна! – произнес он с улыбкой. – Оставь меня в покое! – сказала королева, оттолкнув руку брата. – Она дуется и капризничает, как ребенок! – проворчал граф Уилширский, мрачно сдвинув брови и делая сыну знак сесть около него. Когда молодой граф сел с ним рядом, королева внезапно отошла от окна и подошла к отцу легкой, быстрой походкой: глаза ее сверкали, щеки горели. – Ты сердита сегодня, как видно, не на шутку, – заметил Рочфорд, – но тебе тем не менее придется меня выслушать, и выслушать внимательно. – Что ж, говори! Я слушаю! – сказала королева, надув сердито губки. – Вы все привыкли распоряжаться мной! – Ты узнал, вероятно, о каких-нибудь новых интригах наших тайных врагов! – воскликнул старый граф, изменившись в лице. – Да, вы не ошибаетесь! Отныне мы должны считать графа Эссекского бессовестным предателем! На свете еще не было такого негодяя, как милорд Кромвель! На днях в Дургеме был по его приказанию упразднен монастырь; бедных монахинь выгнали на улицу, а двух из них отправили в городскую больницу; народ шел за носилками умиравших страдалиц, призывая гнев правосудного Бога на королеву Анну! Все говорили с негодованием, что монастырские доходы и имущество отнимают из-за нашей расточительности, нашей страсти к роскоши и блистательным празднествам! Человек, совершивший наглый грабеж беззащитной обители, креатура Кромвеля, всеми силами старался поддержать это мнение. Когда несколько выборных от дургемского общества обратились к нему с просьбой пощадить беспомощных монахинь, он ответил им, что милорд граф Эссекский душевно опечален горькой необходимостью прибегать к таким мерам, но безумная расточительность молодой королевы вынуждает его поступать таким образом. Вот как готовит он нашу гибель! – воскликнул граф Рочфорд с негодованием. – Вот какими проделками нас хотят унизить во мнении народа! А между тем вы знаете, – обратился он к отцу, – что Анна отдает половину того, что получает, на нужды бедных жителей Лондона! – Обо мне распускают разные мерзкие слухи, – сказала Анна Болейн, – но так как я не в силах положить им конец, то мирюсь с подобным положением. Но я попеняю за эту последнюю проделку графу Эссекскому! – Ты! – воскликнул граф Уилширский. – Ты должна понимать, что этот негодяй не обратит внимания на твои замечания! Нужно иметь улики! Нужно устроить так, чтобы к тебе явилась депутация выборных от дургемского общества! Вообще вступать в борьбу с подобным человеком – рискованное дело! – добавил старый граф, взвешивая, как хитрый и опытный политик, все шансы на успех. – Каков бы ни был риск, мы должны обличить этого интригана, – перебил с нетерпением молодой человек, – мы не вправе позволить так нагло клеветать на королеву. – Да, если граф Эссекский будет распускать о ней ложные слухи, он причинит нам непоправимый вред! – продолжал старый граф. – Без сомнения! Народ возненавидит Анну! – воскликнул Джордж Рочфорд, сохранивший рыцарские чувства, несмотря на внушения отца и порочность ветреной придворной молодежи. – Я призову Кромвеля к кровавому ответу, – добавил он с угрозой. – Я не позволю ему клеветать на сестру!.. – Ты говоришь, не думая о положении вещей! – возразил граф Уилшир. – Я объяснял тебе уже много раз, что безумие – вступать в открытую борьбу с подобным человеком, не будучи уверенным в его поражении! Мне уже удалось окольными путями известить короля о проделках Кромвеля; нам теперь остается представить улики; мы должны их собрать, так как это единственное средство поколебать могущество этого интригана: он человек опасный!.. Я его презираю не могу сказать как… Он принадлежит по своему рождению к низшему сословию: он скуп, жаден и зол!.. Граф еще не успел договорить, как дверь открылась и дежурный чиновник доложил о графе Эссекском. Граф Уилшир тотчас же нагнулся к Анне Болейн и прошептал внушительно: – Прими его любезно! Он не должен догадываться о наших планах, пока я не обдумал их как следует. Первый министр развязно подошел к молодой королеве. – Ваше лицо подобно сегодняшнему утру, и ваша красота сияет ярче солнца! – сказал он ей с притворно-беззаботной улыбкой. Эта льстивая фраза заметно успокоила Анну Болейн. Она состроила легкую гримаску и пожала плечами: – Я сегодня, напротив, в довольно скверном расположении духа. Я никак не могу сладить с этим рисунком, – добавила она, указав на красивый неоконченный цветок. Кромвель перешел от кресла королевы к креслу графа Уилшира. – Ну, как вы себя чувствуете? – спросил он ласково, протянув графу руку. – Я слышал, что подагра не дает вам покоя, и душевно вам сочувствую. Старый граф с видом полного дружелюбия пожал протянутую руку и изобразил на своем угрюмом лице приятную улыбку. – Да, – ответил он мягко, – я слышал, что вы часто присылали осведомиться о моем положении, и был вам благодарен от всего сердца! Мы старые друзья, но у вас куча дел, и тем ценнее ваше внимание. – Ну а вы, лорд Рочфорд, я надеюсь, здоровы? – спросил Кромвель с улыбкой. – Не совсем: я проснулся с сильной головной болью, – ответил нехотя молодой человек. – Это последствия ночи, проведенной на балу, – сказал первый министр. – Он сегодня в прегадком расположении духа и ссорится с сестрой уже более часа из-за сущих безделиц! – вмешался граф Уилшир с очевидным намерением смягчить этот сухой, отрывистый ответ. – Как, милорд, вы решаетесь ссориться с королевой? – воскликнул граф Эссекский. – Вы один в таком случае имеете странную привилегию не подчиняться слепо воле ее величества. Мы же умеем только любить, благословлять и обожать ее! В то время как Кромвель рассыпался в любезностях перед молодой королевой, за дверью послышался шум шагов и в кабинет вошли камер-юнгферы Анны Болейн. Впереди шла, вся в кружевах и лентах, двухлетняя малютка; она не торопясь подошла к королеве, и, когда Анна Болейн усадила ее к себе на колени, девочка обвила ее нежную шею своими миниатюрными хорошенькими ручками. – Я сегодня не капризничала и люблю тебя, мама! – сказала она нежным голоском, но тут же замолчала и приложила пальчик к своим розовым губкам. Подошедшая гувернантка взяла ее с колен молодой королевы без всякого протеста со стороны ребенка. Малютку приучили к этим официальным свиданиям с матерью, и она, очевидно, с большей радостью перешла в объятия гувернантки. Одна из камер-юнгфер подошла к Анне Болейн и сказала ей шепотом: – Придворный ювелир принес бриллиантовый браслет для вашего величества. – Балетмейстер желает получить приказания относительно нынешнего вечернего балета, – доложила другая. – Хорошо! Пусть он ждет, я позову его, когда вернусь с прогулки, – сказала королева с заметным нетерпением. Она встала с дивана и поспешила выйти, протянув на прощание руку графу Эссекскому надменно и грациозно. (обратно)Глава XI Джейн Сеймур
В одной из башен Виндзорского дворца находилось скромное помещение, занимаемое одной из фрейлин английской королевы. Джейн Сеймур, так звали эту фрейлину, была дочерью именитого дворянина из Уилшира; он умер, не оставив состояния. Джейн была принята ко двору благодаря стараниям ближайшей родни, которая хотела снять с себя заботы об устройстве судьбы осиротевшей девушки. Джейн Сеймур была прекрасна, но проста и наивна. Двор показался ей чужим миром; его роскошь и блеск были ей не по вкусу; исполнив свои обязанности при королеве, девушка торопилась вернуться в башню и усесться за прялку со своей старой служанкой Жемми. Жемми была чрезвычайно честным и кротким созданием, но из-за неразвитости и ограниченности она не могла дать своей молодой госпоже разумный совет и предостеречь ее от ошибок в сложной придворной жизни. Госпожа и служанка были очень привязаны друг к другу и вместе тосковали о родимых полях. Невысокие окна башни были с утра открыты, и солнце освещало всегда кроткое и спокойное лицо Джейн Сеймур, сидевшей за работой в белом атласном платье с серебристым отливом и бархатным корсажем с золотыми застежками, обхватывавшим плотно ее гибкую талию. Девушка подвернула кружева, ниспадавшие на ее белые ручки; хорошенькая ножка приводила в движение колесо легкой прялки, и тоненькие пальчики с розовыми ногтями проворно вытягивали нить за нитью. Жемми сидела на полу посередине комнаты, разбирая катушки для своей молодой госпожи. – Моя добрая Жемми, – сказала Джейн Сеймур обворожительным мелодичным голосом, – заметь, что я пряду уже десятый клубок! Когда я его закончу, у тебя будет платье из прекрасного тонкого испанского сукна. – Ну к чему мне рядиться в испанское сукно? – ответила служанка с чистосердечным смехом. – Это не по мне! Платье из фландрской шерсти, красное или синее, – совсем иное дело! – Шей что хочешь. Мое дело вручить тебе пряжу… Я спешу, как видишь, даже не гуляю при такой ясной, солнечной погоде! Девушка обернулась к открытому окну и взглянула задумчиво на Темзу, протекавшую по зеленой равнине, и на Виндзорский парк, сливавшийся с синевой небосклона. – Встань, Жемми, и взгляни на этот чудесный вид! – произнесла она. – Была ли ты хоть раз на круглой башне? Вид оттуда еще более восхитительный: взору открывается Лондон и все его окрестности! – Хотя вы восхищаетесь здешними видами, но мне было бы приятнее глядеть на старую колокольню над нашей сельской церковью, на замок вашего благородного покойного отца. – Я согласна с тобой, – кротко сказала Джейн, не сдержав легкого вздоха. – Мы были бы, конечно, несравненно счастливее, если бы остались там! Мне не нравится двор: он ослепил меня в день приезда своей роскошью, но это впечатление быстро изменилось. Я вовсе не желаю унижать тебя, Жемми, сравнением, но я исполняю здесь роль простой служанки, подобно тебе, с той лишь огромной разницей, что я тебя не мучаю капризами и требованиями, а королева Анна издевается вместе с другими над моей неопытностью и неловкостью. Для того чтобы доставить ей удовольствие, со мной проделывают всевозможные штуки; мне нередко рассказывают разные небылицы и смеются потом над моим легковерием; меня тянут за платье, путают мои волосы. Ты – моя служанка, Жемми, но я тебя люблю, а королева Анна не чувствует ко мне не только привязанности, но даже сострадания. Мне очень тяжело; но, как я ни экономлю, не могу скопить из своего крайне скудного жалованья денег на отъезд в наше родное село! – Да! – воскликнула Жемми. – Для нас было бы лучше остаться на прежнем месте! Ведь надо мной много глумятся точно так же, как над вами. Придворная челядь не дает мне прохода; отовсюду раздается: «А, вот старая Жемми, вот сельская гадалка! Много ли у вас денег? У вас, поди, отбоя не было от пламенных обожателей, пока еще не выкрошились зубы?» Мне тяжелее, чем вам, сносить эти насмешки! Если ваша застенчивость кажется смешной, всякий по крайней мере скажет, что вы добры и прелестны, как ангел. Ах, как бы мне хотелось возвратиться на родину! – Неужели ты решишься расстаться со мной? – спросила Джейн Сеймур изменившимся голосом. – Вспомни, что ты единственное существо, на чью преданность я могу положиться! Джейн едва успела договорить, как за дверью внезапно раздался легкий стук. Жемми вскочила с пола и пошла открывать раннему посетителю: лицо старой служанки выражало тревогу и любопытство; но она отступила с очевидным испугом, увидев перед собой Кромвеля. Губы старой служанки прошептали какие-то невнятные слова, но она не могла двинуться с места. Граф Эссекский, одетый с чрезвычайной пышностью, отвесил старой Жемми почтительный поклон и встал около порога. Удивленная Джейн приподнялась с места, задаваясь вопросом, что могло заставить этого человека, такого высокопоставленного и такого надменного, о котором говорили при дворе так много хорошего и так много дурного и который до этого почти не замечал ее, посетить их укромное жилище в башне. Яркий румянец окрасил щеки молодой девушки, но, заметив, что Жемми совсем остолбенела, она пошла навстречу грозному посетителю. – Миледи, – сказал Кромвель с глубочайшей почтительностью, – позвольте мне войти на несколько минут. – С удовольствием, граф! – ответила взволнованная и дрожащая Джейн, приходя к убеждению, что она совершила какой-то ужасный проступок и посещение Кромвеля вызвано исключительно подобным обстоятельством. Смутившись еще сильнее, Джейн схватила кресло, обитое старинным, выцветшим дамастом, и пододвинула его графу Эссекскому. – Миледи! – сказал Кромвель. – Прежде чем я воспользуюсь оказанной мне честью, я прошу позволения вручить вам маленькую шкатулку, которую король посылает вам в дар. – Король?! – проговорила с изумлением Джейн. Кромвель подал ей ящичек из черной черепахи с золотыми пластинками и искусно выгравированными гербами дома Сеймуров. Шкатулочка была обита изнутри фиолетовым бархатом: в ней лежало чудесное жемчужное ожерелье и много других драгоценных вещей. По губам Джейн Сеймур скользнула недоверчивая улыбка. – Это чудесное ожерелье будет вдвойне прекрасно, когда вы соблаговолите надеть его, миледи, – проговорил Кромвель. – Милорд! – сказала Джейн, устремив на него свои великолепные спокойные глаза. – Вы шутите, конечно. Мне ли рядиться в жемчуг и носить драгоценности, равные драгоценностям английской королевы? Да я и не знаю, есть ли даже у нее такое ожерелье. – Действительно, – отвечал с улыбкой граф Эссекский, – у королевы нет подобной драгоценности. Но если вы не верите, что это ваша собственность, то, будьте так добры, вглядитесь в свои фамильные гербы. Джейн Сеймур нагнулась и немедленно узнала символические фигуры, которыми так часто любовалась в блаженные дни детства. В ее памяти ожил образ нежного любимого отца; перед ней промелькнули те светлые минуты, когда она, еще маленькая девочка, сидела у него на коленях, а он, гладя ее густые кудри, рассказывал о кровавых сражениях, в которых участвовал, о своих славных предках и близких родственниках, отдавших жизнь за короля и за родину. Эти воспоминания о давно прошедшем счастье нахлынули на Джейн, и чудесные глаза ее неотрывно глядели на гербы, украшавшие шкатулку. – Это наши гербы! – воскликнула она. – Неужели этот ларчик был в самом деле собственностью покойного отца? – Я этого не знаю, – ответил граф Эссекский, удивляясь простодушию Джейн. – Король, мой повелитель, приказал мне вручить вам этот маленький ларчик, и я поспешил исполнить его распоряжение… – Но… – перебила Джейн. – Все это очень странно! Король был, вероятно, должен отцу и решил расплатиться этими драгоценностями! Но я во всяком случае хотела бы узнать, имею ли я право считать их своей собственностью? – добавила она с большим воодушевлением. – Вне всяких сомнений! – ответил ей Кромвель. – В таком случае, милорд, я счастлива! Жемми, добрая Жемми, иди скорее сюда! – воскликнула она с невыразимой радостью. – Король дал мне возможность проститься со двором и уехать немедленно на нашу родину! – Проститься со двором? Для чего это, миледи? – воскликнул граф Эссекский с глубоким изумлением. – О, милорд! – отвечала с увлечением Джейн, забыв совершенно, что она говорит с министром короля. – Я хочу уехать потому, что просто задыхаюсь от тоски в этом противном замке, потому, что живу как раба и узница в этой высокой башне, потому, что мы с Жемми тоскуем о свободе и о нашем селе. Приехав ко двору, я исполнила волю моих родных, так как была совершенно без средств, но теперь, когда я получила возможность устроить свою жизнь по своему желанию, никакие мольбы, никакие угрозы не заставят меня выносить эту скуку! Я отдам королеве это белое платье с серебристым отливом и буду одеваться, как одевалась прежде: этот пышный наряд тяжел и неудобен, этот тесный корсет мешает мне дышать! Будьте же так добры и любезны, милорд, скажите королю, как я ему обязана и как у меня светло на душе! – Я передам ему ваши слова, миледи. – Да, прошу вас, милорд! Я буду вам за это глубоко признательна! – Все будет исполнено, и я надеюсь доказать вам на деле, что готов служить вам во всем. – Вы чересчур добры, – сказала с непритворной признательностью Джейн. Честная и искренняя, она ни на минуту не сомневалась в правдивости Кромвеля, не догадываясь, что он не имеет права на ее благодарность. – Потрудитесь же выразить мою благодарность его величеству, – повторила она, провожая министра до двери. – Примите уверение в моей глубокой преданности! – сказал милорд Кромвель, исчезая за дверью. – Трудно встретить создание столь же восхитительное, сколь и глупое, – рассуждал граф Эссекский, пробираясь по темному и тесному проходу. – Дьявольский коридор!.. Я сломаю себе шею на этой адской лестнице… Королю не следовало бы держать своих любовниц в таких трущобах! Но дело тем не менее увенчается быстрым и блестящим успехом… Весело смешать карты в самый разгар игры! Начнется суета, будут раздаваться проклятия, во мне будут нуждаться, станут подкупать на разные лады… Джейн Сеймур – красавица и вдобавок нетребовательна, ее можно порадовать прогулкой на лодке и вообще всяким вздором!.. У нее нет родных… Некому плести интриги… И вы, ваше величество, вправе любить ее, если она вам нравится! Бледные губы Кромвеля искривились в язвительной усмешке, и его угловатая, невзрачная фигура скрылась скоро во мраке винтовой лестницы. (обратно)Глава XII Вызов на поединок
Выйдя из башни, лорд Кромвель поспешил вернуться в отведенное для него помещение в королевском дворце. Такая торопливость была вызвана резонными причинами: он перевез из Лондона, позаботившись предварительно о прочности фургона, несколько очень грузных, объемистых тюков, к которым приложил свою именную печать. Конюхи не успели ввести в стойло лошадей, доставивших багаж, как граф распорядился перенести эти тюки в его кабинет. Исполнив поручение короля и вполне успокоенный непритязательностью Джейн, граф заперся на ключ, чтобы заняться разборкой таинственных тюков. Сначала он внимательно осмотрел печати и маленькие знаки, сделанные им украдкой от слуг. Найдя, что все в полной сохранности, граф Эссекский вздохнул с видимым облегчением; он снял сперва печати, потом пересчитал их и приступил к раскладке и проверке вещей. Чтобы скорее покончить со всем этим, Кромвель встал на колени и начал осторожно выкладывать различные серебряные слитки; между ними виднелись сплющенные сосуды, изломанные ризы; одна из этих риз привлекла внимание Кромвеля. – На ней нет лучшего украшения! – прошептал он с досадой и завистью. – Этот чудесный бриллиант достался королю, хотя мне пришлось выдержать нелегкую борьбу с населением Глазго, чтобы завладеть этой драгоценностью! С металлами вообще очень много возни, бриллианты же, напротив, гораздо легче спрятать. С ними можно бежать, если дойдет до этого! Я принял, разумеется, все меры предосторожности: капиталы мои давно уже помещены в иностранные банки. Нужно быть осмотрительным: Генрих VIII способен отнять у меня все – не сегодня, так завтра! Я не хочу дать свету повод говорить: «Граф Эссекский теперь не более как нищий!» Имея состояние, я в случае опалы переселюсь в Италию и займу там солидную и почетную должность! Но эти предположения, конечно, преждевременны: пока я нужен королю! В то время как Кромвель рассуждал таким образом, продолжая проверять привезенные вещи, его заставил вздрогнуть сильный стук в дверь кабинета. – Откройте! – раздался повелительный голос. – Граф Рочфорд желает видеть графа Эссекского! Кромвель вспыхнул от гнева. – Ко мне смеют врываться с такой бесцеремонностью?! – проворчал он сквозь зубы. – Это, конечно, брат английской королевы, перед которым я нуль: я – сын мастерового! Он торопливо убрал разбросанные драгоценности, отнятые у законных владельцев, и поспешил впустить незваного гостя. – Как я счастлив и рад вашему посещению, – воскликнул он при виде стоявшего у двери графа Рочфорда. – Но в моем кабинете такой ужасный беспорядок, что я едва ли осмелюсь попросить вас войти. – Без извинений, граф! – сказал сухо Рочфорд. – Мне нужно сказать вам несколько слов. – Вы знаете, что я всегда к вашим услугам, – ответил лорд Кромвель. – В таком случае потрудитесь дать мне сейчас же отчет в том наглом грабеже, который вы на днях совершили в Дургеме от имени моей сестры! Лорд Кромвель побледнел, но спросил тем не менее совершенно спокойно: – Что вы, собственно, хотите этим сказать, милорд? – Я хочу сказать, что вы наглый мошенник! – отвечал с презрением молодой человек. – Отец мой может действовать окольными путями, – воскликнул он в порыве гнева, – но я, как дворянин, защищу честь мою открыто, со шпагой в руках! Вы подлец и мошенник… Вы оклеветали вашу королеву, мою сестру, и я вызываю вас на честный поединок! Это для вас слишком большая честь: вы ее не заслуживаете! – Вы дважды назвали меня мошенником, милорд, – проговорил Кромвель с полной невозмутимостью. – Вы, вероятно, пошутили? – Я шутил, черт возьми? – крикнул громко Рочфорд, взбешенный хладнокровием и низостью Кромвеля. – Вы дерзаете думать, что я с вами шучу! Неужели вы так бесчестны, что откажетесь драться? – Какая мне польза соглашаться на вызов и для чего мне драться? – возразил с ледяным хладнокровием Кромвель. – Для того, разумеется, чтобы спасти свою честь… если только она у вас имеется! – ответил граф Рочфорд с беспредельным презрением. – Мою честь? Но она нисколько не задета подобным обвинением! – сказал Кромвель со смехом, в котором ясно слышалась угроза. – Как? Вам мало того, что я уже сказал? Я должен поискать еще более резкие и обидные слова? Но ведь я, лорд Кромвель, назвал вас подлецом и мошенником! – воскликнул граф Рочфорд, пораженный нахальством и адским хладнокровием этого человека. – Я отлично расслышал, милорд, но замечу вам вскользь, что считаю излишним говорить с ненормальными! – Вы смеете считать меня помешанным? – произнес Джордж Рочфорд, задыхаясь от бешенства. – Да, потому что это непреложная истина: потрудитесь взглянуть на себя! Кромвель поднес зеркало, которое стояло на туалетном столике, к лицу графа. Лорд Рочфорд был готов схватить министра за горло, но ему стало совестно, он превозмог себя и сильно побледнел. – Потрудитесь присесть в это кресло, милорд! – заметил граф Эссекский тем же спокойным тоном. – Сдержите ваш гнев: он, право, бесполезен и только мешает нам объясниться. – Мне объясняться с вами? – воскликнул граф Рочфорд с пылким негодованием. – Объясняться с трусом, с презренным негодяем… – То есть, вернее сказать, с первым министром Англии! – перебил лорд Кромвель. – То есть с первым мошенником в английском королевстве, с грабителем и вором, с отчаянным бандитом, которого бы следовало давно вздернуть на виселицу! – Вы опять повторяете прежние оскорбления!.. Ну что ж, оскорбляйте, если вам это нравится! Вы застали меня за чтением доклада, я буду продолжать его, и когда ваши нервы несколько успокоятся, а рассудок вернется к вам, мы продолжим начатый разговор! Каждое слово Кромвеля усиливало бешенство Рочфорда; ему казалось, что по жилам его течет не кровь, а огненная лава; он был почти готов растерзать сам себя; он ощущал потребность ломать, уничтожать; он стучал каблуками и сжимал кулаки. – Вы подлец! – кричал он с неистовством. – И вы это говорите? – возразил граф Эссекский с невозмутимым спокойствием. – Вы чересчур взволнованы, не хотите ли выпить стакан воды с сиропом? – Я не хочу воды, я жажду вашей крови, вашей смерти, презренный! – Что ж, зарежьте меня! Такой рыцарский подвиг достоин дворянина! – Довольно! Защищайтесь, или я убью вас! – взревел молодой граф, обнажив свою шпагу. Но Кромвель не шевельнулся и продолжал изучать с преувеличенным вниманием доклад. – Я ухожу! – воскликнул молодой человек. – Я, пожалуй, убью вас, как собаку, если останусь здесь хоть на одну минуту! Кромвель привстал все с тем же невозмутимым видом и, подобно ехидне, вонзившей свое острое, ядовитое жало в тело несчастной жертвы, устремил на Рочфорда глаза, сверкавшие мрачным, зловещим блеском. – Советую вам помнить нынешний день, милорд! – произнес он глухим, изменившимся голосом. – А Кромвель, поверьте мне, не забудет его! Он помнит превосходно, что леди Анна Болейн обязана ему королевской короной, и родные ее убедятся в скором времени, что поступили бестактно, выказав так явно неблагодарность тому, кому они обязаны своим положением! Вы можете теперь удалиться, милорд! Кромвель распахнул дверь. – Ничтожное создание, – сказал Рочфорд надменно, – мы слишком глубоко презираем тебя, чтобы бояться твоих угроз. Он пошел твердой поступью, высоко подняв голову, мимо бледного, неподвижно стоявшего Кромвеля. Но когда дверь закрылась и до слуха его донесся глухой стук задвигаемого засова, молодой человек понял все безрассудство своего поступка; свежий воздух, струившийся сквозь открытые окна, успокоил его раздраженные нервы, и мысль о последствиях роковой вспышки поразила его как ударом кинжала. Уступив порыву безрассудного гнева, он, не сказав ни слова ни сестре, ни отцу, отправился к Кромвелю и вызвал его на поединок, но вместо честного противника встретил врага, врага самого грозного, самого беспощадного, самого вероломного и, что опаснее всего, самого терпеливого и самого настойчивого в преследовании цели; он за несколько минут подставил под удар близких ему людей и сделал зависимыми от воли такого изворотливого, ловкого интригана, каким был граф Эссекский; он выдал в пылу гнева даже тайну отца, упомянув Кромвелю о том, что граф Уилширский старается вредить ему, разоблачая перед королем. Рочфорд не находил никакого выхода из этого опасного положения. «Да, гнев – плохой советчик!» – думал он, застыв как статуя посреди галереи, как будто ноги его приросли к полу. Война была объявлена, и ему оставалось ожидать терпеливо ее грозных последствий. Молодой, гордый, пылкий, мужественный и честный, Рочфорд не понимал вплоть до этой минуты характера Кромвеля и не верил в такую глубокую испорченность. – Отец говорил правду! – воскликнул он невольно. – Вы убедились в этом только теперь, милорд? – произнес у него за спиной тихий и насмешливый голос. Граф Рочфорд обернулся и увидел Кромвеля. Министр шел к королю. – Ну так что же? – воскликнул, встрепенувшись, Рочфорд. – Пусть решит судьба! Мы все погибнем или победим! – Я надеюсь, что первое вероятнее! – отвечал лорд Кромвель, проходя дальше твердой поступью. Разбитый граф Рочфорд машинально вышел из галереи, и в ней наступило мертвое, гробовое молчание. (обратно)Глава XIII На королевском балу и у смертного одра
В тот же день, поздно вечером, Анна Болейн явилась на блистательный бал, веселая, грациозная и гордая сознанием своей обворожительной красоты. Граф Рочфорд был угрюм и избегал столкновения с Кромвелем. Первый министр, напротив, был любезен и весел: он дружелюбно пожал руку графу Уилширу и говорил развязно и приветливо с друзьями королевы. Джейн Сеймур присутствовала на блистательном празднестве, и ее застенчивость еще более усилилась; она забилась в угол, подальше от танцующих, и наблюдала издали за разодетой придворной молодежью, кружившейся под звуки громадного оркестра. Она была одета в голубое атласное красивое платье, отделанное бантами из дорогого кружева; ее чудесные золотистые кудри падали на обнаженные и как будто изваянные из мрамора плечи; в ее руке алел букет живых цветов, точно таких же свежих, как ее миловидное личико. Но молодая девушка не придавала, видимо, никакого значения ни своей красоте, ни своему наряду: ее мысли уносились из ярко освещенных роскошных залов дворца к той блаженной минуте, когда она простится с этим великолепием и полетит, веселая и резвая, как птичка, на свою родную сторону. Король ждал, разумеется, выражения признательности или по крайней мере приветливого взгляда за свой ценный подарок и пытался не раз подойти к Джейн, но молодая девушка сумела отыскать такое отдаленное, неприступное место за пожилыми дамами, разодетыми в пышные и дорогие платья с громадными шлейфами, и сидела там так спокойно и невозмутимо, что повелитель Англии осознал всю невозможность пробраться к ней сквозь этот эскадрон гордых и знатных леди. Он не раз обращал взгляд на Джейн, но, как мы уже сказали, ее мысли витали далеко за пределами Виндзорского дворца; прекрасные глаза ее скользили рассеянно то по танцующим, то по карнизам зала, то по цветам душистого букета. Досада короля росла с каждой минутой, и если бы ожерелье, врученное Кромвелем, лежало бы еще в его царской сокровищнице, то он, разумеется, не послал бы его неблагодарной Джейн. Было далеко за полночь, и придворная молодежь, утомленная танцами, начинала толпиться у роскошных буфетов. Король знаком подозвал графа Эссекского и ушел с ним вместе в амбразуру громадного готического окна. Сидевшие вблизи расфранченные леди поспешили пересесть на другие места, чтобы не стеснять короля и министра. Генрих VIII остался наедине с Кромвелем. – Ну что же, граф? – спросил с досадой король. – Исполнили ли вы мои распоряжения? Джейн Сеймур печальна и чем-то озабочена: она вам отвечала, вероятно, отказом? – Нет, я не мог добиться ни прямого отказа, ни прямого согласия! – ответил граф Эссекский с лукавой улыбкой. Первый министр был настроен благодушно – наступала блаженная минута беспощадного мщения. Он видел Анну Болейн во всем блеске красоты и молодости, беспечную, сияющую, видел вечно угрюмое лицо ее отца и гордые, прекрасные глаза графа Рочфорда, одним словом, всех тех, кого он ненавидел так, как умел ненавидеть только Кромвель. В этих залах, сияющих огнями и заполненных блистательной толпой, внимание повелителя Англии было обращено теперь лишь на министра. – Вы не могли добиться ничего положительного? Это странный ответ! – сказал Генрих VIII, бросив пламенный взгляд на прекрасную Джейн. – О нет, ваше величество, мой ответ очень прост: леди Джейн Сеймур – прелестное создание, но она вместе с тем наивна, как ребенок. Она вообразила, что повелитель прислал ей этот дар в виде вознаграждения за услуги ее отца, и ею овладело пламенное желание уехать поскорее в родное поместье, обратить ожерелье в наличный капитал и с помощью его составить себе партию. – Возможна ли такая нелепая фантазия? – перебил с глубочайшим изумлением король. – Она не поняла, что дар этот – выражение моей беспредельной любви? – Да, она даже предположила, что вы, ваше величество, были должны ее покойному отцу; она бы, без сомнения, отказалась от дара, но уплату приняла с глубокой благодарностью. – То, что вы говорите, похоже на нелепые фантазии. – Я говорю правду! – ответил граф Эссекский невозмутимо. – Ну если это так, то я буду любить ее еще сильнее, – сказал Генрих VIII. – Такая красота и такая прямая и честная натура! Ведь это совершенство! – Да, но я убежден, что вы, ваше величество, не достигнете цели! – заметил лорд Кромвель с загадочной улыбкой. – Эта девушка желает вступить в брак с человеком своего круга. Она очень гордится своим происхождением, и вы, ваше величество, скоро поймете, что к ней не подойти окольными путями! – Я о них и не думаю, – сказал Генрих VIII. – Но я предвижу тем не менее много серьезных затруднений! – Я застал леди Джейн за беседой с ее старой и глупой служанкой, – продолжал граф Эссекский. – У нее очень тесная, плохая комнатка; она, естественно, скучает при дворе. Взгляните на нее, и по ее печальному личику вы поймете, что она одинока в этой шумной толпе: она прекрасный, но полевой цветок. – Да, но в ее осанке, во всех ее движениях есть что-то повелительное… Этот прекрасный лоб придал бы блеск королевской короне! «Браво! – подумал Кромвель. – Искорка разгорается и превратится в пламя». – Леди Джейн Сеймур прелестна, восхитительна, – сказал он королю, – но я, ваше величество, желал бы от души, чтобы вы постарались победить эту страсть в самом ее зародыше! – Я не просил у вас совета, лорд Кромвель! – отвечал ему строго и надменно король. – Я получил известие, что Екатерина при смерти, и будущее покажет, как мне следует действовать!.. В то время как в роскошных залах Виндзорского дворца гасили огни, бледный свет ночной лампы озарял стены мрачной и неуютной комнаты, в которой Екатерина ожидала минуты расставания с жизнью. Элиа, побледневшая от бессонных ночей и душевных волнений, сидела неподвижно около ее кровати. – Боже! Что она вынесла за эту длинную ночь! – прошепталадевушка в мучительной тоске. С чувством сострадания она смотрела на королеву. Простой зеленый занавес был высоко поднят и прикреплен к витым деревянным колоннам, которые поддерживали потемневший от времени балдахин над кроватью. Голова королевы лежала на подушке, взбитой очень высоко заботливой Элиа. В глубокой тишине, царившей в пустынном, уединенном домике, слышалось только частое, прерывистое дыхание больной. Ночь была на исходе, а ей не удалось подкрепить свои силы даже минутой сна; ее белые руки лежали на грубой простыне; на одной было золотое кольцо с выгравированным именем Екатерины и Генриха VIII и датой их бракосочетания; на кольце красовался дорогой изумруд с гербами Испании и Англии. Это была единственная драгоценность, с которой королева не захотела расстаться, отправляясь в изгнание, единственный предмет, уцелевший от прошлого погибшего величия и подчеркивавший всю бедность обстановки этой печальной комнаты, в которой властвовала беспощадная смерть. Буфет самой топорной работы стоял между низкими окнами с потемневшими рамами; к камину было придвинуто готическое кресло, обитое сафьяном, порыжевшим от времени; большой платяной шкаф с резными украшениями и несколько высоких и неудобных стульев – вот все, что освещала старая лампа. Элиа, неподвижная и бледная, как статуя, не отрывала глаз от лица Екатерины. – Мне страшно тяжело, – промолвила больная бессильным голосом. Она остановила на нежном личике девушки долгий, пристальный взгляд, и этот взгляд светился тем загадочным блеском, который появляется во взорах умирающих: сердце Элиа сжалось. Девушка начала привыкать к мысли, что потеряет Екатерину, но чем быстрее угасала в ее сердце надежда, тем сильнее становилась ее преданность несчастной королеве. Один Бог был свидетелем ее страданий в эти бессонные, мучительные ночи у ложа забытой всеми умирающей королевы. Она бы, не задумываясь, отдала и жизнь и душу, чтобы облегчить мучения больной. Увидев по едва заметному движению, что королева хочет изменить положение, Элиа помогла ей лечь поудобнее. – Дитя мое, – сказала с усилием королева, – болезнь до такой степени изнурила меня, что я, как царь Давид, готова молить Бога открыть, сколько мне еще предстоит страдать на земле. Горячая слеза скатилась из глаз Элиа на руку Екатерины. – Просите Его лучше, – воскликнула она пылко, – чтобы Он избавил вас от всех ваших врагов и возвратил здоровье и спокойствие, обещанное Им угнетенным и страждущим! – Нет, Элиа, – ответила печально королева, – я не стану просить ни то ни другое… Я устала от жизни… Неужели Шапюис все еще не приехал? – добавила она после короткой паузы. – Нет еще, но он, вероятно, приедет завтра! – отвечала девушка. – О, если бы он мог привезти с собой Марию, если бы Бог дал мне счастье увидеть мою дочь перед вечной разлукой! Как ты думаешь, Элиа, осуществится ли это давнее желание? – Увы, ваше величество, я этого не знаю, – ответила печально и задумчиво девушка. – Погоди! – сказала вдруг с волнением Екатерина. – Я слышу голоса: это они, беги, беги скорее! – Нет, – возразила Элиа, – тихо, как и прежде. – У меня страшный шум в голове и в ушах… Я могу не услышать, – сказала королева. – Постарайтесь уснуть. Я буду караулить и обещаю вам разбудить вас, как только приедет посланник. – Я не могу уснуть! – воскликнула с мучительной тоской королева. – Мне кажется, что я лежу на раскаленном железе, воздух не проникает в легкие… я не могу лежать… я не могу дышать! Элиа с беспредельной любовью смотрела на Екатерину; склонив к ней русую головку, она взяла охладевшие руки королевы и прошептала с истовой мольбой: – Творец! Пусть моя сила перейдет в это бедное измученное тело! Пусть мой здоровый сон сомкнет эти усталые, угасшие глаза. Неизвестно, чем была вызвана перемена в самочувствии больной, но не прошло и минуты, как нервные подергивания внезапно прекратились, тяжелое дыхание стало ровным, и Екатерина уснула крепким, спокойным сном. Затаив дыхание, Элиа осторожно поправила подушки, прикрыла ноги спящей одеялом и, подойдя к распятию, преклонила колени и начала молиться. (обратно)Глава XIV Последние минуты
Солнце поднималось на синее безоблачное небо и заливало светом обширные поля, покрытые высокой золотистой рожью, и луга, окружающие мирный городок Кимблтон. От малейших дуновений ветра тяжелые колосья, подобно волнам на спокойных водах озера, огражденного высокими скалами от вторжения бурь, то наклоняли янтарные головки, то поднимали их. Розовые цветы полевой повилики обвивали стебли и, переползая с одного на другой, соединялись в гибкую цепь; быстрокрылые ласточки взвивались в поднебесье. Стада шли, поднимая тучи пыли, на привольные пастбища; пастухи перекликались, и лай собак сливался с мычанием коров. Все пробудилось к жизни и к дневному труду. Мерные звуки благовеста призывали население Кимблтона в храм. Древний собор с массивными, потемневшими сводами постепенно заполнялся верующими, и священник готовился начать богослужение, когда в церкви послышались движение и шаги и Элиа, дрожащая и бледная, как призрак, приблизилась к решетке, окружавшей алтарь. – Королева умирает и хочет причаститься! – с трудом прошептала она, задыхаясь от слез. – Королева умирает? – повторили с испугом несколько голосов. – На колени, друзья мои, помолимся за эту отходящую, измученную душу! – обратился священник к взволнованной толпе. Почти в ту же минуту раздался глухой, мерный и торжественный звон, возвещавший, что чаша со Святыми Дарами выносится из церкви. Потрясенные вестью, многие горожане вышли следом за Элиа на соборную паперть. – Так она умирает? Вы уверены? – приставали они к убитой горем девушке. – Мы не видели ее уже несколько дней, но ведь недавно она сидела в своем садике! Ответьте же нам, Элиа! Эти расспросы еще больше усилили тоску молодой девушки. – Ей стало лучше, и я уговорила ее подышать свежим воздухом, – отвечала она, – но ее организм был настолько надорван, что она не смогла, разумеется, вынести новых волнений! Она долго ждала испанского посланника, и он прибыл сегодня; но ему не разрешили привезти к ней дочь. – Как? К вам прибыл посланник? – воскликнули внезапно несколько человек. На лицах горожанок выразилось такое живое любопытство, что они, вероятно, забыли на время о судьбе Екатерины. – А красив ли посланник? Он одет по-испански? – Конечно! – отвечала лаконично Элиа. – А что он сказал, когда приехал к вам? – Он воскликнул с испугом: «Неужели это дом английской королевы? Это просто лачуга!» Вот все, что он сказал! – О, Элиа! Все мы жалеем ее! Посланник, вероятно, одет очень богато? – Чрезвычайно богато: его плащ вышит золотом. – А что он сказал, когда вы провели его в комнату королевы? – Ни единого слова! Он преклонил колени перед ее постелью, поцеловал почтительно ее бледную руку и залился слезами; когда же на вопрос королевы о принцессе Марии он вынужден был ответить, что король отказался исполнить ее просьбу, то ей сделалось дурно, и мы оба подумали, что она умерла. Рыдания мешали Элиа говорить. – Вы не знали ее, – продолжала она, обращаясь к собравшейся толпе, – вы не знали, что она была столь же благородна, как и прекрасна! Вы видели, как она молча шла по улицам Кимблтона; она кланялась вам со свойственной ей приветливостью, но никто из вас не знал, как она была добра и совершенна, как она страдала! Элиа шла, торопясь вернуться к постели умирающей, но пустынные улицы наполнялись народом, ей преграждали путь; толпа все прибывала, горожане обвиняли во всем Анну Болейн и выражали искреннее, горячее сочувствие измученной королеве, которая готовилась переселиться в вечность. В то время как встревоженные жители Кимблтона толковали на площади, окружавшей собор, посланник Испанского двора сидел около постели Екатерины, внимая каждому ее слову. Екатерина открыла дрожащей рукой портфель, поданный ей посланником, и достала лист бумаги, сложенный вчетверо. – Вот мое завещание! Вручаю его вам! – сказала она, ласково посмотрев на Шапюиса. – А вот письмо королю, моему державному супругу… Я никогда не думала, что в нем будет надобность, я верила, что увижу Генриха перед смертью!.. Да, Шапюис, я надеялась до последнего дня!.. Я думала, что мысль о моей смерти, воспоминания молодости, все то, что я выстрадала, оживят в душе его забытые чувства… Ведь он любил меня!.. И чем я могла вызвать такую неожиданную и упорную ненависть?.. Чем?.. Скажите, Эустахио!.. В голосе королевы было столько муки, в глазах ее читалась такая беззащитность, такое недоумение – чем она заслужила страдания, разбившие ей тело и душу, что смуглое лицо благородного дона вспыхнуло ярким румянцем гнева, а душа его переполнилась чувством благоговения перед женщиной-мученицей, дочерью его законных королей. Он встал со своего места и выпрямился. – Как вы могли сносить такие оскорбления? – воскликнул он с волнением. – Дочери Изабеллы, тетке императора, стоило сказать лишь слово, чтобы вернуться во дворец своих предков и покинуть страну, не сумевшую понять и оценить ее! – Шапюис! Я не могла произнести это слово, – отвечала спокойно и кротко королева. – Я привязалась к Англии… Моя дочь родилась под этим серым небом… Здесь покоится прах дорогого мне друга. Томас Мор погиб, но многие другие продолжали начатое им великое дело; они гибли на плахе, томились в заключении, защищая единство католической церкви, и своим примером придавали мне решимость. Я готова была выносить клевету и гонения и даже умереть за веру моих предков! Я уже нахожусь перед лицом смерти, и если бы забота о судьбе дочери не терзала мне душу, я бы встретила смерть с тем чувством, с каким узник выходит на свободу после долгого плена! Королева замолчала, и бледное лицо ее стало удивительно спокойным; но не прошло и минуты, как она снова вступила в борьбу с наступающей смертью; чуть заметные судороги пробежали по телу умирающей, глаза ее закрылись… Испуганный посланник взял со стола флакон с душистым эликсиром и слегка смочил лоб и виски королевы. Больная слегка пожала руку Шапюиса. Благородный испанец был тронут этим мужеством, этой беспрекословной покорностью судьбе. Ему вспомнилось все: кровные обиды, клевета, унижение, которые пришлось пережить Екатерине; он взглянул с болью в сердце на жалкую обстановку комнаты, на этот смертный одр и прошептал чуть слышно: – Генрих Восьмой не человек, а изверг! Рука его невольно потянулась к рукояти тяжелой шпаги, и острие ее, ударившись о пол, издало весьма резкий металлический звук. – Что вы хотите делать? – спросила Екатерина с заметной тревогой. – Я не хочу, чтобы вы уходили отсюда! Вы должны быть при мне до последней минуты – это ваша обязанность. – Я и не ухожу, – отвечал старый воин, едва сдерживая слезы и опускаясь в кресло. Королева взглянула с горячей благодарностью на это выразительное, открытое лицо, и воспоминания о счастливой молодости нахлынули на нее. – Вам жаль меня, Эустахио? – промолвила она. – Я не смею жалеть вас, ваше величество. Чувство такого рода унизительно для испанской принцессы и королевы Англии! – Может быть, и так, но это не мешает мне нуждаться в сочувствии более других, кроме, конечно, тех несчастных монахинь, которых выгоняют под открытое небо, – сказала королева. – Послушайте, Шапюис, – продолжала она, переводя дыхание, – я осталась без средств, и если король откажет в покровительстве моим преданным слугам, поклянитесь мне честью, что испанский монарх позаботится о них. – Клянусь душой и честью, что повелитель мой исполнит вашу последнюю волю! – проговорил посланник с печальной торжественностью. – Да хранит его Бог! – сказала Екатерина. – Передайте ему, что упование на его благородное любящее сердце облегчило мне тяжесть расставания с жизнью! Повторите ему, что я прошу его охранять мою дочь с неусыпной бдительностью и помнить, что у нее нет иных покровителей. Творец земли и неба, могла ли я предвидеть, что стану просить о родной дочери чужого короля? Слова эти заметно оскорбили посланника, но он тут же смягчился при мысли о страшных испытаниях, которые пришлось пережить Екатерине. – Не чужого, – заметил он печально и спокойно, – а близкого вам родственника и преданного друга. – Да, вы правы, Эустахио, – согласилась умирающая, протянув ему руку в знак сожаления о сказанном. Королева замолчала: дыхание ее сделалось еще более тяжелым и прерывистым. Почти в ту же минуту вдали послышался однообразный гул, и толпа горожан заполнила пустынную улицу, на которой находился мрачный и бедный домик Екатерины. – Шапюис! – проговорила с усилием больная. – Этот шум означает, что Элиа исполнила свое обещание и что молитвы церкви отведут от меня ужас смертного часа. Она сложила руки, и лицо ее приняло выражение странного, неземного спокойствия. Посланник отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы; он спрашивал себя, почему он, смотревший с глубоким равнодушием на поля сражения, усеянные убитыми и ранеными, был так чувствителен у постели умирающей женщины. Топот многих ног раздавался все ближе; послышались голоса, воспевавшие славу и величие Божье. – Кто-то стучится в дверь, – сказала Екатерина. – Потрудитесь открыть, Шапюис! Посланник поспешил исполнить эту просьбу. Открыв дверь прихожей, он увидел высокого, чрезвычайно статного молодого мужчину, с открытым, привлекательным лицом, с черными, шелковистыми густыми волосами; его бархатный плащ был опушен мехом, на широкой груди блестела массивная золотая цепочка с таким же медальоном; из-под плаща виднелась шпага чудесной работы, с рукоятью, унизанной яркими изумрудами и крупными бриллиантами. Незнакомец вошел в небольшую прихожую. – Извините, – сказал он с явным замешательством, – я прибыл в Кимблтон для того, чтобы увидеться с английской королевой, и мне указали этот скромный домик. – Вам указали верно! – проговорил Шапюис. – И она… в этой комнате? – прошептал незнакомец, обратив темные, прекрасные глаза на боковую дверь. – Да, но что вам угодно? – спросил резко посланник. – О, мне нужно просить вас о громаднейшей услуге! – отвечал незнакомец умоляющим тоном. – Дайте мне возможность увидеть королеву! Я – граф Нортумберлендский и всегда был в числе ее преданных слуг. – Вы лорд Перси? – воскликнул с удивлением посланник. – Леди Анна Болейн была вашей невестой? Испанец задумался, но только на секунду, и вошел к Екатерине. – Лорд Перси, ваш слуга, умоляет о чести увидеть ваше величество, – доложил он почтительно. – Он выразился бы правильнее, назвав себя слугой кардинала Уолси, – сказала королева. – Но зачем ему нужно видеть меня, Шапюис? – Я не знаю, но он очень печален и боится, по-видимому, что его не допустят к вам. – Он прислан, вероятно, для того, чтобы узнать, сколько мне осталось жить, – сказала Екатерина с печальной улыбкой. – Поверьте мне, Шапюис, с тех пор как я в Кимблтоне, я не сделала и шага без того, чтобы за мной не следовал шпион. Я не могу рассказать о тех страшных притеснениях, которым подвергались преданные мне слуги, когда дерзали титуловать меня, как прежде, королевой! Она остановилась, чтобы перевести дыхание, но в ту же минуту дверь тихо открылась и граф Нортумберлендский вошел, белый как мрамор, и упал на колени перед ее постелью. – Молю ваше величество простить мне мою смелость и выслушать меня во имя Искупителя! – произнес он. Его голос был столь искренним, прекрасное лицо дышало таким мужеством и благородством, что в душе королевы шевельнулось раскаяние. – Я готова исполнить вашу просьбу, лорд Перси, но не могу понять, чем могу служить вам в моем положении? – ответила она приветливо. – Вы можете вернуть мне душевное спокойствие, в котором заключается все счастье человека! – отвечал Генри Перси с воодушевлением. – Только вы в состоянии снять ту страшную тяжесть, которая лежит у меня на душе с тех пор, как вы подверглись изгнанию и гонениям, а Анна бесправно заняла ваше место на английском престоле! О, моя королева! – продолжал он все с тем же пламенным увлечением. – Как мне дерзнуть назвать вам причину, которая заставила меня отправиться в Кимблтон? Я приехал сюда, рискуя моим настоящим и будущим, в надежде умолить вас простить Анну Болейн! Я знаю, что пока в душе ее нет раскаяния, но рано или поздно она раскается, и все то, что вы вынесли, падет на ее голову! Что будет тогда с ней? Она без сострадания разбила ваше сердце… Я готов даже поверить в то, что она встретит с чувством торжества весть о вашей кончине… но простите ее, для того чтобы Господь не преградил ей вход в царствие Свое! – Молитесь за нее, ангелы и святые! – раздались в это время стройные голоса хора кимблтонских певчих, проходивших под окнами. – Да, молитесь за бедных нераскаявшихся грешников! – прошептал Генри Перси, обратив к королеве исполненные тревогой и мольбой глаза. – Нортумберленд! – сказала спокойно Екатерина, и лицо ее приняло выражение строгого, неземного величия. – Как вы могли подумать, что я, готовясь к торжественной минуте расставания с жизнью, сохраню в своем сердце чувство вражды и ненависти к моим врагам? Пусть милосердный Бог простит Анну Болейн, как я ее прощаю; пусть Он пошлет ей долгую и счастливую жизнь и мирную кончину! Я поручаю вашему благородному сердцу воззвать к ее чувству долга, и если луч раскаяния осветит ее душу, скажите ей тогда, что я благословила и простила ее от всего сердца. Эустахио! – обратилась она торопливо к посланнику. – Потрудитесь впустить народ! Смерть приближается!.. (обратно)Глава XV Кончина королевы
Молча, тихо, пугливо входили горожане в мрачный и тесный домик, где душа, утомленная страданиями, ожидала минуты переселения в вечность. Луч солнца, пробиваясь сквозь зеленые шторы, освещал смертный одр. Королева лежала, обратив исполненный живого упования взор на Святое распятие. Нортумберленд стоял в ногах ее кровати, а испанский посланник молился на коленях у изголовья, закрыв лицо руками, чтобы скрыть слезы. Благоговейный трепет охватил всех присутствующих: все они, повинуясь безотчетному чувству, преклонили колени, и соборный священник подошел к умирающей, держа в руках сосуд со Святыми Дарами. Королева сложила худые руки, и угасающие глаза ее осветились глубоким, неземным блаженством. – Христос, мой Искупитель и мое упование! – произнесла она слабым, но внятным голосом. – Прежде чем причаститься Твоей пречистой плоти, я смиренно молю Тебя отпустить мне все мои прегрешения и простить вместе с тем всех, кто меня преследовал, кто меня предавал и мешал моему счастью. В душе моей нет и тени вражды и неприязни к ним; я искренне желаю им всего лучшего! Екатерина замолчала, и ее выразительные и кроткие глаза обратились на бледное лицо Нортумберленда; этот взгляд говорил красноречивее слов: «Простив своих врагов, я простила и ее! Молясь Богу за них, я молюсь и за Анну!» Она сложила руки, и душа ее переполнилась чувством беспредельной любви к Искупителю. После совершения таинства святого причащения престарелый священник простился с умирающей и поспешил в храм, чтобы начать литургию и помолиться всем миром, чтобы Господь упокоил эту изболевшую душу там, где уже нет душевных и телесных страданий, а есть светлая, блаженная, бесконечная жизнь. Толпа, наводнившая мрачный и тесный домик, ушла следом за ним, и около королевы остались, как и прежде, Нортумберленд, Шапюис и плачущая Элиа. В комнате воцарилось на несколько минут глубокое молчание. – Смертный час приближается, – сказала Екатерина. – Я почти не страдаю, подойди ко мне, Элиа. Девушка подошла, бледная как мертвец, и встала на колени. – Пусть Бог вознаградит тебя, дорогое дитя мое, за твою беспредельную неизменную преданность! – сказала королева, опустив свою бледную руку на ее шелковистые светло-русые кудри. – Ты одна в целом свете жалела меня и делила со мной тяготы изгнания. Когда меня не станет, сними с моей руки обручальное кольцо и передай его дорогой моей дочери. Пусть она бережет его в память обо мне и о своем знатном происхождении. Я хочу, чтобы ты осталась при ней, Элиа. Шапюис устроит это. Не тоскуй и не плачь! Тебя должно утешить сознание того, что только твоя преданность помогла мне нести мой тяжкий крест. Повторяю опять: я хочу, чтобы ты жила при моей дочери, и надеюсь, что ты исполнишь мою волю. Я расстаюсь с тобой, но не перестану молиться за тебя и твое счастье, Элиа. А вам, дорогой мой Евстафий, – обратилась умирающаяк посланнику, – я благодарна за преданность и дружбу. Скажите моему царственному супругу, что я до самой смерти не теряла надежды на свидание с ним, что мысль о нем была моей последней мыслью! По телу королевы пробежал легкий трепет; она скрестила руки, вздохнула и скончалась. Элиа устремила горящие глаза на бледный лик усопшей. – Умерла! – прошептала она. – Умерла! – повторила она с глухим стоном и упала без чувств у смертного одра. – Да, умерла! – сказал торжественно посланник, обращаясь к лорду Перси. – И дай Бог, чтобы мы могли умереть так же спокойно и мужественно. Отныне я желаю лишь одного – быть поскорее отозванным от здешнего двора, чтобы не встречаться больше с палачом этой мученицы и ужасной женщиной, которую она простила перед смертью по вашей просьбе! – Заклинаю вас всем, что вам дорого в жизни, не проклинайте Анну! – сказал Нортумберленд. – Ее и без того все проклинают! Исполните свой долг, поезжайте в Лондон и доложите королю о кончине законной английской королевы, а я исполню свой и останусь при усопшей. Мне безразлично, узнает Генрих Восьмой или нет о том, что я в Кимблтоне. (обратно)Глава XVI Мщение начинается
В то время как душа английской королевы отлетела на небо, тучи Божьего гнева начали собираться над Анной Болейн. Желая как можно скорее отомстить графу Уилширу за его тайные попытки подорвать его власть над королем, Кромвель всю ночь после бала в Виндзоре обдумывал план низвержения Анны и брака Джейн Сеймур с повелителем Англии. До столкновения с Рочфордом первый министр считал любовь короля к этой милой девушке капризом, прихотью; но известие о близкой кончине Екатерины и то, что было сказано при этом Генрихом, показали всю выгоду посредничества между Джейн Сеймур и королем; он знал, что прежде всего следует внушить молодой девушке доверие к его советам, и стал с нетерпением ждать возможности увидеть прелестную Сеймур. Кромвель застал ее за прялкой. Прекрасное лицо девушки сияло от счастья; ока стала непринужденнее, веселее, говорливее, с тех пор как у нее появилась надежда уехать на родину, и хотя лорд Кромвель не был склонен к чувствительности, он невольно подумал, что Джейн восхитительна и что ее красивая, грациозная головка создана для короны. Увидев министра, девушка вскрикнула радостно и, подбежав к Кромвелю, протянула ему свою нежную ручку. – Ну что же моя отставка? – воскликнула она. – Я так глупа, милорд, и так нетерпелива, что уже раза три начинала укладываться! – Было бы что укладывать! – проворчала старая Жемми. – Могу ли я рассчитывать, что меня отпустят без всяких проволочек? Выбрана ли фрейлина, которая заменит меня при королеве? Говорите, милорд! – настаивала Джейн, устремив на министра свои очаровательные ясные глаза. Кромвель хотел было ответить ей улыбкой, но передумал и серьезно сказал: – Выслушайте меня терпеливо, миледи, я должен сообщить вам нечто весьма важное, касающееся чести вашего рода, вашего самолюбия, репутации вашей и вообще вашего будущего… – Моей чести и будущего! Что же это, о боже! – перебила она, испуганная этим торжественным вступлением. – Выслушайте меня благосклонно, миледи, – продолжал лорд Кромвель. – Вы поняли ошибочно чувства его величества и цель его подарка! У вас много врагов… Верите ли вы мне? Позволите ли высказаться с полной откровенностью? – Как, милорд, у меня есть враги при дворе? – перебила его изумленная Джейн. – Вы, вероятно, шутите! Я отношусь ко всем приветливо, я живу как затворница в этой высокой башне и работаю с утра до ночи, чтобы закончить платье, обещанное Жемми! Может ли это вызвать неприязнь и вражду? – Нет, конечно, – ответил ей на это Кромвель, – но завистники ненавидят и без всяких оснований. Вам нужен человек, который оградил бы вас от этих тайных происков, и совесть и вера побуждают меня предложить вам поддержку. Позвольте мне заботиться о ваших интересах, если, конечно, вы желаете этого… – Ваше «если» излишне и обидно, милорд, – сказала пылко Джейн. – Могли ли вы подумать, что я не оценю ваше предложение и не приму его с глубокой благодарностью? Я одинока и беспомощна в жизни и нуждаюсь в разумном, честном наставнике. Я сделаю все, что вы мне посоветуете, приму от вас охотно любое замечание и отдаю свою волю в ваше распоряжение. «Да она изрядно сентиментальна!» – подумал лорд Кромвель не без иронии, но ответил по-прежнему с глубокой почтительностью: – Повторяю, миледи, что сделаю для вас все от меня зависящее. Уступая порыву горячей благодарности, Джейн Сеймур схватила руки Кромвеля; две светлые слезинки скатились по ее прелестным щечкам. – Не плачьте, леди Джейн! – сказал ей граф Эссекский. – Вам не о чем печалиться! Я надеюсь расстроить планы ваших врагов и приготовить вам такое благодатное и блестящее будущее, о котором вы даже не могли мечтать. Но, чтобы достичь этого, вы должны поступать по моим указаниям и не скрывать от меня ваши намерения. – Я буду сообщать обо всем, что собираюсь сделать и о чем буду думать, так же чистосердечно, как если бы говорила с моим милым отцом. – Вы исполните обещание? – спросил резко Кромвель. – Да, – отвечала кротко и искренне девушка. – Благодарю, миледи! – воскликнул граф Эссекский. – И так как вы желаете поступать сообразно моим указаниям, то я вам продиктую письмо к его величеству. Вы еще не сказали ему ни слова благодарности за его внимание, за его подарок, и он вправе подумать, что вы не придаете этому никакого значения. – Но ведь я не умею ни читать, ни писать, – произнесла чуть слышно сконфуженная Джейн. – Мой отец находил, что это совершенно не нужно для женщины; меня учили только рукоделию; мне стыдно за мое невежество, милорд, но я обещала быть откровенной с вами. – Черт возьми! – перебил с досадой Кромвель. – Я никак не предвидел такое затруднение! – Не сердитесь, милорд, я постараюсь научиться. – Все это превосходно, но знания сразу не даются, леди Джейн, – сказал первый министр. – Я не всегда могу видеться с вами лично, но мог бы сообщать вам мои мысли и планы посредством переписки… Скажите откровенно, вы хотели бы выйти замуж? – Да! – отвечала Джейн. – Я буду рада вступить в брак с человеком, равным мне по рождению. Хотя у меня нет средств, но я не решусь унизить доблестный род Сеймуров! Да к тому же, если продать это ожерелье… – Забудьте об этом ожерелье, миледи! – перебил лорд Кромвель. – Речь идет не о нем. Если я вам представлю человека богатого и достойного вас, согласитесь ли вы выйти за него замуж? – Я поступлю так, как вы посоветуете. Я буду даже рада иметь покровителя. У меня на свете нет никого, кроме Жемми, а она очень стара. – Ну, так я, леди Джейн, помогу вам составить блистательную партию, но предупреждаю вас, что даже малейшее пятно на вашем добром имени может испортить дело. Вы должны отвечать гордым молчанием на льстивые слова, даже если их будет говорить Генрих Восьмой. – Это предупреждение излишне, милорд, – сказала твердо девушка. – Я слишком дорожу моим достоинством и фамильной честью, чтобы позволить себе слушать вольные речи от кого бы то ни было. – Теперь моя вторая просьба, – продолжал граф Эссекский, не обратив внимания на это замечание. – Вы не должны говорить королю о моем обещании составить для вас партию. – Сохрани меня бог говорить с королем! – воскликнула она с непритворным испугом. – Я даже не решусь просить его о моей отставке. – Вы говорите так, потому что не знаете, как добр и милостив наш государь. Вам неизвестно одно важное обстоятельство… король принимает в вас живейшее участие, он желает вас видеть… вы должны ему выразить признательность за его щедрый дар, заверить его в вашей глубокой преданности и сказать, между прочим, что у вас лишь одно желание – найти себе супруга. Не забывайте об этом, леди Джейн. – Милорд, я не осмелюсь говорить с королем. – Вы должны пересилить эту детскую робость, – возразил граф Эссекский. – Когда его величество станет спрашивать вас о ваших желаниях, то вы должны ответить, как я уже сказал. Помните, леди Джейн, что малейшее отклонение от моих советов испортит дело. – Милорд, я буду выполнять все в точности. – Так я могу рассчитывать на это?! – Клянусь честью! – В таком случае я уверен в успехе; прощайте же, миледи, до скорого свидания, – сказал граф с дружелюбной улыбкой. Когда шаги министра затихли, Джейн хотела было приняться за работу, но присела и задумалась. – Что он хотел сказать? – произнесла она с явным недоумением. – Я не могу понять, зачем мне, например, объяснять королю, что главная цель моей жизни – составить себе партию? Я, конечно, хочу поскорее выйти замуж… У меня будут крошечные хорошенькие детки, я окружу заботой мою старую Жемми и, что всего важнее, уеду отсюда. Сердце бьется от радости при мысли об этом. (обратно)Глава XVII Козни Кромвеля
Король сидел и пел гимн любви и весне; он был в великолепном настроении, когда дверь отворилась и к нему вошел паж. – Испанский посланник просит позволения увидеть ваше величество, – доложил робко юноша. – Разве он вернулся? – воскликнул с удивлением король. – Он здесь, ваше величество… у него креп на шляпе! – Креп? – повторил король. – Попросите ко мне испанского посланника. Паж раздвинул портьеры, и Шапюис вошел в комнату; он был суров и бледен. – Королева скончалась! – объявил он торжественно. – Вот ее завещание и письмо к вам! – Он положил то и другое на стол, не поднимая глаз. – Письмо пропитано ее слезами! – добавил он угрюмо после короткой паузы. – Так она умерла? – спросил Генрих VIII, и сердце его сжалось от незнакомой до сих пор тяжелой тоски. – Да, умерла! – ответил отрывисто Шапюис, с трудом сдерживая негодование. – Шапюис! Это была честная женщина! – проговорил король. – То есть, вернее сказать, это был Божий ангел в человеческом обличье, – сказал тихо Шапюис. – Вы совершенно правы, и я очень жалею, что не смог проститься с ней. – Но вы, ваше величество, уже давно знали, в каком она состоянии; я столько раз просил облегчить ее участь, но голос мой был подобен гласу вопиющего в пустыне, хотя просьбы мои были умеренны. Но, как бы то ни было, она умерла, не увидевшись с дочерью, и это отравило ее последние минуты. – Так она умерла, проклиная меня? – спросил отрывисто встревоженный король. – Нет, она призывала благословение Божье на вас и ваше царствование. Посланник произнес с усилием эту фразу; его душил гнев. Король не отвечал. – Она сказала мне, что слова молитвы о вас будут последними в ее жизни, – продолжал он, по-прежнему не поднимая глаз. Генрих VIII молчал. Посланник отступил на несколько шагов. – Я надеюсь по крайней мере, – сказал он резким тоном, – что вы, ваше величество, соблаговолите вспомнить, что умершая королева была родной теткой моего императора! Подле ее тела осталась только девушка, разделявшая с ней тяготы изгнания, да граф Нортумберлендский. – Как? Лорд Перси? – воскликнул с изумлением король. – Что могло побудить его приехать к Екатерине? – Это мне неизвестно, но я видел его, – сказал сухо посланник. У короля мелькнула мысль о заговоре против него; он встревожился, но не подал виду. – Я понимаю вас, – отвечал он посланнику с заметной торопливостью, – Екатерина будет погребена с королевской пышностью. Вы можете идти!.. – Мне остается передать вам последнее желание покойной королевы. Она просила, чтобы вы позаботились о ее старых слугах! Они теперь нуждаются в самом необходимом, и мысль о них тревожила умирающую. – Все будет сделано, – сказал сердито король. – Испании и Австрии нет надобности вмешиваться в подобное дело. – Итак, тело ее будет погребено со всеми почестями… – Да, – перебил король, – я и все мои подданные будут носить по ней шестинедельный траур! Можете говорить во всеуслышание, что это моя воля! Уйдите же теперь, мне хочется побыть одному! Я позову вас после! Посланник поклонился с церемонной вежливостью и вышел твердым шагом из королевской комнаты. – Этот испанский гранд не выбирает выражений! – проговорил король, посмотрев ему вслед. – После свидания с Екатериной он настроен еще более враждебно ко мне. Итак, ее уже нет! Я никак не могу привыкнуть к этой мысли! Он придвинулся к столику, на котором лежали письмо и завещание, и взглянул нерешительно на бумаги, в которых заключались последние слова и последняя воля его жены и друга. – Что в этом письме? – произнес он задумчиво. – Ну, конечно, упреки! Завещание касается, разумеется, дочери! Мне жаль, что обстоятельства сложились таким образом!.. Екатерина была благородная женщина, и, что всего важнее, она меня любила!.. Она надоедала мне иногда наставлениями, но была моим лучшим и единственным другом. Всегда добрая, всегда кроткая, она вела себя безукоризненно! Время летит так быстро… Казалось, только вчера стоял с ней под венцом, а ее уже не стало! Умерла! Это слово звучит странно… И я тоже умру, и после моей смерти… но надо признаться, что жизнь не легче смерти, когда внутренний голос твердит ежеминутно: «Берегись, берегись!» Моя страсть к Анне Болейн давно сменилась глубоким отвращением; мне страшно надоело притворяться. Екатерина скончалась, и я теперь свободен; да, но сколько преград придется преодолеть, чтобы достичь цели! А упрямство мое растет с годами, препятствия лишь разжигают мои страсти: я не терплю противоречий от кого бы то ни было и ненавижу весь род человеческий! Эй, ратники и пажи и все подданные моей верховной власти, кто из вас может дать мне желанный покой? – Вы изволили звать? – сказал молодой паж, вбежав в кабинет. – Разве я звал? – спросил с недоумением Генрих. – Вы громко говорили, и я, ваше величество, услышав ваш голос… – Что же я говорил? – Я не расслышал слов. – Есть кто-нибудь в приемной? – Милорд Кромвель. – Пусть он войдет! Граф Эссекский вошел; он был в глубоком трауре; король посмотрел на него испытующе. – Екатерина скончалась, и весть эта вызвала у меня непритворную скорбь, – произнес он отрывисто. – Ее жизнь, однако, давала повод к смутам! Известно ли вам, что граф Нортумберлендский имел дерзость приехать к ней перед ее кончиной? О чем думают и что творят северные бароны? Есть ли что-нибудь новое в донесениях ваших шпионов и клевретов? – Значит, испанский посланник виделся с лордом Перси? – спросил первый министр, оставив без ответа вопрос короля. – Конечно! – отвечал запальчиво король. – Ненависть Перси ко мне не имеет пределов, и я не удивлюсь, если этот надменный и отважный вассал вступит в тайное соглашение с испанским императором. – Я как раз хотел доложить вам, что шпион, посланный в Линкольншир, напал на след весьма важного заговора: он сообщает мне о тайных сборищах лордов Люамби, Невилла, Дарси и Лотимера, и вы, ваше величество, можете быть уверены, что во всех пяти графствах северной части Англии скоро вспыхнет мятеж! – Да, нечего сказать, хороши ваши новости! – проговорил сердито король. – Надменность этих лордов переходит все границы… – Верьте, ваше величество, их нельзя судить строго. Их как будто стараются оскорбить и унизить и, несмотря на это, требуют, чтобы они служили государству. – Что вы хотите этим сказать, Кромвель? – Да то, ваше величество, что все щедроты и почести достаются одним и тем же… и число недовольных растет с каждой минутой… Вам хорошо известна ненасытная алчность семейства королевы! – Да, должен признаться, что и мне надоели бесконечные требования графа Уилшира, надменность Рочфорда и жадность их приверженцев. Но я был убежден до нынешнего дня, что вы принадлежите к партии королевы! – произнес не без удивления король, внимательно посмотрев на министра. – Да, я принадлежал к партии королевы или, вернее, родных ее, – отвечал граф Эссекский, – до той роковой минуты, когда я убедился, что их преданность к вам – пустые слова, что все они желают регентства и сама королева, вступив на путь измены… – Так мои подозрения подтвердились! – воскликнул Генрих VIII с невыразимым бешенством. – Она мне изменяет! Что она замышляет? Говорите скорее! – Мое усердие к вам заставило меня забыть о собственной голове, – отвечал очень холодно и спокойно Кромвель. – Закон карает смертью того, кто плохо говорит о королеве! – Я его отменяю! – Притом же королева только слабая женщина. – Говорите! – Делайте со мной что хотите, ваше величество, но я не в состоянии исполнить ваше требование. – Вы обязаны его исполнить, раз я вам приказываю. – В таком случае прикажите арестовать немедленно дворян ее величества: тюрьма развяжет им, без сомнения, язык. – На что вы намекаете? Неужели она не только замышляет гнусные заговоры против меня, но и дерзнула опозорить наше брачное ложе? – Об этом говорят, но я не признаю эти слухи как истину… – И как давно дошли эти слухи до вас? – О, будьте снисходительны, ваше величество! Меня страшил ваш гнев, и я делал все, чтобы отвести его от тяжело виновных! Я был верным и преданным слугой королеве, вы это сами знаете! Но когда я заметил, что ее поведение дает повод к сплетням, я счел своим долгом сказать об этом ее брату и указать ему на тяжелые последствия такого нарушения общественных законов. Граф Рочфорд, к сожалению, кинулся на меня со шпагой. Тогда, ваше величество, признаюсь откровенно, я вышел из себя и сказал ему, что его самого обвиняют в преступных сношениях с королевой и утверждают, что старый граф Уилшир заявлял уже не раз, что род Болейнов даст Англии короля и без ненавистного ему рода Тюдоров! Король сидел безмолвный и бледный как мертвец: каждое слово Кромвеля вонзалось острым жалом в его сердце, задевая его больное самолюбие и возбуждая бешеную ревность; его взор был прикован к губам графа Эссекского; на угрюмом лице пятнами вспыхивал лихорадочный румянец; его душила злоба, но он не мог произнести ни слова. Кромвель счел за лучшее не обращать внимания на предвещавшее бурю молчание своего грозного повелителя и продолжал все тем же невозмутимым тоном: – Непомерное самолюбие графа Рочфорда помешало ему принять благой совет испытанного друга, и он поклялся мне отомстить! Я узнал через моих клевретов, что он не медлит, и граф Уилшир явился к вам сегодня утром, чтобы обвинить меня перед вашим величеством в ограблении женского монастыря в Дургеме. – Но какое мне дело до слов графа Уилшира и до ваших монахинь! – воскликнул Генрих VIII. – Вот опись ценностей, доставшихся казне вследствие упразднения означенной обители, – проговорил все с тем же хладнокровием министр. Он вынул из кармана и подал королю объемный реестр. – В него включено все до малейшей безделицы, – пояснил он спокойно. – Упразднение совершалось в присутствии властей, при содействии комиссаров, один из которых был незадолго до этого рекомендован мне самим графом Уилширом; вот, наконец, письмо, в котором настоятельница признает правильность описи и перехода собственности вверенной ей обители в наше распоряжение. – Замолчите, граф Эссекский, вы мне надоели! – крикнул гневно король. – Незачем докладывать мне о ваших грабежах, я знаю вашу алчность и испорченность всех моих приближенных. – Враги мои успели выставить мои дела в невыгодном свете, и я прошу ваше величество позволить мне объясниться. – Еще раз, граф Эссекский, прошу вас попридержать язык! Мне теперь не до дел, – проговорил король, задыхаясь от страшного волнения. – Я разбит, уничтожен, я почти уверен, что земля уходит у меня из-под ног! Куда бы я ни взглянул, я везде вижу порочность и предательство! Этот пышный дворец превратился в ад! Кромвель хранил почтительное глубокое молчание. – Я давно догадывался об измене этой женщины, – проговорил король после короткой паузы, – но вы были обязаны доложить мне о ее поведении!.. Его голос осекся, и он закрыл лицо дрожащими руками. – Я должен был сначала получить улики, – заметил граф Эссекский. – Улики? Проклятье! Да и кто же поверит в подобное предательство? – сказал пылко король. – Да, – отвечал Кромвель, – подобные поступки чересчур возмутительны, и им не верят сразу, но графиня Рочфорд, чьи любовь и самолюбие попраны, открыто выражает свое негодование, и вашему величеству следовало бы порасспросить ее. – Я заставлю графиню объяснить мне все! – сказал Генрих VIII. Он поспешно встал с места, тяжело дыша. – Говори мне немедленно все, что знаешь, Кромвель! – воскликнул он, дрожа от горя и бешенства. – Неужели о бесславии моем известно всему свету? – Я не решусь передавать вам слухи, справедливость которых не могу подтвердить непреложными фактами! – возразил граф Эссекский. – Дайте мне лист бумаги! – сказал резко король. Граф Эссекский поспешно исполнил приказание и стал терпеливо ждать, что за этим последует. Король схватил перо, но сильное волнение мешало ему писать. – Пишите за меня! – сказал он повелительно, обратившись к Кромвелю. – Что я должен писать? – спросил первый министр. – Приказ о немедленном аресте Рочфорда и дворян королевы – Вастона, Бартона и Марка. «Дело идет на лад!» – подумал граф Эссекский. – Пошлите в то же время гонцов к Нортумберленду с приказом явиться и объяснить, что побудило его отправиться в Кимблтон, а если он окажет хоть малейшее сопротивление, то пусть отправят под конвоем в Виндзор! – Будет исполнено, – отвечал граф Эссекский, придвигаясь кстолу. Король облокотился на спинку его кресла. – Распорядитесь во дворце, чтобы их арестовали после полуночи, когда во дворце все стихнет, – сказал король. – Пусть их отвезут в Ле-Тур, а там подвергнут одиночному заключению и строгому надзору. – Это необходимо! – поспешно вставил граф Эссекский, продолжая писать приказ короля. Лорд Кромвель не успел договорить, когда в соседней комнате послышались шаги. Паж раздвинул портьеры, и вошла королева Анна, очаровательная, как райское видение. Ее платье из палевого, блестящего атласа являло как бы молчаливый протест против распоряжения о трауре, о котором весь двор знал еще накануне. Наряд молодой женщины отличался роскошью и изысканностью: чудесное ожерелье из восточного жемчуга обвивало ее лебединую шейку; ее прекрасные, ослепительной белизны плечи были видны сквозь кружево изящной шемизетки, перехваченной в талии широким кушаком с бриллиантовой пряжкой; ее великолепные золотистые волосы придерживал легкий, кокетливый берет со страусовым пером, унизанным сверкающими драгоценными камнями. Войдя в кабинет мужа, королева кивнула грациозно ему и Кромвелю и, подойдя к окну, небрежно села в кресло. Беленькая левретка, дремавшая в углу на бархатной подушке, подняла кверху узенькую, хорошенькую мордочку, зевнула, потянулась и, подойдя к своей прекрасной повелительнице, начала лизать розовым и нежным язычком ее белые ручки. Она одна обрадовалась приходу королевы. Король и граф спешили скорее закончить дела. Кромвель зажег свечу, и Генрих с озлоблением приложил печать к роковому приказу об аресте Рочфорда. – Ступайте и исполните мои распоряжения! – произнес он отрывисто, обратившись к министру. Граф Эссекский ушел. Когда его шаги затихли в отдалении, король взглянул на жену. В этом взгляде светился тот зловещий огонь, который загорается в глазах хищного тигра, подкрадывающегося к своей жертве. Анна Болейн играла золотым ошейником собачки, и прыжки миниатюрного, грациозного животного вызывали у королевы улыбку. – Ваше платье прелестно, но, судя по цвету, вы не знаете о моем приказании, – сказал Генрих VIII. – О каком приказании? – спросила робко Анна, смущенная суровостью короля. – О трауре во всем государстве по случаю кончины королевы, жены моей! – отвечал он ей резко. – Вашей жены? – промолвила с недоумением Анна, устремив чудесные голубые глаза на мрачное лицо своего повелителя. Но Генрих встретил холодно этот обворожительный красноречивый взгляд. – Ну да, моей достойной, благородной жены! – воскликнул он запальчиво. – Завещание ее лежит на этом столике, куда вы положили ваш носовой платок. Уступая суеверному страху, Анна Болейн торопливо схватила платок, обшитый дорогим, великолепным кружевом. – Вы испугались, кажется? – заметил король с язвительной иронией. – Мне нечего пугаться! – возразила она. Смущение ее росло с каждой минутой: ей еще никогда не приходилось видеть такое выражение на лице своего державного супруга и слышать от него такие суровые слова. Она не понимала, чем вызвана такая перемена в нем. – И вы на самом деле не знали о кончине жены моей? – спросил внезапно Генрих. – Нет, я слышала о кончине бывшей принцессы Галльской, но вы, ваше величество, говорили не раз, что придворные не должны считать ее вашей женой, – отвечала она с негодованием. – Если даже и так, то вы обязаны были почтить память вашей бывшей законной повелительницы! – сказал резко король, взглянув с презрением на молодую женщину и на ее богатое блестящее платье. – Я помню, – продолжал он после короткой паузы все с той же суровостью, – как Екатерина, постоянно заботившаяся о благе своих ближних, говорила о вас: «Анна Болейн – красавица, но ведет себя чрезвычайно вольно, и придворная жизнь способна погубить ее бесповоротно». – Вы меня оскорбляете! – перебила его внезапно королева. – Я оскорбляю вас? Полноте, леди Анна! Вы относились прежде гораздо благодушнее к таким невинным шуткам! – Шутки такого рода имеют часто роковые последствия! – Ну, пока еще нет, – процедил сквозь зубы Генрих. – Но нельзя отрицать, что комедия может закончиться трагедией! Анна Болейн не слышала этих последних слов, ее щеки пылали, и сердце бешено колотилось. – Я пришла к вам не вовремя?! – произнесла она изменившимся голосом. – Почему же? Напротив! – отвечал он спокойно. – Да притом я уверен, что вы пришли ко мне с какой-нибудь просьбой… – Даже с двумя, – отвечала она в явном замешательстве. – Но… повторяю вам… я явилась не вовремя: вы сегодня в дурном расположении духа! – Нет, уверяю вас, – возразил он все с той же язвительной иронией. – Я спокоен, весел и, что важнее всего, невыразимо счастлив!.. Анна Болейн взглянула с тревогой в его глубокие глаза: тайный голос твердил ей, что в чувствах короля внезапно произошла перемена. – Я пришла, чтобы сказать несколько слов о завтрашнем турнире, – произнесла она нерешительно. – А, так завтра турнир? – отвечал ей король. – Я совсем забыл об этом! При дворе столько празднеств, что их трудно запомнить! – Да, но тот турнир был задуман по вашему желанию, к нему уже давно готовятся в Гринвиче, множество лордов прибыло из самых дальних областей королевства, чтобы принять в нем участие; все это потребовало громадных затрат, и отменить турнир теперь уже невозможно. – Невозможно! – воскликнул с озлоблением король. – Для меня нет решительно ничего невозможного. – Я знаю, что вы вправе делать все, что хотите! – сказала кротко Анна, дрожавшая при мысли об отмене турнира. – Я только говорю о неудовольствии, которое вызовет у всех сословий общества отмена торжества, так давно ожидаемого. – Вы совершенно правы, – согласился король. – Я и сам понимаю, что это невозможно! – Да! – воскликнула Анна, и прелестное ее личико озарила веселая улыбка. – И так как я желаю, чтобы свита моя явилась на турнир в надлежащем виде, то позволю себе просить вас дать Норрису одну из ваших лошадей: его лошадь хромает, а у него нет денег, чтобы купить другую. – Как? Норрису?! – воскликнул запальчиво король, в котором это имя сразу вызвало ревность. – Да, Норрису, – ответила спокойно королева, несколько озадаченная вопросом и волнением своего повелителя. – Чему вы удивляетесь? Вам ничего не стоит подарить ему лошадь. Да притом же Норрис всегда пользовался вашей благосклонностью. – Но еще больше вашим вниманием, леди Анна, насколько мне известно, – сказал король. – Да, я люблю Норриса, – подтвердила она тем же спокойным тоном. – Ну хорошо, – сказал насмешливо король. – Я пошлю ему лошадь! Выбирайте любую: вы так хорошо знаете Норриса, что это не составит для вас никакого труда. – О нет, ваше величество, – отвечала она с веселой улыбкой, – я люблю лошадей, но не знаю, какая из них годится для турнира. – А турнир будет завтра? – спросил опять король. – Разумеется, завтра, и все мои дворяне, за исключением Марка, уже отправились в Лондон. Брат устроит для них великолепный ужин и будет ночевать вместе с ними в Гринвиче. Сон вернет им силы. – Это распоряжение чрезвычайно разумно, – проговорил король. – Не правда ли? – сказала Анна, устремив на него свои великолепные ясные глаза. Но мысли короля перенеслись из Винздора к графу Рочфорду и его беззаботным молодым товарищам. «Разница только в том, – думал он, – что их арест от-срочится на сутки. Кромвелю удастся арестовать сегодня только Марка». (обратно)Глава XVIII Артур Уотстон и его мать
Население Лондона готовилось к турниру, и в городе кипела работа. Дородные мещанки рылись в огромных сундуках, окованных железом, вынимая из них самые дорогие и красивые платья и самые массивные золотые цепочки. Они знали, что им ни за что не пробраться в Гринвич, так как в нем не могло поместиться столько людей, но они улыбались приятной перспективе постоять на дороге, что вела туда, и ослеплять едущих на турнир блеском своих нарядов. Пользуясь суетой старших, дети сновали повсюду, сбивая с ног прохожих; они сходились группами на бой в подражание рыцарям, которые должны были выступать на турнире; за неимением доспехов и мечей они вооружались разными кухонными принадлежностями и убирали головы петушиными перьями. Вообразив себя героями турнира, они не слушали никаких увещеваний и продолжали рыскать, пока ночь и усталость не охладили их воинственный пыл. В мастерских портные, оружейники, ювелиры и прочие с ног валились от усталости; лишь ростовщики заперлись в своих домах и считали барыши, полученные благодаря турниру. В конце улицы, примыкавшей к церкви Святого Павла, тянулась невысокая каменная ограда; ворота уже давно заколотили наглухо, а калитка, обитая железными листами, была обыкновенно заперта изнутри; маленькое окошко в ней позволяло привратнику рассмотреть каждого приходящего. За оградой находился большой мощеный двор, весь заросший травой, в глубине его стояло длинное мрачное строение; из всех окон лицевого фасада только одно было ярко освещено, хотя на больших часах церковной колокольни пробило только девять. У парадного входа в это мрачное здание стояла чистокровная лошадь арабской породы; она била копытами о плиты мостовой и оглашала воздух нетерпеливым ржанием. Через некоторое время на ступенях высокого и крутого крыльца появился слуга: он подошел к коню, пригладил его гриву и стал кормить виноградной лозой, покрывавшей стены почти до самых окон. Вскоре после этого в калитку вошел стройный высокий молодой человек; он был в полукафтанье белого цвета, с длинным мечом у пояса и держал в руке шарф из мягкой тонкой ткани ослепительной белизны; прекрасное лицо его дышало благородством, а ярко-синие серьезные глаза придавали ему еще больше прелести. Он легко поднялся на крутое крыльцо, быстро пересек прихожую и тихо постучался в створчатую, покрытую старинной резьбой с позолотой дверь. К нему немедленно вышла немолодая женщина с чрезвычайно добрым лицом. – Могу ли я войти? – спросил ее вполголоса молодой человек. – Ваша матушка ждет вас с нетерпением, рыцарь, – отвечала служанка, любуясь и гордясь одеянием своего господина. – Ты пока не должна называть меня рыцарем— заметил с улыбкой молодой человек. – Я, добрая Елена, еще не имею ни малейшего права на этот славный титул. – Да, но вы получите его завтра, а это все равно, – возразила она, глядя с беспредельной преданностью на стройную фигуру молодого Уотстона. – Стоит взглянуть на вас, как поймешь, что вы потомок знаменитого рода и завоюете славу на завтрашнем турнире. – А ты, Елена, будешь молить об этом Бога? – Да, я не лягу спать в ночь бдения, которую вы проведете в церкви. Пройдя вслед за служанкой через несколько темных залов, молодой человек вошел в спальню своей матери. Это была большая высокая комната с одним громадным так называемым итальянским окном. На старинной кровати сидела, опираясь на мягкие подушки, дама преклонных лет; взглянув на ее белое, как будто изваянное из мрамора лицо, всякий подумал бы, что она была в молодости красавицей; но, хотя время оставило на лице ее неизгладимый след, дама сохранила то гордое выражение прекрасных глаз, изящество манер и врожденную грацию, которые отличают людей высшего сословия. На кровати было бархатное покрывало, подбитое горностаем; на всех углах его был вышит герб Уотстонов: могила, озаренная светом нескольких звезд, и девиз: «Свет померк в глазах моих!» Напротив кровати находился буфет, на полированных полках которого стояли массивные серебряные вазы и дорогой фарфор. Комната освещалась ярким пламенем свечей в двух высоких старинных канделябрах, стены были обиты шелковой материей, а пол закрывал мягкий и пушистый ковер. Уотстон подошел к матери и положил к ногам ее свой шарф и меч. Леди взглянула на него с невыразимой нежностью. – Мой Артур! Мой возлюбленный и единственный сын, – прошептала она. Она замолчала: воспоминания о скорбном и печальном прошлом нахлынули на нее. Прошлое леди Уотстон было в самом деле непрерывной цепью потерь и испытаний: еще в молодости смерть отняла у нее любимого мужа; у нее было три сына, но два из них уже лежали в могиле. Остался один только Артур. Молодой человек понимал, что происходит в душе матери, и смотрел на нее с состраданием. Прошло несколько минут, и на бледном лице леди Уотстон показался румянец, она подняла голову, и ее выразительные и кроткие глаза устремились на сына. – О, если бы отец твой мог увидеть тебя сейчас! – произнесла она с воодушевлением. Она непроизвольно перевела взгляд с прекрасного лица молодого Уотстона на герб и девиз, избранный ею самой, и две крупные слезы скатились по худым щекам. – Я должна смириться с испытаниями! – произнесла она, сложив набожно руки. – Свет не померк в глазах моих, так как Бог сохранил мне тебя, мой Артур! Ты похож на отца и начинаешь жить самостоятельно… – Да, – перебил Уотстон, тронутый этими задушевными словами, – и я пришел к вам с просьбой опоясать меня шарфом и прикоснуться к моему мечу, чтобы благословить его! Вы знаете, у меня нет на свете никого, кроме моей любимой, уважаемой матери, и я не знаю ни одной женщины, которую мог бы сравнить с вами! – И я тоже, Артур, могу сказать, что ты был до сих пор достойным представителем нашего знаменитого древнего рода, гордостью моей старости и единственной радостью моей печальной жизни! – отвечала спокойно и торжественно леди. – Ты понимал без моих внушений, что честь превыше всего! Ты был так молод, когда вступил в ряды защитников отечества и сражался во Франции, и мои дни и ночи проходили в слезах; но Пречистая Дева вняла моим молитвам, ты вернулся ко мне со славой. Теперь ты вступаешь в почетный орден рыцарей и должен выполнять все данные тобой суровые обеты, не обращая внимания на то, что другие считают их только формальностью; ты должен всегда помнить, что рукоять твоего рыцарского меча изображает крест, символ любви и мира, и ты имеешь право обнажать его только для того, чтобы защищать невинных и несчастных. Наш союзник и родственник, граф Ворчестер, назначенный твоим наставником, храбрый рыцарь, но я желала бы, чтобы ты брал за образец не столько его жизнь, сколько жизнь двух смелых и благородных рыцарей. Они не англичане, но великие люди принадлежат всем нациям. Эти два человека – Баярд и Бертран Дюгесклен. Поступай, как они, и я буду счастливейшей из матерей на свете! – Так и будет, клянусь честью! – воскликнул молодой человек. – Мысль о вас даст мне силы сдержать обет. – Я верю тебе, сын мой, и твое слово для меня дороже всякой клятвы! – сказала леди Уотстон с нежностью. Молодой человек подал ей белый шарф, и она опоясала стройный стан сына и завязала концы у него на груди. – Пусть вера в Провидение поддерживает твою душу так же крепко, как этот шарф, – проговорила леди. – Пусть Бог благословит твой меч, Артур, и пошлет ему успех, когда ты обнажишь его ради правого дела! Ну а теперь, дитя мое, сядь сюда, поговори со мной. У меня сегодня весело и светло на душе. Молодой человек исполнил просьбу и сел около нее. – Слушай, Артур, дитя мое, – сказала леди Уотстон, – ты занимаешь блестящее положение в обществе, и судьба милостива к тебе: она дала тебе и почести и славу. Сегодня исполнился год с тех пор, как ты вступил в должность при королеве. Я покорилась этому без всякого протеста, чтобы упрочить твое положение в свете; но я, дитя мое, становлюсь с каждым днем все старее и слабее, мне давно хочется навсегда уехать из этого печального и угрюмого дома; мы можем поселиться в том из наших поместий, которое придется тебе больше по вкусу, и ты найдешь со временем в кругу наших родных или наших друзей особу, достойную быть твоей женой. – Но зачем нам, скажите мне, уезжать от двора? – спросил поспешно молодой человек, и на его прекрасном благородном лице вспыхнул яркий румянец. – А затем, милый мой, что ты пробыл при нем дольше, чем следовало бы; я считала излишним до нынешнего дня упоминать об этом, но ты теперь достиг предела своих мечтаний, и я скажу тебе откровенно, Артур, что не знала ни минуты покоя с тех пор, как эта женщина заняла место нашей законной королевы, и особенно с тех пор, как Томас Мор погиб на эшафоте!.. Генрих восьмой становится все мрачнее и подозрительнее, и его раздражительность переходит в жестокость. Тебя закружил вихрь пиров и празднеств, и у тебя нет времени, чтобы заглянуть за кулисы и подумать о том, что же в действительности происходит! А интриги становятся все страшнее, беспорядок усиливается, и на севере Англии готовится восстание. Я не хочу, чтобы сын мой был замешан в интриги или стал их жертвой. Но, кроме всего прочего, в обществе ходят слухи, донельзя оскорбительные для этой королевы… Ты чужд всяких дурных и порочных стремлений, но ты еще так молод, а дурной пример заразителен!.. Я не Бланка Кастильская, но, когда я сидела над твоей колыбелью, я нередко думала: «Как ни дорог мне сын, но пусть лучше он умрет, чем станет низким и дурным человеком». – Мать, моя уважаемая, возлюбленная мать! – отвечал с удивлением молодой человек. – Я явился сюда после таинства исповеди, на которое призывают всех, кто готовится к посвящению в рыцари, и объявляю вам, что я не изменял ни разу в жизни святому долгу чести; я не дерзну запятнать даже лживым словом это белое одеяние, служащее символом нравственной чистоты! Моя совесть чиста, и я готов исполнить вашу волю и уехать отсюда хоть на край Вселенной. Если я и не согласился тотчас же, то только потому, что мне жаль расставаться с друзьями и этой беззаботной, разнообразной жизнью. Что касается оскорбительных слухов о молодой королеве, то я по крайней мере считаю их слишком преувеличенными! Королева – кокетка, манеры ее вольны, но она в высшей степени сострадательна к бедным и даже сама шьет им белье и платье. – Дай бог, чтобы слова твои были правдой! – сказала леди Уотстон. – Сострадание к ближнему смягчает гнев Господний, а на совести Анны Болейн немало кровавых преступлений!.. Она всеми силами домогается популярности, но во всем королевстве не найдется семейства, я говорю о людях, в которых не угасло святое чувство долга, где бы имя ее не вызывало отвращение! Ее клянут повсюду! Нет, уедем, мой милый, мой возлюбленный сын, уедем поскорее: внутренний голос твердит мне, что на тебя обрушится великое несчастье! Я не буду спокойна, пока не увезу тебя, мое сокровище, от всех этих людей, их интриг и происков! И когда я увижу тебя женатым и счастливым, в кругу родной семьи, я смирюсь с прошлым и скажу с убеждением: «Я достигла всего, чего хотела, и могу умереть!» – Нет! – возразил пылко молодой человек. – Вы даже и тогда не вправе умирать! Люди с такими чувствами, с такими воззрениями всегда нужны на свете! Вы должны жить и жить! Две слезинки скатились по щекам леди Уотстон, но не успела она произнести и слова, как услышала скрип ворот. Она невольно вздрогнула. – Что это, боже мой! – воскликнула она. – Ворота были забиты наглухо, и их не открывали со дня смерти твоего дорогого отца! – Не беспокойтесь, матушка! – сказал нежно Уотстон. – Граф Рочфорд и товарищи мои приехали за мной, и так как наши люди ошалели от радости, то они приняли их с особой торжественностью. – Да, это, верно, так… Я благодарна людям за их усердие и преданность, – отвечала она изменившимся голосом. – Но тот скрип я запомнила навсегда, Артур!.. Они скрипели так же, когда его несли из дома на кладбище!.. Артур… мой ненаглядный! У меня не осталось в Божьем мире никого, никого, кроме тебя! Ее голос осекся, и из груди вырвались глухие рыдания. – Не поддавайтесь горечи воспоминаний, – убеждал ее ласково молодой человек. – Я не уйду отсюда, пока вы в таком грустном и мрачном настроении, а если я замешкаюсь, то мое посвящение… Он замолчал и стал прислушиваться к топоту копыт о камни мостовой. – Была ли я когда-нибудь малодушна, Артур? – произнесла печально и кротко леди Уотстон. – Считаешь ли ты слабостью мою чрезмерную привязанность к тебе? – Нет, но я не одобряю вашу грусть и тревогу в этот радостный день, которого мы оба ждали так долго и с таким нетерпением! – Ты совершенно прав, но в душе человека творятся иной раз непонятные вещи: я еще не испытывала ни разу в жизни такого безотчетного и глубокого страха! Тебя ждут, иди с Богом, но если ты действительно любишь меня, то приезжай ко мне тотчас же после турнира. – Почему вы отказались присутствовать на нем? – А потому, что эти блистательные празднества мне уже не по летам. Правда, и в молодости я ненавидела эти опасные забавы и считала их варварством; я, естественно, никогда не выказывала этого, так как общество считает иначе. Но иди же, Артур, и возьми с собой мое благословение! Ступай же, тебя ждут! Леди Уотстон говорила отрывисто, ее голос дрожал; можно было заметить, что она напрягает все силы, чтобы скрыть волнение, и что, отталкивая нежно молодого Уотстона, она старается бессознательно притянуть его к себе. Он заметил с тревогой слезы в ее глазах и, наклонившись, прижал ее к груди. – Прощайте! – сказал он. – Завтра вечером в это время я преклоню колени перед вашей постелью. Итак, до завтра, матушка! – Да, до завтра, дитя мое, – прошептала она. Уотстон вышел из комнаты. Почти следом за этим послышались гул голосов и ржание лошадей, а минуту спустя старинные ворота закрылись со скрипом за удалыми всадниками. (обратно)Глава XIX В Кимблтоне
Этот день, проведенный жителями Лондона в приготовлениях к пышному и блестящему празднеству, прошел совсем иначе у мирных горожан далекого Кимблтона. Каждый из них хотел отдать последний долг королеве и, преклонив колени у смертного одра, помолиться усердно за упокой ее души. Екатерина казалась не умершей, а спящей крепким и сладким сном; ее бледные руки как будто прижимали распятие, лежавшее у нее на груди; ее черные волосы подчеркивали мраморную белизну ее щек. Можно было подумать, что, пробудившись ото сна, королева улыбнется снова своей приветливой и ясной улыбкой, что длинные ресницы ее поднимутся опять и черные глаза с любовью глянут на коленопреклоненную безмолвную толпу, прекрасное, печальное лицо Нортумберленда и плачущую Элиа. Большинство горожанок приносили букеты в знак уважения к памяти усопшей королевы, и комната была заполнена цветами; множество свечей горело перед большим распятием, а у его подножия был поставлен сосуд со святой водой. Время близилось к полудню: толпа стала редеть, и вскоре около ложа усопшей остались только Перси и бледная, разбитая усталостью и волнением Элиа. В Кимблтон пришел приказ перевезти в Питерборо останки королевы. – Элиа! – сказал мягко граф. – Послушайте меня и уйдите отсюда. Вы не вынесете этих потрясений!.. Предоставьте мне положить тело в гроб. – Постойте! Подождите! – воскликнула отрывисто и торопливо девушка. – Не трогайте ее! Оставьте ее мне на несколько минут! – Элиа! – повторил с мольбой Нортумберленд. – Пожалейте себя и уйдите отсюда! Он тоже был разбит физически и нравственно всем, что пережил у ложа этой мужественной и благородной женщины, смерть которой была на совести Анны Болейн; его сердце сжималось и обливалось кровью, когда до его слуха долетали слова, исполненные сострадания к усопшей и полного презрения к молодой королеве, и когда он представлял, что должна была испытать Екатерина во время своего печального изгнания. Когда мысли эти острым кинжалом пронзали его больную душу, глаза его невольно обращались к умершей королеве и как будто молили ее повторить еще раз, что она от души прощает Анне Болейн ее бессердечие и все свои страдания. Увидев, что Элиа не трогается с места, лорд Перси подошел к кровати, приложился губами к бледному лбу усопшей и поднял осторожно безжизненное тело, чтобы отнести его в гроб. Но в это же мгновение в него вцепились сзади две сильные руки. Граф быстро обернулся: за ним стояла Элиа, глаза ее сверкали, как у хищного зверя. – Нет, стойте!.. Погодите! – произнесла она хрипло. – Элиа! – сказал граф повелительным тоном. – Пропустите меня и покоритесь воле всемогущего Бога. Он понес тело к гробу. Девушка с глухим стоном упала на колени и поползла за ним, как верная собака за своим господином. – Я прощаю вас! Она была мне матерью… а вы не знали этого! – говорила она прерывающимся голосом. – Да, милорд, я подкидыш… без рода и без племени… и вы вправе отнять ее: она не моя собственность… она не моя мать!.. Я жила при ней и любила ее, но была ей чужой!.. У вас были, конечно, мать, отец и родные… вы не можете понять мое положение! Но зачем судьба послала мне Екатерину, если она отняла ее у меня?.. Зачем же в таком случае мне сохранена жизнь?.. Кому она нужна и что мне с ней делать? Элиа быстро встала и заглянула в гроб: Екатерина лежала как живая, словно уснув глубоким сном; смерть, казалось, не посмела исказить это ясное, спокойное лицо. Перси выбрал из груды принесенных цветов венок из самых свежих и ароматных роз и положил на тело королевы; он постоял с минуту, погруженный в раздумье, потом молча взял крышку и плотно закрыл гроб. Элиа продолжала стоять около него в полнейшей неподвижности; в ее глазах не было ни слезинки; Нортумберленд не выдержал ее дикого пристального взгляда. – Все кончено, – сказала она неестественно спокойно и отчетливо. – Я ее не увижу… я одна и свободна, и начну бродить вокруг ее могилы, выпрашивая милостыню. Меня сочтут помешанной, но я не рассержусь: люди не могут знать, что судьба отняла у меня все, что привязывало меня к этой печальной жизни. Нортумберленд сел в кресло: он чувствовал, что силы изменяют ему. – Я надеюсь, – сказал он, – что вы еще одумаетесь и откажетесь сами от этого намерения. Вы вспомните безропотную покорность королевы и ее мужество в самые тяжелые минуты; вы вспомните ее последнее желание и отправитесь, разумеется, к принцессе, ее дочери, чтобы лично вручить ей обручальное кольцо ее покойной матери. Элиа не промолвила ни слова, голова ее низко опустилась на грудь, и на бледных щеках загорелся румянец смущения и волнения. – Элиа! – продолжал с той же кротостью Перси. – Святой апостол Павел вменяет нам в обязанность не плакать об умерших, так как мы разлучаемся с ними только на время; вы, вероятно, слышали не раз эти слова на похоронах? – Нет! Мне не приходилось никого хоронить! – отвечала она отрывисто и резко. – Верю вам, – сказал Перси. – Но вы слышали просьбу той, которую считали своей матерью? – Извините, милорд, но я еще не знаю, как распоряжусь своим будущим. – Принцесса, вероятно, предложит вам остаться у нее? – Я откажусь от этого предложения, милорд, – возразила она с такой поспешностью, что Перси посмотрел на нее с изумлением. – Что же вы будете делать? – произнес он задумчиво. – То же, что и все безродные, бесприютные люди, брошенные на произвол судьбы. Никто не скажет вам, кто они и откуда. Для них не существует ни крова, ни семьи, ни родных, ни отечества! – Несчастное дитя! – сказал Нортумберленд. – Волнение и горе затмили ваш разум. – Нет, милорд! К несчастью, я совершенно в здравом уме и понимаю всю безысходность своего положения. О, если бы королева могла слышать меня! Милорд, будьте добры и дайте мне обнять ее в последний раз. – Нет, решительно нет, моя бедная Элиа! Мы не имеем права тревожить усопших! – Усопших! – повторила Элиа. – Да, душа ее теперь у престола Всевышнего! На крыльце между тем послышались шаги нескольких человек. Элиа задрожала и обратила к Перси умоляющий взгляд. – Они пришли за ней! – воскликнула она с невыразимым ужасом. – Не тревожьтесь, дитя: смерть – наш общий удел! – сказал Нортумберленд, стараясь успокоить девушку, хотя душа его разрывалась на части и сердце замирало от предчувствия великого несчастья. Дверь тихо открылась, и в комнату вошли, но не носильщики, которых ожидала с таким трепетом Элиа, а один из дворян свиты его величества и несколько вооруженных йоменов. Дворянин подошел прямо к графу. – Я имею, конечно, честь видеть лорда Перси, графа Нортумберленда, – произнес он почтительно. – Да, вы не ошибаетесь. – В таком случае, милорд, позвольте вам сказать, что повелитель мой просит ваше сиятельство ехать к нему немедленно. – Как? Король! – произнес с изумлением Перси. – Да, – сказал дворянин. – Я, конечно, исполню волю его величества, но хочу сперва проводить в Питерборо останки королевы. – Мне очень жаль, милорд, но в приказе не сказано ни слова об отсрочке. – Вам, значит, поручили арестовать меня? – О нет, ваше сиятельство, так как вы, разумеется, не откажетесь выполнить желание короля! – Зачем я понадобился королю? – спросил Нортумберленд, и лицо его вспыхнуло от гнева. – Стража, сопровождающая вас, доказывает, что король не приглашает меня, а приказывает явиться. – Мне неизвестны мысли моего повелителя, – отвечал дворянин, – но говорю искренне, что мне было бы больно противоречить вам. – Я последую за вами, – сказал спокойно Перси. – Велите страже уйти из этой комнаты. Посланный короля почтительно поклонился и вышел с йоменами. Нортумберленд прошелся несколько раз по комнате – он был сильно взволнован. «Зачем он меня требует? – думал он. – Кто мог ему сказать, что я в Кимблтоне? Шпионов, вероятно, у него немало! К чему, впрочем, доискиваться до причин? Мне нечего бояться, я равнодушен к жизни! Я исполнил свое заветное желание: королева скончалась, простив Анну Болейн! Я взгляну теперь смело в глаза всякой опасности и даже самой смерти, если Генрих восьмой вздумает казнить меня за поездку в Кимблтон без его разрешения». Но не прошло и минуты, как лицо лорда Перси приняло выражение глубокого спокойствия: покорность воле Божьей охраняла его от житейских бурь. Он выпрямился и подошел к Элиа, молившейся у гроба. – Мне жаль оставлять вас в таком положении, – сказал он дружелюбно, – но знаете, Элиа, что есть много людей, сердца которых были разбиты в самом расцвете молодости. Помните, что я всегда буду относиться к вам сочувственно. Что бы ни случилось, обращайтесь ко мне: я сделаю для вас все от меня зависящее. – Благодарю, милорд, – отвечала ему с признательностью девушка. – Желаю, чтобы Господь услышал эти слова и наградил вас за вашу доброту. Я буду призывать на вас Его благословение именно потому, что вы сопереживаете ближнему. Да, я благодарна вам от души, милорд, но я хочу вести бродячую жизнь и умру, как собака, в каком-нибудь углу. Исполняйте же ваше предназначение, а я исполню свое. Граф протянул ей руку. Громадная пропасть, разделявшая знатного вельможу и несчастную, подкинутую, беспомощную девушку, не существовала в подобные минуты. – Мой дом открыт для вас, и я всегда приму вас, как друга и сестру, – сказал Нортумберленд. – Как сестру? – повторила тихо Элиа. – Меня еще никто не называл сестрой. Голубые глаза ее с горячей благодарностью глядели на прекрасное лицо графа. – Будьте благословенны! – продолжала она. – Вы не знаете, как важно приветливое слово для существа, у которого нет ни прошлого, ни будущего, ни семьи, ни друзей! Мои воспоминания о вас и королеве скрасят мое одиночество. Прощайте, будьте счастливы! Я желаю вам этого искренне. – Прощайте! – сказал Перси. – Уповайте на Бога: надежда на Него – единственная из всех наших надежд! Я уже давно пришел к этому убеждению. Граф подошел к дверям, но, уступив чувству сострадания к девушке, вернулся снова. Она не видела его и горько рыдала, закрыв руками лицо. – Элиа! – сказал лорд. – Мне тяжело оставлять вас в подобном положении. Обещайте мне не поддаваться отчаянию! У вас нет никого в этом мире, но вы всегда найдете поддержку и пристанище под кровом моих предков! Дайте мне слово, Элиа, обратиться ко мне и верить, что я искренне желаю помочь вам!.. – Не продолжайте, граф! – перебила его с воодушевлением девушка. – Я отдала все – и привязанность, и преданность – королеве, и она унесла мои чувства в могилу. Теперь мое сердце закрыто… даже для благодарности. – Но мы еще увидимся когда-нибудь? – спросил растроганный Перси. – Не думаю, милорд, – отвечала она. Дверь тихо открылась, и в комнату вошел посланный короля. – Не гневайтесь, милорд, – произнес он почтительно. – Но мы должны исполнить без всяких отлагательств волю его величества. – Я готов, – отвечал спокойно Перси. Оба вышли из комнаты, и Элиа осталась одна у гроба Екатерины. (обратно)Глава XX Свидание короля с леди Сеймур
В то время как Перси выходил из опустевшего домика усопшей королевы в сопровождении стражи, в летней резиденции короля царила глубочайшая тишина. Только в одной из башен, возвышавшихся высоко над дворцом, светился огонек, и рыбаки, скользя в своих маленьких лодках по темным волнам Темзы, обращали сонный и равнодушный взгляд на этот свет, мерцающий среди ночного мрака. Этот свет горел в комнате прелестной Джейн Сеймур. Фрейлина королевы прилежно изучала букварь, лежавший у нее на коленях. Свет лампы придавал золотистый оттенок ее светло-русым прекрасным волосам; около нее на столике лежала маленькая надушенная записка, которой Кромвель предупреждал ее о своем визите. Тишина этой ночи была в полной гармонии с безмятежным спокойствием молодой фрейлины – доверчивого, честного и любящего существа, не ведавшего зла. Вскоре на ступенях крутой лесенки башни послышались шаги, но молодая девушка не изменила позы; дверь тихо открылась, и Кромвель вошел в комнату. Джейн приветливо кивнула ему и указала на кресло, которое заранее придвинула к столу в ожидании почетного и желанного гостя. Но на ее хорошеньком личике мелькнуло выражение легкого удивления, когда первый министр, вместо того чтобы сесть на указанное кресло, поставил на него ивовую корзину, обитую изнутри мягким белым атласом. – Что у вас там такое? – спросила она весело. – Вы похожи на поставщика нарядов, которого я видела не раз у королевы. – Да, я, в сущности, и явился к вам именно в этой роли, – отвечал граф Эссекский, открывая корзину. Он вынул из нее ослепительно-белое дорогое платье из блестящего газа на атласном чехле; весь корсаж был унизан сверкающими бриллиантами, а в дополнение к этому роскошному наряду был прислан из Италии букет великолепных искусственных цветов. – Это платье прелестно! – сказала Джейн, любуясь им с наивным простодушием ребенка. – Кому же вы несете этот наряд, милорд? – Вам, леди Джейн, – отвечал граф Эссекский. – Это дар короля, и он желает видеть его на вас на турнире в Гринвиче. – На мне? – произнесла с удивлением девушка. – Да, леди Джейн, и полюбуйтесь этой дивной отделкой, – сказал первый министр, разворачивая платье с ловкостью и проворством опытного приказчика, предлагающего свой товар покупателю. А впрочем, почем знать? Быть может, Кромвель вспомнил в это время тот убогий прилавок, за которым прошла его молодость. – Все это восхитительно, – сказала Джейн, – но цветы эти нравятся мне гораздо больше платья: я его не надену ни за какие блага! – Как же так не наденете, когда его величество желает непременно видеть его на вас? – Он этого желает, но я-то не желаю… У каждого свой вкус, – возразила она простодушно. – Вы говорите как избалованный, капризный ребенок, – сказал строго Кромвель. – Вы, леди Джейн, не только наденете это дивное платье, но пойдете со мной к королю, чтобы выразить ему вашу признательность! Он желает вас видеть. – Что же мне ему сказать? – Ничего, кроме слов глубокой благодарности! Говорите смелее: я ведь буду присутствовать при этом разговоре и даже отвечать вместо вас королю, если вы не сумеете ответить ему сами. – Ну хорошо, – сказала нехотя Джейн. – Это немного скучно. И потом, мне досадно, что вы до сих пор не выхлопотали мне отставку и молчите о партии, которую подыскали для меня… – Она умолкла и заметно смутилась, но оправилась скоро от своего смущения и продолжала весело: – Вы так заманчиво описали мне будущее, что я уже не раз воображала себя владелицей древнего и роскошного замка. – Ваше происхождение дает вам все права на более высокое положение в жизни, – отвечал граф Эссекский. – Позвольте же мне устроить ваше будущее, и мы скоро увидим, останетесь ли вы недовольны смелыми планами Кромвеля. – До сих пор я могла только любить и уважать его! – перебила Джейн Сеймур с той чарующей грацией, которая вместе с ее обворожительной и редкой красотой и изящными манерами покорила сердце повелителя Англии. Лорд Кромвель загадочно улыбнулся. – А что, его величество у себя в кабинете? – спросила быстро девушка после короткой паузы. – Да, – сказал граф Эссекский. – Ну так отправимся к нему! Они вышли из комнаты и начали спускаться по неровным ступеням тесных башенных лестниц; но, по мере того как они приближались к королевским комнатам, веселость Джейн исчезала. Пройдя еще немного, девушка почувствовала, что сердце ее бешено колотится; она остановилась и сказала неожиданно, заглянув вопросительно в глаза графу Эссекскому: – Интересно, почему, когда я собралась покинуть Виндзор, мне посылают дорогие подарки, да еще заставляют идти благодарить за них его величество! – Я объясню вам это через несколько дней, – отвечал лорд Кромвель, побледнев при мысли, что она передумает и не пойдет, пожалуй, в кабинет короля. Он знал, что Джейн при всей своей застенчивости сумеет постоять за себя. – Что же мы не идем? – продолжал граф Эссекский. – Я не могу понять, почему вас пугает свидание с королем. Вы видите его почти ежедневно, вы знаете отлично, что он не скажет вам ничего неприятного, перестаньте же ребячиться и идите со мной! Ведь вы дали мне слово слушаться меня во всем! Он схватил ее за руку и быстро и решительно повел по длинным галереям. Не прошло и двух минут, как они очутились в освещенной приемной; паж раздвинул тяжелые бархатные портьеры, и Джейн Сеймур вошла, едва дыша от волнения и робости, в кабинет короля. Она поклонилась чрезвычайно неловко своему повелителю, но не могла промолвить ни слова. – Садитесь сюда, леди, – сказал Генрих VIII, указав ей на почетное место. Он был одет изысканно и донельзя надушен дорогими эссенциями. – Ну, леди Джейн, скажите откровенно, понравился ли вам мой маленький подарок? – обратился он к ней с приветливой улыбкой. – Если этот наряд пришелся вам по вкусу, то потому, что он сделан во Франции: только там есть искусные модистки. – Поверьте, ваше величество, я благодарна вам от всего сердца, – сказала Джейн, опустив длинные пушистые ресницы. – А вы не обратили внимание на обувь? Она великолепна! Английские башмачники не сумели бы придать ей подобного изящества! – О да, ваше величество, – прошептала она все с той же застенчивостью. – Вы, леди Джейн, любите, вероятно, красивые наряды? Это естественно для такой юной леди! – произнес Генрих VIII. – Нет, напротив, я не придаю им никакого значения. – Вы совершенно правы! – согласился король. – Вам не нужно наряжаться, ибо вы и без того самая милая, умная и восхитительная из всех женщин на свете. Услышав неожиданно столь лестные слова о себе, Джейн Сеймур забыла свою робость и рассмеялась звонким и простодушным смехом. – Вы шутите, конечно! – воскликнула она. – Я умна? Спросите у милорда Кромвеля! Он постоянно журит меня за несообразительность и упрямство. Кстати, ваше величество, так как случай доставил мне честь и счастье видеть вас, то вы, верно, позволите мне обратиться к вам с просьбой… – Не слушайте ее! – вмешался граф Эссекский. – В ней развита склонность к сумасбродным фантазиям, и вашему величеству следует побранить ее за это. – Но я должен сначала узнать, что это за фантазии, – сказал Генрих VIII. – Итак, леди Джейн, скажите откровенно, как мне доказать свою готовность доставить вам удовольствие? – Я прошу вас позволить мне уехать из Виндзора, – отвечала спокойно и решительно девушка. – Зачем вам уезжать, и вдобавок в то время, когда я решил устроить вам прекрасное и блестящее будущее? – Мысль об отъезде вызвана в ней желанием выйти замуж во что бы то ни стало, – пояснил лорд Кромвель. – И вы на самом деле хотите уехать исключительно из желания вступить скорее в брак? – спросил ее король. – Нет, – сказала отрывисто Джейн Сеймур, обратив свои синие прекрасные глаза, сверкавшие от гнева, на первого министра, – и граф не имел права отвечать за меня! Я ему говорила, что хочу выйти замуж, но только в том случае, если это замужество обеспечит мне почетное положение в обществе. – А вы уже нашли человека, которого предпочитаете всем остальным? – спросил ее король. – Нет, – сказала она с глубоким простодушием, – мне все равно, за кого выйти. – Но если вы сами никого не любили, то были, вероятно, любимы кем-нибудь? – О нет, ваше величество, судьба не баловала меня; все, наоборот, чуждаются сироты – поэтому я и мечтаю вернуться в наше поместье. – Уехать? Нет, ни за что! Этому не бывать! – вскричал Генрих VIII. – Вы сказали, что вас никто не любит, но это не так; судьба послала вам владычество над сердцем вашего повелителя; я ваш раб и слуга и люблю вас глубокой, безраздельной любовью! Ничто не в состоянии разлучить меня с вами. – Но вы, ваше величество, слышали, вероятно, от милорда Кромвеля… – отвечала с усилием смущенная девушка. Прекрасные глаза ее обратились на первого министра, моля о поддержке, но лорд Кромвель стоял неподвижный, как статуя, в амбразуре окна и созерцал темноту, скрывавшую роскошные виндзорские сады. – Да, я слышал от графа, что вы ставите честь свою превыше всего на свете! – сказал пылко король. – И даю вам слово, что буду охранять ее так же зорко, как счастье, которого жду! Я прошу вас только ответить взаимностью на мое искреннее чувство. Он торопливо вынул из золотой коробочки, стоявшей на столе, кольцо чудной работы и подал его девушке. – Пусть этот перстень станет залогом исполнения всех моих обещаний и моей беспредельной и пламенной любви! – проговорил он тихо и взволнованно. Джейн Сеймур машинально надела золотое кольцо на одиниз своих нежных и тонких пальчиков. Все это было так неожиданно, что ее изумление не имело границ; она не могла не только возражать, но даже говорить. Ее сборы к отъезду, обещания Кромвеля, признание короля и вообще все события последних дней беспорядочно теснились у нее в голове. Она многое бы дала, чтобы разогнать туман, который окутал ее, но в мыслях девушки царил невыразимый хаос. – Скажите, Джейн, будете ли вы любить меня? – спросил ее король. – Ведь вы, ваше величество, хорошо знаете, что вы любимы всеми, – отвечала она, стараясь не сказать ничего неприятного. Граф Эссекский нашел, что ответ Джейн несколько сух и холоден, и счел нужным вмешаться. – Блистательное будущее, которое ваши слова неожиданно открыли перед леди Сеймур, поразило ее, – сказал он королю. – Она слишком взволнована и не в силах выразить вам ни свой восторг, ни свою благодарность. – Да я и не желаю никакой благодарности! – сказал пылко король. – Я буду добиваться только ее привязанности! – Вы, право, слишком милостивы ко мне, ваше величество, – проговорила девушка в замешательстве. – Если вы так думаете, – отвечал ей король, – то дайте мне пожать вашу нежную ручку, прежде чем Кромвель уведет вас отсюда в вашу темную башню. Для вас будет готово через несколько дней другое помещение – более приличное и более удобное. Граф Эссекский по знаку своего повелителя дал понять Джейн, что им пора уходить; но, пропустив девушку в приемную, он сделал шаг назад и посмотрел на Генриха. Этот взгляд как бы говорил: «Ну что, ваше величество, довольны ли вы мной и довольны ли ею?» – Ах, Кромвель, – проговорил вполголоса король, – она окончательно вскружила мне голову. Ей стоит захотеть… и я не посмотрю ни на кого на свете и возведу ее на английский престол! (обратно)Глава XXI Посвящение в рыцари
По приезде в Гринвич товарищи Уотстона проводили его немедленно в собор. Ночь уже наступила; церковь была пуста, и только одна лампа освещала ее потемневшие своды. Уотстон встал на колени на подушку, заранее для него приготовленную посередине храма. Затем его спутники удалились в глубочайшем молчании, и он остался один, для того чтобы обдумать все важные обязанности, которые возлагало на него посвящение в рыцари. Эта ночь, проведенная в уединении храма, называлась в ту эпоху ночью бдения. Уотстон молился долго, горячо и усердно; потом мало-помалу его мысли приняли другое направление; он вспомнил свою мать и ее советы и решил исполнить все, что она хотела. Время прошло незаметно, ночной мрак стал редеть, и вскоре первый луч восходящего солнца проник через ярко расписанные окна в собор. Убранство его было великолепно. Рыцарские знамена, стоявшие в два ряда, образовывали блестящее полотно разноцветных полос из дорогого бархата, расшитого серебром, золотом и шелками. Эти эмблемы мужества стояли в Божьем храме, дожидаясь, когда их опять понесут на поле битвы; лучи солнца скользили по мечам, тяжелым серебряным и золотым кистям, по ярким шарфам, перевязям, шлемам и другим принадлежностям одеяния рыцарей, хранившимся в соборе для торжественных случаев посвящения новых и испытанных членов. Учреждение рыцарского звания было вызвано искренним религиозным чувством и желанием принести пользу человечеству, и на рыцарей смотрели почти с благоговением. Обряд посвящения совершался всегда с особенной торжественностью. Так же как при крещении, новичку назначался достойный наставник. Новичка стригли в кружок, как стриглись духовники, и просвещенный приобретал права, равные с правами святых отцов. Его вели в баню, чтобы очистить тело его, а исповедь снимала с души все грехи его юности. Он принимал причастие и проводил все время, оставшееся до начала обряда, в полном уединении, за усердной молитвой. Нужно добавить, что к посвящению в рыцари допускались только те, кто успел доказать свое мужество в кровопролитных битвах и чье имя не было запятнано. Когда солнечный свет озарил своды церкви, на прекрасном лице молодого Уотстона появилась улыбка беспредельного счастья. Почти следом за тем двери храма открылись, окрестности огласились колокольным звоном, и рыцари медленно вошли в церковь. Впереди шли наставники Уотстона, а за ними его товарищи: Рочфорд нес его меч, а остальные – доспехи на бархатных подушках с золотыми кистями. Сердце Уотстона билось: он имел все, что судьба дает своим избранникам: состояние, молодость и блестящее положение в обществе; будущее представало перед его мысленным взором рядом блаженных дней, и ничто не омрачало ясности этой благословенной, торжественной минуты. Раздались звуки труб, собор заполнили разряженные леди и надменные лорды; вошли и духовники в роскошном облачении; из золотых курильниц поднимались под высокие своды храма волны благоухающего золотистого дыма, везде сверкали латы и шлемы с развевающимися белоснежными перьями. На улицах, примыкающих к старинному собору, раздавался громкий бой барабанов и слышался веселый непрерывный говор народа, окружившего церковь задолго до рассвета. Когда шум и суета заметно поутихли и прибывшая публика заняла отведенные места, Уотстон медленно подошел к алтарю и преклонил колени около герцога Норфолка, который принял меч, принесенный Рочфордом, и совершил ритуальное лобзание. Оживление Уотстона сменилось каким-то безотчетным волнением; глаза его невольно обратились туда, где разместились гордые и нарядные леди, но он не нашел того, что искал: в этой массе блестящих и дорогих нарядов не было черного платья, в которое его возлюбленная мать облеклась на всю жизнь после смерти мужа. Молодой человек побледнел и вздохнул. «Моя мать подобна душистому цветку в пустыне, – подумал он невольно. – Его никто не видит и не может оценить; она не захотела присутствовать на нынешнем торжестве, чтобы не быть предметом всеобщего внимания, но мне все-таки больно не видеть ее здесь». Раздумье его было непродолжительным. – Встаньте! – сказал ему торжественно Норфолк, подняв внезапно великолепный меч, перевязанный шарфом. Уотстон повиновался. – Возьмите этот меч! – продолжал старый герцог. – Постарайтесь найти в нем надежного и верного товарища! Если вы обнажите его для того, чтобы отомстить за свою оскорбленную честь и защитить правое дело, то разите им смело, пока не одержите победу над врагами. Норфолк опустил меч, и Уотстон приложился губами к лезвию, а потом к рукояти. – Помните, – сказал герцог, – что его рукоять изображает крест. Христос умер на нем, чтобы одержать победу над смертью и грехом, и вы должны бороться, не щадя своей жизни, против зла и порока! Вы, Артур Уотстон, достойны того звания, которое получаете, и я вполне уверен, что вы не замедлите доказать нам на деле, что понимаете значение благородства и еще более укрепитесь в решимости проливать свою кровь за веру и за родину! – Да, милорд, слова ваши сбудутся именно потому, что я твердо решил брать с вас во всем пример, – отвечал с увлечением молодой человек. Старый герцог Норфолк надел на него перевязь и прикрепил к ней меч. Затем к Уотстону подошел рыцарь и надел на него панцирь чудесной работы. – Этот панцирь, – сказал он, – вменяет вам в обязанность слушаться во всем голоса совести и рассудка и стараться прославить свое имя ратными подвигами и безупречной жизнью. Второй рыцарь надел на него блестящие латы и произнес торжественно: – Помните, что под этими латами должно биться отважное, благородное сердце, которому чужды мелкие или корыстные чувства. Третий рыцарь приблизился и прикрепил к ногам его железные поножи. – Знайте, – сказал он, стягивая ремни, – что вы обязаны являться, не теряя ни минуты, на помощь к угнетенным, гонимым и несчастным, не требуя за это похвалы и наград, и поступать всегда справедливо и честно. Вошел четвертый рыцарь, он держал в руке шпоры из червонного золота, носить которые разрешалось в то время только рыцарям; оруженосцам предоставлялось право носить серебряные шпоры. Церемония прикрепления этих золотых шпор к сапогам посвящаемого в почетный орден рыцарства выполнялась нередко девушкой или дамой. – Вы, может быть, желали бы, – сказал четвертый рыцарь, намекая Уотстону на это обстоятельство, – чтобы особа, близкая и дорогая вам, надела эти шпоры, но я во всяком случае рад сделать это сам. Позвольте же напомнить вам, что с этой минуты вы обязаны, подчинять каждый свой поступок указаниям чести, разума и любви к ближнему. Когда церемониал одевания Уотстона в рыцарские доспехи был уже совсем окончен, оглушительный звон, раздавшийся с древней соборной колокольни, возвестил всем присутствующим о начале обедни. Почти следом за тем в храме раздались торжественные звуки церковного органа, которые слились с хором стройных, молодых голосов. Толпа с благоговением преклонила колени и начала молиться. Но как только священник, совершив литургию, благословил присутствующих, на улицах снова раздался бой барабанов. Тогда герцог Норфолк выступил из круга рыцарей, и Артур Уотстон упал перед ним на колени. Старый воин был тронут: у него тоже были взрослые сыновья; он посмотрел почти с отеческой нежностью на этого красивого, благородного юношу, на его светло-русые волосы и, наклоняясь к нему, тихонько ударил три раза по плечу своим острым мечом. – Во имя всемогущего, всевидящего Бога, святого Михаила и святого Георгия возвожу тебя в рыцари, – произнес Норфолк тихо, но отчетливо. Когда Артур Уотстон по приказанию герцога приподнялся с колен, последний поцеловал его и с чувством сжал в объятиях. Невозможно изобразить тот энтузиазм, который овладел в эту минуту публикой: старинный собор огласили восторженные крики, все взоры обратились на стройную фигуру молодого Уотстона и на седые волосы почтенного герцога; все старались протиснуться вперед, для того чтобы сказать им слово поздравления. Но не прошло и минуты, как волнение стихло будто по волшебству; движение прекратилось, толпа остановилась, словно приросла к месту, и ее воодушевление моментально сменилось благоговейным трепетом. Уотстон в сопровождении своего наставника приближался к аналою, окруженному духовенством, чтобы подтвердить данные им в то утро обеты присягой на Евангелии. – Клянетесь ли вы, рыцарь, – спросил его священник, – отдать всего себя на служение Господу, исполнять Его заповеди, защищать всеми силами христианскую веру и умереть, но не отречься от нее? – Клянусь служить Господу до конца моей жизни, – ответил Уотстон и затем произнес требуемую при таких обстоятельствах клятву. Она была очень серьезна и торжественна: – «Я клянусь защищать права вдов и сирот и отстаивать их с оружием в руках. Я клянусь в вечной верности моему государю и буду проливать свою кровь за него и за родину. Я клянусь не повредить никогда моим ближним ни словом, ни делом, никогда не присваивать чужого достояния и защищать его от тех, кто решился бы посягнуть на него. Я клянусь отрешиться от себялюбия и желания наживы и никогда не следовать внушениям корысти, а поступать так, как велят долг и совесть. Я клянусь обнажать этот меч только за правое дело или для пользы общества. Я клянусь, что буду слепо повиноваться моему вождю и исполнять то, что он прикажет мне. Я клянусь дорожить честью моих товарищей, как своей собственной, и не стараться возвыситься над ними или претендовать на их право к возвышению. Я клянусь, что не нападу на противника, когда он будет один, а я с сопровождающим, и не стану устраивать засаду моему врагу. Я клянусь не носить потайное оружие и выходить на бой только с мечом. Я клянусь, что когда буду на турнире или ином состязании, то мой меч не коснется никого острием». Уотстон умолк на минуту, чтобы перевести дыхание, и потом продолжал все так же твердо и спокойно: – «Я клянусь, в случае если буду побежден на турнире, выполнить все условия поединка без всяких послаблений и вручить победителю и лошадь и оружие, если он пожелает, и, кроме того, не осмелюсь вступать ни в какое сражение без его разрешения. Я клянусь, что буду почитать и любить тех, с кем буду делить заботы и опасности, помогать им и поддерживать их, а также никогда не вступлю в состязание на турнире, прежде чем не узнаю, с кем я вступаю в бой. Произнеся обет или дав обещание отправиться в дорогу, я ни на минуту не расстанусь с оружием, за исключением времени сна. Пустившись в странствование, я обязуюсь ехать напрямик, какой бы неровной и опасной ни была дорога; я не сверну с нее, дабы избежать встречи с могущественными рыцарями или хищными зверями, и не остановлюсь ни перед каким препятствием, преодолеть которое под силу человеку. Я не позволю себе принять от чужестранного монарха или принца ни награды, ни титула, чтобы не оскорбить этим свое отечество. Если мне поручат командовать отрядом вооруженных людей, то я обязуюсь строго соблюдать дисциплину, не допускать насилия и преследовать зло с неутомимым рвением. Если мне придется сопровождать замужнюю женщину или девушку, то клянусь ограждать их от всяких оскорблений и от всяких опасностей, хотя бы мне пришлось поплатиться за это жизнью. Если в числе людей, попавших в плен, окажутся женщины, я обязуюсь взять их под мое покровительство и не дерзну сказать им ни единого резкого или вольного слова. Если мне поручат или я предприму по доброй воле какое-нибудь важное и полезное дело, то я буду следить с неусыпным вниманием за его исполнением и достигну желаемого результата, если только не буду отозван для защиты отечества. Если я дам обет совершить трудный и блестящий подвиг, то клянусь, что меня не устрашат ни трудности, ни борьба, ни опасности. Я клянусь держать данное мною слово; если меня возьмут в плен, а потом разрешат вернуться на родину с условием заплатить выкуп, я обязуюсь выполнить договор; если я не сделаю этого, то вернусь в неволю, а если я не сделаю того, что обещал, то признаю за всяким право назвать меня лжецом, недостойным благородного звания рыцаря. Окончив странствия по чужбине, я клянусь вернуться к моему государю и дать ему подробнейший отчет о путешествии, если даже какие-то события выставляют меня в неприглядном свете. Если же я прибегну к обману и скрытничеству, то буду недостоин звания дворянина и рыцаря». После этих слов к Уотстону подошел пожилой рыцарь и вручил ему щит, на котором был выгравирован его фамильный герб. – Даю вам этот щит, – произнес он торжественно, – для того, чтобы он ограждал вашу грудь от вражеских ударов, так как ваша особа дорога королю, нашему повелителю, и вашему отечеству! На щите этом выгравирован герб Уотстонов, для того чтобы вы вспоминали почаще о заслугах и подвигах ваших дорогих предков; старайтесь быть достойным потомком этих мужественных и великих людей и увеличить, если возможно, славу, приобретенную ими на поле брани. Докажите, что род ваш подобен тем водам, которые идут от истока, разрастаясь все более, и образуют быстрый и шумный поток. После этого другой рыцарь подал Уотстону шлем. Молодой человек надел его немедленно, как бы желая показать, что для рыцаря шлем дороже короны. Церемониал закончился, духовенство пропело хвалебный гимн Создателю, и толпа начала выходить из собора. Уотстона ожидал невдалеке от паперти лихой чудесный конь. Он был покрыт богатым пунцовым чепраком с подкладкой из белого блестящего атласа, чепрак был заткан фамильными гербами благородного рода, от которого происходил Уотстон, и гербы эти, расшитые золотом и шелками, ослепительно блестели под ярким солнцем. Лошадь ржала и била копытами о землю, но осанистый рыцарь, поседевший в сражениях, держал ее за поводья и заставлял подчиняться своей изумительной силе. Рыцари тем временем вышли уже на паперть. Впереди всех шли старый герцог Норфолк и молодой Уотстон. Когда они медленно спустились по ступеням широкого крыльца, старый рыцарь, державший прекрасного коня, подвел его к Уотстону; молодой человек, несмотря на всю тяжесть своего вооружения, не прикоснулся к стремени и вскочил в седло с удивительной ловкостью. Все глядели на молодого, стройного и красивого всадника и его длинногривого и гордого коня. В воздухе раздались восторженные крики: – Бог да благословит путь ваш, рыцарь! – гремели тысячи голосов. – Да ниспошлет Он вам силу одолеть врагов нашей отчизны! – Да сохранит Он вас посреди жарких сражений! Артур Уотстон был тронут до глубины души: слезы сверкнули в его синих глазах. Все рыцари проворно вскочили на коней, толпа заволновалась, и все двинулись к площади, где должен был вскоре начаться ожидаемый с нетерпением турнир. (обратно)Глава XXII Турнир
Время близилось к полудню; солнце ярко светило; на прекрасной обширной Гринвичской равнине пестрели тысячи изящных павильонов: одни изображали походные палатки, другие – причудливые китайские беседки с легкими колокольчиками, звеневшими при каждом дуновении ветра, и с дорогими вазами, наполненными свежими и яркими цветами. Между ними виднелись искусственные гроты, обложенные мхом; фонтаны самых разных конструкций распространяли в воздухе свежесть и аромат душистых вод. Из тени деревьев, увешанных плодами, выглядывали хорошенькие сельские домики, далее возвышались языческие храмы с золочеными кровлями, виднелись редкие тропические кустарники, крытые аллеи вели в громадный зал, уставленный столами, где должен был начаться после окончания турнира пышный и шумный пир. Кроме иллюминации и прекрасного фейерверка для пирующих были приготовлены разные сюрпризы и забавы. Так, после первых блюд в зал пиршества должны были явиться три чудовища, из которых одно, длиной в сто футов, было снизу доверху покрыто чешуей из серебра изящной и дорогой работы; на чешуе были искусно сделаны глаза из чудесных блестящих изумрудов. Этот морской гигант нес на своей спине обломок скалы, покрытый кораллами; на обломке сидели нимфы, одетые в золотую парчу, обшитую жемчугом и убранную кораллами; одна из этих нимф, сидевшая на троне из цветов, изображала Англию. На костюме ее цвета небесной лазури были вышиты серебром волны, что символизировало владычество королевства над бурной стихией; ее голые ножки опирались на щит, изображавший английский национальный герб. Безобразное тело морского чудовища было обвито толстыми золотыми цепями, но каждая из них была прикреплена обоими концами к коралловому поясу, который обвивал стан грациозной нимфы; в руках у нее была красивая корзина, наполненная чудесными плодами и цветами. На корзине было написано, что Анна Болейн превосходит своей красотой всех земных королев. После этой группы появлялся сам Нептун на четырех рыбах огромного размера, из-под жабер которых летели брызги чистой, прозрачной и душистой воды. Вслед за Нептуном на гигантском ките вплывала гордая морская царица. Платье из серебристого газа не скрывало ее маленькие нежные ножки, на голове ее блестела диадема из бриллиантовых звезд, и она прижимала к сердцу солнце, сделанное из золота; на солнце красовались вензеля короля и королевы Англии и было написано, что блеск царствования Генриха затмевает блеск солнца. Вторая часть программы должна была начаться появлением двенадцати крылатых лошадей, на которых сидели грациозные амуры в розовом одеянии; за ними торжественно следовали лесные божества в виде больших гобоев, украшенных венками; шествие замыкали крылатые зефиры в белоснежных туниках из блестящего газа, они несли корзины, наполненные яркими душистыми цветами, а за ними бежали козы, вепри и лани. В третьей части программы перед пирующим обществом шествовали девять статных рыцарей в роскошном одеянии. Они изображали великих деятелей древнего мира: Иосию, Давида, Иуду Маккавея, Гектора, Александра Великого, Юлия Цезаря, Карломана, Готфрида Бульонского и Артура, короля бриттов. Артур должен был нести громадного павлина; шею гордой птицы украшало чудесное баснословно дорогое ожерелье, и королева Англии была обязана вручить его тому, кто победит на турнире, в то время как герольды будут бросать народу золотые монеты и возвестят о подвиге. За королем Артуром должны были идти знаменитые рыцари Круглого стола: Ланцелот дю Лак, Гектор Демарн, доблестный Лионель, Тристан де Леонуа, Гро, сенешаль Артура, и его коннетабль Бодуае, рыцарь Сегурадас, храбрый рыцарь Сакрмор и король Фарамонд с лазоревым щитом, на котором были видны три лилии, а под ним девиз: «Эти цветы дадут много чудесных бутонов!» Одеяние рыцарей, как мы уже сказали, отличалось изяществом и роскошью; многие из них должны были приветствовать королеву стихами, в которых воспевалась ее дивная красота. Анна Болейн была еще предметом поклонения английского двора, но любовь к ней надменного повелителя Англии угасла и сменилась непримиримой ненавистью. В центре сада, разбитого на Гринвичской равнине, находилось ристалище, обнесенное легким золоченым барьером, по углам которого стояли красивые и высокие башни. Вокруг ристалища тянулся большой вал с широкими воротами, расписанными гербами королевской фамилии. Участники турнира должны были коснуться этих ярких гербов, перед тем как вступали в единоборство. Стены вала были сделаны наподобие римских цирков – тройной ряд лож, скамьи, спускавшиеся постепенно к ристалищу. На правой стороне, в самом центре, находилась большая королевская ложа под легким балдахином превосходной работы. По боковым лестницам, устланным пушистыми восточными коврами, можно было спускаться на арену. В галерее, устроенной над королевской ложей, находились маршал и судьи турнира; в других же галереях, тянувшихся от нее, размещались представители дворянства; в первом ряду сидели руководители местной администрации и почетные граждане, и народу, толпившемуся за оградой далеко от арены, удавалось увидеть, конечно, очень немногое, но это не мешало толпе расти и расти и заполнять обширную Гринвичскую равнину. Все с нетерпением ждали приезда короля и королевы Анны, и стража с трудом оттесняла людей от лондонской дороги, по которой они должны были проехать со своей блестящей свитой. Волнение в толпе росло с каждой минутой. Через некоторое время вдали показалось облако пыли. – Вот они! Вот они! – загалдели все при виде йоменов, скакавших перед коляской королевы. Народ был недоволен тем, что происходило в стране. Упразднение многих древних монастырей увеличило число бездомных и нуждающихся; недовольство Анной Болейн разрасталось все шире и шире, но и об этом забыли в такой радостный день: погода была чудесная, вино лилось рекой, и каждый имел право на прекрасное даровое угощение. Экипаж королевы между тем все приближался; народ встретил его приветственными криками; все, кто готовился участвовать в состязании, вскочили на коней. Оруженосцы бегали и толкали друг друга; суета увеличилась, и герольды, стоявшие по углам еще пустой арены, торжественно возвестили о начале турнира. Почти в ту же минуту Анна Болейн вошла в королевскую ложу. При ее появлении мужчины сняли шляпы, а дамы встали с мест. Королева окинула спокойным, ясным взглядом блестящее собрание и слегка поклонилась направо и налево с непринужденной грацией; на щеках ее вспыхнул живой, яркий румянец, прекрасные глаза ее, голубые как небо, засияли еще сильнее; ее русые шелковистые кудри спускались из-под сверкающей бриллиантовой короны на белое как снег, убранное золотом и яхонтами платье. Анна Болейн была прекрасна в этом воздушном платье, в сверкающей короне и в длинной алой мантии, подбитой горностаем. Восторженные крики огласили прекрасную Гринвичскую равнину. В числе придворных дам, сопровождавших королеву, находились и мать ее, графиня Уилширская, и жена ее брата, некрасивая и надменная леди Рочфорд. Среди фрейлин, вошедших в королевскую ложу, была очаровательная Джейн Сеймур. Она не надела то роскошное платье, которое принес ей накануне Кромвель, а предпочла ему белое тарлатановое и букет бледно-розовых душистых жасминов. Желая тем не менее угодить королю, Джейн надела чудесное ожерелье – первый подарок Генриха – и украсила грудь бриллиантами, полученными ею вместе с бальным платьем. Фрейлины не успели рассесться по местам, когда Генрих VIII медленно вошел в ложу. Присутствующие обратили внимание сначала на тучность короля, на изысканность и великолепие его наряда, но потом все пришли к убеждению, что повелителя Англии угнетает какое-то тревожное чувство и что время оставило на лице его неизгладимый след: оно сделалось строже и суровее прежнего. Поклонившись блестящему собранию, король сел в кресло, тут же раздались звуки труб и литавр, судьи вскочили с мест, и на арену выехала толпа вооруженных, статных и ловких всадников. Толпа встретила их восторженными криками, любуясь их богатым, блестящим одеянием, превосходным оружием и чудесными конями под чепраками, шитыми серебром или золотом и украшенными гербами и девизами. Впереди всадников шел отряд трубачей в красных бархатных куртках с широкими золотыми поясами, а вслед за ними двигались оруженосцы со знаменами в руках. На знамени Рочфорда, открывавшего турнир, был изображен золотой орел на лазурном поле, а под ним коротенький девиз: «Ничто не в состоянии смутить меня!» На знамени нападающего, сэра Генри Норриса, было вышито золотом сердце на красном поле и с обеих сторон красовался девиз: «Мужество и любовь – в сердце!» Граф Рочфорд был одет с царской роскошью; он ехал рядом с Норрисом на своем кровном дорогом скакуне. Полукафтанье Норриса из пунцового бархата было расшито жемчугом, и злые языки утверждали, что все эти зигзаги изображали букву А, первую в имени королевы, любившей молодого и прекрасного юношу так же нежно и пламенно, как он любил ее. За этими двумя молодыми вельможами следовала толпа герцогов и баронов в роскошных одеяниях, украшенных разноцветными драгоценными камнями. Среди сиятельных вельмож ехал герцог Саффолк на арабском коне, покрытом белоснежным бархатным чепраком; пажи его явились в платье из дорогого бархата того же цвета, расшитого серебром; сбруя их лошадей была сделана из серебра, и головы животных убраны, точно так же как береты пажей, разноцветными перьями. Невдалеке от герцога ехал Артур Уотстон. На знамени его под фамильным гербом был вышит, по желанию его достойной матери, девиз: «Честен и в битве, и в любви!» Вслед за Уотстоном ехали лорд Клиффорд Голанд, Беркли, Мармион, граф Бетфордский Руссел, лорд Парр, рыцарь Паулет, оба лорда Уэнтворта, Маннерс, граф Рэтлендский. Поместья последних граничили с поместьями графа Нортумберленда в Нортумберлендском графстве, а также в Йоркшире. Кавалькада объехала трижды громадное ристалище, каждый раз останавливаясь перед королевской ложей, чтобы отдать честь своим повелителям. Затем все разделились на группы; всадники разместились по разные стороны арены в установленном законами турнира порядке. Герольды возвестили о начале игр, которые всегда предшествовали единоборству, и внимание публики переключилось на конную кадриль, которую уже начали танцевать на ристалище. Воспользовавшись этим, граф Эссекский вошел в королевскую ложу. – Ну что? – спросил его вполголоса король. – Он сознался во всем, – отвечал лорд Кромвель. – Сознался? – произнес с изумлением король. – Да, только просил пощадить его жизнь. – Ну да, как бы не так! – сказал Генрих VIII. – Презренная, бесчестная, падшая женщина! – процедил он сквозь зубы. Он бросил взгляд, исполненный ненависти, на королеву. – Итак, вы утверждаете, что Марк во всем сознался? – Во всем, ваше величество, – ответил граф Эссекский. – А невестка ее? Ей тоже все известно? – проговорил король, указав глазами на графиню Рочфорд, которая сидела между своей свекровью, графиней Уилширской, и королевой Анной. – Да, и она, конечно, подтвердит все показания Марка. – Подтвердит? – произнес машинально король, устремив внимательный взгляд на лицо леди Рочфорд, поблекшее лицо со впалыми глазами, на котором честолюбие, зависть и враждебность оставили неизгладимый след. Но графиня смотрела в это время на игры, и Генриху VIII не удалось прочесть ничего в ее злых и фальшивых глазах. Он посмотрел на ложу, в которой находились самые именитые лорды королевства. – Вот люди, на которых я возложу обязанность судить Анну Болейн, – сказал он, наклонившись к графу Эссекскому. – Мне даже не придется утруждать себя выбором. Кромвель, я решил отомстить за себя! – Вы вправе это сделать… Вы слишком оскорблены… Кстати, ваше величество, лорд Перси привезен пять минут назад под стражей в Гринвич… – Как – в Гринвич? – произнес с удивлением король. – Да, – подтвердил Кромвель, – дворянин, на которого вы возложили обязанность привезти его к вам, не застав вас в Виндзоре, нашел нужным исполнить приказание буквально. – Ну так что же? Тем лучше. Нортумберленд увидит наш блестящий турнир! – сказал Генрих VIII, сдержав готовое вырваться наружу желание мести. Кромвель говорил правду: дворянин и йомены, посланные за Перси, доставили его в Гринвич и ввели в ложу, что была как раз напротив королевской ложи, выразив сожаление, что не могут провести его в галерею для сиятельных лордов, так как там не было места. Перси не отвечал на все эти любезности; он был ошеломлен, как узник, просидевший несколько лет в глубоком и темном подземелье и вышедший внезапно на равнину, залитую ярким солнечным светом. Он окинул взглядом ложи и арену и понял, что случайность вернула его неожиданно к той пышной и вечно праздной жизни, с которой он расстался, чтобы перебраться в глушь родового поместья. «Она должна быть здесь!» – подумал он невольно. Эта мысль примирила его с неприятной действительностью; он поднял голову, и по телу его пробежал легкий трепет, когда он увидел Анну Болейн во всем блеске ее волшебной красоты, во всем великолепии королевского сана. В душе Нортумберленда не померкли ощущения, пережитые у гроба Екатерины; он сравнил ушедшую из жизни королеву с ее цветущей соперницей, и мысли его невольно перенеслись к давно минувшим дням. «Это ли, – думал Перси, глядя на восхитительное, оживленное лицо молодой королевы, – та кроткая, застенчивая, непорочная девушка, которая сияла, подобно лучезарной звезде, над моей так быстро промелькнувшей молодостью? Нет, нет, это не ты, моя прежняя нежная, возлюбленная Анна!» Лорд опустился в кресло у борта своей ложи, обитой алым бархатом, затканным английскими гербами; прекрасное лицо графа Нортумберленда страшно побледнело, и сердце его сжалось от безотчетной мучительной тоски; но никто не заметил ни волнения Перси, ни его бледности. Внимание громадного блестящего собрания было всецело обращено на арену или, вернее сказать, на то, что там происходило. Прошло около часа, а лорд Перси все еще сидел совершенно неподвижно. Громкие крики ужаса вывели его из оцепенения. Игры были окончены, и граф Рочфорд вступил в единоборство с Норрисом. Оба горели желанием отличиться перед нарядной, блестящей публикой. Они три раза возобновляли нападение; яркие чепраки были покрыты пылью и забрызганы кровью, так как грудь лошади Рочфорда пронзил осколок копья, но победа, по-видимому, еще не сделала свой выбор, так как оба противника одинаково владели искусством наносить и отражать удары и были одинаково ловки, сильны и храбры. Но когда под громкие звуки труб граф Рочфорд в четвертый раз напал на сэра Генри Норриса, то нанес ему такой страшный удар, что и всадник и конь упали на арену. Когда облако пыли рассеялось, публика увидела на песке разбитый шлем Норриса и его окровавленную голову. Раздались восклицания испуга и сочувствия; все женщины вскочили с мест; прекрасное лицо молодой королевы стало бледнее мрамора; она кинулась к борту своей роскошной ложи, и лорд Перси увидел, что она или бросила, или, быть может, уронила свои вышитый платок с кружевной отделкой превосходной работы. Одним из обычаев той эпохи был обычай, согласно которому женщина, желающая выказать расположение или сочувствие одному из сражающихся на ристалище, имела право бросить ему какую-нибудь вещь: браслет, бантик, кольцо, другую безделицу; тот, кто получал этот дар, прикреплял его к шлему или полукафтанью; считалось вообще делом чести отнять эту награду у противника и положить к ногам любимой женщины. Вспомнила ли этот обычай Анна Болейн или, дрожа от волнения, уронила платок нечаянно, но он покружился в воздухе и упал на арену около Генри Норриса. Молодой человек поднял его поспешно и поднес с благоговением к своим бледным губам; из всех лож послышались приветственные крики: красивый, благородный и отважный Норрис был всеобщим любимцем. Его падение и страх за его жизнь взволновали всех, и присутствующие были признательны молодой королеве за ее деликатное внимание к побежденному: лица всех просияли, но радость сменилась восторгом, когда Норрис вскочил на прекрасного коня, которого подвел ему оруженосец, и надел новый шлем с белоснежными перьями; рукоплесканья, шумные пожелания счастья и радостные крики огласили Гринвичскую равнину. Но повелитель Англии отнесся далеко не сочувственно к разыгравшейся сцене; он считал унизительными для своего достоинства эти восторженные овации Норрису; им овладело беспредельное бешенство: внезапно он встал с места. – Кончить эту комедию! – произнес он отрывисто, указав Кромвелю глазами на ристалище, и отправился из своей ложи в отдельную, смежную с ней комнату. – Куда ушел король? Не заболел ли он? – стали шептаться в ложах и на галереях. Анна Болейн, все время смотревшая на арену, случайно оглянулась и, заметив отсутствие своего повелителя, тоже вышла из ложи; но не успела она подойти к смежной комнате, как ловкий граф Эссекский запер ее на ключ. – Король, мой повелитель, просит вас сейчас же вернуться во дворец! – объявил он спокойно и отчетливо. – Вернуться во дворец… и одной… без него?.. – проговорила Анна с глубоким удивлением. – Да, – подтвердил Кромвель. – Разве я не могу войти к его величеству? – Нет, король объявил, что желает остаться на некоторое время в полном уединении. – Граф Эссекский! – воскликнула с тревогой королева, устремив на него свои ясные глаза. – Скажите откровенно, что стоит за этой странной выходкой: болезнь короля или просто каприз? – Вы просите меня быть откровенным, – отвечал граф Эссекский с улыбкой, исполненной глубокого злорадства, – и я скажу вам правду: потрудитесь взглянуть на прелестную девушку, которая стоит и ждет вас около ложи! Полюбуйтесь ее жемчужным ожерельем и ее обольстительной, роскошной красотой!.. Не пройдет и двух-трех месяцев, как на этой прекрасной и грациозной головке будет сиять английская корона! (обратно)Глава ХХIII Падение с высоты
Ночь окутала землю непроходимым мраком; по темным водам Темзы медленно плыла барка. Гринвич давно исчез из виду; одинокий фонарь на самом верху барки светил, как маяк, в полной темноте; небольшой белый парус помогал усилиям шестнадцати богато и причудливо одетых гребцов; на его плотной ткани красовались гербы королевской фамилии. Убранство барки показывало ясно, что владелец ее любит комфорт и роскошь. На барке была прелестная небольшая каюта, озаренная светом великолепной люстры из горного хрусталя: она была задрапирована голубой материей, на которой сияли звезды из белого шелка; на низенькой кушетке, стоявшей в углублении, сидела Анна Болейн, погруженная, очевидно, в печальное раздумье. Она была в том же роскошном платье и в той же ослепительной бриллиантовой короне, только накинула в этот влажный и прохладный вечер черную газовую вуаль на свои шелковистые золотистые кудри и заменила королевскую мантию другой, более легкой и более удобной. Личико молодой королевы выражало покорность судьбе и глубокую грусть, что придавало ее нежным чертам чарующую прелесть. Выходка короля и разговор с Кромвелем заставили ее в первый раз, может быть, задуматься о будущем и заглянуть в прошлое; но в последнем она нашла только длинный ряд легкомысленных и безрассудных поступков; ей вспомнились невольно эшафот среди площади и на нем обезглавленные трупы Рочестера и Мора. Напротив Анны Болейн сидела восхитительная Джейн Сеймур с безмятежной улыбкой на розовых устах. Справа от нее утопал в глубоком кресле надменный граф Рочфорд, а слева устроилась его жена. Графа мучила, видимо, неотвязная и мучительная мысль: боясь гнева отца и зная, что сестра не в состоянии дать ему разумный совет, он скрыл от них свою ссору с Кромвелем, и это обстоятельство не давало ему покоя. Если Рочфорд и боялся мести графа Эссекского, то боялся, конечно, не за себя, а за свое семейство; внутренний голос твердил ему, что к ним приближается великое несчастье. Корысть и честолюбие графа Уилширского заставили его после долгой борьбы вступить в брак с нелюбимой, антипатичной ему женщиной. Не находя в семейной жизни ни покоя, ни счастья, он искал утешения в дружбе сестры и в тех блестящих почестях, которые ему оказывали после брака ее с королем. Под гордой и красивой наружностью Рочфорда таилась благородная и пылкая душа, чуждая низких и порочных стремлений; заносчивость, в которой его обвиняли, и честолюбие отражали лишь общий настрой окружавшей его распущенной придворной молодежи. - Четыре путешественника уже давно находились в прелестной каюте, но мысли их витали далеко; они сидели молча, обмениваясь изредка пустыми фразами. – Тебе жарко, сестра, – проговорил Рочфорд, чтобы сказать что-нибудь. – Не подать ли вам книгу? – предложила наивная Джейн Сеймур молодой королеве. – Да, вы ужасно бледны и заметно расстроены, – процедила графиня, злобно сверкнув глазами на мужа и невестку. А Темза катила свои глубокие и спокойные воды в беспредельное море; глубокое безмолвие, царившее над ее берегами, нарушалось по-прежнему только шумом весел шестнадцати гребцов. Прошло некоторое время, и наверху, на палубе, началось движение; барка остановилась, но только на секунду. Джордж Рочфорд привстал с места и посмотрел в окно: перед ним промелькнул фонарь парусной лодки, прошедшей мимо барки и умчавшейся вдаль с быстротой стрелы. Почти в ту же минуту дверь каюты открылась, и старый герцог Норфолк вошел в сопровождении лорда-канцлера Одли и первого министра. Граф Рочфорд вздрогнул при виде своего смертельного врага, а лицо королевы покрылось страшной бледностью при таком неожиданном появлении дяди; прекрасные глаза ее устремились невольно на прелестное личико Джейн Сеймур. – Леди Анна! – сказал без всяких предисловий старый герцог Норфолк. – Вы опозорили королевское ложе, и я явился сюда, чтобы арестовать вас и заключить в Тауэр. Вы опозорили мои седины, но я не пощажу ничего… ничего… даже вашу жизнь, чтобы отомстить за свою запятнанную честь!.. Старый герцог Норфолк задыхался от бешенства. Анна встала, холодная и бледная как мрамор: ее словно парализовало; язык отказался повиноваться ей. – Милорд! – произнесла она с мольбой. – Вы же сами не верите в то, что сказали… Я не виновата в том, в чем меня обвиняют!.. Презренная Сеймур! Это вы меня предали!.. Бог видит, я не в силах хранить дальше тайну!.. Вы даже не постыдились прибегнуть к клевете для достижения своих неблаговидных целей… Я должна умереть, чтобы вы удовлетворили свое гнусное честолюбие… – Не вините других! – перебил герцог повелительным тоном. – Вините во всем только себя, свою неблагодарность святому провидению, свое неуважение к обязанностям матери, жены и королевы. Помните, леди Анна, что если закон присудит вас к пожизненному заключению, то это наказание было бы слишком мягким для вас. Что же касается вас, – продолжал непреклонный и суровый Норфолк, обращаясь к Рочфорду, – то честный человек не позволит себе произнести ваше имя… – Милорд! Ни слова более! – воскликнул граф Рочфорд, схватившись за рукоять шпаги и обратив на Кромвеля прекрасные глаза с гордым и гневным презрением. – Мне бросают в лицо обвинение в бесчестии именно потому, что я не потерпел даже тени сомнения в моей честности; против меня сплетена самая возмутительная и низкая интрига по внушению личности, хорошо мне известной, я стал жертвой этого человека, а вы, герцог Норфолк, – его слепым орудием. Но есть Бог, и Его неподкупный и справедливый суд разоблачит все происки низкого интригана, который имел дерзость явиться сюда с вами и лордом Одли; я вверяю себя Его святой защите! – Милорд, ваша запальчивость не изменит положения дел, – проговорил спокойно и холодно Кромвель. – Я исполняю волю моего государя и покорнейше прошу вас вручить мне вашу шпагу. – Да, отдайте ее! – заревел старый герцог. – Граф Эссекский обязан исполнить приказание своего короля. Отдайте же ему шпагу, и если вы действительно окажетесь виновным, то я молю Всевышнего, чтобы вас постигло наказание, которым закон карает всех предателей. – Вот она, моя шпага, но я не допущу, чтобы вы загрязнили ее своим прикосновением! – воскликнул Джордж Рочфорд, отводя от нее руку графа Эссекского. Клинок сверкнул как молния и, вонзившись в паркет, разлетелся на части. – Возьмите! – произнес молодой человек, подавая Норфолку рукоять изуродованного дорогого оружия. – Но горе тем, кто сгубил мою молодость и покрыл позором мое доброе имя! Эти слова вызвали в душе леди Рочфорд до сих пор незнакомое ей чувство горького и жгучего страдания. Трепет ужаса пробежал по всему ее телу, и лицо ее стало белее полотна. Прошлое внезапно предстало перед ней, и графиня поняла, что ее подозрительный и ревнивый характер помог графу Эссекскому достичь своей цели и обесславить Рочфорда и все его семейство. Эта гордая и своевольная женщина смиренно и печально опустила голову на грудь; убитая сознанием своей вины, графиня не решалась обратиться ни к мужу, ни к своей молодой и ни в чем не повинной невестке. Волнение королевы росло с каждой минутой. – Лорд Кромвель!.. Граф Эссекский! – воскликнула она, судорожно рыдая. – Почему же вы, наш верный и давний союзник, не отвергли такую клевету и не оправдали меня в глазах еговеличества?.. Ведь вы отлично знаете, что я невиновна в том, в чем меня обвиняют!.. Я была легкомысленна, любила удовольствия… но я не позволила себе ни одного поступка, за который могла бы краснеть перед людьми и собственной совестью… Вы же сами сказали мне сегодня на турнире, что король решил вступить в брачный союз с этой молодой девушкой, – добавила она, указав на свою миловидную фрейлину. – В брачный союз со мной? – произнесла с испугом Джейн Сеймур, и без того взволнованная и сильно опечаленная слезами королевы. – Ну да, конечно, с вами! Не притворяйтесь, что вы не знали этого! – сказала Анна Болейн, окинув ее гордым и презрительным взглядом. – Уверяю вас, что не знала, – отвечала спокойно и твердо Джейн. Но молодая девушка не успела договорить, как вспомнила о подарках короля и обещаниях хитрого интригана Кромвеля; сознание того, что она участвовала в заговоре против Анны Болейн, хоть и не ведая об этом, смутило ее, и бледное лицо Джейн покрылось лихорадочным, пылающим румянцем. – Джейн Сеймур! – сказала королева после минутной паузы. – Джейн Сеймур, – повторила она, и в голосе ее слышалась угроза, – несчастье, на которое вы обрекли меня, падет на вашу голову. Вспомните, ведь я всегда искренне желала вам добра; я пожалела вас и поспешила вызвать из уединенного и дальнего поместья ко двору; я обеспечила вам почетное положение в обществе и относилась к вам с искренней заботой. Что же могло побудить вас отплатить мне за это предательством?.. – Нет, я вас не предавала, – отвечала печально кроткая Джейн. – Я даже не произносила вашего имени во время свидания с королем. – Довольно и того, что вы позволили себе явиться на свидание, но я не требую от вас никаких объяснений… Я не унижу себя даже словом упрека. Негодование, мрачные предчувствия истощили физические и нравственные силы несчастной королевы; колени ее подкосились. – Джордж, дорогой мой брат… единственный друг, подойди ко мне! – воскликнула она с мольбой. – Один ты не обманешь и не предашь меня; все, кого ты видишь, мои непримиримые, смертельные враги!.. – Может быть, – отвечал хладнокровно Рочфорд. – Но, так или иначе, а я главный виновник и своего бесславия, и твоего несчастья… (обратно)Глава XXIV Роковое известие
Ночь окутала непроглядной тьмой улицы и переулки Лондона, и стрелки на часах церкви Святого Павла указывали ровно половину двенадцатого. В мрачном длинном строении, в глубине обширного двора, в комнате, освещаемой светом канделябров, сидела у окна женщина благородной наружности и прислушивалась к каждому звуку, каждому шороху, раздававшимся изредка на опустевших улицах. Но звуки доносились и замирали в воздухе, и нравственные муки этой бледной, встревоженной и утомленной женщины становились все сильнее и сильнее. – Ему уже давно пора ко мне приехать, а его еще нет! – повторяла она, всматриваясь в густую, непроглядную тьму. – Я даже не могу утешить себя мыслью, что Артур забыл о своем обещании. Если его здесь нет, здесь, на этом самом месте, где он вчера сидел, так это потому, что с ним случилось что-нибудь чрезвычайно серьезное… Мой сын, мое дитя! Мое сердце предчувствовало, что к нему приближается великое несчастье. Где же ты, мой Артур! Что с тобой, ненаглядный? Она вдруг встрепенулась и стала чутко прислушиваться, но прошло полминуты, и бледное лицо ее стало еще бледнее. Это не был желанный, ожидаемый гость; нет, какой-то прохожий брел по пустынной улице, напевая веселую песню. Один Бог только знал, какую жгучую боль вызвала эта песня в душе леди Уотстон. – Не он! – произнесла почти угасшим голосом огорченная мать. В нижнем этаже дома, как раз под той комнатой, где леди ожидала запоздавшего сына, пожилая служанка, с чрезвычайно добрым и приятным лицом, сидела за легкой прялкой; однообразный шум, производимый быстрым движением колеса, заставлял леди Уотстон уже несколько раз в продолжение вечера вставать с места с сильно бьющимся сердцем, но луч надежды гас очень быстро и сменялся томительной тревогой и тоской. Часы пробили полночь. – Теперь ждать нечего: он уже не придет, – сказала леди Уотстон, закрыв лицо руками. За длинным мрачным домом, молчаливым свидетелем ее былого счастья и пережитых ею тяжелых испытаний, находился большой, тоже старинный, сад, выходивший на большую и пустынную улицу, тоже прилегавшую к церкви Святого Павла. Как-то раз на этой улице произошла кража, и Уотстон с этих пор обзавелся двумя прекрасными собаками, чтобы оградить дом от подобных случайностей. Эти верные, преданные и умные животные любили своего молодого хозяина. Его служба при свите молодой королевы заставляла его жить отдельно от матери, ему даже не удавалось бывать у нее каждый день; но в те редкие дни, когда эта возможность появлялась, обе собаки знали уже за несколько часов о его посещении: их никак не могли отогнать от ворот; они рвались на улицу с громким радостным лаем или вбегали в дом, в комнаты леди Уотстон, терлись о ее ноги и лизали ей руки, как будто говоря: «Он сегодня придет, мы тебя не обманываем!» В вечер после турнира, когда мать ждала своего сына, лай бдительных животных раздавался не раз посреди тишины и вызывал у бедной леди Уотстон радостное волнение; но оказывалось, что лай этот не извещал о приезде Артура; раза два ей показалось даже, что она слышит глухое завывание – предвестник несчастья. Леди Уотстон считала подобную примету бессмысленной, и если бы ее сын находился сейчас дома, она не придала бы никакого значения завыванию собак; но страх за него, вызванный его непонятным отсутствием, сделал и ее суеверной: ей казалось, что тополи в саду, на берегах пруда, шумят как-то странно и таинственно и что даже во мраке и безмолвии ночи кроется что-то грозное и зловещее. Внезапный стук в ворота отвлек леди Уотстон от этих мрачных мыслей; забыв о своих летах и своей усталости, она взяла массивный серебряный подсвечник с горящей свечой и, спустившись по высокой и неудобной лестнице, выбежала стремительно к парадному подъезду. Почти в ту же минуту во двор въехал отряд вооруженных всадников, составлявших свиту Уотстона на турнире, но его самого среди них не было. Из груди леди Уотстон вырвался дикий крик. – Где мой сын, мой Артур? – воскликнула она. – Ранен он или умер? – Успокойтесь, миледи: он жив и здоров, – ответили ей разом несколько человек. – Так почему же он не приехал ко мне? На вопрос не последовало никакого ответа. – Говорите, Гектор! – сказала леди Уотстон, обратившись повелительно к начальнику отряда, смуглому человеку солидной и приятной наружности. Но старый воин не решался, по-видимому, исполнить приказание. – Не томите меня… скажите мне скорее, почему мой Артур не приехал с вами? – повторила с мольбой и отчаянием леди. – Молодой господин мой арестован сегодня и заключен в Тауэр! – ответил старый воин, закрыв лицо руками. – Признаюсь, я не ждал подобного удара!.. – Вы говорите – в Тауэр?! Что же сделал Артур? – Его арестовали и отвезли туда вместе с сэром Генри Норисом и еще джентльменом, фамилию которого я позабыл. Все толкуют о заговоре, и королева Анна… ну да что говорить! Я ничего не знаю! – добавил он отрывисто. Последние слова леди Уотстон уже не слышала. Весть об аресте сына сломила ее. Она упала в обморок, и ее отнесли на руках в спальню. – Живее, Джордж и Джеймс, расседлайте коней! – скомандовал Гектор. И как ни грустно было у него на душе, он не тронулся с места, пока не убедился, что конюхи исполнили его распоряжение. (обратно)Глава XXV Королевский приказ
Трудно передать словами, какое волнение охватило все население Лондона при вести об аресте молодой королевы, графа Джорджа Рочфорда и четырех дворян, занимавших высокое положение в свете. Страсти разгорались. Раздраженные казнью Мора и муками других не менее известных и благородных жертв, католики считали арест королевы наказанием Божьим за пролитую кровь; но приверженцы Лютера были сильно встревожены падением ее власти, так как в лице Анны Болейн они теряли чрезвычайно могущественного и верного союзника. Та и другая партии поспешили созвать своих приверженцев, чтобы лучше противодействовать друг другу. События развивались с такой быстротой, что сначала партии лавировали меж двух берегов, не зная, у какого им лучше бросить якорь; но вскоре все увидели, что королева Анна погибла безвозвратно, что король любит пламенно Джейн Сеймур, а Кромвель, граф Эссекский, всемогущ при дворе. Правильно рассчитав, что королева будет осуждена на смерть, так как Генрих VIII не мог при ее жизни вступить в законный брак с Джейн Сеймур, протестанты отправили депутацию к Кромвелю, прося его принять их под свое покровительство. Католики примкнули к национальной партии, во главе которой стоял влиятельный герцог Норфолк. Вскоре пронесся слух, что король повелел созвать совет судей для ведения процесса Анны Болейн и что в его состав войдут самые знатные и самые влиятельные из лордов королевства. Заточение несчастной молодой королевы и все подробности ее жизни стали с этого времени главной темой разговоров. Но и людское любопытство, и столкновение мнений, и беспорядки, которые устраивались под шумок в этой неразберихе, были, в сущности, лишь обычным результатом событий, вносящих неожиданно перемены в общественную жизнь. Однако тем не менее все происходящее усиливало пытку, от которой изнывала со дня ареста Анны душа Нортумберленда. Когда Генрих VIII неожиданно приказал остановить турнир и гордые леди и лорды начали выходить из галерей и лож, Перси вздумал отправиться в Лондон, где он имел дом, как и все знатные и богатые люди той давней эпохи, считавшие унизительным для своего достоинства не иметь жилья в столице. Дворянин, на которого возложили обязанность охранять ложу графа, без дальнейших инструкций не посмел возражать против его намерений, тем более что король уже уехал в Уайтхолл. По приезде в свой дом лорд Перси решил, что ему придется нанести визиты, но он был так разбит физически и нравственно, что отложил на время свое свидание со знатными и влиятельными людьми, на поддержку которых мог рассчитывать. Он прожил двое суток один со своими думами в многолюдном, огромном городе; он ждал ежеминутно гонца от короля, но гонец не являлся; он считал невозможным явиться ко двору, не узнав предварительно о намерениях своего повелителя; его тянуло прочь от этих шумных улиц и прокопченных зданий, но мысль оставить Лондон, где в Тауэре была заключена его единственная любовь, была для него тяжелее смерти. Это неопределенное странное положение лишало Перси энергии и выводило из терпения. Наступил третий день. Граф сидел в кабинете, когда к нему вошел тот самый дворянин, который охранял его ложу в Гринвиче; молодой человек подал ему пакет, запечатанный выпуклой королевской печатью. Нортумберленд осторожно вскрыл конверт; рука его дрожала от сильного волнения. Он прочел дважды содержание указа, и его выразительное прекрасное лицо страшно побледнело: король Генрих VIII предписывал ему состоять в числе лордов, созванных для суда над Анной Болейн. – Он судит по себе, – прошептал пораженный граф, с трудом сдерживая негодование. – Он, верно, воображает, что ревность, вызванная во мне благоволением к сэру Генри Норису, выказанным перед целым собранием, заставит меня действовать против нее, погибшей. Нет, король ошибается!.. Я действительно пережил нестерпимые муки, когда она, забыв данные мне обеты, стала женой другого. Но теперь королевский венец снят с ее головы… Она брошена всеми, ненавидима всеми, и будь она еще более виновна, чем считают все, я стал бы защищать ее перед целым светом!.. Анна… О, если все, что я слышал, не клевета… если в тебе действительно умерло чувство долга, то пусть Господь будет тебе судьей… а я сделаю все, что от меня зависит, чтобы скрыть твой позор от земного суда. – Да, позор! – повторил с содроганием Перси. – Творец земли и неба, зачем Ты допустил, чтобы она была отмечена роковым клеймом? Зачем Ты приковал мою жизнь к ее жизни и позволил ей отравить мою светлую молодость? Чем я заслужил такое испытание? – Он задумался и продолжал с пламенным увлечением: – О, мой Отец небесный, прости мне этот грешный и безрассудный ропот, возьми, отдай ей все – мою честь, мою будущность, и да будет над нами Твоя святая воля! Бумага и конверт давно соскользнули с колен Нортумберленда на пушистый ковер, но мысли его витали далеко; он провел целый день, не выходя из комнаты, не зная, на что ему решиться. Но с наступлением вечера к нему вернулись энергия и сила. – Решено, я поеду на заседание суда! – воскликнул он, вставая из глубокого кресла. – Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы спасти ее, и принесу ей в жертву, если это понадобится, не совесть, но жизнь. Я дам ей незапятнанное, знаменитое имя моих доблестных предков!.. Запомни эту клятву, старый отцовский дом! Ты давно опустел, но я люблю тебя как безмолвного свидетеля моего невозвратного и блаженного детства; в расцвете молодости я лелеял в твоих потемневших стенах золотые мечты… потом настали бури… Я давно схоронил все надежды на счастье… у меня ничего не осталось на земле… Но эти испытания не сделали меня холодным эгоистом, и если мне удастся стереть хоть одну из ее горьких слез, то я благословлю Создателя Вселенной за свою одинокую и бесцельную жизнь. (обратно)Глава XXVI Тауэр
Мрачное здание Тауэра и ближайшие к нему улицы выглядели как крепость, готовившаяся выдержать осаду или штурм: повсюду были войска; к узким окнам тюрьмы за ночь приделали железные решетки и дубовые ставни, которые мешали толпе увидеть, что делалось под ее массивными сводами. Можно было подумать, что Англии грозит великая опасность, но на самом деле весь этот арсенал сверкающего на солнце оружия был собран у Тауэра для борьбы с одинокой и беззащитной женщиной, бывшей еще вчера английской королевой, а на другой день отверженной и покинутой всеми. Везде слышались толки об убийствах, отравлениях, раскрытом заговоре; казалось, что вся злоба, свойственная роду человеческому, была направлена на этот небольшой уголок столицы Англии и что Анна Болейн одна совершила более преступлений, чем легион злоумышленников, рассеянных по свету. Рассказывали, что королева Анна по прибытии в Тауэр упала на колени и воскликнула с мольбой: «Помилуй меня, Господи!», что ее отвели в то отделение замка, где она провела, по древнему обычаю, весь канун того дня, в который совершилось ее коронование; говорили еще, что она не рассчитывает на пощаду и предается глубокому отчаянию. Эти вести жадно слушали и передавали дальше. Утверждали еще, что тюремные власти, согласно инструкциям, очень зорко стерегли камеры графа Рочфорда и молодых людей, арестованных Кромвелем, – к ним не пускали даже родных, им даже не разрешали уведомить близких о своем заключении. Однако, несмотря на бдительность стражи, несмотря на опасность, которая грозила нарушавшим приказ, с наступлением вечера в одинокую камеру, где томился Уотстон, тихо вошла женщина под плотной черной газовой вуалью. Ее босые ноги скользили по сырым и холодным плитам, ее руки дрожали как будто в лихорадке, и, когда провожавший ее старший тюремщик открыл перед ней дверь, она остановилась, чтобы перевести дыхание. Волнение тюремщика ясно показывало, какую страшную цену он заплатит за свое своеволие, если оно откроется. – Войдите скорее! – сказал он, обращаясь к трепещущей женщине. – Я вернусь за вами через пять-шесть минут. Она боязливо переступила порог и оказалась в непроницаемом мраке. – Где ты, Уотстон? – произнесла она почти беззвучно. – Боже мой! Это вы! – воскликнул радостно узник, заметавшись на койке. Леди Уотстон с трудом сдержала рыдание; она ясно расслышала бряцание цепей. – Ты, кажется, в оковах, – прошептала она с невольным содроганием. – Но отвечай, где ты? – Здесь, здесь… идите прямо, – ответил торопливо молодой человек. Она пошла вперед, и колени ее коснулись вскоре края полусгнившей койки, служившей ложем узнику; ее бледные руки обвились со страстной нежностью вокруг шеи Уотстона, и горячие слезы покатились из глаз ее на его шелковистые светло-русые кудри. – Артур, дитя мое, как ты попал сюда? В чем тебя обвиняют? – шептала она тихим срывающимся голосом. – Мой сын, мое сокровище!.. Душа моя разбита, я не в силах выразить мою скорбь… Неужели ты мог так внезапно отречься от своих убеждений и изменить вере и чести? Неужели мне придется краснеть за тебя, мою гордость и радость? Скажи мне, Артур!.. Неизвестность мучительнее смерти! – Нет, моя дорогая, благородная мать, – пылко воскликнул узник, – ваш сын не изменил святому долгу чести! Я объясню вам все без малейшей утайки; но, умоляю, скажите мне, что вы не оскорбили ни себя, ни меня даже тенью сомнения во мне и моей честности! – Артур, дитя мое! – отвечала она. – Эти слова примиряют меня с печальной действительностью; я не могла подумать, что меня ожидает радость в стенах твоей тюрьмы. Скажи мне еще раз, что ты не заслужил этого унижения! – О нет, клянусь честью, но вы должны узнать все подробности мрачной и таинственной сцены, разыгравшейся ночью под этими безмолвными и угрюмыми сводами. Да, вчера, ровно в полночь, дверь тихо открылась и в камеру вошел человек в черной маске и широком плаще; он подошел ко мне, присел на мою койку и сказал отрывисто: «Сознайтесь мне во всем, и жизнь вам будет сохранена! Удостоверьте письменно, что королева Анна виновата во всем том, в чем ее обвиняют, и вы будете тотчас же освобождены и оправданы!» Когда я ответил на это предложение решительным отказом, он позвал сторожей, и меня заковали; я остался один в непроходимом мраке и подумал невольно, что свидание с вами накануне турнира было нашим последним свиданием на земле… – Но скажи, Бога ради, – перебила его с живостью леди Уотстон, – кто задумал все это? Почему он желает сделать тебя соучастником подобного предательства? На каком основании тебя арестовали и заключили в Тауэр? Если бы королева была на самом деле виновата в нарушении своих прямых обязанностей, то я и в этом случае сказала бы тебе: «Не обвиняй ее! Пусть милосердный Бог будет ей судьей!» Но так как ты считаешь ее безусловно невиновной, то ты, естественно, не должен покоряться такому возмутительному и бесчестному требованию. – Ну так знайте же, матушка, что жизнь и оправдание зависят исключительно от моего согласия подчиниться без всяких оговорок. – Уотстон! Ты говоришь невероятные вещи! – Я говорю вам правду! Если бы я считал вас обыкновенной женщиной, то не открыл бы эту ужасную тайну… Теперь по крайней мере, если мне суждено сложить голову на эшафоте, у вас останется отрадное сознание, что Уотстон не забыл ваших уроков!.. – Нет, они не решатся отнять у тебя жизнь! – воскликнула с волнением благородная леди. – Секира палача не отрубит голову единственного сына! Я стану на колени посередине площади и буду взывать к сочувствию всех матерей: они помогут мне смягчить судей и испросить тебе полнейшее помилование. Молодой человек улыбнулся спокойной, но грустной улыбкой. – Не надейтесь, матушка, на чужое участие, – отвечал он кротко и задушевно. – Вы не знаете свет и его эгоизм; вы проводили время в молитве и заботах о больных и нуждающихся и жили почти что среди ангелов, а я… я жил с людьми… – Да, я чуждалась общества, – сказала леди Уотстон, – но я вполне уверена, что люди отнесутся искренне и сочувственно к положению матери, у которой судьба хочет отнять единственную и последнюю надежду. – Вы сильно ошибаетесь, – отвечал с убеждением молодой человек. – Они вас не поймут, и это осложнит и без того запутанное положение дел. Позвольте же мне самому защищать свою жизнь! Честное слово, я ею очень дорожу. Вы должны быть спокойны! Но я слышу шаги… это идет тюремщик! Вы, вероятно, подкупили его? – Да, ценой двух третей моего состояния. Он обещал избавить тебя от неудобств. – Вам не следует в таком случае торопиться с уплатой всей условленной суммы, – проговорил задумчиво молодой человек. – Артур, дитя мое! – воскликнула она с невыразимым ужасом. – Так ты подозреваешь, что тебя предательски убьют?.. – Да, – сказал мрачно узник. – В этих страшных стенах разыгралось немало возмутительных сцен. Силы оставили леди Уотстон от этого последнего удара, и в непроглядном мраке камеры послышались глухие, горькие рыдания. Почти в ту же минуту дверь тихо отворилась. – Миледи, образумьтесь! Вас могут услышать! – проговорил испуганный тюремщик. – Боже мой, что я сделал? Я погублю себя и все мое семейство! Уходите немедленно! Допрос еще не кончен… сюда могут войти… идите же, идите! – О, дайте мне побыть с ним еще одну минуту! – сказала леди Уотстон умоляющим голосом. – Вспомните, что это мой единственный сын. – Мать, моя дорогая, благородная мать! Призовите на помощь ваше мужество и подчинитесь требованию этого человека! – проговорил Уотстон изменившимся голосом. – Мой сын, мое дитя, я не в силах уйти! – воскликнула несчастная, склонив голову на его скованные трепещущие руки. – Внутренний голос твердит моему сердцу, что я прощаюсь с тобой навсегда. Дай же мне умереть в стенах твоей тюрьмы! – Нет, это невозможно… этого не позволят… идите же, идите за этим человеком, и да хранит вас Бог! – Да, идите, миледи! – проговорил тюремщик. – Моя судьба висит на волоске. Леди Уотстон привстала и прижала к груди своего обожаемого, ненаглядного сына. – До свидания в вечности! – прошептала она. Узник рванулся с койки: он отдал бы полжизни, чтобы прижать еще раз руку любимой матери, услышать еще раз звуки родного голоса, но оковы его были тяжелы и прочны, и его чуткий слух уловил только шелест торопливых шагов. Раздался резкий скрип ржавых петель; следом за этим послышался шум быстро отворившейся и закрывшейся двери; и как бы в ответ из непроглядной тьмы камеры глухо и зловеще звякнули цепи. Артур Уотстон остался по-прежнему один в глубоком подземелье неприступного Тауэра. (обратно)Глава XXVII Лорд Перси и Кромвель
Время приближалось к полудню. Красивый, представительный мужчина, одетый роскошно и чрезвычайно изысканно, вошел в сопровождении многочисленной свиты в обширную приемную дома графа Эссекского. – Потрудитесь вручить эту записку лорду! – сказал он повелительно подошедшему пажу. – Но сейчас слишком рано, – заметил робко молодой человек. – Милорд принимает… – Я знаю! – перебил надменно посетитель. – Но скажите ему, что граф Нортумберленд желает его видеть. Когда паж удалился, граф сделал знак одному из слуг своей блестящей свиты, и тот почтительно подал ему маленькую шкатулку в чехле из пунцового бархата с вышитыми на нем золотом и жемчугом гербами. Тот, кто увидел бы Перси в приемной Кромвеля, а до этого встречал его на пути в Кимблтон, отказался бы поверить, что этот молодой и надменный вельможа с повелительным взглядом, исполненными достоинства и грации манерами, рискнул ехать один по дороге, размытой осенними дождями, и ночевать в убогих деревенских трактирах, рискуя здоровьем или жизнью. Лорд Перси обсудил положение дел с другими вельможами и пришел к убеждению, что влияние Кромвеля на короля огромно. Готовый отдать жизнь ради спасения несчастной молодой королевы, он решил немедленно отправиться к министру на основании права всех лордов королевства, вызванных ко двору. Когда паж произнес имя Нортумберленда, граф Эссекский вскочил как ужаленный и, не прочитав записку, поторопился встретить его и провести в кабинет. Свидание этих двух людей, абсолютно разных, имеющих противоположные взгляды на жизнь, было примечательным: каждый из них старался прочесть мысли другого, соблюдая при этом правила самой изысканной вежливости и выказывая самое глубокое уважение. Но когда оба, обменявшись приветствиями, вошли в кабинет, в голосе и манерах графа Нортумберленда внезапно произошла перемена. – Я не смогу выразить вам свою признательность за это посещение! – сказал первый министр с преувеличенной почтительностью. – Граф! – отвечал невозмутимо Перси, усаживаясь в кресло. – Послушайте меня! Мне предстоит сказать вам очень и очень многое. Мы оба знаем свет; вам хорошо известно, что самые старинные фамилии королевства постоянно в союзе, а вы для них, конечно, просто чужой человек… Граф Эссекский нахмурил черные брови и опустил глаза. – Когда я называю вас чужим, хоть и знаю, что вы родились в Лондоне, – прибавил Генри Перси так спокойно и холодно, что всегда невозмутимый и наглый Кромвель смутился, – то имею в виду, что вы чужой нашим древним фамилиям, а так как вы вообще им очень не по вкусу, то может настать день, когда они вас свергнут с высоты, на которую вам удалось подняться. – Милорд! – воскликнул Кромвель, и лицо его вспыхнуло. – Но вы, – продолжал Перси с той же невозмутимостью, – слишком умны и ловки и слишком осторожны, чтобы не приготовить себе на черный день и друзей и убежище. – Но, милорд, – прошептал сконфуженный Кромвель, затрепетав при мысли, что его ожидает опала и изгнание, – скажите, Бога ради, к чему это предисловие? – Все то, что я сказал, не должно вызывать у вас удивление, – ответил Перси. – Я говорю всегда только то, что думаю и считаю истиной, если даже слова мои и не нравятся тому, к кому я обращаюсь. Граф Эссекский недоверчиво взглянул на него. – Я так привык! – продолжал Перси с тем же ледяным равнодушием. – Я слишком хорошо изучил человечество, чтобы не знать, для чего все мы разыгрываем в свете эту комедию. Последние слова графа Нортумберленда отчасти усыпили подозрительность Кромвеля: он начал подумывать, что встретил человека столь же испорченного, но ему и в голову не пришло, что судьба послала ему строгого судью, знавшего все его темные цели. – Я вполне разделяю ваше мнение, – произнес он спокойно. – Рад слышать это, граф! – сказал с живостью Перси. – Мы, люди просвещенные, должны знать, что за всеми пышными фразами и громкими словами об общественном благе, о славе, бескорыстии и возвышенных чувствах стоит желание создать себе хорошее материальное положение. – О да! – сказал Кромвель, все еще не решаясь быть вполне откровенным. – Поглядишь иной раз, – продолжал Перси, – люди мечутся, рыщут, упрекают друг друга в невнимании к человеческим бедам, а на деле оказывается, что все великие и ревностные деятели трудились исключительно ради собственного блага. – Это так! – произнес благодушно Кромвель, сознававший в душе, что он входит в число такого рода деятелей. – Земная слава – дым, – сказал Нортумберленд, – а тюрьма и секира – реальность, и многим, очень многим из баловней судьбы пришлось столкнуться с ними и потерпеть крах. Неприметная дрожь пробежала по телу Кромвеля. – Итак, теперь мы превосходно поняли друг друга! – сказал внезапно Перси, гордо и смело взглянув в глаза графу Эссекскому. – Я думаю, что да, – отвечал лорд Кромвель. – Вы богаты, как Крез, – сказал Нортумберленд, – но у вас нет поддержки. Вы человек практичный и предпочтете найти во мне надежного союзника, а не нового опасного врага. Говорите же смело и вполне откровенно, могу ли я рассчитывать на содействие ваше в весьма серьезном деле? – Я понимаю вас, – отвечал граф Эссекский, вступавший уже не раз в такие соглашения. – Объясните же мне, в чем дело, и скажите прямо, как будут оценены мои труды. – Вот так! – сказал граф, указав на шкатулку, стоящую на столике. – Что касается дела, то оно не требует пространных объяснений: я прошу вас принять сторону королевы и помочь мне спасти и оправдать ее. Дикое, почти звериное бешенство исказило внезапно лицо графа Эссекского, он стиснул кулаки и подскочил, как тигр, к графу Нортумберленду. – Мне принять ее сторону?! – воскликнул он с безумным, истерическим смехом. – Вы не просили бы об этом, если бы могли заглянуть в мою душу. Так знайте же, что если бы я мог купить ее погибель ценой всего того, что скопил тяжелым и кровавым трудом, то я бы не задумался ни на минуту. Лорд Перси побледнел при виде этой страшной ненависти. – И сделали бы, в сущности, ужаснейшую глупость, – произнес он спокойно. – Может быть, – отвечал хладнокровно Кромвель, – но я бы сделал то, что сказал. – Почему? – спросил Перси. – Потому что я вынес за мою жизнь немало оскорблений, но одно из них, только одно, милорд, проникло в мое сердце подобно раскаленному железу! О нет, я не могу, не хочу и даже не в силах простить Анну Болейн. – Что же она вам сделала? – Милорд! – воскликнул Кромвель. – Я не отвечу на последний вопрос. Мне больно отвечать вам решительным отказом, но ничто в целом мире не заставит меня спасти Анну Болейн и дерзкого Рочфорда от казни, на которую они обречены! – Как знать? Вы, может быть, проиграете партию, и вам тогда, конечно, придется пожалеть о том, что чувство мести лишило вас поддержки графа Нортумберленда и многих из его влиятельных друзей. – Тем хуже для меня! – отвечал граф Эссекский. – Я сознаю вполне, что действую в ущерб моим собственным интересам, но я не в состоянии изменить себя и простить Анну Болейн. Суровая решимость, которая звучала в этом дерзком ответе, разбила все надежды графа Нортумберленда: им овладело чувство беспредельного горя; страх за Анну Болейн сломил его; разговор с Кромвелем лишил его последней надежды спасти ее от смерти. Он перестал быть знатным и надменным вельможей, графом Нортумберлендом, и превратился в прежнего задумчивого, кроткого и любящего Перси. – Послушайте! – сказал он, обратившись к Кромвелю. – Ведь вы, вероятно, любили кого-нибудь? В память об этом чувстве дайте мне увидеть королеву! Бриллианты моей матери будут платой за эту великую услугу. Он снял яркий чехол с блестящими гербами и открыл шкатулку, обитую изнутри мягким белым атласом. В ней лежал фермуар в форме яркой звезды, а от него тянулись четыре ряда крупных, шлифованных бриллиантов самой чистой воды. Цена этих чудесных женских украшений – серег, колец и прочих драгоценных вещей, хранившихся в шкатулке, – превышала два или три миллиона. Сердце Перси заныло, когда он вспомнил, что это ожерелье сверкало на шее его матери и было предназначено в дар его дорогой и прелестной невесте. Глаза графа Эссекского не могли оторваться от этих ослепительных, сверкающих бриллиантов. – Что за чудесные камни! – произнес он отрывисто. – Предоставьте мне возможность увидеть Анну Болейн, и эти драгоценности будут вашими! – сказал Нортумберленд. – Я не властен исполнить то, что вы желаете, – отвечал граф Эссекский. – Я этому не верю. – А я вам повторяю, что это невозможно! – Полноте! – сказал Перси. – Окажите мне эту великую услугу, и вы сами увидите, что я сделаю все, что от меня зависит, чтобы отблагодарить вас за это снисхождение. Или вы считаете эти бриллианты слишком ничтожной платой за такую услугу? Так скажите мне об этом без ложного стыда и, если в вас осталась хоть капля жалости к человеческой скорби, дайте мне утешить и ободрить ее. – Это лишний труд! Она должна умереть! – сказал злобно Кромвель. – Зачем вы повторяете сто раз одно и то же? – спросил с упреком Перси. – Разве вам так приятно рвать мне сердце на части?.. И если в самом деле нельзя ее спасти от смерти, то я, естественно, постараюсь увидеть ее во что бы то ни стало! Пусть хоть один родной голос проникнет к ней сквозь тюремные решетки! Пусть хоть одно слово сочувствия выделится из хора тех ужасных проклятий, которые доносятся до нее со всех сторон!.. Еще раз, граф Эссекский, заклинаю вас именем тех, кого вы любили, и тех, кто вас любил, – дайте мне увидеть Анну Болейн! – Я никогда никого не любил, да и не был любим! – ответил граф Эссекский. – Верю вам, – сказал Перси. – Но если вы не знаете ни любви, ни страданий, то вы, наоборот, превосходно знаете, в чем ваши выгоды: потрудитесь сказать мне, угодно ли вам будет принять эти бриллианты? И Перси протянул руки к шкатулке. Этот жест графа мгновенно изменил положение дел; глаза лорда Кромвеля засветились, подобно глазам хищного тигра; ненасытная алчность, лежавшая в основе всех его действий и побуждений, заговорила в нем с небывалой силой. – Позвольте мне еще раз взглянуть на эти вещи! – произнес он отрывисто. – Глядите, – сказал Перси, – но заявляю вам, что не стану более продолжать этот торг! – Ну пусть будет по-вашему! – воскликнул граф Эссекский. – Я дам вам возможность увидеть Анну Болейн, а вы дадите мне, кроме этих вещей, право на получение половины дохода со всех ваших земель. – Хоть весь доход! – проговорил небрежно и презрительно Перси. Но Кромвель не расслышал этих слов; ему даже послышалось, что граф проговорил: «Я не дам ничего!» – Не гневайтесь, милорд! – произнес он заметно изменившимся голосом. – Я к вам расположен более, чем вы думаете. – Закончим поскорее! Мне нельзя тратить время на пустые разговоры! – заметил сухо Перси. – Но я же вам сказал, что вы ее увидите! – Да, вы это сказали, но вы не представили никаких гарантий того, что сделаете это! – Гарантией будет мое честное слово, – ответил граф Эссекский. – Согласен и на это! – сказал Нортумберленд. – Но имейте в виду, что если вы не сдержите своего обещания, то и я откажусь уплатить вам условленную добавочную сумму. – Это ясно как день! – воскликнул граф Эссекский, запирая шкатулку. – Теперь дело улажено, и я хочу попросить вас объяснить мне одно чрезвычайно туманное для меня обстоятельство или, вернее сказать, чрезвычайно загадочное и странное явление в природе человека: разъясните мне, что это за чувство, под влиянием которого люди забывают о своих личных выгодах и жертвуют достоянием, честью и даже жизнью? – А, вы хотите знать, что такое любовь! – сказал Нортумберленд. – В ней по ошибке объединены в единое целое два чувства, резко отличающиеся друг от друга; не назову вам первого, вы его не поймете – оно слишком возвышенно, но не назову вам вместе с тем и второго – оно слишком нечисто, а я враг всякой грязи. (обратно)Глава XXVIII Камера королевы
Вокруг массивных стен неприступного Тауэра, на площадях и улицах, примыкавших к нему, горели во мраке громадные костры; они казались издали яркими метеорами, но вблизи их колеблющееся и высокое пламя освещало бесстрастные, загорелые лица караульных. Одни из них лежали, вспоминая, быть может, свои родные села, зеленые равнины и тенистые рощи, а другие прохаживались, наблюдая за грудами всевозможного оружия и бросая сухие сучковатые ветки в угасающий огонь. Эти медленно движущиеся, высокие фигуры, освещенные дымным, развевающимся пламенем, были, скорее, похожи на полуночных призраков, чем на живых людей. В группе старых служак, сидевших около самого громадного костра, шел живой разговор о событиях, волновавших сейчас Англию; каждый из собеседников высказывал свои мысли без всякого стеснения. – Ба, мы еще не кончили! Нам придется еще дежурить долго! – говорили бывалые, поседевшие воины. – Что же нам еще делать? – спрашивали несведущие. – Клянусь святым Иаковом и пресвятым Георгием, – отвечал рослый воин, – народ кипит, словно вода в котле; его набралось сегодня у Уайт-холла, пожалуй, больше, чем рыбы в половодье; орут во всю пасть: «Да здравствует принцесса Мария!» Даже старые бабы выползли из щелей, в домах не осталось ни единого чепчика и ни единой юбки! А ты стой и дежурь для их удовольствия… только из-за того, что им всем захотелось поболтаться без дела. – Что же с этим поделаешь? – сказал старый ворчун. – Ведь женщины, известно, самый пустой народ. – А как они бежали! Как каждая старалась прийти первой! Можно было подумать, что они улепетывают от неприятеля. – Что же сказал им король? – Что же им говорить? Он подошел к окну и сказал очень ласково: «Благодарю, друзья мои, за такую преданность мне и моей дочери!» – Он назвал ее дочерью? – Да, конечно, дочерью, ведь она родилась от законного брака! – Ну и что потом? – А затем он сказал, что принцесса приедет через день или два, что им лучше всего разойтись по домам… Экий дьявольский ветер! Так и пронизывает насквозь! Дай Бог, чтобы принцесса приехала поскорее и чтобы нам велели вернуться в казармы. – Да, что и говорить! Нас ждут большие перемены, так как эта сидит за крепкими затворами, – сказал седой усач, закуривая трубку. – Да, – заметил сидевший около него солдат, – и ей небось там несладко! Поглядите-ка, братцы, на эти перекладины между большими башнями. На них ведь так легко повесить человека! Да и мистер Кингстон не из тех, кто сочувствует слезам и причитаниям женщины. Ему скажут: «Повесь!», и он свернет ей шею, как цыпленку. – Ну а ты думаешь, что она виновата? – А Господь ее знает! – Нет, – вмешался один из сидевших поодаль, – все говорят, что она очень злая: из-за нее погибло много добрых людей; да вот, помнишь ли, Джек, сегодня ровно год, как нас вывели так же, как теперь, из казарм и расставили цепью около эшафота, на котором казнили лорда Томаса Мора. Мне не забыть лица этого человека до гробовой доски… Моя бедная Мэдж заболела от горя и жалости к нему, а у меня душа разрывалась на части, у меня слезы появились на глазах, когда дочь его, Маргарита, прорвалась, точно львица, сквозь сплошную толпу и обвилась руками вокруг шеи отца. Боже мой! Я никогда не видел такой муки, с какой лорд Мор смотрел на дочь!.. И что это была за чудесная красавица! Черные волосы до колен, лицо белее алебастра. С ней был ее жених, но она совершенно забыла о нем. Не прошло и двух минут, как все было кончено. На площади стояла такая тишина, что я даже слышал, как голова тихонько скатилась на помост… Нас отправили в тот же вечер в караул во дворец: комнаты королевы были освещены, и в них играла музыка, так что мне стало тяжело на душе. Я тогда подумал: «Бог накажет ее!» Так и вышло! – Да, над этими звездами и над этой луной есть праведный Судья! – проговорил задумчиво один из собеседников. – Вот я простой солдат, но лучше продрогнуть здесь на ветру, чем сидеть в этой башне. – Вот бы узнать, как им спится в этих черных стенах? – сказал седой усач. – Они видят, наверное, нехорошие сны. – Поглядите-ка, братцы, – перебил молодой и красивый солдат, – никак там наверху промелькнул огонек? – Нет, какой огонек? Тебе померещилось. – Померещилось?! Я видел, как он блеснул и скрылся. Часовой говорил правду. Свет, замеченный им на верхнем этаже Тауэра, был светом фонаря, освещавшего путь графу Нортумберленду, который шел к камере молодой королевы. Перси шел за своим безмолвным провожатым: он то взбирался вверх, то спускался вниз по крутым темным лестницам; прошел несколько длинных и мрачных коридоров, соединенных тесными потайными проходами, сворачивал не раз налево и направо, но лабиринт тянулся все дальше и дальше. Граф видел много низких дверей с тяжелыми железными засовами, углубления, покрытые зеленоватой плесенью, груды разного лома и полуразвалившиеся дубовые скамейки; большие, безобразные, черные пауки сновали по стенам. Сколько мук и слез видели эти мрачные массивные стены! Сколько людей погибло в полном расцвете сил в этой страшной могиле! Сердце Нортумберленда разрывалось на части. «Боже мой! – думал он, следуя машинально за своим провожатым. – Упасть с высоты трона в подземелье – какое поразительное и страшное падение! Тяжело согрешила она перед Тобой, но помилуй ее, милосердный Отец, в Своей неистощимой и беспредельной благодати!» Скрежет отодвинутого железного засова вывел лорда Перси из раздумья. – Пожалуйте сюда! – сказал ему отрывисто угрюмый проводник. – Вы можете пробыть у нее ровно час; тотчас после полуночи сюда прибудут судьи, и начнется допрос. Перси с содроганием переступил порог и вошел в большой зал, мрачный, как и все прочие помещения Тауэра. – Но ведь нужно сходить и узнать, желает ли она меня видеть, – сказал он нерешительно. – Что? Хочет ли она? – хмыкнул проводник, не знавший ни фамилии, ни высокого звания ночного посетителя. – Да разве у нее станут спрашивать? Вы, как видно, не знаете тюремных порядков! У жильцов наших нет слуг; начальство приказало мне провести вас сюда, и я это исполнил. Чего же еще надобно? – Хорошо, – сказал Перси, – вы можете уйти! Впрочем, нет… подождите… скажите мне, пожалуйста, как узница переносит свое заточение? – Не знаю, – отвечал спокойно проводник. – Как, вы даже не знаете, печальна ли она или в полнейшем отчаянии? – Ну, понятно, печальна: они все невеселый народ. Насколько я припоминаю, сторож говорил, что у нее бывает бред; но это пройдет; любой из них вначале мечется, словно бешеный, покуда не привыкнет; на первых-то порах они смотрят на нас хуже чем на собак и даже отворачиваются, чтобы не видеть нас; спустя же некоторое время начинают заговаривать с нами, потом дело доходит даже до лести. Однако прощайте; помните, что вам можно пробыть здесь только час. Проводник удалился, и шум его шагов скоро затих во мраке тюремных коридоров. Сердце Нортумберленда билось со страшной силой; он прошел в конец зала, тихо открыл дверь, обитую железом, и увидел большую, чрезвычайно ярко освещенную комнату; вся ее меблировка состояла из высокой старомодной кровати, нескольких больших кресел и раздвижного стола; стены были обиты золотисто-коричневой рубчатой материей. Королева сидела на низком табурете, облокотясь о стол обеими руками; ее чудесные волосы были прикрыты белой кружевной косынкой, концы которой падали на бархатное платье ярко-синего цвета, спускавшееся пышными и широкими складками от стройного и воздушного стана к ногам державной узницы. Перси боязливо переступил порог, но ему не хватило ни физических сил, ни мужества, чтобы пройти далее; он отдал бы полжизни, лишь бы кто-то сказал молодой королеве, что он стоит позади нее; ужасное волнение сковало его, он стоял разбитый, уничтоженный. – Анна Болейн! – слетело помимо воли с его дрожащих губ. – Кто здесь? – спросила узница, обернувшись к дверям. Прекрасное лицо ее было орошено обильнымислезами, но это уже были не те легкие слезы, которые струились из ее ясных глаз под влиянием минутного огорчения или просто каприза и сменялись веселой, беззаботной улыбкой, но горькие, тяжелые слезы полного отчаяния. Нортумберленд невольно сравнил эту бледную и измученную женщину с ослепительно прекрасной королевой, которую он видел незадолго до этого в золоченой ложе на Гринвичском турнире. – Извините меня! – произнес он глухим, срывающимся голосом. – Лорд Перси?! – прошептала с испугом королева. – Лорд Перси, мой судья и даже, может быть, мой первый обвинитель?! – добавила она, невольно бросив взгляд на лежащий перед ней длинный список лордов, назначенных ей в судьи. – И вы, как и другие, подозреваете меня в несвойственных мне побуждениях и чувствах! – сказал Нортумберленд с горькой иронией. Подозрение королевы вывело его как-то сразу из оцепенения; спокойная уверенность, бывшая отличительной чертой его характера, вернулась к нему мгновенно от этого оскорбления. – Анна! – произнес он печально и торжественно. – Вы знаете более, чем кто-либо, что граф Нортумберленд не способен на низость! Королева вздрогнула; ей уже не нужны были дальнейшие уверения: она все поняла. Первым ее побуждением было броситься к графу, но новая, мучительная мысль пронзила ее мозг, и она отступила на несколько шагов. – Я недостойна вас, мой благородный Перси! – воскликнула она. – Ваше имя стоит в этом ужасном списке, но я верю и чувствую, что вы будете меня отстаивать один против целого света. Оставьте же меня, Перси! Я изменила клятвам, данным мной добровольно в давно прошедшие дни, я отравила вашу молодость… разбила вашу жизнь!.. Нет, уйдите… уйдите!.. Между вами и мной лежит огромная пропасть! – Благодарю Тебя, Творец земли и неба! – перебил ее с пламенным воодушевлением граф. – Ее сердце открыто для спасительных чувств смирения и раскаяния! Отвори же ей двери Твоего милосердия и отведи грозу, которая разразилась над ее головой. – Нет, Перси, не взывайте к милосердию Божьему! – сказала королева. – Моя жизнь была цепью тяжелых прегрешений… Я невиновна в том, в чем меня обвиняют, но пролитая кровь вопиет о возмездии. Когда меня вели по коридорам Тауэра, мне пришлось проходить мимо камеры Мора и камеры Рочестера… О, Перси, я не в состоянии выразить, что мне нашептывает день и ночь моя совесть! Королева замолчала – и вдруг преобразилась: она скрестила руки; лицо ее покрылось пылающим румянцем, а восхитительные голубые глаза сверкнули почти дико из-под длинных ресниц; все это предвещало наступление бреда, и испуганный Перси подошел к ней стремительно и прижал к сердцу, как будто для того, чтобы защитить от наступающих на нее мучительных видений. – Анна! Бедная Анна! – повторял он, гладя с беспредельной нежностью ее русые кудри. Но она высвободилась из его дружеских объятий и, отойдя к окну, запела чисто и мелодично одну из тех протяжных и заунывных песен, которые часто пела в Кенте, под тенью лип, у старого замка своих доблестных предков. Эта песня оживила воспоминания Перси о его благодатном, безвозвратном прошлом, и он перенесся мысленно из-под мрачных сводов неприступного Тауэра на зеленые поля и в длинные аллеи, где он бродил в летние вечера вместе со своей прелестной, ненаглядной невестой. – Анна! – воскликнул он. – Помнишь ли ты еще дерновую скамью, где мы часто сидели после заката солнца? Пение прекратилось, и глаза королевы устремились на Перси. – Кто со мной говорит? – произнесла она с испугом и волнением. – Это, кажется, ты… ведь я не ошибаюсь: это ты, Генри Перси?.. Но где отец и брат? Куда они ушли?.. Я забыла… скажи… где мы теперь находимся? Она остановилась и приложила руку к пылающему лбу. – К чему вспоминать о том, что миновало? – прошептала она. – Я уже не Анна Болейн… я королева Англии. Она дважды прошла из конца в конец комнаты, и огненный румянец, покрывавший лицо ее, уступил место ровной, матовой бледности; ее движения сделались более медленными и правильными, и безумный взгляд прекрасных глаз сменился выражением безропотной, спокойной, но безысходной грусти. Королева присела к столу и закрыла лицо руками. – Со мной творятся непонятные вещи, – произнесла она печально и задумчиво. – Я думаю, что схожу с ума. – Вы не должны так думать, – сказал Нортумберленд, – не должны поддаваться унынию и слабости! Малодушие – порок, непростительный для женщины, а тем более для английской королевы! Дайте мне руку, Анна, и верьте в мою преданность: она вам не изменит ни при каких обстоятельствах. – Я это знаю, Перси… Я даже сознаю, что все произошло бы иначе, если бы вы не бросили меня на произвол судьбы. – Я вас не бросал… вы сами устранили меня со своей дороги, Анна! Я это говорю, конечно, не в упрек, а в свое оправдание. – Вам и не в чем оправдываться… Одна я виновата… Я променяла вашу бескорыстную преданность на блеск и величие королевского сана; но я уже поняла всю несостоятельность своих надежд… Судьба мстит мне за вас!.. – Я не желал возмездия, – произнес тихо Перси. – Я верю вам, – отвечала печально королева. – Но оно совершается помимо вашей воли: вы не в силах понять, что я пережила в этих мрачных стенах! Бесконечные дни чередуются со страшными, бессонными ночами; если я засыпаю, мне начинает грезиться, что я падаю в темную и бездонную пропасть. Как быстро пронеслась моя молодость, Генри! Моя жизнь не дошла до полного расцвета, а я уже стою на пороге могилы!.. – Да нет же, Анна, нет! – сказал с тревогой Перси. – Вам нужно относиться спокойнее и разумнее к положению дел. Вы должны обдумать средства к защите перед лицом судей и… Скажите мне, Анна, без всякого стеснения, без ложного стыда, как брату или другу, есть ли в вашем прошлом что-нибудь, что, быть может, облегчит им вынесение обвинительного приговора? Нортумберленд умолк и ожидал ответа с мучительной тревогой. – Я не виновата в том, в чем меня обвиняют, но на моей душе лежит много других, тяжелых прегрешений! – произнесла она сквозь с трудом сдерживаемые рыдания. – Не продолжайте, Анна! – перебил ее Перси. – Суд над душой каждого человека совершается исключительно Господом Богом! Главное – лишить судей возможности подтвердить обвинение фактами. – Да, но мне сообщили, что Марк и Норрис обвиняют меня, а я виновата лишь в том, что обращалась с ними свободнее, чем с другими; я в этом и созналась, когда меня допрашивали… – Как вы могли позволить себе такую опрометчивость? – перебил ее Перси. – Вы должны были знать, что признание подсудимого равносильно улике! Анна! Бедная Анна! Я, значит, опоздал, хотя, Бог мне свидетель, я бы отдал охотно все, что имею, лишь бы прибыть к вам раньше. – Какая-то вовсе не знакомая мне особа, кажется, леди Уингфилд, обвинила меня за минуту до смерти, – продолжала задумчиво и мрачно королева. – Жена моего брата приписывает мне небывалые чувства… все меня унижают… все меня ненавидят; хотя войска, расставленные для охраны Тауэра, сдерживают народ, но даже сквозь стены ко мне долетают угрозы и проклятия. Не прошло между тем еще и недели после пышного празднества, на котором тот же народ приветствовал меня восторженными криками. О, Перси! Благородный, великодушный Перси! Будь я вашей женой, мне бы, разумеется, не пришлось бы умереть от руки палача! – Не станем говорить об этом, Анна! – сказал Нортумберленд голосом, прерывавшимся от сильного волнения. – Я осушил до дна чашу этих убийственных бесплодных сожалений. Для вас остались тайной все надежды, которые я возложил когда-то на вашу молодую, прелестную головку… Вы не знали, конечно, что вся душа моя принадлежала вам и что в ней с той поры не осталось уже места ни для другого образа, ни для другой любви! Один Бог знает все, что я перечувствовал и перестрадал! – И я не оценила такой великой преданности, или, что еще хуже, я променяла ее на пустой обман, что и привело меня к бесславию и гибели! – сказала королева с горьким и жгучим раскаянием. – Но я хочу сказать вам в утешение, Перси, что перед смертью я стала иначе смотреть на людей и на жизнь! – продолжала она, пересилив волнение, овладевшее ею. – Может быть – почем знать? – если бы я услышала все, что вы мне сказали, до несчастья, которое обрушилось на мою голову, то я бы не придала вашим словам ни малейшего значения… Я, может быть, ответила бы черной неблагодарностью на ваш добрый привет. Но теперь мое сердце открыто для раскаяния и для человеческих чувств… Кровь благородных мучеников, Рочестера и Мора, вопиет о возмездии!.. Я должна умереть! Но я умру без ропота и без позорной слабости; я буду повторять себе до последней минуты, что если Генри Перси простил меня за прошлое, то и Господь отпустит мне мои прегрешения. Лицо Нортумберленда исказилось от непосильной муки. – Анна! Моя возлюбленная, моя прежняя Анна! Зачем упоминать о вечном расставании? – прошептал он, пытаясь сдержать непокорные слезы и осыпая нежными, жаркими поцелуями ее бледные руки. – Нет! – сказала спокойно и твердо королева. – Я должна умереть!.. Но молись за меня, друг моей беззаботной, благословенной молодости! – продолжала она, подавая ему старинное распятие. – Взгляни на этот крест! На нем отмечен торжественный день моего причащения; один он был свидетелем моих слез и страданий! Ты должен сохранить его на память обо мне и отметить на нем день и час моей казни! (обратно)Глава XXIX Генрих VIII
– Ну, так что же, прочти и избавь меня поскорее от этой дребедени! – сказал Генрих VIII. Он был уже в постели; пуховая перина охватывала нежно его грузное тело, и король, очевидно, чувствовал себя умиротворенно, лежа под белой простыней и темно-фиолетовым атласным одеялом, вышитым серебром. Граф Эссекский стоял около его кровати и держал кипу писем и деловых бумаг. – И ты думаешь, что печаль ее будет непродолжительной? – спросил король. – Без всякого сомнения! – отвечал лорд Кромвель. – Мы не могли предвидеть, что она будет их сопровождать. – Так на нее сильно подействовали вопли Анны Болейн? – Ни больше ни меньше, чем на другую женщину: все они слабонервны. Но я вполне уверен, что несколько прогулок вернут спокойствие леди Сеймур. – Мне крайне неприятно, что ей пришлось присутствовать при этой гнусной сцене! – сказал с сердцем король. – И как могло случиться, что из числа всех фрейлин одна только она очутилась на барке? – Я этого не знаю, – отвечал граф Эссекский. – Вспомните, что меня не было в это время в Гринвиче и я не мог ни предвидеть, ни поправить случившееся. – Все это тем не менее весьма досадно! – сказал Генрих VIII. – Сеймур может подумать, что у меня дурной и капризный характер; ей бы вовсе не следовало быть при этом скандале! – Да, но она была! Теперь уже поздно предаваться отчаянию, – возразил лорд Кромвель с заметными нетерпением. Ему страшно наскучили стенания короля, а вдобавок и Джейн Сеймур со дня сцены ареста не давала ему ни минуты покоя; она приставала к нему с просьбой ходатайствовать перед королем о ее увольнении. – Я вижу, что Сеймур совсем меня не любит, – проговорил король после короткой паузы. – Этого не может быть! – возразил граф Эссекский. – Ты говоришь искренне? – Без всякого сомнения! Вы увидите сами, что, как только вы сделаетесь человеком свободным, она, не задумываясь, изъявит согласие быть вашей женой. – Ты в этом убежден? – Да, так же твердо, как в том, что стою перед вами. – Я хочу тебе верить, я должен тебе верить! – проговорил король. – С чего же начать? – спросил первый министр. – С письма королевы… – Не смей титуловать ее отныне королевой! – взревел Генрих VIII. – Говори просто «Болейн», без всяких эпитетов… – А вот письмо от вашего епископа, – доложил граф Эссекский. – А! От лисицы Краммера! Ха-ха-ха! – отвечал с громким смехом король. – Я убежден заранее, что в нем взвешено каждое выражение. Прочти его скорее – оно меня позабавит! Он теперь страшно трусит, но его опасения совершенно напрасны: ему только придется сделать то, что я пожелаю. А я желаю открытого, формального развода! Я хочу, чтобы память о презренной Анне Болейн была обречена на такой же позор и на те же проклятия, которые народ шлет ей со всех сторон. Ее имя должно погибнуть вместе с ней! Кромвель не отвечал; он сломал печать, которую епископ приложил, очевидно, нетвердой рукой. Письмо Краммера было следующего содержания: «Ваше Величество! Имею честь уведомить, что я, повинуясь приказанию Вашему, переданному мне письменно Вашим секретарем, прибыл уже в Ломбет…» – Какая, в самом деле, великая услуга! Да разве он посмел бы не поехать туда? – заметил король. «…где и буду ждать, пока Ваше Величество не соблаговолит выразить мне яснее свою волю». – Да, мы сделаем это, когда настанет время, не сомневайтесь, достопочтенный Краммер! – сказал Генрих VIII. «Так как это письмо вменяет мне в обязанность не являться к Вам лично, я не смею повергнуть к августейшим стопам Вашим выражение моей глубокой преданности и довольствуюсь искренними молитвами к Всевышнему. Я верую всем сердцем, что Его милосердие облегчит Вашу скорбь и укажет Вам, как положить ей конец…» – Да, да, достойный Краммер, будет и конец, вы нам в этом поможете! – сказал король, закутываясь плотнее в одеяло. «Что оно вам поможет переносить с покорностью испытания и даже принимать их с сердечной благодарностью!..» – И даже с благодарностью! Фраза очень эффектная, не правда ли, Кромвель? – Да, она недурна! – отвечал граф Эссекский с недовольной миной. Он вообще недолюбливал замечания в адрес Краммера, так как в душе сознавал их общность, но продолжал читать с той же невозмутимостью. «Я вполне понимаю, что Вы, Ваше Величество, находитесь теперь в трудном положении, так как слухи, которые распространяются сейчас в обществе, задевают отчасти Ваше имя и честь». – Дерзкий! – воскликнул Генрих, побагровев от гнева. – Как он рискнул коснуться подобного вопроса? Но Кромвель счел за лучшее промолчать и продолжал читать с тем же бесстрастным видом: «Чем бы ни вызывались эти разноречивые и обидные слухи, клеветой или истинными фактами, но эти затруднения – первое испытание, ниспосланное в Ваше благодатное царствование». – Откуда он это знает? – проворчал едва слышно и сурово король. «Провидению угодно доставить Вам возможность доказать всему свету, что Вы принимаете, склоня смиренно голову перед Высшей волей, и дары и невзгоды, и если Ваше сердце преисполнится чувством христианской покорности, то подвиг тот будет блистательнее всех подвигов, снискавших Вам любовь английского народа, и тогда, без сомнения, Господь вознаградит Вас, как Он вознаградил терпеливого Иова». – Почтенный Краммер льстит без зазрения совести! – сказал Генрих VIII. – Я знаю превосходно, что во мне нет и не было ни малейшего сходства с многострадальным Иовом! А скажи-ка, Кромвель, это все первый пункт?.. Оставь его в покое и перейди ко второму. Граф Эссекский нахмурил брови и продолжал: «Если бы люди здраво смотрели на вещи, то они, разумеется, пришли бы к убеждению, что обидные слухи, взволновавшие общество, способны навредить чести королевы, но никак не Вашей…» Король заволновался и привскочил в постели. – Не прекратить ли чтение? – спросил его Кромвель. – Нет! Нужно же нам узнать, к чему он клонит, читай скорее! Граф Эссекский вернулся опять к посланию Краммера, а король опустил с тяжелым вздохом голову на мягкие подушки и начал снова слушать. «Все то, что я узнал, встревожило меня невыразимо, так как ни одна женщина не внушала мне столько любви и уважения, как королева Анна, и никто, кроме Вас, не имел таких прав на мою благодарность. Мое сердце отказывается верить в ее виновность!» – Он, как видно, не знает, что она потеряла навсегда свою власть. Если бы он лучше знал положение дел, то не стал бы ей делать подобных комплиментов, – заметил вскользь король. «Моя преданность ей заставляет меня просить Ваше Величество позволить мне молиться за нее, как и прежде. Сам Господь повелел нам любить наших ближних, а королева Анна была еще вдобавок моей благодетельницей». – Какой пышный набор пустых и громких фраз! – сказал Генрих VIII с язвительной насмешкой. – Но продолжай, Кромвель!.. Граф Эссекский еще сильнее нахмурил брови, но продолжал читать с той же невозмутимостью: «Все это тем не менее не помешает мне отнести к числу предателей всякого, кто дерзнет принимать ее сторону, если она виновна и нарушила долг, после того как Ваша державная рука перенесла ее с низших ступеней общества на английский престол…» – Как? С низших ступеней? – вскричал Генрих VIII, задыхаясь от гнева. – Да разве я надел бы королевский венец на женщину другого сословия? Анна Болейн в родстве со всей английской знатью; ее мать – дочь могущественного и гордого Говарда!.. Я желал бы узнать, от кого происходит достопочтенный Краммер?.. Но кто не знает, что все эти безродные, сомнительные личности, эти выскочки, выползшие Бог знает как из тины, отличаются наглостью и нравственной испорченностью… Их никогда не следует вытаскивать из грязи! Возьмем хоть Краммера! Как он теперь относится к Анне Болейн, которой обязан всем тем, что имеет. Он не рискнул сказать в таком длинном письме ни единого слова, способного смягчить мой гнев и убедить меня пощадить виновную; он, напротив, называет предателем того, кто решится заступиться за нее!.. Возмутительно, низко… грязно до отвращения!.. Но от таких людей нельзя ждать иного! Бросьте это письмо! – добавил он надменно-повелительным тоном. – Если же вам жаль уничтожить его, то сохраните этот образец человеческой низости. – Прикажете ли прочесть вам и второе письмо? – спросил Кромвель с ледяной холодностью. – Да, пожалуй, – сказал король с недовольным выражением лица. – Оно подано мне два дня назад. Кромвель приступил к чтению письма Анны Болейн, присланного из Тауэра[516].«Ваше Величество! Ваш гнев на меня и мое заточение были так неожиданны, что я даже не знаю, с чего начать письмо и в чем оправдываться! Мое положение тем еще затруднительнее, что заклятый мой враг передал мне устно приказание Ваше сознаться во всем, без чего я не буду помилована. Прибытие в Тауэр этого человека доказывает, что Ваши чувства ко мне изменились. Повинуясь охотно Вашей державной воле, я готова сознаться с полным чистосердечием в том, в чем виновата, но прошу Вас не думать, что страх за свою жизнь может меня заставить сознаться в возмутительном и страшном преступлении, которого я не совершала. Говорю Вам по совести: на свете мало женщин, выполняющих долг свой так строго и так честно, как его исполняла всегда Анна Болейн. Я вовсе не желала покинуть ту среду, в которой жила, если бы Ваша воля не изменила мое положение!.. Я взошла на престол, но не забывала, что могу подвергнуться опале и немилости; я знала, что обязана королевским венцом минутному капризу и что Ваша любовь может очень легко обратиться на другую. Вы дали мне титул английской королевы и, еще того более, почетное звание вашей жены и друга; если я и другие думали про себя, что я не заслужила таких великих милостей, то Вы, Ваше Величество, считали меня достойной любви. Не дайте же наветам врагов моих изменить это доброе мнение и бросить тень на честь Вашей жены и матери Вашей дочери. Прикажите судить меня с неумолимой строгостью, но исключите недругов из числа моих судей и моих обвинителей. Пусть допрос производится открыто, перед всеми! Я буду отвечать без всякого смущения, я не стану краснеть: мне нечего утаивать! Тогда одно из двух: Вы или убедитесь в моей полной невиновности и вернете мне Ваше расположение, или будете вправе поверить возведенным на меня обвинениям. В том и другом случае Вы узнаете истину, и тогда, как бы ни был строг приговор, он не ляжет на Вашу совесть. Мне хорошо известно, что Вы, Ваше Величество, желаете вступить в брачный союз с другой, и это объясняет причины моей опалы и перемены в Ваших чувствах. Если это желание превратилось в решение, то я буду, естественно, осуждена на смерть; но смерть еще не все: мое доброе имя должно быть обесславлено, чтобы открыть Вам путь к союзу с этой женщиной. Желаю от души, чтобы Господь простил Вам и моим врагам этот тяжелый грех и не заставил Вас в судный день тяжело поплатиться за Ваше бессердечие. Желаю также, чтобы Ваш гнев обрушился лишь на меня и не распространился на моих верных слуг, которые подверглись, как и я, заточению. Молю Ваше Величество пощадить их: это моя единственная и последняя просьба!.. Если Анна Болейн была когда-нибудь близка Вашему сердцу, то окажите мне это благодеяние, и я не стану тревожить Вас ни жалобами, ни даже пожеланиями, чтобы Господь охранил Вас от всякого несчастья и продлил Вашу жизнь. Остаюсь и в печальных стенах страшного Тауэра Вашей верной и преданной женойКромвель сложил письмо, но продолжал стоять неподвижно, ожидая какого-нибудь замечания относительно прочитанного послания. – Опустите мне занавес! – сказал Генрих VIII. – Меня клонит ко сну!.. Вы должны прибыть завтра в Тауэр раньше остальных. Мягкий бархатный занавес скрыл роскошное ложе; свечи быстро погасли, и граф Эссекский вышел неслышно, притворив осторожно дверь королевской спальни. Спалось ли в эту ночь повелителю Англии – история умалчивает об этом обстоятельстве. (обратно)Анна Болейн».
Глава XXX Посещение
Старинный замок Уайтхолл, разрушенный пожаром в 1697 году, возвышался над берегом величественной Темзы. Он был сооружен Робертом ди Гюрри, графом Кентским, во время царствования Генриха III. Этот граф уступил его впоследствии монахам, а они продали его потом Уолтеру Грею, епископу Йоркскому, который и велел называть его Йоркским. Последним из обитателей этого замка был знаменитый кардинал Уолси, отделавший его изящно и роскошно. Когда кардинал Уолси впал внезапно в немилость, король Генрих VIII завладел этим замком и сделал его местом своего пребывания. Но, несмотря на это, все убранство замка напоминало о кардинале Уолси: лепные украшения и редкие картины были с его вензелями; даже на самых мелких вещах был его фамильный герб или девиз; помещения сохраняли данные им названия: «комната кардинала», «библиотека кардинала» и прочее. И чем дальше, тем больше упрочивались эти воспоминания; сторожа сделали из них средство наживы, обращая на эти знаки внимание посетителей и получая дань за свои комментарии. Граф Эссекский прошел из спальни короля на большую галерею, где кардинал Уолси часто прогуливался в свободное время, любуясь богатой коллекцией находившихся в ней редких произведений. Стены этой прекрасной и большой галереи были увешаны художественно выполненными портретами всех епископов, предшественников Уолси; эти бледные, строгие, величественные лица глядели из золоченых рам; только одна из них, отличавшаяся от остальных изяществом отделки, была пуста, так как Генрих VIII приказал в пылу гнева вынуть и уничтожить превосходный портрет кардинала Уолси. Проходя мимо этих неподвижных фигур, облаченных в роскошные кардинальские мантии, граф Эссекский взглянул почти непроизвольно на опозоренную, опустевшую раму. Он подошел задумчиво к высокому камину и машинально поднес худые руки к углям, догоравшим на золотой решетке. «Я часто здесь работал, – подумал лорд Кромвель. – Боже мой! Как я был встревожен и смущен, когда предстал в первый раз перед кардиналом. Он нередко приказывал переносить сюда письменный стол в летнюю пору. Вот еще человек, пользовавшийся доверием короля и сброшенный внезапно с громадной высоты своего положения. Но я не допущу ничего подобного! Я вдвое осторожнее кардинала Уолси и, что важнее, вдвое предусмотрительнее! Я решил принять поддержку, предлагаемую мне графом Нортумберлендом, а этот своеобразный человек скорее умрет, чем поступит наперекор своей совести. Боже, с каким презрением отзывался король о прошлой жизни Краммера! Нет, я должен создать тысячи затруднений! Я не могу без этого рассчитывать на прочность моего положения: король, не задумываясь, сбросит меня в ту тину, из которой я, по его выражению, выполз, когда убедится, что я ему не нужен. Мне, может быть, и следовало бы поддержать Анну Болейн… но родные ее не замедлят сгубить меня. Что за пытка, Создатель, быть всегда настороже, постоянно бояться то того, то другого и исполнять каторжный труд, чтобы удержать добытое!» Через час граф Эссекский уже стоял у дома Нортумберленда; с ним было двое слуг, вооруженных с головы до ног. На Кромвеле был плащ из темной грубой ткани. Нортумберленд успел уже вернуться из Тауэра, его очень обрадовала и даже успокоила перемена, произошедшая в чувствах Анны Болейн, но участь, ожидавшая ее, приводила его в глубокое отчаяние. Он был разбит усталостью и волнениями, но благотворный сон не шел к нему. Граф сидел в кабинете, погруженный в глубокое и грустное раздумье. – Почему у меня отняли право оберегать этот нежный цветок? – прошептал он печально. – Анна была чиста и слаба, как голубка, в первый раз вылетевшая из родного гнезда; я бы укрыл ее от бурь и непогоды и обеспечил бы ей спокойную, почетную и счастливую жизнь… Король любил ее… но что же его любовь дала ей в результате?.. Он надел на ее головку королевский венец, на котором была кровь благородной страдалицы, изнывавшей в Кимблтоне, и Анне предстоит смыть своей кровью эту чистую кровь… И он еще решился включить меня в число ее судей и обвинителей!.. А лорд Кромвель? Боже, какая низость, какая возмутительная нравственная испорченность!.. Хотелось бы знать, за что он ненавидит и преследует Анну? Я спрашивал у нее, но и она не знает причины его ненависти. Шум шагов и говор у подъезда прервали размышления Перси; минуты через две граф Эссекский вошел к нему с привычным невозмутимым видом. – Милорд! – произнес он с приветливой улыбкой. – Я явился узнать, довольны ли вы мной или, вернее сказать, тем, как я исполнил свое обещание? – Да, и я, поверьте, исполню свое с такой же точностью, – сказал Нортумберленд, намекая на сумму, которую обещал заплатить сверх бриллиантов. – Нет, для меня достаточно и того гонорара… Я явился сюда совсем с иной целью, – проговорил Кромвель. – Я не привык пользоваться уступками, – сказал спокойно Перси, – вы получите то, что вам обещано!.. Но если вы решитесь спасти ее от смерти, то я отдам вам с радостью все мое состояние. – Я вовсе не столь влиятелен, милорд, как вы полагаете! – возразил граф Эссекский. – Я только исполнитель воли его величества. Я сделаю все, что от меня зависит, и решил прийти в это позднее время, чтобы доставить вам удовольствие, а именно сказать вам, что право посещать королеву в тюрьме остается за вами до последней минуты ее жизни. – Я не в состоянии выразить мою признательность за это одолжение! – сказал Нортумберленд. – Но почему бы вам не попытаться сделать все, что можно, чтобы спасти ее?.. Подумайте, милорд! Ей только двадцать лет… Тяжело умирать в полном расцвете сил от руки палача!.. Притом вы знаете, что она невиновна в том, в чем ее обвиняют! – Невиновна, милорд? – перебил граф Эссекский. – Это легко сказать! Судьи в Вестминстер-холле считают иначе. – Но разве на одном заседании можно было выяснить все подробности дела? – спросил с ужасом Перси. – Ну да, сегодня вечером, ровно в восемь часов, суд объявил виновными сэра Генри Норриса, Уотстона и Бартона. – На чем же он основал свое постановление, на каких доказательствах и на каких уликах? – восклицал гневно Перси, схватив руку Кромвеля и сжимая ее с нечеловеческой силой. – Если они виновны, то и она, естественно… Нет, это невозможно!.. Она сказала мне, что невиновна… Я верю ей! Да говорите же, говорите, милорд! Не сжигайте мою душу на медленном огне! И с каким хладнокровием вы объявили мне об этой катастрофе, об этом вопиющем, возмутительном приговоре!.. Объясните немедленно, на каких доказательствах основано такое поспешное решение? – На личном и правдивом признании подсудимых! – отвечал граф Эссекский. – И они все сознались? – Разумеется, все. – И суд признал их всех виновными? – Да, исключая Марка, так как он открыл истину раньше других. – Ну а остальные?.. – Остальные?! – сказал хладнокровно Кромвель. – Да как вам сказать! Все эти господа любили королеву… Норрис даже рискнул сказать перед судом, что он скорее позволит вырвать свое сердце, чем унизит себя ложными показаниями. – Но ведь он и не мог обвинять ее в том, чего она не совершала! Боже, какое варварство! Орудие защиты превращается тут же в орудие обвинения, и заявление Норриса, которого считают ее первым сообщником, еще быстрее толкает ее в пропасть. – Суд не придал значения свидетельству Норриса именно потому, что признает его ее главным сообщником! – возразил граф Эссекский. – Зачем же в таком случае он признает свидетельство того, кто ее обвиняет? – Это естественно! Обвиняя ее, Марк признает в то же время и свою вину! – Ну а вы полагаете, что его не склонили на лжесвидетельство под страхом смертной казни? Лорд Кромвель, граф Эссекский! Ответьте мне по совести, уверены ли вы, что Марку заранее не обещано помилование? Нет, за всем этим кроется возмутительный заговор против Анны Болейн! Гнев Божий тяготеет над ней, и она, несомненно, искупит своей кровью ошибки молодости! Но пример ее казни послужит тем не менее спасительным уроком для каждого из тех, кто старался ускорить ее гибель, хотя и сознавал себя виновнее ее! – Милорд! Вы упускаете из виду, что участь Анны Болейн зависит исключительно от воли короля, а я не думаю, что его величество дорожит ее жизнью. Он властен помиловать, даже если суд признает ее виновной!.. – Я знаю, – перебил с негодованием Перси, – и весь свет будет знать, что смерть Анны Болейн была давно задуманным и решенным делом и единственным средством возвести на английский престол другую женщину. – Трудно спорить с подобной истиной! – отвечал граф Эссекский. – Вы поймете поэтому, что я не в состоянии защитить королеву и рискую подвергнуться опале и изгнанию, давая вам возможность навещать ее в Тауэре. – Верю вашим словам, но прошу тем не менее не закрывать мне вход в ее тюрьму. В противном случае прикажите убить меня, не дожидаясь ее суда и казни! – воскликнул Нортумберленд с мольбой. – Милорд! – сказал Кромвель. – Мне очень больно слышать, что вы меня считаете участником событий, в которых я играю роль простого зрителя и слепого орудия чужой воли. – Извините меня! – ответил ему Перси. – В этих словах не крылось никакой задней мысли; я расстроен теперь физически и нравственно, и это отражается на моих выражениях. Мои приемы были менее угловаты, когда я жил в столице; я одичал в лесах пустынного Альнвика. Нужно быть снисходительным к ошибкам тех людей, сердце которых разбито, как мое, на заре жизни! Но вы не охладели, не умерли, как я! Вы любите золото и почести, и я даю вам слово дать их вам и не заставить вас раскаяться в вашем добром желании оказать мне услугу. Я прошу об одном: дайте мне возможность видеть Анну Болейн до ее последней минуты. (обратно)Глава XXXI Суд над Анной Болейн
На следующий день, с наступлением рассвета, в одном из залов Тауэра, известном под названием Королевского зала, поставили помост, обнесенный прочной деревянной решеткой и устланный мягкими, дорогими коврами. Ровно в восемь часов в зал вошел президент в сопровождении двадцати шести лордов, избранных королем в судьи Анны Болейн. Впереди лордов, надменных представителей знаменитых фамилий, шел великий викарий королевства лорд Кромвель, граф Эссекский. Затем появились маршал Англии, старый герцог Норфолк, Чарлз Брандон, герцог Саффолк, зять Генриха VIII; граф Оксфорд, носивший кроме этого титул графа Ирландского и маркиза Дублина; Генри, маркиз Экзетер; Джон, граф Эрондел, вице-адмирал Англии; графы Вестморленд из Суссекского графства; Чарлз Сомерсет, граф Ворчестер; Стоил, граф Дерби; Тома, лорд Одли, креатура Кромвеля; Томас Уэст, лорд Делауэр; Эдуард Бегтон, лорд Монтегю, знаменитый юрист, брат которого ходатайствовал в бракоразводном процессе принцессы Арагонской и Генриха VIII. За ними следовали лорд Дакр, Морл, Малтраверс, Моутэнгл, Клинтон, Гоббам, Сандс, Виндзор, Бург, Мордаунт, Уэнтворт и Грей, лорд Повиц. Дверь, прикрытая слугами после окончания шествия, открылась еще раз, и граф Нортумберленд вошел в зал заседания вместе с графом Рэтлендом. Глаза всех обратились с любопытством на Перси: он был ужасно бледен и явно расстроен, но тут же превозмог свою слабость и поклонился лордам спокойно и с достоинством. Президент еще не открыл заседание, так как публика занимала места, отведенные для нее за решеткой помоста, и громадный зал наполнился смешанным однообразным гулом. Судьи Анны Болейн разделились на группы, и в этих группах шли оживленные толки. Граф Эссекский отвел в амбразуру окна лорда Делауэра. – Милорд! – сказал он шепотом. – Король поручил мне выразить вам уверенность, что ваша преданность ему не изменит в настоящий момент. Не скрою от вас, – продолжал граф Эссекский, – что я поторопился воспользоваться этим благоприятным случаем и напомнил ему, что вы сильно желаете получить земли, принадлежащие Шервиллскому аббатству. Король заметил мне, что вы уже получили восемь угодий, но я надеюсь, что желания ваши не замедлят исполниться. – Я буду вам за это глубоко благодарен, так как я в долгах по уши, – отвечал лорд Делауэр. – Король любит, чтобы лорды, состоящие в свите, жили не по средствам, с разорительной роскошью. Граф еще не успел отойти от окна, как к нему подошел неожиданно граф Виндзор, но не с покорной просьбой, а с желчной укоризной. – Милорд! – сказал он вспыльчиво. – Вам хорошо известно, что со мной поступают весьма несправедливо: я вовсе не намерен менять свое поместье Стэнуэл на черт знает какое! Это мое родовое наследие, и я не уступлю его ни за какие деньги. – Я уже говорил об этом с королем! – отвечал граф Эссекский. – Я сделал все, что мог, чтобы убедить его изменить решение, но не достиг никаких результатов… Нужно сказать по правде, что вы сами мешаете мне устроить ваше дело! Вы всегда защищаете черное духовенство, восстаете против новых порядков!.. Вы даже не захотели поставить нас в известность о том, чьей стороны будете держаться в обвинительном процессе против королевы. – Милорд! – воскликнул гневно и надменно Виндзор. – Анна Болейн – единственная виновница расхищения собственности нашего духовенства… Я ее ненавижу всем сердцем… Я считаю ее пропащей женщиной, оскорбившей церковный и гражданский законы согласием вступить в брак с женатым человеком!.. Но я не в состоянии предусмотреть заранее, что подскажут мне мой долг и моя совесть. Как знать, не покажется ли мне эта женщина, виновная во многих возмутительных проступках, совершенно не причастной к возведенным на нее тяжелым обвинениям? Я католик, милорд, и останусь католиком до конца моей жизни; я это повторю с глубоким убеждением перед всей Англией!.. – И я тоже католик, поверьте мне, милорд! – перебил граф Эссекский. – Все это не имеет никакой связи с обменом поместья! – возразил граф Виндзор с заметным нетерпением. – Я не могу отдать родовое наследие в чужие руки!.. – Не противьтесь, милорд! – ответил граф Эссекский. – Я прошу вас об этом ради вашей же пользы. На вас возведено множество обвинений… Вы пользуетесь своим влиянием на вассалов, и они порицают дела об упразднении нескольких монастырских обителей. Король вовсе не хочет отнять у вас поместье, но он считает нужным переселить вас в более отдаленную местность. – Я уже вам объяснил, что не соглашусь ни за какие деньги отдать в чужие руки отцовский дом. – Жалею от души, что вы не принимаете мои благие советы, – отвечал лорд Кромвель. Граф Рэтленд тем временем сел около Перси, которого глубоко уважал как представителя древнеанглийского дворянства, и старался по мере сил успокоить его дружескими словами. – Не тревожьтесь, милорд! – говорил он ему. – Я не слышал еще ни единого слова, способного внушить опасения за участь королевы. Нортумберленд пожал ему руку. – Допрос, как говорят, начнется с ее брата, – продолжал граф Рэтленд. – Я слышал, что все судьи в восторге от поведения Рочфорда! Хладнокровное мужество этого человека поразило, как видно, даже его врагов! Вообще вряд ли будет вынесен слишком строгий приговор: не все лорды, попавшие в число судей, преданы королю. – Вы видели, однако, – отвечал тихо Перси, – как они поспешно признали виновность Норриса, Уотстона и Бартона как участников заговора против его величества. Где они нашли следы заговора? Большинство лордов действуют ради своих личных выгод, и, поверьте, в данный момент они озабочены не столько судьбой королевы, сколько благоволением к Кромвелю короля, дозволившего ему занять первое место в их торжественном шествии. Но довольно о них! Что бы они ни думали, но на ее спасение нет никакой надежды. – Покажите мне, пожалуйста, кто из них герцог Норфолк? – спросил широкоплечий, коренастый торговец, сидевший за помостом недалеко от Перси. – Да вот он, стоит в самой середине, с лысой головой! – поспешил объяснить пришедший с ним товарищ. – Я давно знаю герцога; я был на процессе, когда судили Букингема. Норфолк был тогда президентом суда, и если бы ты видел, как спокойно он объявил решение! Можно было подумать, что он просто сказал: «Ступайте прогуляйтесь!» – Неужели так спокойно? Он что, железный? – Железный не железный, но он такой бесстрашный и именитый воин, каких мало на свете. Отец мой поставлял ему столовую посуду и нажил порядочные деньги. В то время как торговцы толковали о герцоге, этот суровый воин искал глазами графа Нортумберленда и, когда увидел, что он сидит с Рэтлендом, подошел к нему и подал руку. – Рад видеть вас, милорд! – произнес он приветливо. – Вы давно не бываете на заседаниях парламента, но я помню о вас, так как знал вас ребенком! Ваш отец говорил, в то время когда мы осаждали Альнвик, что Англия найдет в вас достойного преемника славы непобедимых и благородных Перси. Судьба свела нас нынче по чрезвычайно важному и печальному поводу. Эта обязанность гнетет меня в тысячу раз сильнее, чем остальных, ведь она моя племянница! – Желаю от души, уважаемый герцог, чтобы вы не забыли, что она ваша племянница! – отвечал ему Перси. – Еще бы забыть! – сказал, нахмурив брови, непреклонный старик. – Она должна знать, что нельзя безнаказанно задевать честь Говардов, кровь которых течет, к несчастью, в ее жилах. – Но, герцог, – перебил его Перси, – если Анна Болейн и виновата, то другие намного виновнее ее! – Молодой человек! – воскликнул старый герцог, нахмурив еще сильнее свои седые брови. – Я начинаю думать, что Анна встретит в вас не судью, а защитника! – Не знаю! – отвечал невозмутимо Перси. – Я действую согласно моим убеждениям: мы строго судим женщин, но смотрим снисходительно на проступки мужчин. – Вы вправе относиться так хладнокровно к делу, а я обязан смыть с себя позорное пятно! Бесславие Анны Болейн не коснулось вас, ведь она вам чужая! – Чужая! – воскликнул Перси. Но старый герцог Норфолк не обратил внимания на это восклицание. – Да, притом, – продолжал он, понизив голос, – объясните, пожалуйста, что ее ожидает! Чем жить с запятнанной честью, лучше умереть. Когда церковь расторгнет ее брак с королем, ей придется бежать куда-нибудь из Англии, но людская молва нагонит ее и будет отравлять ей существование. Поверьте мне, милорд, я долго ломал голову над этими вопросами и пришел к убеждению, что смерть лучшее, что родные Анны могут ей пожелать! Перси был возмущен до глубины души. – Я не верю, что ваша светлость относится с таким ужасным равнодушием к этому бедному юному созданию! – отвечал он, с трудом сдерживая негодование. – Если родной отец сделал ее заложницей своих корыстных, честолюбивых замыслов, то неужели она найдет и в родном дяде только неумолимого судью? Притом вспомните, герцог, что жизнь дается Господом и что люди не вправе приносить ее в жертву своему самолюбию. – Кончим разговор! – воскликнул старый герцог. – Ваш тон чересчур резок и даже повелителен. Герцог Норфолк ушел, а граф Нортумберленд занял прежнее место около графа Рэтленда. Муки его стали невыносимы: кровь стыла в жилах; сердце то замирало, то начинало биться с удвоенной силой. – Не знаю, что со мной! – произнес он глухим, изменившимся голосом. – Я чувствую, что не в состоянии дождаться начала заседания. Что станется со мной, когда она появится перед своими судьями? – Успокойтесь! – сказал ему мягко Рэтленд, испуганный его почти мертвенной бледностью. – Граф Рочфорд будет вызван на допрос первым. – Бедный, бедный Рочфорд! – прошептал Перси с искренней жалостью. – Приободритесь, милорд! – продолжал граф Рэтленд. – Благородный, отважный и надменный Рочфорд сумеет отстоять и себя и сестру; он смутил даже своих судей. Трудно предположить, что все кончится обвинительным приговором. Я не сомневаюсь, что суд оправдает ту, которую вы желаете спасти! – Да, ценой моей жизни, ценой моей души! – воскликнул пылко Перси. – Никто в мире не знает и не может понять, как я ее любил! Роковая случайность разлучила меня с ней, но даже в минуты непосильных страданий во мне не угасала надежда на лучшие дни. Эти дни наступили: она вполне осознала все свои заблуждения; она стала опять той, которой была в ранней юности, – кроткой, любящей и непорочной Анной!.. И вот ее сажают на скамью подсудимых, а меня избирают судьей!.. Голос Перси осекся… Раздался шум отворяемой двери, и затем наступило могильное молчание… Но не Рочфорд появился перед оторопевшей и взволнованной публикой, а королева Анна медленно взошла по ступеням помоста; за ней шли ее фрейлины. Королева была в черном бархатном платье; кружевная косынка прикрывала ее светло-русые волосы; ее нежное личико осунулось, но грустные, прозрачные голубые глаза сохранили свою чарующую прелесть; ее гибкая талия была так же тонка, как прежде, и вообще ее поза, движения и приемы отличались прежней своеобразной, непринужденной грацией. Когдаона из-под длинных опущенных ресниц взглянула на судей и на публику, то бледное лицо ее моментально покрылось пылающим румянцем; она скрестила руки и поклонилась лордам. В тесных рядах сидевшей за помостом публики раздались восклицания привета и сочувствия, и судьи, уступая невольному порыву, привстали со своих мест и поклонились с видом глубочайшей почтительности державной подсудимой. Но не все присутствующие поддались влиянию этой в высшей степени торжественной минуты. Старый граф Норфолк побагровел от гнева, когда увидел Анну. – Предлагаю вам, лорды, приступить к совещанию! – произнес он сурово. – На нас лежит теперь священная обязанность наказать виновных… – И оправдать невинных! – проговорил за ним Нортумберленд. Вслед за этим в рядах, где сидели судьи, началась суета. Суровый президент сердито оглянулся, чтобы узнать причину этого беспорядка, и увидел Рэтленда, поддерживавшего голову лежавшего у его ног неподвижного Перси. Увидев королеву Анну, стоявшую на помосте в кругу судей, Нортумберленд лишился чувств. Подбежавшие слуги поспешили отнести его в экипаж, ожидавший у ворот Тауэра. Рэтленд пошел за ними. – Заседание открыто! – объявил громко грозный герцог Норфолк. – Лорд Перси заболел и не будет участвовать в совещании. (обратно)Глава XXXII Леди Уотстон
– Ну, расскажи мне, что там произошло! – крикнул Генрих VIII Кромвелю, не успевшему еще снять судейскую мантию. – Все, слава богу, кончено! – отвечал граф Эссекский. – И королева Анна, и брат ее Рочфорд осуждены на смерть! – Так я отомщен! – проговорил король с торжествующим видом. – Она, я уверен, говорила много! – Ну нет, она вела себя чрезвычайно сдержанно; в ней было что-то нежное и грациозное, что вызвало симпатию судей! Кое-где в рядах публики слышались рыдания. Я начинал побаиваться, что ее оправдают, но все это, к счастью, продолжалось недолго… Когда ей объявили, что она во исполнение вашей державной воли обязана отречься от царского венца и своего титула, то она отвечала, что сделает это без всякого протеста. – Как? Она отнеслась так спокойно к потере королевской короны? – спросил Генрих VIII. – Нет, но она заметила, что титул и венец были даны ей вами и что вы вправе взять их у нее обратно; когда ей прочитали обвинительный приговор, она привстала с кресла, прошептала молитву и сказала потом без всякого смущения, что, несмотря на то что она не признает себя виновной, она тем не менее примет с радостью смерть, что она никогда не изменяла долгу жены и королевы, что она от души прощает своих судей и будет до конца молить Бога о счастье своего повелителя. – Какая она хитрая и коварная женщина! – сказал гневно король. – Одновременно с приговором получено известие о формальном разводе между вами и ею. – И в этом документе говорится, конечно, что, поскольку открылось, что Анна Болейн жила в гражданском браке с графом Нортумберлендом, она не имела права быть моей женой и королевой Англии, не правда ли, Кромвель? – Да, развод разрешен исключительно вследствие этого обстоятельства! – подтвердил граф Эссекский. В то время как король беседовал с Кромвелем, два лорда направлялись к его пышным покоям по длинной галерее кардинала Уолси. – Милорд, молю вас именем тех, кто вам дорог, откажитесь от этого безумного намерения! – воскликнул граф Рэтленд, преклонив неожиданно колени перед Перси. – Нет, тысячу раз нет! – возразил пылко граф. – Я должен непременно увидеть короля; я должен попытаться сделать все что можно, чтобы отвести от нее удар. Притом я только пользуюсь правом каждого лорда явиться к своему повелителю. – Да, только не в таком состоянии! – перебил граф Рэтленд. – Нет, милорд, отложите визит до завтра, примите этот искренний и дружеский совет. – Не могу, не удерживайте меня!.. Ее жизнь висит на волоске! Ведь я буду просить только о правосудии! – сказал Нортумберленд, и Рэтленд не успел преградить ему путь, как Перси очутился у входа в кабинет своего властелина. При его появлении король Генрих VIII изменился в лице. – Государь! – произнес с низким поклоном Перси. – Я явился, чтобы просить вас о правосудии. Король не отвечал. – Вы вызвали меня ко двору, и я повиновался вашей воле; но вы приказали мне стать одним из обвинителей и судей королевы, полагая, что ревность сделает меня ее врагом. Суд осудил сегодня королеву на смерть! Ее жизнь в вашей власти, но вы, ваше величество, желаете навлечь позор даже на ее память и, увлекшись чувством мести, бросаете тень на мое до сих пор безупречное имя. Вы говорите, что она не могла быть вашей женой, так как жила со мной в незаконном союзе. Но если бы это было так, то проступки ее задевают не вас, а меня! Скажу вам больше. Будь она моей, никто не смог бы отнять ее у меня, не взяв и мою жизнь. Вы, говорят, любили ее, ваше величество, и я любил ее, но любовь ваша дала ей бесславие и смерть, а я готов отдать все, что я имею, чтобы сохранить ей жизнь. Верните же мне ту, которую вы называете не своей, а моей женой, и я, не задумываясь, дам ей славное имя моих доблестных предков. Я прошу правосудия, только правосудия! Молю ваше величество перед лицом всевидящего, всемогущего Бога не отказать мне! – И я прошу только правосудия! – повторила женщина в длинном траурном платье, появившаяся внезапно, как воплощенный укор, на пороге королевской комнаты. – Да, только правосудия! – повторила она, обратив блестевшие неестественным блеском глаза на короля. – Ваша слепая ревность сгубила моего единственного сына! Отдайте мне его, мою гордость и радость, отдайте мне Уотстона!.. Я уже не могу просить вас о помиловании… но я пришла сказать, что я предаю вас праведному суду Всемогущего Бога! Я буду умолять Его воздать вам по заслугам: око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Припомните слова Священного Писания: «Проклятие вдовы – всепожирающий пламень!» У вас тоже есть сын!.. Хоть он и незаконный, но ведь вы его любите больше всего на свете; вы видите в нем опору вашей старости! Но вы, не задумываясь, сгубили моего, и праведный Бог отнимет у вас вашего! Он иссохнет как лист, опаленный грозой, и все ваши молитвы не спасут ему жизнь!.. Я протяну мою беспомощную руку к небесам и воззову к Всевышнему: «Я еще не простила!» И когда я узнаю, что вы, так же как и я, схоронили надежду вашей жизни, я вздохну с облегчением и попрошу Создателя: «Боже! Прими мой дух! Я простила тому, кто отнял у меня единственного сына!..» – Кромвель! – воскликнул бледный и дрожащий король. – Ее голос разрывает мне душу!.. Что же вы стоите? Верните ей сына! – Я привык исполнять без всяких отлагательств ваши распоряжения! – отвечал граф Эссекский. – Уотстон, Бартон и Норрис казнены сегодня утром. (обратно)Глава ХХХIII Комендант Тауэра
– Боже! Придет ли Перси? Уже ночь, а он хотел прийти! Как мрачен и томителен вечер этого страшного дня! Удастся ли ему выхлопотать помилование? О, жизнь! Возьмите все, но оставьте мне жизнь! Как удар грома поразили меня роковые слова: «Осуждена на смерть через обезглавливание или повешение!» Боже! Ты дал мне силу устоять в этот страшный момент! Тебе известно, что я не виновата в этих тяжелых преступлениях! Сохрани же мне жизнь! Мне только двадцать лет!.. Будь милостив ко мне! Кровь стынет в жилах при мысли о могиле! Я хочу жить, дышать, хоть бы мне пришлось не видеть ничего, кроме печальных сводов этой страшной тюрьмы! Перестать думать, чувствовать, исчезнуть! От этих страшных слов веет леденящим холодом! Я хотела писать, но свинцовая тяжесть давит на мой бедный мозг! Увижу ли я Перси или мою камеру стали теперь стеречь еще строже, чем прежде? Безумная, безумная! Я не поняла возвышенной души этого человека! Я прошла мимо этой несокрушимой преданности и узнала ей цену лишь тогда, когда все уже безвозвратно погибло. Анна Болейн скрестила бледные руки и начала прислушиваться. Но она не услышала ничего, кроме жалобного завывания ветра в тюремных коридорах. – Ничего! – прошептала она с равнодушием отчаяния. – Он поехал просить короля о помиловании, но это совершенно бессмысленно! Мне отлично известен характер короля! Нет… Я должна сжиться с мыслью, что между мной и будущим – бездонная пропасть. Что сталось с моей дочерью? Как поступит король с этим маленьким невинным созданием? Он, быть может, отправит ее в изгнание, как Марию? Бог карает меня той же самой мукой, которую испытывала из-за меня другая: и мне, как Екатерине, отказано в возможности благословить дитя мое перед вечной разлукой! Нортумберленд не идет!.. Я умру, не услышав ни одного сочувственного и дружеского слова! Какой глубокий ужас наводит это могильное молчание!.. Ожидание смерти тяжелее ее самой!.. Все решено и кончено! Он, не дрогнув, утвердит смертный приговор! У Генриха VIII каменное сердце… Его воля склонялась только перед моей!.. Отец и мать моя! Зачем вы отдали меня этому человеку? Ведь вы меня любили… да и я вас люблю. Анна стала с лихорадочной торопливостью ходить из конца в конец комнаты; через некоторое время она остановилась, и щеки ее вспыхнули: за дверью в коридоре послышались шаги. – Нортумберленд! – воскликнула она с живейшей радостью. Дверь тихо отворилась, но в камеру вошел не Перси, а тюремщик. В его глазах застыли смущение и тревога; он приблизился к узнице и сказал ей дрожащим от волнения голосом: – Спрячьте это скорее! Не губите меня!.. Строгость мистера Кингстона известна всей Англии! В руке Анны Болейн очутился пакет довольно странной формы. – Кто вручил его вам? – спросила она шепотом. – Тот, кого я провел к вам вчера ночью. – Благодарю! – сказала с признательностью узница. Тюремщик поспешно удалился. – Я не увижу Перси! – сказала Анна Болейн с сожалением. Она вскрыла пакет и нашла в нем письмо и чрезвычайно мелкие коралловые четки с серебряным крестом; на крестике была надпись: «Аз есть истина, путь и живот вечный!» Письмо было надписано: «Леди Анне Болейн». На печати был изображен длинногривый лев и девиз дома Перси; узница сломала ее дрожащей рукой. Нортумберленд писал: «Леди Анна! Я видел сегодня короля. Он был сильно взволнован визитом матери, у которой отнял единственного сына, и я начал надеяться, что он не откажется отменить приговор; но все мои надежды рассеялись как дым: он ответил на все мои просьбы решительным отказом. Не стану Вам описывать эту нравственную пытку! Скажу Вам тем не менее, что я не потерял надежды спасти Вас. Я занял у евреев значительную сумму: Ваш тюремщик подкуплен; он берется вывести Вас незаметно из Тауэра и сядет вместе с Вами на корабль, уже готовый к отплытию с Темзы… Я лечу к капитану и уверен заранее, что побег Ваш устроится без всяких затруднений. Однако все это не мешает мне тосковать до отчаяния! Что, если они вздумают ускорить казнь? Кровь стынет в жилах при мысли об этом! Я боюсь Вас оставить, но не могу не ехать, так как дело не сладится без моего присутствия. Я пишу для того, чтобы Вы меня не ждали: я вернусь завтра вечером. Я все предусмотрел: корабль высадит Вас в Антверпене, и Вы найдете там обстановку, конечно, далеко не роскошную, но вполне отвечающую Вашим прежним привычкам. Вы вздохнете привычнее при мысли, что избавились от своих палачей! Я буду горячо благодарить Всевышнего, когда корабль умчит Вас от английских берегов в беспредельное море, но душа моя разрывается на части при мысли, что нам больше не суждено увидеться! Вы и я жили врозь, далеко друг от друга, но нас не разделяла чужбина! Повторяю Вам снова: откажитесь от всякой надежды на помилование! Лишь немедленное бегство может спасти Вас от рук палача. Больно Вас оставлять, но я должен отправиться и все устроить, не теряя ни минуты. Если мне не придется Вас увидеть, знайте, что я беспредельно предан Вам, несмотря ни на что… и всегда! Молитесь за меня хоть изредка, Анна! Посылаю Вам маленькие коралловые четки; моя мать прижимала их с верой к груди перед своей кончиной, и я смотрел на них почти как на святыню, но без сожаления передаю их Вам. Пора ехать, Анна! Прощайте же, прощайте, мой незабвенный друг, и да хранит Вас Бог! Генри Перси». По лицу Анны Болейн текли крупные слезы она с благоговением прикоснулась губами к письму Нортумберленда и к коралловым четкам. Почти в ту же минуту за дверью ее камеры послышались шаги. Анна едва успела спрятать письмо и четки, как перед ней появился комендант замка Тауэр мистер Уильям Кингстон. – Это вы, мистер Кингстон! – воскликнула она изменившимся голосом, понимая, что это позднее посещение предвещает недоброе. – Да, увы! Это я! – ответил он печально. – Вы пришли известить меня, что смертный час мой близок! Не так ли, мистер Кингстон? – спросила Анна Болейн. Комендант промолчал, но за дверью послышалось сдержанное рыдание. – Нас, видимо, подслушивают! – сказала королева. – Нет, там плачет моя жена! – ответил комендант. – Почему же она не вошла сюда с вами? Я должна обратиться к ней с весьма важной просьбой!.. – Войди, Елизавета! – крикнул мистер Кингстон. – Скажите же, когда меня казнят? – спросила Анна Бо-лейн, и лицо ее стало белее полотна. – Завтра утром! – ответил чуть слышно комендант. – Да будет надо мной Его святая воля! – прошептала она. – Я предчувствовала, что меня не спасут уже ничьи молитвы! Скажите, мистер Кингстон, вы уже находились в должности коменданта в то время, когда Мор был заключен в Тауэр? – Да! – ответил он ей. – Так вы знали его? – Да, я знал лорда Мора. – Ну так Господь наказывает меня именно за него! – сказала Анна Болейн с глубоким раскаянием. – Садитесь в это кресло, – обратилась она к плачущей миссис Кингстон. – Мне придется просить вас о громадной услуге. Когда миссис Кингстон решилась наконец исполнить ее волю, Анна протянула к ней с умоляющим видом свои бледные руки. – Миссис Кингстон! – воскликнула она с глубокой тоской. – Снимите с моей совести тяжкий грех! Дайте честное слово, что вы вместо меня встанете на колени перед леди Марией и скажете ей, как сильно я раскаиваюсь во всем, что ей пришлось вынести из-за меня. Скажите ей еще, что если бы ее мать была жива, то я бы ползала, как собака, у ног ее и умоляла простить меня за прошлое! Даете ли вы слово исполнить эту просьбу? – Да, клянусь именем всемогущего Бога! – сказала миссис Кингстон печально и торжественно. В камере воцарилось на несколько минут глубокое молчание. – Сколько же мне осталось жить на этом свете? – спросила Анна Болейн. – Немногим более двенадцати часов! – ответил комендант. – Мне, конечно, позволят обнять мать и отца в последнюю минуту? – Нет, король этого не желает! – А мою дочь… а брата? – Пожалейте меня, – перебил мистер Кингстон. – Мне больно говорить это, но вам нельзя их видеть! – Ну, пусть будет что будет! – воскликнула она. – Я должна покориться моей страшной судьбе. Уйдите, мистер Кингстон! Мне нужно приготовить себя к смертному часу и помолиться Богу. Комендант удалился вместе со своей женой, но, верный привычке выполнять строго обязанности службы, не забыл положить перед Анной Болейн смертный приговор с королевской подписью. Когда шаги Кингстона затихли в отдалении, лицо осужденной исказилось от страшного душевного волнения. – Все кончено! – сказала она, содрогаясь от звука собственных слов. – Нужно проститься с жизнью!.. Я не увижу Перси!.. Мне придется бороться одной со страхом наступающей смерти!.. Я не лягу в постель… Пройдет немного времени, и я засну глубоким, непробудным сном!.. Да, прощайте навеки, родные и друзья, прощайте навсегда счастье, молодость, жизнь! Перси вернется завтра в это самое время… Он войдет в это мрачное и печальное здание и спросит обо мне… «Умерла!» – объявит ему равнодушно тюремщик. Как я ему признательна за четки и за крестик! Я с ними не расстанусь: их должны положить вместе со мной в могилу! Позаботилось ли тюремное начальство оставить мне бумагу? Да, бумага оставлена, даже больше, чем нужно! Вот и мой смертный приговор! А вот и его подпись: «Король Генрих VIII»! Почерк красивый и ровный… рука его не дрогнула!.. И я с этой минуты перестаю дрожать. Анна села к столу и начала писать. Вот содержание ее письма.«Лорд Перси! Когда Вы вернетесь завтра вечером, я буду уже стоять перед судом Всевышнего… Тюремщик передал мне Ваше письмо и четки. Благодарю за дар! Я унесу его в холодную могилу. Все погибло!.. Все кончено!.. Говоря откровенно, во мне еще таилась надежда на спасение, и она окрепла после прочтения Вашего дружеского письма! Но все это, к несчастью, продолжалось недолго! У меня был сейчас комендант, мистер Кингстон… Мой смертный приговор лежит передо мной! Мы простились навеки, я не увижу Вас! Мне не позволят увидеть даже отца и мать, даже брата и дочь! Я одна, одна, Перси, в этой страшной тюрьме! Прощайте, благородный, великодушный друг мой! Я поручаю Вас милосердию Божию! Да хранит оно Вас! Мне очень тяжело… мне страшно умирать, но если бы Вы были теперь около меня, то Вы бы, без сомнения, поддержали мое ослабевшее мужество. Но меня окружает гробовое молчание!.. О, зачем Вы уехали? Спасение мое было несбыточной надеждой. Вы летите теперь, как стрела, к своей цели и не знаете даже, что все уже закончено! Но наказание это совершенно заслуженно. Я неповинна в том, в чем меня обвиняют, и буду утверждать это до своей последней минуты. Но на душе моей лежит грех за другие тяжелые преступления! Томас Мор!.. Рочестер! Я с трудом пишу их имена!.. Я была в то время еще так молода! Я не имела понятия о жизни!.. Где Вы будете, Генри, завтра в девять часов? Шепнет ли Вам предчувствие, что в эту минуту я с ужасом кладу голову под топор палача? С того самого часа, как меня заключили в эту грозную, обращенную на север крепость, куда ко мне доносится завывание ветра, воображение со странной настойчивостью переносит меня на цветущие луга и поля, озаренные ярким солнечным светом. Эти воспоминания лишь сильнее бередят мои и без того мучительные раны и осаждают меня гораздо чаще после свидания с Вами. Помните ли Вы, Генри, наши прогулки в ясные летние вечера? Я вижу деревенские домики, окруженные зеленью, перекидные мостики, прозрачные ручьи. Вспомните, как часто мы стояли и смотрели на лебедей, дремавших на спокойных водах, и как я восхищалась серебристым отливом их белоснежных перьев! Эти картины мирной и благодатной жизни доводят меня до безумия. Тяжело расставаться с прекрасным Божьим миром, с людьми, близкими сердцу, и с великим блаженством видеть, думать и чувствовать, одним словом – жить! Из всех моих надежд уцелела единственно одна только надежда на милосердие Божие, но я переселюсь из этой жизни в вечность с разбитой душой и неспокойной совестью! На ней лежит так много грехов. Молитесь за меня! Мне это необходимо! Меня теперь заботит больше всего на свете невозможность добраться до принцессы Марии, но жена коменданта дала мне сегодня слово исполнить за меня этот священный долг и вымолить у нее прощение, которое я не имею времени испросить у нее лично. Но прощайте, прощайте! Время летит; час казни приближается. Благодарю за все, что Вы для меня сделали и что хотели сделать! Пусть Бог вознаградит Вас, мой благородный Генри, за Вашу бескорыстную, неизменную преданность! Я была недостойна этой святой любви! Молитесь за меня!.. Анна Болейн. Тауэр, 18 мая 1536 года.Сложив письмо, осужденная начала писать к графу Уил-ширскому. Вот что написала несчастная королева своей родной семье:
P.S. Тюремщик обещал мне передать Вам распятие, единственного друга, которого судьба оставила при мне в последние минуты. Сохраните его на память обо мне и еще раз прощайте. До свидания в вечности!»
«Мой отец, моя мать! Когда это письмо попадет в ваши руки, окровавленный труп вашей несчастной дочери будет уже в могиле. Я знаю, что вы горько сожалеете о троне, с которого судьба свергла меня так непредвиденно и на который мне было бы гораздо лучше никогда не всходить! Страшен роковой день, когда я перешла из королевской ложи на Гринвичском турнире в мрачную бездну Тауэра; острым ножом пронзает душу воспоминание о шумном ликовании, происходившем три года назад, и о легионе барок, которые покрыли Темзу и с которых разносились приветствия английской королеве. Отец! Я помню, как Вы торжествовали, когда земля дрожала от пушечной пальбы из крепостных орудий, которой меня встретил в то блаженное время этот же самый Тауэр, где я теперь сижу в ожидании казни. Простите мне, отец, эти воспоминания! Но теперь эти крики сменились могильной тишиной!.. Мне отказано даже в возможности проститься с Вами, с матерью, с Джорджем. Но ко мне провели жену моего брата и позволили ей наговорить мне тысячи оскорбительных слов и даже принуждать меня сознаться в преступлении, которого я и в мыслях не совершала. Но в душе моей нет уже места мщению, и я от всего сердца прощаю леди Рочфорд, хотя и признаю, что она была главной причиной моей гибели. Прошу Вас убедительно не упрекать ее за меня и за брата: она сгубила нас под влиянием безумной и безграничной ревности! Покоритесь, отец мой, воле Господа Бога и сносите безропотно одиночество, в котором Вам придется доживать Вашу жизнь! Я не знаю, что будет с моей бедной малюткой, с моей Елизаветой! Сделайте для нее все, что от Вас зависит! Король Генрих VIII перестал, говорят, признавать ее дочерью и внушает другим, что она плод позорной, незаконной любви!.. Я прощаю ему страшную клевету, которую он хочет возвести на меня. Но Вас я умоляю: если он отдаст дочь мою на Ваше попечение, то не воспитывайте в ней честолюбивых чувств, не говорите ей о троне и власти, если Вы не хотите, чтобы ее голова попала, как и моя, под топор палача! Это мое последнее, горячее желание и последняя просьба вашей всеми оставленной, умирающей дочери Анны Болейн. 18 мая 1536 года».– Все кончено! – воскликнула с содроганием узница. Она обвела комнату странным взглядом, в котором безграничный ужас сливался с безумием. – Завещание сделано! – прошептала она, припав головой к распятию. – Возьми меня, Боже, поскорее отсюда!.. Мой рассудок не выдержит этого испытания. Прости мне мою слабость и мои прегрешения, Создатель! (обратно)
Глава XXXIV Казнь королевы
К половине двенадцатого приготовление к казни было закончено: эшафот возвышался, величавый и грозный, на площади, заполненной народом; ступени и помост были обиты черным глянцевым сукном; около плахи стоял простой дубовый гроб без всяких украшений. На высоком валу мрачного Тауэра два солдата стояли у заряженной пушки; фитиль уже дымился. Вскоре на место казни прибыли граф Эссекский, государственный канцлер Чарлз Брэндон, герцог Саффолк и с ним сын короля, молодой герцог Ричмонд. Кромвель был очевидно спокоен и доволен; его заклятый враг, благородный Рочфорд, был казнен на рассвете; лицо канцлера Одли ничего не выражало; герцог Саффолк стоял, опустив глаза в землю, и только герцог Ричмонд, юноша привлекательной, благородной наружности, заливался слезами. Руководствуясь ничем не объяснимым чувством, король Генрих VIII захотел, чтобы сын его, главный предмет всех его мыслей и его любви, присутствовал на этой кровавой церемонии. С последним, двенадцатым ударом в народе послышался глухой и таинственный шепот, а потом наступило гробовое молчание. Анна Болейн взошла на роковой помост. Ее сопровождали четыре фрейлины и комендант Тауэра, мистер Уильям Кингстон. Королева была в черном атласном платье с белым шелковым шлейфом; дрожащая рука ее держала небольшие коралловые четки и маленький молитвенник. Когда она ступила на роковой помост, то бледное лицо ее стало еще бледнее; глаза ее невольно обратились на Темзу, как будто отыскивая запоздавшего Перси; затем взгляд ее перешел на первого министра, на герцога Саффолка и на герцога Ричмонда; это были самые приближенные к ней люди; она привыкла всегда видеть их около себя на всех придворных празднествах, и вот они явились и сейчас, но явились затем, чтобы посмотреть на ее казнь. Анна Болейн вздохнула, но поклонилась им с обычной приветливостью. – Мистер Кингстон! – сказала она совершенно спокойно, обратившись к коменданту. – Я должна вас попросить о минутной отсрочке. Комендант поклонился в знак согласия и сказал торопливо, но мягко: – Я советую вам избегать выражений, способных раздражить короля! Вы должны это сделать ради вашего семейства! Она не отвечала и только взглянула на него обворожительными печальными глазами: в них было столько кроткой, безропотной покорности, что комендант был тронут до глубины души. Вслед за этим королева приблизилась к решетке, окружавшей помост, и поклонилась дружески толпе. – Друзья мои и братья! – произнесла она слегка дрожащим голосом. – Не пройдет и двух минут, как я уйду в вечность… Простите же меня от искреннего сердца! Послышались рыдания, и в душе Анны Болейн снова вспыхнуло жгучее сожаление о жизни и минувших днях ее прекрасной молодости. Она посмотрела невольно на палача: тот стоял возле плахи, держа в руке блестящую секиру. По телу осужденной пробежал легкий трепет, и она поспешила закончить свою речь: – Молитесь за меня, мои друзья и братья! Постарайтесь забыть проступки моей молодости! Вы знаете, конечно, в чем меня обвиняют, но я не стану оправдываться: меня ждет беспристрастный и неподкупный суд всемогущего Бога; я вверяю себя Его святой защите! Я смиренно молю Его за судей, вынесших мне смертный приговор, и за покой и счастье моего повелителя: он лучший из людей и был всегда внимателен и милостив ко мне! Я вполне примирилась с моей печальной участью и молю только Господа простить мне все мои прегрешения! Голос Анны Болейн задрожал и осекся, и она поспешила передать свой молитвенник любимой своей фрейлине, родной сестре Виата, английского поэта, бывшего в то время очень популярным. Фрейлина оросила горячими слезами молитвенник и руку, подававшую ей этот прощальный дар. Тогда Анна Болейн сняла с головы белую кружевную косынку, и глаза большинства присутствовавших наполнились слезами при виде этой юной прелестной головки в ореоле светло-русых кудрей. Раздались восклицания глубокого сочувствия, крики негодования, вопли скорби. Осужденная отвернула высокий ворот платья и обнажила нежную лебединую шею. Мужество изменило ей: дрожащие колени ее подогнулись. Однако вскоре ей удалось превозмочь свою слабость и встать на ноги. – Неразлучные спутницы мои! – сказала королева рыдающим фрейлинам. – Я прошу вас во имя той искренней привязанности, которую вы испытывали ко мне, не доверять останки мои посторонним! Вы видели меня на самой вершине житейского блаженства, но пройдет две минуты, и от меня останется обезглавленный труп. Я не могу выразить чувства признательности к вам за все ваши услуги, но советую вам служить с тем же усердием вашему королю и особе, которая займет мое место на английском престоле. Прошу вас вспоминать иногда обо мне и молиться усердно за упокой моей измученной души! Королева умолкла и встала на колени – она была уже не в силах говорить. Одна из ее женщин подошла и с содроганием завязала ей глаза. Губы Анны Болейн посинели от ужаса; руки ее непроизвольно протянулись вперед, и голова безжизненно упала на плаху. Топор сверкнул на солнце. Воздух вздрогнул от выстрела колоссальной пушки, стоявшей на валу неприступного Тауэра; на него отвечали крики скорби и ужаса сотен тысяч людей. Голова королевы скатилась на помост. Полуживые от ужаса фрейлины подошли к окровавленному, еще теплому трупу и, уложив и голову, и туловище в гроб, понесли его в часовню замка Тауэр. В это время в Ричмонде, на одном из пригорков этой очаровательной и живописной местности, стоял, скрестив руки, человек, уверявший недавно Анну Болейн, что он ее любит превыше своей власти и даже своей жизни, человек, возложивший на ее беззаботную молодую головку королевский венец. Когда прогремел пушечный выстрел, мрачное лицо этого человека осветилось улыбкой торжества и злорадства. – Голова Анны Болейн уже слетела с плеч, и завтра же Сеймур будет моей женой! – воскликнул он, торопливо сходя с пригорка. Он разорвал и выбросил донесение Кингстона о последних часах пребывания Анны в тюрьме; но копия сохранилась в архиве тюремной канцелярии. Мистер Кингстон писал:«Ваше Величество! Имею честь уведомить Вас, что я получил письмо, в котором Вы приказываете мне удалить иностранцев, находящихся в Тауэре. Я исполню это без всяких отлагательств; число этих господ довольно незначительно, и при них нет вдобавок никакого оружия; а посол императора отослал вчера вечером последнего слугу. Если час казни не объявлен еще жителям Лондона, то вряд ли можно ждать большого стечения народа, что желательно уже потому, что леди Анна Болейн объявит перед казнью о своей непричастности к проступкам, за которые ее карают смертью. Сегодня после исповеди она просила меня быть свидетелем клятвы, которую она торжественно произнесла перед святым распятием, в том, что она невиновна; через некоторое время она снова послала одного из тюремщиков за мной. «Мистер Кингстон! – сказала она, когда я вошел в камеру. – Я узнала, что казнь моя совершится не раньше двенадцати часов; меня очень печалит подобная отсрочка, я пламенно желаю умереть поскорее и перестать страдать!» Я ответил на это, что момент ее смерти будет не так мучителен, как она воображает! «Да, палач, говорят, отлично знает дело, и у меня вдобавок очень тонкая шея!» – заметила она печально, но спокойно. Верьте, Ваше Величество, мне приходилось видеть много приговоренных, но все они дрожали и бледнели при мысли о роковой минуте; леди Анна, напротив, относится сравнительно спокойно к приближению смерти. Духовник ее прибыл к ней в два часа пополуночи и провел с ней все утро. Я считаю обязанностью своей доложить Вам подробно обо всем, что видел. Молю усердно Господа сохранить Вас своей неизреченной милостью, прошу Ваше Величество принять заверение в глубочайшем уважении и искренней преданности Вашего верноподданного Уильяма Кингстона. Тауэр, 19 мая».(обратно)
Глава XXXV Над гробами казненных
Помост, облитый кровью, был разобран и увезен; публика, наводнявшая необъятную площадь, разошлась по домам, и Лондон и окрестности приняли прежний вид. В королевском дворце кипела бурная деятельность: там готовились к пышному, торжественному празднеству, украшали алтарь – Джейн Сеймур должна была на следующий день вступить на английский престол. У входа в одно из подземелий Тауэра, во рву, поросшем разными колючими травами, сидя дремал мужчина очень мрачной и суровой наружности. Лицо было спокойно. Войска были распущены; вокруг Тауэра царила прежняя тишина; взмах секиры убаюкал бдительность тюремного начальства, и дела шли своим чередом. Этот штиль после бури отразился, конечно, и на угрюмом тюремщике, изъявившем согласие бежать с Анной Болейн: он спокойно дремал, поджидая кого-то. Легкий шорох, достигший внезапно его слуха, заставил его вздрогнуть и вскочить на ноги. – О, милорд! – сказал он при виде человека, которого ждал. – Теперь уже слишком поздно! Сегодня ровно в полдень… – Боже! Да разве Анна… Лорд Перси был не в силах договорить; лицо его покрылось синеватой бледностью, и он с большим усилием устоял на ногах. Он стоял потрясенный. Ему казалось, что чья-то холодная железная рука сдавила ему горло. Он вернулся довольный и вполне успокоенный: капитан корабля согласился содействовать побегу королевы; он ждал ее, чтобы сняться тотчас с якоря: все переговоры Перси увенчались успехом, и все это пропало, все было уничтожено! – Ее казнили в полдень! – стал пояснять тюремщик. – Она передала мне тихонько два письма. Я отнес одно из них, куда она велела, и приберег другое для вас. – Умерла! – произнес с глухим рыданием Перси. – Умерла беззащитная, не встретив ничьего приветливого взгляда, не унеся с собой ни одного сочувственного и дружеского слова; умерла одиноко, не дождавшись меня. Он упал на влажную неровную почву и залился горючими слезами. – Мне было тяжело узнать, что вы уехали! – начал снова тюремщик. – Я не имел возможности устроить это дело без вашего содействия. Я улучил минуту и пробрался к вам в дом, но вас там уже не было… Да и, кроме того, нам бы не удалось вывести ее из Тауэра среди белого дня! Перси не отвечал: его мужество было сломлено тяжестью последнего удара. Не дождавшись ни слова, ни звука, ни жеста, тюремщик продолжал тем же бесстрастным тоном: – Вы не должны винить меня во всем этом, милорд! Ведь я не мог предвидеть, что они поторопятся, я не мог ничего изменить; я был готов служить вам, вы это сами знаете; как только я узнал ваше имя и звание, я, рискуя головой, решил сделать все, что от меня зависело, не ради интереса… – Где ее тело? – спросил Нортумберленд. – Здесь, в Тауэре, в часовне. – Дайте же мне ее письмо! Тюремщик поспешил исполнить его просьбу. Перси схватил письмо дрожащей рукой. – Она еще нашла в себе столько силы, чтобы проститься со мной! – произнес он с отчаянием. – Боже, праведный Боже, зачем ты дал мне пережить ее казнь? Анна! Моя возлюбленная, моя бедная Анна! Сегодня утром она еще жила, дышала, говорила, и вот отняли у нее жизнь!.. Им нужна была кровь этого восхитительного юного создания?! – Ее тело в часовне святого Петра! – сказал снова тюремщик. – Ведите же меня немедленно туда! Я хочу ее видеть! – воскликнул Генри Перси. Они молча спустились в подземный коридор и очутились скоро в северной части здания. Когда они вошли в тюремную часовню, в лицо им пахнуло влажным, гнилым воздухом. В часовне было тихо и мрачно, как в могиле. В ней стояли два гроба: в одном лежал труп королевы Анны, в другом – труп ее брата, графа Джорджа Рочфорда. Дымное пламя лампады озаряло бледным светом угрюмое лицо тюремного могильщика; он приподнял тяжелую каменную плиту, закрывавшую склеп, в котором тлели кости Рочестера и Мора, и спустился в него, чтобы вырыть рядом с могилами этих мучеников две новые могилы. Стук заступа о землю был единственным звуком, проникавшим в безмолвие, которое царило под этими массивными, почерневшими сводами. Тюремщик обвел взглядом небольшую часовню и вошел в склеп. – Дайте мне ваш фонарь! Мне нужно на минуту посветить его милости! – сказал он торопливо. – Возьмите! – отвечал апатично тюремщик. – Но… тише: не заденьте могилу лорда Мора… Я, право, не желаю, чтобы ее топтали. А Перси продолжал стоять, как призрак, перед двумя гробами: он крепко сжимал грудь обеими руками, как будто боясь, что она разорвется от безысходной и непосильной муки. Тюремщик подошел и наклонил фонарь, чтобы дать лорду возможность отчетливее видеть в окружавшем их мраке. – Я бы хотел взглянуть на нее еще раз! – сказал с усилием Перси. – Ну что же! Это нетрудно: гробы не заколочены, и гвозди можно вытащить клещами! – проговорил тюремщик. – Так вы на самом деле хотите это сделать? – спросил с недоумением могильщик. – Тюремное начальство может вас наказать за это своеволие! Но тюремщик, по-видимому, не обратил внимания на это замечание и сорвал крышку с гроба казненной королевы. Холодный пот прошиб этих ко всему привыкших людей при виде страшного зрелища, которое предстало их глазам. Какие муки, Господи, могли так исказить это обворожительное, молодое лицо, залитое кровью? Густые кудри Анны Болейн были немилосердно иссечены секирой, глаза были открыты, и в этом пристальном, диком взоре светилось что-то грозное, леденящее кровь; маленькая рука, искривленная судорогой, прижимала к груди коралловые четки с серебряным крестом. Лорд Перси отступил в невыразимом ужасе. – Творец земли и неба! – произнес он со стоном. – И это она, Анна, молодая, прелестная, грациозная Анна!.. Эти страшные, мертвые, открытые глазницы – ее прежние дивные голубые глаза? Эти чудесные длинные, светло-русые кудри… Заколотите гроб! – крикнул он повелительно. – Свирепость человека не ведает границ. – Вы, верно, не откажетесь, если понадобится, подтвердить, что последнее желание казненной было исполнено и четки положены вместе с ней в могилу! – сказал робко могильщик. – Да, да! – ответил Перси. – Четки моей покойной матери лежат у ее сердца, и рука ее держит животворящий крест. Мир праху твоему, моя милая, бедная Анна! – Я слышал, что она умерла как истинная праведница! – проговорил тюремщик. – Я не был на казни, но она, говорят, молилась так усердно, как умеют молиться только Божьи ангелы. – Повтори еще, варвар, что она умерла как истинная праведница, что Всевышний принял ее в Свое святое лоно! – воскликнул с гневом Перси, сжав с силой мускулистую руку этого человека, который говорил с искренним сожалением о том, что не мог присутствовать на казни. – Не гневайтесь, милорд! – сказал робко тюремщик. – Я повторил вам то, что говорят другие; я сделал все, что мог; я исполнил все то, что вы мне приказали; мне удалось облегчить положение графа Джорджа Рочфорда, чего он, конечно, никогда бы не дождался от нашего начальства. – Ну хорошо! Довольно! – перебил его Перси. – Ройте скорее могилу!.. Я должен, я желаю отдать ее останкам этот последний долг. Не прошло и получаса, как земля приняла в свое сырое лоно тела сестры и брата. Лорд Перси преклонил колени у могилы, поглотившей навеки надежды его жизни, и прошептал молитву за упокой души раба Божьего Джорджа и рабы Божьей Анны. Королева покоится в глубоком склепе Тауэра между Мором и Рочестером. (обратно)Глава XXXVI Отец и мать
Темный вечер сменил достопамятный день казни Анны Болейн. В большом старинном доме, недалеко от особняка, в котором жила леди Уотстон, сидели у давно погасшего камина двое пожилых бледных и угрюмых людей. Это были надменный, суровый граф Уилширский и графиня Уилширская. – Огонь угас, как угас и мой род! – сказал старый вельможа глухим и хриплым голосом. – Мое древнее имя некому передать. Мои дети, надежда и гордость моей старости, лежат в сырой земле! Графиня! – продолжал он после короткой паузы. – У вас нет дочери!.. Да, ее у вас нет! Было бы, конечно, лучше для вас и для меня, если бы Господь Бог не дал нам детей!.. Тех, кого мы нянчили, поили и кормили, нет больше!.. Чужие люди закроют нам глаза. Графиня отвечала на эти слова только неудержимыми, судорожными рыданиями. – Джордж! Анна! – продолжал с суровой скорбью граф. – Вы уже не откликнетесь на свои имена! Они казнили вас, прелестных, молодых, едва начавших жить! Каждое слово графа вонзалось острым кинжалом в сердце несчастной матери. – Милорд, вы беспощадны! – воскликнула она. – У вас нет сострадания; вам как будто приятно растравлять мои раны! Прощальное письмо молодой королевы лежало перед ней – оно было мокрым от слез. Глаза старой графини приковались к нему. – Анна написала правду! – произнесла она с тоской и упреком. – Ваше адское честолюбие погубило всех нас; она была кроткой и прелестной, как ангел, но вы подогревали в ней любовь к роскоши!.. Джордж был честен, правдив, но вы старались склонить его к притворству; ваши советы сделали его надменным и заносчивым! – Замолчите ли вы? – воскликнул граф Уилширский, побагровев от гнева. – Спрашиваю опять, замолчите ли вы? Каждое ваше слово то же, что острый нож! Неужели я буду до конца дней моих слушать ваши упреки и обвинения? Или мало вам моих страданий? Молчите же, графиня! Ваш голос вызывает у меня припадки бешенства… ваша роль уже сыграна, ваша жизнь прожита точно так же, как и моя!.. У меня и у вас не осталось отныне ничего, а сознание этого убийственно для тех, кто, заботясь о материальных благах, забыл о вечности. (обратно)Глава XXXVII Исповедь
Прошел год со дня казни английской королевы. Скованная стужей земля отогревалась под дыханием весны: луга зеленели, леса оделись в молодую листву и огласились звонким щебетанием птиц. Все проходит: смерть, война и чума, грозный бич человечества, но разбитое сердце не способно воскреснуть к новой жизни, его не отогреет никакой яркий луч. Душевная рана графа Нортумберленда не поддалась живительному влиянию весны; он апатично смотрел на солнце, золотившее вершины родных гор, и на чистое небо, такое яркое над лесами Альнвика. Душа Перси рвалась из земной оболочки туда, куда не проникают измена и разлука. Старый Гарри грустил; половина громадных владений лорда Перси перешла постепенно в чужие руки, но слуга постоянно задавался вопросом: куда исчезают суммы, вырученные от продажи угодий и земель? Всем старым слугам в замке была уже назначена пожизненная пенсия, и все вообще указывало на то, что граф Нортумберленд готовится к какому-то решительному шагу; но Гарри, несмотря на все свои старания, оставался в неведении относительно планов своего господина. Когда Перси вернулся из Лондона в поместье и когда Гарри встретил его у чугунных ворот, лорд сказал, не вдаваясь ни в какие подробности, что Анна умерла. Старик понял, что слова утешения напрасны, и ничто не нарушало с тех пор глубокой тишины, царившей в Альнвике. Она прошла как тень по подъемному мосту. И Элиа была на самом деле тенью прежней, цветущей девушки. Прекрасное лицо ее покрывала почти прозрачная бледность, глаза блестели лихорадочным блеском. Силы изменили ей: она остановилась, чтобы перевести дыхание. – Я наконец у цели! – прошептала она. – Кольцо будет доставлено!.. Я достигла желаемого… Я теперь не умру на соломе, в конюшне деревенской гостиницы! Она прошла, шатаясь, два или три шага и стукнула три раза в чугунные ворота. Через несколько минут перед ней появилась тщедушная фигура старого Гарри. Он оглядел девушку. – Вы просите подаяния? – спросил он. – Да! – сказала она. – Ну так вот вам, возьмите! Он бросил монету. – Во имя Анны Болейн! – добавил он внушительно. – Во имя Анны Болейн? Будь она проклята! – воскликнула с негодованием девушка. Она гневно отбросила ногой подаяние, и монета скатилась в ров,окружавший вал. Старый Гарри взглянул с глубоким изумлением на молодую девушку. – Как, вы бросили в ров деньги моего господина, графа Нортумберленда? – произнес он, нахмурив седые брови. – Ведь вы могли купить на них новые башмаки! – Я не нуждаюсь больше ни в одежде, ни в хлебе! – отвечала Элиа. – Меня уже не привлекает ничто на свете; я уйду из жизни раньше тебя, старик… Я выпила до дна чашу земных страданий! Я видела громадное количество людей… Я сталкивалась с ними на площадях и улицах, но ни один из них не понял меня, не прочел в моем сердце! Да, – продолжала девушка после минутной паузы, – никто не мог сказать: «Я знаю душу Элиа!» Но силы мои иссякли… душа рвется из тела!.. Мне нельзя терять времени! Беги скорее, старик, к своему господину! Я должна его увидеть… Я явилась сюда именно с этой целью! Скажи благородному графу Нортумберленду: «Элиа у ворот, она хочет вас видеть!» Да, иди же! – добавила она повелительным тоном, увидев бессмысленный взгляд старика. – Пойми… я задыхаюсь… он не откажет мне в этой последней просьбе!.. Если бы сердце мое не умерло для жизни, то я могла бы полюбить этого человека! Он один в целом свете обращался со мной как с мыслящим созданием, один он пожалел о моей бедной молодости! Ну, чего же ты стоишь? Зови его, старик, пока я еще в силах дышать и говорить! – Иду! – сказал отрывисто озадаченный Гарри. – Ах, грехи мои тяжкие! – проворчал он сердито, отходя от ворот. – Каких только людей не создает Всевышний! Вот на одной неделе третья сумасшедшая! – Как – Элиа? – воскликнул с изумлением Перси, выслушав бестолковое донесение Гарри. – Ты, может быть, ошибся… Ты теперь плохо слышишь? Неужели же это несчастное создание решило довольствоваться оседлой и однообразной жизнью в моем тихом Альнвике? Граф, не теряя времени, выбежал из дома, пересек обширный двор и вышел за ворота. Когда его высокая и стройная фигура появилась перед Элиа, она хотела встать, но силы ее были истощены; голубые глаза глядели с выражением глубокой благодарности на бледное и кроткое лицо Нортумберленда. – Лорд Генри! Вы, конечно, узнаете меня? – произнесла она с печальной улыбкой. – Разумеется, Элиа! – сказал ласково граф и наклонился к ней, чтобы помочь ей встать. – Не могу… не могу… – прошептала она. – Смерть быстро приближается! Но я хотела видеть вас, чтобы вручить вам кольцо и попросить переслать его к леди Марии, дочери названной моей матери! – Она сняла с груди потемневшую ладанку и подала дрожащей рукой графу Нортумберленду. – Откройте ее и возьмите кольцо; я о нем не жалею, так как иду туда, где она ждет меня, – пояснила она совершенно спокойно, указав рукой на голубое небо. – Вы странное создание! – сказал растроганный Перси. – Может быть! – отвечала все тем же тоном девушка. – Мне бы очень хотелось быть похороненной в одной могиле с ней, но это невозможно! Я умру, как жила… у чужого порога! – Элиа! – перебил повелительно граф. – Вас отнесут в мой дом, вы получите мирное, спокойное пристанище, и я не позволю вам продолжать вашу страшную скитальческую жизнь. – Благодарю, милорд! – отвечала она печально. – Но ничто не может уже лишить меня свободы! Всемогущий Господь даст душе моей крылья, и она взлетит туда, где не знают болезней, страданий и разлук. В вашей власти останется только бренное тело! Мое имя не будет красоваться на памятнике, я не оставлю, как звук, никакого следа. Голос ее осекся, губы приняли мертвенный, синеватый оттенок, голова ее свесилась безжизненно на грудь, и роскошные волосы, которые приглаживала так часто Екатерина, обвили ее подобно прозрачному покрывалу. Нортумберленд нагнулся и приложил ухо к груди молодой девушки: он уловил слабое, неровное дыхание. Граф взял Элиа на руки и отнес ее в замок. Когда она пришла в сознание, то увидела, что лежит на роскошной постели в большой высокой комнате, обитой дорогой золотистой тканью и обставленной прекрасной мебелью, драгоценными вазами и редкими картинами в великолепных рамах. В ногах ее кровати сидел в глубоком кресле представительный мужчина, который опирался руками на тяжелую палку с золотым набалдашником. Это был местный врач. – Эликсир произвел желаемое действие, как я и предупреждал! – произнес он торжественно. – Ну, как вы себя чувствуете? – спросил Нортумберленд вполголоса у девушки. – Благодарю, милорд, за все ваши заботы, но они, к сожалению, совершенно напрасны! – отвечала она. – Я была как-то раз у доктора Клемента… Он объяснил, что мне следует делать для своего спасения… Я ничего не сделала! Это непоправимо! – добавила она с задумчивой улыбкой. – Зачем же в таком случае вы ходили к Клементу? – спросил строго и даже резко Перси. – А потому, милорд, – отвечала ему невозмутимо Элиа, – что у меня в этот день… мне вдруг захотелось жить. Сэр Клемент выходил из больницы, основанной покойной королевой, а за ним шел калека, который не переставал благодарить его. «Вы меня вылечили, – говорил он, – вы дали мне возможность работать и ходить; вы вернули мне покой и счастье!» Эти слова заставили меня невольно задуматься. Я поняла вдруг, что расстаться с жизнью, перестать думать, двигаться – вовсе не так легко, как я воображала, если этот больной, искалеченный человек дорожит так своим существованием. Вот что происходило тогда во мне, милорд! Уступив внезапному порыву, я очутилась вдруг, сама не знаю как, у сэра Клемента. Он тотчас же узнал меня и поместил в больницу; он всегда относился ко мне с отеческой заботливостью. Но пребывание в госпитале оказалось для меня тягостным; я ушла. Скитаясь по свету, в непогоду, без пищи, я еще продолжала противиться болезни, но она тем не менее одержала победу. Чувствуя приближение торжественной минуты расставания с жизнью, я собрала все силы, чтобы дойти до Альнвика и вручить вам кольцо. Вы искренне хотите, я знаю, спасти меня от смерти, но доктор скажет вам, что ваши попечения напрасны. – Ну нет, я не собираюсь говорить это графу! – проворчал провинциальный врач. – У меня есть отличные эликсиры и капли, божественные пластыри, которые излечивали многих пациентов совсем безнадежных. – Безнадежнее, чем я? – проговорила девушка с улыбкой. – Я так не думаю! Разговор оборвался. – Милорд! – сказала Элиа, приподнявшись с подушек. – Я признательна вам за все заботы, но меня ничто не держит на земле. Молитесь за меня в Божьем храме, и пусть служитель Божий благословит меня перед кончиной: это все, о чем я прошу вас. Выйдя из комнаты Элиа, лорд Перси приказал немедленно позвать альнвикского священника. Это был человек тонкого ума и самых честных правил; он был правой рукой епископа Йоркского, кардинала Уолси и занимал всегда чрезвычайно почетные должности. Утомленный трудами и чувствуя приближение старости, он уехал в пустынный, отдаленный Альнвик. Прихожане обожали его за обходительность и простоту. Прочитав записку графа Нортумберленда, он отправился в замок, не медля ни минуты. Когда его ввели в комнату больной девушки, он почувствовал сострадание к этому юному созданию, обреченному на смерть. Бледное лицо Элиа заметно оживилось при его появлении, она торопливо приподнялась с подушек. – Благодарю, отец мой! – воскликнула она. – Я рада от души вашему посещению; у меня стало легче и спокойнее на сердце. Все стоявшие в комнате поспешили уйти, и священник остался один у изголовья умирающей девушки. – Вы хотите, конечно, исповедаться и получить прощение милосердного Бога? – спросил он ее кротко и приветливо. – Да, я желаю очистить свою совесть, – отвечала она, – но сначала хочу поведать о моем печальном прошлом. Она остановилась; у нее потемнело в глазах, но она преодолела физическую слабость. Девушка откинула от лица свои влажные светло-русые кудри и села, оперевшись о подушки. – Отец мой! – начала она мелодичным голосом, привлекавшим слушателей, когда она пела баллады и романсы на площадях и улицах. – Когда осень сменяла благодатное лето, когда зелень желтела и засохшие листья падали с легким шелестом на лесные тропинки, мое сердце болезненно сжималось. Мне было больно видеть это угасание природы: птицы уже не пели, солнце не грело, все блекло и гибло – и стебли, и цветы. Но мне не суждено дождаться осени моей жизни, так как я умираю. Я мало пожила, но перенесла много испытаний. Вы должны все узнать обо мне, прежде чем отпустите мои прегрешения во имя всепрощающего и всесильного Бога. У меня нет семьи, нет рода и звания: меня нашли на улице и отнесли в приют, основанный на средства покойной королевы. Я прожила почти до тринадцати лет в этом благословенном доме, где с нами обращались как с родными детьми. Анна Болейн вступила на английский престол, отняв у Екатерины и венец и любовь нашего короля, и нас бесцеремонно выбросили на улицу просить подаяния на городских улицах и ждать дождя для утоления жажды. Мы начали скитаться, но я была счастливее моих сверстниц: мне удалось пробраться в Кимблтон. Я предложила королеве принять меня в услужение и жила с той поры постоянно при ней. В мире не было женщины благороднее ее! Моя преданность ей не имела границ: я уважала в ней королеву и праведницу и целовала часто почти с благоговением край ее одежды. Через некоторое время я даже забыла, что между мной, безродной, и ею, королевой, лежит пропасть. Мне стало больно видеть, что вся любовь ее всецело принадлежит леди Марии. Королеве, конечно, не приходило в голову, что я жила надеждой отбить у наследницы английского престола чувства ее матери. Время шло! – продолжала печально и задумчиво Элиа. – Не выдержав томлений болезни и изгнания, Екатерина скончалась у меня на глазах. Чувствуя приближение решительной минуты, она сняла с руки обручальное кольцо и завещала мне передать его дочери. Я поклялась тогда исполнить ее волю, но кольцо оставалось до нынешнего дня у меня. Это великий грех. Но я пришла в Альнвик, для того чтобы просить графа Нортумберленда вручить его принцессе. Старый священник вытер невольные слезы. – Отец мой! – продолжала с воодушевлением девушка. – Я не в силах выразить вам, как на меня подействовала кончина королевы. Я и теперь с убийственной ясностью вижу ее смертное ложе, высокую фигуру испанского посланника, стоявшего, как статуя, у ее изголовья; коленопреклоненного и бледного, как смерть, графа Нортумберленда и старого священника, читавшего вполголоса отходные молитвы. Вы не в силах понять, сколько горечи в этих воспоминаниях! – К чему же в таком случае вызывать их из мрака безвозвратно минувшего? – спросил кротко священник. – Нет, я выпью до дна эту горькую чашу, – возразила больная. – Вы должны все узнать. Когда она скончалась, меня охватило чувство невыносимого одиночества! Мне казалось, что земля вот-вот разверзнется у меня под ногами; передо мной встала какая-то высокая и темная стена… Этой пытки не выразить никакими словами! – Успокойтесь, дитя мое! – сказал с чувством священник. Он знал, какие страдания посылает Бог человеку, и сочувствовал от всего сердца. – Успокоиться? Нет, я буду продолжать: мне нужно облегчить душу! – ответила решительно Элиа. – В ту самую минуту, когда всесильный Бог отозвал к себе несчастную королеву, в сострадательном сердце графа Нортумберленда возникло сожаление обо мне, беспомощной. Он хотел оградить меня от лишений, не более того; но я была ему сердечно благодарна. «Вы одиноки, Элиа, – сказал он мне приветливо, – я дам вам приют и обеспечу скромную, но спокойную жизнь!» Я не могла принять это предложение. Граф не понимал, что жизнь моя разбита после кончины королевы. Я не могла покинуть этот маленький дом, где лежали ее дорогие останки. Я отвечала лорду решительным отказом, не заботясь о том, что будет со мной. Я стала жить с тех пор той скитальческой жизнью, от которой ранее спасли меня заботы Екатерины. Когда ее останки повезли в Питерборо, я пошла вслед за ними; когда землей засыпали ее гроб, я вышла из аббатства и начала бродить по городам и селам, распевая баллады и играя на лютне. Я посещала ярмарки, продавала помаду, лекарственные травы и обошла всю Англию; что-то звало меня все вперед и вперед; я не могла пробыть более двух-трех дней в одной и той же местности, не став предметом праздного любопытства, не вызывая вопросов: «Кто она и откуда?» «Есть ли у нее родные, и кто ее воспитывал?» «Она держит себя совсем не так, как мы, она, верно, жила в образованном обществе?» Эти пустые толки возмущали меня до глубины души. Я жила так долго в обществе королевы, что не могла выносить этих грубых манер, этих отсталых мнений, этого неподатливого, упорного невежества. Я шла за толпой, но не сливалась с ней. Характер мой испортился: я стала раздражительна и отвечала часто резко, чтобы положить конец назойливым вопросам. Мне не раз приходилось ночевать на соломе и находить убежище в подвалах и конюшнях. Сколько печальных дум мне пришлось передумать в эти длинные ночи! Иной раз, когда я сидела в зимний вечер в углу какой-нибудь деревенской гостиницы, в ней начинались вдруг неистовые пляски захмелевших гуляк, но, как ни отвратительны были мне эти люди, мне приходилось завидовать им! У них были знакомые, товарищи, родные!.. «Подойди поближе и спой нам что-нибудь!» – кричали мне пьяные голоса. «Да, спой им скорее веселую песенку!» – поддерживала трактирщица. О, Творец земли и неба, чего только я не изведала, чего не перечувствовала! Кочуя из селения в селение и из города в город, я добралась до Лондона; приступы грудной боли и рези в боку, которым я, конечно, не придавала никакого значения, стали возобновляться чаще. Богатая еврейка, дававшая мне часто за скудную плату мелкие поручения, уехала внезапно на север королевства, и мое положение стало безвыходным; я часто голодала, и в один из таких невыносимых дней у меня мелькнула мысль продать это кольцо! Я отвергла ее с негодованием; но так как у меня не было средств, чтобы платить за каморку, в которой я жила, то хозяйка выгнала меня под открытое небо. Мне пришлось приютиться в одном из тех кварталов Лондона, где нищета и воровство идут рука об руку с развратом и пороком. Я не могу вам выразить, как повлиял на меня вид этих жалких, грязных и падших созданий, но все, что ни делается, делается к лучшему. Моя горькая жизнь в этих страшных трущобах подарила мне счастье привязаться к другому живому существу. Рядом с жалкой комнаткой, занимаемой мной в это трудное время, жил, нуждаясь, как и я, молодой человек, чрезвычайно кроткий и симпатичный. Родной отец выгнал его из дома, и вся его семья отреклась от него и бросила на произвол судьбы. Я и теперь не знаю, почему он вдруг восстановил против себя родных; я не требовала никаких разъяснений – так боялась уничтожить мое искреннее влечение к нему, заполнившее мертвую пустоту моей жизни и отчасти мирившее меня с ужасной действительностью. У меня становилось спокойно на душе, когда его печальное и бледное лицо озарялось улыбкой! Я делилась с ним радостно всем тем, что имела, – хлебом насущным, добытым с унижениями у чужого порога. Голубые и ясные глаза молодой девушки наполнились слезами; она с трудом перевела дыхание и продолжала слабым, слегка дрожащим голосом: – Как-то в темную, бурную и дождливую ночь я лежала без сна в моей холодной комнатке, обливаясь изнуряющим потом жестокой лихорадки; ветер стих на мгновение, и до ушей моих долетел слабый стон. Я присела на постели и начала прислушиваться: стон повторился явственнее, я расслышала, что он доносится из маленькой каморки моего молодого, несчастного соседа. Сердце мое забилось, невыразимый ужас охватил мою душу. Я соскочила на пол, отыскала в потемках огниво и кремень и кинулась к дверям его каморки со свечой в руках. «Кто там! – раздался голос, не похожий на его прежний голос. – Что вам от меня нужно? Я принял яд, дайте же мне умереть». Я налегла на дверь, и она сорвалась с ржавых петель… Я вбежала в каморку; Уолтер лежал на старом соломенном матрасе; он был бледен, как мертвец. «Элиа! Это вы?» – спросил он с удивлением. «Кто же, кроме меня, пришел бы к вам на помощь? Все спят после попойки! – ответила я резко. – Что вы сделали, Уолтер? Вы себя погубили для жизни и для вечности?!» «Я поддался минуте безумного отчаяния, но упрекать себя в этом нелепо и поздно!» «Да! Но у вас осталось еще время, чтобы раскаяться перед Всевышним». «Бог не простит меня!» – произнес мрачно Уолтер. Я сняла с шеи четки, подаренные мне покойной королевой, и поднесла к губам висящий на них крест. «Приложитесь к нему с упованием на милосердие Божие! – сказала я ему. – Он всегда открыт для полного раскаяния». «И вы, Элиа, думаете, что я, самоубийца, могу надеяться на это милосердие?» – спросил он меня с мучительной тревогой. «Да, любовь Его к грешному человечеству не имеет границ. Если я в состоянии простить вам ваш проступок, то неужели Тот, Кто пролил кровь свою ради нашего спасения, не помянет вас так же, как помянул разбойника во царствии Своем? Что я в сравнении с ним? Ничтожное создание, которое умело только любить вас, Уолтер». «Вы любили меня? Почему вы не сказали мне этого раньше, Элиа? А я, жалкий слепец, не видел ничего и сам отказался от жизни и от счастья!» Уолтер прижал к губам животворящий крест, и из глаз его брызнули благодатные слезы сердечного раскаяния. Отец мой! – продолжала с тихой грустью Элиа. – Я стояла над ним, утоляя его нестерпимую жажду и делая все, что от меня зависело, чтобы облегчить его непосильные муки! – Почему вы не позвали кого-нибудь на помощь? Вы, может быть, могли спасти его от смерти… – Нет, – возразила девушка, качая головой, – соседи наши спали мертвым сном после вечерней оргии, и Уолтер заявил, что не желает никого видеть; он знал, что никакая помощь не спасет его, и я знала и видела, что смерть приближается к нему гигантскими шагами. Конвульсии и боли усиливались с каждой минутой; бледные губы Уолтера приняли синеватый оттенок, дыхание становилось все более тяжелым и редким; наступила агония, но страшная борьба со смертью была непродолжительной: он вздохнул и скончался, прижимая к груди животворящий крест… Отец мой, я поняла только в эту минуту, как любила его и сколько утешения приносило мне это чувство. Я заперлась на ключ в моей холодной комнатке. Когда настало утро, в каморке, где лежало тело бедного Уолтера, послышались проклятия и грубые ругательства; хозяин и хозяйка этой грязной трущобы, не найдя при покойнике денег, чтобы купить ему гроб, осыпали его упреками и бранью; силы мои иссякли под тяжестью этих мук и волнений – я упала в глубокий, продолжительный обморок. Меня перевезли по моей просьбе в больницу, учрежденную покойной королевой. Добрый доктор Клемент ухаживал за мной с отеческой заботой, но меня тяготила эта однообразная и замкнутая жизнь; что-то влекло меня на простор, на воздух. Доктор Клемент уступил моим настойчивым просьбам, но потребовал, чтобы я хоть изредка извещала его о состоянии своего уже сильно расстроенного здоровья. Я обещала ему исполнить это требование и вскоре после выхода из больницы вернулась к нему. Доктор Клемент не делал никакого различия между людьми богатыми и неимущими: он принимал всех согласно очереди. В то время как я дожидалась своей, в приемную вбежал прелестный светлокудрый пятилетний ребенок; он держал в своей нежной, миниатюрной ручке букет живых цветов; за малюткой вошли его мать, молодая и прелестная леди, и отец, чрезвычайно видный и приятный мужчина. Когда доктор Клемент, отпустив находившуюся у него пациентку, появился в дверях своего кабинета, эти люди подошли к нему с радостными, сияющими лицами. Мальчик подал ему с улыбкой букет. «Мы ваши вечные должники!» – сказала молодая и прелестная женщина. Красивый мужчина подошел к доктору и пожал ему руку. «Вы сохранили нам больше, чем жизнь: вы сохранили нам нашего ненаглядного, единственного сына!» – сказал он с чувством глубокой благодарности. Я невольно сравнила себя с этими людьми, подумала об их мирном счастье и моем одиночестве. Я была не в силах дожидаться очереди; я вышла из приемной и больше уже не была у доктора Клемента. Прошло около месяца; я боролась с болезнью, насколько было можно, но тем не менее весьма скоро поняла, что смерть близка. Я решила немедленно отправиться в Альнвик, для того чтобы вручить графу Нортумберленду венчальное кольцо покойной королевы. Господь дал мне силы совершить этот путь!.. Смертный час приближается, и я встречу его как желанного гостя!.. Моя жизнь на земле была непродолжительна, но я столько вынесла, что жду не дождусь минуты избавления от страданий и великого счастья соединиться с королевой и Уолтером. Ведь я жду не напрасно? Скажите мне, отец мой! – Да, милое дитя мое! – отвечал ей священник. – Господь соединит у Своего престола всех любящих Его. Но скажите мне, Элиа, мне хочется узнать, бывали ли вы в церкви? – Еще бы! – воскликнула она. – Меня влекло туда неудержимо; часы молитвы были единственными светлыми, отрадными часами моей печальной жизни. Когда храм озарялся мягким светом лампад и наполнялся звуками торжественного пения и волнами благотворного ладана, я забывала и прошлое, и настоящее, и будущее. Я встречала и там презрительные взгляды, я слышала, как меня называли цыганкой и бродягой, но горечь смягчалась утешительной мыслью, что храм Божий открыт для богатых и бедных, что никто на свете не вправе выгнать меня из дома моего небесного отца. В тяжелые минуты, когда силы истощались в борьбе с горькой жизнью, я приходила в церковь и, преклонив колени перед святым распятием, шептала со слезами: «Раненая собака подползает к ногам своего господина, и я, подобно ей, припадаю к ногам Твоим и молю Тебя, Господи, исцелить мое бедное, израненное сердце!» По лицу старого альнвикского священника потекли слезы. – Элиа! – сказал он. – Если отец и мать бросили вас на произвол судьбы, то вы найдете на небесах то блаженство, которое не нашли на земле. Уповайте на Бога! Надежда на него никогда не обманет. – Верю вам, мой отец, – сказала кротко Элиа. – Но я должна сказать, что часто роптала на Создателя!.. Я, помимо желания, спрашивала себя: почему все другие живут спокойно и в достатке и только я одна осуждена на горе? Почему у меня нет ни рода, ни племени, ни друзей, ни пристанища? – Я не стану оспаривать, вам жилось труднее, нежели другим! – отвечал священник. – Но вспомните, дитя мое, что и земное счастье и земное страдание впадают, подобно рекам, в одно и то же море! Наша жизнь – сновидение! Можно ли дорожить благом, у которого нет и не может быть будущего? – Вы правы, отец мой, – сказала с грустью Элиа. – Жизнь в самом деле прошла как сновидение! Будь я богата, счастлива, окружена друзьями, то я бы теперь горько пожалела о ней! Но я устала от борьбы и страданий… Я хочу только покоя! Отпустите же мне все мои прегрешения, вольные и невольные, и смойте их с души моей божественной кровью Искупителя! Элиа замолчала и уронила в изнеможении голову; старый священник простер над ней руки, и в тишине, царившей в комнате умирающей, прозвучали торжественно отрадные слова прощения во имя всемогущего Бога. На следующий день, когда солнце зашло за высокие горы, когда вечерний сумрак окутал мглой парк и рощи Альнвика, душа молодой девушки перелетела туда, где нет болезней и разлук. (обратно)Эпилог
Прошло пять лет с тех пор, как тело Элиа опустили в могилу на убогом кладбище пустынного Альнвика. Посланный короля быстро вошел за ограду монастырской обители, находившейся в самом дальнем из всех предместий Лондона и оставленной Кромвелем за услуги, которые она оказывала жителям столицы при чумных эпидемиях, столь частых в ту эпоху. Его ввели в приемную, куда скоро пришел и настоятель обители. – Отец мой! – сказал посланный. – Я прошу вас от имени моего повелителя молиться и отслужить заздравную обедню за герцога Ричмонда. Он выразил желание, чтобы я повидался с одним из ваших братьев. Он носил в миру имя графа Нортумберленда. – Пожалуйте за мной! – ответил настоятель. Они вошли в проход, разделявший два ряда бедных и темных келий, занимавших всю глубину обширного двора, и подошли к дверям стоявшего в конце деревянного здания – монастырской больницы. Настоятель ввел посланного в скудно меблированную низенькую комнату. Несколько человек в длинных суконных рясах стояли неподвижно возле простой кровати, на которой лежал изнуренный болезнью страдалец. – Вот тот, кто был когда-то лордом Перси, графом Нортумберлендом! – произнес настоятель, указав на умирающего. Посланный посмотрел с благоговейным чувством на это исхудавшее, но все еще прекрасное и кроткое лицо и подошел к постели, сдерживая дыхание. – Уважаемый брат мой! – произнес он вполголоса. – Король Генрих VIII просит вас не отказать ему в ваших святых молитвах. Нортумберленд открыл погасшие, печальные глаза. – Потрудитесь сказать мне, чем я теперь могу служить его величеству? – спросил он прежним кротким и приветливым голосом. – Король, мой повелитель, тоскует день и ночь! – отвечал ему посланный. – Обожаемый сын его, молодой герцог Ричмонд, слабеет с каждой минутой. Перси привстал на подушках. – Вернитесь к королю, – произнес он печально и торжественно, – и передайте ему, что я давно молюсь за него и за Англию! Но мои молитвы не спасут герцога Ричмонда: его сводят в могилу слезы несчастной матери; она молит Всевышнего воздать око за око и отнять его жизнь! Только ее прощение, только ее молитвы отведут от него удар! Голос графа осекся; лицо его покрылось синеватой бледностью; он упал на подушки. – Преклоним колени и помолимся, братья! – воскликнул настоятель. Он взял из рук аббата, сидевшего все время у изголовья Перси, старинное распятие и, положив его на сердце умирающего, стал тихо читать отходные молитвы. Когда взгляд его, обращенный к небу, опустился на графа Нортумберленда, того уже не было в живых. На следующий день аббат и настоятель сидели на скамье в монастырском саду; и тот и другой находились еще под впечатлением кончины Генри Перси и выражали сожаление об этой преждевременной и тяжелой потере. Через некоторое время к ним подошел один из молодых монахов и подал настоятелю молитвенник в простом кожаном переплете. Это был хорошо знакомый настоятелю молитвенник усопшего графа Нортумберленда. – Мы убирали сегодня келью в Бозе почившего брата нашего Генри и нашли там молитву, написанную им, – сказал робко монах. – Дайте ее сюда! – воскликнул настоятель. Монах подал ему с почтительным поклоном небольшой лист бумаги, исписанный красивым и разборчивым почерком. – Прочтите ее, сын мой! – сказал старый аббат с большим воодушевлением. – Повинуюсь вам, отче, – ответил настоятель и стал читать заметно изменившимся голосом отрывок из дневника графа Нортумберленда. Вот этот образец дум и чувств, волновавших больную душу Перси в его пустынной и одинокой келье: «Милосердный Создатель! Сжалься над двумя слабыми и грешными созданиями, призванными Тобой в эту скорбную жизнь! Если я согрешил, отдав всю мою душу Анне Болейн, то прости мне, Творец, этот невольный грех! Вырви все плевелы, посеянные в нас сближением со светом. Боже! Твое могущество превыше моей слабости! Я ничто пред Тобой, но молю Тебя взять ее под Твою всесильную защиту! Пусть свет клеймит позором ее имя и память, но не отринь ее от Своего лица. Ты, Всеведущий, знаешь, что жизнь моя была непрерывной цепью тяжелых испытаний; пошли же моему утомленному сердцу возможность упокоиться и отдохнуть в могиле. Помилуй и ее, беспомощную женщину, которую Ты вверил моему покровительству. Я забочусь о ней и ее вечном благе более, чем о собственном! Не вниди с ней в суд!.. Я теперь еще в силах умолять Тебя, Господи, но скоро голос мой замолкнет навсегда!.. Солнце клонится к западу… Прости же, Отец небесный, и ее и меня и помяни обоих во царствии Твоем…» – Достойный брат наш Генри писал это почти пять лет назад, в тысяча пятьсот тридцать шестом году, – произнес настоятель. – Анна Болейн была, если не ошибаюсь, казнена в этом году? – Да, – отвечал печально добрый старый аббат. – Как он, так и она перенесли немало тяжелых испытаний, но смерть соединила в неразрывном союзе эти родные души, разобщенные жизнью. Любовь – святое чувство! Она нисходит свыше и, бросив яркий свет на путь своих избранников, улетает опять в небесное отечество. (обратно) (обратно)Мартин ЛИНДАУ ЯД БОРДЖИА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА I
Наступал 1500 год. Несмотря на жалкое состояние Италии, несмотря на дурную славу, распространяемую про главу католической церкви, великий праздник христианского мира – юбилей тысяча пятисотлетия Рождества нашего Спасителя – привлек в Рим невероятное количество паломников со всех концов Европы. Никто не сомневался, что темные истории, рассказываемые о жестокости, тирании и распутной жизни папы Александра VI, были непререкаемой истиной, тем не менее благочестивые пилигримы стремились получить от него благословение и полное отпущение грехов, которого должны были удостоиться все верующие, собравшиеся в град святого Петра. Раскаяние в совершенных преступлениях, безутешное горе, неутолимые душевные муки, страхи, суеверия и грезы мечтательной грусти привлекли изо всех стран тысячи богомольцев, пожелавших присутствовать на торжествах по случаю знаменательного юбилея. Быть может, сознание опасности придавало благочестивому рвению воинственных народов особую прелесть. Никогда еще в продолжение своего бурного существования Италия не была так опустошена и потрясена нашествием внешних врагов и внутренними междоусобицами, как в тот момент, когда начинается наш рассказ. На юге за обладание Неаполем и Сицилией сражались французы, испанцы, турки и неаполитанцы, заливая своей кровью эти восхитительные места. На севере французы и венецианцы опустошали Ломбардию. Милан попеременно то терял, то снова приобретал свою независимость в ряде следовавших одного за другим мятежей; многочисленные небольшие государства, среди которых выделялись утонченное герцогство Феррара и республики Пиза, Лукка и Сиена, с трудом противились завоевательным устремлениям своих могущественных соседей. В Тоскане флорентийцы, разделенные на многочисленные партии, несмотря на поддержку французов, едва могли разрушить честолюбивые планы папы, проникнутые коварством, хитростью и бессердечием, чем особенно отличался генералиссимус церкви, Цезарь Борджиа. Эпоха возрождения в Италии много потеряла бы в своей красочности и выразительности, если бы на фоне ее не было фигуры Цезаря Борджиа: он одновременно был ее злым и добрым гением, душою всех заговоров. Цезарь был незаконнорожденным сыном папы Александра VI-го, и уже в двадцать три года получил кардинальскую шапку, будучи назначен кардиналом Валенсийским. Но это высокое звание не удовлетворяло честолюбивого Борджиа. Он мечтал о бранной славе, а вместо того должен был совершать богослужения. Его манил меч военачальника, а между тем служка подавал ему кадильницу. Он мучился завистью к старшему брату, герцогу Джованни Гандийскому, который был хоругвеносцем папы. Ему казалось, что имя Цезаря дано ему не просто так, но что в этом заключается скрытый смысл, пророчество, что он станет вторым Цезарем в Италии и, как его знаменитый теска, добьется императорской короны. Для осуществления этих тайных замыслов, Цезарь прежде всего задумал отделаться от брата и занять его место. Он пригласил герцога Гандийского к себе на ужин, а на другое утро того нашли на берегу Тибра девять раз пронзенным шпагой. Виновником этой трагической гибели герцога Гандийского народная молва назвала Цезаря, и это тем более вероятно, что Цезарь после этого занял место брата и сбросил с себя ненавистное ему духовное звание. Тогда перед Цезарем открылась широкая дорога. Став во главе папского войска, он сразу показал себя умным, талантливым полководцем, сумев к тому же заключить союз с французами. За эти политические и военные доблести папа дал ему герцогство Романья. Став герцогом, Цезарь начертал себе грандиозный план. Вся Италия в то время разделялась на мелкие республики и королевства, и Цезарь решил объединить отдельные государства под своим владычеством. Он задумал то, что осуществилось лишь двести пятьдесят лет спустя при короле Викторе Эммануиле. С этой целью он начал уничтожать представителей родового дворянства, которое имело огромное влияние в феодальных государствах Италии и в самом Риме, а также пользовался каждой междоусобицей, чтобы вмешаться во внутренние дела отдельных итальянских республик. Для достижения своих замыслов, Цезарь не брезговал и не отступал ни перед какими средствами. Кинжал, яд, открытая война – все применялось им. Два могущественных римских рода – Орсини и Колонна – благодаря взаимному соперничеству, продолжавшемуся в течение нескольких поколений, были враждебны друг другу. Цезарь с помощью первых изгнал Колонна из страны и конфисковал все их имущество. Затем в двух ужасных походах, отличавшихся вероломством и предательством, он сломил могущество почти всех значительных родов в Романье. Тем временем Александр подавил мятежный дух церкви изгнанием, свержением или смертью значительного числа кардиналов, восставших против его тирании из-за неудовольствия, возбужденного неисполнением папой своих обещаний, благодаря которым, он попал на папский престол. Уничтожая таким образом могущество дворянства, Цезарь приобрел, если не любовь, то по крайней мере, расположение народных масс, вводя вместо неограниченного произвола их бывших правителей правление, которое, несмотря на свой гнет, было все же лучше по сравнению с прежним. Таким образом, поддерживаемый французами, Цезарь довольно удачно шел к намеченной цели. Но Орсини и другие могущественные Дворянские фамилии пришли в конце концов к убеждению, что, заключив с ним союз против своих врагов, они тем самым стали орудием своей собственной гибели. Признаки неудовольствия умножались с каждым днем, и, когда союзники Цезаря, французы, потерпели в Ломбардии поражение, против него образовался открытый союз. Жестокость и разнузданность французов вызывали возмущение побежденных: Милан восстал, изгнал зарвавшихся пришельцев, и радостными криками приветствовал своего несчастного предводителя Лодовико Сфорца. Французы, вновь не расположенные поддерживать Цезаря в его планах против Тосканы, не только отозвали свои войска, но еще потребовали, чтобы он сам немедленно присоединился к ним со своими силами. Между тем, союз против Борджиа креп: изгнанные дворяне собирали на границах Романьи значительное войско, а государства Феррара, Милан, Пиза, а также флорентийцы и венецианцы вошли с ними в соглашение, французы, как полагали все, были крайне раздражены вероломством Цезаря и, отброшенные к подножию Альп, с трудом удерживали свои позиции. Казалось, Борджиа не могли избежать своего падения, и со всех сторон открыто раздавались требования низвержения папы Александра. Сам Цезарь одно время, казалось, был побежден оказанным ему сопротивлением и после, нескольких чувствительных поражений старался вступить в переговоры. Между тем, в союзе было немало причин для разногласия, и здесь-то хитрость Борджиа могла раскрыться во всей своей красе. Венецианцы и флорентийцы соперничали друг с другом, взаимная вражда дворян была забыта, лишь на время, по причине грозившей им опасности. Бентиволи ненавидели Монтефельтри, Малатеста – Сфорца, Колонна – Орсини, Эсте – Перуччи, и козни Цезаря не замедлили оказать свое действие. Флорентийцы отправили к нему послов для переговоров о всеобщем мире, Феррара заключила с ним перемирие, а ее герцог Эрколе д'Эсте охотно выслушал предложение папы Александра относительно помолвки дочери последнего, Лукреции, с наследником его древнего и знаменитого рода. Одновременно разнеслась молва, что Цезарь снова привлек на свою сторону Орсини обещанием отдать руку Лукреции наследнику этой могущественной фамилии, Паоло Орсини, сыну герцога Гравина. Лукреция является второй замечательной фигурой ранней эпохи возрождения. Она была сестрой Цезаря и дочерью папы Александра VI. Отличаясь замечательной красотой, она, не достигнув еще тринадцати лет, была уже обручена со знатным испанским грандом, но в 1494 году Александр VI выдал ее замуж за герцога Сфорца, с которым затем она была разведена, чтобы вступить в брак с герцогом Бишельи, или Салернским, незаконным сыном неаполитанского короля из Арагонской династии. Слабая, безвольная, она стала игрушкой в руках отца и сына, которые пользовались ее красотой, как орудием для осуществления своих политических замыслов, а также и для удовлетворения своих низменных побуждений. До сих пор, правда, не установлен точно факт, принадлежала ли Лукреция своим отцу и брату, как наложница, но многое говорит об этом. Так, спустя несколько лет после трагической смерти второго мужа Лукреции, герцога Салернского, которого убил Цезарь, у Лукреции родился ребенок, которого папа Александр VI в одном духовном завещании признает своим, а в другом приписывает отцовство Цезарю. Прежние историки видели в Лукреции развратную Мессалину, но на основании новейших сведений, ее скорее следует признать бесхарактерной женщиной, которая с детства не получила никаких нравственных устоев и плохо разбиралась в добре и зле, в особенности живя бок о бок с такими людьми, как Цезарь Борджиа и его отец. Кроме того следует принять во внимание и весь характер той бурной эпохи, когда старые боги уже были свергнуты, а новые еще не явились, и не только народ, но и передовые люди метались, потеряв способность отличать добро от зла. Недаром же эта эпоха породила Макиавелли, которого наш век считает олицетворением коварства, а в то время он высказывал лишь то, что люди совершали в действительности, и, по своим воззрениям, не казался выходящим из ряда обыкновенных смертных. Что касается третьего героя нашего повествования, то он является блестящим представителем католического духовенства того времени. Католическое духовенство широко пользовалось тогда своей огромной властью и еще более огромными доходами. Баснословные церковные богатства манили к себе всех алчущих и жаждущих, но приобретали их конечно, не самые благочестивые, а наиболее энергичные, смелые и умные. Достигнув известной власти и упрочив свое положение, эти пастыри церкви сбрасывали с себя одежду монаха и являлись в своем истинном виде. Аббаты, кардиналы, епископы, архиепископы и даже сами папы не стеснялись предаваться совершенно открыто самому безудержному разврату и другим непотребным и несовместимым с духовным саном делам. Храмы превращены были ими в публичные торжища, где молящихся чуть не грабили. Одним словом, жизнь католического духовенства накануне реформации была сплошной вакханалией. И вот в это-то время во главе римско-католической церкви стал папа Александр VI Борджиа. До своего вступления на папский престол он был юристом, потом военным и наконец, как и многие другие, нашел, что, если есть где возможность нажиться и удовлетворить ненасытное честолюбие, так только на духовном поприще. Энергия и талантливость дали ему возможность выдвинуться из рядов духовенства, и после смерти Иннокентия VIII конклав избрал его папой. Время его управления католической церковью было временем самого возмутительного произвола, вероломства и небывалого еще разврата. Историки говорят, что это был самый развратный из пап. Путем коварства, с помощью яда и кинжала он устранял своих многочисленных врагов и ставил на их место своих ближайших родственников. Его преступлениям нет числа. Один из предшественников реформации, Савонарола, не раз восставал против Александра VI и громил его в своих страстных и резких проповедях, но это по-видимому, не влияло на совесть папы, который по-прежнему продолжал вести свой расточительный и развратный образ жизни. К тому же за папу стоял простой народ. Римская толпа привыкла к тому, что духовенство ведет непотребную жизнь, и особенного внимания на это не обращала. Она выходила из себя и ненавидела только тех кардиналов и епископов, которые притесняли ее. Между тем, при Александре VI народу жилось довольно свободно. Гнет папской власти сильнее чувствовали на себе высшие классы, духовенство и аристократия. В их то кругах и образовалась оппозиция против него. Грозовые тучи со всех сторон обложили горизонт Италии. В то время как французы, испанцы и турки со своими союзниками – швейцарцами, бургундцами, немцами и маврами – и сами итальянцы напрягали все усилия, чтобы захватить эту чудную страну, пираты опустошали ее берега, разбойники грабили ее города и чума уносила бесчисленные жертвы. И вот среди этого мрачного хаоса, как яркая звезда из мрака ночи, в тихом великолепии поднималось искусство. Леонардо да Винчи писал свои лучшие произведения, Микеланджело основывал во Флоренции свою школу, Рафаэль и Джулио Романе рисовали свои первые безвкусные произведения, а молодой Челлини в золоте и серебре запечатлевал свои дивные фантазии. Но грубые народы Западной Европы смотрели на Италию только как на школу военного искусства, а большинство паломников, спешивших в Рим на юбилейные торжества, чтобы получить так легко расточаемое отпущение, намеревались вознаградить себя на обратном пути за лишения и труды, понесенные ими в пути, каким-нибудь разбойничьим набегом. К этому классу, по-видимому, принадлежали также предводители вооруженного отряда, медленно огибавшего глубокую пропасть на склоне Апеннин, где горы спускаются в долины Умбрии [517] (обратно)ГЛАВА II
Отряд состоял приблизительно из двадцати человек, ехавших верхом на прекрасных лошадях и вооруженных по обычаю того времени. Грудь и спину защищал стальной панцирь, голову прикрывал стальной шлем. У каждого имелись копье и меч, а у седла висел с одной стороны топор, с другой – мушкет, со всеми принадлежностями для стрельбы – фитилем и кремнем. Судя по грубому виду вооружения и крепкому, мускулистому телосложению, эти люди были по-видимому, варвары, как итальянцы еще называли все народы, живущиена севере за могучими Альпами. Судя по дроку на шлеме, опытный глаз сразу узнал бы в них англичан, так как цветок дрока считался цветком английских королей вплоть до падения последнего Плантагенета – Ричарда III. Кроме этого значка на плащах у солдат было вышито сияющее солнце, с девизом посредине: «О, мой Лебофор!» Предводители отряда ехали впереди на значительном расстоянии, командование же было передано младшему офицеру. Последний, очевидно, не принадлежал к дворянству, так как у него не было рыцарского оружия. По вооружению он немного отличался от других солдат, только на конце копья у него развевался небольшой флаг. Предводителей было трое. Старшему было лет под сорок. Он ехал на муле и, судя по платью, был священником. У него были острые черты лица и совершенно лысая голова. Но этот недостаток возмещался длинной, густой бородой, как у патриарха: его глаза отличались живостью, и по его веселому лицу в нем можно было скорее признать Анакреона [518], чем почтенного монаха-августинца. Его спутнику не могло быть больше тридцати лет, его высокая, статная фигура была облечена в одеяние рыцаря иоаннитского ордена. Длинная, черная мантия с вышитым на левой стороне белым восьмиугольным крестом почти совсем закрывала его. Свой шлем он отдал одному члену свиты, а его белый капюшон для защиты от солнечных лучей был спущен почти на глаза, но та часть лица, которую можно было видеть, поражала красотой и серьезным благородством, тронутым глубокой грустью. Его черные волосы, короткими локонами спускавшиеся у висков, дополняли впечатление благоговейной строгости, которой дышали его гордые черты. Это выражение как нельзя лучше соответствовало его двойственному призванию священника и воина, которое принимали на себя иоанниты. [519] Третий предводитель был, очевидно, много моложе иоаннита и, судя по золотым шпорам и оружию, принадлежал к тому же классу, хотя и числился в светском ордене. Составной серебряный панцирь, покрывавший его с головы до ног, обрисовывал фигуру необыкновенной силы и подвижности, хотя и не такого высокого роста, как у иоаннита, с мрачным одеянием которого его воинское снаряжение составляло восхитительный контраст. Звание рыцаря солнца, которое он, по-видимому, носил, согласно гербу на щите, подтверждалось на деле его блестящим вооружением. Оно сверкало, как сияющая чешуя только что пойманной рыбы, и так художественно было украшено на груди светящимся солнцем, что небесное светило казалось отраженным, словно в зеркале. На рыцаре была шапочка из серебристой материи с пурпурным цветком дрока, а его открытое, прекрасное лицо отлично гармонировало с воинственной красотой его одежды. Цвет его лица был, вероятно, когда-то очень хорош, а его длинные каштановые кудри и голубые улыбающиеся соколиные глаза показывали, что он – уроженец севера. Но горячее солнце Италии обожгло его кожу там, где она не была защищена шлемом, что придало его юношескому цветущему лицу несколько воспаленный вид. Путники уже давно поднимались по краю крутого склона, по тропинке, вырубленной в чаще леса, причем их лошади то и дело спотыкались о корни и пни, заросшие травою. Некоторое время утомленные всадники ехали молча. Покрытые белой пеной груди и высунутые языки их лошадей свидетельствовали о большом путешествии, совершенном ими. Английский рыцарь запел было песенку своей родины, где особенно часто раздавались слова: «Робин Гуд и густой зеленый лес», но удушливая тишина, в которую постепенно погружался вечер, произвела впечатление и на него. – Мессир Бембо, – проговорил он, наконец, обращаясь к священнику на хорошем итальянском языке, но с иностранным акцентом. – Я думаю, что замок, про который вы рассказывали нам, должен уже показаться, если он только не исчез под влиянием какого-нибудь волшебства. – Я уже с полчаса наблюдаю за отцом каноником, – со спокойной, слегка насмешливой улыбкой заметил иоаннит. – Он иногда задерживает мула, словно сам не доверяет себе. – Нет, монсиньор, нет, – смущенно возразил священник. – Правда, прошло уже семь лет с того времени, как я в последний раз приезжал в замок моего доброго друга Савелли, потому что с момента начала войны Феррары с его святейшеством у меня не было повода ездить в Рим, но все-таки я готов утверждать, что этот замок с незапамятных времен венчал ту вершину. Благодаря такому положению, замок господствовал над этим проходом, за что неопровержимо говорит то обстоятельство, что все, кто переправлялся через Апеннины, должны были идти этим путем и платить пошлину, чтобы получить от моего друга Джакобо Савелли свободный проход и надежную охрану. С этой целью он построил башню над этой дорогой, и однажды я собственными ушами слышал, как он приказал спустить опускную решетку перед отрядом генуэзских купцов за то, что они не хотели дать то, что он от них требовал. Помнится, это было по три кроны с головы, бархатное платье для хозяйки и десять прекрасных восковых свечей для часовни замка. Но я более, чем уверен, что мы на верном пути, так как вижу белую гору, остроконечной вершиной уходящую в облака. – Что касается вершины, то вы правы, – сказал молодой рыцарь. – Но, клянусь святым Георгием, замок я вижу также, как зубцы крепости моего отца в Англии. – Поедем дальше, стен, может быть, не видно за вершинами, – ответил Бембо, пришпоривая своего мула. – А разве Борджиа при своем последнем опустошительном походе в Тоскану не мог разрушить эту крепость, принадлежащую его известному врагу? – Тогда, мой повелитель, пожалуй эту ночь нам придется провести хуже, чем я полагал, – со вздохом ответил священник. – Как, мессир Пьеро Бембо, вы вечно будете забывать мои строгие приказы и называть меня повелителем, открывая мое инкогнито? – гневно воскликнул иоаннит. – Я вовсе не желаю, чтобы во мне признали Альфонсо д'Эсте, сына герцога Феррарского. – Да разве это опасно? Ведь Борджиа употребляют теперь все усилия, чтобы угодить нам, – покорно проговорил священник. – Поэтому-то они и опасны, – ответил иоаннит. – Борджиа вероломны, и, если бы я был в их власти, они принудили бы меня заключить адский брачный союз с их демонической дочерью. – Тише! Нас легко может услышать кто-нибудь из свиты, а мы можем доверять только одному Вильяму Бэмптону, – заметил рыцарь солнца. – Положим, все они – честные ребята и англичане до мозга костей, но они и понятия не имеют о коварстве этой страны, и обманчивое здешнее вино часто принимают за честное пиво. – Тогда, монсиньор, – простите, я хотел сказать, досточтимый брат, – хотелось бы мне знать, что заставляет вас ехать в Рим? Ведь, кто боится волка, тому нечего прятаться в его логовище! – начал снова Бембо. – Если вообще для Борджиа есть что-нибудь святое, так это будет предстоящий христианский праздник, – возразил иоаннит. – В бесчисленном множестве паломников наше прибытие останется незамеченным, и, в то время как город будет находиться и их руках, они не допустят такого вопиющего преступления, как оскорбление одного из своих товарищей. Но, – с возрастающей горячностью прибавил он, – никто не знает лучше тебя, Пьеро, что влечет меня в Рим. С тех пор, как мой отец настолько ослеплен заботами и политикой, что не хочет верить ужасным историям, рассказываемым об этой современной Гарпии, Лукреций Борджиа, и желает женить меня на ней, я поклялся собственными глазами увидеть правду. А если он и тогда будет настаивать на своём решении, я дам обет безбрачия, с полным сознанием навсегда облекусь в это святое одеяние и остаток своих дней посвящу борьбе за освобождение святого гроба Господня. – Ваш брат, монсиньор Ипполит, был бы очень опечален, услышав такие речи, – с улыбкой заметил священник. – Я ничего не могу возразить на твои слова, дорогой соратник, – серьезно сказал английский рыцарь. – Мне кажется, если не грешно говорить так, что и меня не особенно привлекала бы честь близкого родства с папою, хотя мой род и ниже твоего, несмотря на то, что мы с тобой – двоюродные братья со стороны матери, королевы Маргариты. – Но поступки этой Лукреции!., особенно их я имею в виду! – с возрастающей горячностью проговорил иоаннит. – Смотрите пожалуйста, какую убогую мудрость приносят с собой седые волосы! – со смехом воскликнул Бембо. – Ваш батюшка, мудрый герцог Эрколе, дал свое согласие на план вашей милости в надежде, что вы вернетесь сторонником его собственных упований. – Да, ваш поэт Ариосто [520], сочиняющий сказки, рассказывает такие чудеса о красоте этой женщины, словно она – троянская Елена, – улыбаясь и краснея, но с презрительным видом, возразил иоаннит. – Вы, поэты, видите только внешность и под розовым кустом не подозреваете змеи. Но если Лукреция Борджиа и прекрасна, как Венера, все же у нее слишком много дурных качеств порочной богини, чтобы внушить моему сердцу иные чувства, кроме презрения и ненависти. Женщина, которой я подарю свою любовь, сир Реджинальд, должна быть чиста как своими поступками, так и именем, с душою такой же чистой, как вот эта снежная вершина, соединяющая чистоту и небесную непорочность! – Помилуй Бог! Тогда вам нечего искать в Италии, – ответил ему Лебофор с многозначительной усмешкой, сдвигая набекрень свою шапочку, – по крайней мере, насколько я знаю по опыту. – Да, так оно и есть, Лебофор! Ночные войны, театром которых вы, варвары, делаете Италию, постепенно развращают благородный характер этой некогда героической страны, – с глубоким вздохом сказал иоаннит. – Где же, по-вашему, должен искать себе монсиньор жену, – с неудовольствием спросил Бембо, – предположив, конечно, что он только на время возложил на себя эти священно-рыцарские одежды? – Я достаточно долго пробыл у него в Италии, пускай он вернется со мной в Англию! – с воодушевлением отвечал юный английский рыцарь. – Там он найдет девушек, неизмеримо более красивых, чем ваши женщины, обожженные солнцем, и чистых, как те жемчужины, которые они вплетают себе в косы. – Бесцветные духи не в моем вкусе, – возразил Бембо. – Бесцветные! Эх, если бы вы увидели мою дорогую кузину Алису, вы не то сказали бы! – воскликнул юноша. – Ее щечки так же румяны, как лепестки алой розы, и я так горячо любил ее, что меня из-за этого бросили в ваши итальянские битвы. Ведь Алиса была предназначена для моего брата Генриха, но с тех пор как он погиб от шотландского копья, меня просят возвратиться на родину, как будто не могут жить без меня. Пресвятая Дева да спасет душу Генриха, но он сделал меня таким богатым наследником, каким я никогда не смел мечтать стать. – Аминь! – заключил священник и перекрестился. – Но вы все-таки не должны так резко выражаться о смуглых итальянках, если хотите получить разрешение на брак со своей кузиной, обрученной с вашим покойным братом; ведь говорят, что женщины в Риме имеют большое влияние. – Это – не больше, чем выдумки пилигримов, – ответил Лебофор, слегка пришпоривая коня. – Но ваш замок, мессир Бембо, во всех отношениях, кажется воздушный! – Но Лукреция Борджиа – блондинка, а не брюнетка, – задумчиво проговорил иоаннит, не обращая внимания на последнее замечание. – Герцог, ваш батюшка всегда слыл мудрым человеком, – хитро заметил Бембо. – Я часто слышал, что сама златокудрая богиня Венера не была красивее в тот день, когда вышла из моря, и волны при виде ее покраснели от восторга и радости. – У вас сегодня поэтическое настроение, Пьеро, – печально промолвил иоаннит, – но надо обладать большой терпимостью, чтобы приписать Лукреции Борджиа хорошие качества. – Клянусь цветком дрока, ни про одну невесту я не слыхал столько дурного, сколько про нее! – смеясь, воскликнул рыцарь Реджинальд. – Да, невеста! Ведь я – уже пятый жених, которого эта дама облагодетельствовала своим скоропалительным расположением, или, лучше сказать, своею особой, – с иронической усмешкой заметил иоаннит. – Нет, монсиньор, рыцарь и последователь святого Августина не должен так говорить, – возразил Бембо. – При первых двух помолвках Лукреция была еще ребенком, и я сомневаюсь, видела ли она своих женихов, так как тогда была еще в монастыре, но ее отец нарушил эти договоры с первыми двумя женихами – богатыми испанскими грандами, найдя их недостойными своему новому положению. Со следующим женихом, Джованни Сфорцой, дело обстояло лучше: его святейшество выдал донну Лукрецию замуж за него, но затем у них вышла ссора – говорят, это нужно было его святейшеству, папе Александру – и разрыв был торжественно засвидетельствован и утвержден судом. Что касается четвертого жениха – принца Альфонсо Бишельи, герцога Салернского, – то он, бедняга, недолго пользовался своим счастьем после свадьбы с очаровательнейшей соперницей богини Венеры. – Убит, убит изменнически, и – кто знает, – может быть даже с согласия Лукреции! – сказал иоаннит. – Во всяком случае, в Риме не без основания называют ее роковой невестой. И думать, что я соглашусь стать ее пятым женихом? Вот вам образец благодарности Борджиа! Второй жених был сыном кастильского рыцаря, спасшего в битве с маврами жизнь Александру, когда последний еще был воином! Однако, не удовольствовавшись позорным разрывом, Александр заставил старика погубить сына, сделав из него монаха. Третий, – страстно продолжал иоаннит, – опозоренный, разоренный изгнанник, четвертый – замучен и задушен! Нет, избавьте меня от такого счастья! Но разве несчастная женщина обязательно виновна во всех этих ужасах? – строго спросил Бембо. – Страшные слова Понтано глубоко запали мне в душу! – ответил иоаннит. – Они были в устах мертвой головы, которую мне подали в золотом кубке в тот день, когда мой отец принимал послов Цезаря, явившихся с предложением этого проклятого брачного союза между мной, Альфонсо д'Эсте, и страшной Гарпией – Лукрецией Борджиа. И глухим голосом, с задумчивым выражением лица, он продекламировал следующее двустишие, предназначенное главным образом для того, чтобы передать потомству отвращение к самому имени Лукреции Борджиа:"Лукреция по имени, но в действительности Таис, Александра дочь, супруга, невестка".
[521] (обратно)
ГЛАВА III
Воцарилось тягостное молчание, пока, наконец, его не нарушил Бембо. – Даже святых на небесах не щадит клевета, – медленно произнес он. – Ради чего же стал бы избегать ее лживый неаполитанский поэт, который ради эпиграммы или для того, чтобы придать ей большую резкость, готов про дьявола сказать хуже, чем тот заслуживает, или даже про себя самого. – Клевета не пощадила даже такого почтенного мужа, как мессир Пьеро Бембо, – с озорным смехом сказал английский рыцарь. – Но, черт возьми, мессир Бембо, мне сдается, что ваш замок принадлежит фее Моргане, и также поглощен скалами, как ее замки поглощаются волнами. – Здесь, на самой вершине, некогда стоял прекрасный замок, какой только могли создать природа и искусство, – ответил священник, с удивлением озираясь вокруг. Три предводителя достигли теперь возвышенного плато, находившегося на вершине громадной скалы. Солдаты, поднимавшиеся за ними на усталых лошадях, исчезли из вида, и амфитеатр лесов, громоздившихся на противоположных горах, благодаря обманчивой перспективе, казался от них всего в нескольких шагах. Перед путниками темными рядами спускались вниз густо заросшие по краям соснами и дубами синеватые скалы, превращаясь внизу в две высокие стены, среди которых протекал горный поток. Шум его ясно доносился снизу, но самого его нельзя было разглядеть во мраке пропасти. – Вот здесь, пожалуй, на этом самом месте, стоял замок Джакобо Савелли! – воскликнул Бембо. – Мне помнится, что эти скалы в своих мечтах я часто принимал за зубцы могущественной крепости. – И теперь еще заметны следы стен, – сказал иоаннит, – а на полуразрушенном зубце еще осталась сторожевая башня. Опустошитель прекрасно выполнил свою задачу – это похоже на руины, оставшиеся в наследие от древних римлян. Иоаннит пришпорил свою лошадь, но Реджинальд внезапно схватил ее за узду, воскликнув при этом: – Пресвятая Дева! Разве вы не видите высокой травы, монсиньор. Это – глубокие расщелины в почве. – Вы правы! – с испугом ответил рыцарь. – Благодарю вас, брат Реджинальд. Крепость разрушена пороховыми подкопами и из-за этого здесь образовались расщелины. – Кажется ли мне, или это так на самом деле, но как будто на той красноватой скале я вижу какую-то надпись! – сказал Бембо, указывая на самую высокую скалу, поднимавшуюся над безднами. – Надпись латинская, но и на таком расстоянии ее легко можно разобрать, – проговорил иоаннит. – В Италии шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на следы этого зверя, Цезаря Борджиа: «Или Цезарь или ничто!» – вот его девиз. Но что это там? Ведь это следы совсем недавнего сражения, замок разрушен значительно раньше! Он указал копьем на какой-то предмет у подножия скалы. Там лежал труп, судя по вооружению – солдата. – Может быть, он только спит, давайте позовем его, – сказал священник, и испуганным голосом закричал: – во имя всего святого, отвечайте, друг, кто вы? – Если он спит, то выбрал для этого очень опасное место, – заметил иоаннит. – Защищать путешествующих – одна из обязанностей ордена, к которому я принадлежу. Я разбужу его! – и, с привычной легкостью соскочив с коня, он бросил повод Бембо, который так дрожал от страха, что едва мог удержать его. – Нет, брат, в таком случае у вас должен быть спутник, эти горы населены бандитами, и это может быть просто ловушка, – проговорил рыцарь солнца, спрыгивая с коня и догоняя иоаннита. Тогда священник, предоставив своего мула и лошадей самим себе, тоже слез с мула и направился вслед за рыцарями, копья которых сверкали вдалеке. Пробираясь по дороге сквозь густой кустарник, проваливаясь в ямы, полные стоячей воды, он понял, каким образом замок почти совсем исчез. Большая часть его, разрушенная взрывом, была взрывной волной сброшена в пропасть, развалины же были скрыты буйной растительностью. Спеша соединиться со своими спутниками, спотыкаясь на каждом шагу, он с ужасом заметил лежащие под вековыми дубами фигуры, неподвижность и окровавленное платья которых указывали на то, что это были трупы. Стараясь по возможности не смотреть на это ужасное зрелище, он добрался наконец до рыцарей, стоявших у подножия утеса, на котором была вышеупомянутая надпись Почти под ней и лежал труп, обративший на себя их внимание. Он был настолько изъеден волками и птицами, что от лица и незащищенных вооружением частей тела ничего не осталось. – Может быть, хоть это не дело рук Цезаря, – промолвил английский рыцарь. – Вот следы костра, остатки жареного мяса, вероятно это – путешественники, ограбленные разбойниками. – Прочь отсюда! – закричал Бембо, набожно перекрестившись. – От этих негодяев и Пресвятая Дева не защитит нас! – Можем ли мы быть уверены, что это дело рук разбойников, а не Цезаря? – задумчиво произнес иоаннит. – Видите знак на шлеме у этого несчастного? Видите медведя, мессир Бембо, герб Орсини, столь ненавистных Борджиа? – Цезарь Борджиа – настоящий дьявол, да простится мне, что я произношу это нечистое имя, смотрите, кто-то сидит там! – воскликнул Бембо, указывая на расщелину в скале, то бледнея, то краснея от ужаса. Там сидел ворон, почти седой от старости, и казалось, с ненавистью смотрел на пришельцев, нарушивших его покой. – Еще раз призываю, уйдемте отсюда, ради Бога! – снова начал священник. – Надвигается ночь, если мы не найдем пристанища до темноты, нас застанет туман, и мы провалимся в пропасть и сгинем без следа. Насколько я помню, неподалеку отсюда находится монастырь, который Борджиа никогда не трогал, потому что это – владение святого престола. Там мы, по крайней мере, найдем себе кров, что же касается еды, то многого я обещать не могу, в этом монастыре соблюдают суровые правила ордена. – А кто-нибудь из добрых иноков, может быть, похоронит этих бедняг, – сказал Реджинальд. – Пойдемте, мессир Бембо, мы ничем не можем помочь мертвецам. Иоаннит молча кивнул головой, и они вернулись туда, где Бембо оставил коней. Животные спокойно щипали траву. Неподалеку, взобравшись на высокий холм, стоял Вильям Бэмптон, и изумленно озирался вокруг, в поисках исчезнувших спутников. Отряд расположился на привал, образовав живописную группу. Несколько времени спустя отряд под предводительством Бембо стал спускаться по крутому склону. По уверению Пьеро, дорога вела на дно пропасти к горному потоку, который, как он надеялся, мог указать им дорогу к монастырю, стоявшему на берегу. Вскоре все всадники из опасения упасть в пропасть, вынуждены были сойти с коней и вести их на поводу. Один лишь Бембо остался сидеть на муле, больше доверяя его ногам, чем своим. Опасность увеличилась, когда путников стал постепенно заволакивать густой туман, но все ясней и ясней доносившийся шум горного потока убеждал их, что они были на верном пути. Наконец, они достигли узкого ущелья, разделенного горным ручьем. Узким проходом ущелье выходило на реку значительной глубины, замкнутую с обеих сторон высокими скалами вулканического происхождения. Теснимая скалами река неслась бурным потоком, грозно шумя и пенясь. Бембо был немало смущен, потому что никак не мог вспомнить, находился ли монастырь выше, или ниже впадения ручья в реку. Но так как он припоминал при этом, что неподалеку от монастыря, выше его, река образовала водопад, то иоаннит предложил следовать по течению, чтобы убедиться, выше или ниже водопада они находятся. Отряду был дан приказ остановиться, а Бембо и оба рыцаря направились вдоль реки. Реджинальд взял рог Бэмптона, и лишь по данному им сигналу усталые воины должны были последовать за ними. Поскольку дорога была усеяна обломками скал, они пустили лошадей в брод, и медленно двигались по воде около берега. – Эти ущелья – убежища драконов, сторожащих скрытые сокровища, – смеясь, заметил Бембо, стараясь как можно ближе держаться к иоанниту. – Но, несмотря на то, что я нахожусь в обществе двух таких благородных рыцарей, мне было бы очень неприятно, если бы откуда-нибудь вдруг возникла голова такого чудовища. – Сир Реджинальд рассчитывает выдержать первое нападение. Смотрите, как он пришпоривает свою лошадь! – заметил иоаннит. – Но что это? Поистине, это кажется сверкающей спиной дракона, преграждающей нам путь. – Мадонна! Ведь это – начало водопада! Эй, рыцарь! Шум его заглушает мой голос, а крепкоголовый варвар, знай, погоняет своего коня! – с ужасом проговорил Бембо. – Его разобьет о камни, вода падает с такой высоты, что по пути превращается в пыль, Но иоаннит слыхал только первые слова предостережения. Дав шпоры коню, он пустился на помощь товарищу по оружию. Отъехав немного, он заметил, что вовсе не безрассудная неосторожность Реджинальда, как казалось со стороны, была причиной его опасного положения. Его лошадь, испугавшись гула водопада, пришла в бешенство, и выбивалась из сил, стараясь вырваться на свободу. Она попала в такое место, где спокойное течение реки указывало на ее ужасную глубину. Усилия всадника успокоить обезумевшее животное были тщетны, очевидная же опасность погрузиться под тяжестью доспехов в волны, мешала ему соскочить с коня. Гибель его казалась неизбежной. Вдруг неизвестно откуда, словно посланный свыше, в реку бросился высокий монах в одежде доминиканца, и с невероятной силой охватив лошадь за голову, отбросил ее назад, и после короткой борьбы принудил остановиться. (обратно)ГЛАВА IV
– Слава Пресвятой Деве! Благодарю, добрый отче! Фу, можно ли оставаться монахом, имея такую тяжелую руку! – воскликнул молодой рыцарь, дыша полной грудью. – Должно быть, моя прелестная кузина молится за меня, раз ты явился так кстати. – Ваша лошадь, рыцарь, – удивительно умное животное: она чует надвигающуюся опасность, – резко оборвал его монах. – Приближается страшная буря! Крикните вашим спутникам, чтобы они укрылись под скалами с этой стороны, я вижу, что вихрь вздымает воду с левой стороны. Как ни странно было это предостережение, Лебофор внял повелительному тону монаха и повиновался, как будто действительно уяснил себе надвигающуюся опасность, и громким голосом и жестами указал друзьям выбираться из реки и следовать за ним к прибрежным скалам. Едва они успели воспользоваться его советом, как разразился страшный ураган. Всадники остолбенели от изумления, так как в том месте, где они находились, была почти полнейшая тишина, а на другой стороне реки ветер с ужасающей силой вздымал громадные волны. Если бы они попали в этот бушующий поток, то неминуемо были бы увлечены им в пропасть. Туман на мгновение рассеялся, и глазам путников посредине ущелья предстал разыскиваемый ими монастырь. Стена, тянувшаяся по краю утесов, да две древние серые башни – вот все, что можно было рассмотреть в тумане. Пониже монастыря, на противоположных скалах, находился открытый мост, без перил, представлявший, по-видимому, единственный доступ к монастырю. – Пройдет несколько часов, и этот ветер будет гулять по морю, – проговорил доминиканец. – Не сам ли сатана с полчищем ведьм пронесся сейчас мимо нас? – произнес изумленный Лебофор. – Но скажите, пожалуйста, отче, откуда у вас редкий дар предвидеть ураганы? – Ничего подобного! Я обратил внимание на вашу лошадь, а ведь известно, что животные чувствуют приближение стихийных бедствий, – резко ответил монах. – Во всяком случае, я – ваш должник и прошу вас принять эту золотую цепь как подарок от Реджинальда Лебофора. Не бойтесь, она – не добыча какого-нибудь грабежа, а награда благородного герцога Феррары, которую я получил в тот день, когда его сын и я в Коссамброне в ожесточенной битве с чужестранцами, захватили их позиции. Почему же вы не хотите принять ее? – Я – смиренный доминиканец, – ответил монах, указывая на свое белое одеяние. – Но в этой пустыне обитают картезианцы, пожертвуйте свой подарок их святыням. Правда, мою грязную рясу вам не трудно принять за коричневую. Вы говорите – от герцога Феррары? Мне сдается, что ваш итальянский выговор отдает холодным севером. Вы, наверное, из Франции? – Святой Георгий да сохранит меня от этих негодяев, бегущих при звуке английской трубы, как будто это труба Роланда! – воскликнул Лебофор. – Я – англичанин. Эти господа – мои друзья, они – храбрые итальянские рыцари и состоят на службе у герцога Феррарского. – Как? Да ведь один из них – мрачный иоаннит, другой же священник! – воскликнул монах. – Действительно, я забыл про это, голова у меня пошла кругом, – в смущении пробормотал рыцарь. Бембо, тщетно пытавшийся несколько раз прервать их разговор, хотя за шумом потока плохо разбирал, что они говорили, поспешил к нему на выручку. – Святой подвиг влечет всех нас на великие юбилейные торжества, – сказал он. – Но, мне кажется, мы или умрем с голоду, или падем от усталости, или будем убиты разбойниками, если какая-нибудь христианская душа не сжалится над нами и не укажет нам пристанище. Капюшон духовного рыцаря во время поспешного бегства упал с его головы, и доминиканец, казалось, с особенным вниманием наблюдал его, между тем, как его собственное лицо было почти совершенно скрыто его монашеским куполом. – Я постараюсь сделать все, что можно, брат мой, я сам ищу того же, – ответил монах. – Тем более, что мне показалось, что, несмотря на духовное одеяние, передо мной сам принц Феррарский, так как известно, что монсиньор Альфонсо д'Эсте выехал из родной Феррары. – О, в Италии немало людей, похожих на доброго герцога Эрколе, и я никогда не слыхал, чтобы он был врагом прекрасного пола, – поспешно перебил его Бембо. – Но как нам попасть в этот монастырь? Мы уже разыскивали один замок, где рассчитывали хорошо поужинать, но, – он вздохнул, – как говорит пословица «человек предполагает, а Бог располагает». – В этих скалах я искал тропинку, которая привела бы меня в долину ниже горного потока, где находится монастырь, как вдруг услыхал ржание ваших коней. Но есть более верная поговорка, чем ваша: «Что Бог ни делает – все к лучшему». Да, великому несчастью одного благородного человека обязаны вы тем, что я явился сюда, чтобы служить вам проводником. – Что случилось? Расскажите! – нетерпеливо воскликнул Бембо. – Я приношу известие, которое породит в Риме всеобщую скорбь, – ответил монах. – Благородный господин из фамилии Орсини, с небольшой свитой ехавший здесь с тайным посланием от союзного рыцарства к нашему святому отцу, захвачен разбойниками, свита же его убита. Возвращаясь вчера вечером из Лоретте, я также подвергся нападению той банды, и она вынуждала меня дать ей отпущение грехов. – И вы отказали им? – прервал с испугом Бембо. – Да, – холодно ответил монах, – несмотря на то, что они угрожали мне поджарить мои пятки на медленном огне. Увидев, что я непоколебим, они предложили мне свободу с условием, чтобы я отправился в Рим и потребовал за их пленника выкуп в десять тысяч золотых крон. Я отказался. Тогда они завязали мне глаза и провели меня в одну из только им известных пещер, где они держат Орсини. Он прикован к скале, в которой изваяно гигантское распятие. Показав мне его издали, предводитель разбойников и дезертиров дал мне торжественное обещание, что несчастный пленник до тех пор не получит ни пищи, ни питья, пока к нему не явится с выкупом посланный, но непременно один. – Безбожно и бесчеловечно! – воскликнул Бембо. – Поэтому, брат мой, мы не должны терять ни одной минуты! – сказал иоаннит. – Они только недавно освободили меня, после того как я тщетно пытался пробудить в них чувство милосердия, – продолжал монах. – Кроме того, я уже говорил вам, что не могу найти дорогу в долину. – Не можете ли вы отвести нас на то место, где бандиты ждут выкупа? У меня найдется кое-что в кошельке, – сказал Лебофор. – Ваши предки часто сражались против сильнейшего врага, это правда, – ответил монах, но нельзя биться одному против сорока. – О, нас здесь гораздо больше! – воскликнул Лебофор. – Стоит мне только затрубить в рог, как немедленно появятся двадцать славных молодцов, которые так долго были заключены в железо, что сами сделались железными. – Все будет тщетно: разбойники знают в горах каждую тропинку и при вашем приближении могут убить пленника, – сказал доминиканец. – Но у меня появилась неплохая мысль. По какой дороге меня вели в пещеру, я не знаю, в горах разбойники завязали мне глаза, а когда сняли повязку, я находился в скалистом ущелье, откуда мог видеть всю пещеру. Но на одном конце я заметил в скалах отверстие и пенящиеся волны, врывавшиеся каждую минуту, и их ужасный шум заставил и меня подумать, что пещера находится под водопадом. Кроме того, распятие пробудило во мне подозрение. Один ученик святого Бруно, основавшего в этих горах монастырь своего ордена, был отшельником и жил в пещере, над которой низвергался этот горный поток. Своими руками он вырубил в твердой скале распятие, и это творение было причислено к тем добрым делам, ради которых церковь причислила его к лику святых. Однажды ночью отшельник умер в одиночестве в своей пещере, и, когда пришли картезианцы хоронить его, его тело исчезло и небесное благоухание разносилось вокруг, как будто здесь были ангелы. Пещера привлекала к себе многочисленных паломников, но так как в нее не знали другого входа, кроме как через водопад, то при безумной попытке проникнуть в нее, гибло так много людей, что в конце концов это паломничество было запрещено папской буллой. Но, по-моему, в пещеру несомненно ведет еще какой-нибудь вход, который картезианцы, вероятно, скрыли, так как распространился слух, что святой подвижник был убит вследствие своей чрезмерной строгости. Так что очень вероятно, что разбойники случайно открыли этот ход. – Поистине это – чудесная история, – заметил слегка насмешливо Бембо. – Но при таких обстоятельствах я посоветовал бы вам ускорить свой путь в Рим. – У Орсини имеются веские причины хранить свои сокровища вдали от Рима, и я сомневаюсь, чтобы даже в этом случае, когда дело идет о спасении наследника фамилии, они могли достать необходимые десять тысяч крон где-нибудь ближе Венеции. Таким образом, это спасение может явиться слишком поздно, трудно поверить, что разбойники будут ждать слишком долго, – ответил монах, не сводя испытующего взора с иоаннита. – Наследник Орсини! Как? Это – сам синьор Паоло? – с видимым участием воскликнул иоаннит и более холодным тоном прибавил: – О, но так как Борджиа избрали его своим зятем, то презренные дукаты несомненно будут присланы из Ватикана, хотя бы сумма была в десять раз больше. Монах рассмеялся, но это был мрачный смех, без малейшего следа веселости. – Известно, какую замечательную любовь выказывали Борджиа до сих пор к своим зятьям, – проговорил он, – и я не вижу, почему они должны быть менее нежны к тому, кто, кроме того, является опорой их врагов, и чья хитрость пытается спорить с их коварством. – Скажите нам ясно и понятно, чего вы от нас ждете? – смущенно воскликнул Бембо. – Кроме того, герцог Валентине в Фаэнце, где он все еще продолжает осаду, а папа уже совсем не так упрям и тверд, как был раньше, и ничего не делает без совета, – ответил монах, видимо стараясь избежать прямого ответа. – Разве дон Ремиро, лейтенант Цезаря, этот волк справедливости, почти уничтоживший черные банды, не находится сейчас в Романье? – спросил иоаннит. – Там, где он находится, текут бурные потоки крови, его след не так уж трудно найти. – Сила была бы бесполезна, разбойники исчезнут и унесут свою тайну с собой, – возразил доминиканец. – А между тем, там, внизу, в этой ужасной пещере, Паоло борется со смертью, страдая от голода, холода и ужаса. Но я не удивляюсь, что друзья герцога Феррарского готовы дать погибнуть таким ужасным образом сопернику его сына. – Клянусь слезами Пресвятой Девы, пролитыми Ею у креста Господня! Я не покину этот край, пока не освобожу Паоло Орсини! – с внезапным пылом воскликнул благородный иоаннит. – А так как мы – плоть и кровь рыцарства, то и я не оставлю вас, пока не окончим это предприятие, – ответил Лебофор и затрубил в рог, и вскоре с ними поравнялся усталый отряд. – Это – грешное и языческое искушение Провидения, безбожный обет, от которого я разрешаю вас обоих, – озабоченно воскликнул Бембо. Однако оба рыцаря не обратили внимания на его слова, и просили доминиканца постараться вспомнить, не известна ли ему какая-нибудь другая тропинка, по которой они могли бы найти ход в пещеру. Но монах только печально покачал головой. – Ну, тогда мы воспользуемся путем святого, и пройдем через водопад, – сказал храбрый англичанин. – Может быть, картезианцы облегчат вам каким-нибудь путем вашу задачу, ведь вскарабкаться по водяному столбу невозможно, – возразил доминиканец. – Наступает ночь, и вам необходимы факелы. Кроме того, вы должны снять свои доспехи, ибо для того, чтобы перебраться через эти бездонные пропасти, где каждый неверный шаг грозит гибелью, нужны гибкость змеи и ловкость кошки. Попытаемся же сначала разыскать дорогу в монастырь. (обратно)ГЛАВА V
Солнце уже почти зашло, и тени стали длиннее. Когда путники под предводительством монаха достигли вершины, они увидели, что дорога уходила в лес, покрывавший склоны гор. Отсюда тропинка вела мимо ряда утесов над потоком, заканчиваясь образовавшейся в скале площадкой, от которой был перекинут мост. Переход через мост, не имевший перил, дрожавший от грома водопада и недостаточно широкий для одного пешехода, был по-видимому, совсем невозможен для всадника. Но Лебофор тотчас же дал шпоры коню, и вскачь промчался по мосту. Переправившись на противоположную сторону, он победоносно махнул рукой. Иоаннит последовал за ним, поразив еще большим хладнокровием, потому что на середине моста он приостановил коня и спокойно взглянул на водопад. Вода огромными массами низвергалась на самую высокую группу скал, ниспадала с них на утесы, превращаясь в море пены, и текла дальше сотнями потоков, которые в свою очередь разбивались о скалы. Под выдающимися скалами второго водопада темные впадины указывали вход в пещеру, но внимание иоаннита было приковано к красноватому, странному свету, падавшему на бурный поток от горевшего в пещере огня. В следующее мгновение свет исчез и рыцарь не знал, была ли это игра воображения, или это было странное явление, встречавшееся в этой вулканической местности. Его раздумья прервал Бембо, закричавший ему, чтобы он освободил путь, так как, несмотря на смертельный ужас, он видел, что другого пути нет. Его мул твердой поступью вошел на мост, а сам священник, чтобы поддержать равновесие, протянул руки в стороны. Из чувства ли подражания, или по какому-нибудь другому поводу, но мул остановился посредине моста и не двигался с места, пока, наконец, ехавший сзади Вильям Бэмптон не ударил упрямое животное копьем. Тогда мул, задрав хвост и вскрикнув от боли, медленно двинулся вперед. Таким образом, они перебрались на другую сторону, причем Бембо не переставал креститься. Всадники друг за другом следовали за ними. Доминиканец следовал позади всех, и так как сумерки уже превратились в ночь, рыцари и свита с нетерпением ждали его перехода. Иоаннит и Лебофор видели, как он дошел до середины, и остановился, словно пораженный каким-то видением. Он указал им рукой вниз. Рыцари взглянули в указанном направлении и снова увидели, как водопад осветился таинственным красноватым светом. Когда они обернулись, монах исчез. Все заявляли, что моста он не переходил, и никто не заметил, чтобы он вернулся или упал в пропасть. Озадаченные рыцари соскочили с коней и возвратились по мосту на другую сторону, разыскивая своего проводника, но его и след простыл. На их громкий призыв отвечал лишь неумолкаемый шум водопада. Если монах упал в пропасть, он неминуемо должен был разбиться, и тогда его искалеченное тело унес с собой бурный поток. Но темная бездна ревниво хранила свои тайны, и единственное утешение, оставшееся рыцарям, заключалось в том, что монах, испугавшись, не пожелал лично участвовать в спасении Орсини, а поспешил спастись бегством. Все чувствовали при этом некоторый суеверный ужас, но никто не хотел сознаться в этом. Погруженные в мрачные мысли по поводу всего приключившегося, путники выбрались, наконец, снова на дорогу и под заунывный звон колокола, призывавшего к вечерне, достигли ворот картезианского монастыря. У ворот висел металлический рог, и Лебофор затрубил в него. Спустя некоторое время заскрипели тяжелые засовы, и перед путешественниками появился старый монах в коричневой рясе картезианца, с деревянным крестом на веревке, служившей ему вместо пояса. На просьбу рыцарей о крове, он молча указал рукой по направлению монастыря. Узкая дорожка привела путников к еще более узкой опускной решетке, над которой возвышался монастырь, раскинувшийся между утесами, и частью даже вырубленный в них. Рыцари копьями постучали в ворота, и сейчас же в окне башни над опускной решеткой показался монах: он сперва внимательно оглядел паломников, и только после этого поднял воротом решетку. Тогда всадники очутились на длинном, узком дворе, вырубленном в скалах, где по обе стороны находились искусно сделанные углубления, предназначавшиеся, очевидно, служить стойлами для лошадей паломников. Едва только рыцари въехали во двор, решетка тотчас же опустилась, и вслед затем сошел с башни привратник. Он очень вежливо приветствовал путников и выразил сожаление, что не может предложить им больших удобств, так как лучшие помещения были заняты большим отрядом, сопровождавшим флорентийского посла в Рим. Настоятель, по его словам, находился сейчас у вечерни, по окончании же службы придет приветствовать путников. Затем он указал на еще незанятые стойла, рассказал, где найти соломы для лошадей, и пригласил посетителей следовать за ним, после чего привел их в трапезную. Здесь путешественники встретили общество, с которым им пришлось разделить гостеприимство альпийских монахов. Несколько длиннобородых молчаливых картезианцев были заняты угощением своих гостей: за каменным столом сидело около тридцати человек, на столе были расставлены блюда с ячменным хлебом, сыром, молоком, яйцами. Около каждого сидевшего лежало копье, почти вдвое длиннее человеческого роста. Вооружение у всех было солидно и богато. Их шлемы были украшены орлами с распростертыми крыльями и устремленным на солнце взглядом. Круглый щит с острием посредине, короткий меч и тяжелая булава дополняли их вооружение. По девизу Цезаря Борджиа, окружавшему на мантиях сидевших герб церкви, иоаннит и его спутники угадали, что перед ними находится часть страшной гвардии, известной всей Италии своими храбростью и жестокостью. Этот отряд Цезарь составил из разных национальностей, сражавшихся в Италии, выбирая преимущественно людей, изгнанных за жестокость и преступления из рядов других армий, дикие и неукротимые страсти которых он один смог усмирить. В кресле, обыкновенно предназначавшемся настоятелю, сидел человек, которому эта отчаянная братия служила свитой. Он был во цвете лет, высокого роста, немного худощав, с резкими, но приятными чертами лица, выдававшими его итальянское происхождение. Его брови, словно от частого размышления, были как-то странно загнуты книзу, вокруг закрытого рта лежало страдальческое выражение. Когда же черты его лица и глаза просыпались от своего задумчивого покоя, они светились насмешливым, живым блеском, и его улыбка заражала своей веселостью. Казалось, он забавлялся прыжками и гримасами одного из тех несчастных существ, вся обязанность которых состоит в том, чтобы веселить своих повелителей неожиданными выходками своего полуразрушенного ума. Тем не менее, этот дурак, или шут, был, очевидно, необыкновенным представителем своего полоумного братства. Несмотря на пестрый шутовской наряд, вся его фигура отличалась удивительным изяществом и гибкостью, будучи среднего роста и не поражая выдающейся силой, он, тем не менее, заставил бы призадуматься любого борца, который захотел бы схватиться с ним – настолько его движения были ловки ибыстры. Черты его лица, сколько можно было рассмотреть под румянами и белилами, были тонки и почти женственно нежны. Его рот можно было бы назвать идеальным, если бы в состоянии покоя он не отличался едва заметным, но неприятным кровожадным выражением. Однако, самым замечательным были его глаза: они необыкновенно глубоко лежали под крутыми бровями, и по своему блеску и постоянной изменчивости цвета были подобны бриллиантам. Этот шут играл, или, вернее, дразнил двух огромных породистых собак, угрозами и ласками заставляя их громадными лапами доставать из горячей золы печеные каштаны, и был настолько увлечен этой опасной игрой, что почти не заметил прибытия новых гостей. Наконец, звон оружия пробудил его, и лишь только он заметил рыцарей, как поднялся с места и поклонился им. Он бросил на них бессмысленный взгляд, затем тряхнул своими рыжими упрямыми вихрами, как будто пришельцы нисколько не заинтересовали его, и снова занялся собаками. – Неужели действительно мне на долю выпало счастье встретить на моем трудном пути высокочтимого Макиавелли [522] из Флоренции? – воскликнул Бембо. Он произнес это таким тоном, какой далеко не соответствовал его речи, но он видел, что ему не оставалось иного выхода, так как посланник сразу узнал его. – А если вашему преподобию не нравится, нам стоит только послать за другим, – заметил шут, выразительным жестом указывая вниз, но затем разразился бессмысленным смехом и ударил кочергой по угольям. – Кого ты имеешь в виду? Дьявола или Цезаря Борджиа? – расхохотался посланник. – Но неужели я действительно вижу перед собой отражение Парнаса, квинтэссенцию учености и остроумия, Геркулеса богословия, в лице мессира Бембо из Феррары? – промолвил он с легким оттенком иронии. – Поистине, не будь мне никакой иной награды за мое путешествие через Апеннины, с меня было бы довольно одной этой встречи. Но ваша партия, дорогой Пьеро, вовсе не в таком фаворе в Риме, чтобы ваше паломничество туда могло быть слишком успешно. – Я направляюсь туда, синьор, вовсе не для того, чтобы получить какие-либо милости, – сумрачно возразил священник. – Кроме того, вера и добрые дела не совсем еще вышли из моды, чтобы считать мое паломничество в Рим с этими благородными рыцарями таким уж большим чудом. Но почему тайный секретарь Флорентийской республики едет во вражескую столицу? – Республика не требует обратно Медичей, и так как все остальные из вас заключают с церковью мир, то мы не видим, для чего мы должны быть настолько безумны, чтобы сражаться одним, – ответил посланник. – И вот, чтобы известить о таком решении святого отца, республика отправила к нему прямого человека. Но что нового на севере? – Я не знаю ничего, кроме того, что еду в Рим только ради своих прегрешений, безо всякого поручения, так как я должен был бы найти случай принести извинение по поводу неотложного путешествия во Францию нашего молодого принца, – ответил Бембо. – О, если вы несете в Рим свои грехи, – со смехом воскликнул флорентиец, – то где же тогда все красавицы, которые должны были бы сопровождать вас? Но, честное слово, брат Пьеро, у вас в Риме действительно нет другого дела, кроме спасения души? – Если бы и было какое дело, брат Никколо, я все равно не сказал бы вам, слишком уж долго я был вашим товарищем по школе, чтобы пускать свои секреты на ветер, – с искусственной веселостью отвечал каноник. – Но я искренне рад, что вы счастливо избежали львиного логовища, как я называю лагерь монсиньора Борджиа. – А мне жаль, что ваш принц бежал от предложенного ему блестящего союза с сестрой Цезаря, – с печальной миной ответил флорентиец. – Все идет согласно желанию Орсини, и, если их брак состоится, горе Тоскане! – Да, да, пусть медведь видит, какой куш он отдает своими лапами, – смеясь и кривляясь, сказал шут. – Разве его преподобие лиса не заметила никаких следов на песке, от когтей Орсини, когда она выслеживала их, чтобы определить, какой дорогой пошли звери? – Клянусь Пресвятой Девой, ваш шут удачно попал в цель! – воскликнул Лебофор. – Послушайте, господин посланник, что мы открыли, и судите сами, есть ли хоть какая-нибудь гарантия безопасности для друзей Цезаря! – Ну, что это за история, которой предшествует такое жалобное вступление? – с любопытством сказал Макиавелли. Шут тоже наклонился вперед, но сейчас же снова принял свое обычное положение. – Послушаем. Но нельзя ли не поминать Цезаря Борджиа, потому что разговорами о нем, которые мы слышим на каждом шагу, мы сыты по горло, – прибавил Макиавелли, бросив мимолетный взгляд на шута, который тряс головой, весело позвякивая нашитыми на шапке колокольчиками. Только Бембо хотел было приняться за рассказ об их удивительном приключении, как был прерван появлением настоятеля в сопровождении длинной свиты картезианцев, и это избавило от повторения рассказа. Монахи двигались в торжественном молчании, опустив головы вниз, и сам настоятель был так изможден постом и бдением, что походил на колоссальный скелет. Только он один приветствовал новых гостей несколькими словами, но произнес их серьезно и холодно. Макиавелли не дал Бембо окончить его красноречивую просьбу о гостеприимстве, но, прервав его излияния, потребовал у него рассказа про приключение. Бембо начал весьма пространно рассказывать всю историю, однако Лебофор, наскучив его отступлениями, прервал его на полуслове и в кратких словах изложил все события. Он закончил свой рассказ просьбой к настоятелю научить его, как найти дорогу в пещеру, чтобы убедиться, выдумано или правдиво известие, полученное ими от монаха-доминиканца. – А вы все в одно время бредили, или один дурак одурачил всех? – сказал шут, презрительно усмехаясь. – Стоит ли, дядя Никколо, везти меня в подарок папе, раз эти господа по собственному побуждению едут в Рим? – Смотри, шут, вежливый язык сохраняет здоровую шкуру, – многозначительно заметил флорентиец. – Все, что вы рассказали, – невозможно, – произнес наконец настоятель нахмурившись, – это – не что иное как бред безумного путника. Никто из нас не слыхал о другом пути в пещеру святого, кроме как через водопад, но там уже столько верующих нашли свою погибель, что этот путь запрещен. – Когда я был послушником, – прошамкал дряхлый монах, согнувшийся под тяжестью лет, – я слышал однажды об этом... Отец Амвросий как будто говорил про дорогу... но прошло уже шесть десятков лет, как он скончался. Была суровая зима, а он уже давно мучился кашлем, бедняга, и очень страдал перед смертью. Аминь! Я думаю, его душа у святого Гвидобальда. – Может быть, в образе того монаха к вам явился дьявол, чтобы ввести вас в искушение, сломать себе шею, – серьезно заметил шут. – Святой отшельник Гвидобальд? Да, уже не первый раз его видение встречалось вблизи пещеры, где почивают его мощи, – сказал старец. – Но он является только великим грешникам, чтобы возвестить им близкую кончину. – Нет, тот, кто явился нам, был не в картезианском одеянии, а в рясе ученого доминиканца, – с ужасом промолвил Бембо. – То, что вы приняли за белое одеяние доминиканца, – с упрямой настойчивостью проговорил старый монах, – было не что иное, как саван, который надели на святого, прежде чем явились ангелы. – Тогда, значит, святому Гвидобальду надоело в его забытой могиле и он хочет, чтобы его останки были перенесены в монастырь и положены в раку, где и стали бы творить чудеса. – Вы так полагаете, синьор? – воскликнул настоятель, ухватившись, по-видимому, за эту мысль. – И действительно, в последнее время мы ничего не слыхали о бандитах, в особенности с тех пор, как дон Ремиро стал подестой [523] Романьи, он предложил им на выбор: или они должны вступить под знамена герцога, или он их всех перевешает. – Но мы собственными глазами видели трупы людей Орсини на том месте, где некогда стоял замок Джакобо Савелли! – воскликнул Лебофор. Игумен недоверчиво взглянул на него, а затем произнес: – Если это так, – тогда подождем до утра, иначе разбойники могут оказать сопротивление. – Нет! Сегодня, сегодня! Ни на одну минуту я не хочу откладывать это дело! – порывисто воскликнул иоаннит. – Завтра, может быть, будет слишком поздно. Разбойники могут увезти или умертвить своего пленника, Паоло Орсини. Пусть всякий, кто считает себя христианином, возьмет факел и следует за мной! – Как ты думаешь, шут, не подходит ли это предприятие также и для тебя? – спросил Макиавелли. – Нет, я лучше посмотрю. Проваливайте вы, молодцы; вы не можете причинить мне никакого вреда! – ответил шут, равнодушно зевая. – Если вы твердо решились, – сказал настоятель, – тогда наша братия будет помогать вам, насколько это в ее силах, но вы увидите, что ваше предприятие невыполнимо. – Итак, в путь! Я даю вам, отче, свое рыцарское слово, что ничего невозможного мы делать не будем, – сказал Лебофор, и выхватил из огня головню. Даже картезианцы забыли о своей обычной медлительности, и стали торопливо зажигать факелы, а телохранители посланника смотрели на него, как свора собак на привязи. – Ну, если уж все христиане должны участвовать в этом, дядя, так отпустите и вы своих негодяев, – промолвил шут, и, словно не нуждаясь в ином разрешении, отряд посланника с шумом присоединился к рыцарям. Все монахи вышли за рыцарями во двор, где английские солдаты давали лошадям корм, а посланник с шутом остались одни в зале. – Пойдем, дядя Никколо!.. Если другие сошли с ума, будем и мы безумными, – проговорил шут, подумав немного, и, схватив полу мантии посланника, пустился вокруг него в какой-то фантастический танец. Макиавелли, казалось, не обращал внимания на своего спутника, пока они не вышли из монастырских ворот и не заметили света факелов, то появлявшегося, то исчезавшего среди извилин скал. Здесь он остановился и, значительно усмехнувшись, обратился к шуту, внезапно перейдя на почтительный тон. – Что вы думаете, ваша милость, об этом происшествии? – тихо спросил он. – Я начинаю верить в чудеса, Никколо, хотя и причастен ко всей этой истории, – ответил тот, иронически улыбаясь. – Мигуэлото редко делает свое дело только наполовину, у него есть только один порок, который не годится для меня – он жаден, Никколо, страшно жаден! Но он – губка, которую я выжму для себя, когда она наполнится, ведь без денег, Никколо, немного можно сделать на этом свете. Пойдем на мост и посмотрим, как эти дураки будут лететь в пропасть. Но где мои собаки? – Эй, сюда, Марий, Сулла! – Они пошли за другими, – сказал флорентиец, – и, кажется, не узнали вас в этом шутовском наряде. – Если бы я знал, что дьявол не узнает меня, я согласился бы лучше умереть в этом платье, чем в рясе монаха, – заметил шут и стал свистать и звать собак, но напрасно – они не появлялись. Тем временем Макиавелли не пошел по той дороге, которую указывали факелы, а направился на мост. (обратно)ГЛАВА VI
Посланник со своим шутом едва ли могли выбрать лучшее место для наблюдения, чем середина моста, Дугой поднимавшегося над рекой. Отсюда можно было видеть все происходящее. Правда, благодаря несмолкаемому шуму потока, трудно было разговаривать, но никто, казалось, не был особенно расположен к разговору, оба напряженно ждали появления искавших. Внизу в это мгновение было все погружено во мрак, слабый свет звезд не проникал в эти бездонные глубины. – Здесь страшная высота, – сказал шут после паузы, во время которой он по-видимому, обдумывал возможность успеха всего предприятия. – Здесь очень легко нечаянно оступиться. Что вы так странно смотрите на меня, Никколо? Я знаю, вы – мой друг. – Я думаю, благородный господин, что такие неожиданные шутки могут быть и опасны, – сказал флорентиец. – Но синьор Паоло был вашим другом, по крайней мере, вы обнимали его и называли своим братом. – Это для того, чтобы он так думал, – спокойно ответил шут. – Я не умею объяснить себе глубину этой политики, – снова начал флорентиец. – Какой смысл уничтожать его теперь, когда для вашей милости так важно привлечь к себе Орсини и всю их партию, и когда он с мирными намерениями и предложениями направлялся в Рим? – Я уничтожу их всех, все равно, силой или хитростью, это достаточно благородное оружие против измены и возмущения! – с жаром отвечал шут. – Я скорей согласился бы по капле вычерпать море, чем сдаться и сложить в отчаянии руки. И, кроме того, что я могу сделать, когда на людей, путешествующих инкогнито и без надлежащей охраны, нападают разбойники и убивают их? Разве вы не знаете, что Паоло ехал в Рим по приглашению моего отца, а не по моему желанию? И неужели же я должен спокойно отказаться от награды за все свои труды только потому, что старик стал нерешительным и боязливым? – Если бы донна Лукреция вышла замуж за Орсини, тогда все дворяне снова должны были бы потребовать восстановления всех своих прав, – заметил посол. – А что стало бы с моим герцогством Романья? – воскликнул шут, тряхнув рыжим париком. – И где было бы тогда ваше итальянское государство? – добавил с ударением хитрый флорентиец. – Вы шутите со мной, Никколо! – ответил шут, дико сверкнув глазами и сжимая руку, словно он уже держал скипетр. – Ах, если бы мне снова встретить старого полусумасшедшего колдуна, который обыкновенно помогал мне в изучении магии еще тогда, когда я мечтательным юношей ходил в Пизе в школу, а мои глупые учителя были убеждены, что я погружен в пыльные сочинения Августина и Бернарда! – Насколько я помню, он показал вам какое-то видение в зеркале из аметиста? – насмешливо сказал Макиавелли. – По крайней мере, так рассказывает об этом в Италии народ, и говорят, что седобородый мудрец был самим дьяволом. Но вот они идут. Смотрите, как сверкает вода при свете их факелов!.. точно горячий адский поток. – Скажи, Никколо, что же, по рассказам народа, показал мне этот кудесник? – Скелет в короне и царской мантии, вручивший вам скипетр, – ответил посол. – Это ложь! К черту того, кто говорит это! – с дикой страстью воскликнул шут. – Это была тень в императорской короне и в мантии Карла Великого, как мы знаем его по изображениям хроники, она вручила мне скипетр и меч, которые были перевиты, как змеи. – Ваша милость тогда отлично поняли науку, – ответил Макиавелли. – И, я знаю, ты думаешь, что мой учитель сумел научить меня, как своего любимого ученика, всем фокусам? – с усмешкой спросил шут. – Но берегись, чтобы он не оставил для себя одного из них, который в конце концов перехитрит тебя. Но, Никколо, если я из моей короны когда-нибудь сделаю нечто большее, чем этот дурацкий колпак, когда я действительно стану Цезарем, кем ты будешь для меня? – Твоим Брутом [524] – ответил флорентиец. – Моим Сеяном [525], ты хочешь сказать, дорогой Никколо, – сказал шут с усмешкой, за которой таилась мрачная мысль. – Ты что-то все приводишь неудачные сравнения. Ничего не отвечая, Макиавелли полунасмешливо приподнял свою отороченную мехом шапочку и устремил свой взор вниз, не оставляя в то же время без внимания ни одного движения своего спутника. То, что происходило внизу, представляло оригинальное и живописное зрелище. Рыцари, солдаты и длиннобородые картезианцы перепрыгивали в русле потока со скалы на скалу и, крича друг другу, махали факелами. При этом фантастическом освещении водопад горел всеми цветами радуги и сверкал как бриллиант. Но поиски, казалось, были безуспешны, и шут разразился громким хохотом, когда разведчики сошлись на отдельных выступах утесов и, по-видимому, совещались. Внезапно Макиавелли и его спутник были поражены лучом красноватого света, исходившим из отверстия пещеры. Он сейчас же исчез снова, но было, очевидно, замечен и внизу, потому что оттуда послышались громкие крики, слышные даже сквозь несмолкаемый грохот водопада. – В пещере совершено убийство, которое будет открыто, – промолвил флорентиец, бросив беглый взгляд в сторону своего спутника. – Я до сих пор никогда не слыхал, чтобы убийство обладало способностью зажигать огонь для того, чтобы привлекать к себе, в свои тайники, людей, – холодно ответил шут. – Но все равно им непременно придется вернуться, и они старались понапрасну. – Однако для чего же рыцари снимают с себя вооружение! Что это значит? – спросил посол. – Смотрите, угрюмый английский оруженосец снимает со своего господина наколенники, а священник ломает руки! Что он сделал со своим факелом? – Он уронил его в воду, я видел, как тот потух и поток увлек его за собой, – ответил шут. – Но куда девались мои собаки? Их инстинкта я боюсь гораздо больше, чем сообразительности этих глупцов. – Клянусь святым Юлианом, безумцы хотят вскарабкаться на скользкие утесы! – воскликнул Макиавелли. – Смотрите, они лезут, один с этой, другой с той стороны водопада... Ловко прыгнул, дурак солнца!.. Он опередил своего спутника намного. Слышите, как он торжествующе хохочет! Должно быть, не так трудно лазить по этим скалам, как это кажется сверху! Они взбираются, словно по лестнице! – Нет, нет! Ха-ха! Глядите, священный рыцарь поскользнулся и падает, он разобьется! Что это, Никколо? Он ухватился за куст... Спасен! ! – закричал шут, следя за опасным спуском иоаннита. Между тем последний, поскользнувшись на выступе, ухватился при падении за куст, росший из расселины скалы. Затем, хотя и с большим трудом, ежеминутно подвергаясь опасности быть сброшенным водопадом в бездну, возвратился на прежнее место. – Где же теперь английский дикарь? – воскликнул шут. – Вот он!.. Глядите, он окружен со всех сторон брызгами и пеной. Разве вы не видите его? – ответил Макиавелли. – Я хотел бы, чтобы тот, другой, находился на его месте. Рожа этого иоаннита нравится мне гораздо меньше, – сказал шут. – Да, правда, он хочет последовать за ним, после того, как избежал опасности с другой стороны. Этот не так ловок, три раза уже срывался. Ха, клянусь ключами святого Петра, сумасшедший англичанин стоит перед нами на скале и отряхивается, как мокрая крыса. Еще один прыжок, и он будет в пещере, или внизу, в пропасти. Честное слово, его безумная смелость почти заставляет меня желать, чтобы это отчаянное предприятие увенчалось успехом, даже если будет спасен один из представителей ненавистного мне отродья Орсини. – Скала колеблется под его ногами, он хочет прыгнуть! Это безумие... Остановитесь, рыцарь, остановитесь, вернитесь назад! – закричал Макиавелли. – Не стоит очень сокрушаться о нем, наверное, после него останутся наследники, – принимая обычный тон, проговорил шут. – Но смотрите, он не решается... Да, конечно, ни один человек в здравом уме, не решился бы на дальнейший путь. Простое течение может опрокинуть его. Стоящие внизу, очевидно, тоже заметили опасное положение Лебофора и его нерешительность. Картезианцы шумно выражали свои опасения, иоаннит, Бембо и Другие путники кричали ему, чтобы он бросил свою опасную затею. Однако Лебофор махнул торжествующе рукой, словно открыл какой-то выход, которого не видно было снизу, и... прыгнул! Макиавелли закрыл от ужаса глаза, но сейчас же снова открыл их, так как его спутник вскрикнул, но не от ужаса, а от удивления. Снова появился таинственный свет, и в его блеске показался образ рыцаря, словно изваянный в водяной стене, образовавшейся от закругления низвергавшегося водопада. – Не сомневаюсь, что его сейчас же прикончат, как только он войдет в пещеру, – со злорадством сказал шут, – судя по этому свету, там кто-то есть, чтобы достойно принять непрошеного гостя. Рыцарь тем временем исчез. Снова последовала глубокая, полная таинственного ужаса пауза, а затем стало видно, как иоаннит с азартом принялся карабкаться на утес, за ним следовали английские солдаты, но не так быстро, тяжелое вооружение стесняло их движения. Иоаннит добрался до выступа, откуда его собрат по оружию прыгнул в пещеру. – Что с ним случилось? Неужели он не решается последовать за ним? – спросил Макиавелли. – Смотрите, он наклоняется вперед, как будто прислушивается к голосам из пещеры. – Быть может, это рыцарь зовет на помощь, – ответил шут, и подвинулся вперед, словно и ему хотелось услышать голоса. – Ха, ха, священник в нем одержал победу над солдатом! Видите, как он несется оттуда, словно за ним гонятся волки! – Он снова внизу, рядом со своими спутниками, он что-то рассказывает им, смотрите, они все кидаются к утесам с вашей стороны! – объяснял Макиавелли шуту. В это мгновение до них донесся лай собак, отыскавших след. Путники и монахи, как безумные, кинулись через реку, мелкую в этом месте, и один за другим быстро скрылись в темной расселине среди утесов. – Голову даю на отсечение, они открыли путь святого в его отшельническую келью! – воскликнул Макиавелли. – Берегись, Мигуэлото, если ты обманул меня, – пробормотал шут, а затем, бросившись как тигр, ловко перепрыгнул через лежавшего на мосту флорентийца и быстро стал спускаться по скалам. Макиавелли поднялся в свою очередь, и спокойно пошел за ним. На берегу он наткнулся на Бембо, отряхивавшего свое мокрое платье и певшего благодарственную молитву. – Что случилось? – воскликнул флорентиец. В ответ на это Бембо мог указать только на противоположные скалы, судорожно расхохотался и одновременно вытер мокрые от слез глаза. Шут не стал терять время на расспросы, перепрыгивая с камня на камень, он достиг зияющей расселины, где свет факелов, громкие голоса в отдалении и непрестанный лай собак убедили его, что в пещеру был открыт безопасный путь. Последний образовался, вероятно, после землетрясения и длинным коридором вел прямо в пещеру. Любопытного шута ожидало редкое зрелище. Пещера была значительных размеров и, будучи освещена бесчисленными факелами, сверкала спускавшимися сверху сталактитами, искрилась на блестящей поверхности базальтовых природных колонн и производила волшебное впечатление. На плоском выступе скальной стены виднелось изображение, в котором при известном напряжении фантазии можно было найти некоторое сходство с распятием, и на нем лежал человек, привязанный к нему ремнем, цепью и железным обручем. Вокруг него суетились рыцари, монахи и солдаты, изо всех сил стараясь разорвать державшие его путы. Над пленником тлелось, в некоем подобии жаровни, еще несколько головней, которыми он, по-видимому, производил таинственный свет, обративший на себя внимание рыцарей и, судя по его бледному и изможденному лицу, приведший их как раз вовремя, чтобы спасти его. В отдалении стояли обе собаки, тихо подвывая и облизывая языком морды. (обратно)ГЛАВА VII
Макиавелли осторожно и, не спеша, шел за своим спутником, но цепь, приковывавшая несчастного Орсини к скале, была так крепка, что его спасителям еще не удалось разорвать ее, когда он вошел в пещеру. Флорентиец внимательным взглядом окинул всю картину и остановил его на пленнике. Орсини был человеком во цвете лет, его фигура отличалась больше изяществом и соразмерностью форм, чем силой, но, вероятно, он был сильнее, чем казался. Черты его лица были строги, но тонки, а их подвижность и непрестанная смена света и теней указывали на сильные страсти, бушевавшие в нем. Несмотря на это, они по желанию могли преображаться в неподвижное спокойствие мрамора, с гневом отметавшее взор любопытного зеваки. Цвет лица Орсини можно было сравнить с тем оттенком, который принимает мрамор под влиянием горячих лучей южного солнца. Черные волосы еще больше оттеняли бледность его лица. – Они действительно спасли эту непримиримую змею, это подлое отродье! – вполголоса проговорил шут Макиавелли. – Никогда ничего не буду предпринимать в этот день месяца, ибо слепой случай разрушил в этот день все, что было предусмотрено так мудро и так умно! Но погодите! Смотрите, в глотке у него пересохло, глоток воды оживит его. Я думаю, если я дам ему чего-нибудь выпить, это будет выглядеть просто обыкновенным милосердием с моей стороны. – А чтобы студеная вода не простудила его, вы хотите добавить в нее немного восточного порошка, благодаря которому его желудок быстро разогреется? – спросил Макиавелли, вопросительно глядя на шута. – Но я не вижу здесь политической мудрости, – прибавил он. – По-моему, каждый правитель, желающий уничтожить врага, не должен пытаться делать это всевозможными способами, а избрать только один, иначе он может подвергнуться опасности пробудить сопротивление, которое может его же и уничтожить. Если вы не можете сразу убить врага, никогда не раньте его, в противном же случае вы будете сеять зубы дракона на собственную гибель. Пока вы не можете разом уничтожить весь род Орсини, было бы бесцельно раздражать их гибелью самого значительного члена их семейства. Я полагаю, совершенное в данный момент вторичное покушение на жизнь Орсини возбудит против вас подозрения. – По вашему дружескому совету, Никколо, тот, кто хочет утвердить за собой покоренное государство, должен истребить весь род изгнанных государей, – возразил шут. – Моя же власть вырвана мною у пленников святого престола. – Вы, несомненно, избраны орудием, которое должно уничтожить мелких тиранов Италии, и объединить всю страну, – произнес дипломат. – Паоло Орсини, вне всякого сомнения, один из могущественных, а теперь, со времени изгнания Колонна, и самый могущественный супостат церкви, но тем не менее, я не считаю настоящий момент подходящим для его уничтожения. – Никколо, – с презрительной улыбкой сказал шут, – у тебя больше умения советовать, чем действовать. Но ты был постоянно моим оракулом, и, кроме того, какой-то внутренний голос подсказывает мне, что и эта неудача, как и все другие, послужит моему благополучию. Паоло еще может пригодиться мне, я попробую натравить его на гордого феррарского франта. И кстати, зачем пожаловал сюда этот Бембо? Что он разнюхивает здесь? – Я сам стараюсь выяснить это, – ответил Макиавелли. – Итак, сейчас я не буду поить Орсини, – начал снова шут. – Кроме того, мне необходимо узнать, кто тот изменник, который оставил ему жизнь, и за которого я теперь должен делать его работу, угощая Орсини ядом. Однако, я сомневаюсь, чтобы синьор Паоло, не раз встречавшийся со мной на поле брани, где взоры проникают прямо в душу, не узнал бы меня в этом наряде. Мне также трудно скрываться, как солнцу. – Нет, благородный господин! Никто не узнает в этом наряде, в этих рыжих волосах, в этом уродливом лице, великого герцога Романьи – возразил Макиавелли. – Кому из ненавидящих вас может придти мысль, что самый тонкий ум нашего времени может допустить глупость, и искать защиты в переодевании? Но в это время их разговор был прерван радостными восклицаниями. Под могучими ударами Лебофора распалась, наконец, тяжелая цепь и пленник вскочил на ноги. Первым его желанием было броситься на колени перед распятием. Коленопреклоненный, он дал торжественный обет выстроить часовню святому Гвидобальду на месте своего чудесного спасения. Затем он поднялся и с живейшими выражениями вечной благодарности обнял своих спасителей. – Мои сердце и душа, мои дворцы, мои поместья мои сокровища – все к вашим услугам, благородные рыцари! – воскликнул он. – Жизнь, которую вы спасли, принадлежит вам, и кроме любви к моей невесте, нет ничего, чего бы я ни отдал друзьям в благодарность за то, что они сделали для меня. – Это единственное условие мы не будем оспаривать у вас, благородный синьор, тем более, что оно служит, по-видимому, талисманом против несчастья, – с саркастической улыбкой произнес иоаннит. – Но ваша благодарность должна принадлежать более всего милосердному доминиканцу, который привел нас сюда, чем нам, так как это предприятие было для нас только удовольствием. – Доминиканец? – с удивлением воскликнул Орсини. – Тогда это был мой ангел-хранитель, которого послала мне моя Покровительница, Пресвятая Дева в церкви Санта Мария Маджиоре. И Ей я отслужу торжественную мессу и поставлю пятьдесят свечей из турецкой амбры. – От Санта Мария Маджиоре! – пробормотал шут. – Да, конечно, потому что образ Пресвятой Девы в той церкви так похож на его прекрасную невесту. – Возможно! Я слышал, что это несравненное произведение Леонардо да Винчи писал с вашей матушки, синьоры Ванацци [526], – прошептал Макиавелли своему спутнику, который дрожал всем телом. – Замечали ли вы когда-нибудь, дорогой Николо, как мало похожу я на Мадонну Санта Маджиоре, на мать или на отца, наместника Христа на земле? – спросил шут. – Мне довольно часто нашептывали раньше, да и сам я мало-помалу пришел к убеждению, что в раннем детстве меня подменили, мой отец больше боится меня, чем любит, и сам я питал к своим близким так же мало родственных симпатий, как и они ко мне, клянусь оковами святого Петра! Его святейшество почти отрекся от меня, назначив кардиналом. Я намереваюсь как-нибудь спросить колдунью, да так спросить, чтобы она сказала правду, кто породил меня! Шут почти с жаром, почти с бешенством произнес эти слова, словно воспоминание об этой несправедливости глубоко потрясло его. Макиавелли посмотрел на него острым проницательным взором, но ответил таким тоном, как будто не придавал его словам никакого значения. – Мне кажется, благородный господин, что с вашей стороны было бы крайне странно, даже нелепо, подтверждать эти слухи, если это – вообще слухи. – Вы ошибаетесь, Никколо, на этот раз вы глубоко ошибаетесь! – ответил шут более тихим, но все еще взволнованным голосом. – Клянусь небом, теперь мне хотелось бы лучше быть признанным, законным наследником нищеты моего дряхлого воспитателя, чем оставаться незаконным сыном священника! – Возможно ли? – воскликнул Макиавелли, – недоверчиво взглянув на говорившего, а про себя подумал: «Неужели в этой дьявольской груди есть место для стыда и раскаяния?» Но, когда он припомнил ужасные слухи, очень распространенные тогда в Италии, у него внезапно явилась мысль, и, хитро улыбнувшись, он сказал: – Но ведь не станете же вы уговаривать или принуждать вашего воспитателя открыть вам правду, прежде чем вы, как Борджиа, не утвердитесь в Италии, монсиньор? – О, брат души моей! Наши мысли постоянно сходятся! – воскликнул шут недовольным голосом, словно ему было неприятно, что его сокровенные мысли были высказаны так открыто. – Поэтому-то я и не могу ничего скрыть от тебя, если бы даже и хотел. Но пойдем, нам необходимо опередить этих болванов, которые выпускают на волю мою драгоценную добычу. После первых горячих изъявлений благодарности и радости Орсини, по-видимому, снова обессилел и, поддерживаемый своими спасителями, покачиваясь приближался к выходу. Посол и его спутник поспешили вперед, чтобы не быть замеченными. У входа в скалистый проход слышался голос Бембо спрашивавшего, что произошло в пещере, но не решавшегося войти в нее. Шут стал забавляться, отвечая ему вскрикиваньями и визгом, и его голос, дробясь и отражаясь о каменные стены, переливался причудливым эхом. Когда они вышли из расщелины на реку, Бембо уже исчез. – Он побоялся встретиться с существом, которое производило эти звуки, – сказал с ироническим смехом шут. – Но я никак не могу понять появление доминиканца. Отец сам против моего желания пригласил Орсини в Рим, пока я не вспомнил, какой опасности подвергается путешественник в это время, и что с гибелью Паоло должен погибнуть и весь их союз. Но откуда же его святейшество мог быть осведомлен о моих намерениях? – Следовательно, вы не разделяете мнения Паоло, что само Небо приняло в нем участие и послало своего святого для его освобождения? – сказал Макиавелли. – Если бы Небо стало печалиться о том, что происходит на земле, то ему не осталось бы времени думать о небесном. Скорее это – дело рук моего злого демона, у меня есть такой, он разрушает все мои планы! – страстно воскликнул шут, и Макиавелли заметил, что черты его лица сделались мертвенно бледными. – Не хотите же вы сказать, благородный господин, что... – начал снова флорентиец. – Ведь ты не веришь в духов, покрытых плотью, или бесплотных. Неужели ты не верил бы своим собственным глазам? – Им-то я верю меньше всего. Мне надо знать самый корень, а не оболочку, – ответил посол. – Если бы я поверил своим глазам, я написал бы своей республике, что ваша милость избрала себе братом племянника Медичи, этого Орсини, и что поэтому все подъемные мосты во Флоренции должны быть подняты, как если бы надо было ждать врага. – Союзники и не могут думать иначе. Никто не может доверять другому, и каждой партии, желающей сохранить свое могущество, не остается ничего, как только войти в союз с другой против третьей. Однако, что ты такое толковал там о внешней оболочке? Разве не Лукреций полагает, что духи принимают формы их прежних тел? Если это так, тогда духи умерших сохраняли бы те же положения, в которых они отошли в вечность! Как по-твоему? – Прошу вас, господин, выражаться более понятно, – сказал Макиавелли, ничего не выражающим взором смотря на него. – Я говорю то, что мне приходит в голову, – в мрачном раздумье произнес шут. – Я хочу сказать, что если бы мой покойный брат, герцог Гандийский [527], горькую судьбу которого отец не перестает оплакивать, и который действительно был так добр и прекрасен, что люди благословляли его, когда он проходил мимо, а все женщины поголовно сходили по нему с ума из-за его восхитительных локонов... Так вот, если бы он когда-нибудь ночью захотел явиться своему... своему отцу, папе Александру, как ты думаешь, в какой одежде он явился бы ему? – Своему отцу? – повторил Макиавелли, избегая мрачного взгляда собеседника. – О, отцы – удивительные люди! Конечно, он явился бы ему не с кинжальными ранами на теле и тибрским илом в золотистых кудрях, которые, по слухам, его святейшество нежно называл лучами герцога Ганди. А если бы он призвал в советники вкус своего отца, то несомненно явился бы ему цветущим юным Антиноем, как в тот день, когда, будучи назначен хоругвеносцем церкви, он, в белом шелковом одеянии, усыпанном рубинами, ехал на белоснежном коне, украшенном серебром и жемчугом. – Я всех своих лошадей подкую серебряными подковами, но римляне должны будут забыть это великолепие! – страстно воскликнул шут. – У меня самого эта картина не так скоро изгладится из памяти потому что я помню, как лошадь моего брата окатила меня грязью, когда я в кардинальской рясе плелся сзади него на своем тряском муле. Как он внезапно остановился, чтобы приветствовать свою сестру, донну Лукрецию, – моей я едва ли могу назвать ее. Я был так взбешен, что чуть не задохнулся от злобы. Мне думалось, что это было сделано с намерением унизить меня. Послушали бы вы, каким хохотом разразилась чернь! – О, я слышал... ведь хохотали так громко, что мы могли слышать во Флоренции, – шутливо заметил Макиавелли. – От нас хохот перешел в Мантую и так дальше, до двора французского короля в Милане, где, несомненно, хохотали точно также, потому что тогда вас ненавидели там. – Меня ненавидят еще и теперь. Но пусть меня ненавидит кто хочет, мне все равно, служили бы только моим целям. Мне даже доставляет удовольствие видеть, как мои ненавистники льстят мне. Что такое могущество, как не владычество над людьми против их воли? – сказал Цезарь Борджиа и, снова возвращаясь к предыдущему разговору, продолжал: – Следовательно, предположим, что Джованни посетил бы своего достойного отца, он явился бы ему в своей лучшей одежде и, несомненно, снял бы ее, если бы решил навестить своего убийцу. – Здесь, надо полагать, он явился бы в той одежде, с тем же взглядом мучительного страдания, с каким принял смерть, – воскликнул Макиавелли, внезапно просыпаясь от своего обычного равнодушия. – С искаженными от ужаса чертами, со страданием и безнадежной мольбой, с девятью ранами, из которых потоками льет горячая алая кровь, с мертвенно-бледным прекрасным лицом, – да, вот истинный образ безгрешного Авеля, умерщвленного над своей благоухающей жертвой. – Оплакиваемый женой и сестрой!.. Ха!.. – с ужасным хохотом воскликнул шут. – Ну, Авель заслужил свою участь, хотя, быть может, и не от руки Каина, если правы современные богословы. Но мой бедный брат! Ах, что сделал он, кого прогневил он, такой покладистый, такой мягкий, такой уступчивый и нежный? – Он был действительно выдающийся, даровитый ноша богато одаренный прекрасными качествами, – произнес Макиавелли. – Мир душе его, если она у него была! Он достаточно долго пробыл в чистилище, чтобы освободиться от худшего своего порока – слишком большой любви к тому, что Платон называл непрекрасным. – А если еще вдобавок подумать, что этот порок был причиной его гибели! – с лицемерным сожалением сказал шут. – Несомненно, в этот роковой день, четырнадцатого июня, он встретил на своем пути какого-нибудь ревнивого мужа или мстительного любовника. – Или рассерженного отца, а может быть, разгневанного брата! – продолжал Макиавелли. – У нас во Флоренции рассказывали, что на большом празднестве, данном в вашу честь вашей матушкой по случаю вашего отъезда в Неаполь на коронацию Фридриха, – какой-то замаскированный требовал пустить его к герцогу и, когда его, наконец, допустили к нему, передал ему надушенное письмо. Вскоре после этого герцог, отговариваясь нездоровьем, удалился и ваша милость ушли вместе с ним, потому что вам необходимо было еще приготовиться к отъезду. – Мы расстались с ним на лестнице палаццо Сфорца – это уже доказано, – спокойным тоном проговорил Цезарь Борджиа. – В веселом настроении брат во что бы то ни стало хотел уговорить меня, чтобы я, как священник, дал ему отпущение грехов, он намеревался отправиться к прекраснейшей женщине. Я засмеялся и сказал ему, что сначала он должен согрешить, и он, послав мне воздушный поцелуй и весело напевая, удалился как триумфатор. Вероятно, он хотел еще проститься со своей сестрой, донной Лукрецией, ибо направился в монастырь, где она жила в это время. – И вы никогда не видели его больше? – внезапно спросил Макиавелли. – О, как же! Я видел брата, когда его труп вытащили из воды у замка Святого Ангела и когда его хоронили с большим великолепием, – ответил Цезарь. – Мне пришлось распоряжаться всем, так как наш отец совсем потерял голову: он заперся у себя в комнате, целых три дня ничего не ел и, конечно, умер бы с голода, если бы мольбы и слезы Лукреции не победили его. И каких только обетов исправиться не надавал он тогда! Но его святейшество – настоящий Везувий: он или пышет пламенем, или безмолвствует, покрытый снегом. – По вашему мнению, в каком виде явился бы дух вашего брата к своему убийце? –Как темная тень, бесцветная, безмолвная, без лица и без образа, – ответил Борджиа, с таким выражением лица повернувшись к своему собеседнику, что тот должен был бы испугаться, если бы не был истинным дипломатом. – Но, если бы у него и не было всех этих признаков, убийца все равно узнал бы его! Убийца любимца папы не может быть трусом, он не должен страшиться этого явления, но, тем не менее, оно больше раздражало бы его, чем самый ужасный образ, своим молчанием больше возмущало бы его душу, чем самыми страшными проклятиями. И вот, придя в бешенство, он схватился бы за меч, бросился бы на свою явившуюся жертву и, скрежеща зубами, увидел бы, что перед ним нет ничего, кроме тьмы, но за ней скрывается нечто, что не исчезнет никогда. – Я не удивляюсь, что вы свое тщетное желание мщения утешаете такими ужасными надеждами на угрызения совести, – сказал флорентиец, – ведь убийцы так давно скрылись и ускользнули от розысков, что трудно надеяться найти их, по крайней мере, на земле. Ах, что должны чувствовать вы, брат убитого герцога! Вы играли с ним в детстве, пережили с ним все радости цветущей юности, вы, как два прекрасных кипариса, посаженные одной рукой, росли вместе, наслаждаясь радостями жизни. – Нет, скорее, как два дуба. Причем один случайной милостью солнца рос и тянулся ввысь, а другой хирел, – с горькой усмешкой ответил шут. – Да бросим говорить об этом! Мне необходимо выяснить все о появлении доминиканца. Мигуэлото не посмеет так шутить с моими приказаниями. Не говорил ли ты мне, Никколо, что мой лейтенант, дон Ремиро, получил недавно без моего согласия от святого престола что-то вроде награды? Его святейшество был так изумлен справедливостью дона Ремиро, что за все жестокости, допущенные им при исполнении обязанностей, дал ему полное отпущение, – сказал Макиавелли. – Кроме того, его жена – родственница Колонна. – Как мог я забыть об этом? – задумчиво заметил шут. – Нет, благородный господин, при совершении суда и расправы вам такой бессердечный человек был необходим, – возразил Макиавелли. – И разве он не оправдал вашего доверия уничтожением почти всех разбойничьих шаек в Романье, так что теперь крестьяне могут сеять хлеб вплоть до Сполето? – И – что еще больше – собирать его, – сказал шут. – Когда я назначал дона Ремиро подестой, я сказал ему, что во всей Италии не должно быть больше ни одного негодяя, кроме меня. Теперь мне говорят, что Ремиро так же нелюбим, как каленое железо, которым мы выжигаем раны, если при таких обстоятельствах он действовал против моей воли, то я знаю, что народ будет рукоплескать от восторга, когда увидит его восходящим на один из им же построенных эшафотов. – Тогда я одобряю расправу над ним! – шутливо заметил посол. – Никто не имеет права властвовать над другим против его желания, хотя бы это служило ему на пользу. Но, ради Бога, куда же мы забрели? – Туда, куда я все время направлял наши шаги, Никколо, потому что даже в дружеской беседе не забываю своих дел. Я хотел просить вас прислать сюда моего немого слугу Зейда, а эта громадная сосна послужит приметой, по которой вы направите его сюда. (обратно)ГЛАВА VIII
– Нет, благородный господин, здесь, в этой ужасной лощине, слишком уныло, особенно после нашего разговора о привидениях, – сказал флорентиец, взглянув из долины на реку, оставленную ими далеко позади. – Бросьте мрачные мысли! Герцог Гандийский хорошо устроился на небе, а для нас осталось больше места на земле, – насмешливо возразил шут. – Торопитесь, мой добрый Никколо, и пошлите моего Зейда. Смотрите только,чтобы его уход не был замечен, и пусть он захватит с собою собак. – Они здесь, благородный господин, – ответил Макиавелли, указывая на собак, с опущенными головами медленно следовавших за своим хозяином. – Бедные животные! – проговорил Цезарь, ласково погладив собак по голове. – Они не привыкли, чтобы таким образом обманывали их ожидания. Но нечего терять время, Макиавелли, я останусь здесь, пока не передам приказаний Зейду. – Но еще раз, прошу вас, будьте благоразумны. Подумайте, прежде чем замыслите что-нибудь против этого молодого человека, – с легкой боязнью в голосе промолвил Макиавелли и плотнее закутался в плащ, словно ночная прохлада лихорадила его. – Не беспокойтесь, я просто отправлю Зейда с одним поручением, – нетерпеливо ответил шут. Флорентиец, заметив, что его спутник взволнован и раздражен, почтительно поклонился и пошел. Поднявшись по крутой тропинке, ведущей к монастырю, он не мог удержаться от соблазна остановиться на мгновение на вершине, откуда отчетливо увидел отвесную скалу, у подошвы которой остался Цезарь Борджиа. – Тиран, убийца, братоубийца! – громко закричал он, поскольку не мог больше сдерживать своих чувств, – самый ужасный из всех тиранов! Будь королем, чтобы сделать ненавистными все знаки королевского достоинства, как твой отец стал священником, чтобы сделать отталкивающими все формы суеверий. Соедини неразрывной цепью разъединенные провинции Италии, и, если необходимо, пролей для этой цели море крови! Живи, чтобы объединить Италию, и ты должен будешь умереть, чтобы освободить ее! И, судорожно сжав клинок кинжала, республиканец шестнадцатого столетия продолжал свой путь. Но, не дойдя до ворот монастыря, он встретил того, кого искал. Зейд только один знал, кто скрывался под личиной шута, но он был только мавр и – жертва восточной жестокости – нем. Однако молчаливость была одним из тех качеств, которые Борджиа особенно ценил и потому мавр был особенно удобен для целей своего господина. Он числился при Борджиа скороходом, но в Риме молва называла его душителем и, хотя никто никогда не видел его в этой роли, все же слухи об этой его деятельности носились самые удивительные. Еще более чудесные рассказы ходили о способности Зейда бегать, это очень ценилось в те времена в скороходах. О Зейде рассказывали, между прочим, что он бегом не раз догонял на охоте оленя и без всякого вооружения клал его на месте. Наружность «душителя» вполне соответствовала рассказам о нем. В нескольких словах, понятных мавру, Макиавелли передал ему поручение господина, и мавр с такой стремительностью поспешил к Борджиа, что флорентиец готов был поверить, что он свернулся, как перекати-поле, и скатился в долину. Душитель быстро добрался до указанного места, где его повелитель беспокойно ходил со скрещенными на груди руками взад и вперед. – Зейд, ты устал, бедный пес, и мне очень не хотелось бы снова посылать тебя в горы, – ласково проговорил Цезарь при виде скорохода. – Но я знаю, что ты любишь меня! Разве не я вымолил тебе жизнь, когда султан Зем занес над тобой саблю и хотел снести голову! Раб фыркнул, как лошадь, почуявшая опасность, и этим выразил свое признание. – Ты должен быть еще сегодня ночью в Ронсильоне, – начал снова Цезарь, переходя в повелительный тон. – Там в крепости ты найдешь подесту Романьи, дона Ремиро д'Орно, ожидающего моего прибытия. Возьми это кольцо в доказательство того, что ты пришел от меня, и передай ему мой приказ: он должен немедленно отослать дона Мигуэлото со всеми испанскими солдатами, которые не нужны для защиты крепости, с таким расчетом, чтобы они могли рано утром присоединиться ко мне. Зейд низко поклонился, взял перстень и в знак почтения и послушания положил его на голову. – Ступай по течению реки до Нарни, откуда ты знаешь дорогу, – продолжал Цезарь, Скороход хотел идти, но Борджиа быстрым движением удержал его. – Смотри, не теряй времени! Через час луна скроется за горами, и, лишь только исчезнет ее последний луч, я пошлю по твоему следу собак. И, если ты остановишься на дороге, чтобы улечься спать, ты знаешь, кто поднимет тебя. Со знаками глубокого уважения мавр поклонился еще раз, как будто высказанная мера предосторожности была в порядке вещей, пустился как стрела из лука и почти моментально исчез из глаз. Цезарь решил, по-видимому, исполнить свое обещание, так как остался на месте. Несколько мгновений он стоял, погруженный в свои мысли, а затем снова стал беспокойно ходить взад и вперед по поляне, не обращая внимания на то, что собаки следовали за ним по пятам. Вдруг животные тихо завыли, вытянули морды по ветру и задрожали всем телом. Цезарь посмотрел на них, а затем взглянул по направлению, откуда собаки опасались, по-видимому, чьего-то появления. Он ожидал увидеть волка или кабана, или какого-либо другого хищного жителя гор, но некоторое время и его орлиный взор не мог ничего рассмотреть. Вдруг в некотором отдалении на берегу реки показалась темная фигура с человеческий рост, но неопределенных очертаний. Лицо Цезаря внезапно покрылось бледностью, и он прислонился к дереву, чтобы не упасть. Но в следующее мгновение он уже пришел в себя, поборол свой ужас и бросился вперед, воскликнув громким и твердым голосом: – Стой, кто идет? Друг или враг герцога Романьи? – Эй, вы, эхо! Эй, вы, девы! Бросьте со мною шутки в эту ночь! – ответил на это чей-то глухой голос. Звук этого голоса, по-видимому, окончательно успокоил Цезаря. Его взор по-прежнему был направлен на путника, но и тени страха уже не было в нем. Между тем путник с поразительной медлительностью, словно дряхлый старик, не переставая разговаривать с собой, продвигался вперед. Он был неуклюж и сильно горбился, его походка была неуверенна, и он все время опирался на палку. Лицо же и вся фигура его были закутаны черным плащом, который был привязан у бедер, причем против глаз были вырезаны две дыры. Это была черная одежда кающегося, которая одевалась обыкновенно самыми отъявленными грешниками. – Добрый вечер, отец! Куда так поздно и в таком одиночестве? – веселым голосом спросил Цезарь, снова чувствуя себя свободным от пережитого только что ужаса. – Хорошо одиночество, когда на каждом шагу кричит и воет волк! – с ужасным смехом ответил кающийся. – Я как будто уже слышал этот голос? – задумчиво сказал Цезарь. – Ах, ты явился, словно по зову! Не старый ли ты мой учитель великого искусства – дон Савватий из Падуи, внушивший мне умную мысль, показав в зеркале из магического камня мое будущее. А когда инквизиция пожелала поближе познакомиться с тобой, сжегший свои книги и исчезнувший как блуждающий огонек на болоте. – Или как те огненные языки вот там, на вершинах? – заметил кающийся, непомерно длинной, тощей и сморщенной рукой указывая на отдаленную гору, где виднелось довольно обычное в этих вулканических странах великолепное явление. Казалось, что чьи-то демонические руки кидали снизу вверх горящие факелы. – Но ведь это – ты? – сказал Цезарь, равнодушно взглянув в указанную сторону. – Я уже давно был им, – ответил кающийся. – Да, ты стар, очень стар, и в твои годы тебе необходимы покой и удобство, – нежно промолвил Цезарь. – Теперь я уже не так беден и бессилен, чтобы не быть в состоянии оказать друзьям услугу, как прежде, когда мы в Пизе изучали вместе каббалу. И мне хочется возобновить мои занятия. Поэтому, если ты пожелаешь, мой добрый Савватий, поселиться у меня, в замке Святого Ангела, ты получишь одну из башен и можешь там в таком близком соседстве со святой инквизицией заниматься своим запрещенным искусством, что можешь плюнуть на нее, когда посмотришь на нее из окна. Мы станем тогда делать медные головы, которые говорят, будем изобретать противоядия и изучать растения, дающие такие чудесные яды, что умереть от них – одно удовольствие, и заниматься такими вещами, которые ты так любил тогда, когда я еще был твоим прежним и послушным учеником. – Да, вы больше уже не младший брат, – произнес кающийся, насмешливо кланяясь, – и я очень благодарен вам за ваше приглашение. Но людям, прожившим более пятнадцати столетий, следует думать о смерти, эти обязанности и меня заставили отказаться от черной науки и послали в Рим, чтобы на этом юбилейном празднике я спас свою душу. – Пятнадцать столетий! Ты шутишь, или сошел с ума, дон Савватий! – испуганно воскликнул Цезарь. – О, вы еще не знаете, как долго может ненавидеть Небо! – с горячностью ответил кающийся. – Уже много столетий миновало с тех пор, как был зажжен огонь великой радости, а тот, кто плюнул в лицо Сыну Божию, когда Тот нес крест на лобное место, все еще одиноко странствует по свету. [528] – Но оставайся у меня, я знаю, ты обладаешь многими великими тайнами, изучение которых разрешает нам даже сама церковь, – льстиво сказал Цезарь. – Разве я не видел, как ты пробудил в образе привидения умершего императора, который вручил мне свой скипетр? – Какая польза тебе утруждать его еще раз? – спросил кающийся. – Но если ты можешь пробуждать умерших, разве ты не можешь успокоить их? Чего ради он своим присутствием будет омрачать мне сияющий день? – воскликнул Цезарь, мучительно сжав руки. – А разве и тебе мешают мертвецы? – спросил кающийся, и его глаза сверкнули в отверстие дьявольским огнем. – Ты опытный толкователь загадок, – спокойнее промолвил Цезарь. – Я не могу сказать, что боюсь этого, но оно мешает мне, когда вдруг среди пира или блестящего праздника я, подняв свой взор, вижу того мертвеца перед собой. Но не думай, что я боюсь его. Я презирал его при жизни, презираю его после смерти! Я скажу тебе, дон Савватий, что, когда, возложив в Неаполе в качестве посланника святейшего престола корону на голову короля дона Федерико, я в первый раз увидел его, я почти не испугался. – Это лихорадочный бред; сын мой, вас преследует одно из самых сильных воспоминаний, которое может быть вытеснено только еще более сильным, – с коротким заглушенным смехом ответил кающийся. – Но вы забыли отослать ваших собак, а луна уже далеко зашла за Монте Сомма. – Разве ты слышал мои угрозы Зейду? – с легким недоумением спросил Цезарь. – Но я никогда не грожу понапрасну. Эй, Марий, Сулла, за ним! С этими словами Цезарь указал на след Зейда собакам, неподвижно лежавшим и все еще дрожавшим, словно присутствие незнакомца наполняло их страхом. Но животные не двинулись, а снова завыли. – Без сомнения, я обладаю чарами, мешающими им удалиться. Но я ухожу, – проговорил кающийся со своим обычным хихиканьем. – Теперь уже поздно, пойдем со мной туда, в картезианский монастырь, – промолвил Цезарь. Однако кающийся отрицательно покачал головой и насмешливым и одновременно тоскливым тоном тихо ответил: – До самого Рима я не должен отдыхать под крышей, а тем более осквернять своим присутствием святой дом. – Тогда я проведу вместе с тобой ночь под этим могучим кровом, – сказал Цезарь, указывая рукой на небо. – Нет, я не смею медлить, а ты должен возвратиться к своему обществу. Разве у тебя не горят уши? Ведь там говорят о тебе! – произнес кающийся и поднял свой посох, словно намереваясь продолжить путь. – Так обещай, по крайней мере, навестить меня в Риме. Тебе стоит только явиться в замок Святого Ангела с каким-нибудь знаком от меня к донне Фиамме, такой же последовательнице черного искусства, и ты будешь вернее и безопаснее спрятан у нее, чем некогда Мерлин [529] при дворе короля Артура. – Дайте мне ваш знак, – после небольшой паузы проговорил мудрец, – об этой женщине и о ее любви к науке я уже слыхал. – Тогда я тебе отдам мой ядовитый смарагд, который краснеет, если мое питье опасно, свой перстень я уже отослал по другому делу, – медленно сказал Цезарь, а затем с очевидной неохотой вынул из углубления в палке маленькую свинцовую коробочку, величиной и видом напоминавшую игральную кость, и отдал ее кающемуся. Если нам суждено увидеться с тобой снова, дон Савватий, то покажи мне тогда наконец свое лицо, которое ты так тщательно скрывал всегда. Тебе нечего бояться, что я из недостатка веры или рассудка предам тебя. – Никому не верь, никого не бойся! – уныло произнес кающийся. – Но слушай, тебя зовут. Иначе что могут значить эти голоса, раздающиеся с утесов? – Итак, до свидания в замке Святого ангела! – сказал Цезарь, подходя ближе, чтобы подать ему на прощание руку. Но незнакомец удовольствовался каким-то фантастическим поклоном, высоко подняв свои тощие руки, и в следующее мгновение исчез за уступами скал. – Гей, шут, шут! – раздались в отдалении голоса. По-видимому, Макиавелли был озабочен продолжительным отсутствием своего шута. Лишь только последователь тайных наук исчез, собаки с обычной живостью подпрыгнули. Цезарь, заметив это, попробовал пустить их по следу Савватия, но тщетно: собаки подняли страшный вой и не двинулись с места. Тогда Цезарь отвел их на прежнее место, к сосне, где его оставил Зейд, и они сейчас же пустились искать его по следу. Когда легкий шум их шагов стал неуловим даже для его острого слуха, Цезарь повернулся и направился к монастырю. (обратно)ГЛАВА IX
Поднявшись на гору, Борджиа очень искусно крикнул по совиному, и вследствие этого к нему вскоре подошли Макиавелли и несколько солдат. Флорентиец с искусственным неудовольствием сделал ему выговор за беспокойство, причиненное его отсутствием, шут же ответит ему, что пытался достать золотую корону, висевшую на небе, а затем стал бессмысленно насвистывать свою песенку. Солдаты тем временем по знаку посланника направились к монастырю. – Вы знаете, благородный господин, – начал по их уходе Макиавелли. – Возможно, что доминиканец был послан вашим батюшкой, я слышал, что он еще задолго до того, как синьор Паоло попал в западню, встретил его на пути и уговаривал вернуться. – Как же это может быть? Бандитам довольно трудно сделать моего отца своим сообщником! – сухо возразил Цезарь. – По правде сказать, я право не знаю, чем объяснить все это. Духовник сестры – доминиканец. – Знаменитый отец Бруно Ланфранки, ученик Савонаролы? Но почему же ваша сестра... – Да, нахальный монах, своими поношениями уже давно заслуживший, чтобы ему вырвали язык с корнем! Только глупость Лукреции хранит его! – с ненавистью воскликнул Цезарь. – Во всех делах меня сейчас держат под надзором, но мое время еще придет. С этими словами они подошли к монастырю, там, в большом зале, они нашли Паоло Орсини и его спасителей, оживленно беседовавших за скудной трапезой о последних событиях. У запасливого Бембо нашлось в его тюках несколько бутылок превосходного вина, и несколько глотков его заметно оживили освобожденного пленника. – Я только что удивлялся, мессир Никколо, – сказал Орсини, когда посланник занял за столом свое место, между тем как шут беззаботно бросился на приготовленный для него пук соломы у огня, – каким это непостижимым образом бандиты проведали, что я намереваюсь пройти через горы под легким прикрытием, которое они умертвили при моем захвате? – Если бы о вашем намерении знал только папа Александр, а не его ужасный сын! И тем не менее не нужно большого усилия, чтобы вывести заключение, – сказал иоаннит, и на мгновение воцарилось молчание. – Нет, рыцарь, хотя вы – мой храбрый и благородный спаситель, я все же прошу вас не говорить таких речей! – побледнев, возразил Орсини. – Донна Лукреция так же добра, как прекрасна, и прямое преступление даже в безумии помышлять о таких ужасах. – Вы счастливы в своем заблуждении, благородный синьор, – холодно промолвил рыцарь. – Благодеяния донны Лукреции безграничны! – с жаром продолжал молодой дворянин. – По ту сторону По нет ни одного нищего, который не мог бы рассказать о том. – Ведь это необходимо, дядя Никколо, для того, чтобы прикрыть страшные грехи, – сказал шут, кидая на посланника ничего не выражающий взор. – Берегитесь, синьор Паоло, чтобы те солдаты не слышали нашей болтовни!.. Они на службе герцога Борджиа, – с заметным беспокойством заметил Макиавелли. – Самый худший из моих англичан свободно положит лучшего из этого пестрого сброда! – презрительно возразил Лебофор. – Да и большинство негодяев спит на сене, кроме того, они, будучи большей частью дикарями, на таком расстоянии поймут немного из того, что мы говорим. Прежде чем жениться на этой женщине, будь она сама Венера, – воскликнул он после небольшого раздумья, что было совсем не в его правилах, – я лучше посватался бы за старшую дочь дьявола с вечным проклятием вместо приданого! – Нет, если бы донна Лукреция была даже этой дочерью, а смерть – священником, благословляющим наш брак, я с восторгом лег бы в могилу, если бы только она разделила ее со мной! – страстно воскликнул Орсини. – Во всяком случае, она должна быть непременно красавицей! – промолвил, взглянув на иоаннита, Бембо. – Тогда, синьор Паоло, в предательстве по отношению к вам, и отец и сын протянули друг другу руки, – упрямо проговорил иоаннит."Розу понюхать рыцарь хотел, Розу понюхать он не успел: Пчелка ужалила рыцаря в нос. Рыцарь разгневался, рыцарь вскипел, Выбранил розу и бросил в ручей. Рыцарь, не слушай ты глупых речей!", -
сымпровизировал шут, бросив на всех бессмысленный взор, как бы не понимая, что говорит. – Нет, рыцарь, такое предательство действительно невозможно! – воскликнул Бембо. – Разве и он накололся на шипы, что так горько жалуется? – снова начал шут, серьезно взглянув на иоаннита, но затем внезапно с выражением почти идиотской глупости перевел свой взгляд на Орсини, который в первый раз внимательно посмотрел на него. – Господа, разве есть что невозможное для Борджиа? – воскликнул иоаннит, не обращая внимания на умоляющий взгляд Бембо. – Почему, говорят, убит герцог Гандийский? – Один Роланд за одного Оливера. Цезарь стал герцогом Романьи! – со смехом сказал Лебофор. – Но позвольте, – сказал посол, – ведь вам известно, синьор Орсини, что в интересы республики вовсе не входит упрочение мира между вашей партией и Цезарем. Но при печальном изменении обстоятельств у Борджиа, несомненно, были все причины действовать по отношению к вам, как к главному деятелю перемирия, открыто и честно. – Кроме того, – сказал Орсини, хватаясь за подсказку, – Цезарь, в доказательство своей искренности рассказал мне все о тайных переговорах, происходивших между ним и Марескотти из Болоньи, которые из ненависти к Бентиволли хотели сдать ему город. – Он выдал их, потому что не верил, что они выполнят свое обещание, – ответил неуступчивый иоаннит. – Во всех случаях он – позорное пятно рыцарства, недостойный изменник! – с жаром воскликнул Лебофор. – Хватит ли у вас, рыцарь, мужества высказать это ему в Риме? – спросил Макиавелли. – И в Риме, и в его логовище! Легкий жест шута прервал ответ, готовый сорваться с языка Макиавелли. – Нет, вы не можете винить яйца за то, что из них выходят крокодилы, – проговорил он со своим обычным ничего не выражающим взглядом, странно противоречившим его полным смысла словам. – Мне больно слышать, господа, ваши неразумные речи, – сказал Бембо, – поистине, вы оскорбляете нашу святую матерь-церковь, понося таким образом его высшего земного главу. Кроме того, вы подрываете самое основание веры, ибо может ли быть божественной та религия, которая своим представителем имеет такое чудовище? – Он избран благодаря симонии [530], и не по праву удерживает за собой власть, пока его не поразит небесный гром! – страстно возразил иоаннит. – Или союз римского дворянства, который, как я слышал, замышляет это, – проговорил флорентиец. – Небесное возмездие уже покарало его избирателей за их прегрешение против Святого Духа, и сделало это собственными руками избранника, – продолжал иоаннит. – Кардинал Колонна в изгнании, у Юлиана делла Ровере, Асканио Сфорца и Савелли – конфисковано имущество и они, чтобы спасти себе жизнь, сами бежали из Рима, старый кардинал ди Капуа отравлен, кардинал Орсини и архиепископ флорентийский будут уничтожены со своими близкими в очень недалеком будущем. – И все же возможно, что только пылкая и страшная душа, как у его святейшества, могла возвратить церкви ее блеск и отнятое у нее наследие, и что ради этого Небо стерпело его возвышение, – неуверенно сказал Бембо. – Юрист, солдат и священник! Разве по этому рецепту делают черта, дядя? – спросил шут. – А ведь Цезарь последовательно был ими. – И все в такой высокой степени! – возразил флорентиец. – Папе Александру, бесспорно, приписали бесконечно больше дурного, чем он заслуживает. Его безмерная любовь к могуществу и к своим детям, стремление к прославлению своего имени, его могучие, пылкие страсти, – все это привело его к ужасным деяниям тирании, но всем этим действиям он дает такое верное направление, что к ним почти нельзя предъявить обвинение в несправедливости. Кто из его жертв не заслужил своей участи? – Да как вы можете обвинять папу в симонии, когда во время его избрания ни один святой на небесах не славился столькими божескими и человеческими добродетелями, как он? – поддержал его Бембо. – Возмутительное лицемерие! – возразил иоаннит. – Но я готов допустить, что его сын – наихудший из двух демонов и подстрекает упрямого старика на его ужасные поступки. С тех пор, как Цезарь [531] стал пользоваться влиянием, получилось такое впечатление, что Римом стал править ареопаг. [532] Говорят, что временами он даже чувствует угрызения совести, но поток уже захватил его, и он не может удержаться. Александр – безумный тигр, но Цезарь помесь змеи и тигра. – Ради вас самих, благородный рыцарь, я дал бы вам совет помолчать в Риме о таких вещах, – очень серьезно сказал посол. – Мой спаситель будет в Риме под моей защитой, – с горделивым румянцем на бледных щеках воскликнул Паоло Орсини, – мы, Орсини, не подчиняемся там ни папе, ни Цезарю! – Я знаю, ваш род очень могуществен, благородный синьор, – ледяным тоном ответил Макиавелли, – но как-то странно звучит ваша речь для вассала святого престола. – Если есть такая низость, которой не совершил бы Цезарь, хотел бы я знать, как он ее называет на исповеди! – сказал Лебофор. – О, в нашей стране его задушили бы при рождении, если бы можно было прочитать его душу на лице его. – Почему же вы не умертвили своего короля, горбатого Ричарда, точный портрет Цезаря? – сухо спросил Бембо. – Освещало ли когда-нибудь солнце более мрачного злодея? – Не смейте оскорблять короля Ричарда, или, клянусь небом... Впрочем, ведь вы не знаете, что это именно он был тем храбрым королем, который в утро перед битвой у Босуорта посвятил меня в рыцари и со своей шляпы отдал мне цветок дрока! – с жаром воскликнул Лебофор. – Ого, смотрите-ка!.. Какой же великий подвиг совершили вы, рыцарь? Ведь, по-моему, тогда вам едва ли могло быть больше двенадцати лет? – спросил Макиавелли. – Скажите мне это, пожалуйста!.. Ведь я знаю, что этот король редко делал что-нибудь без достаточной причины. – Мой отец, мой брат и их приближенные ночью покинули короля Ричарда, чтобы соединиться с Ричмондом, теперешним королем, – ответил Лебофор, – я же, будучи в полном неведении о злодеяниях Ричарда и восхищен лишь его рыцарской храбростью, потихоньку вернулся в его лагерь. Когда Ричард услыхал об этом, он поклялся святым Павлом, что я один стою больше всей моей семьи, и, воскликнув: «О, мой Босуорт, ты будешь твердыней!», обнажил свой меч и так сильно ударил меня, посвящая в рыцари, что я несколько недель чувствовал на спине это посвящение. – Поистине, брат Реджинальд, хороший нотариус мало заработал бы, составив только реестр преступлений Цезаря, – снова начал неугомонный иоаннит. – Преступлениям, которые приписываются ему, должны бы вы сказать, это было бы справедливее, – с жаром возразил Макиавелли. – Но что же доказано из преступлений Борджиа? Разве непреложная истина – обвинения его злейших врагов, которых он заставил отказаться от своих несправедливых и наглых притязаний? Папа Александр хочет восстановить права церкви над своими вассалами, они оказывают ему противодействие, он заставляет их подчиниться, и поэтому он – тиран! Князья церкви восстают против своего верховного главы, он отправляет их в изгнание, конфискует их имущество, поэтому он – угнетатель! Его старший сын падает под рукой неизвестного соперника, значит его убил родной брат! – Зятья папы один за другим погибают от руки убийцы, и молва твердит, что здесь дело нечисто, – насмешливо подражая Макиавелли, продолжал иоаннит. – Епископ цельтский отравлен, и в народе идет слух, что его убили, потому что он посмел утверждать, что Цезарь возил во Францию буллу, благодаря которой король Людовик мог развестись со своей худощавой кузиной и жениться на пышной вдове из Бретани. [533] Борджиа ведут войну с римским дворянством и уничтожают его, обращают затем свое оружие против вассалов Романьи и тут простодушно пытаются уверить, что они на развалинах всеобщей свободы утверждают собственную тиранию. – Некоторые старые беспутники умирают скоропостижно, следовательно, Цезарь отравил их? – начал снова задетый Макиавелли. – Нет, и молодые также! – возразил иоаннит. – За жизнь своего бежавшего брата Зема, султан Баязид обещал триста тысяч дукатов, и Зем умирает от яда в лагере французского короля, который думал, что он принесет ему пользу в крестовом походе против поганых турок. – И из этого, конечно, следует, что в его смерти виновны Борджиа? – сказал флорентиец. – Если Баязид за жизнь брата хотел заплатить такую высокую цену, неужели он не мог найти для этой цели другие руки? – Лучшим ответом на это может быть объяснение Цицерона. На вопрос: «Кто неизвестный виновник преступления», ответившим: «Тот, кому это выгодно», – сказал иоаннит. – Кто, как не Цезарь, получил все наследство после молодого турка, его гарем и все его сокровища, которые он после своего неудачного мятежа привез с собой в Италию? – Государство – законный наследник всех чужестранцев, умирающих на чужбине, и не оставляющих после себя наследников, – промолвил Орсини, и святейший престол был волен передать свои права кардиналу Валенсийскому, которым был тогда Цезарь. – Вы хотите сказать, благородный синьор, что кардиналу Валенсии угодно было захватить это наследство, а протонотариусу Джованни Баттисто Феррара – передать ему от имени святейшего престола, – возразил иоаннит. – Кардинал Валенсийский! Вот почтенный священник!.. Ведь он похитил из монастыря постриженную монахиню, к тому же происходившую из самого благородного в Риме рода Колонна. – Простите, рыцарь, Орсини не уступают в благородстве ни одному роду, наши вольные грамоты – самые древние, которые когда-либо представляла церковь, – с надменной резкостью произнес Паоло Орсини, задетый, с одной стороны, едкими замечаниями иоаннита относительно его невесты и ее родни, а с другой – ненавистью и вечным соперничеством, с незапамятных времен царствовавшими между родами Орсини и Колонна. – Кроме того, – прибавил он, – уже давно всем известно, что несчастную девушку увлек на вечную погибель султан Зем. – Неправда! Благородный турок допустил это лишь как предлог, чтобы замаскировать отказ папы Александра разыскать девушку и покарать ее, как предписывают канонические правила, – серьезно сказал иоаннит. – Скажите, пожалуйста, мессир Бембо, в чем заключается эта кара? – спросил сир Реджинальд, обращаясь к священнику. – Ее надлежало бы замуровать в стену, – с серьезным выражением лица ответил Бембо. – Тогда честь и слава папе Александру и за то, что он не привел этого наказания в исполнение, я от души пью за его здоровье! – воскликнул Орсини, залпом осушая свой стакан. – Господа, уже поздняя ночь, а наш разговор точно не доведет нас до добра, я предлагаю лучше отправиться спать, – зевая, заметил Макиавелли. – Вам же, синьор Паоло, покой необходимее, чем кому-либо другому. – Но я не хотел бы долго предаваться ему, – возразил Орсини. – Кто знает, что слышали и поняли из нашего разговора солдаты Борджиа, и что у них на уме? – и его взор беспокойно упал на шута, уже несколько часов спавшему на своем неудобном ложе. – Я хотел бы сторожить вас и бодрствовать, шагая взад вперед по комнате, – сказал Реджинальд. – Мы будем с тобой меняться, брат, – серьезно предложил иоаннит, – а то ты завтра упадешь с седла, – проговорил он и улыбнулся. – Это, бесспорно, будет самым лучшим, – заметил Бембо, которому очень хотелось спать, и который, вместе с тем, боялся уснуть. – Если бы я не так устал от тряски своего мула, я с удовольствием согласился бы караулить всю ночь один. С этими словами он стал устраиваться насколько возможно удобнее, и быстро заснул, не дожидаясь конца спора, начавшегося между Орсини и его спасителями, потому что Паоло также захотел принять участие в этой, по-видимому, ненужной и лишней охране. Но то, что рассказывалось о коварстве и жестокости Борджиа, произвело на всех такое сильное впечатление, что эта предосторожность никому не показалась смешной или ненужной. (обратно)
ГЛАВА X
От испытанных волнений и беспокойств Паоло Орсини почти всю ночь не сомкнул глаз. Он первый поднялся с восходом солнца и торопил путников к отъезду, чтобы до наступления жары добраться до Долины. Его нетерпеливое желание быть в Риме перешло почти в страсть и приняло довольно неприличный характер, когда он потихоньку стал уговаривать Лебофора тронуться в путь, не дожидаясь Макиавелли и его свиты, по его объяснению, они могли только задержать их. Если бы Реджинальд согласился на такое нарушение приличий, все равно этот план был разрушен шутом, который внезапно вскочил со своего ложа и громко затрубил в лежавший около него рог. Этими звуками он мог пробудить окаменевшего короля Артура со свитой в уэльской пещере. Действие его было мгновенно, и Макиавелли, далекий от мысли расстаться с нежданными попутчиками, протирая глаза, стал упрашивать их не спешить, а он со своей стороны готов был скорее потерять лишний день, чем лишиться их общества. Во всяком случае, старания Паоло ускорили отъезд. Отслужили обедню, настоятель торжественно благословил всех, и путешественники, щедро одарив монастырь, после скудного завтрака, громыхая доспехами, словно горный поток, выехали из монастыря. Отряд двигался в порядке, насколько допускала это извилистая горная дорога, то сбегавшая в долину, то поднимавшаяся на утесы, но все время следовавшая вдоль реки. Орсини и Лебофор совершали путь рядом, причем Паоло ехал на лошади одного из английских солдат, который и пешком не отставал от своих конных товарищей. Быть может, именно в различии характеров итальянского дворянина и его нового друга был залог влечения, которое оба почувствовали друг к другу. Открытый, веселый и беззаботный характер англичанина доставлял некоторое удовлетворение мрачному, страстному и подозрительному состоянию духа итальянца. Живость и ничем не омраченное добродушие рыцаря солнца совсем не в духе того страшного времени, показывали итальянцу природу человека. Для пресыщенного и образованного ума было приятно выслушивать простые рассуждения человека, почти не вкусившего книжной премудрости. В описываемое время английское дворянство выделялось, главным образом, своим физическим развитием. Бембо и Макиавелли вели между собой серьезный разговор, и оба напрягали все свои усилия, чтобы скрыть свое истинное мнение и выпытать что-либо друг у друга. Иоаннит, по-видимому, не слишком вслушивался в разговор, и лишь изредка по его лицу пробегала насмешливая улыбка, когда Паоло Орсини расточал чрезмерно горячие похвалы донне Лукреции. Шут носился кругом, словно мотылек, то впереди, то сзади поезда. Он подшучивал над кем-нибудь из путников, и в следующее мгновение уже гнался за пчелой, и снова возвращался, увенчанный репейником и чертополохом. Орсини время от времени беспокойно посматривал на него, но на подвижном лице шута трудно было что-нибудь прочесть. Путешественники почти не встречали людей на этой пустынной дороге, лишь изредка им попадался одинокий пилигрим, или в отдалении виднелся молящийся отшельник, вышедший из своей пещеры. Путники продвигались по извилистой дороге у подножия горы, и Бембо в прекрасном расположении духа развивал перед своими не особенно внимательными слушателями научные исторические теории. Вдруг они увидели перед собой разрушенные своды моста, построенного из громадных мраморных глыб, и некогда соединявшего обе стороны узкого прохода. На вершине показались две фигуры: одной была серна, спокойно пасшаяся на краю разрушенной арки, другая, насколько можно было судить по яркому блеску – латник в полном вооружении, быстро исчезнувший при их приближении. За скалистыми утесами под мостом высилась крутая гора, покрытая кипарисами и оливковыми деревьями, среди которых виднелись бесчисленные террасы цветущего города. В первый момент Бембо пытался убедить себя, что он ошибся, что блестящее вооружение только показалось ему, но, пока он размышлял, в некотором отдалении раздался звук трубы, на который сейчас же отозвался другой, и внезапно из рощи появился отряд всадников в блестящем вооружении, с копьями наперевес и развевающимися знаменами. Наши путешественники немедленно остановили лошадей и с изумлением смотрели на приближающийся отряд. – Может быть, это – паломники, направляющиеся в Рим? – нерешительно сказал Бембо. – Зачем же они вооружены и повернулись к Риму спиной? – возразил иоаннит. – Может быть это – друзья синьора Паоло, поделавшие видеть своими глазами, как он добрался до цели своего путешествия? – пожав плечами, промолвил Макиавелли. – Не думаю, чтобы мои друзья решились бы в таком количестве покинуть Рим, не зная, кого при своем возвращении могут встретить у его ворот! – воскликнул Орсини. – Но нет!.. Разве вы не видите? Это – знамя церкви: ключи креста на хребте и меч святого Петра! – Эй, копья наперевес! – скомандовал сир Реджинальд, оборачиваясь к своим людям, но, с удивлением увидел, что отряд, окружавший его, состоял из всадников свиты Борджиа, которые, тем не менее, моментально опустили копья. – Берегитесь, господа, чтобы на вас не напали одновременно сзади и спереди! – тихо предупредил Макиавелли и насмешливо добавил: – зато мы с вами, брат Бембо, можем быть вполне спокойны, теперь вы, несомненно, найдете необходимым принять на себя свою настоящую роль посланника герцога Феррарского. – Приберегите свои остроты до более подходящего времени, мессир Никколо, – с беспокойством ответил Бембо. – Мы, во всяком случае – паломники, по обещанию направляющиеся в Рим на святой юбилей. А, может быть, эти люди – просто вассалы какого-нибудь дворянина, объезжающие лошадей, или фуражиры из Ронсильоне. – Смотрите, и шут с ними! Надеюсь, что они ничего дурного не сделают болтуну, но зато я-то лично погибну! – со спокойствием отчаяния проговорил Орсини. – Я, со своей стороны, не покину вас, жениха донны Лукреции и в доказательство искренности своего обещания готов смешать свою кровь с вашей, – сказал иоаннит и, обнажив кинжал, слегка разрезал им руку, и окровавленное оружие подал затем Орсини. Синьор Паоло воодушевлено разорвал свой камзол и, сделав кинжалом надрез на груди около самого сердца, смешал свою кровь с кровью иоаннита. Лишь только он выполнил эту часть торжественного обряда, как сир Реджинальд схватил, в свою очередь, окровавленное оружие, задумался ненадолго, как лучше ему доказать свою дружбу, а затем, обнажив свое левое плечо, вырезал на нем небольшой крест. Благодаря этому обряду, считавшемуся у рыцарства самым священным и ненарушаемым, три рыцаря стали братьями по оружию. Лишь только все было кончено, приближавшиеся всадники, гремя оружием, остановились под аркой разрушенного моста. Худощавые, но высокие и мускулистые фигуры всадников, их камзолы из буйволовой кожи, неимоверно длинные копья, круглые щиты, большие бороды, небольшие, но огненные кони и масса оловянных образков, висевших на груди, – все это обличало в них испанцев или, вернее, каталонцев. Один из всадников – по-видимому, предводитель – отделился от отряда и настолько медленно приближался к путникам, что они имели достаточно времени, чтобы хорошо рассмотреть его. Черты лица его были резки и грубы, а его крупные ноздри, толстые губы, оливковый цвет лица и жесткие волосы выдавали его арабское происхождение. Он был среднего роста, мускулист и подвижен. Выражение глаз было холодно, серьезно и решительно. Приблизившись к паломникам, незнакомец в знак уважения склонил свое копье и внимательно, а не угрожающе осмотрел путников. Иоаннит пришпорил лошадь и гордо поднял свое копье, незнакомец моментально остановил своего коня, и оба встали как вкопанные. – Что вам нужно от нас, кондотьер [534]? – спросил иоаннит, убедившись, что у его противника не было золотых рыцарских шпор. – Для чего вы преградили нам дорогу? – Меня зовут дон Мигуэль де Мурведро, обыкновенно же – Мигуэлото, я – полковник и начальник стражи в Ронсильоне, достопочтенный рыцарь, – ответил каталонец. – Поэтому мне кажется, что я имею некоторым образом право спросить вас, что означает здесь, в Нарни, ваш вооруженный отряд? Я не намерен входить в долгие препирательства, так как имею точный приказ своего начальника, подесты Романьи, не терпящий отлагательства и имеющий целью освобождение нареченного зятя его святейшества, высокоблагородного дона Паоло Орсини, которого захватили какие-то неизвестные разбойники и спрятали в пещере у Мраморного водопада. – Тогда спокойно можете повернуть назад, ведь я освобожден и нахожусь в полнейшей безопасности, – сказал Паоло Орсини, подъезжая к иоанниту и бросая испуганный взгляд на закованного в железо всадника, пробудившего в его душе смутное подозрение, и напомнившего своим видом, что перед ним человек, которого молва называла одним из самых ужасных орудий Цезаря Борджиа, участника всех его кровавых злодеяний. – В таком случае, высокоблагородный синьор, я буду иметь честь сопровождать вашу светлость до Ронсильоне, – произнес кондотьер, сходя в знак почтения с лошади. – Дон Ремиро ожидает вас там, и оттуда сам будет сопровождать вашу милость в Рим. – Благодарю вас, храбрый воин, благодарю и пославшего вас, – отвечал Орсини, – но в этом нет надобности. Я нахожусь сейчас в полнейшей безопасности. – Покорнейше прошу вашу милость не забывать, что я – солдат, который должен повиноваться приказу, а подеста строжайше приказал мне доставить вас в Ронсильоне, – ответил Мигуэлото таким тоном, в котором одновременно слышались и лесть, и угроза. – После такого ужасного случая, дон Ремиро никому, кроме себя, не доверяет охрану вашей особы, которая важна для государства и так дорога герцогу, его повелителю. За свое же ослушание я могу поплатиться жизнью. – Вы хотите сказать, что намерены захватить этого синьора против его воли? – спросил Лебофор, нетерпеливо махая копьем. – Я обязан исполнить то, что мне приказано заместителем герцога Романьи, рыцарь, – отвечал каталонец с улыбкой, которая скорей омрачила, чем осветила его лицо. – И, если я не ошибаюсь, то у вас и спереди, и сзади копья, которые принадлежат его светлости герцогу. Поэтому я прошу благородных рыцарей подумать хорошенько. На этом пути вы не можете и не должны идти иначе, как только под моей охраной и только в Ронсильоне. Приведенный таким ответом в бешенство, Лебофор поднял свое копье, но Бембо и Макиавелли поспешно схватились за него, а каталонец, сделав вид, что ничего не произошло, низко поклонился и возвратился к своему отряду. – Что же делать? – унылым голосом протянул Бембо. – Сопротивляться немыслимо! – До тех пор, пока один идет против десяти, мои англичане не сдадутся? – воскликнул Лебофор. – Я советовал бы вам поразмыслить, кто находится впереди и сзади вас, – промолвил Макиавелли. – Нет, мои храбрые братья, ради меня вы не должны так безрассудно пасть в неравном бою, – печально произнес Орсини, но, немного погодя, более веселым голосом прибавил: – дон Ремиро не так враждебно настроен против меня, но вот что касается этого Мигуэлото... Вы, пожалуй, будете смеяться надо мной, но мне кажется, что он и голосом, и фигурой походит на атамана той черной шайки, которая захватила меня! – Так трубите атаку и, если эти негодяи сзади нас только двинутся с места, они увидят, кто у них в тылу! – горячо воскликнул молодой рыцарь солнца. – Успокойся, брат, это была бы верная гибель! Но горе мне, если я покину кого-нибудь из моих кровных братьев! – проговорил более рассудительный иоаннит. – Мы будем сопровождать синьора Паоло в Ронсильоне, и, может быть, наше присутствие предотвратит злой умысел, если таковой имеется. – Что иного можно ждать от Борджиа? – проворчал Бембо. – Кроме того, я не раз слышал, что подозрение наталкивает людей на дурное, как нагромождение мешков с песком ведет осаждающих всегда к самому опасному месту. Но, несмотря на это и другие предупреждения предусмотрительного и трусливого Бембо, рыцари решили ехать вместе или вместе погибнуть. Орсини должен был сообщить об этом решении Мигуэлото, Макиавелли выразил согласие следовать вместе с ними, а Лебофор отправился к своим людям предупредить их на всякий случай. Вскоре Орсини и Макиавелли вернулись с известием, что Мигуэлото вполне согласился принять поставленные ему условия. Таким образом, дело уладилось к общему удовольствию, и Мигуэлото приказал своим людям ехать вперед в Нарни, а сам со стальным шлемом в руках ждал под аркой, пока не прошли рыцари, посланник и Бембо с английскими латниками. Затем проследовал конвой Цезаря, и получалось, что маленький отряд окружен со всех сторон. Мигуэлото, вероятно, чувствовал, что его присутствие могло пробудить нежелательные для него воспоминания, поэтому держался на некотором расстоянии в арьергарде. Вскоре появился истинныйвиновник его беспокойных поисков в лице шута. Свистя и напевая, он добежал до каталонца и с удивительной ловкостью вскочил сзади него на лошадь. – Вперед! – повелительным тоном приказал он. – Если даже нас и заметят, так сочтут это дурацкой выдумкой с моей стороны. Клянусь Мадонной, немалого труда мне стоит привести в порядок все нити, так по-идиотски глупо спутанные твоей бандой. – Клянусь бородой святого Яго, благородный господин, я здесь совсем не виноват! – ответил Мигуэлото. – Дон Ремиро так строго смотрит за всем, что без его позволения мои люди никак не могли ничего сделать. Но, когда я предъявил ему неограниченные полномочия вашей светлости, у него хватило наглости показать мне приказ, собственноручно подписанный его святейшеством, по которому он под страхом смерти обязан доставить дона Орсини в целости до ворот Рима, или, если благородный синьор предпочтет свое инкогнито, следить за тем, чтобы по дороге с ним не случилось какого-либо несчастья. Когда я спросил его, как он пришел к мысли, что против синьора Паоло замышляется недоброе, он ответил мне, что его святейшество только опасался, и если мое поручение не касается Орсини, то мне ничто не мешает исполнять приказания вашей светлости. – Вот как? И больше ничего? – спросил шут. – Нет, государь, когда я вынужден был ознакомить его с вашим решением, дон Ремиро битый час спорил со мной, что вы не могли задумать такое предательство, как он назвал это, и, наконец, заявил, что он – подеста церкви, а не герцога Романьи. – Ага, так он думает так? – воскликнул Борджиа. – Неблагодарная гадина! Для того ли охранял я этого кровавого судью, эту крысу от народных проклятий, защищал его от гнева отца, чтобы услышать такую дерзость? – В Риме, вероятно, найдутся люди, которым будет приятно видеть, какую ненависть против вашего владычества породила безжалостная справедливость подесты в сердцах народа, – сказал каталонец. – Прекрасно!.. Пусть видят, как я умею пользоваться людьми, чтобы они оказывали мне только добрые услуги, а не служили мне во вред, – воскликнул Борджиа. – Ремиро привел Романью к покорности и к повиновению. А что, если я отдам его народу, как козла отпущения? – Я думаю, у ваших друзей не найдется достаточно причин еще любить его. Я знаю, что между Ватиканом и Ронсильоне происходит очень оживленная переписка, – проговорил Мигуэлото. – Даже когда я ясно высказал дону Ремиро ваше намерение, он побледнел, как гусиная печенка и согласился только на то, чтобы я захватил Орсини и спрятал его до тех пор, пока он не услышит вашего желания из собственных ваших уст, то есть, пока он найдет время известить об этом Орсини в Риме и Вителли в Кастелло, а в случае моего неповиновения грозил распилить меня. – Распилить тебя? Этот арагонец учит меня новому способу убивать, такого я еще до сих пор не знал, хорошая кара для изменника! Разве он к тому же и не богат? Богат, если принять во внимание недостаток средств в государстве и вымогательство у бедного люда! – Поэтому-то он так усердно стремится к сиянию святейшего отца, – ответил каталонец. – Он больше ненавидит вас, чем любит, и потому повсюду ищет помощи. Свои награбленные богатства он ради безопасности хранит в Ронсильоне. – Как ты думаешь, можно положиться на этих солдат? – с легкой улыбкой спросил Цезарь. – Их страх перед Ремиро может быть побежден только вашим личным вмешательством. Я, как известно вашей светлости, – офицер почти без власти. – Ну, ну, ты на пути к ней, – ответил Борджиа. – При некоторых обстоятельствах вы дали мне милостивое обещание... – Говорю тебе, что я не забыл его! Ты сам вредишь себе, напоминая мне про мои обещания, потому что я приберег для тебя гораздо лучшую награду! – с нетерпением перебил его Цезарь. – Разве я не осыпал тебя милостями, с тех пор, как ты помог мне устранить ту тень, которая покрывала меня? Сколько времени прошло, негодяй, как ты был в Риме? – Ваши приказания застали меня там, монсиньор, – ответил Мигуэлото. – Ага, тогда я могу узнать новости. Что поделывает мой угрюмый отец? Что он думает о наших последних деяниях! ? – Как всегда, ваша милость, он радуется возвышению своего дома и пугается средств. – Нет, это не все! Что сказал он моему посланному, который принес ему ключи Фаэнцы? – мрачно спросил Борджиа. – «Цезарь делает из меня великана, но великана в цепях!» Да? – Действительно, его святейшество становится под старость ворчливым и подозрительным, – согласился Мигуэлото. – Я слышал, что на время юбилейных торжеств комендантом замка Святого Ангела он назначил старого дурака, сиенского кардинала Никколомини? – резко спросил Цезарь. – Какое же это может иметь значение, синьор, когда находящиеся в замке немцы и гасконцы до последнего человека преданы вам? Но становится грустно, когда подумаешь, как много зависит от капризов вспыльчивого старика, на которого еще находят порой угрызения совести! – Маловерный, ты должен с большим уважением отзываться о наместнике святого Петра! – шутливым тоном воскликнул Цезарь. – А какие вести из Милана? В то беспокойное время, когда я объезжал свои цитадели, я ничего не получал оттуда. – Вчера через Ронсильоне проезжал герольд французского короля из Милана с неприятным, как я опасаюсь, посланием от короля его святейшеству и вам. – Французский король в Милане? Шутишь, мой храбрый Мигуэлото! – с удивлением воскликнул Цезарь. – Как, монсиньор? Неужели же вы действительно не слышали, что французы напали на Милан и уничтожили всех своих противников, и что герцог Сфорца вследствие предательства швейцарцев в настоящее время – их пленник? – Мигуэлото, ты сошел с ума! Этого не может быть! По последним известиям, их фуражиры были в Савойе! – недоверчиво проговорил Цезарь. Но дальнейшие подробности, сообщенные ему его наперсником об удивительной победе, одержанной Людовиком Двенадцатым над миланцами после их вторичного возмущения, не оставляли места никаким сомнениям. – Вот тема для нравственных размышлений о падении дурных правителей! – оправляясь от изумления, проговорил Цезарь. – Такая изобретательная голова, и с такой радостью принятый снова своими подданными – как это могло случиться? Может быть, Сфорца слишком дурно платил своим наемникам, или, наоборот, слишком хорошо? Вот загадка, которую ты должен разгадать мне, друг Никколо! Эти проклятые швейцарцы! Кто еще будет доверять им? – Конечно, не ваша милость. Я сомневаюсь, чтобы они забыли кровавую бойню, которую вы устроили им в Риме за то, что их братья в войске короля Карла разрушили дом вашей матушки, – ответил Мигуэлото. – Плохо ты знаешь людей, если думаешь, что их легковерию есть пределы! – заметил Цезарь. – Тем не менее, его святейшество, по-видимому, не разделяет того же мнения, так как тех, кого он своим вмешательством спас от наших мечей, он назначил в личную охрану донне Лукреции, моей повелительнице, – с особенным ударением проговорил Мигуэлото. – А! – был единственный ответ Цезаря, который, тем не менее, имел глубокое значение для его наперсника. – А при известии о счастливом возвращении вашей светлости, – продолжал Мигуэлото, – его святейшество присоединил к ним еще сотни легко вооруженных албанских беглецов, которые наводняют всю страну около Непи. – Непи! Что делает там донна Лукреция? – с напускным равнодушием спросил Цезарь. – Молится и кается... должно быть, за чужие грехи, – ответил Мигуэлото с кривой усмешкой. – Вероятно, в честь ваших побед и вашего счастливого возвращения, его святейшество провозгласил свою дочь герцогиней Непийской. Поэтому она очень часто бывает в Непи, где имеется сильная крепость. – Не шути со мной, Мигуэлото! – сказал Цезарь таким суровым тоном, что насмешливое настроение его спутника исчезло в одно мгновение, но затем, как будто забыв об этом, он прибавил: – однако, действительно, этот неожиданный успех французов меняет все мои планы! Кто мог бы предположить такую внезапную перемену счастья! – Ваши враги, благородный господин, теперь повсюду поднимут голову, – озабоченно проговорил Мигуэлото. – А все-таки из этого обстоятельства может получиться некоторая выгода, – возразил Цезарь. – Я не могу больше рассчитывать на французов, а папа разрешит мне для себя самого собрать итальянское войско, что, несомненно, посоветует ему и Никколо. Мигуэлото с легкой гримасой покачал головой. – Он скорее заключит мир с Колонна, чем даст вам в руки такую силу. – Не говорил ли я, что даже эта неудача с Орсини предназначена судьбой к моему же благу! – воскликнул Цезарь. На всякий случай мне необходим мир с его партией, чтобы не допустить Колонна, и потому я радуюсь его спасению. Но вернемся к нашим новостям. Что поделывает кардинал Борджиа, мой двоюродный братец? Ему что-то нездоровилось, когда он уезжал от меня из Фаэнцы. – Ах, ваша светлость, он скончался по дороге в Рим от какой-то внезапной болезни, словно это была чума. Прошло уже три дня со дня его смерти, – с лицемерным выражением грусти произнес Мигуэлото. – Он не был другом мне, и я только сожалею, что он умер, именно возвращаясь из моего лагеря. Будут говорить, что я отравил его, тогда как он слишком много ел дынь. Но у тебя найдутся лучшие вести о моем дорогом друге, монсиньоре Анвелли, архиепископе Козенцы, секретаре святого престола и вицелегате в Витербо? – В день моего отъезда из Рима его нашли в постели мертвым, после хорошего ужина накануне! – расхохотался Мигуэлото. – Бедняга, это произошло так внезапно! Но ведь такие святые люди постоянно готовы к своему последнему часу, – улыбаясь ответил Цезарь. – А какую же часть его наследства назначил мне отец? – Как я слышал, оно все предназначено на торжество вашего приема и на празднества святой недели. Но меня удивляет, что ваша светлость ни разу не спросили о своей царственной супруге. – Так она еще жива, и в Риме? – равнодушно спросил Цезарь. – Я не слыхал, государь, чтобы она умерла! – испуганно ответил Мигуэлото. – Ну, тогда она бесспорно, жива. Скажи, а донна Фиамма, должно быть, очень раздражена моим браком, – продолжал Цезарь. – Ваша светлость должны были видеть ее, когда я полгода тому назад передавал ей ваше письмо из Франции с известием о вашей свадьбе, – проговорил Мигуэлото с легким ужасом, который у человека его натуры имел особое значение. – Она, поди, металась, кричала, и безумствовала, как всякая брошенная девушка? – с презрительной усмешкой воскликнул Цезарь. – В продолжение нескольких минут, синьор, она не проронила ни звука, а уставилась на меня неподвижным взором. Ее лицо побледнело, как мрамор, и искривилось так, словно Медуза на Капитолии! – ответил Мигуэлото. – Затем у нее вырвался такой вздох, будто разорвалось сердце, и, тем не менее, у нее скатилась только одна слеза, большая и тяжелая, как капля расплавленного свинца. Она сейчас же презрительно вытерла ее и дала мне драгоценный перстень – за хорошую новость, как она сказала. Потом она расхохоталась, сказала, что день для свадьбы выбран удачно, и без чувств упала на пол! – Я поквитался с ней за султана Зема, – поспешно проговорил Цезарь. – Нет, ваша светлость. Если вы хотите знать мое мнение, то вы приревновали ее без всякого повода, – боязливо заметил Мигуэлото. – Может быть! Может быть, я думаю также, как и ты, но ты не знаешь, как приятно иметь наготове ответы беснующейся женщине!.. И ты увидишь, как легко уверить эти глупые души, когда они любят, если только дать себе труд произнести несколько ласковых слов и лицемерных обещаний. Сначала женщина будет плакать и безумствовать, но затем она успокоится, как море после бури, когда проглянет солнце. Ведь любовь в сердце женщины даже в то время, когда она раздражена, – солнце, лишь омраченное тучами. Стремительность ее собственной бури проложит путь золотому лучу, и после пережитых волнений все будет еще спокойнее и лучше. Посмотри, какой дивный ландшафт внизу! Действительно, путешественники поднялись на возвышение среди гор, образующих долину Нара. Они видели отсюда тибрские равнины. Внизу долина была покрыта лесами, а посредине протекала знаменитая река, извиваясь, словно громадная золотая змея. У подножия горы, на которой находились путники, возвышались освещенные розовым светом колонны римских руин. По другую сторону реки простиралась бесконечная равнина, на которой паслись стада буйволов. Цепь синеватых гор закрывала вид с севера. – Там Непи! – сказал Мигуэлото, останавливая лошадь и указывая налево, где на вершине крутой горы виднелись серебристые зубцы древнего собора. – Какую же епитимью исполняет Лукреция в Непи? Может быть, она подражает паломничеству Изабеллы Висконти к святому Марку в Венеции, которое было настолько удачно, что при своем возвращении прекрасная дама должна была отравить своего супруга, чтобы защитить его уши от сплетников? – после краткого раздумья спросил Цезарь. – Нет! Ведь за донной Лукрецией следит строгий доминиканец, – ответил Мигуэлото, – а это – такой человек, который может обуздать Венеру и готов обвинить Диану. – Ах, доминиканец! Если бы я мог предположить, что Лукреция так высоко ставит Орсини, и для его спасения послала монаха, то никакая политика не удержала бы меня, чтобы пощадить его, – сказал Борджиа. – Мне необходимо пролить свет в этом деле. А пока... Но вот они въезжают на мост, мы должны решить, что нам делать. Предоставим на время итальянского полководца и его наперсника своим размышлениям и присоединимся к конному отряду в долине. Отряд только что переправился через реку и Бембо в поэтическом экстазе процитировал и тут же перевел своим не понимающим латыни слушателям: – Смотрите, вот возвышается снежок покрытый Соракте! – И указал рукой на гору, громадным валом вздымавшуюся на горизонте. – Святой Орест! – повторили все, и мгновенно обнажились все головы перед воображаемым святым. – Нет, нет, братия! – промолвил озадаченный Бембо. – Впрочем, все равно, судя по коротким теням деревьев, теперь должен быть полдень, час молитвы Пресвятой Богородице против турок, и мы помолимся вместе. С этими словами он остановил своего мула, сложил руки и, возведя очи к горячему синему небу, зашептал молитвы Пресвятой Деве, прося у нее защиты не только от турок, но от всех врагов, дальних и ближних, к которым он про себя от всей души присоединял всю династию Борджиа. – Итак, благословясь, дети, смелей вперед!.. Я твердо верю, что в лице нашем или моих спутников, благочестивых паломников, никакой обиды не будет нанесено святой церкви! В это время приблизился Мигуэлото. Он уже избавился от своего седока и с большой дороги повернул отряд в сторону, в печальную вулканическую местность, где на больших расстояниях на высоких, как казалось, почти недоступных, вершинах, гнездились города и монастыри. Волнистая горная цепь, залитая горячим солнцем закрывала вид со всех сторон. Роскошная растительность, покрывавшая болото, скрывала бездонные глубины, которые выдавали исходившие из них сернистые испарения. Непрерывное кваканье лягушек и крики водяных курочек разоблачали эту предательскую роскошь. Наконец, исчезло и это обманчивое великолепие, и перед путниками простиралась черная, покрытая лавой равнина. Затем пошел темный лес, покрывавший спереди склоны горы. Вид этой местности был не таков, чтобы могли рассеяться опасения Орсини, и, казалось, самому Макиавелли было не по себе, потому что он предложил снова ехать в Рим прямым путем. Но непродолжительное совещание с Мигуэлото успокоило его опасения, и рыцарский отряд вступил в лес, круто поднимавшийся среди высоких утесов. Когда путешественники перебрались через вершину на другую сторону и стали спускаться, дорога была обрамлена дубами необъятной величины, и на каждом двенадцатом дереве висел человеческий труп. Судя по одежде, несчастные были крепостными какого-нибудь дворянина, которому вздумалось пометить их крестом на руке. Шут снова присоединился к Мигуэлото, ехавшему теперь впереди отряда. Окинув равнодушным взглядом трупы повешенных, отравлявших воздух гниением, он спросил, кем и за что они повешены. – Доном Ремиро из любви к Колонна! – злорадно ответил полковник из Ронсильоне. – Там находится крепость Агапита Колонна, которую он, вопреки приказу подесты и вашему положительному решению, снабдил жизненными припасами и вассалами. Но вместо того, чтобы начать безопасное и легкое обложение, подеста уведомил его, что до тех пор, пока Колонна не согласится сдать крепость, он каждый день будет вешать одного из его крепостных, пока не останется ни одной живой души. И вот результаты. А Агапит не сдается, и Бог знает, когда этому будет конец. – Какой же негодяй этот Ремиро! Он щадит замок только потому, что Агапит – родственник его жены! – с жаром воскликнул Цезарь. – Я скорее простил бы ему, если бы он отправил на тот свет сотню дворян, чем убийство этих рабов! Какая польза мне от этих трупов? – Подеста – настоящий кровожадный тиран! – сказал Мигуэлото. – Это верно, – подтвердил Цезарь, – и, прежде, чем лишиться такого драгоценного орудия, я должен убедиться в его измене! Твой замысел слишком ясен, мой Мигуэлото, но не воображай, что я поставлю тебя подестой на его место. Ты мне нужен для других целей. Я хочу управлять народом таким образом, чтобы он преисполнился особой любовью ко мне. Но ты, кажется, говорил мне, что Ремиро при помощи почтовых голубей вел изменническую переписку с моими врагами в Риме? Мигуэлото вытянул свою сухую шею, чтобы посмотреть, нет ли кого поблизости, и затем тихонько ответил: – Нет, благородный господин. Я говорил, что он сообщался со своей прекрасной женой, Беатрисой Колонна. – Лишь только ты дашь знать дону Ремиро, что я прошу его впредь до моих дальнейших распоряжений охранять Орсини, и, что я тайно уехал в Рим, он, если он действительно – предатель, каким я по твоим речам должен считать его, несомненно отправит с этими новостями своих голубей, сказал Цезарь. – И вот, когда ты тайно доставишь меня в крепость, я выберусь в башню ветров и стану со своим соколом Горебеком, который никогда не упускает своей добычи, ждать отправки доном Ремиро голубя. Ты ведь хорошо ходил за ним? Даже Мигуэлото испугался этого коварного и злобного намерения. Но у него не оставалось времени отговаривать Цезаря, если бы он даже захотел. Пушечный выстрел внезапно разбудил дремавшее озеро, к зеркальной поверхности которого они спускались. Направление выстрела и дым, поднявшийся в тихом вечернем воздухе, указывали, что их приближение было замечено из крепости, и их желали встретить с необыкновенным почетом. Это убеждение усилилось, когда при входе в узкую долину появилась группа мужчин, которые, по-видимому, ожидали путников. Цезарь обменялся еще несколькими словами со своим полковником, и затем фантастическими прыжками исчез из вида. Дон Мигуэлото выехал вперед и вскоре достиг ожидавшей их группы, состоявшей из таких же испанских солдат, как и отряд Мигуэлото. Впереди на белоснежном муле, в мантии и шапочке доктора права, в длинной золотой цепи, указывавшей в нем подесту, ехал худощавый сгорбленный человек. Его лицо от забот и дум было изборождено морщинами. Длинные седые волосы, серьезное, озабоченное лицо, сумрачный и беспокойный взгляд – таковы были отличительные признаки безжалостного губернатора Романьи, дона Ремиро. Мигуэлото выразил подесте желание поговорить с ним наедине, и они поскакали вместе в долину. Подеста был, очевидно, одурачен известием, принесенным ему ночью африканским скороходом, и с удивлением и страхом слушал теперь, что переодетый герцог соединился с Мигуэлото близ Нарни, и приказал ему немедленно принять меры к освобождению синьора Паоло Орсини, и что его светлость, узнав дурные новости из Милана, нисколько не сердился на подесту за препятствия, которые тот устроил ему на пути к устранению изменника, но считал необходимым до тех пор задержать Орсини, пока он не убедится, как обстоят дела в Риме, куда он и отправился тайком сам. Поэтому подеста должен был задержать Паоло Орсини в Ронсильоне впредь до дальнейших приказаний, со всем почетом, но не спуская с него глаз. (обратно)ГЛАВА XI
В продолжение этого донесения черты лица подесты приняли свое обычное выражение. Его внутреннее беспокойство, правда, не улеглось, но привычка скрывать свои истинные чувства сделала свое. Потом Мигуэлото равнодушно прибавил, что герцог Цезарь устроил таким образом, что один из его слуг, переодетый монахом, указал каким-то паломникам место, где был спрятан Орсини, и те освободили его. Это известие, по-видимому, устранило всякие сомнения в душе дона Ремиро, и он ответил, что повиновение приказам своего повелителя составляет его радость и обязанность. Но взор его устремился с пытливым недоверием на своего подчиненного, ненависть и честолюбие которого, вероятно, не составляли для него тайны. Однако в это время приблизился весь отряд. Подеста обернулся и был немало изумлен, увидав такое многочисленное и знатное общество, но, лишь только он узнал Орсини, он слез со своего мула, чтобы приветствовать его. На эту вежливость римский дворянин немедленно ответил тем же. Они пешком пошли друг другу навстречу и, согласно церемониала того времени, поцеловались в обе щеки. Подеста принял молодого Паоло с горячими приветствиями по поводу его освобождения из власти бандитов, которые, как он узнал, к своему величайшему огорчению, напали на него в пределах его округа и потребовали с него выкуп. – Не стоит говорить об этом, – прервал его Орсини. – Наши черные банды покушались на самого императора. Но теперь я в безопасности под верной защитой моих спасителей, и притом не так легко сбиться с пути в Рим через Кампанью. Но, как я ни рад, дорогой подеста, видеть вас здоровым и невредимым, я тем не менее весьма сожалею, что вы заставали меня сделать такой большой крюк, и, чтобы наверстать потерянное время, я вынужден сократить удовольствие нашего свидания, так как думаю провести эту ночь в Сутри или Непи. – По длинным теням, ложащимся от гор, вы можете видеть, благородный господин, что близок закат, – возразил подеста решительно и строго. – Путь, которым вы намерены идти, проходит по болоту, лесам и пустынной местности. Ваши лошади измучены так же, как и лошади моих людей. Кроме того, синьор, у меня нет полномочий отпустить в Рим дворянина, о котором известно всему свету, что он восстал против церкви. Поэтому я должен униженно просить вашу милость остаться в Ронсильоне, пока я не получу от его святейшества необходимых указаний. – Как, уважаемый подеста? Вы хотите насильно удержать меня, в то время, как я везу в Рим мирный договор? – страстно воскликнул Орсини. – Я должен исполнить свой долг, – с многозначительным видом заявил подеста, – и наступит время, когда ваша милость узнает, что я – ваш преданнейший и искреннейший друг, был им, есть и буду. – И супруг одной из Колонна! – воскликнул Паоло. – Колонна не любят Орсини, но других зато еще меньше! – возразил подеста, и приятное воспоминание о молодой жене заставило его улыбнуться. – Наш святой отец сам пригласил меня в Рим, а меня насильно засаживают в эти башни! Мои друзья помогут мне, и вам придется умертвить меня перед лицом всей Италии, так как все, что вы совершаете, она будет видеть глазами вот этого синьора, флорентийского посланника. – Слава пресветлому сенату! – воскликнул подеста, склоняя свою обнаженную голову перед посланником. – Вашим спутникам я должен предложить такое же гостеприимство, – с замечательно просветлевшим лицом прибавил он. – И если правда, что вы приглашены его святейшеством, то чего же вам бояться незначительной задержки, пока я получу подтверждение из Рима. – В таком случае, благородный подеста, дайте нам обещание, что синьор Паоло не будет разлучен с нами, его друзьями, и, когда мы покинем Ронсильоне, он будет сопровождать нас, – проговорил иоаннит. Ремиро очень охотно дал свое согласие, а так как сопротивление было действительно невозможно, то путешественники были вынуждены удовольствоваться этой шаткой порукой. Таким образом, подневольные гости стали подниматься к воротам крепости. На губах Макиавелли блуждала неопределенная улыбка, потому что и он не знал, что может случиться, но чувствовал, что должно было произойти несчастье. Размеры и мощь этой крепости стали заметны только теперь, когда из-за утесов стали выступать во всех направлениях многочисленные башни и зубцы. Ее можно было считать крепостью вдвойне, так как за первым кольцом готических укреплений возвышалось строение в сарацинском стиле из белого камня, посередине которого стояла высокая круглая башня с подковообразными бойницами, называвшаяся башней ветров. Но внутри крепости везде можно было наткнуться на новшества, являвшиеся результатом требований времени, так как даже укрепление мрачных Борджиа проявляло повсюду следы роскоши и любви к искусству, пробудившейся в Италии. Комнаты, отведенные гостям, были поистине великолепны, а большой зал, где вскоре после их прибытия был устроен обед, был украшен мастерскими живописными фресками. Столовые приборы были из серебра, и среди них можно было уже заметить однозубые вилки. Рыцари отказались снять оружие, отговариваясь тем, что, согласно данному обету, они должны были все время находиться в полном вооружении. Бембо с удовольствием заметил, что английских солдат угощали в том же зале, за отдельным столом. В этом он видел доказательство того, что сейчас по отношению к ним не замышлялось никакого предательства, его эпикурейское сердце было преисполнено радостных ожиданий превосходного обеда. Стол, наконец, был, по-видимому, совсем накрыт, зажаренный целиком дикий кабан, роскошные окорока, громадные паштеты, обложенные со всех сторон дичью, всевозможные рыбы и на первом плане громадный жареный журавль – это были главные блюда. Отсутствовал только сам хозяин, который, по словам Мигуэлото, отправился в свои покои, чтобы написать несколько писем. Бембо с голодной жадностью глядел на стол и затем, со вздохом, перевел свой взор на озеро, серебрившееся за окном. Он вспомнил о старинном предании, утверждавшем, что на дне озера покоится большой город, как вдруг его взгляд упал на голубя, вылетевшего из одной башни с чем-то белым на шее. Сначала он летел в прямом направлении на юг, затем вдруг его полет изменился, он стал описывать круги и опустился к озеру. Бембо с любопытством взглянул наверх, и заметил сокола, в беспредельной вышине казавшегося крошечной черной точкой. Но сокол опускался все ниже и ниже, и голубь, словно предчувствуя неминуемую гибель, сделал последнюю попытку ускользнуть от страшного врага и взлетел ввысь. В ту же минуту хищные когти впились в его трепетавшее тело. Бембо не успел посмотреть, что произошло с несчастной птицей дальше, в зал вошел давно ожидаемый подеста. На его лице был написан такой ужасный гнев, что это снова наполнило душу Бембо всякими опасениями. – Кто это, Мигуэлото, позволил себе без моего разрешения выпустить сокола герцога? – в сердцах воскликнул он. – Благодаря соколу, вылетевшему сейчас из башни ветров, я потерял лучшего из моих почтовых голубей, и письмо, отправленное мною жене, теперь, наверное, пропало. – Это Угуччоне. Я уже не раз предупреждал его, – ответил Мигуэлото. – И соколы слишком хорошо выдрессированы и ни один из них не растерзает голубя, поэтому ваше письмо, несомненно, цело. – Пойди и немедленно приведи негодяя ко мне, – приказал подеста. Клянусь небом, если он сделал это, я сейчас же прикажу повесить его в предупреждение таким любопытным канальям, с которыми сладу нет! Мигуэлото удалился, по-видимому, не без удовольствия, и подеста, овладев собой, предложил гостям садиться за стол. Прошло несколько минут, и хотя подеста был все еще взволнован, гости не обращали на это внимания, и отдавали должное прекрасным кушаньям. Орсини ел только те кушанья, которые ставились перед хозяином. Еще никто не успел попробовать журавля, как снова вернулся Мигуэлото. Его от природы лукавое и одновременно угрюмое лицо так ясно выражало сейчас злобное удовольствие, что ребенок не мог бы ошибиться в нем. В руках у него было распечатанное письмо, которое он подал дону Ремиро. – Это сделал не помощник сокольничего, как я думал, с дьявольской усмешкой сказал он, а какой-то парень, он явился недавно в крепость и выпустил герцогского сокола. Я застал его как раз за чтением вашего письма синьоре донне Беатрисе, вашей благородной супруге. – Моей жене? В таком случае, ты также прочитал его, Мигуэлото? – воскликнул подеста, бледнея. – Вашей милости должно быть известно, что в монашеском искусстве я – такой же неуч, как монах – в военном! – возразил Мигуэлото. – Да, ты часто признавался мне в этом, – промолвил подеста, тяжело дыша, словно с души у него спала большая тяжесть. Но разве этот любопытный негодяй не прочитал его тебе? – Клянусь небом, у него не было времени для этого! – ответил Мигуэлото. – Как, мой превосходный, мой верный Мигуэлото? Разве ты в благородном негодовании на его наглость не воткнул ему кинжал в грудь? – быстро спросил дон Ремиро. – Я немедленно арестовал его, но считал своим долгом подождать приговора вашей милости. – Где ты оставил его, с кем? Тащите его сейчас же на ближайшее дерево! Это, несомненно – шпион наших врагов, иначе почему он стал бы читать мои письма? – Он свободный, ваша милость, и, как таковой, должен быть сначала судим и осужден согласно тем самым законам римского короля, на которые вы так часто ссылались, – возразил Мигуэлото, радуясь затруднительному положению своего начальника. – Не давайте никому говорить с ним, приведите его связанным сюда. Я быстро вынесу ему свой приговор, – гневно промолвил дон Ремиро. – Он здесь, за дверями. Вашей милости нет надобности надолго прерывать обед, – ответил Мигуэлото, поспешно направляясь к двери и настежь распахивая ее. Испуганные взоры пирующих упали на блестящие доспехи и копья стражи флорентийского посла, быстро вступившей в зал. Словно по команде, ряды ее вдруг разомкнулись, и из середины твердым шагом, с пылающим гневом очами, раздувающимися ноздрями и бледным от бешенства лицом, вышел Цезарь Борджиа! Его неожиданное появление, ужасный взгляд, его черные, как смоль, волосы, змейками выбивавшиеся из-под белой меховой шапочки, даже его платье черного бархата, сверкавшее драгоценными камнями, – все могло наводить ужас даже на тех, кто не имел никаких оснований бояться его. Дон Ремиро стоял бледный и неподвижный, как статуя, рыцари вскочили со своих мест, схватившись за мечи, а Бембо творил молитвы и заклинания. – А, подеста! Меня за мою нескромность вы хотели приговорить к повешению! Какого же наказания заслуживает тогда измена? - загремел страшный полководец и, мгновенно переменив тон на самый вежливый и любезный, обратился к гостям: – Не обращайте на это внимания, благородные рыцари, и ты, мой дорогой друг и брат Орсини. Только помогите мне определить, какому наказанию подлежит этот неблагодарный изменник, не только пытающийся раздуть пламя междоусобной войны, которое мы всеми силами стараемся погасить, но еще стремящийся замарать мое доброе имя обвинением в позорнейшем предательстве, возбудить против меня все человечество и даже посеять вражду, подозрение и ненависть между отцом и сыном! С этими словами он вырвал перехваченное письмо из рук трепетавшего подесты, и громко прочел его своим недоумевающим слушателям. Отправляя это письмо, дон Ремиро действительно поступал под влиянием злого рока. После нежных приветствий прекрасной супруге и горьких жалоб на продолжительную разлуку, он выражал надежду, что время их взаимного печального одиночества приходит к концу. Затем он уведомлял ее о прибытии Паоло Орсини со своими спутниками в Ронсильоне, описывал несчастье, случившееся с ним дорогой, и наказывал ей немедленно по получении письма поспешить в апостолический дворец, заявить пароль, по которому ее узнают там, добиться у папы тайной аудиенции и известить его об этом событии, прибавив, что он, подеста, знает, что все это было устроено герцогом Романьи для того, чтобы умертвить своего будущего зятя, и что если не явится помощь, это намерение может осуществиться. Чтобы предотвратить это несчастье, папа должен послать подесте приказ немедленно доставить Орсини в Рим, но, чтобы войска и мятежный полковник в Ронсильоне не отказали в повиновении, дать посланному отряд немецких солдат, и отряд из воинов Орсини, и им же ради безопасности предоставить до их возвращения охрану Фламинских ворот. Далее влюбленный Ремиро признавался жене, что он не может дольше жить без нее, а так как герцог начинает подозревать его в сношениях с папой и, кроме того, сам кровожаднее тигра, коварнее змеи, то он не намерен больше продолжать службу, и потому просит ее прислать ему три больших ширококолесных экипажа, чтобы он мог отправить к ней свое имущество и сокровища, прежде чем явится тиран. Среди последних находится ожерелье из жемчуга величиной с голубиное яйцо, конфискованное у одной дамы из Монтефельтро, которая хвасталась, что она может предсказывать будущее и пророчила близкую гибель подесты, и он надеется вскоре увидеть это украшение на самой прелестной шейке на свете. – Ну, господа почтенные рыцари, как вы думаете, ошиблась ли эта дама с жемчугами с голубиное яйцо? – с ужасным смехом проговорил Цезарь, прочитав письмо до конца. – Если в своем любовном излиянии дон Ремиро высказал правду, за что же тогда карать его, герцог? – спросил иоаннит. Вместо того, чтобы прийти от этих слов в ярость, как опасался Бембо, Цезарь прерывающимся от воображаемого огорчения голосом, с глазами, полными слез, разразился трогательными жалобами на суровую судьбу, которая позволила обвинять его в таком страшном преступлении. – И вы, Паоло, вы также не доверяете мне? Иначе почему вы решили ехать тайно по моей области? – с упреком проговорил он, почти обманув этим Орсини. – Но хвала Пресвятой Богородице, у меня есть превосходный ответ на клевету моих врагов! Разве вы здесь не в моей власти, не окружены моими верными солдатами, не в моем крепком замке, который Орсини и немецкие солдаты могут безуспешно осаждать годами? Ну, хорошо!.. Тебе, Паоло, я предлагаю полнейшее, безграничное подтверждение всех условий мира, решенных нами в Имоле, а вам всем, господа, я говорю добро пожаловать, предоставляю вам верное убежище и хорошее угощение, а завтра с рассветом мы все отправимся в Рим, где вы должны будете разделить все почести, какими намеревается засыпать меня великодушное правительство. При этих словах он с напускным воодушевлением протянул Орсини руку, а тот несколько мгновений недоверчиво смотрел на него. – Итак, вы согласны утвердить наш союз этим, так часто предлагавшимся образом? – ответил он. – Скажите «да», Цезарь, исполните свое обещание отпустить нас, и мои сомнения рассеются навсегда! – По этому пункту должны вынести решение сама донна Лукреция и ваше счастье в любви, – спокойно произнес Цезарь. – Но вы не станете, по крайней мере, употреблять свое влияние в пользу принца Феррарского? – все еще недоверчиво спросил Орсини. – Ха-ха! Что вы думаете!.. Но мы забыли тайного советника нашего святого отца: – Убери его, Мигуэлото! – Сжальтесь, мой повелитель, мой высокий, победоносный государь! Сжальтесь над несчастным преступником! – закричал подеста, бросаясь на колени. – Сжалиться над тобой, безжалостный изменник? – сказал Цезарь, отталкивая несчастного ногой, когда тот пытался обнять его колени. Мигуэлото подскочил и ухватил подесту за его меховую мантию. Но в это мгновение вмешался Орсини. – Как ни подло, предательски и неблагодарно поступил перед вами этот человек, Цезарь, – обратился он, – я все же не могу забыть, что он принимал некоторое участие во мне, хотя бесцельное и ненужное. Я прошу вас, не карайте его, по крайней мере, смертью. – Я почтительнейше прошу разрешения высказать свою точку зрения, всемилостивейший государь, – вступил Макиавелли, и, видя, что его не прерывают, продолжал: – Я передал бы его связанным народу, которым он управлял, женам и детям тех рабов, которых мы видели висевшими на дубах... – Да будет так, радостно воскликнул Цезарь. – А когда они покончат с ним, пусть его труп распилят пополам и выставят на рынке, чтобы народ знал, что я не стерпел его жестокостей и не соглашался с ними! При этом ужасном приговоре сознание покинуло несчастного Ремиро, и он упал на руки Мигуэлото. Воспоминания о жестокостях подесты, виденных незадолго перед тем, могло, вероятно, несколько умерить пыл его защитников. Тем временем Мигуэлото ухватился за свою жертву с хищностью дикого зверя, словно опасаясь, что ее могут отнять у него, и проворно вытащил Ремиро из зала. (обратно)ГЛАВА XII
Казалось, что только по окончании своего приговора Цезарь заметил присутствие флорентийского посланника. Он сердечно обнял его, проговорил: – Итак, в счастливый час мы все сошлись вместе. Ваши высокие правители республики могут теперь убедиться, как неосновательно их подозрение, что мир с Орсини должен непременно заключать в себе угрозу для вашего государства. Вы сами должны будете подтвердить им истину! Мигуэль!.. Где он? Ах, да! Принесите мне мой стальной сундучок! Несколько солдат бросились немедля исполнять приказание, и вскоре возвратились с тяжелым ящиком, который иоаннит, как ему показалось, видел уже среди вещей Макиавелли. Вынув оттуда огромный пергамент, Цезарь стал громко и внятно читать его. Этот документ остается одним из самых замечательных памятников того бурного времени. Он возвращал, с некоторыми исключениями, разоренным вельможам-феодалам их прежнюю власть и права. Колонна также был включен в их число. При этом, для церкви здесь была громадная выгода, не предусмотренная союзниками: она заключалась в их согласии на уступке папе всех предоставленных им императорами ленных поместий, при условии, что папа немедленно возвратит их им как свои. Договор предоставлял церкви все права верховной власти и среди них право принуждать ленников [535] нести военную службу. – Я согласен на эти условия... Но что я говорил. Разве имеет какое-либо значение мое согласие? Ведь я останусь незначительным герцогом! – с нарочитым смехом проговорил Цезарь. – Без поручительства, без залога за точное соблюдение этого мира договор – не что иное, как бездушная кожа! – своим глубоким, строгим голосом произнес иоаннит и, обратив свой взгляд на Цезаря, прибавил: – если ваш святейший отец так желает этого брака, то почему вы не даете торжественного обещания связать вашу любовь алмазными узами соединив в браке наследника Орсини с дочерью Борджиа? – Желает мессир Бембо, только что явившийся из Феррары, подписать этот прекрасный договор? – спросил Макиавелли, видимо обеспокоенный таким предложением. – Или, может быть, ваша светлость желает к чему-нибудь обязать себя, что будет ни чем иным, как тираническим насилием над волей прекрасной Лукреции? – Пока я находился во Флоренции, у синьора Паоло было время узнать ее расположение, – испытующим взором смотря на Орсини, ответил Цезарь. – Если ты действительно можешь уверить меня, брат, что она дала тебе надежду, тогда я сам сделаю то, чего требует этот воинственный миротворец. Лицо Орсини омрачилось, между тем черты лица Цезаря в такой же степени прояснились. – Я не принадлежу к тем неверным рыцарям, которые хвастаются ласками своих возлюбленных, я не заставляю дам краснеть, – с печальной улыбкой заявил Паоло. – Предоставим это времени, судьбе и огненному пламени страсти, которое может зажечь ответный огонь даже в мраморной статуе. Цезарь ничего не ответил, но схватил поданное ему перо и неуклюжими буквами подписал договор. – А теперь давайте пировать! – весело воскликнул он. – Мигуэлото, а где Астор Манфреди, которого я в свой последний приезд сюда назначил своим кравчим? – Я сейчас найду его, – ответил Мигуэлото. – Он редко выходит из своей комнаты, синьор. – Скатите солдатам бочку моего лучшего сицилийского вина. Отправьте в Рим курьера, который возвестил бы о заключении этого прекрасного мира, и о нашем предстоящем прибытии, и пошлите также к Вителли, в Болонью, а главным образом, к моему дорогому другу Джованни Франджипани в Фермо! – Разве вы ничего не слышали, синьор, о том, что случилось с этим престарелым благородным дворянином? – боязливо промолвил Бембо. – Мы слыхали об этом во время пути из Феррары. – Он, верно, также мирно, как и жил, отправился, наконец, к праотцам? – спросил Макиавелли. – Нет, он позорно и изменнически убит своим племянником, которого он с детства воспитывал и держал как родного сына! – сказал иоаннит. – Во время последнего перемирия он под предлогом навестить дядю приехал в Фермо, и убил старика среди праздничного пиршества, которое тот устроил в честь его приезда! – Оливеротто – твой друг и союзник, Орсини, и близкий родственник Вителли, – серьезно заметил Цезарь. – Пусть он постарается сделать как можно больше добра народу, в противном случае ему не придется долго править в Фермо, – задумчиво проговорил Макиавелли. В это время появился Мигуэлото. За ним несколько человек несли пурпурный, украшенный золотом, балдахин, под которым подеста обыкновенно отправлял правосудие, и поставили его над Цезарем. Мигуэлото ввел, или – вернее – втащил за собой жалкую фигуру, несчастный вид которой привлек внимание Бембо. Это был юноша не старше восемнадцати лет. Его лицо было когда-то положительно прекрасным, теперь же его опущенные глаза выражали полнейшее безумие. Его, очевидно, наскоро вымыли и одели, и роскошное платье висело на нем, как мешок. Тем не менее, когда-то оно было ему впору, и великолепно сидело на его прекрасной фигуре. Год назад, в расцвете сил он защищал наследие своих отцов – Фаэнцу – против Цезаря Борджиа. – У Юпитера нет более благородного кравчего, чем у меня! – произнес Цезарь, не замечая появления своего кравчего. – Мне доставляет удовольствие пользоваться услугамигордого мальчика. Из него вышел бы превосходный солдат. Эй, Мигуэлото, это что за привидение? – Это – благородный Манфреди. По приказанию подесты, его держали в строгом заключении, так как дон Ремиро боялся, что он убежит. – Как убежит, когда я дал слово употребить перед святым отцом все свое влияние, чтобы снова возвратить ему его владения! – Да, подеста опасался, что он убежит, чтобы начать войну против вашей светлости, – ответил Мигуэлото. – Шесть месяцев очень изменили его, – с состраданием сказал Цезарь. Уведите его, позаботьтесь о нем, я пришлю для него из Рима врачей. Но что это значит, Мигуэлото, что я не вижу среди вас ни одной женщины? Когда я был в последний раз в Ронсильоне, я видел их немало. – Тот, кого распилили сегодня, в одно прекрасное утро рассудил их, благородный господин, – с отвратительным смехом ответил Мигуэлото. – На него находили такие припадки правосудия, как он их называл. Но о мертвых не следует говорить дурно! Только если ваша светлость желает, я возьму с собой дюжину копий, и приволоку с рынка несколько самых красивых девушек. – Если, герцог Цезарь, замышляется какое-либо насилие над женщинами, то как мои рыцарские обязанности, так и моя религия повелевают мне биться не на жизнь, а на смерть с теми, кто это сделает! – воскликнул иоаннит, поднимаясь с места, и хватаясь за рукоятку меча, готовый броситься на Мигуэлото. – Мир вашей храбрости, благородный рыцарь! Я ведь сам принадлежу к благородному ордену рыцарства, рукой императора возведен в рыцари, и точно также обязан защищать слабых, а что же может быть слабее женщины? – иронично проговорил Цезарь, играя золотыми украшениями ордена, висевшего у него на шее. Затем по данному им знаку, Мигуэлото моментально исчез с молодым Манфреди. В продолжение всего последующего пира только иоаннит оставался пасмурным и молчаливым, почти не вмешивался в разговор и не притрагивался к пище. Казалось, он не мог забыть так быстро впечатления трагических сцен, свидетелями которых они были недавно, как его собрат, веселый добродушный англичанин, или не умел так ловко скрывать свои чувства, как Паоло Орсини. Однако, в характере Цезаря было что-то волшебное, как только он начинал выказывать все свои богатые умственные способности и широту души, которым он находил такое ужасное применение. Для одного у него была наготове грубая шутка, для другого – глубокая философская мысль, игра фантазии и остроумия, вдохновение или незлая насмешка – словом все сложные настроения богато одаренной человеческой натуры были, казалось, к его услугам. Время было уже далеко за полночь, когда Мигуэлото позволил себе заметить, что было бы полезно удалиться на покой, так как герцог с гостями ранним утром намеревался отправиться в Рим. При этом предложении Орсини изменился в лице, что не ускользнуло от наблюдательного взора гостеприимного хозяина. Он не преминул иронически улыбнуться и произнес: – В мои намерения вовсе не входит нарушать соглашение моего подесты, и, если постели из душистого сена не будут роскошным ложем для вас, всю ночь ваши спасители будут рядом с вами. Этот зал мы превратим сейчас в спальню. Орсини согласился. Несколько полунагих рабов внесли охапки благоухающего сена и постелили его на полу вдоль стен, для каждого отдельно. Единственным преимуществом для рыцарей и монахов было одеяло из медвежьей шкуры. Но решение Цезаря спать с ними вместе в зале, казавшееся таким благородным и полным доверия, отнимало у путников всякую возможность поделиться впечатлениями о событиях дня. (обратно)ГЛАВА ХIII
После долгой, еще более тревожной для Орсини, чем накануне, ночи, забрезжил, наконец, долгожданный рассвет. Отслужили обедню, плотно позавтракали, и так как герцогу хотелось ехать так же, как и его гостям, то, не теряя понапрасну времени, все вскочили в седла, и еще задолго до полудня небольшой отряд покинул Ронсильоне. Дорогой он, как лавина, увеличивался от примыкавших к нему толп, и принял довольно грозный вид. Новые их спутники были, большей частью, незначительные дворяне со своими вассалами, ленники святого престола и, кроме того, отряды немецкой конницы. Цезарь был так занят приемом отдельных начальников и выслушиванием донесений, что его гости могли свободно беседовать друг с другом. Лебофор с добродушным благородством уже был готов составить о герцоге более благоприятное мнение и посмеивался над подозрениями Паоло, полагавшего, что, так таинственно и внезапно исчезнувший шут был не кто иной, как сам Цезарь Борджиа. Во всяком случае, он не решался прямо высказать это и придавал своим словам оттенок недоверия. Но Бембо и иоаннит, казалось, вполне разделяли это мнение. Первый со страхом старался припомнить, что он говорил в картезианском монастыре, Орсини пытался убедить себя, что Цезарь никак не мог знать о заговоре против него, иначе бы он не остался равнодушным зрителем. Они проехали необъятную равнину Кампаньи, по которой протекал мечтательный Тибр. Нигде не было ни малейшего следа человеческого жилья! Только полуразрушенные памятники да колонны указывали направление Фламиниевой дороги. Несмотря на значительные силы, Цезарь не пошел прямо через Кампанью, так как тогда им бы пришлось проходить мимо замка Монтерози, принадлежавшего к партии Колонна. Поэтому они оставили Непи вправо и въехали в бесконечный старый, густой и тенистый лес. Невыносимый полуденный жар, царивший в долине, в лесу сменился приятной свежей прохладой. Внезапно среди расступившихся деревьев показалось пустынное черное болото с островками пышной растительности. Стадо буйволов, пасшихся, как обыкновенно, на некотором расстоянии друг от друга или валявшихся в грязном болоте, было единственным, что напоминало о кипевшей здесь некогда жизни. Цезарь при виде животных отдал приказ убить несколько штук. Для этой цели отрядили несколько человек копьеносцев, и они громким криком и остриями копий погнали стадо к лесу, где Цезарь должен был ждать их с отрядом избранных конных стрелков. При свирепости и невероятной силе этих животных первая часть предприятия была сопряжена с немалой опасностью, и это заставило сира Реджинальда примкнуть к загонщикам. Иоаннит не обнаружил большого интереса к охоте, но, чтобы не оставаться с Цезарем, спокойным шагом последовал за копьеносцами. Чтобы не спугнуть стадо преждевременно, охотники пошли в обход через лес, окружавший болото, и иоаннит, следуя за ними в след их подков, достиг одного места, где с изумлением остановил лошадь. Лес спускался в одну из тех глубоких лощин, откуда поднимаются скалы, на которых построено большинство городов Кампаньи. На некотором отдалении на вершине противоположной горы живописно раскинулся обнесенный стеной город, увенчанный сильной крепостью. Окружающие его поля были прекрасно обработаны, гора покрыта виноградниками и оливковыми деревьями, а долина волновалась богатыми нивами и роскошными зелеными лугами. Казалось, Церера высыпала в эту счастливую местность весь рог изобилия. Над всем царили такой мир и покой, что иоаннит не мог объяснить себе присутствие этого оазиса в опустошенной области. Очарованный видом, он решил, что эта местность принадлежит какому-нибудь монастырю, святость которого охраняла его владения от опустошения. Предположение подкреплялось еще более зрелищем, которое он мог наблюдать в долине. На опушке сосновой и кипарисовой рощи возвышался высокий готический алтарь, построенный над источником и увенчанный крестом, который с тоской обняла коленопреклоненная дева, а какой-то святой в монашеской одежде старался утешить ее, указывая на небо. Вода источника вытекала из львиных голов, венчавших полукруглые ступени. На верхней ступени стоял доминиканец, и горячо проповедовал что-то собравшимся богомольцам. Алтарь был окружен многочисленными группами крестьян в грубой, но живописной одежде. На загорелых лицах видно было религиозное воодушевление. Среди них находилось немало паломников, которых можно было узнать по розмариновым веткам. Под деревьями стояло несколько солдат. Главная же группа окружала даму, по-видимому, очень знатного происхождения, она сидела напротив проповедника в золоченом кресле, а несколько священников, принадлежавших, судя по их пышному облачению, к высшему духовенству, с епископом во главе, стояли неподалеку от нее. На небольшом расстоянии находились носилки из пурпурно-красного шелка на золоченых столбах. Со своего наблюдательного пункта, несмотря на отдаленность, иоаннит мог видеть то царственное достоинство, с каким дама сидела в кресле. Его любопытство усилилось, когда он заметил, что, при всем окружавшем ее блеске, на даме было платье из грубейшего холста, которое, тем не менее, не могло скрыть красоту ее фигуры. Ее ноги были босы, а грубый черный шерстяной ковер еще более выделял их мраморную белизну. Длинные локоны распущенных золотистых волос шелковистыми прядями ниспадали на ее тело и вместе с рукой, на которую она в религиозном экстазе склонила голову, почти совсем закрывали ее лицо. Зрелище было тем замечательное, что алтарь был украшен по-праздничному, причем на каждом выступе, на каждом украшении висели цветочные гирлянды. Рыцарь увидел перед собой извилистую дорогу, ведущую вниз. Движимый любопытством, он незаметно для себя поехал по ней, как вдруг услыхал позади себя треск и громкий крик. Он обернулся и увидел громадного черного буйвола, который, высоко задрав хвост, несся с горы, между тем как Реджинальд с хохотом и криками галопом преследовал его. Он, конечно, не подозревал, что позади него было все стадо, которое, спасаясь от загонщиков, неслось вслед за своим быком. Иоаннит сразу понял, какой страшной опасности подвергаются погруженные в молитву богомольцы в долине. Пришпорив коня, он с криком: «Буйволы, Буйволы!», поскакал по дороге. В толпе произошло страшное замешательство, в особенности, когда вооруженный всадник не сумел удержать скачущую лошадь, обогнул алтарь, и за ним показалось несшееся в бешенстве животное. Крестьяне в паническом ужасе бросились в разные стороны. Паломники, рабы и священники, не помня себя, кинулись в бегство, и только монах, говоривший проповедь, остался на месте. Остановив, наконец, лошадь, иоаннит увидел, что безоружный монах стоял перед креслом, с которого поднялась дама и бледная, словно презирая постыдное бегство, звала на помощь то Святую Деву, то своих вассалов. Сообразив, что буйвол в своем безумном беге стремился прямо на нее, что от неминуемой гибели ее защищала только тощая фигура монаха, иоаннит на своем могучем коне бросился между чудовищем и покинутой группой. Буйвол был необъятной величины и силы. Это был африканский бык самой крупной породы, покрытый оной шерстью, с маленькими глазами, налитыми кровью, он несся как лавина с горы. Навстречу ему устремился иоаннит, но вовсе не с безумным намерением принять на себя его разъяренный удар. С ловкостью, редкой даже для итальянских наездников, искушенных в битвах, он повернул громко ржавшую лошадь и, выждав момент, когда буйвол несся мимо него, с неимоверной силой направил свою секиру в шею быка, как раз в то место, где позвонок соединялся с мозгом. Буйвол зашатался, и в то же мгновение в его широкую спину вонзилось копье Реджинальда, который скакал с такой стремительностью, что его оружие расщепилось и он сам перелетел через спину буйвола. Но копье пронзило чудовище, и со страшным ревом, от которого, казалось, задрожала земля, оно свалилось на землю. Стадо, следовавшее за ним, при этом реве вдруг остановило свой бег и, охваченное паническим ужасом, повернуло назад. Реджинальд, не чувствуя после падения боли, вскочил на ноги и бросился на помощь к своему собрату по оружию. Но он увидел, что тот соскочил с лошади и с водой в руках побежал к даме, которую доминиканец вместе с креслом поспешно втащил по ступеням, где она упала в обморок. Монах, стоя на коленях, держал в руках ее голову и тщетно тер ей лоб, но даже в это мгновение, когда она бледная и безжизненная, словно мраморная статуя, лежала перед ним, ее необыкновенная красота приводила иоаннита в восхищение и изумление. Ее грубая холщовая одежда, пришедшая в беспорядок, еще яснее подчеркивала ее красоту, а роскошные очертания ее форм и белоснежная нежность ее лица пробуждали фантазию рыцаря, будили неясные грезы. Он откинул свой капюшон и, склонясь над прелестной фигурой дамы, был так занят приведением ее в чувство, будто он был Пигмалионом, старавшимся оживить холодный мрамор. Монах изо всех сил помогал ему, и Реджинальд поспешно вскочил на лошадь, чтобы привести Бембо, обладавшего большими познаниями в медицине. И возвращение жизни в тело прекрасной кающейся как две капли воды походило на оживление знаменитой статуи. На бледных щеках появился нежный румянец, открылись большие, влажные темно-синие глаза с длинными ресницами, и горячий блеск их загоревшийся при встрече с обычно суровым, но теперь почти женственно нежным взглядом очей иоаннита, показал, что сознание вернулось к ней. Грациозным жестом стыдливой нимфы, застигнутой при купании, она прикрыла своим платьем шею, прошептала несколько бессвязных слов благодарности и с усилием приподнялась на руках доминиканца. Ее взор упал на чудовище, лежавшее в луже крови, а затем, с удивлением и горячей благодарностью взглянув на рыцаря, она прошептала: – Синьор, вы не ранены? Тон ее вопроса выдавал, что все свои заботы она перенесла с себя на него. Это, казалось, зажгло бурный пламень в груди иоаннита – принца Альфонсо д'Эсте. – Нет, благородная дама, со мной все в порядке, если не считать страха, что человечество могло лишиться дивной красоты, – ответил иоаннит, который мог, по-видимому, быть любезным, когда хотел. – А мои бедные вассалы и добрый епископ со своей свитой, где они? – со слабой улыбкой обратилась дама к монаху. – Они предоставили вас, дочь моя, вашей судьбе, предоставьте же их своей! Впрочем, они все в безопасности, – ответил монах. – Но садитесь в свои носилки, потому что едут люди, которые, кто бы они ни были, не должны видеть вас в этой одежде, хоть вы и носите ее для совершения святой епитимьи. Дама покраснела еще больше и уселась в кресло, между тем как доминиканец сбежал вниз и приказал народу, который вернулся, вооруженный камнями и дубинами, поднять носилки, брошенные носильщиками на землю. Сам же он с поразительной быстротой поднялся по ступеням и подал кающейся роскошный плащ. Едва она успела накинуть его поверх своей грубой одежды, как сверху галопом прискакал отряд воинов. Среди них находились Цезарь, Паоло, флорентийский посланник и Бембо, которого потащил за собой Лебофор, не обращая внимания на мучительную тряску, испытываемую им на муле. Казалось, воинственная лавина привела кающуюся в беспредельный ужас. Со страхом и недоверием, охватившими даже ее спасителя, она приподнялась в кресле, но силы оставили ее, и она упала бы, если бы иоаннит не удержал ее в своих объятиях. Молящим взором она взглянула на сурового воина, на что он ответил выражением беспредельного восхищения и сердечного участия, и все, увидев их в этом положении, должны были согласиться в душе с поэтическим восклицанием Бембо: – Марс и Венера! Но не успел Бембо слезть с мула, чтобы оказать свои услуги, как Цезарь уже соскочил с коня, взлетел по ступенькам и с диким ужасом закричал: – Лукреция! Сестра моя, дорогая сестра моя, ты ранена? Лишь только Цезарь произнес это роковое имя, и его жгучие взоры, в которых вихрем проносились всевозможные чувства, упали на красавицу и на иоаннита, последний высвободил руку и отошел в сторону. Лукреция бросила на него изумленный взгляд, побледнела, и затем снова покраснела, не только до корней волос, а всем телом. Трудно было не понять выражения, хотя и мимолетного, ужаса, отвращения и даже страха, появившихся на благородном и серьезном лице иоаннита. Однако вслед за испугом и изумлением на Лукрецию, казалось, налетел рой мыслей. Ее прекрасное лицо горело и сияло всевозможными выражениями. Затем она снова побледнела и упала в кресло, словно опять потеряла сознание. Все стали тесниться, чтобы оказать ей помощь, но Цезарь серьезным голосом отдал приказ, чтобы никто не смел подниматься по ступеням, кроме Бембо. Бембо взял оброненную паломником ветвь розмарина и, растирая ее руками, давал Лукреции нюхать сильный запах. Благотворное действие не замедлило сказаться. Лукреция протянула монаху руку, промолвив слабым голосом: – Уведите меня отсюда, отец мой. Я нездорова! – Разве ты не узнаешь меня, Лукреция? Я – твой брат, Цезарь! – воскликнул герцог тоном униженного смирения, совсем необычного для него. – Цезарь? Мой брат? Да, действительно! – ответила Лукреция, без посторонней помощи поднимаясь с места. – Добро пожаловать, брат! Я здорова, совсем здорова, благородный государь, ничуть не ранена. Что угодно здесь вам и вашим солдатам? Знаете ли вы, что своим присутствием вы нарушаете грамоту вольности которую я получила от его святейшества? Зачем наш мирный праздник нарушен таким образом вашими вооруженными воинами? – Не волнуйтесь, дочь моя! Опомнитесь! Герцог ведь случайно попал сюда. Солдаты принадлежат вашему брату, – уговаривал ее доминиканец. – Простите меня, страх совсем лишил меня рассудка! – заливаясь слезами, ответила Лукреция, и с истерическим смехом прибавила: – Нет, нет, нам нечего опасаться нападения нашего брата на наше новое владение! Добро пожаловать, синьор!.. Приветствую вас на родной земле и поздравляю с победами! – Простите меня, моя прекрасная сестра!.. Как я мог предполагать, что здесь, в Непи, я охочусь в вашей области, когда вы ничего не сообщали мне о своих делах? – сказал Цезарь с кажущейся беззаботностью. – Но здесь есть некто, для которого, вероятно, найдется у вас более теплый привет, а именно – синьор Паоло Орсини! Он обернулся и легким, почти презрительным жестом указал на молодого римлянина, который, побледнев от волнения и трепеща всем телом, поднялся по ступенькам и преклонил перед Лукрецией колени. – Синьор!.. Цезарь, это не по-дружески! – с гневным взором проговорила Лукреция, и холодно протянула Орсини руку, которую тот страстно прижал к губам. – Я не в состоянии оказывать такой прием и с вашего разрешения отправлюсь в Непи, куда, к сожалению, не могу пригласить ваше вооруженное общество, потому что городу святейшим престолом даны некоторые привилегии при условии, что всем солдатам, не состоящим на службе повелителя, будет закрыт доступ в него. – Но сначала, синьора, простите невежественного виновника этого несчастья, который лучше тысячу раз готов пожертвовать своей жизнью, чем хоть сколько-нибудь повредить несравненной владычице здешних мест! – с горячим воодушевлением промолвил Лебофор, преклонив колено на самой нижней ступени. – Прощение уже дано вам, прежде чем вы попросили его, и действительно, я думаю, вы ради нашей безопасности рисковали жизнью, благородный чужестранец, не меньше, чем этот храбрый рыцарь, – с достоинством произнесла Лукреция, бросив сияющий взор на иоаннита. – Но он, как истый великодушный благодетель, по-видимому, уже забыл, что он совершил. – Благодарите случай, синьора, а не его слепое орудие, – с серьезным спокойствием сказал иоаннит. – Даже этот инок, безоружный, рисковал своей жизнью, защищая вас! Но, если здесь и есть какая-либо заслуга, то припишите ее к счету синьора Орсини, вашего искреннего слуги и рыцаря, который с радостью готов всем пожертвовать для вас. Я же исполнил только свой долг, за который вы удостаиваете меня благодарности, да и то сделал это больше по необходимости, чем по доброй воле. – Нет, благородный господин и светлейшая донна, мне думается, что только тот – настоящий рыцарь, кто совершает такие дела! – воскликнул Бембо, с восхищением взирая на знаменитую красавицу. – Поэтому мне кажется, что нет никого достойнее быть орлом солнца вашей красоты, чем этот храбрый и неустрашимый герой, мой дорогой друг, самый благородный рыцарь Феррары. Взгляд Лукреции снова упал на иоаннита, и в ее и гордом, и молящем взгляде, было что-то неописуемо прекрасное. Губы ее дрогнули, и слезы затуманили огонь ее очей. – Вы забываете мое одеяние, дорогой каноник, – с удвоенной строгостью ответил иоаннит. – Я – не менее монах, чем рыцарь – воин Христа, службу которому я не должен осквернять ничем земным! Но здесь дело иное. Ведь, если эта дама не жительница неба, что можно предположить по ее красоте, так за кого же мы должны считать ее? – Ну, если бы в вашем лице сам голубой орел Эсте превратился в монаха, это было бы сказано слишком по-монашески! – пытливо глядя на рыцаря, произнес Макиавелли, намекая на герб герцогов Феррары. – Макиавелли, величайший гений Италии, сердечно приветствую вас! – с внезапной живостью воскликнула Лукреция, когда флорентиец подошел к ней поцеловать руку, которую она дружески протянула ему. В эту минуту раздался глубокий печальный голос доминиканца: – Дочь моя, тебе не прилично в этой одежде кающейся показываться такому светскому обществу и не согласно с наложенной тобой на себя епитимьей. Носилки ждут тебя и стража готова. Все взоры обратились на него, хотя в его словах не было ничего особенного, но тон их был требователен и грозен. Художник увидел бы в этом старике прекрасную модель для апостола Павла. – Но в Риме мы снова встретимся все, и там, рыцарь, сам святой отец будет благодарить вас за спасение жизни, которую он ценит больше, чем она стоит, – сказала Лукреция с подкупающей кротостью и прелестной улыбкой. Иоаннит ответил молчаливым поклоном, краска гнева и стыда снова залила лицо Лукреции. Она поспешно спустилась по ступенькам к носилкам, у которых стояли солдаты. Цезарь хотел было помочь сестре сесть, но она, словно не замечая его движения, протянула руку флорентийскому посланнику, и он почтительно усадил ее. Казалось, она хотела удалиться без дальнейшего прощания, но вдруг обернулась и еще раз с грацией и величием недоступной богини, склонила вновь свою прелестную головку. Однако, среди всех голов в шлемах и перьях, почтительно склонившихся перед ней, ее беглый взгляд искал лишь статную фигуру иоаннита. Затем она опустилась на место. Солдаты, по данному монахом знаку, понесли носилки, и вскоре от прерванного праздника не осталось других свидетелей, кроме окровавленного буйвола и украшенного цветами алтаря. – Ну, и скупа же, шурин, на ласку сестрица! – проговорил Цезарь, дружески хлопнув замечтавшегося Паоло по плечу. – Клянусь ключами святого Петра, вы должны быть благодарны, что наш собрат по оружию – столько же монах, сколько рыцарь, а то он мог бы быть опасным соперником! Паоло рассеянно улыбнулся, но его угрюмый взор с недоверием скользнул по иоанниту. Рыцари снова сели на коней и, оставив в покое буйволов, весь отряд вновь направился в путь. К общему удивлению, сир Реджинальд, обыкновенно такой живой и веселый, долго оставался задумчивым и молчаливым. Иоаннит же, напротив, сделался очень разговорчив, как будто хотел отогнать тревожившие его мысли. Он впервые завязал разговор с Цезарем и, казалось, находил особенное удовольствие в шумной веселости герцога, говорившего о последнем приключении и сравнивавшего его с подвигами древних паладинов, для которых сражение с чудовищами было делом обычным и нетрудным. Но, когда Бембо в своих поэтических хвалебных гимнах необыкновенной красоте Лукреции перешел всякие границы, когда даже Макиавелли присоединил свои довольно двусмысленные похвалы, Альфонсо снова впал в свою прежнюю серьезную задумчивость. Из равнодушия его вывело, наконец, замечание Орсини. – Хорошо ли вы рассмотрели доминиканца, достопочтенный брат? – спросил он. – Походил ли он хоть немного на странствующего монаха, который навел вас на мой след? – Мы не разглядели его лица, но его глубокий голос и его фигура навели и меня на эту мысль, – с глубоким вздохом ответил иоаннит. – Тогда, Цезарь, я могу, пожалуй, льстить себя надеждой, что даже Лукреция не совсем равнодушна к моей судьбе. Еще же я вынужден предположить, что именно ее духовник встретился мне и предупреждал меня не идти через Апеннины, – проговорил Орсини, выходя из печальной задумчивости. – Ну, а так как вы это предупреждение оставили без внимания, то, вероятно, моя же сестра послала бандитов, чтобы еще чувствительнее наказать вас за недоверие, брат Паоло! – с язвительной улыбкой ответил Цезарь. – Нет, уж предоставьте эту честь духу святого Гвидобальда, в противном случае доброго духовника пришлось бы считать плутом или дурачком, если он пускается на такие авантюры. Не пытайтесь разгадывать эту загадку, а то, чего доброго, вы придете к заключению, что моя сестра нарочно послала своего духовника с предупреждением для того, чтобы вы были подальше от нее. Сир Реджинальд расхохотался, поняв намек, но далеко не так громко и весело, как раньше. Скоро лес стал редеть, и путники снова очутились на открытой равнине Кампаньи, Солнце палило невероятно, и нигде не было местечка, чтобы укрыться от знойных его лучей. Вдруг Мигуэлото выехал вперед и отдал приказ остановиться, не объясняя причины. Однако вскоре она стала понятна. Блеск копий и знамен в тылу колонны возвестил о приближении другого воинского отряда. (обратно)ГЛАВА XIV
Остановка произошла на вершине холма. Вдали внезапно показались стены и башни Вечного города, а кругом лежала вулканическая и болотистая пустыня. Путешественники обернулись и с опасением следили за приближающимся отрядом. Цезарь при остановке вынужден был развернуть свои ряды, противник тоже остановился, как будто только теперь заметив, что перед ними находятся очень значительные силы. Через несколько минут Цезарь отдал приказ Мигуэлото выехать навстречу незнакомцам с белым флагом и от имени герцога спросить их, кто они и что им надо. Но почти одновременно из противоположных рядов появился герольд в пестрой одежде, с серебряным жезлом и уверенно, как подобает его сану, поднялся на разделявшую их возвышенность. Цезарь выехал к нему и герольд, сейчас же склонившись перед ним, обнажил голову и произнес ясно и четко: – Могущественнейший государь, или кто бы вы ни были, мой повелитель, Вителлоццо Вителли, господин Читта да Кастелло, благочестивый паломник на святой праздник великого юбилея, желает знать, кому он посылает свой мирный привет, дабы не встретить неудовольствия, если вы думаете иначе. Среди слушателей немногие были довольны этим приветствием. Вителлоццо был главой могущественной фамилии Вителли, мятежных ленников святого престола, самых опасных и сильных благодаря тому, что их громадные владения помещались вне римских пределов. В союзе дворян против притязаний Александра VI Вителли представляли наибольшую опасность и были, кроме того, родственниками Орсини, и, следовательно, изгнанных из Флоренции Медичи. С Медичи их объединяла еще ненависть, которую питал к флорентийцам глава фамилии за смерть брата, командовавшего на флорентийской службе наемными войсками, и казненным вследствие действительной или предполагаемой измены. Немецкая конница Вителлоццо была главной причиной поражения папских войск в битве при Браччиано, и с тех пор его гордость и высокомерие стали так велики, что он, по слухам, намеревался сместить Александра с папского престола. Таков был паломник, который в сопровождении почти тысячи могучих всадников появился на пути в Рим на великий юбилейный праздник христианского мира. Несмотря на неприятное ощущение от этого известия, Цезарь не задумался ни на минуту и, ничем не обнаруживая своих истинных чувств, воскликнул радостным голосом: – Слышите, синьор Паоло? Наше счастье достигло своего апогея и наш мир действительно будет написан алмазами, если благородный Вителли подпишет его, или, по крайней мере, приложит к нему свою печать, ведь насколько мне помнится, он всегда хвалится, что не умеет писать. Но для чего на мирный праздник церкви он захватил такое большое войско? – Предоставьте мне, герцог, спросить его об этом, и заключить между вами братский и союзный договор! – сказал с готовностью Орсини. – Союз и братство! Вителли – вассалы святого престола, а я – его полководец! – гордо произнес Цезарь, но, осмотрев еще раз многочисленные ряды противника, с веселой улыбкой прибавил: – ну, идите, дорогой брат, но не затягивайте слишком Долго своих переговоров, а то солнце совсем изжарит нас. – Ступайте вперед, герольд! – проговорил Орсини и, торжествующе и значительно посмотрев на Реджинальда, отправился вслед за вестником. – Я не знаю, как мне быть, – едва слышно прошептал Цезарь наперснику, – у нас несомненное преимущество в численности, но я сомневаюсь, чтобы мы могли выдержать натиск этих светловолосых варваров. Кроме того, будет небесполезно показать его святейшеству, что мы, несмотря на все, можем еще оказывать государству некоторые услуги. Да и флорентийцы пусть видят, что наша дружба – по меньшей мере – лед, который может сковать этот поток, чтобы он не смыл их. В это время к нему подошел Макиавелли и с саркастическим, и вместе с тем, недовольным выражением проговорил: – Ах, герцог, из вашего могущества вы сделаете детскую игрушку, если согласитесь, чтобы это вражеское войско соединилось в Риме с мятежными Орсини и другими дворянами! – Успокойтесь, дорогой друг! Что я могу поделать? Мое же время может настать и настанет ! Не силой убивают несущегося на вас быка! Разве вы не видите, что эти всадники – дикари с Эльбы и Дуная? Если мы будем побеждены, тогда Вителлоццо действительно может идти в Рим и – сохрани Бог! – перед лицом всего христианского мира свергнуть нашего святого отца с престола! – Паломники ни в коем случае не допустили бы до этого! Они собрались из отдаленных стран и не знают, чем можно было бы оправдать такое поношение Неба в лице Его земного наместника! – улыбаясь, ответил Макиавелли. – Поверьте, дорогой маэстро, я уступаю, как волна, гонимая ветром. – Рослые ребята, что и говорить! – взглянув на всадников, снова начал Макиавелли. – Но почему вы не вербуете своих солдат в Англии? Там люди еще сильнее и крепче. – Я уже думал об этом, но англичане – такой дикий и недисциплинированный народ, что ими не могут управлять даже их короли. Но смотрите, наш миротворец, наш влюбленный миротворец, кажется, выполнил свою миссию удачно, он направляется к нам вместе с великаном. – Меня удивляет, как этот допотопный конь выдерживает его, – неудовольствие послышалось в голосе Макиавелли, когда огромная фигура Вителлоццо появилась невдалеке. Необъятный полководец был почти семи футов роста и ехал верхом на таком же громадном коне. На его шлеме, более похожем на бочку, чем на головной убор, развевался черный султан из перьев. Вителлоццо ехал за Орсини, только в сопровождении двух копьеносцев. Отъехав на расстояние выстрела от своих всадников, он внезапно остановился, и его громкий голос донесся даже до Цезаря: – Нет, клянусь святым Павлом, я не сделаю ни шага дальше, пока не увижу своими глазами, что здесь нет никакого подвоха! Паоло, казалось, стал уговаривать его, но Цезарь, приказав Мигуэлото оставаться на месте, один выехал навстречу своему подозрительному гостю. Это кажущееся доверие, по-видимому, больше подействовало на Вителлоццо, чем все красноречие Орсини. – Добро пожаловать, благородный герцог! Клянусь душой, вы один?! – воскликнул он, словно не веря своим глазам. – Я никогда не верю наполовину, Вителлоццо, – возразил герцог. – А вот мне сдается, что вы не особенно доверяете обещаниям нашего святого отца, если берете с собой на юбилей более тысячи копий. – Наш святой отец обещал защищать только тех, кто сам не может защитить себя, – ответил Вителлоццо, снова принимая свое обычное грубое и упрямое выражение. – Кроме того, мы слышали о пленении разбойниками нашего дорогого друга Паоло, а не о его освобождении. Одним словом, мы хотели предоставить возможность и нашим болванам принять участие во всеобщем отпущении грехов. А уж как они нуждаются в нем, известно одному Богу! – Но после того как я сообщил условия нашего Договора, а храбрый Вителлоццо принял их, его боевые силы только увеличат ваше войско, Цезарь, – сказал Орсини. – Пусть так! – ответил герцог с вежливым поклоном, словно не замечая нерешительного выражения на лице Вителлоццо. Великан что-то неразборчиво промычал и затем прибавил: – Но, как мы слышали, вместе с вами посланник флорентийской сволочи, а у меня – изгнанный князь – Пьетро ди Медичи! Это известие повергло Цезаря в некоторое смущение. – Так что же? Прекрасно! – после краткого размышления сказал он. – Пьетро – такой же паломник, как вы, и направляется в Рим, и как такового отец всего христианского мира может приветствовать его, не оскорбляя ни людей, ни государства. В это время к ним приблизился высокий, статный рыцарь в полном вооружении, но без шлема. За ним следовал единственный оруженосец с синим знаменем, вышитым золотыми шарами – гербом Медичи. Случайно в эту же секунду к герцогу присоединился и Макиавелли, так что изгнанный князь и посланник республики встали лицом к лицу. Последовала короткая пауза. – Мессир Никколо Макиавелли? – мягко произнес Медичи, ученый и храбрый муж. Я рад видеть вас. – Я – посланник Флорентийской республики, синьор, – серьезным тоном ответил Макиавелли. – Но я точно так же рад видеть вас здесь. – Хо-хо-хо, мессир Никколо, как понравилось вашим согражданам мое последнее посещение Вальдарно? – с мрачным хохотом спросил Вителлоццо. – Настолько понравилось, что они вскоре ответят на него, – отвечал посланник. – Я думаю, все казни египетские не могли бы лучше хозяйничать в стране, – продолжал великан. – Ну нет, вы уж слишком стараетесь из-за одного! Тень вашего убитого брата должна уже быть теперь удовлетворена! – сказал Цезарь, нарочно вызывая это воспоминание в его памяти. – Бывают, герцог, люди, которые кровь родного брата ценят так же, как купцы свои товары, – мрачно ответил Вителлоццо. – Имя своего брата я уже вписал на каждой пяди флорентийской земли, и надеюсь еще яснее написать его во Флоренции! – Успокойся, успокойся, Вителло! – прервал Медичи своего недипломатичного союзника. – Я не премину поставить об этом республику в известность, – заметил Макиавелли. – И вы можете еще в таком случае прибавить, – дрожа от гнева, снова громко завопил великан, но Медичи снова перебил его: – Нет, мой добрый Никколо, поезжайте лучше рядом со мной, и мы будем говорить о таких вещах, которые могли бы положить конец этой ужасной распре. – Да, благородный господин, но, как мы видим, пилюли позолочены, – кидая насмешливый взгляд на знамя, сказал Макиавелли, – однако, уверяю вас, что Флорентийская республика опять проглотит их! – Господа, господа! – воскликнул Бембо, присоединяясь, наконец, к группе. – Когда же мы доберемся до Рима, если проболтаем здесь до захода солнца! Я думаю, не пойти ли вам всем вместе дальше, а будущее предоставить Господу нашему... И так как всем было ясно, что дальнейшее не приведет к добру, все решили последовать его предложению. Цезарь, как будто не желая стеснять друзей своим присутствием, заявил, что поедет вперед в Рим в качестве их герольда, и, вернувшись к своему отряду, дал приказ трогаться в путь. Прошло несколько времени, прежде чем войско Вителлоццо последовало его примеру. – Неужели ты думаешь, что я когда-нибудь стану терпеть надменное высокомерие этого быка в полном вооружении? – сказал Цезарь, заметив мрачный взор Макиавелли. – А что касается Медичи, то я не забыл тот день, когда ездил во Флоренцию, хлопотать за жизнь одного из моих слуг, нечаянно убившего в ссоре флорентийского гражданина. Отец был тогда простым кардиналом, только еще мечтавшим о папской тиаре, а Пьетро Медичи был в полном блеске счастья! Честное слово, Никколо, я целый день ожидал у него в прихожей вместе с его лакеями, а к вечеру он велел передать мне, что занят и не может принять меня! Занят, черт возьми! Тогда я уехал, предоставив своего беднягу-слугу его милосердию, а он приказал колесовать его! Колесовать моего самого верного слугу! При этом воспоминании о перенесенном оскорблении, которое, как было известно, Цезарь никогда не простит, Макиавелли немного успокоился. Между тем, Рим со своими бесчисленными башнями и зубцами все яснее выступал в сверкающем воздухе. По равнине со всех сторон к городу то группами, то в одиночку тянулись благочестивые пилигримы всех сословий. Казалось, только узкая полоса Тибра отделяла Цезаря и его спутников от цели их путешествия. – Рим! Рим, мой Никколо! – воскликнул Цезарь с воодушевлением, редко им выражаемом. – Вот она, развенчанная царица мира, которая возложит венец на главу рыцаря, когда тот вырвет его из подлых рук, сорвавших его с нее! Клянусь святым престолом, эти круглые стены со своими башнями кажутся мне громадной золотой короной, плавающей в воздухе! – Не гробница ли это Нерона? – холодно спросил Макиавелли, указывая на одинокую развалину. – Да, и крепость Франджипани! Разве ты не видишь их знамени с преломленным хлебом? Но что означает эта толпа на мосту? – Как будто это – какая-то процессия, окруженная народом, – ответил Макиавелли. – Но вот идут путешественники, которые, несомненно, объяснят нам все. На мулах к ним приближались два человека, причем на одном были шапочка и облачение епископа. За ними следовало несколько рыцарей, богатое вооружение которых блистало золотом на солнце. – Честное слово, это – мой друг Датарий, епископ Мадены и царь финансистов! – воскликнул Цезарь. – А рядом высокопарный дурак, Иоанн Страсбургский, церемониймейстер его святейшества. Если бы врата царства небесного были открыты для всего человечества только полчаса, он стал бы терпеливо ждать, пока очередь по старшинству не дошла бы до него. Тем временем оба путника были так близко, что их можно было рассмотреть. Датарию было лет под шестьдесят. Он был небольшого роста, худощавый и сутуловатый, и удивительно походил лицом на лису. Другой был очень тучен, причем его широкое, плоское и жирное лицо сияло самодовольством и глупостью, составляя удивительный контраст с острыми чертами епископа. Это был Иоганн Бурхард, папский придворный, дневник которого сохранился до наших дней, подтверждая своим свидетельством некоторые невероятные подробности нашей правдивой истории. – Бурчардо! – воскликнул Датарий, хлестнув своего мула, – вон герцог! – Не может быть! Без надлежащей свиты? – сказал церемониймейстер. – И впереди всего своего войска? – Тем не менее, это так. Во всей Италии нет таких других глаз, которые сияли бы так же, как эти, – ответил Датарий, понукая мула. – Вам неприлично торопиться, ваше преосвященство! – сказал Бурхард. – Каждому человеку, по крайней мере, умному человеку, при таком счастливом случае прилично показать свое усердие, – ответил епископ, и остановился за шаг от того места, где стоял Цезарь с флорентийцем. Последовала длинная процедура приветствий, и Датарий сообщил герцогу, что его святейшество повелел встретить его со всеми почестями, и что на Понте Молле его ожидает процессия. – Его святейшество приказал также устроить большую иллюминацию и пышные торжества, которые ваша светлость, надеюсь, извинит, принимая во внимание, как мало времени было для их организации, – напыщенно проговорил страсбургский декан. – Кроме того, я должен проводить вашу светлость во дворец Колонна, который его святейшество подарил вам и назначил для вашего пребывания. – Во дворец Колонна? Разве в Ватикане не нашлось места для простого солдата? – воскликнул Цезарь с мрачным взором. – Ваша светлость, светлейшая супруга ваша живет во дворце Колонна, и только там свита вашей светлости может быть размещена соответствующим образом, – ответил Бурхард, трясясь всем телом от грозного взгляда. – Святой дворец наполнен высокими паломниками и завтра туда еще ожидают вашу благородную сестру, донну Лукрецию. – Донна Лукреция в Ватикане! – воскликнул Цезарь. – Какой скандал! Скажи пожалуйста, Бурчардо, случилось ли тебе во всей твоей практике, в твоих изысканиях папских хроник, натолкнуться на такой случай, чтобы на глазах всего мира женщина жила во дворце святого Петра? – Разве вы никогда не слышали о папине Иоанне? – прошептал Макиавелли, но Бурхард состроил глупое и испуганное лицо и ничего не ответил. – Но так как святейший отец не может ошибаться, то мы должны подчиниться его воле, отложив дальнейшие изыскания, – с горькой иронией проговорил герцог. – Спешите, почтенный Бурчардо, и возвестите этим зевакам мое прибытие. А ты, дон Мигуэль, – обратился он к своему полковнику, когда папский церемониймейстер удалился, – поезжай назад и скажи Орсини и его спутникам, чтобы они ехали сюда и, как братья, приняли участие в моем триумфе. Да не забудь подробно рассказать новость, что в доме первосвященника будет жить женщина. Итак, святой отец желает, чтобы между нами, протекал Тибр? – обратился он к Датарию, когда ускакал его услужливый наперсник. – Да, и ваша милость не может переправиться через него без особого разрешения, – с коротким смехом ответил епископ. – Старый Пикколомини, которого святой совет назначил губернатором города, когда Орсини при известии о несчастии с синьором Паоло взялись за оружие, назначил в замок Святого Ангела нового полковника. – Для чего же тогда его святейшество сделал меня пожизненным главнокомандующим? – скрежеща зубами, промолвил Цезарь. – Сейчас, благородный господин, необходимо, чтобы вы посетили нас, – продолжал епископ. – Его святейшество окружают люди, которые стараются посеять между вами раздор и все, что бы вы ни сделали, представляют в неблагоприятном свете. Удивительно, как он теперь хлопочет о брачном союзе донны Лукреции с Паоло Орсини, с тех пор, как расстроились переговоры об этом же с Феррарой. – Моя сестра – вдова уже целый год! У его святейшества прекрасные основания! – ответил Цезарь. – Но уж я разделаюсь с этими советниками! Вы не слыхали в Риме о веселой комедии, которую я сыграл с синьором Ремиро в Ронсильоне? Епископ с улыбкой вскинул на герцога острый взор иотрицательно покачал головой. Но, когда Цезарь с поистине дьявольской веселостью, рассказал ему ужасную историю, у министра финансов пропала с лица краска, словно он был близок испытать такую же судьбу, какая выпала на долю Ремиро. – Ну, вы не смеетесь, синьор? – спросил Цезарь бледного министра. – А все же нет ничего приятнее поймать негодяя в его собственной ловушке. – Охотно верю, ваша светлость, это в высшей степени приятно. Но я не знаю, что подумает его святейшество, – заметил Датарий. – Таким вот образом из двойственного политика легко можно сделать двоих, – с ироническим хохотом сказал герцог. – Но я представлю такие доказательства его виновности, которые будут достаточны для духовного суда неверующих иудеев! Но что вы говорили! Орсини обнажили свои мечи? – Весь Рим волновался. Даже Колонна осмелились показаться на свет Божий. Конти, Ченчи, Сальвати забаррикадировали свои улицы. От ужаса мы все потеряли голову, только его святейшество оставался спокойным. С балкона Ватикана он уговорил смущенных паломников и уверил их, что никто из них не был схвачен. – Старые развалины почти заполнились массой народа, – сказал Цезарь, с удовлетворением осматривая толпы народа, покрывавшие дорогу от реки до городских стен. – К сожалению, они невероятно скупы и не хотят ничего пожертвовать в возврат расточительной благотворительности святого отца, – уныло возразил хищный министр. – Вот как? – механически произнес Цезарь, очевидно, занятый своими мыслями. Датарий оправился теперь от испуга, и начал хохотать, будто вспомнил что-то очень смешное. – Вот вы удивитесь, благородный господин, когда увидите лиссабонского кардинала. Он, изо всей святой коллегии больше всех любивший пышность, ходит теперь без свиты и почти в лохмотьях. Послушайте, как это случилось. Он думал, что уже близок к смерти и, чтобы не оставить своих богатств церкви, роздал всё своим родным и слугам. Но небо услышало их лицемерные молитвы и в наказание за его обман послало ему исцеление. Между тем, неблагодарные негодяи из всех его сокровищ не захотели подать ему даже милостыню, и теперь он – нищий. Это – яркий пример для тех, кто думает обмануть святую сокровищницу! Перед взорами возвращающегося полководца развертывалось великолепное зрелище. Река была покрыта раззолоченными гондолами, которые своими разукрашенными носами, пестрыми знаменами и расписными килями тешили взор на золотистых волнах. Над мостом возвышалась триумфальная арка, сооруженная из лавровых ветвей, копий и труб. Здесь собрались знатные особы, назначенные для встречи герцога, кардиналы в красных мантиях, верхом на мулах, римские дворяне, из менее знатных фамилий, в блестящем вооружении и ярких плащах, прелаты в священническом облачении, многочисленные слуги, пажи и лакеи в великолепных ливреях. Все это было окружено рядами испанской папской гвардии. По ту сторону моста вся дорога была усеяна движущимися во все стороны толпами народа. То были дворяне со своими вооруженными приближенными, послы чужестранных государств, с национальными знаменами, в сопровождении герольдов и блестящей свиты, городские цехи со значками, префект города Рима с белым знаменем, а со всех сторон на стенах, на выступах холмов, находилось бесчисленное множество простых зрителей. Герцог едва успел бросить беглый взор на эти приготовления, как к нему подъехали Паоло Орсини с сиром Реджинальдом и дон Мигуэль. – Вителлоццо просит извинить, герцог, – нерешительно сказал Паоло. – Он не решается кому бы то ни было передать командование своими варварами. – О, он все еще не доверяет нам? – печально спросил Цезарь. – Неужели нет средств, которыми можно было бы убедить его в нашей искренности? Мы будем тогда просить его ехать в город впереди нас и поселиться вблизи дворца Колонна, так как не желаем никакой другой охраны, кроме его храбрых варваров. Идите, дорогой Паоло, и скажите ему это! – Так значит дворец Колонна конфискован? – смущенно спросил Паоло, хотя это известие говорило о полном разорении фамилии, с которой его род так долго вел упорную войну. – Полагаешь ли ты, брат, что было бы умно оставить гнездо, когда истреблены осы? – возразил Цезарь. – А где благородный иоаннит? Ему следовало бы разделить с нами эту пышную встречу. – Он остался далеко в арьергарде, чтобы на свободе отдаться своим мрачным мыслям, – угрюмо ответил Паоло, и после краткого раздумья поспешно отправился к Вителли. – Могу ли я просить вас, благородный английский рыцарь, возвестить о нашем прибытии нашим друзьям на мосту? – с такой утонченной вежливостью промолвил Цезарь, что сир Реджинальд не мог отказаться и, хотя и с неудовольствием, исполнил обязанности герольда, поскакал к мосту. – О, мой Никколо, не беспокойся, когда-нибудь я отомщу за твоих республиканцев! – прошептал Цезарь, и в его глазах засветилось так долго подавляемое бешенство. – Может быть, ваша светлость прикажет разбить палатку, чтобы ради этих торжеств одеть какой-нибудь блестящий костюм? – спросил Мигуэлото. – Не знаю, какой из моих нарядов мог бы выделиться среди этого пурпура и блеска, – сказал герцог. – Чтобы здесь быть замеченным, надо одеться попроще. Я одену свое самое плохое платье – черный шелковый камзол. Тот самый камзол, который был на мне на похоронах герцога Гандийского. Это – траур по брату, который заткнет болтунам их лживые рты, и все в моей свите пусть будут одеты в траурные костюмы. Палатка была наскоро разбита в стороне от дороги. Тем временем тяжелой рысью проехали всадники Вителлоццо. Пришел ли Вителлоццо, несмотря на свое недоверие к Цезарю, к убеждению, что ему неловко отклонить его просьбу, или, может быть, именно поэтому рассеялись его опасения, но он согласился и, несколькими минутами раньше Цезаря проехал через Понте Молле. В своем черном шелковом камзоле, украшенном лишь тяжелой золотой цепью, герцог выделялся более, чем это удалось бы ему в его самом блестящем наряде. Берега Тибра, бывшие так часто свидетелями возвращавшихся победителей, снова огласились приветственными криками. Пьетро Медичи с опущенным забралом проехал вместе с Вителлоццо в город, и по сторонам Цезаря ехали только Орсини и Макиавелли. Мигуэлото с тайным поручением был отправлен в арьергард. Лишь только герцог стал приближаться, церемониймейстер, ожидавший подходящего момента, поклонился особам, которые должны были первыми встретить Цезаря Борджиа, и в ту же минуту три кардинала выехали на своих мулах вперед. Первый был человек почтенный и его спокойное, сосредоточенное лицо привлекало к себе благочестием. Двое других были еще молоды, но оба прекрасно сложены, один выделялся серьезным и гордым достоинством, другой – бурной живостью, более подходящей рыцарю, чем священнику. Первый был кардинал Медичи, впоследствии папа Лев X, другой – кардинал Адриан Корнето. Приветственные крики раздались снова и смолкли, когда кардинал и герцог встретились, и достопочтенный прелат преподал ему благословение церкви, а затем в латинской речи стал прославлять его геройские подвиги. Цезарь Борджиа слушал с обнаженной головой, смиренно склонясь над лошадью, благодаря чему торжественная речь несколько раз прерывалась ее громким ржанием, что вызывало сердитые взгляды церемониймейстера. Не успел старый кардинал окончить свою речь, как к поезду, несмотря на предупреждения Бурхарда, приблизился почтенный дворянин, в сопровождении одного кардинала, одного прелата, нескольких кавалеров и двадцати лакеев в красных и белых ливреях с гербами Орсини. Все были пеши. Последние слова приветствия были прерваны объятиями Паоло Орсини и его родными. Почтенный дворянин был его отец, герцог Гравина. Понятие о могуществе этого дома можно было составить, если представить, что среди тех Орсини, которые теснились, чтобы приветствовать наследника их главы, находились семь баронов, один кардинал, один архиепископ и множество подчиненных дворян, которые, тем не менее, все обладали вблизи Рима или замками, или укрепленными крепостями. Сморщенные щеки старого Гравина были орошены слезами, несмотря на все его усилия скрыть их. Глубокие рыдания потрясали его старческую грудь, когда он прижимал к сердцу сына. Даже Цезарь, казалось, был тронут, он отвернулся в сторону, как бы желая скрыть свои чувства, но те, кто внимательно наблюдали за ним, видели в его чертах скорее иронию, чем нежность. Бурхард предложил посланникам принести свои приветствия, и дипломатический корпус немедленно пришел в движение, причем каждый стремился выехать вперед, церемониймейстер же громким криком пытался привести в порядок расстроенные ряды. Английский посланник, человек серьезный и представительный, в сопровождении свиты молодых кавалеров, выехал вперед с такой стремительностью, что очутился в одно время с послом императора, который по положению имел преимущественное право на первое место. Произошло всеобщее замешательство, и прочие посланники приблизились к герцогу со своими приветствиями в таком беспорядке и с такой торопливостью, что Цезарь, смеясь, воскликнул: – Эй, господа, вы сломаете друг другу шпоры! – Никто не посмеет коснуться моих, прежде чем он размозжит мне голову! – с бешенством сказал испанский посол. – Испанцы привыкли хвастаться! – возразил французский посол, блестящий рыцарь, гордо сидевший на коне, и бросил презрительный взор на испанца. – Ах, мой благородный д'Обиньи! – поспешно воскликнул Цезарь, протягивая руку послу могущественной державы, которую он так недавно оскорбил. – Никогда вид твоего победоносного шлема не доставлял мне большей радости, я вижу, что на нашем мирном торжестве ты являешься в полном вооружении. – И я не сниму его до тех пор, пока не получу приказов от своего короля из Милана, – гордо ответил француз, и Цезарь отвернулся от него, чтобы приветствовать испанца. Пока посланники поздравляли герцога, Орсини искал в толпе своих спасителей, чтобы представить их отцу. Но Реджинальд, оскорбленный Цезарем, переехал мост, а иоаннит уже давно не показывался. Бурчардо, предоставив сперва посланникам время для их приветствий, нашел нужным закончить их и, вмешавшись в толпу, заявил герцогу, что его царственная супруга уже давно ждет его на другом конце моста. Супруга Цезаря ожидала его, сидя на иноходце, покрытом белым шелком. Два конюха в расшитых золотом ливреях держали его под уздцы. Над ней был раскинут пурпурный балдахин с французскими лилиями и королевской короной, который поддерживали четыре рыцаря. Это была молодая живая француженка, кокетливая и вертлявая, но при виде своего страшного супруга она притихла и побледнела. Ее окружал сонм прекрасных женщин, из которых состояла ее свита, и гордые жены римских патрициев. – Смотрите-ка, сосед, как он целует у нее руку, глаза-то рыскают среди ее придворных дам! – сказал в толпе рыцарь уродливому карлику, который стоял рядом и с улыбкой злобной радости хихикал и почесывал себе голову. – Так как же иначе-то, сосед! – ответил карлик. – Ведь для него они все – более старые знакомые, чем эта северная девушка. Разве вам не известно, что Цезарь, чтобы избежать скандала, весь свой гарем назначил в свиту своей жены? В это мгновение шум, поднявшийся в толпе, привлек всеобщее внимание! При переезде через мост посланники затолкали друг друга и, переехав на другую сторону, почти окончательно перессорились. Каждый упрямо отказывался уступить другому. Только с послом императора не вступали в спор из-за первенства, но зато послы Франции, Испании, Англии, Неаполя и Наварры с жаром оспаривали друг у друга первое место. Напрасно Бурхард приводил тысячи доказательств, по которым ясно было, кому какое место принадлежит в процессии. Его голос заглушался общим шумом. Уже обнажились и сверкнули в воздухе мечи. Еще немного – и началась бы жестокая схватка. Тогда дряхлый кардинал Сиенский направил своего мула между спорившими и готовившимися вступить в схватку посланниками и воскликнул: – Разве вы не знаете, безумцы, что отлучение от церкви и вечное проклятие ждут всякого, кто в эти святые дни христианской любви и всепрощения обнажит меч или кинжал, или поразит кого-нибудь в слепой вражде копьем? Эти слова произвели мгновенное действие: поднятые копья опустились, мечи были вложены в ножны и, хотя и неохотно, но все еще бросая свирепые взоры, рыцари заняли назначенные им места. Тогда английский посланник заметил принимавшего участие в общей свалке Реджинальда и, радостно приветствовал земляка, пригласил его к себе во дворец. Но в то же мгновение появился Паоло Орсини. Он издалека услышал голос своего друга и так энергично стал упрашивать его поехать к нему, что Лебофор отклонил приглашение посланника и принял приглашение Орсини, в особенности, когда узнал, что Паоло нашел Бембо и поручил ему пригласить иоаннита. Поезд герцога, наконец, тронулся и, несмотря на спускавшиеся сумерки, представлял блестящее зрелище. В тот момент, когда процессия подошла к городским стенам, на всех римских церквях зазвенели колокола, и звон не прекращался, пока процессия двигалась по городу. В то же время на всех семи холмах засияли бенгальские огни и над темными кипарисами, дворцами и руинами загорелись огненные пирамиды. По обеим сторонам Корсо дворцы были украшены драгоценными коврами и знаменами, через улицу были перекинуты триумфальные арки с символическими приветствиями. С Корсо процессия, чтобы попасть к замку Святого Ангела, повернула на площадь Навона. В этом квартале помещалась главная резиденция Орсини – громадный четырехугольник, окруженный дворцами самых значительных вассалов этого знаменитого рода, все же улицы были заселены или их ленниками, или их клиентами. Здесь же находились их крепость Монте Джордано и дворец Массими, их верных союзников и родственников. Квартал тянулся до поворота реки против островов, где на развалинах театра Марцелли возвышалась их сильная крепость, которую они скромно называли палаццо Орсини. Все это было укрепленным лагерем, узкие и мрачные улицы которого были заграждены цепями, а на каждом повороте грозили отверстые жерла пушек. Процессия выехала на площадь. Кругом было тихо, темно и жутко. Вдруг заревели трубы. Точно по волшебству на середине площади до самых крыш взвились ракеты и с мостовой, словно из-под земли, выскочили вооруженные люди с гербами Орсини. Цезарь невольно вздрогнул в седле и схватился за кинжал, но в следующее же мгновение он убедился, что здесь не было никакой измены, и сам присоединился к раздавшимся крикам: «Орсо! Борджиа! Орсо!» Но, несмотря на такой торжественный прием, Цезарь почувствовал облегчение, когда они миновали квартал Орсини и приближались к мосту Святого Ангела. Однако при виде реки он внезапно побледнел, и его глаза сверкнули недобрым огоньком. Одни в этой перемене видели действие воспоминания об ужасном преступлении, ибо как раз перед ними возвышалась гробница одного из бывших властителей мира, куда положили труп его брата, герцога Гандийского после извлечения его из Тибра. Другие же, настроенные более дружески, считали это выражением волнения и печали, какими наполнилась его душа при сравнении своего славного триумфа с ужасной судьбой брата. Но все эти предположения вскоре были вытеснены событиями более важными. Посреди обширной площади, перед мостом, полки Вителлоццо остановились словно в боевом порядке. И Цезарь был чрезвычайно удивлен и раздосадован этой внезапной задержкой. Однако, к нему сейчас же подъехал Вителлоццо и с торжествующим лицом, но голосом, полным сожаления, сообщил Цезарю, что его немцы отказываются склонить свои знамена перед знаменами церкви, потому что швейцарцы и гасконцы, занимавшие крепость, вывесили свои знамена на нижних валах и поэтому такая честь могла быть принята как привет этим наемникам, что не хотели допустить их немецкие соперники. Гасконцы же грозили, что будут стрелять, если немцы проедут, не отдав чести. Лицо Вителлоццо светилось такой злобной радостью, словно он задал генералу церкви неразрешимую задачу, и от острого взора Цезаря не укрылось это выражение. Он на мгновение задумался, но нашел удачный выход. – Комендант замка Святого Ангела должен явиться ко мне с рапортом. Мне сдается, что я – все еще главнокомандующий! Где дон Мигуэлото? – спросил он озираясь. Каталонец ехал во главе старой гвардии Цезаря и, по знаку последнего, моментально очутился около него. Одновременно с ним приблизился комендант замка Святого Ангела с громадной связкой ключей, которую он, вероятно, предполагал из вежливости поднести главнокомандующему. – Как? Или мы ошибаемся? – покраснев, воскликнул Цезарь, когда перед ним появился толстый швейцарец. – Перлингер?.. Тот самый, которому я раз и навсегда запретил даже смотреть на римскую землю! Убийца, что ты тут делаешь? – И внезапно нагнувшись, он вырвал у изумленного швейцарца ключи и передал их каталонцу. – Возьми своих людей, – обратился он к Мигуэлото, – и скажи швейцарцам и гасконцам, чтобы они со своими знаменами немедленно присоединились ко мне по ту сторону моста, чтобы сопровождать меня в Ватикан! До тех же пор вы, немцы, никого не пропускайте на ту сторону и, если на вас все-таки нападут, выручайте себя, как знаете. А ты, Мигуэлото, отныне комендант замка Святого Ангела. Сверкающий взор Цезаря упал на смущенное лицо Вителлоццо. На последнем было написано теперь такое жалкое выражение, что Цезарь разразился громким хохотом, к которому присоединились и все зрители. На устах Макиавелли блуждала насмешливая и одновременно, печальная улыбка. Вителлоццо несколько мгновений был в нерешительности. Он взглянул на Орсини, но те тоже смеялись. Тогда он перевел взгляд на своих солдат. Они усталые сидели на измученных лошадях, и он тоже расхохотался. Вдруг раздался привлекший общее внимание страшный взрыв, словно извержение вулкана, и из вершины замка Святого Ангела показалось целое море огня. (обратно)ГЛАВА XV
Первой мыслью было, что швейцарцы и гасконцы пришли в бешенство из-за приказа, тотчас переданного им Мигуэлото, и взорвали крепость. Но ужас превратился в изумление, когда растекавшееся во все стороны пламя вдруг собралось в одном месте, и образовало огненную пирамиду, основание которой было также широко, как и вершина башни. Затем пирамида, казалось, поднялась на воздух, и из ее основания вылетел огненный лавровый венок. Вслед за этим над зубцами внезапно взвилось черное облако, послышались удары грома и кругом засверкали молнии. Постепенно облако посредине становилось все тоньше и светлее, пока, наконец, сквозь него, словно сквозь кисею, не показалась фигура женщины. Ее лица не было видно, но, судя по очертаниям, она была красавица. Ее длинные черные волосы развевались по ветру и были украшены серебряной короной. На ней было черное одеяние, вокруг которого обвилась серебряная змея. По-видимому, она занималась колдовством, так как над головой держала золотую ветку яблони с золотым же плодом. – Спаси нас Пресвятая Дева! Что это значит? – часто крестясь, сказал Вителлоццо испуганному Перлингеру. – Несомненно, дело рук волшебницы замка Святого Ангела! – ответил ошеломленный комендант. – Какой волшебницы, дурак! – свирепо крикнул Цезарь. – Монахини, заточенной здесь, которая была выкрадена из монастыря языческим султаном, синьор, – заикаясь, ответил швейцарец. – Корона и лавровый венок! Это – Фиамма! – воскликнул Цезарь. В толпе раздались бурные выражения восторга, и Цезарь, взволнованный роскошным видением, с величием императора, принимающего корону, поклонился народу. Но в эту минуту его лицо смертельно побледнело, он заскрежетал зубами и дико уставился глазами в одну точку. В это время, к счастью, распахнулись широкие ворота замка, и во главе гасконцев и швейцарцев появился Мигуэлото. Близость опасности, казалось, снова привела в себя Цезаря. Он кивнул коменданту, только что смещенному им, и с хриплым, смехом сказал: – Пожалуй, вы были правы, полковник. Легко могло случиться несчастье, если бы вся эта масса всадников направилась через мост. Поэтому можете отправиться к ним и оставайтесь там, пока не получите дальнейших приказов от своего генерала, достопочтенного кардинала Сиенского. Мы не возьмем с собой нашей царственной супруги, чтобы весь христианский мир видел, что мы не введем женщины в апостолический дворец. Швейцарец изумленно вытаращил на Цезаря глаза и поспешно направился к солдатам, остановившимся на мосту по его команде, но гасконцы теснились вперед и криками радости приветствовали герцога. – По крайней мере, мои храбрые наездники из Перигора не позабыли меня! – воскликнул Цезарь и вмешался в ряды солдат, большинство которых он называл по имени. В это время Паоло Орсини уговаривал Вителлоццо отказаться от нападения на швейцарцев, которое взволновало бы весь город, и успех которого был еще весьма сомнителен. Вителлоццо мрачно согласился спокойно дожидаться возвращения Паоло, если тот будет так счастлив, что ему удастся вернуться. Таким образом, враждебные отряды были разделены рекой Тибр. – Ну что вы видите теперь, едкий сатирик? – спросил иоаннит уродливого карлика, снова очутившегося рядом с ним в толпе. – Разве вы не видите по его веселому лицу, что он говорит своей жене: «Бог с тобой, до следующего свидания»? – ответил урод. – В один прекрасный день он скажет это ей, в противном случае лекарства нашей древней праматери Гекаты потеряли свою силу. – А почему она не сопровождает его в Ватикан? – Разве вам не известно, что доступ туда строго запрещен всем женщинам, если только верить древним рукописям, которые попы называют буллами? – А я не говорил тебе, что донна Лукреция будет жить во дворце и, несомненно, с целым штатом дам? – резко спросил рыцарь. – "Следовательно тебя, Лукреция, постоянно будет желать Шестой", – ответил карлик, хихикая и потирая руки. Процессия снова двинулась. Иоаннит пришпорил своего коня, чтобы догнать торжественный поезд, и с трудом протиснулся сквозь густую толпу, стремившуюся к площади святого Петра. Замок Святого Ангела погрузился в темноту, зато стали вырисовываться светящиеся очертания Ватикана. Иоанниту было интересно взглянуть на встречу отца с сыном папы Александра с Цезарем, но он старался держаться как можно дальше за прелатами и дворянами и, как принадлежавший к процессии, был впущен со всеми в Ватикан. Пышное шествие в стройном порядке направилось в зал Реджиа, и вошло туда в тот момент, когда папа спускался по широкой лестнице. За папой следовал бесконечный хвост, образованный из светских и духовных паломников в золоченых мундирах, стоявших на высших ступенях иерархической лестницы, прелатов из отдаленных мест, князей, гроссмейстеров значительнейших европейских рыцарских орденов, монахов, пашей и личной стражи. Папа обладал величием Юпитера. Его высокий рост, благородные черты лица, деспотический взгляд огненных глаз, – все характеризовало в нем благородное происхождение. При более внимательном взгляде можно было заметить, что годы уже сделали свое дело, следы горячих страстей наложили на него свой отпечаток, горе, заботы и печаль избороздили его лицо морщинами. Семьдесят лет жизни оставили свой след, но если припомнить бурную жизнь Александра, все перенесенные им испытания, горе и радости, триумфы и поражения, то можно было удивляться силе его души, с таким достоинством несшей тяготы жизни. Процессия Цезаря моментально остановилась, и Цезарь, под руку с Паоло Орсини, выступил вперед. Он был бледен, но его глаза горели, и его беспокойство передавалось Орсини, и оба представляли собой резкую противоположность серьезной, неподвижной величавости папы. В выражении лица Александра заключалось удивительное смешение разнообразных чувств. Здесь были горе и гордость, подозрительность и нежность, отцовская любовь и опасения монарха, принимающего приветствия страшного подданного, готового бороться с ним за власть. Три золотых подушки, положенных Бурчардо на полу на определенном расстоянии перед лестницей, указывали места, где герцог должен был преклонить колени. Он быстро проделал эту церемонию, когда же он поднялся с последней подушки, церемониймейстер поднял свой жезл, и в зале воцарилась тишина. – Я явился сюда, святейший отец, – начал Цезарь, – чтобы с благоговейной нежностью облобызать ваши ноги и выразить вам свою горячую благодарность за все почести, за все благодеяния, какими я был осчастливлен во время долгой разлуки. За эти дорогие знаки благоволения я считаю себя особенно взысканным сыном нашей святой матери-церкви, и надеюсь выразить свою вечную благодарность посвящением своей жизни службе апостольскому престолу и святой коллегии. Последовала небольшая пауза, а затем папа ответил: – Доныне мы были вполне довольны вашими действиями и принимаем ваши слова, как залог вашей верности и постоянной преданности, которые мы неизменно будем награждать еще большими почестями. Для своего величия святейший престол не нуждается ни в землях, ни в богатствах, но, чтобы сохранить за ним признание его господства и уважения к нему, мы намерены предоставить вам силу и могущество на страх тем, кто делается тем более дерзким, чем больше милостей оказывается им! Последние слова задели многих из присутствующих, и Цезарь бросил многозначительный взгляд на Орсини. Затем он направился поцеловать крест на туфле его святейшества. Но он получил, кроме того, еще поцелуй в щеку – честь, оказываемую почти исключительно владетельным князьям и членам святой коллегии. После этого Цезарь знаком пригласил Орсини. – Среди этого собрания, святой отец, нет никого, кого мог бы задеть ваш упрек, – промолвил он, – Синьор Паоло был на пути принести к вашему престолу покорность и преданность самых могущественных мятежников, когда с ним случилось несчастье. Молодой дворянин подошел ближе и преклонил колени у ног Александра. Последний, к величайшему конфузу церемониймейстера, немедленно поднял Паоло, целуя его в обе щеки, и воскликнул с горячностью, которая едва ли могла быть неискренняя: – Приветствую тебя, трижды приветствую тебя, вернувшегося, как пророк Иона из пасти китовой, возлюбленный сын мой! Разве тебе не известно, что мы намеревались обнажить меч святого Петра и лично прийти к тебе на помощь? Не впервые мне было бы опоясать себя оружием. Неверные гренадские мавры – мои свидетели! Орсини на эту милостивую речь ответил с подобающим смирением и благодарностью и, испросив затем позволение представить его святейшеству одного из своих спасателей, знаком пригласил Реджинальда. Юный рыцарь с безмолвным благоговением последовал этому приглашению. – Мы слышали, что то был рыцарь святого Гроба Господня, а это не он, – милостиво сказал папа. – Подойди ближе, юноша, и прими благословение Неба за христианское деяние! – Святейший отец, я недостоин его! – смиренно преклонив колени, ответил Реджинальд. – Тем достойнее, если ты так думаешь. Или ты только так говоришь? Но в твоем выговоре есть что-то заморское! Он, может быть, – твой земляк, Бурчардо? – Я не знаю, считать ли его саксонцем или французом. Мне думается, святой отец, он – ни рыба, ни мясо, – ответил церемониймейстер. – Более рыба, так как я – англичанин, – сказал Реджинальд, причем его бойкость снова вернулась к нему. – Ха, а что поделывает ваш король? – воскликнул папа. – Может быть, на этот святой праздник ты явился от него с каким-нибудь поручением? Поистине я боюсь, что неизмеримые сокровища, собранные им, словно свинцовая гора, лягут на его мятежную душу. – Рыцарь приехал из Феррары, святой отец, где он долго пробыл, – заметил с ударением герцог. – Из Феррары? Как поживает добрый герцог? – спросил папа, внезапно переменив тон. – Мне думается, что раз он исторг у святого престола все свои города и земли, он мог бы почтить нас особым посольством. – Да вот здесь имеется мессир Пьеро Бембо, – внезапно оборачиваясь, сказал Цезарь, и указал на священника, который полагал, что в толпе его не заметят. – Может быть, он уполномочен на такое поручение. – Святейший отец, – испуганно произнес Бембо, – покорность моего повелителя вашему святейшеству так совершенна, что лишнее подтверждение ее могло бы возбудить такое же подозрение, как если бы какой-нибудь ювелир, продавая бриллиант, стал уверять, что в нем нет ни единого пузырька. – Мессир Бембо, вы – поэт и итальянец, я же – человек простой и прирожденный арагонец, – резко произнес Александр, глубоко презиравший итальянцев. – Но мы слышали, что вас сопровождал синьор Вителлоццо ди Кастелло. Где же он? – Он явился с тысячью ландскнехтов, чтобы получить от вас отпущение в своих грехах, – заметил с особенным ударением Цезарь. – И они принудили меня занять замок Святого Ангела моей гвардией и вывести оттуда швейцарцев и гасконцев. – Что вы говорите? – воскликнул Александр, по-видимому, неприятно пораженный этим известием. – Немцы – гордые люди. Вителлоццо не мог заставить их склонить свои знамена перед знаменами швейцарцев, а эти грозили нам, что будут стрелять в нас, – поспешно заявил Орсини. – Как, и мои швейцарцы поднимают мятеж? Где Перлингер? – спросил Александр, и его мрачный взор предвещал бурю. – Я сместил этого раба, – быстро ответил герцог, – он принадлежал к числу грабителей... в войске кривоногого короля Карла, хотел я сказать. – Так, значит, вы не слышали, что я дал ему и его товарищам полнейшее прощение? – сказал папа. – Может быть к лучшему, что так случилось. В эти дни замок Святого Ангела должен быть в верных руках! – со значительным взглядом проговорил герцог. – И если припомнить странные слова, брошенные им в лагере у Фаэнцы, то, кажется, будет лучше, если он останется по ту сторону реки. – Да ведь не сам Вителлоццо произнес эти грозные слова, а его горячность, святой отец, и крепкое вино, полный шлем которого он только что осушил тогда, – быстро вмешался герцог Гравина. – Господа Орсини действительно – достоверные свидетели, они все были при этом. Вителлоццо выразил надежду низвергнуть ваше святейшество с престола святого Петра! – примирительным тоном произнес Цезарь. – Ну, оставим это! – сказал папа. – А теперь, сын мой, поспеши вознести мольбы у престола святого Петра! – Прежде, я думаю, необходимо, чтобы Орсини заставили своих друзей отойти от замка Святого Ангела, а я позабочусь о размещении своих войск. В противном случае может произойти несчастье, – сказал герцог. – У вас много войска, Цезарь? – с видимым беспокойством спросил папа. – Мы просили вас не слишком переполнять город в эти дни, мы и без того вынуждены открыть свои старые запасные магазины, чтобы верующим в стране обетованной не было недостатка в пище и питье. – Это главным образом вельможи из Кампаньи со своими свитами и отряд честных каталонцев, – равнодушно промолвил Цезарь. – Послушайте, герцог, – после небольшого размышления начал папа, – мы не желаем, чтобы войска были размещены по эту сторону Тибра, и во избежание столкновений отзовем швейцарцев в Ватикан. Об остальном же кардинал Сиенский сговорится с вами. Герцог поклонился с насмешливой улыбкой. – Меня радует, – сказал он, принимая огорченное выражение, – что ваше святейшество дает мне в сотрудники человека, честность и прямота которого могут противостоять всем благам, какими дьявол искушал нашего Господа. Действительно, больно карать изменников. У меня до сих пор сердце кровью обливается при мысли о черной неблагодарности и измене, которые я должен был наказать в доне Ремиро, подесте, которого ваше святейшество, святая коллегия и я сам облекли высоким доверием! – Что с ним случилось? – побледнев, воскликнул папа. – Он осужден и четвертован, вернее, перепилен пополам, – спокойно ответил Цезарь. – Подробности же его измены я должен отложить до тайной аудиенции у вашего святейшества. Папа был очевидно ошеломлен известием, но не выдавал волновавших его чувств. – Такой случай не терпит отлагательства, и мы немедленно желаем выслушать ваши основания. А вы, синьор Паоло, можете тем временем возвратиться к себе и позаботиться о предотвращении всякого возмущения, приказав швейцарцам явиться сюда, и заставить Вителли вернуться со своими немцами в свой лагерь. Затем он простер руки, громко произнес благословение и, сопровождаемый герцогом и свитой, поднялся наверх. Блестящее собрание быстро разошлось. Иоаннит подождал, пока не удалился Орсини, и поспешил, как он думал, незамеченным покинуть дворец. Но на ступенях портика он внезапно почувствовал, как кто-то осторожно дотронулся до его руки. Это был Бембо, который, тяжело дыша, пошел рядом с ним. – О, мой высокий господин, – промолвил он, – Орсини повсюду ищут вас и желают вашего присутствия в их дворце. Мне поручено привести вас. – Но в мои намерения вовсе не входит поселиться у Орсини, мессир Пьеро, – ответил принц. – Ты знаешь, у меня есть дело в этом городе – мой обет, привести который в исполнение во дворце жениха Лукреции Борджиа не совсем удобно. Скажи им, что я обязан выполнить священный долг своего ордена, он и в действительности священный. Моему же брату Реджинальду скажи, что даже инкогнито мне не хотелось бы пить вино человека, который, может статься, будет моим врагом, моим соперником! – Как, вы хотите не показываться во дворце Орсини, где мы были бы в полной безопасности? – печально протянул Бембо. – Нет, Пьеро, тебя я не хочу лишать удобств, – улыбаясь, возразил рыцарь, – тем более, что твое пребывание в этом дворце будет служить моим намерениям. Но ты можешь видеть меня, когда захочешь, свой страннический посох я думаю водрузить вон в той гостинице. – Предубеждения вашего высочества нисколько не поколеблены? – нерешительно спросил Бембо. – О, как прекрасна эта Лукреция!.. Парис, наверное, предпочел бы ее Елене и скорее отдал бы яблоко ей, чем Венере. – Тем больше это убеждает меня. Нет такой добродетели, нет такой низости, на которые не могла бы заставить решиться такая красота! – страстно воскликнул принц. – Но я обязался перед вашим досточтимым отцом ни на одну минуту не выпускать вас из виду, принц, – сказал Бембо. – Где вы, там должен быть и я. – С кем вы имеете дело: с ребенком или со взрослым человеком? – серьезно промолвил иоаннит, принц Альфонсо д'Эсте. – Если бы вы даже не пожелали воспользоваться гостеприимством Орсини, нам все равно нельзя было бы оставаться вместе, потому что в вас уже подозревают посланника моего отца. Я дал вам приказание и ваша обязанность повиноваться без возражений. А теперь спокойной ночи! С этими словами иоаннит направился в гостиницу, крикнув своему оруженосцу следовать за ним. Бембо тоже сел на своего мула и поехал потихоньку ко дворцу Орсини. (обратно)ГЛАВА XVI
По валам замка Святого Ангела, близ круглой башни, медленно прохаживались два человека, причем один шел почтительно, немного позади, хотя оба вели дружескую беседу. Это были Мигуэлото и Цезарь Борджиа. – Но тем не менее, высокий господин, иллюминация этого замка выходила за пределы человеческого искусства, – сказал каталонец. – Несомненно, что донна Фиамма для вида пользовалась услугами ваших верных гасконцев и турецких рабов, но некоторые из них видели страшных, сотканных из света и тьмы духов, которые летали кругом и повиновались приказам донны Фиаммы. – Все великое народ считает сверхъестественным, меряя его меркой своей необразованности, – ответил Цезарь. – Но ты увидишь, что и душа Фиаммы, несмотря на то, что она обладает великими тайниками, склоняется передо мной, словно пламя перед жезлом чародея. – Я клянусь душой, ваша светлость, на что же она может еще надеяться, как не на ваше милосердие? – Да, она любит меня, – с иронической улыбкой продолжил Цезарь и более печально прибавил: – и, может быть, только она одна из всех красивых дур, которые говорили мне о своей любви. Поистине Мигуэлото, я – настоящий платоник: я вечно стремлюсь к идеалу красоты и во всех ее формах нахожу одно разочарование! – По моему глупому мнению, синьор, – ведь я не ученый, донна Лукреция в совершенстве подходит к идеалу, – сказал Мигуэлото и с ужасом заметил, что его повелитель остановился, как будто наступил на змею. – Ты повторяешь обычные слова, – ответил Цезарь, быстрыми шагами продолжая путь. – Разве она не так же знаменита в Италии, как Елена Прекрасная в Греции, даже еще более знаменита, ибо, я думаю, тебе известно, Мигуэлото, что добрая слава лежит, а дурная бежит. – Не удивительно ли, что донна Лукреция должна жить в Ватикане? – Будет еще удивительнее, если эта мера предосторожности не навлечет на нее еще более дурной славы! – ответил герцог. – Где теперь Фиамма? – после паузы спросил он. – С ужасными сестрами из гетто [536] она совершает какое-то волхвование вот в этом мавзолее, – ответил Мигуэлото, указывая на громадную круглую башню. – Я думаю, она варит любовный напиток, чтобы снова приворожить вас. – Тогда я начну верить в ее науку, – шутливо промолвил Цезарь. – Честное слово, мне сдается, что моя старая любовь снова возрождается из пепла. Я думаю, что некогда я любил Фиамму, прежде, чем полюбил честолюбие! А не слышал ли ты про одного человека, которого я пригласил сюда, про волшебника, перед искусством которого фокусы этих баб из гетто и Фиаммы рассеются, как дым, а именно, про некоего дона Савватия? – Нет, ваша светлость, ведь всего несколько часов, как я – комендант этого замка. – Мигуэлото, – резко спросил герцог, – как ты думаешь, почему я питаю такую постоянную и непримиримую ненависть к мужьям и женихам моей сестры? – Потому что... потому что... черт меня возьми, если я знаю почему. Может быть, потому, что вы всех их не считаете достойными вашего будущего величия, – ответил Мигуэлото, задрожав под острым змеиным взглядом Цезаря. – Отчасти да, – довольным тоном ответил Цезарь, – но также и потому, что этот самый книжник дон Савватий рядом с ожидающим меня величием императора показал мне тени потомков моей сестры, причем все они были увенчаны диадемами, блеск которых, как мне показалось, затемнял сверкание короны Карла Великого. Но потерплю ли я, что венец, который я должен добыть такими невероятными усилиями, не перейдет к моим потомкам, которых я надеюсь оставить после себя? – Это было бы неразумно, – согласился комендант. – Но меня удивляет, что его святейшество не устает выдавать донну Лукрецию все время замуж, когда ее мужья так быстро покидают наш бренный мир. – Видишь ли, эти браки – вовсе не плохое средство опровергать злую молву, а его святейшество дорожит мнением света. Теперешней помолвкой с Орсини ему хочется пустить пыль в глаза всему христианскому миру. Впрочем, здесь кроется, пожалуй, еще более тонкая политика. У его святейшества мне оказали дурные услуги: он очень странно принимал известия от дона Ремиро, а Лукреция... но что можно сказать про поступки женщины? Пусть народ думает самое худое, но, полагаю, ты сам понимаешь, Мигуэлото, – император и папа не могут сидеть на троне в Риме! Ну, ну, я пошутил, – прибавил он, увидев, что его суеверный наперсник нахмурился. – Но вспомни, ведь трон святого Петра был сооружен из самого простого дерева и я сделал бы только то, чего требовали в последнее время многие христиане. Что ты скажешь, если в советники я возьму себе аскета Ланфранки, который в состоянии смести всю пышность, окружающую папский престол? За такое великое дело небо послало бы нам прощение за многие мелкие прегрешения. Кроме того, я лелею мечту освободить Гроб Господень. Кстати, мне пришло в голову... что сталось с нашим иоаннитом? – Не знаю, синьор. Я только один раз видел его во время шествия. – Он – очень молчаливый человек, и мне необходимо больше разузнать о нем, – задумчиво промолвил Цезарь. – И какой он угрюмый! Ты не заметил, как немилостиво он принял благодарность Лукреции? Ах, да, ты видел, как струсил Датарий, когда я рассказал ему про подесту? Он оказал мне немало услуг, но почему же он испугался? – Может быть, он скрывает в сердце такую же измену, как покойный дон Ремиро. Да вам беспокоиться нечего: ведь наши две аптекарши еще не скоро исчерпают запас своих трав, несмотря на то, что этот товар идет ходко. – Но эти травы опасны, да к тому же предательство, которое требуется для того, чтобы влить кому-либо их соки, стоит слишком дорого, чтобы применять их в обыкновенное время. Крикуны Вителлоццо, наглые вассалы Орсини не стоят этого. Кроме того, эти случаи внезапной смерти вызывают подозрения. Мне нужны два сильных молодца, которые готовы были бы всадить свой клинок так, чтобы народ приписал вину пьяной ссоре, или без лишнего шума бросить кого-нибудь в Тибр. Не знаешь ли такого? – Кардинал Сиенский издал приказ, изгоняющий всех бандитов из Рима, – уклончиво ответил комендант. – Ну, тогда, значит, консистория издала приказ, направленный против всех тиранов Романьи! – с ироническим смехом сказал Цезарь. – Скажи, где ты нашел людей, которые поймали последнего мужа Лукреции на ступенях собора Святого Петра? – Дурачье, нанесли ему больше дюжины ран, из которых ни одна не была смертельна, и мне, жалкому слуге вашей милости, тогда еще только слуге, пришлось под конец прикончить его в постели, – мрачно промолвил каталонец. – Сколько ран, ты сказал? Его мать, должно быть, горько плакала, получив это известие. Но о чем мы говорили? Да, о твоих старых друзьях, бандитах. Они далеко не исчезли из Рима, как ты пытаешься уверить меня. – Возможно, что Джованни из катакомб скрывается еще где-нибудь в укромном месте, – неохотно ответил Мигуэлото. – Это как нельзя лучше. Я хотел только знать, на что я в худшем случае могу положиться... в случае, если папа настоит на своем и браком дочери с главой мятежных вельмож превратит в ничто все мои планы! Ты заметил, как сердечно он принял Паоло Орсини, и как подозрительно – меня? Плохую службу сослужили мне люди, окружающие моего отца. Несомненно, немало там нашептали про меня. Клянусь Пресвятой Девой, когда он воскликнул: «Приветствую тебя, Цезарь!» – его взгляд был полонвоспоминаний о моем брате Джованни. – Кое-кто в Риме еще может разыскать Джованни из катакомб. Возможно, что он не знает о приказе относительно изгнания бандитов. Он ведь не умеет читать, а предписание составлено по-латыни, – заметил Мигуэлото. – Этого достаточно, раз мы знаем, где в случае нужды нам найти его, – задумчиво произнес Цезарь. – Как жаль, Мигуэлото, что ты – не ученый!., ты мог бы тогда прочитать список, которым снабдил меня Датарий, и который содержит все имена и адреса начальников черной банды, явившейся теперь в Рим, чтобы получить себе и своим собратьям отпущение всех смертных грехов. – Что пользы мне в этом знании, синьор? – с недоумением спросил Мигуэлото. – Польза была бы только для меня, потому что теперь я вынужден прочитать тебе этот список. Ты должен, видишь ли, узнать, как относятся ко мне все эти религиозные мародеры, в особенности те, которые находятся на службе Орсини или благородных неаполитанцев. Если бы все эти господа отошли в вечность, а ведь даже и лучшие из нас должны умереть в один прекрасный день, они стали бы искать себе новых повелителей. Разве худо было бы быть на рынке первым? Ты мог бы, кроме того, напеть им те прекрасные песни, которым я учил тебя, а именно: про золотые рыцарские шпоры, гражданские титулы и так далее, в особенности же начальникам швейцарцев и немцам, которые настолько тщеславны, что каждый из них, кто только не рыцарь, считает себя обиженным. – Значит, я должен стараться привлечь на нашу сторону даже приверженцев его святейшества? – Желает господин комендант получить когда-нибудь более высокий титул? – с досадой спросил Цезарь. – Что ты за трусливый дурак? Неужели ты думаешь, что Датарий, первый министр церкви, стал бы поддерживать мои планы, если бы они не клонились ко благу церкви? – Следовательно, ваша светлость не питает недоверия к нему? – Я сотнями глаз наблюдаю за действиями каждого, – ответил Цезарь. – Это, кстати, напомнило мне, что мне необходим хороший осведомитель у Орсини. Бедный Анджело, как видно, погиб. – Старик Гравина вбил себе в голову, что это он уведомил вас о поездке его сына Паоло Орсини в Рим, и повесил его на флюгере своего дворца. – Что делать!.. Один умер, надо на его место поставить другого. Что, если бы Джованни из катакомб напал вблизи дворца Орсини на избранного мной человека, и последний стал искать во дворце спасения, а затем под предлогом благодарности поступил бы туда на службу. – Превосходный план, синьор! – Ах ты, умница!.. Ты не лишен сообразительности! – иронически заметил Цезарь. – Не мешало бы поставить наблюдателей и у нашей прекрасной сестрицы. – Нет, синьор, болтливый отец Биккоццо, который все узнает от духовника донны Лукреции, доминиканца Ланфранки, еще никогда не обманывал нас. Меня удивляет, как серьезный и мудрый Ланфранки может доверяться такому простодушному болтуну, как этот Биккоццо. – Эге, да ведь и я делаю тоже самое! – испуганно воскликнул Цезарь. – Впрочем, нет! Я найду людей, которые будут ползать всюду, где я ни пожелаю. Но чародейство моей прекрасной Фиаммы начинает действовать. Итак, ступай и выстави стражу!.. Я пойду к Фиамме приветствовать ее поцелуем солдата, если она не будет разыгрывать недотрогу. Вслед за этим он стал спокойно подниматься по узкой лестнице башни и в сопровождении Мигуэлото вошел в узкую калиточку. Они прошли по многочисленным комнатам, убранным со старомодной пышностью. Отсюда вел вниз целый ряд винтовых лестниц и коридоров, которые в свою очередь соединялись с другими залами, приспособленными отчасти для жилья, отчасти для тюрем. Все посты входов и выходов были заняты гвардией Цезаря. – Кто твои самые важные заключенные? Ты успел расспросить о них? – спросил Цезарь, когда они спускались по темным лабиринтам. – Я не смею считать заключенной донну Фиамму, хотя ее обвиняют в ужасном преступлении, а именно, в том, что она, будучи монахиней, сделалась любовницей неверного – турецкого султана, – ответил Мигуэлото. – Ну, отношение к ней будет зависеть от того, что она думает. А кто помещается наверху? – Джакомо Кантано, апостолический протонорий, брат Николая, убитого по справедливому приговору вашей светлости в Сермонете, – ответил комендант. – Говорят, он сошел с ума и целый день виснет у решетки своего окна, смотря на небо, словно ждет оттуда посещения. – Пусть его ждет! Но что за музыку мы слышим? – Это – музыкант Томазино. Из любви к своей повелительнице Екатерине Сфорца он отравленными письмами покушался на жизнь его святейшества. Ему оставили флейту, а так как в его темнице царит почти вечный сумрак, то у него нет другого развлечения, кроме музыки. – Он с таким безнадежным отчаянием дудит в свою флейту, что было бы милостью отправить его самого на виселицу. Ну, пусть живет, проклятый отцеубийца! Но здесь страшно темно, Мигуэлото, а судя по холодному и влажному воздуху, мы находимся у входа в пещеру или на повороте. – Скоро у нас будет достаточно света, хотя с большим удовольствием я поднялся бы и принес лампу, чтобы вы могли видеть удивительно символические картины на стенах, – с легким ужасом произнес Мигуэлото. – Эта галерея ведет к гробнице императора Адриана, где донна Фиамма упражняется в своем черном искусстве и, как говорят, по желанию вызывает дьявола! Некоторые утверждают, что она заставила говорить большую каменную голову в коридоре, и вызвала дух императора Адриана из его каменного гроба, крышку которого не могла поднять никакая человеческая сила. – Дальше, дальше, и брось болтать эти бредни! – презрительным тоном произнес Цезарь, но в глубине души и он ощущал жуть. Всеобщая вера в волшебство и чернокнижие и в этом удивительном человеке нашла своего верного сторонника. В то же мгновение его внезапно охватило подозрение, что комендант замыслил против него измену, и завел его в западню. Он выхватил кинжал, и если бы не заметил почти сейчас же в полу галереи отдаленного круглого, как бы исходящего из колодца, отблеска света, то дон Мигуэль, пожалуй, обратился бы в то же состояние, что и император, про дух которого он только что рассказывал. – Пойди и принеси факел, этот свет будет мне путеводной звездой, – сказал Цезарь, пряча кинжал. Комендант низко поклонился и исчез в темноте. (обратно)ГЛАВА XVII
Цезарь осторожными шагами приближался к светящемуся месту и видел, как красноватый отблеск постепенно все сильнее освещал высокие стены галереи. Герцог подошел к круглому отверстию в полу, похожему на колодец. Посредине возвышалась массивная гранатовая колонна, с которой соединялись сводчатые потолки нижнего зала. Вскоре Цезарь открыл, что колонна внутри полая, и в ней находилась витая лестница, спускавшаяся, очевидно, в нижний зал, и стал наблюдать удивительное зрелище. Глубоко внизу помещался просторный зал, по-видимому, вырубленный в скалах, на которых было заложено основание крепости Святого Ангела. Его стены, украшенные иероглифами и мистическими египетскими письменами, покоились на головах громадных кариатид. За этими безмолвными хранителями тайн смерти, судя по темноте, находились гроты или подземные ходы. На алтаре, устроенном на лежащих сфинксах, светилось громадное, но по-видимому, безвредное пламя, так как оно горело в громадном саркофаге невероятно сильным светом без дыма и даже не плавило восковой фигуры, помещавшейся посреди его. Цезарь улыбнулся, но не без тайного беспокойства, узнав в фигуре сходство с самим собой. На груди фигуры лежал череп с каким-то предметом, похожим на свежее сердце человека, или животного. Две старых ведьмы были заняты поддерживанием огня какими-то странными веществами, охапки которых находились вблизи них. Кроме того, тут были восточные фиалы с редкими маслами, нефтью и неизвестными теперь жидкостями, большей частью изобретения арабских и греческих химиков, пучки ядовитых растений, растущих на кладбищах и на развалинах, блестящий золотой песок, раздробленные бриллианты и еще множество редких предметов, а именно: летучие мыши, сердца голубей, змеи, ящерицы, черепахи, различные части тел пресмыкающихся и хищных зверей, куча предметов, похожих на глаза, и, наконец, множество прекрасных цветов. Цезарь сразу же узнал в колдуньях еврейских аптекарш из римского гетто, известных под именем Нотте и Морта, что значит «ночь» и «смерть». Обе были высокого роста и худощавы, обе стары и, тем не менее, удивительно сильны и подвижны, обе неописуемо безобразны, причем кожа Нотте была удивительно темного цвета, а Морта была так худа, что походила на живой скелет, и вполне заслуживала свое прозвище. Их отец был еврей, необычайно искусный врач. Говорят, что своим искусством он был обязан союзу с дьяволом, который по прошествии нескольких лет бросил его, вследствие чего врач впал в нищету. Но более осведомленные люди оспаривали эту сказку, и утверждали, что мудрый еврей пристрастился под старость к тайным наукам и, тщетно стараясь постичь их, потерял и рассудок, и состояние. Обе дочери были неустанными помощницами в его занятиях и таким образом получили свои познания в химии и в распознавании трав, а если верить молве, то и в тайных, запрещенных науках. По всем признакам, отец оставил их в ужасной бедности, теперь же сестер считали страшно богатыми, хотя они продолжали жить в той же нищете, причем никто не знал их настоящих имен. Удивительно было то обстоятельство, что при таких слухах они до сих пор избегли внимания церковного суда, которые особенно следил за занятиями черной магией, считая их преступлением. Передавали, что у сестер были могущественные, хотя и тайные, покровители, мести которых они помогали своими тайными знаниями. А так как все преступное связывалось, естественно, с именем Борджиа, то рассказывали, что жадный Датарий уже не раз пытался наложить на сестер свою инквизиторскую руку, но, благодаря вмешательству Цезаря, ничего не мог поделать с ними. Цезарь почти не удостоил взглядом этих отвратительных созданий. Он обратил свое внимание на фигуру, которая, несмотря на то страшное в своей красоте, что сейчас выражало ее лицо, искаженное ужасной гримасой, приковала к себе его взоры. Это была женщина, дивно сложенная, с правильными чертами мраморной статуи и гордым, огненным выражением, свойственным потомкам древних властителей. На ней была длинная черная, обвитая серебряной змеей, одежда, расстегнутая у ворота, как будто ее бурно вздымавшаяся грудь требовала воздуха. Она лежала на ступеньках саркофага в позе, выражавшей вынужденную покорность и горячее нетерпение, дико водила кругом глазами, вздрагивала при каждом треске и вспышке пламени и то бранила ведьм за медленность, то хватала раскрытую книгу, раскрашенную страшными фигурами, и безумным голосом начинала читать заклинания. Серебряную диадему она откинула в сторону, и ее длинные черные локоны, падавшие на плечи, резко оттеняли их пластичную округлость и белоснежную кожу. Выражение ее лица было одновременно и божественным, и демоническим. Безумная страсть, надежда и отчаяние, любовь и ненависть при всей ее необыкновенной красоте сообщали ей что-то дьявольское. Затем все это сменялось одним и тем же – по-видимому, обычным для нее – выражением гордости и сверхъестественной скорбью павшего ангела. – Он не идет, он не идет, и вы насмехаетесь надо мной своей безумной болтовней и бессильными травами, – воскликнула она. – Сейчас он прижимает к сердцу жену, клянется ей в любви, жалуется на долгую разлуку с ней, и у него нет ни мысли, ни вздоха, ни единого воспоминания для всеми покинутой Фиаммы! Да и почему бы он пришел? Есть ли у меня какое-либо обаяние, способное снова привлечь его? Какие чары могут быть в красоте, которая надоела ему, прежде чем он покинул меня, чтобы отправиться в проклятую Францию! Да, да, ведь я состарилась от скорби! Как вы думаете, на сколько лет я старше, чем это царственное дитя из Навары, Шарлотта Д'Альбрэ, ставшая женой Цезаря? – Нет, дочка, когда ты будешь так же стара, как Нотте, тогда будет время считать годы! – ответила темнокожая прорицательница, обливая гадюку синеватым маслом, отчего распространился противный запах. – Ну, как эссенция из волчьих костей лезет в нос. – Ей только семнадцать лет, а я уже считаю двадцать третью несчастную зиму! – беспокойным тоном промолвила Фиамма. – Не надо больше, не надо больше, дайте мне умереть!.. Для чего мне жить? – Есть смысл пожить на этом свете, уж хотя бы ради того, чтобы избавиться от того, – свистящим голосом прошептала Морта. – А что касается красоты, то лишь тогда жалуйся на свои исчезнувшие прелести, когда ты будешь также худа и безобразна, как Морта! – Ты – лживая книга и еще более лживый пророк! – воскликнула Фиамма, отбросив таинственную рукопись. – Когда прошло очарование любви, может ли магия помочь восстановлению ее силы? Или изменник думает, что он может попирать меня ногами? О, Цезарь, ты сделал из меня демона. Берегись, чтобы он не погубил тебя! Наступило молчание, и Фиамма, опершись горячей щекой на руку, стала смотреть на горящий саркофаг. – Здесь горит прах гордого императора. Чего еще может требовать гордый сын Запада? – уныло промолвила она. – Я говорила тебе, дочка, что надо было бы сердце живого человека, а не мертвого оленя! – сказала Морта, махая длинным, костлявым пальцем над содержимым черепа. – Ты так же безжалостно говоришь, как смерть, имя которой ты носишь! – содрогаясь от ужаса, промолвила Фиамма. – До сих пор мы сделали все, что предписывали нам приказания дона Савватия и книга, которую он мне дал. – Дон Савватий! О, если бы он, считающий себя большим мастером, захотел увидеть тщетные усилия и позор своих обманчивых средств! – сказала Нотте. – Да, сестра, не наша вина, если сегодня ночью Борджиа придет в соприкосновение с Колонна только тем, что вступит в их дворец, в котором Колонна не смеет показаться под страхом смерти, – заметила злобная ведьма. – Колонна! Колонна! О, если бы в небесах был святой, которого я смела бы молить о милосердии! – воскликнула несчастная Фиамма, и, плача, бросилась на ступени сфинкса. – Не отчаивайся слишком рано, дочка, – сказала Нотте, тронутая или испуганная этим немым страданием. – Если не действуют чары твоего неизвестного мага, так у нас самих есть еще другие, которые значатся в книгах нашего отца. Будь только терпелива! – Нам необходимо горячее человеческое сердце, а не холодное оленье, – презрительно проговорила Морта. – Возьмите нож и вырежьте мое, потому что оно горит у меня в груди! – безумно воскликнула Фиамма. Сестры снова обменялись таинственным взглядом. Наконец, Морта сделала сестре какой-то знак. – Мы должны теперь сжечь сердце с нефтью и ароматами! Ты, дочка, надень на голову венок из ярко-красных ненюфаров, босиком ходи кругом саркофага, непрестанно разбрасывая цветы, и сладким завлекающим голосом пой любовные песни, пока мы не велим тебе остановиться. И тогда явится он, или дон Савватий, называющий себя адептом арабской школы, дурак и лжец. Фиамма равнодушно поднялась и, пока колдуньи бормотали свои заклинания и приготовляли снадобья над горящим саркофагом, безнадежно взяла целый букет цветов и надела на голову венок, как ей предписывали ведьмы. От Цезаря Борджиа не укрылось ни одно движение этого странного зрелища, и хотя страсть, выражаемая пылкой римлянкой, скорее вызывала в нем презрение, чем трогала его, все же деспотический сластолюбец не мог остаться совершенно равнодушным к ее горячей искренней любви. Тем не менее, он решил позлить волшебниц и доказать ничтожество их искусства, явившись не ранее, чем они исчерпали бы все свои чары и отчаялись бы в успехе. Но вот ведьмы окончили свои приготовления. Сердце со всех сторон было объято чистым пламенем нефти, и, пока они продолжали подкладывать туда благовония, Фиамма начала ходить вокруг. Она рассыпала цветы и пела заклинания неспокойным голосом, в котором, тем не менее, чувствовалась горячая гармония, что в связи с искренностью безумия придавало ей вид дельфийской прорицательницы. Всеми радостями, которые делила с Цезарем, небом, которое она оскорбила, адом, грозящим ей в вечности, она заклинала Борджиа прийти в ее объятия, призывала служивших ей духов, которые должны были наслать на него жаркие воспоминания минувших наслаждений, пела о своей первой встрече с Цезарем, о незабвенном мгновении радостных восторгов. Трогательные выражения ее песни, гармонический голос, ее красота, отчаяние и одуряющий аромат, – все вместе зажгло пламенем страсть Цезаря. В ослеплении страсти он забыл свои намерения обмануть старых ведьм, бегом спустился по винтовой лестнице, и вошел в зал в тот самый момент, когда потухла горящая нефть, пение смолкло, и Фиамма остановилась, словно превратилась в мраморную статую. Увидев Цезаря, она с диким криком бросилась в его объятия, между тем как колдуньи с восторгом хлопали в ладоши. Тотчас же на него полились потоки слез вместе со счастливым смехом, вздохи, жаркие, страстные поцелуи, восклицания восторга и отчаяния, любви и упреков, объятия и снова поцелуи, поцелуи без конца. – Неужели ты думала, что нужны были другие чары, чтобы вернуть меня к тебе, кроме воспоминаний о твоей красоте и нашем минувшем счастье? – когда улегся первый горячий порыв, сказал Цезарь, осушая поцелуями слезы, не перестававшие литься по щекам Фиаммы. – Нет, Цезарь, нет, я только хотела услышать от тебя, что ты не совсем покинул меня, хотела только знать, что я не одна у Бога, обманутого мной! – воскликнула несчастная женщина. – Скажи мне, что ты не презираешь меня, как я сама себя. Вспомни, что я потеряла все, но потеряла ради тебя. Вспомни, что я дочь Колонна – была Христова невеста, невинна, счастлива и любима. Подумай, чем я была и что стала, – жалкая, проклятая небом и землей, небесным женихом, покинутым мной, отвергнутая семьей, которую я опозорила. Вспомни клятвы, которые ты нарушил!.. Чего только я не вынесла и не потеряла ради тебя! Могу ли я, Цезарь, когда-нибудь простить тебя? Не должна ли я ненавидеть и проклинать тебя всей силой своей измученной души? – Проклинай меня, красавица моя, я со своей стороны только хочу целовать тебя! – лаская ее, отвечал Цезарь. – Но неужели же ты упрекаешь меня моим же собственным несчастьем, я думаю, ты негодуешь на меня за мою вынужденную женитьбу на глупой девушке из Наварры? – Да, неверный изменник, да! – с внезапным порывом воскликнула Фиамма, вырываясь из его объятий. – И ты без стыда, спокойно смеешь говорить об этой беспримерной измене? О, ты, злодей, злодей! Где твои уверения, где твои клятвы сделать меня своей женой, императрицей Италии? – Я прекрасно помню тот час, прелестная Фиамма, – ласково, но насмешливо сказал Цезарь. – Мы были в винограднике мрачных кармелиток, где замуровали тебя. Я был тогда кардиналом Валенсийским, ты – монахиней Маддаленой. Я нес тебя по веревочной лестнице со стены, а ты отбивалась, словно покидала рай, и рыдала. Что же мне было делать, как не сыпать обещаниями? Но могла ли ты поверить, ты, разумом равная почти мужчине, что небо может освятить такую клятву? – Но ад, по крайней мере, освятил ее, Цезарь! Ты освободился от своих священнических оков, ты на пути к господству, которое я должна была разделить с тобой, а теперь, кажется, делит с тобой девушка из варварской страны, дочь злейшего врага Италии! – с легким колебанием в последних словах, возразила Фиамма. Это не ускользнуло от внимания Борджиа, но он не подал вида, что заметил, и продолжал прежним тоном: – Да, Фиамма, да, душа моя! Своим возвышением я обязан тебе с самого первого момента, – промолвил он, вперив в нее взгляд, полный жгучей страсти. – Неужели ты хочешь теперь низвергнуть меня в бездну отчаяния? Ведь это – только женский каприз, пустая ревность, приличная лишь ординарным женщинам, которых твой героический дух превосходит так же, как яркая полуночная звезда – слабое мерцание маяка! Нет, нет, если даже кто-нибудь и владеет сокровищем моей души, то все же самая главная драгоценность ее принадлежит тебе, одной тебе и, несмотря на всю видимость, я ни одного момента не был неверен тебе! – Разве ты не женился на этой принцессе! Неужели нам солгали, сообщив о твоем пышном венчании в Орлеане? – возразила Фиамма. – Изменник! Но ты не избежишь моей мести, хотя бы после того мне пришлось погибнуть навеки. – Что можешь ты сделать, Фиамма? – улыбаясь проговорил Цезарь. – Если бы я боялся твоей мести и если бы любил свою жену, то неужели, ты думаешь, я не сделал бы распоряжения, чтобы тебя заключили в тюрьму? – А ты уверен, что твое распоряжение было бы исполнено? Неужели ты, жестокий и бессердечный, думаешь, что я не могла бы освободиться от тебя силой волшебства? – Клянусь святым Петром, ты действительно обладаешь неотразимыми чарами, – воскликнул Цезарь, заключая красавицу против ее воли и объятия. – А разве я не обладаю чарами над тобой? Разве ты не любишь меня, Фиамма? Разве ты не отказалась от небесного блаженства ради меня? Разве не являешься ты талисманом моего могущества и славы, и разве не был бы я без твоей любви и твоей энергии, которая все время пришпоривала меня, до сих пор служителем алтаря, проклинающим свое служение? Кроме того, дорогая возлюбленная, ты вся принадлежишь мне и не можешь причинить мне страдания, не почувствовав их на себе. – Неужели ты думаешь, Цезарь, что я боюсь твоего могущества или могущества твоего отца? – возразила Фиамма тоном сверхъестественного отчаяния. – Сам ангел своим огненным мечом разрезал бы узы моей неволи, чтобы я могла, собрав весь Рим, объявить перед святой гробницей Петра о твоем преступлении! Мне поверили бы. – В чем поверили бы тебе? В этой стране Боккаччо поистине нет ничего невероятного в том, что священник мог заблуждаться, а молоденькая монахиня могла сделать открытие, что кровь у нее в жилах горячее льда, – спокойно сказал Цезарь. – Какая была бы для тебя польза возобновлять против меня эти старые обвинения? Ты знаешь, что у инквизиции имеется твое письменное показание, подтвержденное языческим султаном, любовницей которого ты заявила себя в присутствии многочисленных свидетелей. – Да, чтобы защитить тебя от справедливого позора твоего преступления, чтобы отвратить от тебя мщение благородного брата моего покойного отца! О, Просперо и Фабрицио, какую еще более тяжкую кару желали бы вы навлечь на мою невинную голову? О, древний Колонна, мой знаменитый дед, твое проклятие исполнилось! Безнадежные дни и бессонные ночи, раскаяние, ужас и безутешное, одинокое отчаяние – мои постоянные спутники! О, неверный, нужна ли была еще эта последняя измена, чтобы переполнить чашу моих страданий? – Почему же ты не осталась у своего языческого спасителя, как ты называешь недостойного почитателя Магомета, оказавшего тебе тогда защиту? – побледнев, сказал Цезарь. – По крайней мере, у меня не было бы причин благодарить его за великодушие, за, то, что он принял на себя весь позор. Последний нисколько не повредил бы ему, а такая красавица как ты, была бы ценным украшением его гарема. Я же должен был бы один перенести всю бурю... И, пожалуй, никто не был бы обманут, кроме меня, глупца, отдавшего свое сокровище на хранение разбойнику. – Ты говоришь, Цезарь, не то, что думаешь. Нет, нет, ты не смеешь говорить так! – с новой силой воскликнула Фиамма. – И, тем не менее, благородный турок умер так же, как все, которых ты ненавидишь! Цезарь, я хотела видеть тебя, чтобы только сказать тебе, как я ненавижу тебя, как презираю и боюсь тебя... чтобы сказать тебе «прощай навсегда»! – Что, дочка, убрать ли статую, или заключить ее в мрамор, как велел дон Савватий, чтобы сохранить любовь твоего возлюбленного, и чтобы он всегда возвращался в твои объятия, как птица в гнездо? – спросила Морта. – Простите меня, Горгоны, что я до сих пор не обнажил перед вами своей головы. Но что скажешь ты, моя Фиамма? Что должны сделать страшные ведьмы? – спросил Цезарь, вперив свой взор в прекрасную жертву. В груди Фиаммы несколько времени боролись стыд и страсть, гордость и презрение, а ее лицо то горело ярким румянцем, то бледнело, как мрамор. Затем она упала в объятия изменника, и ведьмам не нужно было никакого другого доказательства. Цезарь изливался в страстных уверениях и нежных упреках сомнениям Фиаммы, а обе сестры посредством незаметного механизма покрыли крышкой саркофаг. – Ты торжествуешь, Цезарь, ты торжествуешь! Но ты ошибаешься во мне. Отныне я буду только твоим другом, твоей советчицей, если хочешь, но никогда больше твоей возлюбленной! – воскликнула Фиамма с новым порывом гнева и стыда. – Теперь уходи, мое сердце тешилось достаточно. Я видела тебя, знаю, что ты ненавидишь меня, и этого довольно. Возвращайся к своей жене, а меня предоставь моему отчаянию, моим одиноким мукам! Я буду стоять на башне и провожать тебя взорами до твоего дворца, и, когда исчезнет в воротах последний факел, я буду знать, что ты думаешь о том, что увидел меня впервые в этих залах моих предков, когда я невинным ребенком сидела у ног своего деда и с беззаботным восторгом плела венок на его седую голову, которую я от горя и стыда свела в могилу! Это печальное воспоминание тронуло даже сердце Цезаря. – Нет, дорогая, моя первая и единственная любовь, даже при воспоминании о прошлом я не покину тебя, прежде чем ты не поклянешься мне любить меня так же верно, так же горячо, как тогда! – страстно прошептал он. – Я же клянусь тебе всеми своими надеждами на власть и мщение, что в тот момент, когда не будет больше нужды в ненавистных французах, я отправлю им обратно их дурацкую куклу – свою жену – и еще теснее привяжусь к тебе. Ты будешь моей женой, моей царицей, моей императрицей и разделишь со мной корону Италии! Фиамма со слезами слушала эти обольстительные речи, но, очевидно, была довольна ими и шепнула несколько непонятных слов суетившимся ведьмам, которые безмолвно кивнули ей головой и удалились. Она бросила нерешительный взор на Цезаря и стала так поспешно подниматься по лестнице в колонне, что он, не привыкший к ее заворотам, вскоре остался далеко позади. Когда же он поднялся наверх, то к своему изумлению нашел там Мигуэлото с факелом, Фиамма же исчезла. – Где донна Фиамма? Ты не видел, она не проходила мимо тебя? – спросил он. – Нет, ваша светлость, – ответил испуганный комендант, хотя я почти целый час ожидаю вас здесь. – Это удивительно! – проговорил Цезарь с суеверным ужасом. – Кажется, что она открыла секрет делаться невидимкой. И поистине, она обладает волшебным средством, в самые безумные дни моей любви я не чувствовал к ней такой страсти, как сейчас. Я не уйду из крепости, пока не найду Фиаммы. – Это то же самое, что искать иголку в стоге сена, – ответил каталонец. – А я должен напомнить вашей светлости, что большое общество, ожидающее вас в вашем новом дворце, уже потеряло терпение. – Государственные дела задержали нас! Дай мне свой факел! Эта своенравная девчонка не должна играть с огнем, который она зажгла в моем сердце! – нетерпеливо воскликнул Цезарь. Затем, схватив факел, он долго и усердно искал, но, как и предсказывал Мигуэлото, безуспешно. Не трудно было установить, что Фиамма не убежала в свои комнаты, никто из часовых, мимо которых она должна была проходить, не видел ее. – Она действительно нашла средство, которым – знай она его раньше – могла бы удержать меня гораздо дольше, чем это случилось, – сказал с досадой Цезарь. – Но позаботься. Мигуэлото, о том, чтобы в следующий раз я увидел ее, или я буду считать тебя ее сообщником. Попроси ее позвать дона Савватия, он наверно обладает удивительными знаниями в сокровенных науках. С этими словами Цезарь, хотя и неохотно, покинул крепость. (обратно)ГЛАВА ХVIII
Тем временем Бембо спешил по направлению дворца Орсини, с одной стороны огорченный решением своего молодого повелителя, с другой же – довольный тем, что избежал опасностей, в которые могли его вовлечь предприятия синьора Альфонсо д'Эсте. После уничтожения Колонна род Орсини стал, несомненно, главою римского дворянства. К ним перешла большая часть владений Колонна. Поэтому неудивительно, что они соперничали с могущественными Борджиа. Обширный дворец Орсини и весь смежный квартал, были полны их вооруженными союзниками. Среди союзников Бембо нашел Вителлоццо, и более подходящее для своего утонченного вкуса общество в лице Пьетро Медичи и Гвидобальдо, герцога Урбино, и их свиты. Бембо, как один из спасителей Паоло Орсини нашел в его семье самый горячий прием, но сообщенное им решение иоаннита вызвало искреннее сожаление, хотя Паоло в глубине души не чувствовал особенной печали. Главные ветви всей большой фамилии Орсини были представлены герцогом Гравина, его братом, архиепископом флорентийским, и еще двумя сыновьями, кроме Паоло, из которых один был кардиналом, а другой – маленьким мальчиком. Орсини и всех их гостей занимала одна мысль – о браке Паоло с Лукрецией. Честолюбие и желание охранить свой дом от хищных намерений Борджиа сделало этот союз господствующим желанием в душе Гравины, а все его союзники смотрели на этот брак, как на единственное ручательство продолжительного мира и своего собственного могущества. Поведение сира Реджинальда, когда он услышал о решении иоаннита, показалось Бембо странным. Лебофор был видимо изумлен непоколебимостью решения феррарского принца Эсте отказаться от предполагаемого брака с Лукрецией Борджиа и его способностью лишиться такого счастья. Он рассыпался в таких страстных хвалебных гимнах красоте Лукреции, что Бембо с улыбкой напомнил ему, что в Италии любовь растет не так медленно, как на севере. Рыцарь покраснел, как девушка, и Бембо задумался. Но его мимолетное подозрение снова исчезло, когда он заметил, какую искреннюю дружбу питал добродушный и открытый нормандец к Паоло Орсини. До праздника юбилея оставалось лишь несколько дней, и иоаннит постепенно приходил к убеждению, что его поездка в Рим с намерением собрать доказательства против Лукреции, выясняющие порочность ее натуры, по-видимому, останется безуспешной. Во всяком случае и здесь ему приходилось наталкиваться на очень неопределенные слухи, но весь этот мрак, окружавший Лукрецию, казалось, представлял лишь контраст, от которого еще более увеличивались блеск ее красоты и участие, возбуждаемое к ней богатыми сокровищами ее души. Римский народ боготворил ее исключительно за ее неотразимую красоту и, кроме того, верил, что мягким правлением Александра, заменившим собою жестокую тиранию дворянства, он был обязан исключительно ей. Казалось невозможным найти неопровержимые доказательства, или, хотя бы, только след их. Все, что было достоверно известно, говорило в пользу Лукреции. Иоаннит в продолжение этого времени редко виделся с Реджинальдом, отчасти потому, что так хотел сам, отчасти потому, что Лебофор был усердно занят с Паоло Орсини военными упражнениями, так как в числе других развлечений на праздниках обязательно должны были состояться турниры, на которых молодой итальянец хотел блеснуть ловкостью и искусством перед обожаемой красавицей. Английские и французские рыцари в этих упражнениях превосходили всех других, и Лебофор, с детства занимавшийся телесными упражнениями, обладал замечательной ловкостью. Иоаннит, принц Альфонсо д'Эсте, был также его учеником и своим искусством был обязан большей частью его урокам. Бембо приходил так часто, как ему позволял принц, и всегда с новыми доказательствами в пользу Лукреции. Так, он открыл, что она писала стихи, и небольшие стихотворения, которые приписывались ей Пьетро Медичи и другими гостями Орсини, дышали такой грустью, нежностью и благочестием, что иоаннит не мог поверить, что в такой мрачной душе, какую он предполагал у нее, создавались такие образы. Альфонсо должен был опасаться, что в толпе чужеземных пилигримов его легко могут узнать, и поэтому не снимал своего монашеского одеяния, капюшоном которого он, не вызывая подозрений, мог всегда закрыть лицо. Последние дни перед началом юбилейных торжеств были посвящены паломниками говенью и исполнению различных обетов. Ступени храма Святого Петра были все время покрыты молящимися, которым нужен был целый день, чтобы подняться на коленях в собор, причем на каждой ступени они читали определенное число молитв. Об испорченности того времени можно судить по количеству закутанных фигур, направлявшихся целыми днями к исповедальне великого исповедника, назначенного только для выслушивания исповедей великих преступлений, разрешение от которых не могли дать обыкновенные священники. Для Альфонсо это обстоятельство получило новое и необычайное значение, когда он услышал, что на этот пост был назначен духовник Лукреции, и он построил на этом план достижения своей заветной цели. Великому исповеднику он хотел открыть наполнявший его душу ужас по поводу тех слухов, которые циркулировали о преступных отношениях между Лукрецией, ее отцом – папою Александром VI и ее братом, Цезарем Борджиа, определяемых латинскими стихами:"По имени Лукреция, действиями Таис, Александра дочь, его же супруга и невестка",
желал спросить его, представляет ли его, хотя и невольное, подозрение против папы – преступление против церкви, рассчитывая, что один взгляд и простой жест духовника Лукреции могли бы пролить больше света, чем все слова. Закутавшись в плащ и спустив на лицо капюшон, иоаннит отправился в собор вечером за день до юбилея. Великий исповедник находился в подземелье, где помещается гробница святого Петра. Альфонсо стоял в числе кающихся в темном коридоре перед ракой святого апостола, и все, что происходило в исповедальне, было видно ему только тогда, когда туда открывались тяжелые массивные двери, чтобы впустить или выпустить кающихся. Драгоценный покров был снят с гробницы, и рака освещалась лишь факелами, которые держали в руках монахи различных национальностей, служившие в то же время, если в том была необходимость, переводчиками великому исповеднику. На самой гробнице стояла черная мраморная урна, а под ней виднелась алебастровая доска, на которой была выгравирована булла юбилейных торжеств. По громадной куче монет всех европейских стран, насыпанной невдалеке от раки, можно было судить о благочестии собравшихся паломников и их национальностях. На простом деревянном стуле, совсем рядом с этим сокровищем, сидел исповедующий, с молитвенно сложенными руками и бледным лицом, более мрачным, чем обыкновенно. В то время, как Альфонсо терпеливо ждал своей очереди, внезапно раскрылись двери исповедальни, и оттуда скользнула женская фигура. На ее лицо была спущена густая вуаль, и Альфонсо, занятый своими мыслями, не обратил бы на нее внимания, если бы не заметил странного, напряженного взгляда, каким доминиканец провожал ее. Ему показалось, что он как будто знает ее, и она, в свою очередь, словно невольно, сделала изумленный жест, но почти сейчас же ускорила шаги, направляясь к выходу. Однако, иоаннит так заинтересовался этим явлением, что оставил свое первоначальное намерение, и последовал за кающейся. Чтобы не возбуждать подозрения, он старался держаться как можно дальше, пока закутанная незнакомка не исчезла в одном из боковых приделов. Подумав, что она хотела помолиться там, он решил подождать ее возвращения у входа. Но прошло довольно много времени, он потерял терпение, и вошел в придел. Посреди его помещался тускло освещенный алтарь, а рядом с ним – гробница Калликста Третьего из рода Борджиа. Несколько священников служили у алтаря панихиду, а незнакомка стояла перед ним на коленях, объятая молитвенным настроением, или другими, еще более сильными чувствами, потому что Альфонсо слышал ее подавленные рыдания. Но к нему сейчас же неслышными шагами подошел служка, и мягко заявил ему, что донна Лукреция никого не приказывала пускать сюда во время заупокойной обедни по ее убитом брате, герцоге Гандийском. «Да, она боится, что могут заметить ее безмерное горе, она, грехи которой в ее собственных глазах таковы, что требуют очищения только великим исповедником!» – подумал Альфонсо и, довольный этой тенью подтверждения своих подозрений, медленно направился к подземелью, чтобы пройти к доминиканцу. Но вдруг он услышал отдаленное пение, и увидел посредине храма приближающуюся процессию. При свете факелов несколько доминиканцев несли знамя инквизиции – красный крест на черном поле с надписью: «Сим победиши!» Среди доминиканцев находился также и Бруно Ланфранки, великий исповедник, и его серьезные, мрачные черты представляли удивительный контраст с круглым, довольным и веселым лицом монаха, который по обычаю религиозных орденов был его особенным спутником. С еще большим удивлением иоаннит заметил, что к процессии присоединилось немало дворян и высших чиновников, среди которых находились три консерватора, или представителя главного магистрата Рима. У входа в собор процессию ожидали копьеносцы магистрата. Они окружили ее, и сопровождаемые огромной толпой народа, священники направились к мосту Святого Ангела. Из восклицаний и разговоров зрителей иоаннит узнал, что значит все это. – Я пойду в гетто и буду слушать, как он проповедует неверным собакам, проклятым евреям! – кричал один. – Говорят, он будет проповедовать по-еврейски, потому что он говорит на всех языках, – сказал другой. – Меня удивляет, – заявил старый нищий, – что святой отец берет на себя труд заботиться о еврейских душах. – Он способен обратить черта в аду! – воскликнул в толпе какой-то доминиканец. – О, братия, какая честь, что такой праведник принадлежит к нашему ордену! – Какая польза проповедовать убийцам нашего Спасителя? – послышался грубый голос. – Я со своей стороны спалил бы весь еврейский квартал и стер бы с лица земли! – Всегда было в обычае говорить им проповеди накануне праздника! Кроме того, евреи платят значительные налоги, – проговорил чиновник министра финансов. – Боюсь, что это – сравнение с антихристом! – возразил неизвестный, принадлежавший, судя по платью, к инквизиции. Тот, кто предложил предать все огню и мечу, повернулся к чиновнику, но, едва заметив его платье, нырнул в толпу, словно рыба в воду. У принца Альфонсо не было времени обратить внимание на этот порыв христианского рвения, но он все же заметил странность этого явления. Это был человек лет скорее пожилых, в одежде крестьянина. Его широкая, украшенная пестрыми лентами, шляпа, была надвинута на лицо, но не настолько, чтобы скрыть отвратительные рубцы на нем. По его рыскающим, подозрительным глазам, по особой манере носить короткий плащ, словно он хотел спрятать под ним кинжал, в нем можно было подозревать одного из бандитов или бродяг, которые вследствие распущенности тогдашних нравов наводнили собою Италию и являлись для нее ужаснейшим бичом. Иоаннит отправился дальше, не замечая, что и он возбудил не меньшее внимание в этом достойном представителе своей профессии. Альфонсо знал, куда доминиканец направил свой путь, и, чтобы избежать давки, решил нанять лодку и по реке проехать в еврейский квартал. Узкая улица привела его к Тибру. Он стал звать лодочника, но ему пришлось неоднократно повторить зов, прежде чем появилась старинная ладья со старым перевозчиком. – В гетто! – лаконично сказал рыцарь. Лодочник сейчас же погрузил весла, и лодка была уже далеко на середине реки, когда рыцарь заметил в ней еще третьего, который был не кто иной, как крестьянин, находившийся в процессии. – Что тебе здесь надо, приятель? – спросил с неприятным изумлением рыцарь. – Я нанял лодку для себя одного. На грубом диалекте крестьянин ответил, что он просит извинить его дерзость, и позволить христианину послушать, как будут посрамлены евреи, а для этого разрешить ему ехать вместе с ним. Рыцарь подумал немного. Нерешительный вид его спутника, неясность его подозрений и неуверенность в лодочнике заставили его отказаться от намерения выбросить нового пассажира за борт. – Но ты не должен ехать даром, – сказал он, найдя превосходное средство отвратить от себя опасность. – Возьми-ка весла и помоги старику, или – говорю тебе – один из нас должен будет променять лодку на волны. Легкое движение руки под плащом, по-видимому, подтвердило подозрение иоаннита. Но крестьянин повиновался без заметного неудовольствия, и лодка, подгоняемая другой парой весел, быстро понеслась по течению. Рыцарь не выпускал из виду своих спутников, хотя с любопытством иноземца любовался берегами. Луна серебристым светом освещала здания Ватикана. Берега реки постепенно расширились, и вдали показался остров святого Варфоломея. Вдруг оба лодочника, словно по команде, бросили весла и начали читать молитвы. Подозрение иоаннита, несмотря на этот благочестивый порыв, приняло бы вполне определенную форму, если бы он не заметил, что оба вдруг остановились, изумленно взглянув друг на друга. – Разве ты тоже дал ответ святому Варфоломею, брат? – спросил лодочник. – Нет, брат. Но здесь неподалеку находятся городские шлюзы, куда постоянно приплывают много христианских трупов. Вот я и подумал, что будет добрым делом помолиться за душу того, кто может быть сейчас кончается, – ответил крестьянин, в котором дон Альфонсо более чем когда-либо подозревал переодетого бандита. – А для меня отсюда началось мое несчастье, потому что с тех пор, как я увидел, как бросали в реку труп герцога Гандийского, меня избегали все, словно чуму, и мне пришлось бы умереть от голода, если бы святой Варфоломей не посылал мне изредка какого-нибудь чужеземца, – печально промолвил лодочник. – В моей лодке никогда не увидят римлянина. И я делаю это ради того, чтобы убийцы не подумали, что я даю им сигналы, кто едет и богат ли он. А Небу известно, могу ли я догадаться об этом. – Ты уверен в этом, старик? Его святейшество не пожалеет золота, чтобы заплатить за сведения, которые могли бы направить куда следует его мщение, – на чистом римском диалекте произнес крестьянин, внезапным движением наклоняясь к лодочнику, в то время как его рука снова исчезла под плащом. Но прежде, чем эта попытка могла увенчаться успехом, иоаннит могучим усилием выбросил крестьянина за борт. – Как? Неужели этот человек должен погибнуть? – с ужасом воскликнул лодочник. – Если он изкрестьян речной области, то не погибнет. Ведь все они так привыкли к воде, что чувствуют себя в ней, как рыбы. Если же нет, тогда он – презренный убийца и найдет там много знакомых, им же самим отправленных туда, – ответил иоаннит. Но что это он здесь оставил? Это – твой кинжал, старик? – О, святой Варфоломей, нет! – воскликнул лодочник, осторожно поднимая кинжал, словно это была змея. – Но мне кажется, что точно такой же я видел на поясе Джованни из катакомб, прежде чем он и его люди были изгнаны добрым кардиналом Сиенским. – А знаешь, я хотел бы иметь что-нибудь в руках. Ведь негодяй вынырнул и снова нырнул, как утка, словно боится, что его подстрелят! – сказал рыцарь. – Он плывет к камышам. Но так как он тебе не нравится, я решил помочь тебе в гребле. Итак, вперед! – Ах, синьор, когда-то я не был таким мрачным и не возбуждал ни в ком подозрений, – ответил лодочник. – Но все неудачи обрушились на меня с той самой ночи! И это все оттого, что я был так уставши, что позабыл помолиться святому Варфоломею. – Как же это случилось? Расскажи мне всю историю, потому что на севере Италии про нее толкуют по-разному. – Была вот такая же ночь, как сегодня, только среда, – начал старик. – Я выгрузил дрова на берегу еврейского квартала и лежал в лодке, потому что надо было караулить то, что я выгрузил. Судя по звездам, была, должно быть, полночь. Вдруг – эх, лучше бы я спал! – я увидел двух человек, выходящих из-за угла улицы слева от церкви святого Джироламо. Глядя на них можно было заключить, что они явились только посмотреть, нет ли кого-либо постороннего. – Ты не знаешь, каковы были по виду эти люди? – прервал его иоаннит. – Клянусь Пресвятой Девой, один был похож на негодяя, которого ваша милость бросила в воду! – ответил лодочник, – другой же, судя по голосу и походке, был испанец. Оба были в черных масках. Осмотревшись со всех сторон и не заметив ни одной живой души, они вернулись за угол. Вскоре явились еще двое. Они тоже осторожно осмотрели все вокруг, и дали затем сигнал, должно быть, для своего спутника, потому что с трупом человека в седле из-за угла выехал всадник на серой лошади в яблоках. Рядом шли оба человека в масках, которые приходили раньше. Все трое приблизились к реке, между тем, как двое других сторожили улицу. И вот как раз против поворота оба в масках взяли у всадника труп, схватили его за руки и за ноги, и, раскачав изо всех сил, бросили в реку. Всадник спросил, утонул ли труп, но не повернул головы, словно боясь посмотреть. Когда же они ответили ему: «Да, синьор!» – он пришпорил лошадь и повернулся лицом к реке. – Его лицо! Ты можешь припомнить его? – спросил, не дыша от волнения, рыцарь. – Я уже говорил вашей чести, что не посмел взглянуть, из боязни, что взгляд всадника, горевший огнем, встретится с моим! Когда он увидел плывущий по реке плащ покойника, он спросил, что это за черный предмет, и один из спутников ответил ему... – Что? – с нетерпением воскликнул иоаннит. – "Ваше преосвященство... плащ"! Впрочем нет, наверное, сказал: "Ваше превосходительство... плащ! "Да, это было превосходительство!" - смущенно произнес лодочник. – После этого один из этих людей стал бросать в плащ тяжелые камни, пока тот не пошел ко дну. Когда на реке не стало видно ни единого круга, они повернули лошадей. Но в это мгновение с улицы с воплем выбежала молоденькая девушка, а за нею две старые женщины. Я не знаю, что ей было нужно, но всадник кинулся ей навстречу и, схватив ее за волосы, ждал, пока не подоспели старухи. Девушка упала в обморок, старухи унесли ее прочь, а всадник повернулся в другую сторону, на улицу, которая ведет к храму святого Иакова. Это – все, что я знаю об этой истории и видел собственными глазами, и что я передавал его святейшеству нашему святому отцу. – Но девушка! Девушка! Какова она была из себя? Ее фигура, цвет волос? – воскликнул рыцарь, выпуская от волнения весла. – Почем я знаю? Девушка такая же, как все другие, – с неудовольствием ответил старик. – Неужели ты не заметил, какого цвета были ее волосы? Я спрашиваю тебя не из простого любопытства, а по необходимости, и ты, пожалуйста, отвечай мне, – с нарочитым спокойствием сказал рыцарь. – Не были ли ее волосы золотистого цвета? Обладательницы таких волос больше всего склонны к преступлению! – Я только мельком видел ее, синьор, но если вы толкуете о ее волосах, то мне показалось, что я увидел в ее волосах красную ленту с золотыми нитями, как носят в виде украшения еврейские девушки из гетто. А, может быть, это была и кровь... быть может, ранили и ее. – И ты все-таки не заметил цвета ее волос, несмотря на то, что всадник схватил ее за них? – Ночью все кошки серы. Но мне сдается, что они, должно быть, были черны, потому что рука, схватившая их, казалась, наоборот, очень белой, – подумав, ответил лодочник. – Но почему же ты не поспешил к правителю города, сообщить ему, что ты видел, чтобы он мог преследовать убийц по пятам? Ведь я слышал, что труп нашли только в пятницу, – сказал иоаннит. – С тех пор, как я зарабатываю свой хлеб здесь, на Тибре, – с мрачной улыбкой ответил лодочник, – я по крайней мере, раз сто видел подобные случаи, и никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил об этом. Поэтому я подумал, что и эта история пройдет так же спокойно, и продолжал спокойно делать свое дело, пока не узнал о высоком положении убитого, и о том, что это был герцог Гандийский. Тогда мне пришла в голову глупая мысль заработать на этом, и вот таким-то образом я испортил себе все дело из-за пяти крон, которые мне дал герцог Борджиа, тогда еще кардинал. «Этого, – сказал он, – довольно за бред пьяного дурака». Если бы я напал на след убийц, я, может быть, нашел бы свое счастье, потому что святой отец папа и донна Лукреция почти обезумели от горя, причиненного гибелью герцога Гандийского. Но у меня не хватило совести обвинять невиновных. Скверно, когда совесть не позволяет человеку нажиться! И все же хорошо, что так случилось, слава святому Варфоломею! Ведь убийцы могли подумать, что я выдаю их, и, прежде чем я успел бы произнести одно слово, они порвали бы мне глотку. Кто знает, кто скрывался под маской! Но вот и гетто, и я хочу напомнить вашей милости, что у меня бывают только те пассажиры, которых посылает мне мой святой. – Кроме хорошей платы, дед, я тебе дам добрый совет, – с тяжелым вздохом произнес иоаннит. – Не рассказывай этой истории всем своим пассажирам, хотя бы это были и чужеземцы. Ты не всегда найдешь таких слушателей, как я! Да, ты можешь встретиться с таким, который, как наш милый товарищ, брошенный в воду, будет иметь достаточно оснований заставить навеки умолкнуть тебя. (обратно) (обратно)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА I
Римские евреи имели в то время право жить лишь в одной известной части города, в так называемом «гетто», находившемся у самого подножия Капитолия на низком, болотистом берегу Тибра. Гетто со всех сторон окружали высокие стены. Сообщаться с городом можно было лишь через тяжелые ворота, которые охранялись городской стражей. С восходом солнца ворота открывались, а с наступлением вечера закрывались вновь, впустив на ночлег уставших сынов Израиля, работавших вне черты гетто. При том отношении к евреям, которое господствовало тогда в Риме, да и во всей Италии, гетто было почти благодеянием для них. Скрытые высокими стенами, совершенно обособленные, евреи были, по крайней мере, защищены от вспышек злобы христиан, видевших в обитателях гетто тех самых евреев, которые когда-то распяли Христа, и потому ненавидевших их всеми силами души. Здесь, в гетто, сыны Израиля имели некоторую возможность охранять от христианского разгрома свое имущество, накопленное вместе с ростовщичеством и тяжелым упорным трудом. Обитатели гетто представляли таким образом, как бы совершенно отдельный народ, еврейские женщины не переступали ворот гетто, и не имели ни малейшего представления о том, что совершается вне его. Многие католики-фанатики поддерживали среди населения Рима вражду к евреям, распространяя нелепые слухи о том, что евреи для исполнения своих религиозных обрядов употребляют христианскую кровь, для чего воруют маленьких детей. Эти слухи, понятно, возбуждали ненависть к обитателям гетто, но к ненависти примешивалась и зависть, так как много говорилось о несметных богатствах евреев. Легенды о богатстве потомков Авраама упорно держались в народе, хотя при посещениях гетто христиане встречали на каждом шагу вопиющую бедность. Обыкновенно, гетто открывалось для христиан три-четыре раза в год, когда папа посылал одного из своих проповедников для распространения христианства среди иноверцев. В остальное время обитатели гетто были предоставлены самим себе, при непременном условии платить более или менее крупную сумму денег за эту милость. Каждый год евреи были обязаны представлять папе свои священные книги и прошение о разрешении остаться еще на один год в Риме. Вся эта процедура сопровождалась большими оскорблениями для евреев. Папа или его представитель швыряли еврейскую святыню на пол, к величайшему ужасу и молчаливому негодованию сынов Израиля, а затем папа долго ломался, пока, наконец, давал благосклонное разрешение евреям остаться еще на год в Риме, требуя за это, конечно, известную денежную дань. Пользуясь случаем, что евреев нужно известить о предстоящих юбилейных торжествах, папа снова послал опытного проповедника, и ворота гетто широко раскрылись для приема большой толпы христиан. Евреи знали, что последует за этим вторжением, и заблаговременно приготовились к приему враждебных гостей. Альфонсо был поражен унылым видом гетто. Ряд жалких лачуг тянулся по обеим сторонам необыкновенно узких улиц, настолько узких, что два человека с трудом могли разойтись. На окнах висели грязные, мокрые тряпки. Отвратительный запах возбуждал тошноту. На большом протяжении от самых ворот гетто до базарной площади не видно было ни одного еврея. С громким криком и смехом римляне разбрелись по узким улицам гетто, путаясь в них, как в лабиринте. Иоанниту как-то посчастливилось сразу выйти на площадь. Это было большое, свободное пространство, окруженное такими же ветхими лачугами, какие попадались и на улицах гетто. Большинство зданий искусственно поддерживалось подпорками, но зато почти на всех крышах были по восточному обычаю, разведены сады. Посредине площади находился простой колодец, вокруг которого стояли каменные столы и скамьи. Здесь обыкновенно собирался совет старейшин. Теперь почетные старцы явились сюда по приказанию папы и с болью в душе и униженно-покорным видом, были вынуждены выслушивать, как издевались над их религией. Четверо новокрещенных евреев несли подвижную кафедру, с которой папский проповедник, Бруно Ланфранки, должен был держать свою речь. Далеко не все мужское население гетто собралось на площади. Многие состоятельные люди откупились более или менее крупными суммами от необходимости присутствовать при оскорбительной для них церемонии, а бедные, за известное вознаграждение со стороны своих единоверцев, принесли себя в жертву, и явились представителями гетто. Вокруг евреев шумела и смеялась христианская чернь, отпуская насмешки и ругательства по адресу обитателей гетто. С редким терпением и покорностью переносили евреи все издевательства. Они боялись дать малейший повод к грабежу, который, как дамоклов меч, висел над их головами. Площадь освещалась факелами, горевшими в окнах домов, и благодаря этому можно было видеть, что делается внутри их, заметить несколько женских фигур с закрытыми по-восточному обычаю лицами. Вскоре Альфонсо нашел исключение из этого общего правила. Стараясь быть незаметным, рыцарь спрятался в глубине ворот одного из полуразрушенных необитаемых зданий, и оттуда следил за развивающимися событиями. Налево от него находился ветхий домик с закрытыми ставнями. По вывеске, на которой были нарисованы бутыль и ступка, Альфонсо заключил, что и этом доме проживал аптекарь, или вообще какое-либо лицо, имевшее дело с медикаментами и врачебным искусством. На маленьком деревянном балконе дома стояла молодая женщина, приковавшая и себе внимание рыцаря. Она поразила Альфонсо не только своей выдающейся красотой восточного типа, но и необыкновенной бледностью лица, и своеобразностью всей фигуры. На молодой еврейке был грязный шелковый плащ, украшенный пестрыми разноцветными бантами и блестящими камнями. Пламя свечи, которое девушка прикрывала рукой, освещало ее глубоко запавшие глаза, с каким-то странным выражением смотревшие на толпу. Эти глаза и блуждающая улыбка на губах заставили Альфонсо предположить, что молодая женщина находится на грани сумасшествия. Как-то невольно внимание рыцаря остановилось на цепи из золотых монет, украшавшей черные растрепанные волосы девушки. Он сам не мог дать себе отчета, почему он так заинтересовался этой цепью. Кафедру, наконец, водрузили в центре площади. Монах прочел молитву, и затем два раввина поднесли ему свои священные книги, которые должны были подвергнуться жесточайшему осуждению в присутствии всей этой толпы. Красивая еврейка была замечена не одним Альфонсо. К своему большому огорчению, рыцарь увидел, что у тех же самых ворот, в глубине которых он прятался, остановился какой-то человек в мантии и с посохом паломника, отправляющегося на богомолье. Низко надвинутая на лоб шапка и высокий воротник мантии скрывали почти все его лицо, за исключением необыкновенно блестящих глаз, устремленных на еврейку. – Да, это – она... Но как она изменилась! – вполголоса проговорил паломник. – Однако, куда же пропал тот негодяй? Он заставляет нас ждать слишком долго. Теперь только Альфонсо заметил того человека, к которому обратился паломник. По его простому мундиру и военной фуражке без всякого герба, не трудно было убедиться, что он – солдат одного из гарнизонных полков. – Да, синьор, это – безумная Мириам! – тихо ответил солдат. – Да, да, это – та самая девка. Однако, меня уже начинает беспокоить долгое отсутствие бродяги. Куда мог деваться твой хваленый герой? Уж не набрался ли он смелости, что думает ускользнуть от нас? – Если бы он пошел даже против сатаны, я поручился бы за то, что он не отступит от своего намерения. Когда дело касается этого святого человека, посещающего чумного больного с такой радостью, точно он идет на свидание с любимой женщиной – тут ничего нельзя предугадать. Слишком уж много внушает почтения к себе этот монах! По моему мнению, если он непременно должен умереть, то легче покончить с ним там, где он живет, чем здесь, среди нескольких тысяч людей! – Нет, это не верно, – возразил паломник, – здесь не трудно вызвать возмущение и затем прекратить его. Монах будет убит во время мятежа, и его смерть, конечно, каждый объяснит еврейской местью. Евреи поплатятся за него. Никому не придет в голову, что монаха убил бандит! – Вот он идет! – воскликнул солдат, – но в каком же он виде!.. С него течет вода, как с водяной крысы. В душе принца Альфонсо явилось смутное подозрение, что он видит перед собой герцога Романьи и его наперсника дона Мигуэля. Однако, у рыцаря не было времени дать себе отчет о только что услышанных словах, так как в это время к двум беседовавшим лицам присоединился третий человек, в котором Альфонсо сейчас же узнал подозрительного крестьянина, выброшенного им в Тибр. – Ах, Джованни, как долго нам пришлось ожидать тебя! – воскликнул паломник, нетерпеливо схватив бандита за руку. – Отчего ты такой мокрый? Что случилось с тобой? В эту минуту раздался громкий голос проповедника. Он читал еврейские тексты и переводил их на латинский язык. Этот голос заглушил все другие, и потому Альфонсо не мог расслышать, что ответил крестьянин на последний вопрос паломника, который зашел глубже в ворота и очутился так близко от рыцаря, что тот мог слышать каждое его слово. – Ах ты негодяй, собака! – раздраженно заговорил паломник, – ты осмеливаешься не слушаться меня! Разве ты забыл, кто я такой? – Ах, синьор, я думал, что это был сам ангел в наряде иоаннита, которого Господь послал на землю для того, чтобы помешать моему намерению! – ответил бандит, дрожа от страха и холода. – Дурак, неужели ты думаешь, что ангел прикоснулся бы к тебе, не уничтожив сразу? – нетерпеливо заметил паломник. – Так ты говоришь, что незнакомец был в костюме иоаннита? Хорош ангел! Как бы там ни было, я сделаю из тебя черт знает кого, если ты осмелишься противоречить мне. Скажи, сколько тебе нужно еще заплатить? – Даже целая груда золота не соблазнит меня! – возразил бандит. – Но я – честный человек и не хочу даром получать вознаграждение. Пусть дон Мигуэль проводит меня в катакомбы, и я верну ему те деньги, которые получил в задаток. Святого монаха оберегает Сам Господь Бог... – Святого, святого! – насмешливо передразнил бандита паломник. – Знаем мы его святость! У него на груди крест, а в сердце дьявол. Разве святой стал бы возбуждать жену против мужа? Это он зажег в ее душе ненависть к ее первому мужу Сфорце, а теперь мешает свадьбе Орсини. Мы все прекрасно понимаем, что он стережет ее точно дракон, охраняющий скрытые сокровища. Альфонсо с напряженным вниманием слушал слова паломника, в которых ясно звучала ревность. Он не сомневался больше, что видит перед собой Цезаря Борджиа. – Я ничего не знаю о драконе и скрытых сокровищах, – угрюмо пробормотал бандит, – но клянусь, что никогда не подниму меча на этого святого человека. – Дурак! – скрежеща зубами от злости, воскликнул паломник. – Как ты не понимаешь, что убийство этого проклятого монаха вызовет такое возмущение, что у тебя и твоих людей, которые рыскают вокруг, появится возможность набрать столько денег, что вы обогатитесь навеки? – Навеки! – нерешительно повторил бандит. – Но право, я ничего не могу сделать, синьор. Вы видите, что этот инок окружен почетной стражей с обнаженными мечами. Я ведь думал, что встречусь с ним в темной, узкой улице. Да и я только что поклялся, что не подниму на него меча. – Да, ты, Джованни, поклялся, не поднимать на него меча, но ведь ты подстреливаешь своим ружьем летящего мимо орла, – быстро проговорил паломник. – Где оно? Ты всегда носил его на своем плече. – Я продал его англичанам, – ответил бандит, – я предпочитаю расправляться мечем и палкой. – Мне кажется, я могу доставить тебе оружие, – заметил паломник. – Вон там стоит какой-то путешественник и не отрывает взор от еврейки. Я пойду к нему, а вы оба спрячьтесь в воротах. Мигуэлото и бандит очутились почти рядом с принцем Альфонсо, но из-за кромешной тьмы не заметили его. Рыцарь был очень доволен этим обстоятельством, так как, несмотря на свою храбрость, не хотел бы иметь дело с такими противниками. Человек, на которого указал Цезарь, действительно старался обратить на себя внимание красивой еврейки. Он улыбался ей, кивал головой, делал гримасы. Его четырехугольный лоб и круглый подбородок выражали дикое упрямство и жестокость. По костюму его можно было принять за немецкого рыцаря. – Я замечаю, синьор, что у вас хороший вкус, – обратился Цезарь к немецкому рыцарю, вежливо поклонившись. – Действительно, трудно найти более лакомый кусочек. – Несмотря на то, что эта еврейка больше похожа на восковую фигуру, чем на живую женщину! – ответил рыцарь чистейшим итальянским языком. – Она отравлена запахом лекарственных трав и минералов. Было бы благодеянием вырвать ее из этой среды. – Я очень желал бы, чтобы в гетто произошел погром, – весело заметил немецкий рыцарь. – Пусть бы тот брал еврейское золото, кому оно нужно, а что касается меня, то я ограничился бы этой евреечкой. К сожалению, я ничего не могу предпринять, на меня наложено покаяние вот тем строгим монахом. – Вероятно, вы совершили какое-нибудь преступление, если вам понадобилось заступничество духовного лица? – Я избавил старика от нескольких неприятных месяцев жизни! – равнодушно ответил немецкий рыцарь. – Однако, раз ты мне предлагаешь отвечать на твои вопросы, то позволь спросить, что заставило тебя прийти в Рим в качестве паломника? Наверно, ты тоже отмаливаешь какой-нибудь грех? – Говорят, что я убил своего брата! – таким же равнодушным тоном ответил Цезарь. – А я – только дядю! – весело заявил рыцарь, по-видимому, очень обрадованный, что его преступление оказывается даже менее значительным, чем его собеседника. – Правда, дядя воспитал меня и ласкал, как собственного сына, но нельзя же вечно ждать наследства. – Понятно, – согласился паломник. – Старики никогда не хотят умирать вовремя. Я вижу, что ты – солдат и храбрый малый, а я большую часть своей жизни был священником. Тем не менее, я выполню то, о чем ты еще дерзаешь думать. – А о чем я думаю? – удивленно спросил немец. – Ты думаешь, как легко можно было бы взобраться на балкон и поцеловать еврейку, к величайшему ужасу ее проклятых единоверцев. – Да, говорят, что евреи предпочитают, чтобы им наплевали в лицо, чем взглянули на их жен и дочерей. Однако, ты угадал мои мысли! – А хочешь держать пари, что ты не решишься исполнить свое желание, а я сделаю это! – подзадоривал паломник. – Эх, как бы я еще решился, если бы не епитимья, наложенная на меня духовником. Он приказал мне не поднимать ни на кого оружия, я имею право бороться только с язычниками. – При чем тут оружие? Ведь ты собираешься не убить, а только поцеловать еврейку. Кроме того, разве евреи не язычники? Подержи мой посох, и я на твоих глазах взберусь на балкон и познакомлюсь с красавицей. – Нет, нет, не смей делать это, по крайней мере, раньше меня! – сердито воскликнул рыцарь. – Подержи мое ружье и шлем, пока я взберусь на балкон. Смотри, не вздумай обмануть меня, не то тебе придется дорого поплатиться за это. Паломник поспешил ответить, что будет ждать его внизу, и немец отдал ему шлем, ружье и более или менее тяжелые предметы своего вооружения. Цезарь немедленно присоединился к своим сообщникам. – Вот тебе ружье, Джованни, – проговорил он, – пусти его в ход, если не желаешь, чтобы свинец пробил твой собственный череп. Как только поднимется шум из-за того человека, который забрался на балкон, стреляй немедленно. Ты знаешь, кто этот путешественник? – Это – Оливеротто да Фермо, убивший своего дядю, я узнал его. Смотри, какую прекрасную цель для тебя представляет собой монах. Он стоит на кафедре, вытянув вперед руки, точно нарочно подставляет грудь под выстрел. – Он похож на черное распятие, – пробормотал бандит. – Все заметят, когда вспыхнет фитиль в ружье, и если я не успею скрыться, то ясно будет, что евреи тут не при чем. – Ты спрячешься среди развалин, а я и Мигуэлото постараемся вызвать в эту минуту возмущение среди народа в разных пунктах гетто и отвлечем от тебя внимание. В конце концов бандит согласился исполнить страшное желание Цезаря Борджиа. Было решено воспользоваться смятением, которое должно было вызвать поведение Оливеротто. Затем сообщники расстались. Альфонсо слышал все, что говорили сообщники, и придумывал меры, чтобы предупредить несчастье. Если бы дело происходило в другое время и в другом месте, он выступил бы вперед посреди площади, и прокричал бы о готовящемся злодеянии. Но при данных обстоятельствах смятение, которое вызвали бы его слова, только способствовало бы успеху задуманного Цезарем плана. Если бы злоумышленники знали о присутствии Альфонсо, они убили бы его прежде чем он успел бы произнести хоть одно слово. Альфонсо быстро сообразил все это, терпеливо выждал, пока заговорщики разойдутся, и рассматривал доминиканца с совершенно другим чувством, чем до сих пор. Монах говорил свою проповедь на древнееврейском языке и все обитатели гетто слушали его с таким вниманием, какого ни разу не проявляли по отношению христианских проповедников. Альфонсо показалось, что доминиканец гораздо моложе, чем он думал. «Какое влияние он должен иметь на свою духовную дочь!» – пронеслась в его голове ревнивая мысль. Однако, у Альфонсо не было времени долго размышлять по этому поводу. Джованни повернулся спиной и толпе и, став на колени, начал осторожно добывать из кремня огонь, чтобы зажечь фитиль ружья. С такой же осторожностью и рыцарь вытащил свой меч. «Крыса!» – подумал он, но продолжал свое дело. Сверкнуло пламя и отразилось на латах рыцаря, осветив его фигуру с обнаженным мечем в руках. Бандит вскрикнул и вскочил на ноги, но в ту же минуту упал навзничь от сильного удара Альфонсо. Он лежал без сознания, обливаясь кровью, а иоаннит, придавив его грудь ногой, стоял в нерешительности, не зная, убить ли этого человека, или оставить в живых, чтобы заставить его открыть весь план заговора. В это время раздались громкий женский крик и шум в толпе, служивший доказательством того, что Оливеротто успел исполнить свое намерение. Не колеблясь более, Альфонсо наступил всей тяжестью своего тела на грудь бандита, а затем поспешил на площадь. – Христиане и евреи! – громким голосом закричал он, – оставайтесь спокойно на своих местах. – Я рыцарь гроба Господня и сумею наказать дерзкого негодяя. Заволновавшаяся было толпа остановилась, глядя с доверием на высокую фигуру рыцаря, который ловко взбирался на балкон, где кричащая еврейка тщетно старалась вырваться из рук Оливеротто. – Чего ты так кричишь, моя голубка, ведь я только поцелую тебя! – говорил Оливеротто, в порыве страсти не замечая, что творится вокруг него. Вдруг сильный удар кулаком в плечо отрезвил его. Оливеротто в бешенстве оглянулся и не успел опомниться, как его схватили за шиворот и сбросили вниз с балкона. Толпа, находившаяся непосредственно у балкона, состояла преимущественно из христианской черни. Оскорбления еврейки она не считала преступлением и потому громко и весело смеялась над быстрой и ловкой расправой с кавалеристом. Оливеротто, вскочив с земли, лишь слегка прихрамывал и, повернувшись лицом своему оскорбителю, потребовал, чтобы он сошел вниз и дрался с ним не на жизнь, а на смерть. Народ продолжал добродушно смеяться и не трогал кавалериста. Но вот раздался голос доминиканца, требовавшего, чтобы мятежник был отведен в храм Божий для суда над ним. Оливеротто, как излюбленный воспитанник Вителлоццо, имел полное основание держаться вдали от церкви, а потому он поспешил убежать пробиваясь через толпу, которая не оказывала ему большого сопротивления. Однако Бруно не так легко было обмануть. Соскочив с кафедры и размахивай серебряным крестом, он пошел вслед за беглецом в сопровождении рыцарей, паломников и черни. (обратно)ГЛАВА II
Еврейка убежала в дом, как только Альфонсо освободил ее из рук Оливеротто, и оставила на земле зажженный факел. Рыцарь поднял его и вошел в большую пустую, полуразвалившуюся комнату, к которой примыкало несколько маленьких, таких непустых комнат. Там он остановился и начал прислушиваться. Везде царило гробовое молчание. Несомненно, испуганная девушка убежала в жилую часть дома, находившуюся, вероятно, в нижнем этаже. Вскоре рыцарь заметил небольшую отвесную лестницу, которая вела вниз. Подойдя к самой лестнице, он громко позвал беглянку, но и внизу была та же тишина. Н думая о том, что его, может быть, ждет опасность рыцарь спустился по лестнице и, судя по запаху лекарственных трав и специй, охватившему его, очутился в аптеке или в лавке аптекарских товаров. Лавка носила такую же печать запустения, как и верхние комнаты. По-видимому, уже давно никто не занимался ею. Убедившись, что и здесь нет ни одной живой души, и что единственная дверь заперта глухим замком, Альфонсо решил, что красавица все-таки спряталась наверху. Он только собрался снова подняться, как вдруг услышал где-то невдалеке глубокий вздох. В то же время он заметил, что холодный пустой камин слегка освещен каким-то тусклым пламенем. Подойдя поближе, он увидел за камином неплотно прикрытую потайную дверь. Сквозь ее щель пробивался свет, который и освещал камин. Альфонсо открыл дверь, предварительно поставив свой факел в камин, и очутился на лестнице, которая спускалась в темную сводчатую комнату в виде погреба. Потухающий огонь топившейся печки слабо освещал это неприглядное помещение. Около печи сидела на корточках молодая еврейка, подняв голову и тревожно прислушиваясь. Не зная, какое действие произведет на беглянку его появление, Альфонсо остановился на последней ступеньке. Вдруг пламя в печке вспыхнуло и отразилось в латах рыцаря. Молодая девушка увидела его и громко вскрикнула. Альфонсо, стараясь успокоить беглянку, вошел в комнату. Первые же звуки голоса рыцаря, по-видимому, оказали благотворное действие на девушку. На ее губах появилась блуждающая улыбка, а затем, в конце концов, она радостно захлопала в ладоши и бросилась навстречу Альфонсо. Подойдя совсем близко к нему, она вдруг остановилась, по-видимому, пораженная его полувоенным, полумонашеским одеянием, и воскликнула: – Ах, это – ты! Как давно мы не виделись! Ты так вырос, так вырос, точно высокий кедр. Ведь это – ты?.. Нет, впрочем, нет! Скажи, кто ты такой? – Я – тот, который вырвал тебя из рук грубого солдата. Ты, кажется, ждала кого-то похожего на меня, девушка. Отчего ты так смотришь на меня? Как твое имя? – задавал вопросы Альфонсо. – Нет, нет, это не он, он никогда не придет больше! – тихо проговорила молодая девушка. – Не шути со мной, Джованни! Зачем ты нарядился в этот костюм, мой милый? Я никогда ни в чем не упрекну тебя, не скажу тебе, как я мучилась в течение твоего долгого отсутствия. Мой мозг совершенно высох от постоянных дум о тебе. Я выплакала все свои слезы и теперь совсем не могу плакать. Говори, о мой Джованни! Скажи, ведь ты не рассердился на свою Мириам? Ведь не потому ты так долго не приходил к ней? Почему ты молчишь, мой дорогой? Тебе нечего бояться, что колдуньи узнают о твоем приходе. Они сказали мне, что умер и больше не придут сюда. Что же ты не отвечаешь мне? Я сейчас принесу огонь и посмотрю на твои щеки. Они раньше были розовые, а потом стали бледные, ах, какие бледные!.. Нет, нет, он умер, он умер. «Джованни! – подумал Альфонсо, невольно вспомнив убитого герцога Гандийского. – Впрочем в Италии имя Джованни встречается на каждом шагу!»– успокоил он себя. Мириам отошла к печке, зажгла факел и, держа его в руках, вернулась к рыцарю. Затем она внимательно осмотрела его с ног до головы, печально покачала головой и с глубоким вздохом опустила факел вниз. – Как видишь, я не тот, которого ты ждала, – проговорил Альфонсо. – Однако скажи мне, за кого ты приняла меня, прекрасная Мириам? Молодая девушка недоверчиво взглянула на рыцаря, а затем воскликнула: – Какое тебе дело до него? Его выдали колдуньи красному человеку с бледным лицом. Только вы все ничего не знаете, – с торжествующей улыбкой прибавила она. – Я так хорошо спрятала его, что никто из вас не найдет его. Не смейте трогать его, не то я начну так кричать, что мой крик услышит и ваш, и мой Бог. Ваш Бог милосердный, добрый. Ты слышал, что говорил ваш раввин? Мириам села, подперев рукой подбородок, и задумалась. Казалось, она вспоминает слова доминиканца. – Наш закон – гора Гореб, – медленно проговорила девушка, – а ваш закон – светлая, чистая вода, струящаяся с этой горы. В этой воде люди находят радость и спокойствие. Что такое спокойствие? Смерть? Как спокойно он лежал, когда умер, несмотря на все свои страшные раны, нанесенные кинжалом!.. Мириам замолчала и смотрела какими-то пустыми, ничего не выражающими глазами на рыцаря. – Ты была так же хорошо одета, как сейчас, когда сюда приходил «красный человек с бледным лицом?» – нерешительно спросил Альфонсо. – Он не был здесь, как тебе известно. Он оставался наверху, – ответила Мириам, – но потом они принесли его сюда. Впрочем, это все мне только приснилось. Ах, какой страшный сон я видела!.. Я была тогда гораздо красивее, чем теперь. Меня все любили, осыпали бриллиантами. Для меня не существовало большей радости, как наряжаться для Джованни. Я вплела драгоценности в свои косы, когда знала, что он приедет. – Какой тебе снился грустный сон, Мириам? Расскажи мне его!.. Я очень люблю печальные истории. – О, нет, я не могу рассказать его ни тебе, ни кому-нибудь другому, не то мои тетки убьют меня. Как это было ужасно! Джованни схватили и вонзили в его дорогое тело длинные, острые кинжалы. Я закричала изо всех сил: «Убийцы, убийцы, убийцы!», – но моего голоса совсем не было слышно. В моих ушах стоял такой гул, точно от тысячи лошадиных копыт, как тогда на турнире, когда я в первый раз увидела Джованни. Твой костюм, рыцарь, нищенские лохмотья по сравнению с его нарядом! Пока старые колдуньи варили в бутылках свои снадобья, я убежала с Ревеккой на христианский праздник, а старухи думали, что я сижу за прялкой. – Кто же такой твой Джованни, почему он носил такой богатый наряд? Тебе снилось, что его убили твои соплеменники? – спросил Альфонсо притворно равнодушным тоном, чтобы не возбудить подозрения в молодой девушке. – Да, это все было только сон, ужасный сон! Мне придется кипеть в горячей смоле на том свете за то, что я все думаю о Джованни! – прибавила она скорбным тоном, и слезы потекли по ее щекам. Альфонсо терпеливо ожидал конца этого припадка отчаяния, надеясь, что разум вернется к Мириам, и он узнает что-нибудь более определенное. Вдруг девушка открыла глаза, быстро вытерла слезы, взглянула на рыцаря с выражением недоверия и страха, и внезапно спросила: – Ты ведь не та змея, которая приходила сюда ко мне и старалась льстивыми словами выпытать у меня все о Джованни? Она, эта змея, шепнула мне, что Джованни любит другую, и чтобы я на эту ночь удержала его у себя, потому что иначе он пойдет на свидание к той красивой даме, которая была королевой турнира. Эта змея была подослана моими тетками, и, вы знаете, рыцарь, в ту ночь старые колдуньи убили его. – Джованни любил другую? Кто же она такая? – воскликнул Альфонсо. – Она была так прекрасна, что в моем сердце вспыхнула адская ревность, когда я услышала ее имя. Разве ты не знаешь, кто была королевой на турнире, разве ты не слышал ничего о донне Лукреции? – И твой Джованни предпочел ее тебе? – спросил Альфонсо, невольно вздрагивая. – Нет, нет, это была ложь! Он пришел, он пришел ко мне! – с сияющим лицом ответила Мириам, – а ты – дьявол и хочешь оклеветать его. Когда я ему сказала, что нашептывала мне змея, он... Девушка вдруг остановилась и начала прислушиваться. – Что же он ответил тебе? – с напряженным вниманием допрашивал рыцарь. – Тише, слышишь шаги? – испуганно прошептала Мириам. – Нет, это уголья в печке трещат, – успокоил ее Альфонсо. – Скажи же, Мириам, умоляю тебя, что тебе ответил Джованни? – Вот точно такой же был шум, когда они пришли сюда. Я думала, что это – ветер, – встревожено прошептала молодая девушка. – Хорошо, что ты не спишь, а он спал тогда. Ах, как он был хорош во сне! Мне жаль было будить его рано утром, хотя я знала, что если ведьмы застанут его здесь, то убьют. – Но ты все-таки не сказала мне, что ответил тебе Джованни! – повторил рыцарь. – Наверно, он засмеялся. – О, нет, я никак не ожидала, что он может так рассердиться. Он умолял меня, чтобы я на следующий день уехала из гетто в... я не могу вспомнить, куда! – с тоской сказала Мириам, проводя рукой по лбу. – Он хотел доказать мне, что не может любить донну Лукрецию, хотя она и была необыкновенно хороша. Он обещал, что убьет негодяя, наговорившего мне этот вздор, когда узнает, кто он такой, а затем... Слышишь, кто-то поднимается по лестнице... – Что ты говоришь, Мириам? Ведь ты забыла, что мы находимся под лестницей. Как же можно на нее подняться, минуя нас? Кто же был твой Джованни? Вероятно, какой-нибудь знатный господин? Не был ли это кто-нибудь из семьи Орсини? Их замок примыкает к гетто. – О, Орсини! – пренебрежительно воскликнула девушка. – Далеко им до него!.. Они даже недостойны завязать шнурок его сапога. Боже, как он был хорош, когда сидел на лошади! Красавец, добрый, храбрый! Улыбка его алых губ была для меня дороже всех драгоценностей в мире, а когда он смотрел в мои глаза, то моя душа таяла от блаженства. Я мечтала о нем давно-давно, гораздо раньше, чем увидела. Ах, нет, это все был сон! Почему он ни разу ничего не сказал мне о себе, кроме того, что его зовут Джованни? Впрочем, мне ничего и не нужно было знать! – Если ты так сильно любила его, Мириам, почему ты не отомстишь за его смерть? – спросил Альфонсо. – Разве тебе не тяжело видеть, как твои единоверцы, убившие Джованни, с улыбкой вспоминают о кровавой ночи, встречаясь где-нибудь? – Нет, Джованни убили нечистые духи, вызванные ведьмами! – задумчиво ответила молодая девушка. – С одного, того красного человека, мой Джованни сорвал маску, чтобы показать мне его лицо, такое бледно-серое, точно пепел при дневном свете. – Ты наверно запомнила это лицо? – Я тебе говорю, что это были черти, – продолжала Мириам. – Они держали меня и смеялись, пока убивали моего Джованни. Альфонсо вспомнил рассказ лодочника о кричащей молодой девушке, за которой следовали две старухи, и у него появилась уверенность, что речь шла именно о Мириам. Кто мог быть таинственным убийцей? Имя Лукреции снова навело его на грустные мысли. Он был почти убежден, что возлюбленный Мириам был жертвой не евреев. Вполне можно было допустить, что ревность разгневанной женщины могла вызвать это убийство. Может быть, он погиб от руки постороннего соперника, а, может быть, зависть к младшему брату довела Джованни до смерти. Альфонсо вспомнил обо всех слухах, которые распространялись о Лукреции, о таинственном исчезновении многих даже очень знатных лиц, имевших прежде счастье пользоваться расположением жестокой красавицы. Огромное количество убитых бросалось прямо в реку, как в общую могилу. Мириам, между тем, рассматривала рыцаря каким-то странным, точно отсутствующим взглядом, и наматывала на палец свои длинные черные волосы. – Куда же они девали труп Джованни после того, как убили его? – спросил наконец Альфонсо. – О, я сейчас покажу тебе! – живо воскликнула еврейка. Затем она подбежала к высокому платяному шкафу, закрытому на замок, с некоторым усилием открыла его, и распахнула обе дверцы шкафа. К величайшему своему удивлению, Альфонсо при свете лампы, которую держала Мириам, увидел, что между домом и глухой стеной находилось нечто вроде колодца, наполненного водой. Со стороны шкафа спускалось несколько ступенек к воде, и больше не было никакого выхода. – Куда же течет эта вода, Мириам? – спросил рыцарь. – Об этом знаю только евреи да водяные крысы! – с хитрой улыбкой ответила молодая девушка. – Послушай, Мириам, что я тебе скажу, – взволнованно проговорил рыцарь. – Ты могла убедиться на деле, что у меня сильная рука. Твои родственницы обманули тебя, что Джованни убили черти. Это – неправда. Твой возлюбленный погиб от руки своего соперника-христианина. Может быть, последний сделал это в угоду той красивой даме, о которой тебе говорили. Если бы ты могла найти убийцу в праздничной толпе и показать мне его, то клянусь тебе всем тем, что свято как для евреев, так и для христиан, что я отомщу ему за смерть Джованни. – Я не могу сделать этого, я не хожу на праздники, колдуньи не позволяют мне выходить! – ответила Мириам. – Вероятно, через эту воду существует какой-нибудь тайный выход? – заметил Альфонсо. – Ты знаешь его? Скажи мне, где я могу найти тебя завтра рано утром? Я проведу тебя сквозь веселую толпу и, может быть, ты найдешь и узнаешь убийцу Джованни. – Колдуньи убьют меня, если я уйду из дома, – со вздохом ответила Мириам. – Они говорят что я безумная и не должна показываться даже на базарную площадь. Некому полюбоваться ни моими драгоценностями, ни моими блестящими глазами, которые блестели раньше еще больше, а теперь потускнели от слез. – Но если они говорят, что ты безумная, тогда не будет ничего удивительного в том, что ты ушла из дома и твоим родственникам нечего сердиться на тебя? – Ха-ха-ха... Вот будет смешно, когда люди увидят еврейскую девушку рядом с рыцарем! Евреи побегут за нами, начнут кричать и бросать в нас камнями! Так, по крайней мере, говорил Джованни, – закончила Мириам, переходя от смеха к слезам. – Кто заметит нас в толпе, Мириам? – проговорил Альфонсо. – А если бы даже и случилось так, как ты говоришь, то разве я, как рыцарь, не обязан защищать каждую женщину, какой бы религии она ни придерживалась? – Так ты действительно хочешь отомстить за смерть Джованни? – недоверчиво спросила девушка. – Да, теперь я припоминаю, что ты вырвал меня из рук солдата, когда я стояла на балконе и искала в толпе Джованни. – Ты искала Джованни? – недоверчиво спросил рыцарь. – Да, синьор. Я подумала, что он увидит меня и пожалеет. Я надеялась, что он, по крайней мере, скажет мне: «Мириам, я не прихожу к тебе, потому что не люблю тебя больше!» – печально проговорила молодая девушка. – Как же ты рассчитывала найти его? Ведь ты же уверяешь, что он там, откуда никто не возвращается. Мириам несколько секунд молча смотрела на рыцаря, но вдруг ее лицо исказилось гневом. – Ах, дьявол, теперь я узнаю тебя! – крикнула она дрожащим голосом. – Хоть ты и пришел в другой личине, а я все-таки узнала тебя. Колдуньи послали тебя ко мне, чтобы выпытать, где мой Джованни. Альфонсо был так поражен переменой, внезапно происшедшей с девушкой, что почти не слышал легкого шепота, который теперь явно доносился откуда-то. – Они идут, они идут! – быстро заговорила Мириам, понижая голос. По-видимому, разум вернулся к ней. – Уходи, уходи скорее отсюда, иначе они убьют нас обоих. Сюда идут евреи за своими сокровищами. Они спрятали их здесь, чтобы христиане не разграбили их. Когда они увидят тебя, то непременно убьют, чтобы ты не мог рассказать своим о еврейском богатстве. Приближающиеся голоса становились все громче. Слышно было, как наверху закрывают и открывают двери. – Куда ведет этот странный ход? – спросил Альфонсо, указывая на воду. – Ты подплываешь под дворец Орсини, – торопливо ответила Мириам, – и выйдешь там на берег. Уходи, уходи скорее, они сейчас будут здесь. – Хорошо, я уйду, но с одним условием: завтра рано утром ты должна быть у форума! – Да, да, я приду, если затем даже убьют меня! Клянусь, клянусь тебе! – прошептала Мириам и, собрав всю силу,потянула Альфонсо к выходу. – Я боюсь, что ты забудешь свое обещание, – сказал рыцарь. – Дай мне слово, что ты вспомнишь о нем, когда подойдешь к этому шкафу. – Хорошо, хорошо! Альфонсо взял факел и осветил поверхность воды. Рыцарь колебался одно мгновение. Ему вдруг пришла мысль, что не готовится ли для него западня, но, взглянув на встревоженное лицо девушки, на котором ясно выражалось участие к нему, он успокоился. Прижав руку Мириам к своей груди, в виде прощального приветствия, он спустился на одну ступеньку. – Я возьму твой факел с собой, – улыбаясь проговорил он, – когда твои родственники начнут бранить тебя за то, что ты потеряла его, ты вспомнишь о своем обещании. Мириам слегка засмеялась и так поспешно захлопнула дверь шкафа, что Альфонсо не успел договорить последнюю фразу. Он стоял еще на сухой ступени, но следующая уже была покрыта водой, необыкновенно чистой и прозрачной. Когда дверь закрылась за рыцарем, он увидел, что для него не существует никакого выхода из этого водяного пространства. Вернуться обратно было невозможно. Он слышал за дверью много сердитых голосов. Прикрыв факел рукой, чтобы свет не проник в скважину двери, Альфонсо сошел с лесенки и увидел, что вода доходит ему до колен. Ему пришла в голову страшная мысль, что Мириам умышленно привела его сюда, чтобы он погиб жестокой смертью, так как выхода для него не было ни вперед, ни назад. Он вспомнил о трагической судьбе таинственного Джованни, и ему казалось, что труп, брошенный в воду, плывет перед его глазами, роняя в воду капли крови. Иногда ему слышался громкий крик безумной еврейки. «Беги, беги скорее!» – раздавалось в его ушах. Голос Мириам звучал так ясно, что Альфонсо не знал наверняка – игра ли это его фантазии, или девушка действительно торопит его уйти. Как бы то ни было, рыцарь поспешно пошел вперед, но вдруг наткнулся на неожиданное препятствие. По всему протяжению стены из-под воды выступал огромный камень. Обойти его не было никакой возможности. С сильно бьющимся сердцем Альфонсо взобрался на него, и был страшно поражен, увидев, что стена за камнем не была глухой, как казалось издали. Она представляла нечто вроде полуоткрытого свода с тесным проходом. Вдали виднелся второй свод, более открытый. Светлый отблеск воды в этом месте заставил Альфонсо предположить, что невдалеке от второго свода существует выход. Не колеблясь более, рыцарь с большим трудом пролез через низкий свод и очутился, как и предполагал, вне пределов гетто. Сейчас же за вторым сводом потянулся широкий болотный берег, в виде острова, покрытого развалинами и плакучими ивами. Альфонсо пошел вдоль стены, надеясь достигнуть каких-нибудь ворот. Он решил выйти и снова отправиться в гетто, с целью узнать, какая участь постигла Оливеротто, оскорбившего Мириам. Пройдя пустынное пространство, он попал в предместье города. Альфонсо побродил несколько минут по узким улицам и вдруг очутился на обширной площади, куда стекалась с разных сторон большая толпа. Часть площади занимало огромное здание. Это был дворец всемогущего Орсини. Альфонсо начал вслушиваться в говор толпы и узнал, что все эти люди вернулись из гетто. – Скажите, любезный, что произошло там? – спросил рыцарь маленького, стоявшего вблизи него человечка, который оказался портным Паскино. – Произошло несчастье, – насмешливо ответил урод: – один молодой христианин хотел поцеловать еврейку, и вот за это его преследуют, как какую-нибудь крысу. Впрочем, вся штука не больше как хитрость со стороны евреев. Они хотели искусственно вызвать народное возмущение, загнать нас в свои узенькие улочки, и перерезать, как стадо баранов. Знатные господа, составлявшие свиту проповедника, хотели узнать, кто именно освободил еврейку, а потому они направились в ее дом, но никого там не нашли. Они обыскали все щели, совали носы во все аптекарские горшки, но еврейка и ее освободитель как в воду канули. Наконец, показались две страшные ведьмы и заявили, что их племянница безумная и потому, вероятно, убежала из дома. Отец Бруно Ланфранки, заметив, что народ обозлился, взял в руки крест и пригласил всех уйти из гетто. – А молодец, вызвавший всю эту тревогу, конечно, убежал? – спросил Альфонсо. – Ну, понятно, кому же и бежать, как не виновнику беспорядка! – ответил портной. – Где же отец Бруно? Он, вероятно, нашел убежище во дворце Орсини? – Зачем же ему искать убежища? – возразил Паскино. – Говорят, зависть жестокого брата заставила отца Бруно уйти из дома и поселиться в развалинах бывших бань на Авентинской горе, подобно отшельнику. Выйдя из гетто, он отправился в свой дом, если только эти развалины можно назвать домом. – Надеюсь, он не один пошел туда? – тревожно спросил Альфонсо, вспомнив о подслушанном разговоре. – Лучше было бы, если бы он пошел один. На его несчастье его сопровождает толстый дурак Биккоццо. – Тогда отец Бруно находится в опасности, – заметил рыцарь. – Не можешь ли ты указать мне дорогу к нему? – Я расскажу вам, как идти, но не могу сопровождать вас. На подобное путешествие может отважиться лишь тот, у кого имеется для этого крайняя необходимость. – Ты сделал бы доброе дело. Я боюсь, что жизнь бедного проповедника находится в опасности. – Нет, нет. Я ни за что не пойду к нему. Говорят, что отец Бруно – очень искусный анатом и врач. Он, пожалуй, захочет узнать, почему я уродился таким маленьким, а если ваши испанцы возьмутся за какое-нибудь дело, то проявляют столько милосердия, сколько вороны, выклевывающие глаза у умирающих лошадей. – Разве отец Бруно – испанец? – с удивлением воскликнул Альфонсо. – Неужели вы не знаете этого? Если бы он не был испанцем, то не сделался бы правой рукой донны Лукреции. Последние слова напомнили рыцарю замечание паломника из Кампостеллы об опасности, какую представлял собой этот монах. Он так горячо начал убеждать Паскино проводить его к отцу Бруно, что в конце концов возбудил к себе подозрение в маленьком портном. Вспомнив, что на проповедника косо смотрели в Ватикане, как утверждала молва, и, боясь Борджиа больше огня, Паскино поспешил слиться с толпой и затерялся в ней. (обратно)ГЛАВА III
Альфонсо пошел той дорогой, которую ему указал маленький портной. Он собственно не знал, что заставляло его идти к отцу Бруно: чувство ли человеколюбия, или любопытство, смешанное с желанием рассеять свои сомнения? Он прошел к долине между Авентинским и Палатинским холмами, по узкой тропинке. Но последняя скоро окончилась, и Альфонсо не знал бы, куда ему идти, если бы не маленький ручеек, который журча стремился прямо к развалинам, протекая через темный лес. Паскино рекомендовал рыцарю держаться этого ручейка, и, наконец, Альфонсо пришел к грандиозным развалинам, занимавшим центр Авентинской горы. Альфонсо сомневался, найдет ли он жилище проповедника среди этой каменной глыбы, и уже подумывал вернуться назад, как вдруг заметил человеческую фигуру, направлявшуюся к нему навстречу. Рыцарь обрадовался, надеясь увидеть слугу доминиканца или кого-нибудь из местных крестьян, которые могли бы указать ему, где живет отец Бруно. Однако человек был так погружен в свои мысли или молитвы, что не видел приближавшегося к нему рыцаря. Почти столкнувшись с ним, он вдруг вздрогнул, страшно испугался и закричал во все горло. К своему величайшему удивлению, Альфонсо узнал в этом человеке бандита из гетто. Не давая рыцарю произнести ни слова, бандит бросился бежать со всех ног. В эту минуту одна из руин осветилась, и раздался чей-то испуганный голос: – Что с тобой, брат мой? Альфонсо с ужасом подумал, что несчастье, которое он собирался предупредить, уже совершилось. Он подошел к развалинам и при свете факела увидел лицо Биккоццо. – Говори, кто ты такой? – прохрипел монах, глядя на рыцаря с открытым от удивления ртом. – Это не относится к делу, батюшка. Проведите меня к отцу Бруно, мне необходимо видеть его. С ним ничего не случилось? Он здоров? – О, почтенный рыцарь, ведь ты не дьявол в человеческом образе, пришедший погасить светильник божественной премудрости, воплотившейся в лице моего господина? Святой Фома, сохрани нас! Неужели ты пришел затем, чтобы убить отца Бруно. – Наоборот, я явился сюда для того, чтобы спасти твоего господина от руки убийцы, – ответил рыцарь. – Мне хотелось бы знать, откуда шел тот негодяй, которого я только что встретил? – Он был на исповеди у отца Бруно. – Ну, если тот убийца был у отца Бруно, значит, последний убит! – воскликнул Альфонсо. – Я уверен в этом. Я – рыцарь гроба Господня, вырвавший еврейку в гетто из рук насильника. – Пресвятая Дева Мария, Матерь Божия, чем я, великий грешник, заслужил такую милость? – восторженно проговорил Биккоццо, неожиданно склоняясь и ногам удивленного рыцаря. – Убийца уверял нас, что ты – святой Михаил, сошедший с неба для того, чтобы спасти светоч христианской веры, моего господина и брата во Христе. – Ты с ума сошел, отец Биккоццо, – с невольной улыбкой возразил рыцарь. – Страх заставил бандита потерять разум, а может быть, он умышленно обманул тебя, чтобы получить доступ к твоему господину и убить его. Наверно, отец Бруно теперь купается в собственной крови. Умоляю тебя, проводи меня к нему скорее! Биккоццо с трудом дал убедить себя, что видит перед собой не святого Михаила, а обыкновенного смертного. Успокоившись на этот счет, он вспомнил слова рыцаря и начал дрожать от страха при мысли, что, может быть, его господин убит. Он смотрел с недоверием на незнакомца и все никак не мог решить, остаться ли ему на месте, или броситься бежать. Наконец, не смея противоречить рыцарю, он повел его к келье доминиканца. Повсюду среди руин царила мертвая тишина, только совы, испуганные светом факела Биккоццо, с громким криком перелетали на другие места. Наконец, они подошли к полуразрушенным триумфальным воротам, по обеим сторонам которых стояли безголовые бюсты римских императоров. Отсюда начинался целый лабиринт узких проходов. Полуразрушенная, поросшая травой лесенка вела в верхний этаж с рядом пустых комнаток. Биккоццо открыл одну из боковых дверей, и Альфонсо увидел полукелью, полуученый кабинет философа. Высокие, без стекол, окна пропускали много света и воздуха. Огонь факела позволял видеть разные анатомические инструменты, химические аппараты, книги, телескопы и рядом с ними распятия, четки, изображения святых и разную домашнюю утварь. Меблировку составляли два стула, опрокинутый ящик вместо стола и две циновки, служившие, очевидно, постелью. Биккоццо подошел к противоположной двери этой своеобразной комнаты и открыл ее. Глазам рыцаря представился открытый четырехугольник, окруженный со всех сторон стенами развалин. – Отец Бруно, отец Бруно, отзовитесь ради Бога, если вы живы! – завопил монах. – Матерь Божия, он не отвечает! Господь взял его на небо! – Биккоццо так тяжело вздохнул, точно его сердце разрывалось на части. – Думал ли я, когда он поднимался по этой лесенке в свою келью, что он отправляется на тот свет? Пощадите меня, дорогой рыцарь! Теперь, когда отца Бруно нет больше на земле, я – песчинка в море. Он был моим наставником, моей опорой. – О какой лесенке вы говорите? – спросил Альфонсо, прерывая излияния монаха, и взял факел из рун Биккоццо. Несколько ступенек, скрытых кустарником, вели на одну из высоких башен руин. – Его светильник горит, – воскликнул монах, взглядывая наверх. – Но он сам погиб от козней дьявола. Помилосердствуйте, синьор!.. Имейте сострадание к бедному христианину, который, хотя не знает вас, но видит в вашем лице своего единственного покровителя! – Здесь на ступенях видны следы крови, – заметил рыцарь, указывая на темные пятна. – И теперь припоминаю, что бандит был ранен, когда шел на исповедь к святому отцу. Это, должно быть, – его кровь, – произнес монах. – Если ты боишься, то оставайся внизу, – предложил рыцарь, и стал быстро подниматься по лестнице вверх. Дойдя до последней ступеньки, Альфонсо поднялся на кончики пальцев и взглянул и отверстие бывшего когда-то окна. Его сердце сильно билось. Он представлял себе доминиканца плавающим в луже крови, но к его величайшему удивлению, его глазам представилась совершенно иная картина. Он увидел большую комнату, наполненную разными научными приборами и книгами. Посреди нее находился стол, заваленный книгами, бумагами и разного рода письменным материалом. В углу возвышался алтарь, убранный с большим вкусом, бархатом и цветами в дорогих старинных вазах. Перед золотым распятием стоял на коленях доминиканец Бруно Ланфранки, и молился с таким усердием, что, казалось, не услышал бы даже пушечного выстрела. Он громко благодарил Бога за то, что Господь дал ему силы побороть человеческие страсти. Альфонсо был страшно поражен, что монах несколько раз упомянул в своей молитве имя Лукреции. Подождав несколько секунд, он увидел сбоку открытую дверь и храбро вошел в комнату. – Простите, святой отец, что я нарушаю ваш покой, – проговорил он, – но необходимость заставляет меня сделать это. Доминиканец вздрогнул и вскочил с колен. Его бледные щеки побледнели еще больше, а правая рука инстинктивно потянулась к поясу, как бы за оружием. Это движение напомнило Бруно его сан. Он спокойно сложил руки на груди и поднял взор вверх, мысленно обращаясь к Богу. – Убей меня, – наконец, тихо проговорил он, взглянув на рыцаря, – верно Господу нашему Иисусу Христу угодно освободить от тела мою грешную душу. – Да разве вы не узнаете меня, святой отец? – спросил Альфонсо. – Я – тот путешественник, которому вы оказали такую важную услугу у водопада. Я очень рад, что случай дает мне возможность отблагодарить вас за эту услугу. – Ах, это ты, иоаннит? Являешься ли ты посланником Неба или сатаны? Что привело тебя сюда? – Я думаю, что скорее меня послало Небо, так как я – верный слуга церкви и хочу оказать вам услугу. – Говори, в чем дело? Альфонсо в коротких словах рассказал о заговоре, который он случайно подслушал в гетто. Во время этого рассказа на грустном лице Бруно появилась горькая улыбка. – Так, значит, это ты был тот вооруженный ангел, о котором мне рассказывал Джованни? – живо воскликнул он. – Бандит явился ко мне сегодня не в качестве убийцы, а в роли кающегося грешника. Он сознался в своем намерении и просил прощения. Хотя он и не назвал мне имени того человека, который требовал от него моей смерти, тем не менее мне не трудно догадаться, кто это такой. – Бандит сознался в замышляемом преступлении, – с удивлением спросил рыцарь. – Чем же вы так обидели того человека, который жаждет вашей крови? – Он знает, что я считаю его дьяволом, а между тем ему хочется, чтобы все принимали его за человека! – Судя по его словам, он чувствует себя оскорблённым, как муж. По крайней мере, он обвинил вас, святой отец, в том, что вы разлучили мужа с женой из-за дурных целей! – сказал рыцарь, пытливо глядя на монаха. – Разлучил мужа с женой? Да, это верно. Но когда видишь, что в прекрасной розе завелся ядовитый червь, то весьма понятно, что его нужно извлечь оттуда! – ответил доминиканец, и его бледные щеки слегка покраснели. – Однако, если я не ошибаюсь, человек, говоривший это, не был тем несчастным существом, которое вы называете оскорбленным мужем! Я с гордостью сознаюсь в своем участии в этом деле, но больше не прибавлю ни слова, так как тайна моих духовных детей для меня священна! «Следовательно, ни Александр, ни Цезарь не виноваты в первом разводе», – подумал Альфонсо. – Может быть, все-таки следует, святой отец, – обратился он снова к монаху, – принять меры для того, чтобы на ваш счет не распространялись гнусные сплетни. Все говорят, что преступная страсть к женщине заставляет вас вмешаться в это дело. – Кто же поверит этому? – воскликнул монах со сверкающими глазами и вспыхнувшим лицом. – Что общего между плешивым, погруженным в заплесневелые манускрипты монахом, вся жизнь которого была сплошным отчаянием, и прекрасной молодой женщиной, полной жизни и радости? – Но ведь всем известно, отец Бруно, что в деле любви женщины благороднее нас. Их прельщает больше красота духовная, чем плотская. Этим объясняется, что они поддаются сильнее влиянию духовных особ, чем мы, грешники. В своей любви к служителю Бога они не видят ничего дурного. Это для них преддверие к любви небесной! – Да, небо и земля так перемешаны в человеке, как золото и шлаки между собой. Что бы ни говорили последователи Платона, но в человеке гораздо больше животного, чем духовного, и животные радости ему доступнее духовных, – с горькой улыбкой промолвил доминиканец, – духовная любовь может длиться вечно. Она чиста, как кристалл, женщины будут восторгаться ею, но предпочтут любовь телесную! – Как счастлив тот, кто пришел к этому заключению путем наблюдения, а не по собственному опыту, – заметил Альфонсо, вполне убежденный, что устами монаха говорит ревность. – Да, самые счастливые те люди, которые заглядывают в душу человека с беспристрастием врача, – спокойно согласился Бруно. – Впрочем, мы уклонились от темы нашего разговора. Итак, я обязан вам своей жизнью. Если бы я не боялся, что вы сочтете меня неблагодарным, я сказал бы вам, что нисколько не дорожу ею. – Не говорите о благодарности, святой отец! Я думаю, вы сейчас в состоянии будете вознаградить меня больше, чем я того заслуживаю. Действительно, насильственная смерть не может казаться страшной для человека, который ведет такое спокойное, лишенное страстей существование, как вы. – Вы думаете, что в жизни отшельника одно спокойствие? – с горькой улыбкой спросил доминиканец. – Вы не знаете, сколько волнений выпадает и на нашу долю! Вы полагаете, что легко видеть у своих ног коленопреклоненную прекрасную женщину и ледяными устами касаться ее лба во время благословения, когда сердце пожирает пламя страсти? Впрочем, оставим это. Вы говорите, сын мой, что в моей власти вознаградить вас? – Да, отец Бруно. Награда, на которую я рассчитываю, так необычайна, что я не знаю, как изложить вам свою просьбу. Во всяком случае, могу ли я надеяться, что этот разговор останется для всех тайной? – спросил Альфонсо. – Говори, сын мой, твои слова будут знать лишь я один на этом свете, и Господь на небе. – Я хотел узнать от вас, не преступно ли предлагать такие вопросы, которые – если вы ответите на них, – могут поколебать доверие к церкви? Монах помолчал несколько мгновений, причем его лицо приняло странное выражение, и, наконец, произнес: – Правда, – это та твердая скала, на которую опирается церковь. Поэтому никакая правда не может поколебать доверие к ней. Я слушаю вас, сын мой. – Должен сказать вам, отец Бруно, – начал рыцарь, – что я тайно послан сюда принцем Альфонсо Феррарским. Король французский, сердечно любящий Альфонсо желает, чтобы принц женился на дочери Борджиа, а между тем, этот брак настолько противен Альфонсо, что он специально послал меня в Рим, навести справки о Лукреции и представить ему доказательства ее позорного поведения, о котором так много говорят. Имея эти доказательства в руках, Альфонсо получит возможность убедить отца, что брак с дочерью Борджиа для него невозможен. Вы состоите духовником этой дамы, поэтому – если никакая правда не может поколебать доверие к церкви – вы можете дать нужные мне сведения. Монах слушал рыцаря с напряженным вниманием. Когда Альфонсо закончил свою речь, он с удивлением взглянул на него и, встретившись с ним взглядом, быстро потупился. Затем он помолчал еще несколько минут, и, наконец, проговорил: – Да, действительно странная просьба!.. Но ведь вы видели донну Лукрецию и все-таки не отказываетесь от ужасного поручения, данного вам? – О, она прекраснее всего в мире, – горячо воскликнул рыцарь, – и, если бы она могла опровергнуть возводимые на нее обвинения, Альфонсо Феррарский не мог бы устоять перед ней, точно так же, как и ни один из смертных. – Ну, этого я не знаю! – резко заметил Бруно. – Вероятно, вам мало известны обязанности духовника, – продолжал он. – Как вы можете рассчитывать, что я выдам вам чужую тайну. Как же вы сами доверились мне в таком случае? – Ваше уклонение от ответа служит ответом, – с грустью проговорил Альфонсо. – Если бы вы могли сказать только хорошее, то не считали бы, что нарушаете обязанности духовника. – Я ничего не утверждаю и ничего не отрицаю, – возразил монах. – В чем же вы обвиняете донну Лукрецию? – Не я, святой отец, а вся Италия, – ответил Альфонсо, не решаясь высказать свое подозрение. Говорят, что она имеет счастливых поклонников, пользующихся ее любовью. – Она никого не любит и никогда не любила! – резко проговорил Бруно. – Что касается счастливых поклонников, то это – тоже ложь! Всякий знает, что эта женщина обладает какой-то демонической силой, от которой погибает каждый, кто только вздумает приблизиться к ней. – Эта сила исчезла бы, если бы донна Лукреция вышла замуж за наследника Орсини? – Этот брак приковал бы ее к Риму! – мрачно ответил монах. Альфонсо пришла в голову мысль, что Бруно умышленно поддерживает в нем подозрение, из боязни, чтобы мнение принца Феррарского о Лукреции не изменилось в ее пользу, и чтобы он не перестал сопротивляться желанию своего отца. – Между тем, папа в предложении, сделанном герцогу Феррарскому, совершенно откровенно высказал, что был бы очень доволен, если бы его дочь навсегда покинула Рим! – заметил Альфонсо. – О, если бы Небо могло спуститься на землю, оно покрыло бы много грехов! – воскликнул монах, – Орсини избежал большой опасности, хотя донна Лукреция не выказала ему ни малейшего расположения и согласилась бы на предполагаемый брак лишь по принуждению. – Он спасся благодаря вам, отец Бруно, – заметил Альфонсо. – Ведь вы – несомненно, тот самый доминиканец, который показал нам пещеру, где находился арестованный Паоло Орсини. Монах на минуту смутился, но, увидев по глазам рыцаря, что ему известна истина, не стал отрицать свое участие. – Я был бы удовлетворен, если бы вы сказали мне, отец Бруно, злоумышлял ли Цезарь против своего будущего зятя, когда увидел, что обстоятельства так складываются, что им необходимо породниться, – проговорил Альфонсо с сильно бьющимся сердцем. – Я ничего не могу ответить вам на это! – Если я даже скажу вам, что именно Цезарь посылал к вам убийцу, чтобы сегодня вечером лишить вас жизни! – воскликнул Альфонсо, забывая обычную осторожность. Если вы все это знаете, то можно поздравить вашего Принца: он выбрал для своей цели весьма подходящее лицо! – заметил монах с видимым испугом. – Но, как бы там ни было, я не могу дать вам ответа. Весь свет судит людей по их поступкам, а Бог и церковь считаются с их побуждениями. – Разрешите мне, по крайней мере, мое теологическое сомнение... – Не искушайте меня больше! Уходите! – Ведь я склоняю вас не к греху, а, наоборот, к доброму делу, – заметил рыцарь, – может быть, вы в состоянии будете вырвать заблудшую душу из пасти дьявола. – Если дьявол является в образе ангела, кто может устоять против него? – проговорил отец Бруно с отчаянием в голосе. – Вот вы считаете меня оракулом, а послушайте, что я вам скажу: я не знаю, что я делаю, кто меня воодушевляет: Бог или нечистая сила. Может быть, пользуясь именем церкви, я веду людей к гибели и вместо блаженства сею семена раздора? Я не знаю, реформатор ли я, или просто разрушитель? Я не знаю, что меня ждет: награда или смерть за мою проповедь, которую я скажу завтра. – Вы, значит, не хотите помочь мне очистить от дурной славы имя вашей прекрасной духовной дочери? – В чем обвиняете вы ее? – повторил свой вопрос монах, смотря на рыцаря пронизывающим насквозь взглядом. – Вы хотите, чтобы я уверил вас, что эта женщина – более прекрасная, чем все красавицы, взятые вместе, – живя в такое развратное время и при таком распущенном дворе, отличается более строгим нравом, чем все другие? – Я буду доволен, если вы скажете мне, что донна Лукреция не хуже других женщин! – горячо ответил рыцарь. – Если вы укажете мне границы женского легкомыслия, тогда я, пожалуй, в состоянии буду сказать вам, перешагнула ли Лукреция эти границы, или нет. – Что может быть ужаснее этих строк, написанных относительно ее: «Лукреция по имени, в действительности Таис, Александра дочь, супруга, невестка»? – Вы видели ее и все-таки верите этим словам? – с негодованием спросил монах. – Я видел ее и потому еще больше верю им! – Ну, верьте, и будьте довольны! – воскликнул Бруно, и его обыкновенно спокойное лицо выразило такую муку, такое сильное волнение, что Альфонсо стало страшно за него. Последняя фраза монаха поразила рыцаря, как молнии. Самые страшные подозрения по поводу Лукреции, ее духовник подтверждал своей последней фразой. Монах заметил бледность рыцаря и холодно отвернулся от него. – Вы спасли мою жизнь, а я дал вам право получить крупное вознаграждение за полученные сведения от вашего великодушного принца, мы с вами квиты! – пренебрежительным тоном проговорил он после некоторого молчания. Альфонсо употребил всю силу воли для того, чтобы спокойным тоном поблагодарить доминиканца, но никак не мог овладеть своим волнением. К своему счастью, он вдруг услышал за своей спиной чей-то судорожный смех. Оба вздрогнули и быстро оглянулись. Смеялся Биккоццо от радости, видя своего господина целым и невредимым. Успокоив Биккоццо, доминиканец обратился к рыцарю с просьбой остаться у него на ночь. – Странствовать ночью по этим пустынным местам далеко не безопасно, – проговорил он. – Тот негодяй, принявший вас за святого, может встретиться с вами и пожелать убедиться в вашей святости. Я знаю, вы – солдат и не боитесь опасности, а потому прошу вас остаться здесь в качестве моего защитника. Я, правда, – плохой хозяин, да к тому же должен окончить прерванную работу, но брат Биккоццо примет вас, как желанного гостя. – Да, мы можем хорошо угостить синьора: донна Лукреция прислала нам много вкусных вещей для завтрашнего праздника, – начал было Биккоццо, но отец Бруно резко оборвал его, приказав ему принести наверх другую лампу, прежде чем он ляжет спать. Биккоццо понял намек своего господина и поторопился увести рыцаря вниз. Убедившись, что гость – живой человек, а не архангел, монах начал усердно угощать его. Трудно было найти более резкую противоположность, чем эти два монаха, жившие вместе. Насколько отец Бруно был молчалив, настолько же Биккоццо любил болтать. Доставая разнообразные снеди, присланные Лукрецией, он не переставал вести разговор. Он рассказал, с какой симпатией Лукреция Борджиа относится к отцу Бруно, не замечая, что эти сведения не особенно радуют гостя. Тем не менее, Альфонсо поддерживал этот разговор, так как ему очень хотелось узнать, не говорил ли Бруно о Лукреции под влиянием чувства ревности. Наконец, стол был накрыт, и Биккоццо попросил рыцаря утолить голод. Затем он достал для себя кусок хлеба, несколько луковиц, кружку воды и принялся уничтожать свой скудный ужин. – Нет, это не годится, – воскликнул гость, – если вы не хотите разделить мою трапезу, то я буду есть то же, что и вы. – Нет, синьор, этого нельзя. Сегодня пост, мы должны подавать народу благой пример, но, что касается вас, то вам незачем мучить себя. Наполните свой кубок этим чудесным хиосским вином, вам не часто придется пить такое. Это прислала нам дорогая донна Лукреция. Принцу Альфонсо не трудно было убедить монаха выпить с ним вместе. Отказавшись раза два, Биккоццо согласился на уступку, а затем отдал должное закускам и винам, стоявшим на столе. Во время еды он не переставал говорить о Бруно Ланфранки, и Альфонсо узнал много подробностей из жизни того. Доминиканца все считали родом из Испании, а между тем, он происходил из старинной итальянской фамилии Ланфранки. Он только долго жил в Испании, изучая медицину, а затем посещал на юге еврейские школы. – Во время учения, – рассказывал Биккоццо, – отец Бруно почувствовал вдруг отвращение к мирской суете. Он странствовал по языческим землям, и, с благословения Савонаролы [537], чьим горячим приверженцем он был, начал проповедовать его учение. Ужасная смерть учителя не испугала отца Бруно. От многих опасностей его спасало расположение донны Лукреции. Будучи несчастна в своем замужестве с Джованни Сфорцой, она искала утешения и совета у отца Бруно. Вскоре после этого произошел ее развод с мужем, и отец Бруно был назначен ее духовником, несмотря на то, что многие духовные лица, старшие по сану, добивались этой чести. Альфонсо подумал, что, сделавшись духовником Лукреции, Бруно преследовал не только религиозные, но и политические цели. Его в этом еще более убедило сознание Биккоццо, что отец Бруно слишком много времени проводил во дворце Борджиа, манкируя своими церковными обязанностями. В конце концов духовник Лукреции почувствовал угрызения совести, потому что хотел отказаться от должности духовника. Но его отказа не принимали, и тогда отец Бруно тайком ушел из Рима и уехал в Иерусалим. Биккоццо сопровождал его во всех его странствованиях. Они долго блуждали по Сирии и Палестине, вербовали прозелитов и поддерживали маленькие группы христиан в иноверческих землях. В конце концов они снова вернулись в Рим, как раз в то время, когда Лукреция праздновала свадьбу со вторым мужем, принцем Салернским. Убийство принца, совершившееся вскоре после свадьбы, снова заставило молодую женщину искать утешения в религии. Она лично явилась к доминиканцу и умоляла его сделаться снова ее духовником. Бруно ни за что не соглашался. Он находил, что Лукреция совершила преступление, вступив во второй брак, за что Бог и покарал ее. Неотступные мольбы молодой женщины победили упрямство монаха, и он сделался ее духовником, не оставляя при этом своих публичных проповедей. Количество его учеников увеличивалось с каждым днем. По протекции Лукреции, Бруно должен был на следующий день читать свою реформаторскую проповедь в соборе Святого Петра в присутствии многочисленной толпы. Биккоццо испугался, услышав, что на монастырских часах пробила полночь. Он извинился перед гостем за свою болтливость в то время, как рыцарь, несомненно, нуждается в отдыхе, и начал торопливо приготовлять для него постель. Альфонсо напомнил монаху о лампе, и тот, рассыпаясь в благодарностях, шатаясь, отправился наверх. Через несколько минут он вернулся и сообщил гостю, что отец Бруно так погружен в молитву, что не слышал его прихода и не заметил другой лампы. После этого веселый монах и Альфонсо улеглись спать. (обратно)ГЛАВА IV
На утро юбилейного торжества принца Альфонсо разбудили грохот орудий и звон колоколов. Биккоццо стоял у очага и приготовлял завтрак. Отец Бруно уже ушел, так как хотел видеть процессию монахов своего ордена, и перед уходом отдал приказ не беспокоить рыцаря. Альфонсо пошел купаться в прозрачной воде ручейка, пока Биккоццо приготовлял завтрак, а когда вернулся, был поражен, в какой степени изменилось настроение монаха. Он уже больше не болтал так, как накануне, и еле отвечал на вопросы гостя. В конце концов Биккоццо признался, что он очень озабочен: он боялся, что отец Бруно вызовет возмущение своей проповедью, вследствие чего, несмотря на сильную протекцию Лукреции, и сам он, и его друзья могут дорого поплатиться. Бруно ушел из дома, ничего не евши, и посоветовал Биккоццо не сопровождать его в тот день. Тем не менее, монах твердо решил сейчас же после завтрака пойти искать своего господина. Альфонсо охотно пошел бы вместе с ним, но, вспомнив о своем условленном свидании с Мириам, расстался с Биккоццо в том месте, где нужно было свернуть к форуму. Собственно, Альфонсо мало рассчитывал на то, что Мириам сдержит свое обещание, да притом уверенность в виновности Лукреции настолько поглотила его, что все остальное казалось ему лишь праздным любопытством. На форуме собралась уже значительная толпа людей разных сословий и положений, и Альфонсо пожелал в душе, чтобы Мириам не пришла. Прождав напрасно молодую еврейку довольно значительное время, он начал разыскивать ее среди праздничной толпы, когда убедился, что Мириам нет на площади, то решил пойти к ней в гетто. Он вспомнил, что она жила в доме, где помещается аптека, а потому он мог войти туда, не возбуждая ничьего подозрения, как будто желая купить лекарство. Он рассчитывал на то, что, может быть, ему удастся каким-нибудь образом напомнить молодой девушке о данном ею обещании. Подойдя к воротам гетто, Альфонсо узнал от часового, что в течение всей праздничной недели ни один христианин не может войти в пределы гетто. Однако, Альфонсо не так легко отказывался от раз задуманного намерения. Увидев, что он не может проникнуть через ворота, он пошел к обход, чтобы добраться до дома Мириам таким же путем, каким он вышел оттуда накануне. Но и здесь его ожидало разочарование. Вода в канале стояла так высоко, что совершенно преграждала доступ. Это обстоятельство заставило рыцаря предположить, что евреи узнали о его посещении и умышленно подняли воду в канале. Само собой, разумеется, что тревога Альфонсо относительно судьбы Мириам после этого еще усилилась. С целью узнать что-нибудь о безумной еврейке, рыцарь вернулся на площадь, где собралась толпа со всех концов города. Обедню должны были служить в старом константиновском соборе, но так как последний не мог вместить всех жаждущих попасть туда, то лишь часть паломников проникла в храм, остальные же стояли на площади и через широко открытые двери собора старались увидеть и услышать то, что происходит в храме. Благодаря своему полумонашескому одеянию и физической силе, Альфонсо удалось сравнительно легко пробраться, сквозь толпу и войти в базилику. Служба не начиналась, так как папа и его двор были еще в Ватикане, где Александр VI принимал поздравления от высокопоставленных гостей. Альфонсо с любопытством осматривался вокруг и был крайне поражен, заметив, что на него обращено внимание присутствующих. Как только один из пажей, равнодушно озиравших толпу, увидел его, он быстро подошел к нему и почтительно спросил, не он ли того Альфонсо Равенна. Принц, принявший это имя для того, чтобы отвлечь от себя любопытство, ответил утвердительно и паж радостно убежал куда-то. Через несколько минут явился церемониймейстер Бурхард. – Его святейшество желает видеть вас, – обратился он к Альфонсо. – Следуйте за мной! Опираясь на свой серебряный жезл, Бурхард пошел вперед, но рыцарь не спешил последовать за ним. Только когда церемониймейстер, дойдя до дверей Ватикана, оглянулся и повелительным жестом вторично пригласил Альфонсо войти, он не счел возможным отказаться от приглашения. Широкая лестница из мрамора спускалась вниз и вела в огромный зал, где на троне восседал Александр. Глазам Альфонсо представилась грандиознейшая картина. К папскому престолу тянулась непрерывная цепь роскошно одетых знатных особ в духовном и светском платьях. Все подходили по очереди к трону, целовали ногу папы и, поздравив его, отходили назад, где позади трона образовалась уже целая толпа нарядных гостей. Когда Альфонсо вошел в зал, к ногам папы склонялась донна Лукреция, которую сопровождала свита из красивейших знатных дам Рима. Его святейшество поднял молодую женщину, нежно поцеловал ее и посадил рядом с собой с правой стороны. Когда Лукреция откинулась на спинку кресла, ее взоры встретились вдруг со взглядом Альфонсо. Она вздрогнула, и яркая краска залила ее щеки, но в следующее же мгновение она побледнела, как мраморное изваяние. Рыцарь сильно волновался, подходя к трону папы, чувствуя, что на него обращены взоры всех присутствующих. Лукреция между тем, овладела собой. На ее прекрасном лице выражалось удовольствие, в чудных глазах сверкали слезы. Когда Альфонсо склонился к ногам папы, она радостно воскликнула: – Это – он! О, святой отец, если моя жизнь имеет для тебя какую-нибудь ценность, то взгляни на этого благородного рыцаря, спасшего меня! – Встань и дай обнять себя, храбрый герой! Даже в героической хронике Диаца эль Кампеацора немного таких подвигов, как твоя борьба с буйволом, – проговорил Александр VI. Он положил свою руку, украшенную бриллиантами, на плечо рыцаря. – Я должен поблагодарить тебя также за освобождение Паоло Орсини. Скажи, чем вознаградить тебя? – Все люди, ваше святейшество, – лишь жалкое, безвольное орудие в руках Высшей Силы. Поступают ли они хорошо, или дурно, – их не за что ни вознаграждать, ни карать, и я прошу вас не приписывать мне никакой заслуги. Слепой случай привел мою лошадь и кинжал в соприкосновение с взбесившимся животным. – А я все-таки чувствую себя обязанной вам, синьор рыцарь, это ваша храбрость, а не случай, спасла мою жизнь, – заметила Лукреция с обворожительной улыбкой, слегка краснея, отчего стала еще прелестнее. – В доказательство своей признательности я избираю вас своим рыцарем на предстоящий турнир! С последними словами молодая женщина сняла со своей шеи серебристую ленту и накинула ее на плечо Альфонсо. Сердце рыцаря сильно забилось, щеки вспыхнули, и он сознавал, что не в состоянии побороть свое страстное чувство к этому очаровательному созданию. Но вдруг его взоры встретились с таким сверкающим, бешеным от ревности взглядом монаха, что Альфонсо невольно вздрогнул. Он узнал отца Бруно, и вспомнил весь ночной разговор с ним. Усилием воли он подавил свое волнение, и со спокойным видом обратился и Лукреции: – Вы видите, донна, что мне не подобает бороться в честь земной красоты, – проговорил он. – О, я готов отдать последнюю каплю крови в честь духовной красоты феррарских женщин и думаю, что этим доказываю им, как высоко я почитаю скромность и душевную чистоту, образцом которой является Пресвятая Дева Мария. Земную же красоту я считаю искушением дьявола, ядом, поднесенным в золотом сосуде. С этими словами рыцарь так сильно рванул ленту, что в его руках оказалось несколько кусков. Во время речи иоаннита лицо Лукреции несколько раз меняло выражение. Она сначала смотрела на иоаннита с немым удивлением, затем краска стыда и обиды вспыхнула на ее щеках, но в следующее же мгновение ее взор принял гордое выражение и на губах заиграла насмешливая улыбка. Она взяла из рук Альфонсо, стоявшего перед ней на коленях, свою изорванную ленту и обвела взглядом находившихся вокруг нее молодых рыцарей. – Во времена Карла Великого и короля Артура к женщинам относились иначе, – с очаровательной улыбкой заметила она, обращаясь к Бембо, – насколько можно судить по сонетам, составленным в честь любви и феррарских женщин. Если не все в Италии забыли эти поэтические сказания, то я надеюсь найти и сегодня человека, который согласится быть моим рыцарем несмотря на то, что, по мнению рыцаря святого Иоанна, я – полная противоположность его идеалу женщины. – Хотя этот рыцарь и из Феррары, донна, но он забыл феррарскую поговорку: «Кто не может есть персики, тот не должен их и нюхать», – несколько смущенно ответил Бембо. – Иоанниты – монахи, и им незачем рядиться в рыцарские доспехи. – Удостойте меня, донна, этим драгоценным подарком, – проговорил Паоло Орсини, становясь на колени перед Лукрецией и страстно целуя конец ленты. – Вы были бы, синьор Паоло, моим рыцарем по принуждению, возразила Лукреция, закусывая губы. – Нет, я надеюсь, что сэр Реджинальд не откажется достать для меня первый приз. Лебофор с сияющим от счастья лицом склонился к ногам красавицы и поклялся святым Георгием, что будет сражаться в честь ее, пока только будет в состоянии сидеть в седле и держать в руках шпагу. Лукреция взглянула на английского рыцаря с такой нежной улыбкой, что Альфонсо почувствовал в сердце острые уколы ревности. Многочисленные голоса среди молодежи выразили желание тоже сражаться в честь Лукреции. – Нет, нет, я не хочу отнимать у других дам возможность сделаться королевами праздника, – возразила Лукреция. – Что касается меня, то я жертвую драгоценный венок, если его достанет мне сэр Реджинальд, – Пресвятой Деве Марии, в честь которой воздвигну храм в том месте, где случай спас меня от взбешенного буйвола. – Не так-то легко оказаться победителем на турнире, гораздо легче заколоть быка, – насмешливо за метил Цезарь Борджиа, с удовольствием видя мрачную тень на лице своего отца. – Осмелюсь заметить вашему святейшеству, – обратился он к нему, – что уже довольно поздно. – Рыцарь, ты – не полумонах, а монах вполне, – сказал папа принцу Альфонсо, не скрывая своего неудовольствия. – В твои годы я предпочел бы сражаться на десяти турнирах, чем отклонил бы предложение такой очаровательной дамы. Папа взглянул на свою дочь с необыкновенной нежностью и гордостью, а затем сделал нетерпеливый знак церемониймейстеру. Тот слегка оттолкнул Альфонсо от трона, чтобы дать место другим, еще не принесшим его святейшеству своих поздравлений. К трону склонилась могучая фигура Вителлоццо, причем в зале раздался звон от его военного вооружения. – Это вы, синьор ди Кастелло? – с изумлением воскликнул папа и отодвинул свою ногу, точно собираясь оттолкнуть от себя вооруженного великана. – Я явился сюда, чтобы почтительно поцеловать эту святую стопу! – проговорил Вителлоццо. – Это – неслыханное нахальство! – возмутился папа. – Это, вероятно, вы, синьоры Орсини, посоветовали ему искать милости у меня, после того, как он грозил свергнуть меня с трона? – гневно обратился он к представителям семьи Орсини. – Нет, святой отец, синьор ди Кастелло пришел сюда по моему совету, – с горькой улыбкой заявил Цезарь. – Ведь теперь мы все будем братья. – Скажите, святой отец, что должен я сделать для того, чтобы получить ваше прощение? – спросил Вителлоццо. – Отпусти своих разбойников и скажи своим вассалам, что христианину не подобает поднимать руку на своих ближних, если даже их господин требует этого! – гневно ответил Александр, вставая со своего места. Герцог обменялся с Паоло озабоченным взглядом, а Вителлоццо поднялся с колен и стал рядом с Орсини. Видя дурное настроение папы, церемониймейстер поспешил закончить процедуру поздравлений, а затем весь двор в торжественном шествии отправился в церковь святого Петра. (обратно)ГЛАВА V
Желаяотвлечь от себя внимание, Альфонсо незаметно ушел из дворца и спрятался в одном из темных углов храма. Вскоре он услышал перезвон колоколов и залпы пушек, возвещавшие приближение папского шествия. За несколько минут до его появления раздалось отдаленное грустное и нежное пение. Под роскошным балдахином, представлявшим собой небо, усыпанное звездами из драгоценных камней, несли на троне папу, который, вытянув руки вперед, благословлял коленопреклоненную толпу. Папу окружала масса епископов, затем следовала придворная свита, за ней паломники высокого ранга в разнообразных дорогих нарядах, за ними монахи с факелами и монахини с зажженными восковыми свечами. После монахов и монахинь показалась Лукреция в сопровождении придворных дам, затем Цезарь с женой и многочисленной свитой. Альфонсо заметил, что с одной стороны Лукреции шел Паоло Орсини, а с другой – Реджинальд Лебофор. Прекрасный английский рыцарь, одевавшийся всегда очень роскошно, теперь превзошел самого себя. Но больше всех поражал своей внешностью герцог Романьи. Он был в атласе и парче, расшитой жемчугом и бриллиантами. Герцогская шапка была украшена рубинами, величиной с орех. С его плеч спускалась роскошная пурпурная королевская мантия, отделанная горностаем. Оставаясь в своем углу, Альфонсо был уверен, что его не заметят главные действующие лица церемонии, но судьбе угодно было распорядиться так, что он оказался прямо напротив Лукреции. В эту минуту понеслись звуки, точно волнующееся море, сотен гармоничных голосов. Папа сошел со своего трона, чтобы лично отслужить обедню. С какими разнообразными мыслями и чувствами ни собрался сюда народ, никто не мог не подпасть под влияние этой высокоторжественной обстановки. Когда по окончании обедни, его святейшество начал благословлять народ, Альфонсо невольно опустился на колени и в ту минуту был так же горячо убежден, как любой паломник-фанатик, что сам Господь благословляет его. Однако, это восторженное настроение исчезло, как только рыцарь поднял голову и увидел отца Бруно, который, сопровождаемый большим количеством доминиканцев, готовился взойти на украшенную цветами кафедру, чтобы после проповеди прочесть юбилейное папское послание, оглашения которого с нетерпением ожидали паломники. Его бледное лицо имело страдающее и решительное выражение, как у человека, ожидающего казни, но преодолевшего страх. Взойдя на кафедру, он некоторое время молчал, обводя взорами толпу. Альфонсо видел, что мужество не изменило монаху, и подумал с некоторым удовольствием о том, какой неприятный сюрприз ожидает папу и его двор. Булла оставалась непрочитанной, – по-видимому, отец Бруно оставил ее для заключения своей речи. Монах начал с предисловия на латинском языке, описывая в мрачных, отталкивающих красках современное состояние христианского общества и религии. Казалось, что вернулся сам Данте и читает отрывки своей «Божественной комедии». Бруно говорил о первых чистых временах христианства, когда идолы исчезали, как дым. Теперь же снова начали поклоняться идолам и, именуя себя христианами, совершают преступления подобно язычникам. После этого предисловия монах-аскет нарисовал картину современного ему общества, далеко-далеко стоящего от идеалов христианства. Горячая проповедь монаха уничтожала все на своем пути, как лава вулкана. Он громил тщеславие, жажду славы, плотскую любовь и в ужасном виде изображал нравы современного духовенства. Изумление присутствующих возрастало с каждой минутой. Так как монах говорил вообще, не касаясь личностей, то папа Александр слушал его с видным благоволением. Эта необыкновенная речь повышала настроение толпы с каждой минутой все больше и больше. Но вдруг Бруно остановился, как бы собираясь с силами для того, чтобы совершить героический поступок. Его взоры, обводившие толпу, точно призывая к вниманию, остановились на Лукреции Борджиа, которая задумчиво смотрела на Альфонсо и даже не заметила, что монах перестал говорить. Слова, которые собирался произнести Бруно, застряли у него в горле. Он судорожно, глубоко вздохнул и продолжал молчать. Лукреция вздрогнула, как бы проснувшись от сна, и подняла удивленный взор на проповедника. Бруно снова заговорил, но совершенно неожиданно на другую тему. Он упомянул о милости Божьей к верным слугам церкви и, кстати, рассказал о том, что на его жизнь покушался неизвестный человек. Монах расточал необыкновенные похвалы по адресу рыцаря, спасшего его, и Альфонсо боялся, как бы проповедник не назвал имени того лица, которое наняло убийцу. Лукреция не могла удержаться от слез, а среди толпы слушателей пронесся шепот одобрения. Монах продолжал свой рассказ с возрастающим воодушевлением. Он говорил так, что можно было предположить, что он считает Орсини подстрекателем преступления. – Моей смерти желал один человек, которому было неприятно, что я отрицательно отношусь к предполагаемому браку между двумя высокопоставленными лицами, – сказал Бруно, – но я все же скажу: не следует допускать третий брак после того, как Господь ясно показал, что Он не желает этого. Два первых брака произошли без Божьего благословения, не нужно вызывать вновь гнев Творца Небесного, иначе Он немедленно покарает непокорных Ему. Эти слова произвели на слушателей неодинаковое впечатление. Цезарь улыбался, а папа сердито смотрел на него, как будто считал, что эта проповедь – дело рук Цезаря. Герцог Гравина вскочил с места и схватился за рукоятку шпаги, но Паоло остановил его, прошептав, что не следует принимать намек на свой счет. Лукреция не пыталась скрывать свое волнение и, закрыв руками лицо, тихо плакала. В заключение монах объявил, что прощает своих врагов, и перешел на чисто религиозную тему, показывая необыкновенную начитанность и остроумное толкование текстов Священного Писания. Окончив проповедь, Бруно взял буллу, сорвал печать и прочел ее громким, внятным голосом. Наступило глубокое молчание. Слушатели молились про себя в ожидании, когда глава доминиканцев опустится на колени и произнесет благодарственную молитву, что требовалось по уставу службы. Но Бруно стоял неподвижно, погруженный в свои думы. – Посмотрите, что делается там с этим учеником Савонаролы, – недовольным тоном обратился Александр к одному из своих приближенных, – а благодарственную молитву мы прочтем сами. Папа поднялся, в сопровождении кардиналов и прелатов подошел к алтарю и сильным, звучным голосом произнес слова молитвы. Вслед за ним последовал и герцог Романьи, который по окончании молитвы попросил позволения кое-что пожертвовать в пользу церкви и высыпал из маленькой коробочки много драгоценных камней. – Вот вполне королевский подарок! – восторженно воскликнул церковный казначей. – Какой прекрасный пример для других! – Карл Великий давал больше. Вот если я получу корону на западе, то буду поступать также, как он, – смеясь, ответил Цезарь. Альфонсо не переставал смотреть на Бруно, который с бледным, утомленным лицом, опираясь на плечо Биккоццо, спускался теперь с кафедры. Вдруг раздался удар, потрясший всю церковь до основания. В честь юбилейного праздника приказано было звонить в огромный старый колокол базилики. Внезапно язык этого колокола сорвался, и большой кусок железа полетел с высоты башни вниз, проломил потолок церкви и упал непосредственно к ногам папы, раздробив мрамор пола. Куски штукатурки с потолка и осколки мрамора осыпали папу и его приближенных. Невообразимая паника воцарилась среди присутствующих. Боялись, что рухнет все здание церкви, все заволновались, бросились к выходам, а тут еще распространился слух, что папа убит. Началась настоящая паника. В первую же минуту происшествия Лукреция, оставив свое безопасное место, с громким, пронизывающим криком ужаса бросилась к своему отцу и упала в его объятия в бессознательном состоянии. Александр со свойственным лишь ему необыкновенным самообладанием положил на пол у своих ног, бесчувственную дочь и, несмотря на то, что ожидал, что вот-вот разрушится весь храм, громким, спокойным голосом прочитал молитву. Услышав голос папы, толпа мгновенно затихла в торжественном молчании, и могучий «аминь» раздавшийся в конце молитвы, показал, что сердца молящихся бьются в унисон. С невыразимой нежностью Александр поднял свою дочь, наконец очнувшуюся от обморока, и она покрыла слезами и поцелуями его руки. Альфонсо показалось, что из глаз папы тоже покатились слезы в ответ на излияния Лукреции. Пока приближенные Александра приносили ему поздравления по поводу чудесного избавления от опасности, Альфонсо вышел на середину храма и, скрытый толпой громко произнес: – Вершина церкви святого Петра стоит еще, но если ее сейчас же не укрепить и не перестроить всего здания, то скоро от нее останутся одни развалины. То же самое верующие христиане, произойдет и с нами. Укрепим христианство, исправим его по заветам Великого Учителя, иначе оно превратится в руины. – Это хорошо сказано! – воскликнул Цезарь. – Я считаю, что каждый из нас, кто сколько может, должен пожертвовать на восстановление храма святого Петра. Это было бы поистине христианским поступком. А пока, святой отец, успокойте сердца верных сынов церкви, покажитесь народу, собравшемуся на площади. Нужно, чтобы все видели, что ваше святейшество милостью Божьей остались невредимы. – Мы отправимся торжественной процессией в церковь Пресвятой Богородицы и принесем Царице Небесной благодарственную жертву, – сказал Александр немного утомленным голосом. – Успокойся, моя дорогая Лукреция! Орсини, помогите ей идти! На площади раздалось радостное ликование толпы, когда она увидела папу во главе процессии, отправлявшейся к храму Пресвятой Девы. Альфонсо не последовал за процессией. Церковь быстро опустела, и рыцарь остался один, погруженный в свои мысли. Он думал о страстной любви Лукреции к отцу, о необыкновенном самообладании папы в такой страшный момент, о храбрости доминиканца, не побоявшегося пойти против папы и обвинить Орсини. Альфонсо только не мог понять, почему доминиканец так расхваливал его, между тем, как должен был чувствовать ревность к нему. Монах видел, что Лукреция оказала предпочтение Альфонсо перед другими. Вдруг его осенила мысль: он ясно понял, почему Бруно так превозносил его. Он хотел вызвать таким образом ненависть герцога Романьи к нему, принцу Альфонсо, и заставить его отомстить ему. Подняв голову, принц неожиданно увидел доминиканца, стоявшего рядом с Биккоццо у алтаря и рассматривавшего разбитую мраморную плиту. На лице Бруно выражалась бессильная бешеная злоба. Однако, заметив приближающегося к нему рыцаря, он быстро овладел собой. – Вы действительно, кажется, считаете свою жизнь скорее несчастьем, чем благом, – иронически обратился Альфонсо к доминиканцу. – По крайней мере, своими неуместными похвалами по адресу лица, спасшего вам жизнь, вы привлекли ему врага, что, конечно, сделали умышленно. – Да, я причинил тебе временное зло, – согласился монах, – а ты навеки сделал меня несчастным. – Я? – удивленно воскликнул Альфонсо. – Да, ты! В моей душе боролись два начала – добро и зло. Добро победило. Но вот явился ты – и зло воскресло с новой силой. Ты заставил меня отказаться от моей великой задачи. Ты второй, но еще более коварный, Иуда. Я хотел, – продолжал с горькой улыбкой доминиканец, – заставить всех собравшихся христиан сбросить с трона Родриго Борджиа, который при помощи дьявола и больших денег повелевает нами, под именем Александра Шестого. Его поступки позорят Христа, представителем которого он является перед народом, бросают тень на всех христиан. – Уведи своего господина отсюда, он сошел с ума! – обратился Альфонсо к Биккоццо. – Если бы он съел кусочек чего-нибудь, ему стало бы лучше. Ведь в течение тридцати четырех часов у него во рту не было маковой росинки! – озабоченно заметил Биккоццо. – Я не голоден, и не чувствую никаких физических мучений! – возразил Бруно. – Жгите меня на огне – я не испытаю никакой боли. Ведь мои душевные страдания так велики, что заглушают все на свете. Ты не должен сердиться на меня, рыцарь! Я спас тебя, – теперь же для тебя этот город будет самым страшным местом. Ты в большом подозрении у Цезаря, и если останешься здесь, то неминуемо погибнешь. Если же ты все-таки считаешь, что я виноват перед тобой, то приходи ко мне за возмездием. – Объясните, чем я помешал вам исполнить свой план? – спросил Альфонсо. – Биккоццо скажет тебе, в чем дело! Я слаб, я устал, я погиб... я сам не знаю, что говорю, – ответил доминиканец шатаясь и вдруг схватился за плечо Биккоццо, чтобы не упасть. – Поведи меня к свету, Биккоццо! – залепетал он, – к свету, к свету! Здесь темнота навеки! (обратно)ГЛАВА VI
На другой день, после открытия юбилейных празднеств, рано утром, чуть солнце успело взойти, – в замке Святого Ангела сидело, в одной из комнат нижнего этажа, двое мужчин. Свет с трудом проходил сквозь железные решетки окон этой комнаты. По стенам были развешаны разные орудия пытки. Для этой же цели к потолку были прикреплены крюки и кольца. Один из мужчин был бандит Джованни, а другой – Мигуэлото. – Да, мы упустили удобный случай, – проговорил последний, – но все-таки этот проклятый феррарец недолго просуществует!.. Пусть только герцог услышит то, что ты только что рассказал мне. Да вот он и сам идет! В эту минуту в комнату вошел Цезарь Борджиа в длинном испанском плаще и мягкой шляпе, надвинутой на глаза. В этом костюме Цезаря нельзя было отличить от любого горожанина. Герцог так был погружен в свои мысли, что сначала не заметил присутствия бандита. Увидев Джованни, он отскочил назад и достал из-под плаща свое любимое оружие. – Ваша светлость, здесь Джованни, он просит позволения видеть вас! – сказал Мигуэлото, в то время как бандит кланялся до самой земли. – Ах, это – ты, честнейший Джованни? Вот уж никак не ожидал, что увижу так рано и в обществе Мигуэля нашего праведника! Ты ведь записался в праведники! – насмешливо проговорил Цезарь. – Хорошо, что ты вовремя заговорил, Мигуэль, ведь мой указательный палец уже нажимал пружину этой машинки. Еще минута – и отравленная иголка попала бы в глаза Джованни. Будь здесь двенадцать бандитов – все получили бы свою долю. – С этими словами герцог показал изящно сделанный шарик, с воткнутыми в него отравленными иголками, которые при нажатии внутренней пружинки разлетались во все стороны. – Как видишь, праведный Джованни, со мной шутки плохи. Однако, что с тобой случилось? Почему твое лицо имеет такой вид, точно попало под пресс, которым выжимают виноград? Рассказывай всю правду, иначе тебе придется познакомиться вот с этими штуками, – прибавил Цезарь, указывая рукой на приспособления для пыток. У бандита не было основания скрывать истину, и он подробно изложил все происшедшее с ним. – Да, тебе не повезло, но это могло случиться со всяким! – задумчиво ответил Цезарь. – Но вашего шпиона, синьор, Джованни благополучно доставил в замок Орсини! – проговорил дон Мигуэль, желавший задобрить Цезаря. – Да, но вместо того, чтобы слегка ранить, он перерезал ему горло, как барану. Впрочем, тем лучше: Орсини будут ему еще больше доверять. Ну, спасенная душа, – насмешливо обратился герцог к бандиту, – какое же у тебя чувство в отношении рыцаря, так разукрасившего тебя? Собираешься ли ты мстить ему, или чувствуешь к нему благодарность? А что поделывает монах? – Отец Бруно – святой человек. Я никогда не подниму на него руку, – торжественно заявил бандит. – Неужели? В таком случае, он очень опасен! Впрочем, после того, что он говорил вчера по поводу брака Лукреции, его можно еще подержать на земле. Мяуканье кошки действует на нервы, но если она охраняет сало от нападения мышей, то с этим еще можно примириться. Нет, теперь я имею в виду не монаха, а того иоаннита. – Если вашей светлости угодно, чтобы я наказал за то, что он вмешивается не в свое дело, я к вашим услугам. Но я не возьму с вас ничего за это, так как и сам жажду разделаться с ним! – мрачно ответил бандит. – Поэтому-то я и позвал тебя. Послушай, Джованни, никто не смеет коснуться ни одного волоса на его голове. Кто тронет его, тот погибнет в страшных мучениях под пыткой. Запомни это хорошенько и держи язык за зубами. Мигуэль, дай ему вдвое больше того, что ему обещано, и пусть он убирается отсюда! Мигуэль низко поклонился. Бандит последовал его примеру, после чего оба вышли со смущенными, недоумевающими лицами. Цезарь улыбнулся над их смущением и поднялся по темной лестнице на одну из башен замка. Сидя в амбразуре окна, Фиамма задумчиво смотрела на небо, подперев голову руками. У ее ног дремали легавые собаки Цезаря. Герцог неслышными шагами вошел в комнату. Собаки подняли головы и, узнав хозяина, продолжали мирно дремать. Фиамма так задумалась, что заметила присутствие Цезаря лишь тогда, когда он, склонившись на одно колено, потянул ее руку к своим губам. Лицо молодой женщины прояснилось, когда она увидела своего возлюбленного. – Вот, дорогая, как рано я пришел к тебе, бросив свою супругу, которой ты так завидуешь, – проговорил Цезарь, нежно обнимая Фиамму. – Ну, что, обдумала ты мое предложение, согласна взять на себя предложенную мною роль? – Ты знаешь, Цезарь, что у меня нет своей воли. Я – твоя раба и делаю все, что ты прикажешь мне. Я так глубоко-глубоко опустилась, что сама презираю себя, не чувствую к себе даже жалости. Но говори, говори, мой милый, дай мне возможность забыться. Твои слова звучат для меня, как отдаленная райская музыка. – Скажи, что ты любишь меня. Раньше это слово не сходило с твоих уст, – нежно заметил Цезарь. – А теперь, теперь ты не любишь меня! – О, если бы я не любила тебя, Цезарь, мы никогда больше не увиделись бы с тобой! – Отчего же ты колеблешься, не решаешься помочь мне? Ведь ты видишь, как шатко мое положение! – с укоризной проговорил. Цезарь. – Может быть, и ты была союзницей Орсини и желала моей гибели? – Я – союзница Орсини? Боже меня упаси! – воскликнула Фиамма. – Я только не могу понять, почему ты требуешь, чтобы я, изображая твою сестру, играла роль развратной женщины! – Но ведь это – карнавальная шутка! Притом ты изобразишь Лукрецию именно такой, какая она есть на самом деле. Ты ничем не погрешишь против нее. Ведь вся Италия знает, что она за женщина, даже ее самые горячие поклонники. – Ну, мало ли, что говорят, Цезарь!.. Если бы верить всему, то ведь можно с ума сойти от ужаса! – ответила Фиамма, и так взглянула на герцога, что даже он вздрогнул. – Если тебе не нравится выступать в роли моей сестры, то не нужно. Я придумал для тебя нечто другое. Так как ты хороша, несравненно хороша, то ты будешь принимать главарей черной банды, которых я приглашу на интимный ужин. Я представлю тебя этим веселым молодцам в качестве жены Мигуэля, он сам, конечно, ничего не должен знать об этом. Отчего ты смотришь на меня с таким ужасом? – Прости меня, но я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что я такое! – воскликнула Фиамма, гневно сжимая губы. – Я все вспоминаю старое. – Господи, на что же я могу рассчитывать, если даже люди, любящие меня, не хотят ни в чем помочь мне – с грустью проговорил Цезарь. – Ведь я прошу у тебя такой пустяк! Сказать несколько любезных слов на карнавале – вот и все. Но конечно, если ты считаешь это унизительным для себя, то ничего не нужно! Я думал, что ты поможешь мне! Я так надеялся, что ты согласишься сделать мне удовольствие, что заказал для тебя костюм феи Морганы, блестящий от бриллиантов, сотканный из золотой паутины. Я сам в хотел сопровождать тебя в маске черного невольника, в виде эмблемы, как выражение поклонения твоей красоте! – О, если ты любишь меня, то конечно, я сделаю все, что тебе угодно! – воскликнула вдруг Фиамма. – Если от этого зависит твое спокойствие, то я возьму на себя роль твоей сестры, в каком бы виде я не должна была изобразить ее! – Ты должна будешь направить все свои чары только на одного. Тебе, может быть, рассказывал Мигуэль о странном иоанните, человеке твердом и холодном, как мрамор. Он все время преследует нас, точно послан свыше для того, чтобы уничтожить всю семью Борджиа. – Я слышала, что он отказался быть рыцарем Лукреции! – ответила Фиамма. – Такой красавицы, признанной всем светом! – прибавил герцог. – А она так горячо просила его об этом, позабыв всякую осторожность!.. Недаром говорится, что холодная монахиня, отвергающая любовь мужчины, может заставить позабыть тысячу любящих женщин. – Мне, вероятно, придется испытать на себе эту поговорку! – Никогда, никогда, моя дорогая, пока ты сама не разлюбишь меня! – горячо воскликнул Цезарь. – Но вернемся к Лукреции. Она создана для радости. Как цветок без солнца, она не может существовать без любви. Холод убивает ее и потому нужно направить все силы на то, чтобы заставить иоаннита заинтересоваться ею. Когда у Лукреции является любовный каприз, она никого и ничего не слушает, и даже увещевания отца не имеют для нее тогда значения. Для меня очень важно, чтобы Орсини верили в мое расположение к ним и в желании содействовать им в браке Паоло. Я действительно буду играть им на руку, но только тогда, когда буду убежден, что Лукреция ни за что не согласится быть женой Паоло, а это случится при ее увлечении иоаннитом. – Но если Лукреция все еще так хороша, как была раньше, то ее любовь недолго будет безнадежна. – О, ты так думаешь потому, что не видела этого ледяного иоаннита! – весело воскликнул Цезарь. – Во всяком случае, я должен хорошенько узнать, что он за человек, прежде чем использовать его для своей цели. Ты так прекрасно воспринимаешь и передаешь чужие голоса и манеры, что тебя не трудно будет принять за Лукрецию. Желание моей сестры быть незаметной среди других масок очень облегчает нам исполнение моего плана. Кроме того, нужно будет посмотреть, нельзя ли извлечь пользу от соперничества этого рыцаря с его братом по оружию, английским рыцарем, сиром Реджинальдом, который так глазеет на Лукрецию, точно никогда в жизни не встречал ни одной женщины. Однако мне надо послать за твоим костюмом а также позаботиться о своем. Мы так заболтались, что не заметили, как прошло время, – закончил Цезарь и обнял просиявшую от счастья молодую женщину. (обратно)ГЛАВА VII
Орсини и их знатные гости были заняты приготовлениями к карнавалу. Они собирались устроить торжественное шествие в масках, которое должно было сопровождать Лукрецию. Паоло рассчитывал заслужить расположение Лукреции и старался все устроить согласно вкусу красавицы. Но незадолго до начала карнавала явился посланный от Лукреции и заявил, что она отказывается от эскорта. Разочарование Орсини было очень велико, но Паоло несколько успокоился, когда посланный прибавил, что Лукреция надеется, что он узнает ее, в какой бы маске она ни была, так как любовь всегда найдет объект своей страсти. Решено было, что Лебофор будет изображать веселого Ланселота и Паоло – меланхолического влюбленного Тристана. Герцог Гравина взял на себя роль короля Артура, а Урбино – колдуна Мерлина. Вителлоццо непременно хотел быть великаном-язычником. Эта роль давала ему возможность быть вооруженным, а без оружия он чувствовал себя не совсем спокойно в Риме. Маскарад начался в полдень. Альфонсо блуждал по улицам, украшенным флагами и коврами, и сам не знал, куда он, собственно, идет. Из окон домов раздавались смех и музыка. Толпа принимала Альфонсо за ряженого, она думала, что рыцарь нарядился в монашеский костюм из-за карнавала, и все время приставала к нему. То его окружали дьяволы с факелами в руках и просили у него благословения для того, чтобы отправиться в преисподнюю, подальше от христианского ликования. То он попадал в объятия бородатой великанши-дамы, которая оказывалась немецким солдатом... Феи, сатиры, фавны, всевозможные языческие божества на каждом шагу попадались навстречу иоанниту. Тут же на улице давались представления. Большей частью изображались сцены из быта отдельных местностей и их нравы. Разные провинции соперничали друг с другом в изобретательности и щегольстве костюмов. Но пальму первенства одержали римляне. Во время своего странствования Альфонсо встретил маскарадное шествие Орсини, привлекшее к себе его внимание. На блестящих на солнце флагах были разрисованы Рафаэлем Санти романтические сцены. Роскошные костюмы рыцарей, необыкновенно дорогое убранство лошадей, вызывали всеобщее удивление. В серебряной, убранной розами, колеснице, в которую была впряжена белая, как снег, шестерка лошадей, сидел Амур, вооруженный луком и стрелами. Как только колесница останавливалась, вокруг нее начинали плясать богини Времени, дочери Зевса и Фемиды, связанные между собой цепью из роз. Непосредственно за колесницей выступал бог отверженной любви, окруженный Ревностью, Гневом, Страданием и Ненавистью. Все эти чувства воплощались в образе женщин в костюмах мрачных красок. Вслед за этой процессией шла Правда, измученная, в платье, пропитанном водой, как бы от слез. Правда не отвечала на вопросы и только печально покачивала головой. Альфонсо почувствовал укол в сердце, когда увидел процессию, ясно намекавшую на поведение дочери папы. На носилках сидела восковая фигура, очень напоминавшая собой Лукрецию, ее окружало большое количество кардиналов в масках. Они проповедовали народу о любви, предлагая ему брать примеры с главы церкви и его семьи. Непосредственно за этой процессией, извиваясь во все стороны, двигалась маленькая фигурка, изображавшая наполовину змею, наполовину жабу. Весь ее костюм состоял из длинных языков с надписью: «Клевета, клевета». Фигурка все время изрекала фразы, позорящие папу, его семью и весь двор. Альфонсо сейчас же узнал в образе змеи маленького портного Паскино. Погруженный в свои мысли Альфонсо не заметил, как очутился на главной улице. Он не обращал внимания на встречающиеся маски и процессии, как вдруг его остановил какой-то необыкновенный шум. Перед ним проходил кортеж, состоявший из многочисленных лиц, одетых в роскошные восточные костюмы. Все они играли на тамбуринах, цимбалах и барабанах. За ними ехала дама, одетая в блестящее платье и изображавшая фею Моргану. Она сидела на спине слона, убранного золотом и пурпурной тканью. Все ее платье было усыпано бриллиантами, точно каплями росы. Огромнейший тюрбан скрывал ее волосы. Маска не давала возможности видеть лицо интересной незнакомки. – Да здравствует Моргана! – кричали со всех сторон. По-видимому, фея была очень остроумна, так как вслед за каждым ее словом раздавались смех и аплодисменты. Возле нее стояли корзины цветов и конфет, и она бросала их горстями в толпу. Иногда она произносила фразы на каком-то восточном языке, но, вслушиваясь в ее слова, можно было понять, что она говорит по-итальянски и только переделывает окончания слов. Слона вел на палке, украшенной жемчугом, какой-то потомок Магомета. Об этом можно было судить по его восточному костюму, представлявшему собой образец царственной роскоши. На его лице была маска негра. Он разгонял обнаженным мечом всех, кто осмеливался ближе подойти к фее Моргане. Альфонсо хотел пройти мимо этой процессии, так же мало интересуясь ею, как и всеми другими, но вдруг вспомнил, что в Италии был лишь один слон, подарок султана, принадлежавший папе. Желание узнать, кто скрывается под маской феи, было так велико, что Альфонсо пробрался через толпу и очутился возле негра. Увидав рыцаря, он радостно вскрикнул и тихо сказал несколько слов Моргане. Фея сделала знак остановиться. Вся процессия замерла на месте, а Моргана подозвала к себе Альфонсо. – Что вам угодно, милостивая фея? – спросил рыцарь. – Это я должна спросить вас, победитель буйвола, что вам угодно от меня? – мелодичным голосом сирены спросила Моргана. Я – фея Моргана и могу доставить каждому человеку то, чего он желает, например солдату – военную славу, священнику – духовную власть, поэту – бессмертие. Чего же ты желаешь рыцарь? – Нет, не скажу! Ты, фея, так же коварна, как волны твоего дворца. Они заманчивы, изумрудно-блестящи снаружи, а стоит лишь погрузиться в них, как увидишь черную пропасть под собой и пойдешь ко дну. Беда тому человеку, который доверится им! Но раз ты хочешь помочь мне, то скажу тебе, что я ищу одно лицо и вместе с тем, не хотел бы найти его. – Тогда поезжай со мной! Я приехала сюда из страны, где все устроено не так, как здесь. Там мужчины застенчивы и робки, а женщины держатся свободно. Я хочу набрать в Риме гарем для себя и ищу красивых, нравственных мужчин. Мне кажется, что ты мог бы занимать в моем гареме первое место. Садись на слона и поезжай со мной! Смотри, он уже сам склонился перед тобой. Огромное животное, подчиняясь палке негра, действительно опустилось на колени. – Нет, королева, в твоем королевстве все слишком необычайно, и потому я не решаюсь сопровождать тебя. Даже Цирцея сначала превращала человека в свинью, а уже потом загоняла его в хлев, – возразил рыцарь. – Кроме того, из твоего гарема таинственно исчезло столько людей, что носятся слухи, будто ты держишь у себя змею, убивающую твоих возлюбленных. – Я до сих пор никого не любила! – проговорила фея. – Тем хуже! Следовательно, у тебя нет никакого оправдания для твоего поведения. Можно еще извинить некрасивые поступки, если их совершают вследствие безумной любви, а тобой руководит лишь животное, скотское чувство, – резко сказал рыцарь. – Иди своей дорогой, а я пойду своей! Толпа зааплодировала, думая, что рыцарь играет роль и выдерживает ее до конца. – В таком случае, я поищу кого-нибудь, кто менее мудр и более счастлив, чем ты, – весело засмеялась фея. – Другой не откажется выпить чашу радости, несмотря на то, что губы других прикасались к ней. Пожалуйста, пошли ко мне своего друга, красивого английского рыцаря! Я уверена, что он не откажется занять предложенное тебе место. – Хорошо, постараюсь найти его поскорее, чтобы ты не думала, что я завидую ему, – ответил Альфонсо и рассерженный, направился к смеющейся толпе. Тотчас же процессия двинулась вперед. Альфонсо был доволен, что ушел от опасной женщины, но не успел он сделать и десять шагов, как почувствовал, что кто-то потянул его сзади за плащ. Он оглянулся и увидел негра. – Для того, чтобы вы, синьор, охотнее исполнили поручение королевы относительно английского рыцаря, она посылает вам этот браслет с медальоном, – проговорил негр, подавая Альфонсо дорогой браслет, на медальоне которого была изображена Лукреция, жена Тарквиния, закалывающаяся мечом. – Что это означает? – воскликнул Альфонсо. – Каждая медаль имеет свою оборотную сторону, – ответил негр, а затем нажал пружинку. Крышка медальона отскочила, и Альфонсо увидел чудный портрет Лукреции Борджиа. – Я передам этот портрет, а также поручение вашей госпожи английскому рыцарю, – проговорил Альфонсо с искусственным спокойствием. – Пойдите и сообщите ей мои слова. После этого он пошел назад прямо по тому направлению, где встретил недавно торжественное шествие любви. К величайшему своему удивлению, он сейчас же увидел Реджинальда, который ехал один, без маски, и зорко всматривался в каждую группу. Альфонсо собрал всю силу воли и спокойно спросил английского рыцаря, что означает его одиночество. – Мы нигде не можем найти донну Лукрецию, – ответил англичанин, – и потому решили разойтись и искать ее по всем улицам. – Ну, сэр Ланселот, тебе повезло и на этот раз, так же, как и всегда! – заметил Альфонсо и рассказал Лебофору о своей встрече с Лукрецией, а также о ее поручении. Заметив краску, разлившуюся по лицу англичанина, он прибавил: – Торопись, торопись, пока тебя не заместил другой, ведь ты один из многих. – Если бы мне пришлось перескочить через пропасть, чтобы найти донну Лукрецию, я и тогда не задумался бы ни на минуту! – живо воскликнул Реджинальд. – А ты не уведомишь своего друга Орсини о счастливой находке, чтобы он мог сопровождать тебя к твоей даме? – Нет, дон Альфонсо, настоящий рыцарь не должен терять ни минуты для исполнения желания своей дамы, – возразил Лебофор. – Может быть, она не желает, чтобы ее узнали, а, может быть, хочет дать мне какое-нибудь поручение, о котором никто не должен знать. Ну, прощай, товарищ по оружию, и никогда не бойся утонуть в стакане воды! – иронически прибавил он, а затем, пришпорив лошадь, помчался во весь дух по направлению, указанному ему Альфонсо. Трудно передать ту смесь чувств, которую испытывал Альфонсо, глядя вслед умчавшемуся товарищу. Сострадание, гнев, презрение и ревность настолько поглотили его, что он не видел и не слышал, что делалось вокруг. Страшный цербер почти касался своей головой лица рыцаря, но тот не замечал его. Огромная лягушка загородила ему дорогу, спрашивая о чем-то, но Альфонсо не отвечал на вопросы. Фурии скакали перед ним, сирены манили к себе своими чарующими голосами, и все было напрасно. Альфонсо равнодушно взглянул на многоголовую гидру, протягивавшую к нему свои головы, и с трудом сообразил, что гидра представляет собой самого папу Александра VI. Покидая Корсо, Альфонсо встретил прелестную, стройную сицилианку, которая грациозно танцевала, держа над своей головой тамбурин. Она поманила к себе рыцаря, но Альфонсо прошел мимо и скоро очутился на Капитолийской площади. (обратно)ГЛАВА VIII
На Капитолийской площади было сравнительно тихо и малолюдно. Сюда главным образом направлялись те, кого утомил шум Корсо и кто хотел подышать воздухом, сняв маску. День склонялся к вечеру. У палаток, где продавались сладости, фрукты и прохладительные напитки, собирались группы народа, весело разговаривавшего и смеявшегося. Тут же импровизировались стихи, составлялись эпиграммы, вызывавшие споры, иногда даже и драку. Римская знать прогуливалась отдельно взад и вперед по площади, держа в руках маски и тихо беседуя между собой. Страшно возбужденный и взволнованный Альфонсо сел у самого родника, и мирный плеск воды постепенно успокоил его напряженные нервы. Он с горечью подумал о событиях прожитого дня. В его прямом характере не было и следа фатовства, тем не менее, он не мог не сознаться, что во взорах Лукреции, устремленных на него, было более горячее чувство, чем простая благодарность за спасение от большой опасности. Смелое поведение феи Морганы подтверждало все слухи, которые распространялись о Лукреции. Альфонсо невольно вспомнил намек Цезаря об отношениях сестры к духовнику, и теперь не сомневался, что в этом намеке была правда. Подобная Мессалина наверно не брезговала никем. Мучительное покаяние отца Бруно тоже могло служить доказательством, что он питал к своей духовной дочери весьма грешные чувства. Альфонсо жалел теперь, что не принял приглашения феи Морганы, которая была не кем иным, как Лукрецией. Он должен был воспользоваться случаем и доказать развратной женщине всю неприглядность ее поступков. Следовало унизить ее, наполнить ее душу стыдом, а затем с презрением отвернуться от нее. Звуки тамбурина вывели Альфонсо из его задумчивости. Он поднял голову и только теперь заметил, что возле родника собралась многолюдная толпа. В Центре группы находились какие-то люди: старуха и двое вооруженных полудиких калабрийцев, по-видимому, распоряжавшихся уличным представлением. Возле них стояла молодая сицилианка, в которой Альфонсо узнал танцовщицу, встретившуюся с ним на Корсо. По-видимому, она принадлежала к распутным женщинам, которым, под страхом самого строгого наказания было запрещено появляться во время христианских праздников с открытыми лицами, вероятно, с целью оградить богомольцев от соблазнов красоты. Безобразная маска скрывала лицо танцовщицы, но ее стройная фигурка с прекрасными линиями тела приводила в восхищение всех тех, кто видел эту сицилийскую девушку. Может быть, потому, что Альфонсо думал о Лукреции, ему теперь показалось, что формы тела танцовщицы очень напоминают фигуру Лукреции, причем они были более мягки, женственны, чем у феи Морганы. Смотря на сицилианку, принц не мог не заметить, что молодая девушка не спускает с него взоров, которые блестели сквозь разрезы безобразной зеленой маски, напоминавшей своим цветом и фасоном незрелую дыню. Внимание рыцаря доставило удовольствие танцовщице. Она отделилась от своей компании и быстро подошла к Альфонсо. – Сегодня праздник, святой рыцарь, – проговорила она нежным голосом, который как музыка прозвучал в ушах Альфонсо, – не удостоите ли вы по этому случаю протанцевать тарантеллу с грешной сицилианкой! – Я – не ряженый, как ты, вероятно, думаешь, маска, – ответил принц, – мне не подобает в этой одежде танцевать с тобой! – Ну, может быть, моя музыка развеселит вас! – заметила молодая девушка и окинула взглядом собравшуюся толпу, среди которой находилась и жаба, изображавшая собой клевету. Сзади жабы стояли монах и сатана. – Моя музыка поднимает на ноги мертвых, – продолжала сицилианка, – она должна расшевелить и тебя, несмотря на то, что в твоей душе погасли чувства радости и любви. Мать, дай мне мандолину! Танцовщица повесила тамбурин на тонкой серебряной цепочке себе на плечо, взяла из рук старухи мандолину и запела необыкновенно красивым, мелодичным голосом любовный романс, в котором слышались и грусть неразделенной любви, и могучая страсть, и призыв к блаженству. Чистый, серебристый голос певицы сразу овладел вниманием Альфонсо. Он подумал, что наверно, так поет Лукреция, у которой был совершенно такой же серебристый голос. – Неужели ты думаешь, милая певунья, что твоя песенка может внушить мне нежные чувства, навеять любовь? – насмешливо спросил он. – Да, я вижу, что тебя трудно пронять, – смеясь, ответила танцовщица, – но все же я до тех пор не остановлюсь, пока не достигну своей цели. Девушка снова запела, произнося страстные слова любви. Во всей ее фигуре и вкрадчивой нежности голоса было столько чарующей прелести, что Альфонсо почувствовал, как усиленно забилось его сердце и голова пошла кругом. Он вскочил с места и протянул руки к певице, чтобы обнять ее. – Нет, нет, – остановила его молодая девушка, – ты забыл, рыцарь, что принадлежишь к ордену иоаннитов, хотя сам только что сказал мне это. Во всяком случае, я вижу, что мое пение имеет успех. Я могу научить тебя многому, мой гордый рыцарь! – смеясь, прибавила певица. – Но прежде всего сними свою маску. Я не понимаю, зачем ты вообще носишь ее? – проговорил Альфонсо. – Чтобы доставить удовольствие монсиньору кардиналу Сиенскому! – серьезно-почтительным тоном ответила танцовщица, чем вызвала громкий смех среди собравшейся публики. Молодая девушка отложила мандолину в сторону и, ударяя в свой тамбурин, весело запела:"В дни веселья карнавала, Чтоб монахов не смущать, Нам приказ от кардинала, Маской лица закрывать".
Последняя строка прозвучала у нее так горячо, что Альфонсо еще больше заинтересовался очаровательной незнакомкой. – Я верю этому, верю! – воскликнул он, с восхищением глядя на певицу. – Дело идет хорошо! – проговорил стоявший вблизи черт. – Что там поют эти проклятые? Какие-то псалмы? – Да, это доминиканец затянул было «Хвалите господа», но слова застряли у него в глотке! – ответила жаба. – Скажи, что тебе нужно от меня? – обратился Альфонсо к певице. – Ах, сказать ему хочу, что его я так люблю! – запела молодая девушка вместо ответа. – Эту песню ты, верно, поешь всем, кто только подойдет к тебе? – проговорил Альфонсо, видимо взволнованный. – Однако, куда же ты направляешься? Почему уходишь от меня? – Если ты не хочешь танцевать со мной, то я должна поискать кого-нибудь другого! – ответила танцовщица. – Моя мать и так уже недовольна. – Ты знаешь, тарантул танцует, когда его ужалит ядовитая пчела. Поцелуй меня, красивая змейка! Может быть, я тоже сойду с ума и пойду танцевать с тобой. – У нас, в Сицилии, не принято, чтобы мужчины ждали, когда красавица подарит им поцелуй. Обыкновенно они сами берут его! – лукаво возразила певица. – В таком случае, я должен подражать их примеру! – воскликнул Альфонсо и бросился к девушке. Однако, она грациозно отскочила на несколько шагов, а затем начала кружиться вокруг него, то маня его к себе, то ловко ускользая от протянутых рук. Рыцарь, не оставлял своего намерения поймать девушку, и, следуя за ней, невольно исполнял фигуру танца. Громкий смех толпы, следившей за каждым движением танцовщицы и рыцаря в монашеском одеянии несколько отрезвил Альфонсо. Он подумал о том, какой комичный вид должен представлять собой, но решил до конца исполнить свою роль. Делая вид, что он танцует этот «танец любви» по всем правилам искусства, он вдруг остановился, как бы утомленный борьбой. Танцовщица приблизилась к нему, выражая жестами отчаяние, надежду и страстную любовь. Тогда он, как бы в порыве раскаяния, опустился на колени, а она кружилась вокруг него, точно бабочка вокруг цветка. Смотревшая на этот танец толпа не могла сдержать крик восторга. Альфонсо с большим трудом подавлял свое желание схватить девушку в объятия. Его сердце так усиленно билось, что, казалось, этот стук был слышен на расстоянии. Круг зрителей все сужался, и танцовщица все ближе и ближе подходила к рыцарю. Наконец, наступил давно ожидаемый имя момент. Молодая девушка сделала полукруг руками над самой головой своего кавалера, после чего он должен был, по правилам фигуры, подняться с колен и продолжать танец, но вместо этого Альфонсо охватил дрожащей рукой стройный стан танцовщицы и крепко сжал ее в своих объятиях. – У нас не одинаковые условия во время танцев, а это не годится, – проговорил он, – ты видишь мое лицо, а я твоего не вижу. Сними маску! Во-первых, я хочу убедиться, существуют ли на свете две женщины с такой фигурой, а, во-вторых, ты должна быть наказана за то, что соблазняешь иоаннита, и это отучит тебя на будущее время искушать людей, посвятивших себя службе господней. С последними словами Альфонсо так сильно прижал одной рукой к своей груди танцовщицу, что та слегка вскрикнула, а другой хотел снять маску с ее лица. – Мать Фаустина, на помощь! – закричала испуганная танцовщица. – Карнавал, карнавал! Старуха с двумя калабрийцами бросилась к ней. Толпа тоже закричала «карнавал, карнавал» иустремилась освобождать молодую девушку. – Ради Бога, остановитесь, успокойтесь! – обратилась девушка к толпе, по-видимому боясь, чтобы рыцарь не пострадал. Мне не нужна защита... Отпустите меня, благородный рыцарь! – прошептала она Альфонсо, – я право – не то, чем вам кажусь. Если меня узнают – я погибну. Я принадлежу к числу фрейлин донны Лукреции, и затеяла всю эту маскарадную шутку только для того, чтобы узнать, всех ли женщин вы так ненавидите, как мою госпожу. – Значит, ты похитила всю соблазнительную прелесть своей госпожи, – таким же шепотом ответил принц Альфонсо. – Но этого не может быть! Я непременно должен удостовериться, что ты – не она! – Пощадите меня, дорогой рыцарь. Вы знаете, что я совершу большой проступок против церкви, если явлюсь среди публики без этой ужасной маски, – продолжала просить танцовщица, стараясь освободиться из рук Альфонсо. – Если ты действительно не донна Лукреция, то я буду любить тебя больше всех женщин в мире и докажу этим, что ненавижу не весь прекрасный пол. Да, впрочем, это верно, ты – не Лукреция. Вот тащится сюда она, эта дьявольская фея Моргана. Слегка опустив руки, но все еще держа в них молодую девушку, Альфонсо с большим смущением смотрел по направлению Корсо, откуда показалась процессия феи Морганы. – Вот видите, я вовсе не та, за которую вы меня принимали! – воскликнула танцовщица, дрожа всем телом. – Пусти сейчас же девушку! Как ты, служитель церкви, осмеливаешься нарушать распоряжение кардинала? – раздался чей-то хриплый голос, и кулак опустился на плечо Альфонсо. Рыцарь оглянулся, и узнал отца Бруно, который смотрел на него с выражением бешеной злобы. – Теперь наступила моя очередь освобождать девушек от дерзкого нападения! – проговорил человек высокого роста в позолоченном чешуйчатом костюме, в котором Альфонсо узнал Оливеротто да Ферме. – Монах, остановите этого господина, он, кажется – ваш товарищ, а не то я сделаю, что хотел сделать третьего дня, то есть сделаю этого мерзавца покойником! – воскликнул Альфонсо, вынимая одной рукой меч, а другой продолжая держать танцовщицу. – Тише, Оливеротто! Ведь это – не маскарадный, а настоящий рыцарь Гроба Господня, – проговорил монах, силясь оттащить своего спутника в сторону. – Отпустите эту женщину, мой сын, ведь вы нарушаете приказ кардинала! – мягко сказал монах, обращаясь к Альфонсо. – Я хочу только наказать ее за то, что она пыталась осквернить мой священный сан, – ответил несколько смущенный рыцарь. – Я думаю, что за это следует снять с нее маску. – Святой отец, я должен отомстить ему за те синяки, которые у меня до сих пор болят, и освободить танцовщицу! – воскликнул Оливеротто. Толпа принимала участие в этих переговорах, становясь то на сторону рыцаря, то на сторону Оливеротто. – Рыцарь, прошу тебя, отпусти меня! Клянусь, что ты увидишь мое лицо без маски, – прошептала молодая девушка умоляющим голосом. – Я ни за что на свете не хочу, чтобы тот монах узнал меня. – Чем же ты поклянешься мне? – спросил Альфонсо. – Твоя клятва должна быть настолько крепкой, чтобы даже Лукреция не могла заставить тебя нарушить ее. – Клянусь тебе своим страстным желанием снова встретиться с тобой! – ответила танцовщица, смотря на Альфонсо блестящими глазами. – Скажи же, когда и где я могу видеть тебя? – Будь через три часа у ворот Сан-Себастьяно. Мать Фаустина проводит тебя в мою квартиру, через грот Эгерии. – Через грот Эгерии? – с удивлением воскликнул рыцарь, но ведь он находится в садах Лукреции Борджиа. – Да. Все любимицы донны Лукреции имеют ключ для свободного прохода, Я принадлежу к числу любимиц, и у меня есть ключ. Не бойтесь встретиться сегодня вечером с моей госпожой, она будет совсем в другом месте, можете быть в этом совершенно уверены. В эту минуту раздался крик толпы, тщетно старавшейся удержать Оливеротто от нападения на рыцаря. Альфонсо оглянулся и выпустил из рук девушку. Однако вместо того, чтобы воспользоваться своей свободой, как можно было ожидать, сицилианка подошла к монаху Бруно и заговорила с ним каким-то странным, измененным голосом. Молодая девушка просила его во имя Бога и закона юбилейного торжества не допускать драки между Оливеротто и рыцарем. – Ну, негодяй да Фермо, достань себе оружие, и мы посмотрим, чья возьмет! – воскликнул Альфонсо, размахивая мечом. – Берегитесь, берегитесь, сюда идет Лукреция со всей своей свитой! – просила танцовщица каким-то странным, грубым голосом. – Ради Бога, ради папы и святой церкви не деритесь, не ссорьтесь! – Да, это – донна Лукреция. Тем лучше!.. будет одним свидетелем больше. Пусть все видят, как достойно ты будешь наказан, убийца! – воскликнул Альфонсо, не опуская своего меча. – Как? Разве Лукреция там, в той процессии? – удивлённо спросил монах и ревниво взглянул на Лебофора, сидевшего с феей Морганой на спине слона. Вся семья Орсини, окруженная многочисленной свитой, сопровождала фею. Оглушительная музыка покрыла собой весь шум праздничной толпы. Монах пошел вперед, навстречу процессии, а быстроногая танцовщица незаметно скрылась. Оливеротто несколько испуганно посмотрел на приближавшееся шествие, а затем крикнул иоанниту: – Раз ты знаешь, кто я такой, то тебе не трудно будет найти меня, и при следующем свидании мы посчитаемся друг с другом, а теперь у меня нет ни малейшего желания встретиться с этой толпой Борджиа. Впрочем, моя цель достигнута – девушка убежала! Прощай. Оливеротто удалился, и Альфонсо отнесся к этому спокойно: его гораздо более интересовал вопрос, куда скрылась танцовщица со своими спутниками, чем удастся ли ему еще раз встретится с да Фермо, или нет. Бруно тоже расспрашивал толпу, в какую сторону ушла молодая девушка, и, не получив ответа на свой вопрос, отправился поспешно вслед за процессией феи Морганы. (обратно)
ГЛАВА IX
– О, какое сокровище, синьор, вы потеряли из-за ссоры!.. Вас можно утешить только тем, что уже не в первый раз Марс пугает Венеру, – проговорил черт, заметив, что Альфонсо ищет в толпе скрывшуюся танцовщицу. – Говорят, что от черта можно узнать правду, но я до последней минуты сомневался в этом, – улыбаясь, ответил Альфонсо. – Если не ошибаюсь, я имею честь видеть перед собой синьора Никколо из Флоренции? – Именно его! – ответил черт, снимая свою маску. – Встречали ли вы когда-нибудь эту танцовщицу? Слыхали ли что-нибудь о ней? – с беспокойством спросил рыцарь. – Вам следовало расспросить меня раньше, чем я снял маску! – возразил Макиавелли, весело смеясь. – Хотя мне кажется, что я уже видел ее когда-то, но совершенно не помню, когда и где. – Представьте себе, что и мне кажется то же самое! – воскликнул Альфонсо. – А заметили вы великолепное шествие донны Лукреции, которая нарядилась феей Морганой? Право, я считаю ее настоящей колдуньей и готов присягнуть, что она одновременно была в двух разных местах. – Которая же это – фея Моргана? Та, что сидела рядом с нашим попутчиком сиром Реджинальдом? Вот настоящий Адонис для современной Венеры! – воскликнул Макиавелли. – Я видел их. Они сидели на спине слона и ворковали, как голуби. У него прямо поразительное счастье. – Мне кажется... нет, я даже почти уверен, что фея Моргана вовсе не Лукреция! – быстро проговорил Альфонсо. – Я могу судить об этом только по вашим словам! – улыбаясь, заметил Макиавелли. – Но если это действительно была она, то я больше завидую сиру Реджинальду, чем ангелам на небесах. – А я предпочел бы находиться среди вашей свиты, синьор сатана, – проговорила жаба, вмешиваясь в разговор. – Даже в преисподней прохладнее, чем рядом с донной Лукрецией. – Ну, Клевета, говори все самое худшее, что ты можешь сказать о Лукреции Борджиа. Мы так настроены, что готовы всякую ложь принять за правду, – воскликнул Альфонсо. – Самое худшее для нее было бы самое лучшее для другой, – глубокомысленно заметила жаба. – Ее добродетель безгранична, в этом и состоит ее несчастье. Она только – слишком послушная дочь и слишком нежная сестра. Кроме того, как чистая христианка, она старается любить всех своих ближних. – Берегись, жаба, как бы тебе не вырвали языка! – сказал Макиавелли. – Тогда я удовольствуюсь одними глазами, – возразила Клевета. – Однако, пойду лучше туда, где более оценят мои речи. Здесь мне уделяют мало внимания, рыцарь спит стоя. Альфонсо, действительно, так был погружен в свои мысли, что не слышал слов жабы. Он никак не мог решить, кого изображала Лукреция – фею ли Моргану, или танцовщицу, Последнее казалось мало вероятным. Трудно было предположить, что знатная дама решится странствовать среди толпы в маске распутницы. Макиавелли простился с Альфонсо, чтобы погулять еще по улицам, и рыцарь был предоставлен самому себе. Он не мог не сознаться, что очаровательная танцовщица произвела на него неотразимое впечатление, и твердо решил пойти в условленный час на свидание, хотя бы для того, чтобы убедиться, что прекрасная сицилианка – не Лукреция. Можно себе представить, с каким нетерпением ждал Альфонсо конца вечера. Через три часа он должен был ждать у ворот Сан-Себастьяно прихода Фаустины. «А что, если это – Лукреция? – думал Альфонсо, – ведь у нее легко может явиться желание отомстить мне за нанесенное оскорбление. Да если еще доминиканец рассказал ей о том, что я говорил ему, если он сообщил ей, что я приехал из Феррары специально для того, чтобы навести справки о ее поведении, то она должна быть страшно зла на меня. Может быть, она нарядилась танцовщицей нарочно для того, чтобы заманить меня в свои сады, а затем отделаться от меня таким же образом, как она отделывается от всех, стоящих на ее пути! Кто знает, какая опасность ждет меня у ворот Сан-Себастьяно!» Однако, несмотря на эти мрачные предположения, Альфонсо с нетерпением ждал условленного часа и еще задолго до этого времени проходил уже мимо Авентинской пустыни. Вид руин, где жил отец Бруно, навел на него грустные мысли, и он невольно замедлил шаги. Но вдруг легкий ветерок донес до Альфонсо душистый запах розы, тот самый запах, которым как будто было пропитано все существо танцовщицы. Вспомнив об этом очаровательном создании, рыцарь быстро пошел к воротам Сан-Себастьяно. Дойдя до условленного места, Альфонсо увидел перед собой чудный вид. У его ног расстилалось необъятное зеленое пространство, покрытое душистым цветами. Вдали виднелись горы, верхушки которых были освещены мягким лунным светом. Нежное журчание ручейка ласкало слух. На западе еще алела полоска заката, просвечиваясь сквозь листву высоких деревьев. Величавое спокойствие природы успокоительно подействовало на взволнованную душу Альфонсо. Рассудок заговорил сильнее сердца и подсказал, что ему следует уйти. Альфонсо уже собирался последовать этому совету рассудка, как вдруг увидел старуху, которую танцовщица называла Фаустиной. – Это вы, синьор? – проговорила она, увидев Альфонсо, – ну, слава Богу! Как рано вы пришли!.. Но это очень хорошо. К сожалению, мне придется разочаровать вас. Все благие намерения рыцаря рассеялись, как дым. – Разочаровать? – воскликнул он. – Что вы хотите сказать этим, тетушка? Это невозможно. Ведь танцовщица обещала мне показаться без маски, и больше я ничего не желаю. Мне нужно видеть ее лишь одну минуту, вы можете присутствовать при свидании. Вот деньги, проводите меня к ней. – Деньги? За кого же вы принимаете меня, благородный рыцарь? Ну, хорошо, я возьму их ради праздника и куплю свечи для Пресвятой Девы. К сожалению, я должна разочаровать вас, синьор: вам не придется видеть сегодня нашу танцовщицу. Дело в том, что герцог Романьи прислал ей мешок дукатов и сообщил, что желает нынче же вечером послушать ее пение. Альфонсо сразу же заметил несоответствие между словами старухи и тем, что сообщила ему танцовщица относительно себя. Если она действительно была фрейлиной Лукреции, то герцог никаким образом не мог приказать ей петь! Фаустина объяснила себе молчание рыцаря тем, что он испугался страшного соперника. – Где же она будет ждать его? – спросил наконец Альфонсо. – Здесь? Ведь она назначила мне свидание в садах Лукреции Борджиа. – Что вы говорите? Как она могла сделать это? – с притворным удивлением воскликнула старуха. – Да ведь наша всемилостивейшая повелительница, донна Лукреция устраивает сегодня здесь бал, и по желанию герцога Романьи наша танцовщица будет петь в его присутствии свои песни. Бал начнется довольно поздно, а пока меня послали во дворец герцога, чтобы сообщить ему, что все будет устроено согласно его приказанию. – О, в таком случае, не станем терять драгоценное время! – нетерпеливо проговорил Альфонсо: – ты ступай по своему делу, а я постараюсь повидаться с танцовщицей до начала бала. С последними словами принц сунул в руку старухе снова крупную сумму денег. – Право, благородный рыцарь, вы не заслуживаете отказа в своих желаниях, – льстиво ответила Фаустина, – я полюбила вас, как собственного сына или как ту высокопоставленную красавицу, которую вскормила своим молоком. Я знаю, что наша бедная танцовщица так же обрадовалась бы вашему приходу, как мать радуется, когда с войны возвращается ее сын. Но что делать? Ведь вы знаете – с герцогом Романьи шутки плохи! – Да, я не сомневаюсь, что он – человек опасный, и вот для того, чтобы не встретиться с ним, я не хочу терять время. Я повидаюсь с танцовщицей и уйду раньше, чем ты вернешься обратно. – Воображаю, как ей хочется видеть вас!.. Ведь она, бедняжка, любит вас без памяти! Ради Бога, не говорите ей, что я рассказала вам о герцоге, ей не хотелось бы, чтобы вы были о ней дурного мнения. – Обещаю вам не выдавать вас. Да вообще, вам нечего беспокоиться, наш разговор будет не долгим. Я только хочу убедить танцовщицу, что с ее стороны позорно завлекать в свои сети рыцаря ордена святого Иоанна. – Господи, что вы говорите! – с громким смехом воскликнула старуха, и ее маленькие глазки как-то странно засверкали. – Право, мне смешно смотреть на вас, благородный рыцарь: вы пришли на любовное свидание и вооружены с ног до головы. Впрочем, тем лучше. Если вас кто-нибудь встретит, то примет за одного из офицеров герцога. Ну, идите с Богом, сын мой! Вот вам ключ от калитки сада. Идите все по дорожке, и она приведет вас к гроту Эгерии. – Идите и вы к герцогу, а я не стану терять ни минуты, – проговорил Альфонсо. – Когда мы встретимся на обратном пути, я дам вам еще вдвое больше того, что дал. Альфонсо был теперь вполне убежден, что танцовщица – ни кто иная, как Лукреция Борджиа, и торопливой походкой направился к гроту. Он знал дорогу и скоро дошел до калитки сада. Его сразу охватил аромат цветущих растений. Темно-красные розы с капельками росы на лепестках невольно напоминали ему дивные, нежные губы Лукреции. Где-то в глубине долины раздавалось журчание ручейка. Соловьи неустанно выводили свои любовные трели. Во всем парке была какая-то очаровательная запущенность. Казалось, что здесь действовала одна природа, как будто человеческие руки не решались коснуться ее девственной красоты. Вскоре Альфонсо очутился на зеленом, покрытом цветами, берегу ручья. Луна мягко освещала цветы, смягчая их яркие краски. Поднимаясь вверх, ручей образовал нечто вроде водопада, а над ним, соединяясь между собой аркой из цветов и фруктов, стояли статуи богинь Флоры и Помоны. По другую сторону водопада находился холм, покрытый травой. Отсюда был вход в грот Эгерии. Альфонсо остановился у грота, не входя в него, и твердо решил исполнить свое намерение, не боясь никакой опасности, но вид этого тихого, необыкновенно красивого уголка настолько поразил его, что он страшился сделать хоть один шаг, чтобы не нарушить очарования. Грот представлял собой небольшое пространство, все утонувшее в цветах и зелени. Посреди журчал фонтан в виде богини Эгерии, вокруг которой расположились боги любви. Сквозь ветви и густую листву кустарника с трудом пробивался свет, но этот недостаток внешнего освещения вознаграждался большой алебастровой лампой, горевшей внутри грота и спрятанной в зелени. Взор Альфонсо остановился на статуе, и он тотчас же узнал в белоснежном мраморе дивные формы тела Лукреции. Несомненно, дочь папы позировала для богини Эгерии. Со смешанными чувствами восторга и отчаяния смотрел рыцарь на этот образец скульптуры. При мягком свете лампы, серебрившей воду фонтана, Альфонсо убедился, что он в гроте один, хотя видны были приготовления для приема гостей. Бутылки вина стояли во льду, на позолоченном столике сверкал дорогой хрусталь. Возле фонтана находилось несколько широких, покрытых цветами, дерновых скамеек, которые служили местом отдыха для земной Эгерии и ее гостей. Хозяйки грота еще не было здесь, так как, по словам старой Фаустины, она ждала прихода герцога Романьи значительно позже. Альфонсо живо сообразил, что для него представляется прекрасный случай лично убедиться, как в тождестве танцовщицы с Лукрецией, так и в справедливости распространенных о ней слухов. Стоило ему лишь спрятаться, невидимо присутствовать при свидании брата и сестры – и все его сомнения будут рассеяны. Это был необыкновенно смелый план, но Альфонсо ни перед чем не останавливался для выполнения намеченной цели. Он заметил, что скалы грота имеют в некоторых местах углубления, полузакрытые цветами, и, не долго думая, выбрал одно из них, которое одним своим отверстием выходило в грот, а другим – к берегу ручья. Между обоими выходами находилось узкое пространство, представлявшее собой клумбу цветущего ириса. Альфонсо лег прямо на цветы и со своего ложа прекрасно мог видеть всю внутренность грота. Чтобы не быть замеченным, он снял свой белый капюшон и надвинул на лицо волосы. Прошло довольно много времени, но напряженный слух Альфонсо не мог уловить ни одного звука. Наконец, издали раздались какой-то шепот и тихий женский смех, а затем все снова смолкло. Подождав еще несколько минут, Альфонсо слегка приподнялся, чтобы полной грудью вдохнуть воздух, и ясно услышал быстрые легкие шаги. У входа в грот шаги остановились, как бы в ожидании чего-то, и вслед затем в гроте показалась стройная женская фигура. По пластичности движения и по изящным формам тела, Альфонсо сейчас же узнал сицилианку, хотя на ней не было теперь костюма танцовщицы. Длинный греческий хитон из нежной голубой шелковой материи мягкими складками драпировался вокруг классически стройной фигуры. На плечах хитон застегивало коралловыми пряжками, а тонкий стан был опоясан ниткой крупного жемчуга. Руки, плечи и ноги были открыты. Лишь серебряные сандалии скрывали маленькие ступни ног. На распущенных золотистых волосах алел венок из красных лилий, перемешанных с белыми цветами мирты и блестящими зелеными листьями. Только лицо танцовщицы снова покрывала ужасная маска. Убедившись, что в гроте никого нет, она подошла к фонтану, села на мраморный край его и, взяв в руки лютню, сыграла несколько аккордов. Затем ока отложила инструмент в сторону и взглянула на свое отражение в воде. Тревожно оглянувшись во все стороны, она быстро сняла маску, и Альфонсо увидел дивные черты Лукреции Борджиа. Рыцарь чуть громко не вскрикнул от радости, что фея Моргана, бесцеремонно раскрывавшая ему свои объятия, не была Лукрецией, но, вспомнив, что дочь папы пришла на свидание с герцогом Романьи, он снова почувствовал, как больно сжалось его сердце. Лукреция долго любовалась отражением своего лица в воде, а затем вдруг отстегнула коралловые пряжки на плечах и обнажила молочной белизны грудь, которой могла позавидовать сама Венера. С легким шаловливым смехом молодая женщина склонила голову на плечо и, приподняв рукой левую грудь, коснулась ее губами. Продолжая смеяться, Лукреция застегнула свое платье, и, размахивая маской, прошлась вдоль грота. Вернувшись к фонтану, она намочила палец в воде и написала на маске какое-то слово – Альфонсо показалось, что это было имя Цезаря, – и накинула свою ужасную маску на лицо нимфы Эгерии. Глаза Лукреции выражали нетерпение. Сквозь воздушную ткань ее хитона можно было видеть, как сильно билось ее сердце. Какая-то ночная птичка встрепенулась, и лицо Лукреции зарделось. Она насторожилась в радостном ожидании гостя. Но вот снова все затихло. Разочарованная Лукреция села на одну из дерновых скамеек, прикрыла глаза рукой, и слезы, как крупный жемчуг, покатились вдоль ее пальцев. Вдруг ее отчаяние сменилось выражением гнева и презрения. Она встала с решительным видом, откинула назад прекрасные золотистые волосы и подошла к выходу. Шорох листьев под чьими-то осторожными шагами заставил молодую женщину быстро отскочить внутрь грота. Она снова села на край фонтана, надела маску на свое лицо и застыла в бесстрастной, спокойной позе. Ревность и бешенство охватили Альфонсо при виде того, с каким нетерпением ждала Лукреция его противоестественного соперника. Она напряженным взором смотрела по тому направлению, откуда слышался звук шагов, и тихо запела нежную песню. Можно было бы подумать, что она не замечает приближающегося гостя, если бы высоко подымавшаяся от прерывистого дыхания грудь не выдавала ее волнения. У входа в грот показался рыцарь в блестящем мундире, со скрытым под маской лицом. Он остановился, как бы желая убедиться, что в грот никто не приходил, кроме танцовщицы, и по его фигуре, в особенности по демоническому блеску глаз, устремленных на Лукрецию, Альфонсо узнал Цезаря Борджиа. На одну минуту у принца Феррарского явилось желание сейчас же покончить с ненавистным герцогом Романьи, избавить Италию от этого ужасного человека. Он уже схватил свой меч, но крик Лукреции заставил его остановиться. Альфонсо увидел, как Цезарь склонился у ног молодой женщины и схватил ее руку. – Что вам нужно? – воскликнула молодая женщина дрожащим голосом. – Я жду здесь свою госпожу донну Лукрецию, она сейчас придет сюда. Уходите, уходите! Здесь не так уединенно, как вы думаете, сад наполнен моими друзьями. Я ни за что не хочу, чтобы кто-нибудь увидел вас здесь. – Тише, тише, прекрасная незнакомка! Я видел, как твоя старуха шепталась с иоаннитом, твоим любовником, – возразил Цезарь. – Я слышал, как на твое нежное приглашение он ответил презрительным отказом. Тогда у меня явилась мысль прийти сюда, вместо него. – Презрительным отказом! – с горечью повторила сицилианка. – Это невозможно!.. Впрочем, вероятно, так оно и есть. Что же, очень рада! Это доказывает, что он презирает всех женщин, не меня одну, то есть не одну донну Лукрецию. Вы все видели, как дерзко он отказался быть рыцарем моей повелительницы на турнире. Чтобы отомстить ему, донна Лукреция приказала мне завлечь его под видом танцовщицы, а я, как фрейлина, не смела противиться ее желанию. – Какой вздор ты говоришь! – резко воскликнул Цезарь, – как смеешь ты уверять, что вела свою недостойную игру по приказанию донны Лукреции? Если ты еще раз дерзнешь говорить подобную ложь, то я расскажу о твоем позоре всему городу, папе, всем добрым христианам. Порядочная женщина, принадлежащая к лучшему обществу, осмеливается показываться на улицах в костюме куртизанки, с целью поймать в свои объятия какого-то чужеземного полурыцаря-полумонаха! Для этого нужно потерять всякий стыд! Твое поведение кладет пятно на репутацию донны Лукреции. Хотя она и так не особенно блестяща, но может пострадать еще больше. Ну, не дрожи так, красивейшая из дочерей Евы!.. Я не сделаю тебе ничего дурного, не попытаюсь даже сорвать твою маску, только не теряй времени. Тебе незачем отказываться от наслаждении любви из-за того, что тот холодный, как лед, иоаннит отверг тебя. – Тебе и незачем срывать мою маску, смотри на меня! – с презрительным смехом воскликнула молодая женщина, открывая лицо, вспыхнувшее от гнева. – Ты теперь знаешь, кто я, – прибавила она, грозно глядя на герцога Романьи, который с притворным изумлением отступил на несколько шагов, – и можешь уходить, если не желаешь, чтобы я позвала сейчас же свою стражу. Можешь, где и кому тебе угодно, рассказывать о моем «позоре», как ты выражаешься. Предупреждаю тебя, что сад наполнен моими гостями, так как я ждала здесь Паоло Орсини, который хотел устроить в этот час для меня концерт в саду. Как видишь, твои шпионы могут и сами ошибиться, и ввести тебя в заблуждение. – Вот как? Следовательно, это наша прекрасная сестра возбуждает сплетни по городу и назначает ночью свидание иоанниту? – с невыразимой горечью проговорил Цезарь. – А если бы и так? Какое ты имеешь право вмешиваться в мои дела? – запальчиво воскликнула Лукреция. – Ведь ты мне не муж, не отец, и даже не брат! Помнишь, чудовище, ты уверял меня, что нас не связывает кровное родство, что ты – подкинутый ребенок! – Я был безумцем, потерявшим голову от страданий, а ты упрекаешь меня за мои муки! – со страстным негодованием возразил Цезарь. – Хорошо, оставим это! – кротко заметила Лукреция, и слезы потекли по ее щекам. – Уходи, пожалуйста, сейчас придет рыцарь, которого я жду, и я ни за что на свете не хотела бы, чтобы он узнал во мне Лукрецию Борджиа. Альфонсо слушал этот разговор с беспокойством, сомнением, и, наконец, радостью, что обвинения против Лукреции не вполне верны, но скоро эта радость сменилась отчаянием. – Ты, кажется, больше всего боишься, что наш отец узнает о твоих похождениях, прекрасная Лукреция? – со злой улыбкой проговорил Цезарь. – Старые предания и новые примеры доказывают нам, что в порыве ревности он не щадит даже собственных детей. Вспомни о судьбе Джованни, которого ты так страстно любила! Видишь, не мне приходится дрожать за свою участь, а тебе и твоему фавориту! – О, ты – чудовище!.. Я даже не знаю, как тебя назвать, когда захочу пожаловаться на тебя отцу! – воскликнула Лукреция. – Твоему преступлению нет имени! – Жалуйся, моя прелестная сестрица, своему Сатурну. Я знаю, что от тебя зависит гром и молния. Твоя ослепительная красота сделала тебя владычицей нашего земного Юпитера, – возразил Цезарь. – Пусть и его второго сына постигнет такая же внезапная смерть, как и первого. Тебе известно, когда он умер и где? А, может быть, меня ждет участь твоего второго мужа, которого закололи из ревности на ступенях храма Святого Петра? – Не знаю, с кем или с чем сравнить тебя, Цезарь, – с удивительным самообладанием ответила Лукреция: – назвать тебя зверем нельзя, так как нет зверя, равного тебе по жестокости. Одно могу сказать, я убеждена, что ты принимал во всех этих ужасных преступлениях более деятельное участие, чем те кинжалы, которые отправили моего мужа и брата на тот свет. Берегись, если хоть один волосок упадет с головы благородного рыцаря, спасшего мою жизнь!.. Я сумею отомстить тебе, в каких бы потемках ты ни совершил свое гнусное дело. – Мне знаком твой мстительный характер, прекрасная Лукреция, но я не сойду так покорно со сцены, как мои предшественники, не стану молчать, как рыба. Пусть свет узнает о моих преступлениях, но вместе с тем, он увидит, какому чудовищу подчинена Италия. Ты еще не знаешь меня, моя сестрица, не подозреваешь, на что я способен, когда мне грозят местью... – Люди не поверят тебе. Они признают тебя безумным, да ты таков и есть! – неуверенным, дрожащим голосом проговорила Лукреция. – Это мы посмотрим. А скажи, милая сестрица, какой вид был у твоего ледяного рыцаря, когда наш отец удостоил тебя чести всенародно заключить в свои объятия! ? – иронически спросил Цезарь. – Такой, как будто он поверил лжи и клевете, которые ты распространяешь повсюду. Да, во всем виновата твоя ложь. Пока ты не сделался моим врагом, никто не говорил обо мне дурного слова, – взволнованно ответила молодая женщина и, встретив грозный взгляд герцога, продолжала почти умоляющим голосом: – ну, может быть, я слишком строга к тебе, может быть, во всем виновата моя несчастная судьба, но оставь меня, ради Бога, в покое!.. Чего ты хочешь от меня? Что, по-твоему, я должна сделать? Возненавидеть своего отца? Лишить его единственной привязанности, оставшейся у него на старости лет? Он сам говорит, что я – единственный светлый луч в его жизни. Клевещите на меня дальше, и да будет проклят тот, кто верит гнусной сплетне, распространяемой завистниками, кто осуждает женщину, не имея никаких доказательств в своих руках, кто сумел из чистой дочерней любви создать грязную клевету об интимной близости между дочерью и отцом. – Аминь! – смеясь, подхватил Цезарь. – Ты прокляла своего рыцаря, произведшего на тебя такое неотразимое впечатление. Ты наверное, считаешь его образцом храбрости, а вот увидишь, он не посмел прийти сюда. При этом обвинении в трусости Альфонсо сделал неосторожное движение, отчего зашумели листья на деревьях. Но разговаривавшие были так поглощены своей беседой, что не заметили этого шума. – Нет, у него хватило бы смелости прийти сюда, но он не хотел этого, – возразила Лукреция. – Он презирает всех женщин, не только меня. – А я говорю, что он не придет, отчасти по трусости, отчасти потому, что весело проводит время и без тебя! – со злобным торжеством заявил Цезарь. – Я знаю, что он приглашен феей Морганой сегодня на ужин. – Если даже это так, то какое мне дело до этого? Я так устала от всех этих мирских неприятностей, что с наслаждением посвятила бы свою жизнь Пречистой Деве Марии! – с такой скорбью воскликнула Лукреция, что Альфонсо почувствовал себя растроганным. – Как? Наша юная вдовушка Лукреция Борджиа собирается сделаться монахиней? – насмешливо заговорил Цезарь. – Однако, если ты действительно считаешь себя оклеветанной, то почему соглашаешься на брак с Орсини, прикрепляющий тебя к Риму и дающий повод к дальнейшим сплетням? Между тем, если бы ты вышла за принца Феррарского, то клевета была бы вырвана с корнем. – Принц Феррарский считает позорным для себя соединить свою жизнь с развратной женщиной, той женщиной, которую ты, Цезарь, называешь своей сестрой! – ответила Лукреция, очень довольная, что может нанести удар самолюбию герцога Романьи, несмотря на то, что ее ответ прежде всего оскорблял ее саму. – Я когда-нибудь сверну ему голову за это, – гневно проговорил Цезарь. – Но ты напрасно теряешь время, Лукреция. Если тот ледяной рыцарь отказывается любить тебя, то ты все-таки можешь повлиять на него, чтобы он возобновил переговоры относительно твоего брака с принцем Феррарским. Подействуй на его честолюбие. У каждого человека есть своя слабая струнка. Если он не чувствителен к женской красоте, то, может быть, его ахиллесова пята тщеславие. Лукреция замолчала, и у Альфонсо появилась мысль, что, может быть, молодая женщина уже придумывает план, как подействовать на его честолюбие. Он сделал по траве такое движение руками, словно кто-то идет. – Вот он, вот он! – взволнованно воскликнула Лукреция, я слышу его шаги. Клянусь тебе, Цезарь, что я хочу только посмеяться над ним, отплатить ему за его небрежное отношение ко мне. Ты мог бы присутствовать при нашем разговоре, но я боюсь, что если он застанет тебя здесь, то между вами произойдет что-нибудь отчаянное. – Он не придет, – насмешливо повторил Цезарь. – Мудрец не хочет, а трус не может из страха. Но, если даже предположить, что это – он, как же я могу пройти мимо него при этом освещении, не будучи замеченным? – Да это и не нужно, – ответила Лукреция, – спрячься за тот высокий густой кедр, тебя никто не увидит, и ты можешь спокойно слушать нашу беседу. Я обещала ему показаться без маски и должна исполнить свое слово, хотя в темноте он и не увидит моего лица. Эта лампа снабжена тайным механизмом, и все погрузится во мрак, как только он войдет. – Ах, ты обещала ему показаться без маски? Но он не придет, можешь быть уверена. Это – шаги твоей старой наперсницы. Она сообщит тебе, как тщетны были ее старания завлечь сюда трусливого рыцаря. Я с удовольствием послушаю, что она скажет! – со смехом проговорил Цезарь и спрятался за дерево. Альфонсо сильнее зашуршал листьями кустарника, и Лукреция не сомневалась, что он сейчас войдет в грот. Она незаметно надавила пружину, и боги любви распустили свои крылья, прикрыв ими свет лампы, отчего вся внутренность грота очутилась во мраке. Сев на край фонтана, молодая женщина запела. (обратно)ГЛАВА X
Альфонсо после всего слышанного им не мог больше сомневаться, что Фаустина выдала герцогу свою госпожу и что все сделанные молодой женщиной приготовления, все ее страстное нетерпение относилось вовсе не к Цезарю, а к нему самому. Альфонсо чувствовал себя растроганным, что не особенно благоприятствовало той роли, которую он собирался взять на себя. Он осторожно вышел из своего укрытия, и уверенным шагом направился к фонтану. – Это – вы, благородный рыцарь? – спросила Лукреция, прерывая пение. – Вы достигли храма богини Дианы, и нимфы-весталки приветствуют храброго рыцаря. – Я думаю, что весталки давно улетели отсюда, раз тут царствует Лукреция Борджиа, – сухо возразил Альфонсо. – Зачем же тогда рыцарь ордена святого Иоанна пожаловал в этот грот? – насмешливо спросила молодая женщина. – Как бы то ни было, я сдержала свое слово и говорю с вами без маски. – Может быть вы и без маски, но нас окружает такая темнота, что я все равно не могу видеть ваше лицо, – ответил Альфонсо прерывающимся от волнения голосом. – Я исполнила буквально свое обещание и вы не должны больше ничего требовать от женщины, состоящей на службе у Лукреции Борджиа. – Но я слышала, что вы боялись прийти сюда, чтобы не попасть в руки сатаны в образе сицилийской танцовщицы, как это было со святым Киприаном. В виду того, что страх в темноте усиливается – да будет свет! Лукреция снова незаметно надавила пружину и боги любви моментально сложили свои крылья. Мягкий свет распространился вокруг и осветил танцовщицу, сидевшую на краю фонтана с маской на лице. – Я обманул посланную вами старуху из предосторожности, – ответил Альфонсо. – Я не боюсь вас, хотя подозреваю, что вы еще более испорченное существо, чем та женщина в образе дьявола, которая соблазнила святого Киприана. Вы – самое худшее, что можно сказать об особе вашего пола. Вы – настоящая Лукреция Борджиа. Но я все-таки пришел сюда, и знаете, с какой целью? Я хотел сказать вам, что, несмотря на ваше несравненную красоту, несмотря на то, что вы – самое дивное создание в мире, есть люди, которые отвернутся от вас, так как ваше внутреннее безобразие превышает внешнюю прелесть. Вам будет полезно узнать, что есть чистые, неиспорченные сердца которые с презрением оттолкнут любовь Лукреции Борджиа. Я приехал сюда, чтобы воочию увидеть ваше позорное поведение. Я нахожусь в Риме для того, чтобы привезти принцу Альфонсо Феррарскому доказательства безграничной испорченности Лукреции. Это необходимо ради того, чтобы он мог оправдать свое нежелание отдать свое честное имя такой грязной женщине. Альфонсо показалось, что он услышал за деревом звук торжества. Лукреция молчала и сидела неподвижно, точно статуя. Наступила довольно длинная пауза. – Вы не помните, что говорите, рыцарь, – сказала, наконец, молодая женщина. – Вы никогда не посмели бы употреблять подобные выражения, обращаясь лично к донне Лукреции. К вашему счастью, я – не она, клянусь вам в этом всеми святыми. Что касается вашего грубияна-принца, то передайте ему, что ему нечего беспокоиться. Поезжайте обратно и скажите ему... Или, впрочем, нет, лучше оставайтесь! Тогда вы можете, по крайней мере, лично убедиться, что донна Лукреция вышла замуж за наследника Орсини и вашему надутому принцу не грозит с этой стороны никакая опасность. Эту фразу молодая женщина произнесла с таким достоинством, что Альфонсо почувствовал себя сконфуженным. – Если вы – не Лукреция, то покажите мне свое лицо, – пробормотал он. – О, если бы на свете существовала действительно еще одна такая женщина, как Лукреция, с ее внешностью, но не с ее характером! – горячо воскликнул рыцарь. – Нет, нет, этого не может быть! Вы – Лукреция. Только у Лукреции голос звучит, как сладчайшая музыка, только от Лукреции веет благоуханием роз. – Значит, вы не всех женщин презираете, а только Лукрецию Борджиа? – спросила танцовщица. – Если вы – не Лукреция, то я готов любить вас так, как еще никогда никого не любил! – воскликнул Альфонсо. – Если бы я была Лукрецией, страшной, злой Лукрецией, неужели вы думаете, я стала бы спокойно выслушивать ваши оскорбления? Меня очень радует, что она могла бы быть моей соперницей в вашей чистой любви, если бы она была другой. Какая честь для меня заслужить любовь такого добродетельного рыцаря! Еще не видя моего лица, вы почувствовали ко мне такую любовь, что даже попираете ногами Лукрецию Борджиа, перед которой преклоняется весь мир. Будьте добры, благородный рыцарь, объясните мне, чем прогневала вас в такой степени моя госпожа? – Вы не предложили бы мне этого вопроса, если бы слышали, что говорила мне Лукреция в образе феи Морганы. – Право, рыцарь, вы клевещете на нее, – быстро воскликнула молодая женщина. – Кто-то подшутил над вами. Фея Моргана – вовсе не Лукреция. – Я тоже так подумал, когда увидел вас. Но раз вы уверяете, что вы – не Лукреция, следовательно, фея Моргана – она. – Нет, рыцарь, я должна быть справедливой даже по отношению своей соперницы, – возразила танцовщица. – Я уже сказала вам, что состою в числе фрейлин донны Лукреции, и могу уверить вас, что она – такая же фея Моргана, как я. Ведь в то время, когда я говорила с вами на Капитолийской площади, процессия прошла мимо нас и я очень хорошо видела эту фею Моргану. – Ну, если вы так близки к донне Лукреции и чувствуете ко мне некоторое расположение, то, может быть, ответите мне на некоторые вопросы, касающиеся вашей госпожи? – С моей стороны было бы не по-христиански осуждать свою госпожу! – ответила танцовщица дрожащим голосом. – В таком случае, вы сознаетесь, что если говорить о Лукреции правду, то придется сказать только дурное? – Ну, спрашивайте, я честно отвечу на ваши вопросы. Вы полудуховное лицо, я – женщина... – Хорошо, что вы напомнили мне, что вы – женщина, – прервал Альфонсо танцовщицу. – Дайте мне клятву, что никому не скажете того, что услышите от меня. – Не говорите, не говорите ничего такого, что не мог бы слышать самый худший из семьи Борджиа! – воскликнула молодая женщина с большим беспокойством. Однако Альфонсо словно не хотел заметить это и продолжал: – Можете вы дать мне доказательства вины Лукреции, чтобы я мог таким образом выполнить данное мне поручение? – Зачем вам доказательства? Ведь свет судит эту женщину без всяких доказательств! – с горечью ответила танцовщица. – Так как вы стоите близко к Лукреции, то можете сказать мне правду: виновата она или нет? – В чем виновата или нет? Ведь я не сфинкс, не умею разгадывать загадки! – воскликнула молодая женщина. – Вы, вероятно, слыхали о том, что говорят о вашей прекрасной, но ужасной госпоже. Я помню, что вы – женщина, и не могу яснее поставить свой вопрос. Ну, вот скажите, основательны ли эти слухи? Это – во-первых. А, во-вторых, не знаете ли вы, от чьей руки погиб герцог Гандийский? – Я отдала бы сама последнюю каплю крови, чтобы узнать, кто совершил это злодеяние! – горячо воскликнула молодая женщина. – Конечно, я передаю вам слова донны Лукреции! – спохватилась она. – Неужели никто из окружающих вашу красавицу не внушает подозрения? – Вы знаете, благородный рыцарь, по собственному опыту, что это подозрение – ничто! – Совершенно верно. Скажите, вы помните ту ужасную ночь, когда герцог умер? – Вы говорите здесь об опасных вещах, рыцарь! – прошептала молодая женщина, тревожно взглядывая на дерево, за которым спрятался Цезарь. – О, мне нечего опасаться, что в этом уединенном месте меня подслушает кто-нибудь из убийц Джованни. – спокойно ответил Альфонсо. – Вы помните его? Говорят, он был очень красивым юношей. – О, пресвятая Богородица! Бедный Джованни! – Воскликнула молодая женщина со слезами в голосе. – Говорят, он очень нравился женщинам, – продолжал рыцарь. – Я понимаю, почему вы с такой горечью произнесли его имя. Ваша красота наводит меня на мысль, что этот красивый, влюбчивый юноша не был и к вам равнодушен. – Я любила его, как дорогого брата, как лучшего друга, как умного, благородного человека! Нежному отцу и любящей сестре только и осталось, что возносить горячие молитвы к Богу об упокоении его души и призывать проклятие на голову неведомого убийцы. – Любящей сестре! – многозначительно повторил рыцарь. – Говорят – слишком любящей сестре! Молодая женщина вздрогнула, как будто ей нанесли неожиданный удар. – Я расскажу вам, что слышала о любви герцога Гандийского к своей сестре, – проговорила она, после непродолжительного молчания. – Они были так похожи между собой, как по наружности, так и по складу характера, что, если бы не разница пола и возраста, их можно было бы принять одного за другого. Само собой разумеется, что при таком душевном сходстве между ними существовала полнейшая гармония во взглядах и вкусах. Сестра понимала каждое движение души брата и наоборот. Понятно, что при таких условиях их не могла не связывать между собой самая чистейшая родственная любовь. – Скажите, пожалуйста, в ту ужасную ночь вы были вместе с Лукрецией. – снова спросил Альфонсо. – Да. Мы были в монастыре Святой Марии Трансверской! – смущенно ответила танцовщица. – Почему же донна Лукреция не была на балу у своего брата кардинала, теперешнего герцога Романьи? Ведь он давал в ту ночь вечер в честь своей поездки в Неаполь, где должен был короновать дона Федерико. – Донна Лукреция и герцог поссорились между собой, я не помню из-за чего. Ах, да, вспоминаю... это был пустой спор из-за какого-то слова! – проговорила молодая женщина и вздрогнула, услышав какой-то шорох за деревом. – Предположим, что Джованни погиб от руки тайного соперника, – продолжал Альфонсо, с удовольствием представляя себе волнение Цезаря, стоявшего за деревом, – тогда вполне возможно, что он стал жертвой того же самого убийцы, который убил принца Салернского, второго супруга донны Лукреции, под крышей Ватикана, в собственной постели. – Это – неправда, неправда, – горячо запротестовала молодая женщина. – Принц Салернский умер от ран, полученных от врагов на площади Святого Петра. – А у нас в Ферраре эту историюрассказывают иначе, – возразил Альфонсо, – говорят, что он вполне оправился от своих ран, и они никоим образом не могли быть причиной его смерти. Уверяют, что донна Лукреция запретила своему мужу входить к ней, и, когда он насильно ворвался в их общую спальню, она бросилась к отцу и у него искала защиты от мужа. Папа напомнил дочери об обязанностях послушной жены, и та решила через месяц вернуться к мужу, но накануне этого срока принца Салернского нашли убитым в Ватикане. – О, нет, вы не все знаете, далеко не все, – с отчаянием воскликнула молодая женщина. – Донна Лукреция вышла за него замуж против своей воли, на этом настаивал ее отец. Я не знаю, почему ему так хотелось этого брака. Может быть, потому, что Лукреция не могла любить своего первого мужа, расслабленного Джованни Сфорца. Но зачем выбор папы выпал на принца Салернского, грубого, необузданного малого, внушающего отвращение – это для меня непонятно. Во всяком случае, нельзя было ожидать другого конца при этом ужасном союзе. То, что произошло, оправдано таким святым человеком, как... – Отец Бруно! – закончил рыцарь дрожащим голосом. – Он, кажется, содействовал также расторжению брака донны Лукреции с Джованни Сфорца. – Сфорца был разведен по приказанию церкви! – тихо ответила Лукреция. – Хотите, я доверю вам одну тайну Лукреции Борджиа? Вы слышали, что говорил отец Бруно о ее браке с принцем Салернским, но вы не знаете, что он внушил донне Лукреции сомнение о законности какого бы то ни было брака с ее стороны. Он говорит, что она не имела никакого права разойтись со своим первым женихом, хотя она никогда не видела его, и что после этого всякий брак является незаконным. – Вы, конечно, шутите, прекрасная дама! – воскликнул рыцарь. – Дочь главы церкви сомневается в том, что разрешено самим папой? Но, если бы это даже было и так, если бы она решила разойтись с Джованни Сфорца, считая себя связанной словом с первым женихом, как же объяснить ее второй брак с принцем Салернским, этим диким, необузданным малым, как вы изволили выразиться? – Он умер, да простит меня Бог за дурное слово о покойнике, – со слезами проговорила молодая женщина, – но вы многого не знаете, благородный рыцарь, а потому не судите так строго Лукрецию Борджиа. Может быть, несчастную женщину заставили выйди замуж в отсутствие духовника, у которого она черпала нравственную силу. Может быть, тут заговорила женская гордость. Мало ли, какие обстоятельства вынудили ее поступить против своей совести и желания! Впрочем, я знаю, что мои слова не в состоянии тронуть вас. Ну что ж, пусть будет так. Пусть Лукреция Борджиа нарочно женила на себе влюбленного принца Салернского для того, чтобы убить его, так как для нее не существует большего развлечения, как проливать человеческую кровь! – с горькой иронией закончила танцовщица. – Ну, если Лукреция Борджиа не повинна в этих убийствах, то мое подозрение всецело падает на неизвестного соперника, который тайным образом достает то ключи от церкви Святого Петра, то острый меч. Делает он это, конечно, с целью вернуть Лукреции свободу, а еще больше из желания вырвать ее из объятий мужа, в которые невольно сам толкнул ее, чтобы заставить свет не видеть того, что есть в действительности! – Кто же этот неизвестный? Вы говорите о нем так, точно знаете, кто он такой! Ведь вы – мужчина и рыцарь. Говорите же прямо и откровенно, что вы думаете. Ваши намеки сводят меня с ума! Умоляю вас, скажите, кто, по-вашему, – убийца? – тихо спросила молодая женщина дрожащим от волнения голосом. – Нет, я не могу назвать его. Вероятно, тот призрак, который блуждает по комнатам принца Салернского, мог бы открыть вам эту тайну. Может быть, он мог бы сказать, кстати, кто желает так страстно брака Лукреции с наследником Орсини, для того, чтобы она оставалась в Риме, несмотря на то, что это противоречит всем требованиям политики! – с горечью проговорил Альфонсо. – Право, я не знаю, что возразить вам на это! – с отчаянием воскликнула молодая женщина. – Пречистая Дева, Ты Одна – заступница у Лукреции Борджиа. Господи, даже эта новая жертва, которую она приносит для того, чтобы спасти свое доброе имя, служит ей в осуждение. Подумайте, жестокий феррарец, что вы говорите? Ведь вы приехали сюда для того, чтобы расстроить брак своего принца с Лукрецией. Следовательно, велись переговоры о том, чтобы она уехала в далекую Феррару. Если бы хотели оставить ее в Риме, то вам незачем было бы приезжать сюда и искать повода для того, чтобы оклеветать Лукрецию. Я не осуждаю вас за ненависть к Лукреции – так гораздо безопаснее: кто не любит ее, тому нечего бояться. Возвращайтесь в свое негостеприимное отечество и сообщите пославшему вас, что вы навели справки и узнали от человека, знакомого с Лукрецией с самого раннего детства, что она – самая ужасная женщина и все слухи, распространяемые о ней, – сущая правда. За эти сведения вы, конечно, получите хорошую награду. Альфонсо был растроган отчаянием молодой женщины, а когда увидел, как по уродливой маске потекли крупные слезы, то почувствовал себя совершенно побежденным. – Этого сознания мне достаточно, совершенно достаточно, – проговорил он, нерешительно подходя к танцовщице, и поднес ее руку к своим губам. – Что касается вас, то ваша горячая, благородная защита донны Лукреции доказывает, что вы достойны истинной дружбы. Молодая женщина быстро выдернула свою руку и написала на воде слово «дружба», после чего со смехом добавила: – Видите, как быстро исчезает «дружба»! Альфонсо хотел сказать что-то по этому поводу, но не находил подходящих слов. Он сел рядом с молодой женщиной на край фонтана и со смешанным чувством скорби и страсти любовался ее стройной, изящной фигурой. – Надеюсь, что мы расстаемся не врагами, – пробормотал он. – Дайте мне взглянуть на ваше лицо, или докажите мне чем-нибудь, что вы – не Лукреция, и я буду обожать вас. – Да, я докажу вам это, но не трогайте моей маски! – с ужасом воскликнула она, когда Альфонсо хотел открыть ее лицо. В ту же минуту внутренность грота погрузилась во мрак. Рыцарь почувствовал, как две нежные, тонкие руки обвились вокруг его шеи и душистые, мягкие, как бархат, губы затрепетали на его губах. – Вот вам доказательство, что я не Лукреция, – раздался в его ушах мелодичный, как музыка, голос, – разве Лукреция простила бы вам те оскорбления, которые вы высказали по ее адресу? Альфонсо протянул руки вперед, чтобы заключить в объятия очаровательное существо, но они беспомощно повисли в воздухе, незнакомка исчезла. Не успел рыцарь прийти в себя от этой неожиданности, как вдруг поднялся вокруг невыразимый шум. Лампа вспыхнула ярким светом и весь грот наполнился многочисленным обществом в виде нимф, наяд, фавнов, сатиров. У всех зеленых входов появилась стража с внушительными копьями в руках. – Пан, Пан! – закричала сотня голосов. – Пан, приди сюда и накажи смертного, дерзнувшего посягнуть на твою святыню. Эхо, где Пан? Вдали, во всех направлениях, раздалось: – Где Пан? Альфонсо стоял несколько мгновений, как окаменелый, не давая себе отчета в том, что происходит вокруг него. Внезапно ему пришла в голову мысль, что Лукреция устроила всю эту сцену для того, чтобы сначала повергнуть его в недоумение, а затем, пользуясь его смущением, отомстить ему, и он начал придумывать способ, как бы ему незаметно скрыться, но в эту минуту раздался пронзительный свист, и под звуки этого свиста в грот вошел Пан на козьих ногах, в сопровождении многочисленной свиты фавнов. – Тише! – закричал Пан свистящим фавнам, – какая нимфа привлекла сюда смертного? – Эгерия, Эгерия! – воскликнули бесчисленные голоса. – Ты опять принялась за свои штуки? – строго заметил Пан, – где же этот смертный? – Вот он!.. Он – иоаннит, иоаннит! – закричали нимфы в один голос. – Как не стыдно Эгерии!.. Если бы это был сатир, тогда другое дело, а то святой иоаннит! – Действительно, вы можете теперь только смеяться надо мной, – шутливо проговорил Альфонсо, стараясь выйти из неловкого положения, – но если бы вы позвали ко мне завлекшую меня нимфу, то я сумел бы доказать вам, что она заслуживает большого наказания, чем я. – Вы хотите, чтобы вам доставили удовольствие вместо наказания? – возразили нимфы. – Ну, нет, этого не будет. Ведите его к нашей королеве, пусть она судит его! Альфонсо моментально окружила стража. Он не сомневался, что Лукреция жестоко отомстит ему за то, что он высказал ей. Он вспомнил обо всем том, что рассказывали по поводу жестокости Лукреции, но почему-то нисколько не боялся мстительной красавицы. На его губах еще горел поцелуй Лукреции, и он никак не мог представить себе, что она замышляет что-нибудь злое по отношению к нему. – Здравствуйте, рыцарь! – вдруг услышал Альфонсо за своей спиной чей-то насмешливый голос. Он оглянулся и увидел герцога Романьи, державшего в одной руке свою маску. – Не беспокойтесь за свою участь, – продолжал Цезарь, – не думаю, чтобы суд был очень строг. Пусть вас проводят к королеве, донне Лукреции. Она с моего согласия придумала эту веселую карнавальную шутку. Если вы узнаете ту дамочку, которая завлекла вас под видом Эгерии, то наказание будет не очень строгим. Ваша соблазнительница находится теперь у своей госпожи и, конечно же, без маски. Услышав тираду герцога, представлявшую сплошную ложь, Альфонсо задрожал от негодования, но, быстро овладев собой, весело ответил: – Ну, раз вы, ваша светлость, ручаетесь, что со мной не произойдет ничего дурного, я смело пускаюсь в путь. Если я найду среди фрейлин донны Лукреции ту дамочку, которая завлекла меня сюда, то при всех скажу, что принял ее приглашение только для того чтобы отчитать ее как следует за ее недостойное поведение. (обратно)ГЛАВА XI
Альфонсо, как военнопленный, в сопровождении стражи, вышел из грота в лес. На каждом шагу его взор встречал произведения искусства, изображавшие сцены из древней Греции. Фигуры оживали при его приближении. Из воды выскакивали наяды и, смеясь, брызгали на Альфонсо струи душистой влаги. На скале под звуки веселых охотничьих рогов показалась Диана, окруженная своими нимфами, которые стреляли в рыцаря тупыми позолоченными стрелами. Вскоре Альфонсо вошел в широкую аллею из очень высоких вязов, сквозь верхушки которых проникал таинственный лунный свет. Спокойная, величественная тишина этого места напомнила рыцарю Божий храм. Направо и налево от аллеи тянулось множество цветущих апельсиновых деревьев, наполнявших воздух невыразимо приятным ароматом. Аллея заканчивалась обширным павильоном из голубого мрамора, украшенного золотом. Посреди павильона стоял зеленый трон, на котором сидела дама среди блестящей свиты. Когда рыцарь, в сопровождения стражи, поднялся на ступеньки павильона, все общество залилось громким неудержимым смехом. Альфонсо сейчас же узнал в сидевшей даме Лукрецию. К величайшему сожалению Альфонсо, дочь папы успела переодеться с ног до головы. На ней был теперь роскошный испанский костюм из серебристой парчи. Вся грудь была покрыта драгоценными камнями, а на голове сверкала диадема из крупных бриллиантов. Она теперь действительно походила на королеву и не имела ничего общего ни с веселой танцовщицей, плясавшей на Капитолийской площади, ни с нимфой Эгерией, соблазнявшей рыцаря в гроте, ни со страдающей женщиной, только что проливавшей слезы. Только необычная бледность ее лица выдавала внутреннее волнение. Это быстрое превращение неприятно поразило Альфонсо, так как он усмотрел в нем привычку обманывать и притворяться. Увидев среди публики Паоло Орсини, Лебофора, Бембо и других знакомых, он несколько смутился. Все они присутствовали при его отказе быть рыцарем Лукреции на турнире, причем отказ он мотивировал тем, что ему, как иоанниту, не подобает принимать участие в развлечениях. Теперь же они, по его мнению, вероятно, думали, что он изменил своему принципу и, конечно, осыплют его насмешками. У Орсини был такой мрачный вид, будто он присутствовал на панихиде, а не на веселом празднике, зато лицо англичанина расплывалось в блаженной улыбке. Бембо, по-видимому, не мог решить, какого тона ему следует держаться, однако, заметив спокойное, серьезное выражение Альфонсо, тоже принял торжественный вид. Да и все как-то сразу перестали смеяться. Можно было ожидать, что Лукреция со свойственным ей остроумием начнет подшучивать над Альфонсо, которого Пан обвинял в том, что он соблазнил целомудренную нимфу. Но вместо этого, красавица вспыхнула до корней волос и сконфуженно потупила взор. – Старайтесь оправдаться, рыцарь, иначе вы погибнете! – воскликнул Цезарь и, чтобы ободрить Альфонсо, дружески похлопал по плечу. – Эти обвинения ни на чем не основаны, синьор, – возразил принц. – Если бы у Пана были свидетели, то они сказали бы ему, что я пришел на свидание с нимфой только для того, чтобы доказать ей, до какой степени я презираю ее. Мне не нужны были ни ее нежные слова, ни ласки, так как я явился с целью высказать ей порицание более строгое, чем проповедь самого требовательного духовника. Вероятно, эхо передало Пану лишь тихий звук, настолько тихий, что его не расслышали даже певшие в кустах соловьи, и на основании этого звука Пан построил свое обвинение. Это был звук поцелуя, который нимфа запечатлела на моих губах, хотя я не желал его и не вернул ей поцелуя. Я очень благодарен за это эхо, так как ему я обязан тем, что ко мне явились на помощь свет и сам Пан. Без этого, Бог знает, до чего могла дойти предприимчивость нескромной нимфы. Это необыкновенное обвинение вызвало взрыв смеха всех присутствующих, только лицо Лукреции еще ярче зарделось, а Цезарь заметно побледнел. – Это действительно – ужасное преступление со стороны нимфы, – после некоторого молчания проговорил он искусственно веселым голосом. – Позовите ее сюда, дорогая Лукреция!.. Пусть она выслушает без маски обвинение рыцаря. – Нет, нет, – живо возразила Лукреция, – раз рыцарь так неблагодарен, что позволяет нам смеяться над влюбленной нимфой, то я считаю, что она достаточно наказана, и не хочу конфузить ее еще больше. Это не значит, что я вполне верю словам рыцаря, однако я не хочу очной ставки потому, что это даст возможность строгому иоанниту еще больше оскорбить бедную нимфу, а очевидно, он только этого и добивается. Это нехорошо, рыцарь, с вашей стороны!.. Я думаю, после вашего поступка каждая женщина побоится довериться вам. В виду того, что вы никак не можете узнать среди придворных нимфу Эгерию, вы никогда и не увидите ее. В этом будет заключаться ваше наказание. Альфонсо равнодушно поклонился и отошел в сторону, но все же успел заметить, что его равнодушие задело Лукрецию. – А теперь, дорогой синьор Орсини, порадуйте меня своей серенадой, – обратилась красавица к Паоло. Тот весь просиял от ласковых слов Лукреции, быстро вышел и вскоре вернулся с роскошной мандолиной. Эта очаровательная музыка производила чрезвычайно приятное впечатление на лоне природы, под мягким светом луны. Лицо Лукреции приняло скорбно-мечтательное выражение, на ресницах заблестели слезы, и Альфонсо почувствовал себя глубоко растроганным, даже виноватым перед нею. Но вот раздался звучный голос Паоло, жаловавшийся в своей серенаде на жестокость красавицы, и все очарование исчезло. По окончании пения дамы сняли букеты цветов со своих корсажей и бросили их к ногам певца. Все присутствующие мужчины, кроме Альфонсо, бросились поднимать их. После баталии цветов все вернулись к трону Лукреции, которая встала со своего места и растерянно смотрела вокруг, точно только что очнулась от сна. – Ах, я, кажется, забыла бросить свой букет! – с удивлением воскликнула она. – Теперь у всех вас есть кавалеры, – обратилась она к дамам. – Каждый кавалер поведет к ужину ту даму, чьи цветы находятся у него в руках. Только рыцарь Святого Иоанна остался без букета. Видно, судьбе угодно, чтобы он был моим кавалером. Дамы и мужчины, идите вперед, в грот Эгерии, где будет сервирован ужин, а я с рыцарем пойду позади всех. Его сан и принципиальное презрение к женщине служат ручательством того, что он для меня не опасен. Дамы поспешили исполнить приказание своей повелительницы. Реджинальд и Паоло Орсини поняли хитрость Лукреции, и их лица омрачились, но, во избежание неловкости, им все же пришлось предложить руки своим случайным дамам. Вскоре процессия двинулась к гроту. Последняя пара сильно отстала от всей процессии. Лукреция взяла руку Альфонсо, не поднимая на него взора, и они долгое время шли молча. Принц невольно думал о том, что произошло с ним и прекрасной женщиной, опиравшейся на его руку, и не мог подавить чувство нежной жалости к ней. – Мы теперь одни, синьор, – наконец прекратила молчание Лукреция, – я умышленно не бросила своего букета. Хотя вы слышали ужасные вещи о Лукреции Борджиа, но не бойтесь меня: я никогда не забуду, что вы спасли мне жизнь. Мне очень хотелось бы сделать для вас что-нибудь приятное, чтобы отблагодарить вас за оказанную услугу, и, кажется, случай дает мне эту возможность. Ваш друг, синьор Бембо, уверяет, что вы богаты и знатного происхождения. Следовательно, с вашей стороны нет препятствий, мешающих вам жениться на девушке, привлекшей вас сюда. Она – тоже очень богатая наследница и принадлежит к самой высшей аристократии Рима. Ваш рассказ о ее преступлении доказывает, что она очень любит вас. Неужели же вы откажетесь от ее любви, рыцарь? Святой отец снимет с вас ваш обет, а я буду рада содействовать счастью двух любящих сердец. Говорят, я сделала очень много людей несчастными, а потому для меня имело бы особенное значение осчастливить хоть два существа. Альфонсо рассердили эти слова. Очевидно, Лукреция высказала все из трусливого желания отклонить от себя подозрение и тем закончить происшедшую сцену. – Благодарю вас, синьора, и ту даму, которая оказывает мне честь своим расположением, – сухо ответил он, – но к сожалению обет, данный мною настолько крепок, что его не может разорвать даже глава христианской церкви, тем более, что он соответствует моему сердечному желанию. – Я понимаю вас, рыцарь. Ваше сердце уже было занято, когда вы приехали в Рим, – с грустной улыбкой проговорила Лукреция, – и воспоминание о вашей несравненной красавице сделало вас нечувствительным к прелестям римлянок. – Вы ошибаетесь, синьора! До приезда в Рим я не встречал красоты, которая бы так сильно поразила меня. – Вы, кажется, говорили, что не видели лица той дамы, на которой я хотела бы женить вас. Погодите принимать какое-либо решение, пока не увидите ее. Кто знает, может быть, тогда и ваш час пробьет! – лукаво проговорила Лукреция. – Вы, синьора, известны как прекрасный оракул любви, тем не менее, могу уверить вас, что ни одна из самых красивейших ваших фрейлин не опасна для моего сердца! – Я – оракул любви? Не знаю, какой бог одарил меня этим талантом! Вы плохо понимаете меня, благородный рыцарь. Я знаю, что говорит ваш взор, и не отрицаю, что ищу любви во всех ее видах и формах. Большей частью я не нахожу в себе чувства к тому, кому внушаю любовь, и тогда самые горячие, страстные речи не понятны мне, как будто их произносят на чуждом для меня языке. Но это не потому, что я не могу любить... Я ищу настоящего, глубокого чувства, но нигде не нахожу его. Я бегу за призраком любви, надеясь, наконец, найти то, к чему рвется моя душа и возвращаюсь разочарованной. Неужели меня можно осудить за это? Осудить за то, что я ищу хоть каких-нибудь радостей, которые скрасили бы мою неприглядную жизнь? – Вам не нужно никаких оправданий. Поступите так, как поступали в старину! Покажитесь судьям во всей своей неприкрытой красоте – и вы будете оправданы. – сухо ответил Альфонсо. – Подобно Фрине, афинской грешнице? Благодарю вас синьор, за лестное сравнение, – кротко и грустно прошептала Лукреция. – Бог с вами, я не обижаюсь на вас. К чему бороться с судьбой? А мне, видно, уже суждено выносить оскорбления. – Если уж Лукреция Борджиа недовольна своей судьбой, так что же говорить другим? – Вас может радовать вид сочного прекрасного винограда, когда вы точно знаете, что он погибнет от бури, прежде чем вы успеете собрать его? – живо спросила Лукреция. – Ваше сравнение, синьора, заставляет меня предположить, что у вас очень строгий духовник, рисующий вам будущее в мрачных красках! – возразил Альфонсо. – Зачем он станет пугать меня моим будущим, когда я строго исполняю все его приказания? – проговорила Лукреция. – Впрочем нет, я действительно сделала один грех, – прибавила она, внезапно побледнев. – Однако, мы с вами сильно отстали, рыцарь. С последними словами Лукреция ускорила шаги, и они скоро очутились у грота, потонувшего в глубоком мраке. Лукреция сделала незаметный знак одному из своих слуг, и вдруг весь грот и сад осветились бесчисленными лампочками. Засверкали драгоценные камни на костюмах нарядных гостей, заблестели золотые столы, уставленные изысканными блюдами, заискрилось вино в хрустальных графинах и бокалах. В ближайших кустах раздались звуки нежной прекрасной музыки. Всеобщий шепот восхищения пронесся по всему гроту. Лукреция, приветливо улыбаясь, села рядом с герцогом Романьи, и веселый ужин начался. Орсини бросил на Альфонсо мрачный взгляд, а англичанин с большим участием смотрел на друга, он знал, в какое опасное положение он поставил себя своим поведением. За ужином присутствовали первые красавицы Рима, и, тем не менее, даже враги Лукреции не могли не признать, что она затмевает их всех своей чарующей прелестью. Всегда уверенная в себе, Лукреция в этот вечер не чувствовала себя лучше других и с некоторым беспокойством смотрела на окружавших ее дам, а затем украдкой следила за каждым взглядом Альфонсо. С целью отвлечь от себя ревность Цезаря и Паоло Орсини, принц завел оживленную беседу со своей соседкой, напоминавшей фигурой и цветом волос Лукрецию. Он делал вид, что принимает ее за танцовщицу и нимфу Эгерию. Его дама отнекивалась, уверяла, что она – жена одного из придворных, сидящих за столом, но Альфонсо притворялся, что не верит ей. Лукреция заметила эту его оживленную беседу с соседкой, не догадываясь, что Альфонсо лишь играет известную роль. Ее сердце сжималось от ревности но, боясь брата Цезаря, она не выдавала своего волнения и казалась такой веселой и остроумной, как никогда. Продолжая беседу со своей дамой, Альфонсо не упустил из вида ни одного слова, сказанного Лукрецией, ни одного ее движения. От его внимания не ускользнуло, что царица праздника дарит улыбками Лебофора, который никого не видел и не слышал, кроме Лукреции, и тянулся к ней всеми фибрами души. Альфонсо слегка смущала мысль, что англичанин не переставал думать, что похитившая его фея Моргана была Лукрецией. Цезарь тоже был в чрезвычайно веселом настроении. Даже серьезный Макиавелли от души смеялся остротам Лукреции, а Бембо прямо расплывался в блаженстве и слабо защищался, когда Макиавелли заявил, что Бембо обещал воспеть донну Лукрецию в стихах, как Петрарка – Лауру. После ужина Цезарь предложил устроить танцы на лугу перед гротом. Лукреция изъявила свое согласие, и блестящее общество разбилось на пары. Конечно, Альфонсо в своем одеянии не мог принимать участие в танцах, зато Паоло был очень доволен: он считался лучшим танцором и надеялся все время не расставаться с Лукрецией. К его величайшему разочарованию, молодая женщина решительно отвергла его приглашение. – Я сегодня так много танцевала, – ответила она, что совершенно не в силах больше сделать ни одного тура. Орсини заметил, что иоаннит бросил при этих словах многозначительный взгляд на Лукрецию. Это так подействовало на Паоло, что он, лишь с большим трудом сдерживая свое негодование, ушел подальше от грота. Цезарь заметил недовольство и уход Орсини и, не теряя времени, последовал за ним. Услышав за своей спиной чьи-то шаги, огорченный жених оглянулся, увидел Цезаря и остановился, поджидая его. – Судьба благоприятствует мне, синьор Паоло, – проговорил герцог необыкновенно любезным тоном, – я давно искал случая поговорить с вами наедине и совершенно не знал, как это устроить. Благодаря Богу, я теперь имею возможность сказать вам, что от души желаю, чтобы нас соединили родственные узы. – Мне кажется, что этого никогда не будет, синьор, – с горькой улыбкой ответил Паоло. – Его святейшество вдруг стал очень холоден со мной, а донна Лукреция явно выражает свое пренебрежение. – Я думаю, что во всем виноват тот напыщенный иоаннит. Это он подействовал на святого отца. Я почти уверен, что хитрый феррарец нарочно показывает свою грубость по отношению к Лукреции, чтобы отвести нам глаза, а втихомолку пользуется ее доверием. Сегодня вечером она дала ему аудиенцию, чтобы возобновить переговоры о своем браке с принцем Феррарским. – Если вы, синьор, так думаете и действительно стоите на моей стороне, то, конечно, немедленно прогоните этого нахального рыцаря к его бессовестному принцу. – К сожалению, не я – правитель Рима. Кроме того, ведь все переговоры ведутся тайно. В них посвящены только папа и донна Лукреция, а мы должны делать вид, точно ничего не знаем. Скажу вам откровенно, мои интересы тесно связаны с вашими. У меня составлен грандиозный план, но я не могу привести его в исполнение без вашей помощи. – Скажите, герцог, что вы задумали? Я в высшей степени заинтересован! – живо спросил Паоло. – Видите ли, в чем дело, синьор Орсини: я убедился, что моя мечта составить самостоятельное владение в пределах гор Ромула – пустейшая фантазия, и невольно мои мысли направились в другую сторону. Недавно его святейшество выказал большое неудовольствие Феррарой, так как между нами зашел разговор по поводу земель по течению По, которые, хотя и отобраны от церкви, но так же мало относятся к духовной графини Матильды, как и поместья у Тибра, которыми владеете вы. Кроме того, эти земли, захвачены Феррарой, и соприкасаются с моими владениями Романьей и Болоньей. В виду этого, я и подумал, что могу смело рассчитывать овладеть короной Феррары лично для себя, конечно, при вашей благосклонной и могущественной помощи. Я высказал свое намерение его святейшеству и согласился с ним, что ваш брак с донной Лукрецией является желательным во всех отношениях. Раньше, когда я мечтал о другом, я, признаюсь, был против этого брака, ибо он нарушал мои интересы. Орсини был очень изумлен откровенностью Цезаря. – Теперь настроение папы совершенно изменилось, и это произошло с тех пор, как проклятый феррарец приехал сюда. Со мной папа почти не разговаривает и почему-то все старается оттянуть вашу свадьбу, несмотря на то, что вызвал вас в Рим, вероятно, только для женитьбы. – Его святейшество дает мне время добиться расположения его дочери, сам же он давно согласился на мое предложение, – встревожено ответил Орсини. – Да? Ну, а как идут ваши дела? Нашли ли вы доступ к сердцу моей сестрицы? Мне кажется, что она встречает вашу любовь так холодно, что та может замерзнуть. Паоло печально кивнул головой в знак согласия. – Сдержанность Лукреции нельзя объяснить девичьей скромностью, – продолжал Цезарь. – Она, как женщина тщеславная, в жилах которой течет кровь Борджиа, легко может предпочесть суверена Феррары вассалу, хотя бы и очень богатому и могущественному. Ведь мы все заметили, с какой благосклонностью относится она к посланнику правителя Феррары, несмотря на то, что он возмущает всех своей грубостью. – Он оказал большую услугу донне Лукреции. Вы помните, ваша светлость, наше злополучную охоту на буйвола? Правда, эта услуга была скорее случайна, чем умышленна, но все-таки донна Лукреция считает себя обязанной иоанниту. Если бы я раньше знал о его предательстве, то расправился бы с ним, – грозно воскликнул Паоло, обнажая свой меч. – Впрочем, и теперь еще не поздно. – Синьор, он спас вам жизнь, – напомнил Цезарь, ласково удерживая руку Паоло. – Да, это верно, – сконфуженно согласился Орсини, вкладывая обратно кинжал в ножны. – Но если он отнимет у меня надежду на любовь донны Лукреции, без которой для меня невозможно существование, то его услуга перестанет быть услугой и избавит меня от благодарности. – Совершенно верно, но, прежде чем решиться на такой крупный шаг, нужно иметь доказательства его вины в руках, а не действовать лишь по одному подозрению. Я понимаю, что вам будет очень тяжело, если феррарский посланник достигнет своей цели, а это очень легко может быть, так как его святейшество очень возмущен дерзостью ваших союзников, в особенности Вителлоццо. Да, я думаю, вам не доставит большого удовольствия держать стремя высокомерного жениха, пока тот будет садиться на лошадь, чтобы ехать венчаться с Лукрецией. – Вы смеетесь надо мной, герцог! – воскликнул Орсини, и его глаза гневно засверкали. – Боже меня упаси!.. Я боюсь, что над нами обоими будут смеяться другие! – грустно ответил Цезарь. – Вы – поэт, ваша светлость. Может быть, все эти ужасы лишь плод вашей богатой фантазии? – пытался успокоить себя Паоло. – Я уже сказал вам, что лишь подозреваю намерения иоаннита, но ручаться ни за что не могу, так как не посвящен в это дело. Все давно говорят, что папа очень изменился ко мне, и это нельзя отрицать. Старик мечтает лишь о блестящем положении для своей любимой дочери, роскошнейшего цветка Италии, как он называет ее, – с горечью прибавил Цезарь. – Мне только кажется странным обращение донны Лукреции с феррарцем. Сегодня она назначила ему тайное свидание в саду, а завтра, вероятно, встретит с ледяной холодностью. Вы сами последите за фактами. Я не хочу, чтобы вы составляли мнение, основываясь только на моих словах. – Донна Лукреция назначила рыцарю тайное свидание в этом саду? – с отчаянием воскликнул Паоло. – У вас есть полнейшая возможность или быть мужем Лукреции, или уступить ее принцу Феррарскому! – проговорил Цезарь, спокойно наблюдая за тем, какое впечатление производят его слова. – В ваших руках власть и сила, воспользуйтесь ею! Потребуйте с оружием в руках, чтобы папа немедленно исполнил свое слово, и женитесь, не откладывая дела в долгий ящик. Ваши союзники поддержат вас. Докажите его святейшеству, что у вас есть сила и храбрость, иначе вам скоро придется раскаяться. Орсини смотрел с полным доверием на Цезаря и теперь уже не сомневался в его искренности. В особенности его привлекала мысль, что Лукреция может быть в самом ближайшем будущем его женой. – Вы говорили о свержении старейшего представителя Италии так легко, точно дело идет о том, чтобы сорвать с дерева зрелый плод, – с некоторой нерешительностью возразил Паоло, – вы забываете, что он находится в тесном союзе с победоносным королем Франции. – Тем более я считаю его своим врагом. Для того, чтобы вернуть себе расположение французского короля, я принужден был поддерживать план женитьбы принца Феррарского на моей сестре, – этого брака желал Людовик Двенадцатый. Но теперь мне, в угоду этим друзьям, придется отказаться от большой части моего личного имущества, потому что его святейшество, конечно, пожелает наградить им мужа своей любимой дочери. Само собой разумеется, что эта перспектива не особенно радует меня. Флорентийскую республику тоже поддерживают французы, однако это не мешает друзьям Пьетро Медичи надеяться на его возвращение. Понятно, дорогой Паоло, никто из наших юбилейных гостей не должен ничего знать об этом разговоре. Если вы верите мне и хотите вступить со мной в союз, то Феррара и все феррарцы в наших руках. Прежде всего, мы посадим во Флоренции Медичи, и его святейшество подпишет ваше брачное свидетельство. Ослепленный любовью Паоло верил каждому слову Цезаря который продолжал развивать свой план с такими подробностями, что трудно было усомниться в его искренности. В конце концов ему удалось убедить Паоло стать его союзником. Когда беседа Цезаря и Паоло подходила к концу, они заметили, что музыка, игравшая танцы, внезапно прекратилась. – Вероятно, Лукрецию обидело наше долгое отсутствие, – проговорил герцог Романьи, – и она решила окончить бал. Пойдемте скорее! Но, прежде чем мы расстанемся, позвольте, Паоло, обнять вас и скрепить нашу дружбу родственным поцелуем. Орсини принужденно улыбнулся, и новые приятели разошлись в разные стороны, как только приблизились к освещенному пространству. «А теперь, – радостно подумал Цезарь, глядя с презрением на удалявшегося Орсини, – все карты снова в моих руках. Лукреция ни за что не согласится на брак с Паоло, когда увидит, что ее хотят взять силой. Папа еще не настолько кроток, чтобы при первом грубом требовании поступиться своей властью в пользу мятежников. Вителли заняты в Ареццо. Орсини разгневали французов тем, что хотят снова предоставить власть своему родственнику. Неаполю грозит война. Одним словом, все обстоятельства складываются в мою пользу! Нужно только действовать, не теряя времени»! (обратно)ГЛАВА XII
Паоло, войдя в грот, вспомнил слова Цезаря, что Лукреция, вероятно, обиделась на их долгое отсутствие, и стал тотчас разыскивать ее, но узнал, что она внезапно уехала с частью своей свиты и просила гостей оставаться до тех пор, пока им будет угодно. Ревнивый влюбленный начал искать глазами Альфонсо и к своему изумлению тотчас же увидел его на том же месте, на котором он сидел, когда Паоло вышел из грота. Лебофора не было среди гостей, так как Лукреция попросила его проводить ее до носилок. Для Паоло весь праздник потерял всякий интерес, и он отдал своим людям приказ собираться домой. Поднявшаяся при этом суета вывела Альфонсо из задумчивости. Он быстро поднялся и ушел из грота. Однако, не успел он пройти несколько шагов, как встретился с Лебофором, который возвращался обратно, исполнив почетную обязанность. – Что же, благоволение красавицы к вам не дошло до такой степени, чтобы пригласить вас в Ватикан? – насмешливо спросил Альфонсо. – Прошу вас, любезный друг, оставить подобные шутки! – недовольным голосом ответил Лебофор. – Неужели вы не оказали прекрасной даме этой маленькой услуги? Неужели вы не проводили бы ее до самого дворца, если бы она пожелала этого? – Я отдал бы ей последнюю каплю крови, если бы она потребовала этого! – горячо воскликнул англичанин. – Однако не забывайте, что вы говорите о невесте моего друга. Я несомненно имел бы честь проводить донну Лукрецию до ее дворца, если бы ей не вздумалось посетить своего духовника, куда я не мог отправиться вслед за ней. – О, какой поздний визит! Ведь теперь уже полночь! Сознайтесь, Реджинальд, вы дорого дали бы, если бы могли быть духовником этой красавицы? – с горькой иронией спросил Альфонсо. – Скорее роль духовника подходит вам, как рыцарю святого Иоанна, – возразил англичанин, не понимая намека Альфонсо. – Что касается меня, то, клянусь Пресвятой Девой, я был бы счастлив сделаться какой-нибудь вещью, каким-нибудь предметом, находящимся постоянно возле донны Лукреции. С какой радостью я был бы цветком на ее груди, хотя бы узнал, что к вечеру завяну, или птицей в клетке, висящей в ее комнате, или собакой, лежащей у ее ног и чувствующей прикосновение ее нежной, мягкой руки к своей голове, или подушкой, на которой покоится во сне ее жена! – Пусть Паоло будет осторожен: я боюсь, что ты задушишь своей страстью его невесту, – произнес Альфонсо. – Скажи откровенно, мой друг, это фея Моргана хотела превратить тебя в цветок, касающийся ее груди, или в подушку, на которой покоится ее голова? Она обещала тебе это? Лицо Лебофора вспыхнуло. – Ну, мало ли, что она, в качестве феи Морганы, предлагала разным лицам! – смущенно ответил он. – Она многих приглашала к себе, в том числе и меня. – А у тебя не хватило мужества напомнить ей о ее обещании? Вероятно, с этой целью она просила тебя проводить ее! – с заметным волнением проговорил Альфонсо. – Разве можно напоминать такой высокопоставленной даме о том, что говорилось шутя, во время маскарада? – возразил англичанин. – Впрочем, правда, она даже заставила меня сделать это. К моему величайшему изумлению, она потребовала, чтобы я рассказал ей все, что говорила фея Моргана, в чем она была, хотела, чтобы я повторил каждое ее слово, причем иногда мне пришлось порядочно краснеть. – Неужели же ты – такой новичок в любовных приключениях, что не напомнил ей о ее приглашении? – Я сам не знаю, как это вышло! Она, между прочим, спросила, что предсказала вам фея Моргана, и добавила, что собирается исполнить все обещания этой щедрой феи. – И после этого ты все-таки ушел, не солоно хлебавши? – почти с негодованием воскликнул Альфонсо. – Она ведь прямо сказала тебе, чего ей хочется! Ну, имея такого соперника, Орсини может спать спокойно! – Во всяком случае, если бы меня поцеловала женщина, как вас в гроте Эгерии, можете быть уверены, что я не стал бы рассказывать об этом всему свету! – Можешь молчать, сколько тебе угодно. Я и так знаю, что твоя обожаемая Лукреция – далеко не ледяная сосулька! – с трудом скрывая бешенство, ответил Альфонсо. – Ну, иди к своим друзьям, а я отправлюсь в гостиницу. Товарищи по оружию разошлись в разные стороны далеко не с такими дружескими чувствами, как бывало раньше. Альфонсо придумал новый план для того, чтобы удостовериться в недостойном поведении Лукреции. Англичанин сказал, что она отправилась к своему духовнику. Никто не мешал Альфонсо последовать за ней и, пользуясь уединенностью места и разными скрытыми закоулками, – подсмотреть и подслушать, чем вызван этот подозрительный визит. Когда рыцарь приблизился и развалинам, в которых обитал отец Бруно, он сейчас же увидел носилки Лукреции, освещенные факелами. Приказав остановиться, она надела длинную испанскую мантилью, закрывавшую ее лицо и фигуру, и соскочила с носилок. Ей навстречу выбежал Биккоццо, и в сопровождении его она быстрыми шагами вошла в одну из башен. Пользуясь знанием кратчайшего пути к келье отца Бруно, изученного в первое посещение, Альфонсо теперь намного опередил Лукрецию и Биккоццо. Пока те шли по лабиринту узких проходов, принц храбро подошел к открытому отверстию, заменявшему окно в келье монаха, и, спрятавшись в высоком кустарнике, видел все, что делается внутри кельи. Бруно сидел за большим каменным столом, заваленным латинскими и еврейскими рукописями, и писал что-то на огромном листе пергамента. По-видимому, устав от работы, он откинулся на спинку кресла, держа перо в руках. Среди мертвой тишины, царившей вокруг, до него внезапно донеслись звуки музыки, игравшей танцы перед гротом Эгерии. – Ее окружает веселье, – тихо проговорил доминиканец, мрачно глядя в одну точку. – Может быть, в этой зачумленной атмосфере загорается ее кровь греховной страстью? Но что мне за дело до этого? – вдруг воскликнул он, вскакивая с места. – Я опять забываю, что не должен думать о ней, опять совершаю грех! Мне снова мерещится сатана в образе этой прекрасной женщины! Но, если я даже и грешу, что из того? За прикосновение к ней можно согласиться на вечные ужасные пытки! Господи, спаси раба Твоего от искушения, избави его от этих ужасных мыслей! Я – монах, отшельник, для меня должны существовать лишь молитвы да книги, написанные во славу Божию. На чем я остановился? Отец Бруно опустился на стул, обмакнул перо в чернила, и только приготовился писать, как в келью вошел Биккоццо и доложил, что его желает видеть донна Лукреция. – Добрый вечер, отец мой, – раздался чарующий голос молодой женщины, появившейся вслед за Биккоццо. – Не пугайтесь! Возвращаясь из своих садов Эгерии, я зашла к вам, чтобы положить на ваш алтарь несколько лучших цветов. Кроме того, мне нужно сказать вам несколько слов наедине. Отец Биккоццо, оставьте нас! Молодая женщина сбросила мантилью. Биккоццо несколько секунд стоял неподвижно, пораженный ее красотой, а затем повернулся и двери, чтобы исполнить желание красавицы. – Биккоццо, приказываю тебе оставаться здесь, – сказал отец Бруно, но затем, вдруг устыдясь своей слабости, смущенно пробормотал: – или лучше ступай вниз и смотри, чтобы никто не мешал мне. Ах, это ты, дочь моя? Я тебя не узнал сразу. Что с тобой? Почему эти слезы? Ты совершила какой-нибудь тяжкий грех? Ведь я только вчера исповедовал тебя и отпустил тебе все твои грехи. – О, отец мой! Я тяжело согрешила, – ответила молодая женщина, заливаясь слезами. Она была рада, что Биккоццо ушел, не подозревая, что ее исповедь слушает Альфонсо. – Я согрешила и глубоко раскаиваюсь. Я даже сама нашла для себя достойное наказание. – Ты раскаиваешься в своем поступке, или жалеешь, что он не дал тех результатов, которых ты ждала? Женщины часто смешивают эти два чувства. Однако, в чем дело, дочь моя? Стань на колени, как полагается! Лукреция послушалась и опустилась у стула, на котором сидел монах, устремив свой взгляд на Распятие. – Вы предостерегали меня, святой отец, и, если бы я последовала вашему указанию, мне не пришлось бы испытать такое унижение. Во всем виновато мое женское тщеславие, – заговорила Лукреция, заливаясь слезами. – Вы приказывали мне, да я и сама знаю, что грешно искушать иоаннита, полудуховное лицо, и вот Бог покарал меня. Рыцарь открыто, перед всеми, презрительно отвернулся от меня. – Кто он? О ком ты говоришь, дочь моя? – спросил отец Бруно со злобным удивлением посмотрев на Лукрецию. – О рыцаре святого Иоанна, спасшем мне жизнь! – Что же случилось с ним? Говори скорее! Твоим нежным щечкам давно пора покоиться на мягких подушках, иначе они завтра не будут так свежи, как их соперницы-розы! – нежно сказал монах. – Мне трудно говорить о том, о чем даже подумать стыдно, – прошептала Лукреция. – Сегодня во время карнавала... – Ты играла позорную роль, как я слышал, – прервал ее монах. – Ты держала себя неприлично с этим мальчишкой-англичанином. – Значит, та фея, которая почему-то хотела казаться мной, ввела и вас в заблуждение, отче? – спросила Лукреция, положив свою нежную руку на корявые пальцы монаха. – Нет, я играла другую роль, еще худшую, и очень боялась, чтобы вы не узнали меня. Вы не видели сицилийской танцовщицы? – Да, мне кажется, я встретил это жалкое отродье, сосуд всевозможных пороков на Капитолийской площади, – после некоторого раздумья, холодным тоном ответил монах. – Она привлекала к себе внимание грязной, разнузданной черни своими сладострастными движениями. Она всевремя кривлялась перед толпой. – Нет, вы не правы. Я вовсе не кривлялась. Чем я заслужила такое мнение? – воскликнула Лукреция. – Ты бредишь, моя дочь? Причем ты тут? – спросил монах, освобождая свою руку из-под ее нежных пальцев. – О, дорогой отец Бруно, выслушайте меня! – умоляющим тоном проговорила Лукреция, насильно овладевая рукой монаха. Я хотела завлечь иоаннита, чтобы посмеяться над ним в присутствии всего двора, и для этого назначила ему свидание в гроте Эгерии! – Но тот не пришел на него, и потому ты теперь раскаиваешься в своем поступке? – О, нет, он пришел! – Пришел? Не шути такими вещами! Ты знаешь, что этим погубишь его. Снова прольется кровь, снова раскроется страшная пасть и проглотит его. Не губи иоаннита. Ты знаешь, что у меня есть тоже основание любить этого человека! – Это чувство заставило и меня позабыть об опасности, – воскликнула Лукреция. – Я сознаюсь вам во всем. Он пришел... да, да, но выказал мне такое презрение, что я готова была провалиться сквозь землю. Правда, он не знал, кто я, но, говоря с моей воображаемой фрейлиной, он называл позорными именами как ее, так и ее госпожу – Лукрецию. А затем на меня нашло какое-то затмение и я поцеловала его в лоб, как целую ваши руки. С последними словами молодая женщина почтительно прикоснулась губами к рукам монаха. – Ах ты, развратница!.. – не помня себя от гнева, закричал отец Бруно, дико сверкая глазами. – Ты ведешь себя, как последняя продажная женщина. Убирайся отсюда, я не хочу больше ничего слышать! Я могу с ума сойти от того, что услышу от тебя в следующую минуту. Уходи прочь, пока я не убил тебя. Я считаю святым делом удержать тебя от пропасти куда ты стремишься, а этого можно достигнуть, лишь убив тебя собственными руками. – Что вы говорите, отче? – воскликнула Лукреция, густо краснея, – Ваш гнев лучше всего доказывает мой позор. Поверьте, что я еще не совсем потеряла стыд. Я отважилась на этот поцелуй только в глубокой темноте. О, если бы вы знали, как я наказана за свой поступок! Этот рыцарь святого Иоанна перед всем двором насмеялся надо мной, рассказав, что произошло в гроте Эгерии. – Нельзя верить твоим словам, лживая женщина. Как могла ты поцеловать его в лоб, когда он выше тебя? Он, значит, наклонился? – Разве я сказала «в лоб»? Я хотела сказать «в губы». Я, собственно, намеревалась поцеловать его в лоб, но как-то случилось, что мне подвернулись губы. Ведь дело происходило в темноте! – пробормотала Лукреция, потупясь. – Ну, вот это скорее похоже на правду! – с горькой улыбкой заметил монах. – Для того, чтобы ты могла поцеловать иоаннита даже в губы, он все-таки должен был наклониться к тебе, то есть сознательно принять участие в твоем позоре. – Неужели? Значит, он искал моего поцелуя? – с невольной радостью воскликнула Лукреция. – Он приблизительно одного роста со мной! – проговорил монах, и его лицо приняло какое-то странное выражение. – Да, только вы опускаете голову, как подобает духовному лицу, а он держит ее высоко, подобно юному Марсу. Вы прощаете меня, отче, не правда ли? Ответьте на мой униженный поцелуй поцелуем всепрощения. С последними словами Лукреция прижала руку отца Бруно к своим губам. – Тебя простить? Ну, нет! Ты слишком искушаешь мое терпение. Уходи отсюда, ступай к своему родному отцу!., пусть он прощает тебе твои многочисленные грехи. Уходи. – Что ты о себе воображаешь, отец Бруно, чего ты бесишься? – гневно сказала Лукреция, внезапно изменив тон. Она вскочила с колен и продолжала. – Как ты смеешь издеваться надо мной, после того, как я открываю тебе каждый потайной утолок своей души? Не нужны мне ни твое прощение, ни твоя помощь. Я сама скажу иоанниту, какая опасность ждет его. Во время нашего свидания в гроте за деревом стоял герцог Цезарь и слышал весь наш разговор. – Герцог Романьи? – с видимым удовольствием воскликнул монах. – Каким образом он попал туда? – Он действительно поверил или, может быть, сделал вид, что верит, будто я – странствующая танцовщица. Подслушав мой разговор со старухой, которую я посылала за иоаннитом, он сам явился на свидание, – дрожа всем телом, ответила Лукреция. – Необходимо предупредить феррарца об угрожающей ему опасности. – Цезарю не за что мстить ему, если ты говоришь правду, что рыцарь с презрением отвернулся от тебя. – Да, но он потом сказал при всех, что я поцеловала его, а Цезарь никак не может перенести это. – Ты искренне раскаиваешься в своем поступке? – спросил монах. – Наложите на меня какое угодно покаяние, но ради Бога предупредите феррарца об опасности! – воскликнула Лукреция, опускаясь на колени. – Я даже согласна, если это необходимо, чтобы он уехал из Рима. – Иоаннит не сделает этого. У меня уже был разговор с ним по поводу опасности, грозящей ему здесь, но он ответил, что ни за что не уедет отсюда, пока не исполнит данного ему поручения! – задумчиво возразил отец Бруно. – Вы знаете, какое у него поручение? – испуганно спросила молодая женщина. – Может быть, Господь готовит тебе горькую чашу с целью заставить тебя отречься от мирской суеты, покончить со всеми ужасами, виной которых является твоя красота, и прийти под Его святую защиту. Знаю ли я, зачем приехал феррарец? Я-то знаю, а вот тебе, должно быть, неизвестно, зачем он явился в Рим. – Нет, он сам рассказал мне. Его послал принц феррарский для того, чтобы, чтобы... нет, я это не могу сказать, – прошептала Лукреция, закрывая свое лицо рукой монаха. – Успокойся, дочь моя, он не в состоянии будет исполнить свое поручение, – нежно и тихо проговорил отец Бруно. – А вы прощаете меня, отче? – спросила Лукреция и, встретив взгляд духовника, отшатнулась в ужасе – так необычно было выражение его лица. Монах молчал. – Да говорите же, вы пугаете меня! Пресвятая Дева, он умер!.. Биккоццо, Биккоццо! – Тише, тише, дочь моя, – слабым голосом остановил ее отец Бруно. – Я немного ослабел от поста и бессонных ночей, но теперь уже все прошло. Уходи отсюда, прекрасный дьявол! Как ты смеешь так искушать меня своим сладострастием! – вдруг хрипло закричал монах. – Простите меня, отче, иначе я навсегда лишусь спокойствия! – просила Лукреция ласковым, умоляющим голосом, по-видимому, не подозревая истинной причины волнения отца Бруно и приписывая все своему проступку. – Тебя простить, дорогая, дивная Лукреция? О, Боже, спаси меня, дай мне какой-нибудь знак, что Ты здесь, что Ты существуешь! Пусть разразится гром, или я с ума сойду... Альфонсо невольно сделал резкое движение, отчего камень с разрушенной стены скатился в отверстие окна кельи монаха и с шумом упал на пол посреди комнаты. Доминиканец быстро оттолкнул Лукрецию в сторону и бросился на колени перед алтарем. – Да благословенно будет имя Господне во веки веков! – в экстазе воскликнул он, и начал горячо молиться. Лукреция с удивлением смотрела на монаха. Когда он поднялся с колен, то был поражен, каким чистым, невинным созданием казалась эта женщина! – Забудь все, что я говорил, дочь моя! – смущенно пробормотал доминиканец. – Твоя душа так дорога мне, что я в отчаянии забыл свою обязанность духовника. Иди с Богом, а я пока придумаю для тебя достойное покаяние. – А вы исполните просьбу, отче? – Да, я повторю свое предостережение. Жизнь этого иоаннита имеет и для меня значение! – изменившимся голосом прибавил монах. – Однако, не забывай, дочь моя, что этот феррарец выказал тебе презрение при всем народе, а теперь всеми силами старается найти какие-нибудь доказательства, чтобы покрыть твое имя позором навеки. – Да, я возненавижу его так же, как он ненавидит меня! – со вздохом ответила Лукреция, закутываясь своей мантильей. – Я никогда не забуду своей собственной глупости и той бессердечной жестокости, с которой он выставил меня на позор перед всеми окружающими. Я его так же презираю, как он презирает меня. Отец Бруно с горькой улыбкой взял лампу и пошел провожать свою духовную дочь. Все это было сделано так быстро, что Альфонсо еле успел спрятаться. (обратно)ГЛАВА ХIII
На следующий день на площади Равона, в своем дворце, Орсини устраивали бой быков. Вокруг всей площади были устроены сиденья, покрытые дорогой материей и украшенные флагами. На возвышении стояла палатка, предназначенная для папского двора. Она была сделана из пурпурного шелка, а внутри обита такого же цвета бархатом и белым атласом. Чтобы скрыть папу от взоров любопытной толпы, открытая сторона была завешена золотой сеткой. Альфонсо, не желая принимать участие в празднике в качестве гостя, последовал за толпой, стремившейся посмотреть торжество. Он был в мрачном настроении, не хотел, чтобы его видели, и все время прятался среди народа. Когда он подошел к площади, почти все места для сидения были уже заняты. Свита папы в блестящих мундирах заняла приготовленные для нее ложи. Через золотую сетку павильона Альфонсо увидел папу рядом с Лукрецией, окруженной своими фрейлинами. Из мужчин был лишь один – англичанин Лебофор. Альфонсо спросил стоявших около него людей, почему рыцарь солнца не принимает участия в бое быков, и ему ответили, что англичанин не обладает нужной для этого ловкостью, а потому отказался от турнира. Этот ответ поразил Альфонсо. Он знал, что Реджинальд отличался необыкновенным искусством в этом деле, и ничего так не любил, как опасную борьбу и триумф после победы. Арена была усыпана белым песком. Из большого фонтана все время лилась струя розовой воды и смачивала песок для того, чтобы не было пыли. Среди всадников, сидевших на горячих лошадях, находились герцог Романьи и Паоло Орсини. На Цезаре был черный бархатный костюм с огненно-красными бантами, а на Орсини – белый (цвет Лукреции), отделанный ярко-красным (цвет дома Орсини) и зеленым. Эти цвета должны были служить символом любви и надежды. Маршал турнира представил Лукреции шестнадцать всадников и попросил у нее разрешения начать бой быков. Лебофор откинул в сторону золотую сетку, и Лукреция вместе со своими фрейлинами приветствовала героев. Альфонсо заметил, что молодая женщина холодно отнеслась к Орсини, отчего лицо англичанина засияло радостью. – Разрешаю вам вступить в борьбу, рыцари, и от души желаю полного успеха, – с обворожительной улыбкой проговорила Лукреция, подавая Орсини большой железный ключ. – Однако, почему среди вас нет рыцаря святого Иоанна? Может быть, он боится в борьбе с быками потерять ту славу, которую приобрел во время охоты на буйволов? – Вам, донна, вероятно, это лучше известно – мрачно ответил Паоло, – что касается меня, то я мало интересуюсь тайными побуждениями иоаннита. Лукреция высокомерно поклонилась, а Паоло передал маршалу ключ от конюшни, в которой находились быки. Для большего удовольствия публики на арену сразу выпустили четырех быков, самых бешеных. Раздался громкий шум труб и литавр, и со страшным ревом по арене завертелись четыре черных, как уголь, быка. Зрелище казалось настолько интересным, что даже папа высунул голову вперед из палатки, и напряженно следил за борьбой. Альфонсо не принимал никакого участия в этом зрелище. Он стоял равнодушно, когда публика громко выражала свои восторги по адресу Орсини, который, несмотря на страшную опасность, схватил быка за рога и обмотал их белыми лентами в честь Лукреции. Он смотрел безучастно, когда толпа зааплодировала Цезарю, снесшему одним взмахом кинжала голову самого бешеного животного. В конце боя трудно было решить, кому принадлежит пальма первенства – Паоло или герцогу Романьи. Цезарь поспешил великодушно отказаться от награды в пользу своего друга Орсини. Приз состоял из великолепного меча, и, держа этот приз в руках, Паоло опустился на колени перед дамой своего сердца. Александр VI удостоил похвалой храброго рыцаря, а Лукреция приняла подарок с более благосклонной улыбкой, чем обыкновенно. Протянув свою руку, чтоб взять подарок Паоло, она взглянула с чарующей улыбкой на Лебофора, и перевела затем свой взгляд на толпу. На одно мгновение ее взор встретился с взглядом Альфонсо, но последний поспешил скрыться среди публики. – Завтра я буду сражаться этим мечом с теми рыцарями, которые не отдают дани богине любви, в особенности с самым упрямым из них, рыцарем святого Иоанна, – весело сказала Лукреция, обращаясь к Паоло. – Но, так как этот меч слишком тяжел для того, чтобы я могла прикрепить его к своему поясу, а вы очень устали, я отдам его на сохранение сэру Реджинальду Лебофору. С этими словами Лукреция передала меч англичанину и держала его при этом таким образом, что Лебофор должен был вместе с мечом взять и ее руку. Так, по крайней мере, думал Альфонсо, видевший эту сцену. По окончании боя быков на арену вышли четверо герольдов в ярких костюмах, и объявили всему народу, что завтра, в честь юбилейного торжества и дня рождения донны Лукреции, будет турнир в Колизее. Приз его святейшества состоит из бриллиантового венка, стоящего пятнадцать тысяч золотых дукатов. Этот приз получит тот рыцарь, которого признают победителем все дамы, герцог Романьи в качестве председателя турнира, герольды и маршалы. После этого торжественного сообщения пришли два других герольда с гербами герцога Романьи и пригласили всех жителей Рима, а также приезжих гостей, на праздник во дворец к герцогу, где дано будет блестящее представление. После этого толпа разошлась, а двор отправился в палаццо Массими, где Орсини устроили парадный обед. Альфонсо в удрученном настроении вернулся в свою гостиницу. Всю прошлую ночь он думал о событиях дня. Его мучила мысль, что он жестоко оскорбил Лукрецию, но он старался успокоить себя тем, что, хотя многие его подозрения оказались неосновательными, все же красавица не могла оправдаться в том обвинении, которое, главным образом, позорило ее. Он припоминал выражение ревности у Цезаря, упреки монаха по адресу молодой женщины, рассказ еврейки об убийстве Джованни Борджиа, который, вероятно, погиб от руки ревнивого Цезаря, и его озлобление против Лукреции заглушило чувство раскаяния. Кокетство молодой женщины с англичанином заставляло сердце Альфонсо сжиматься от какого-то горького и неприятного чувства. Стук в дверь заставил его очнуться от мрачных мыслей. – Войдите! – недовольным тоном проговорил он. Дверь открылась, и на пороге показался отец Бруно. На бледном лице монаха отражались следы душевой борьбы, что вызвало со стороны Альфонсо не жалость, а презрение. Рыцарь знал, зачем отец Бруно пришел к нему. Сначала мысль о том, что Лукреция беспокоится о его судьбе, наполнила душу Альфонсо раскаянием и умилением, но он тотчас же прогнал это чувство, объяснив себе желание Лукреции, чтобы он уехал из Рима, ее страхом за себя перед наблюдательным свидетелем и потребностью избавиться от него. После обычных приветствий монах заявил, что, чувствуя себя обязанным рыцарю, он считает своим долгом предупредить его о том, что его ждет большая опасность, а потому он должен уехать как можно скорее из Рима, если не хочет попасться в руки врагам. – Вы – монах, отец Бруно, и вам незнакомы людские страсти, – ответил Альфонсо с тайным намерением уколоть доминиканца, – поэтому вы думаете, что я могу исполнить ваш совет. Нет, солдат и мужчина должен быть именно там, где его ждет опасность. Я обязан быть завтра на турнире, хотя поклонник римской Венеры обещал жестоко отомстить мне и, вероятно, сдержит свое слово. – Я боюсь, что ваше открытое презрение к донне Лукреции переполнит чашу терпения этой гордой, жестокой женщины. Вы и так уже разгневали ее до последней степени! – Гордая, жестокая, разгневанная до последней степени! – повторил Альфонсо. – Я думаю, отец Бруно, что эти опасения напрасны. Ваша Венера так увлечена любовью к юному английскому рыцарю, что, наверно, ей теперь нет времени заняться кровавыми ужасами. Отец Бруно улыбнулся, хотя не мог скрыть внутреннее беспокойство, вызванное словами Альфонсо. – Вы можете потерпеть поражение на завтрашнем турнире, чем воспользуются ваши враги. Или – вернее – ваши враги могут убить вас и все свалить на несчастный случай, который произошел с вами на этом турнире! – проговорил монах после некоторого раздумья. – Я предупредил вас, а затем, если с вами случится что-нибудь не моя вина. Будьте осторожны!.. Вы знаете, что ненавидящая женщина способна на все, а вы сами, своими руками, вызвали эту ненависть. Доминиканец ушел, а Альфонсо остался в еще более мрачном настроении при мысли о том, что мимолетное влечение к нему Лукреции превратилось в жажду кровавой мести. Несмотря на угрозы, страшную усталость и отвращение ко всем Борджиа, Альфонсо был одним из первых, устремившихся на другой день ко дворцу Колонны. По тем разговорам, которые слышались в толпе, Альфонсо убедился, что Цезарь Борджиа превосходно знал характер римлян. – Как хорошо, что изгнали этих Колонна! – говорила веселая публика, предвкушая ряд удовольствий, – теперь, по крайней мере, сады открыты для всех. Представление будет из жизни старых римских императоров. Это доказывает, что Рим возвращается к своему великому прошлому! Вид приготовленного угощения привел в восторг толпу. Высокие фонтаны били непрерывными струями вина, которые падали в широкие мраморные бассейны. Бесчисленные столы гнулись под тяжестью разнообразных блюд. На ветвях каштанов висели апельсины, виноград и другие фрукты. На возвышении был устроен храм богу солнца, куда Цезарь собрал весь Олимп. Навес из бледно-голубого шелка должен был изображать небо. Места для сидения разных цветов напоминали небесные облака. Все приглашенные изображали собой богов и собрались вокруг роскошно сервированного стола. Только папа Александр был в своем обычном одеянии, но его величественная фигура не вносила диссонанса, находясь рядом с мифическими богами. Цезарь изображал Меркурия. Говорили, что он выбрал эту роль ради того, чтобы угодить папе, ибо Меркурий был послушным орудием в руках своего отца. Альфонсо интересовала только Лукреция, которая избрала для себя роль богини любви. На ней было легкое пурпурное платье, стянутое золотым кушаком, на котором висело зеркало в серебряной оправе. Золотые сандалии еле держались на ее стройных, удивительно красивых ногах. Венок из роз украшал золотистую головку. Глаза сияли торжеством. Вся она со своим чарующим мелодичным голосом действительно производила впечатление настоящей богини любви. Возле нее сидел Паоло, в роли ее возлюбленного – Марса, а Урбино с неподражаемым комизмом представлял уродливого мужа Венеры. Лебофор, конечно был Адонисом и Лукреция, согласно своей роли, проявляла большую нежность к нему. Вителлоццо изображал Геркулеса и стоял рядом с Макиавелли, изображавшим бога сплетен Момуса. Бембо нарядился Орфеем, и с лютней в руках сочинял сонет в честь богини любви. Напротив него стояла мрачная фигура Алекты с огромной змеиной головой и черной маской на лице. Альфонсо смотрел на представление, рассчитывая на то, что его не видят олимпийцы. Он не спускал взора с Лукреции, веселость которой казалась ему неприличной, и иногда чувствовал на себе мрачный, пронизывающий насквозь взгляд Паоло Орсини. После обеда олимпийцы поднялись со своих мест и решили отправиться в ту часть сада, откуда были видны Корсо. Принцу Альфонсо невольно пришла в голову мысль о Мириам. Ворота гетто открывались во время бегов, а потому он мог проникнуть туда и, отыскав молодую девушку, привести ее, чтобы та перед всем народом рассказала об убийстве своего Джованни (герцога Гандийского). У Альфонсо было неопределенное желание убедиться в том, что Лукреция не виновата в этом преступлении. Он надеялся, что Джованни окажется не герцогом Гандийским, и вместе с тем, ему хотелось испугать ненавистную семью Борджиа и по поведению папы удостовериться, боится ли он, что нашли убийцу его младшего сына, или нет. Проводив взором блестящую свиту папы, направившуюся к мраморной террасе, откуда был вид на Корсо, Альфонсо торопливо пошел к выходу, и неожиданно столкнулся с Алекто. Она держала в руках маску, которую сняла, чтобы подышать воздухом. Иоаннит увидел молодую женщину, мрачная красота лица которой вполне соответствовала ее костюму царицы преисподней. – Богиня ада, позволите ли вы мне пройти мимо вас? – Не сочтите этого за обиду и не мстите мне: ведь вы так хорошо умеете мстить! – проговорил Альфонсо, так как ему казалось невежливым пройти мимо дамы, не обратив внимания на ту роль, которую она исполняет. – Не стану удерживать вас, рыцарь. Вы, вероятно, тоже – один из поклонников той красавицы, и спешите к ней? – с горькой улыбкой ответила Алекто. – Она действительно поразительно хороша. Я не ожидала, что она так прекрасна. – Мне очень знаком ваш голос, – заметил Альфонсо, что-то припоминая. – Я убежден, что очаровательная богиня ада была вчера феей Морганой. – Ну, вот еще! – возразила фурия, отворачиваясь от рыцаря, – вы приняли тоже уличную танцовщицу за донну Лукрецию. Одно могу сказать вам: что и вчера, и сегодня я – то, чего пожелал один из Борджиа, и это приведет меня к гибели. Надев маску, незнакомка исчезла. Альфонсо же задумался над ее загадочной фразой. На Корсо стояли евреи, которые обязаны были для блага своих соплеменников участвовать в бегах ради увеселения христианской публики. Альфонсо быстрыми шагами прошел мимо них. Подойдя к Гипдейской площади, примыкавшей к гетто, то остановился перед огромной толпой, со смехом сопровождавшей фигуру, находившуюся в центре. На осле, которого вели двое стражников, сидела верхом женщина со связанными ногами, в роскошном еврейском костюме. Альфонсо сейчас же узнал несчастную Мириам. Она, вероятно, своим больным умом объясняла это шествие, как нечто необыкновенно приятное для себя. Ее лицо сияло счастьем, несмотря на насмешки и угрозы сопровождавшей ее толпы. Иоаннит пробрался к полицейским и спросил их, что они хотят сделать с арестованной и в чем ее вина. Это – еврейская проститутка, синьор, – ответил один из стражников. – Несмотря на запрещение, она вышла из гетто, за что должна быть примерно наказана. – Разорвите на куски эту неверную, она занесет нам заразу! – кричала какая-то женщина, хотя по ее виду можно было смело судить о ее профессии уличной гетеры. Двое рослых парней, размахивая саблями, кричали: – Смерть, смерть язычнице! По-видимому, это были наемные убийцы, посланные каким-нибудь влиятельным лицом. – Тише, тише! – властным голосом остановил их рыцарь. – Разве вы не видите, храбрые воины, что эта несчастная девушка сошла с ума? – обратился он к стражникам. – Предоставьте ее мне, и я найду какого-нибудь доброго христианина, который проводит ее в гетто, не причинив никакого вреда. Услышав голос Альфонсо, Мириам оглянулась и, узнав рыцаря, радостно воскликнула, хлопая в ладоши: – Вот он, вот он!.. Вот видишь, я сдержала свое слово. Поведи меня к нему. Где Джованни? Я хочу к нему. Если бы я даже была королевой, я предпочла бы стать его служанкой, любящей рабой. – Аи, аи, аи, – укоризненно произнесла женщина, – красивый мужчина и возится с еврейкой! Впрочем, его, верно, опоили ведьмы, ведь они умеют делать любовное зелье. – Смерть ведьме! – кричали со всех сторон. – Имейте терпение, господа! – с трудом сдерживал Альфонсо разъяренную толпу. – Повторяю вам, что она сумасшедшая, но, чтобы удовлетворить вас, я попрошу законного судью разобрать это дело. Слова «законный судья» магически подействовали на толпу, связывавшую это понятие с чем-то страшным для себя. Они продолжала выказывать свое неудовольствие, но никто не решился подойти к Альфонсо, который разрезал веревки на ногах Мириам и посадил ее боком на спину осла, как сидят обыкновенно, женщины. Альфонсо решил повести Мириам прямо к папе, как бы для того, чтобы попросить у него защиты для несчастной девушки, а, в сущности, для того, чтобы посмотреть, узнает ли Мириам Цезаря, или нет. Мириам радостно следовала за ним. Она была убеждена, что ее везут к возлюбленному, в его роскошный дворец. Вероятно, умерший обещал ей когда-нибудь что-либо подобное. Перед каждым красивым зданием она хотела остановиться, воображая, что это дворец ее Джованни. – Ведь ты же говорила мне, Мириам, что твоего Джованни убили в гетто. Как же ты надеешься видеть его здесь? – спросил, наконец, Альфонсо. – О, это был сон, страшный сон, – ответила молодая еврейка, – мне это приснилось потому, что мой народ хотел убить его за то, что он ходил ко мне. Мы сейчас же узнаем его, он похож на эти цветы! Альфонсо приходил в отчаяние, что Мириам никак нельзя было привести в нормальное состояние. Думая об этом, он не обратил никакого внимания на гвардейца, который точно вырос из-под земли и потребовал, чтобы шествие остановилось. Альфонсо беспрекословно исполнил приказание. Толпа остановилась. Часть ее начала объяснять гвардейцу, в чем дело. Часть требовала, чтобы колдунью сожгли. Часть издавала какие-то дикие звуки. В общем, получился такой невообразимый шум, что ничего нельзя было разобрать. – Что за крик? Как вы смеете беспокоить его святейшество? – спросил гвардеец, подходя ближе. Альфонсо заметил, что гвардеец страшно побледнел, увидев Мириам, но, прежде чем сам он успел ответить на вопрос гвардейца, молодая девушка радостно воскликнула: – Ах, это – вы! Проведите же меня к нему, проведите скорее. Теперь, черный рыцарь, вы можете оставить меня, – обратилась она к Альфонсо. – Этот офицер приходил ко мне от Джованни. Ну, сын счастливого отца, веди меня к нему, и ты получишь много-много денег! – Что это? – пробормотал гвардеец, испуганно оглядываясь. Сотня голосов закричала что-то, но сильный голос Альфонсо покрыл этот крик: – Эта девушка ненормальна, синьор Мигуэль, но все-таки не настолько, чтобы не сознавать, что в ее присутствии совершено преступление. Я не знаю, сделано ли оно каким-нибудь фанатиком ее племени, или на него решилось какое-либо чудовище, дерзающее называть себя христианином. Как бы там ни было, но она имеет право хлопотать о правосудии перед его святейшеством. – Я вовсе не сошла с ума! Я прекрасно помню этого офицера. Он наверно, пришел теперь за мной, чтобы вести меня к моему Джованни! – недовольным тоном воскликнула Мириам, глядя в глаза наперсника и пособника Цезаря. – Каким образом эта еврейка попала сюда? – спросил офицер с искаженным от гнева и страха лицом. – Она выбежала из гетто вслед за теми евреями которые участвуют в бегах, в надежде встретить своего возлюбленного, к величайшему стыду этого святого иоаннита! – раздался в толпе насмешливый голос отца Бруно. – Расскажите, где вы нашли ее, – обратился дон Мигуэль к одному из стражников. – Мы встретили ее за пределами гетто, – ответил стражник, – и арестовали. Но тут подошел к нам этот рыцарь, по-видимому ее хороший знакомый, и потребовал, чтобы еврейку освободили. – Существует закон, по которому еврейка, осмелившаяся покинуть гетто во время юбилейных торжеств, подвергается смертной казни, в особенности, если она занимается проституцией. Идите, рыцарь, своей дорогой, и предоставьте эту девку той участи, которую она заслужила! – воскликнул Мигуэлото. – Гоните ее назад в гетто, добрые люди! Это распоряжение было встречено полнейшим одобрением толпы. Мириам спокойно, но разочарованно смотрела на дона Мигуэля. – Господин офицер, этого нельзя сделать, по крайней мере, до тех пор, пока его святейшество не выслушает жалобы несчастной девушки, – еле сдерживая свой гнев, возразил Альфонсо. – Ее обманули и на ее глазах убили ее возлюбленного, христианина. Это дело нельзя так оставить. – Это – неправда! – возразил Мигуэлото. – Я случайно знаю, как было дело. Эта девка старается оклеветать невинных людей! Во всяком случае, такому святоше, каким вас считают все, не подобает вмешиваться в такие грязные истории. По-видимому, эта девушка – ваша возлюбленная. Гоните ее как можно скорее обратно в гетто. Всякий, встретившийся на вашем пути, будет издеваться над вами. – Я сам обращусь к папе! – так громко заявил Альфонсо, что его голос услышали на мраморной террасе. – Не заграждайте мне путь! Я скорее соглашусь биться до последней капли крови, чем позволю восторжествовать вашей злобе против этой девушки. – Какая же у меня может быть злоба против нее лично? – спросил дон Мигуэль, меняясь в лице перед строгим взглядом принца Альфонсо. – Скажи, девушка разве ты знаешь меня, разве я когда-нибудь видел тебя раньше? По-видимому, он не заметил, как внимательно Мириам следила за ним, когда он разговаривал с Альфонсо. Вдруг ее лицо исказилось, глаза злобно засверкали, и она закричала диким голосом, раздавшимся по всей улице: – Убийца, убийца, убийца! – Стащите ее с осла и разорвите на куски! Закон требует этого и должен быть исполнен! Пощадите безумного рыцаря, но еврейку убейте! – приказал дон Мигуэль и, пришпорив коня, хотел уехать. Однако, с быстротой молнии Альфонсо схватил одной рукой лошадь под уздцы, а другой выхватил кинжал. Каталонец тоже взял свой меч, и между противниками завязалась борьба. Испуганная толпа остановилась в оцепенении. Неизвестно, чем окончился бы этот поединок, если бы к дерущимся не подошел Иоанн Страсбургский и не потребовал от имени папы мира. По приказанию его святейшества, все виновники этой истории должны были явиться к нему на суд. Альфонсо снял с осла Мириам и беспрепятственно провел ее сквозь толпу. (обратно)ГЛАВА XIV
– Вспомни хорошенько, как произошло убийство твоего Джованни, расскажи все его святейшеству и попроси правосудия! – сказал Альфонсо Мириам, поднимаясь с ней на ступеньки террасы. Молодая еврейка сейчас же закричала: – Правосудия, правосудия, я хочу правосудия! Публика смотрела в эту минуту на победителя бегов, который, добежав до цели, в изнеможении упал на землю, потеряв сознание. Однако, крик еврейки заставил всех присутствующих сосредоточить свое внимание на ней. Александр VI сидел в кресле. С одной стороны возле него стоял Цезарь, а с другой – Лукреция. Позади них находилась блестящая свита. Теперь все присутствующие снова надели маски, чему Альфонсо был очень доволен. Он боялся, что Мириам сразу узнает Цезаря, и тот не даст ей возможности рассказать историю убийства герцога Гандийского. Все были поражены, увидев рыцаря святого Иоанна рядом с еврейкой. Даже папа не мог скрыть свое изумление. – Что это за женщина? – спросил он, когда Мириам, по восточному обычаю, опустилась перед ним на колени. – Это – та еврейка, ваше святейшество, которую я, как вам известно, вырвал из рук насильника в гетто, – ответил Альфонсо. – Она явилась к вам, чтобы просить у вас правосудия по поводу одного страшного дела! – О каком деле? О чем вы говорите? Теперь не время и не место для этого! – воскликнул Цезарь, глядя на Мириам таким взглядом, от которого Альфонсо вздрогнул. – Судьи его святейшества сидят в суде, а не здесь. При звуках этого голоса Мириам прижала руки ко лбу и смотрела на Цезаря с видимым ужасом. – Нормальное судопроизводство тянется слишком долго, – возразил Альфонсо, – эта девушка хлопочет о раскрытии преступления, которое совершилось три года тому назад. – Мы все очень хорошо знаем, рыцарь святого Иоанна, что вы специально для того пожаловали в Рим, чтобы собрать все те сплетни, которые могут бросить тень на его святейшество, хотя бы они были ни на чем не основаны! – резко проговорил Цезарь. – Три года! – удивленно воскликнул папа. – Это действительно слишком долго. Мы выслушаем вас и, я думаю, в течение часа найдем возможность выяснить это дело. Говори, дитя мое, только покороче! – Если она жалуется на христианина, то от нее, как еврейки, нельзя принимать жалобу! – снова вмешался Цезарь. – Если в Риме существует такой закон, то с сегодняшнего дня он отменяется, – сказал папа со свойственным ему упрямством. Почему вы боитесь моего суда, герцог? Говори, в чем дело, дочь моя? – Она пришла рассказать вашему святейшеству об убийстве, тайном, позорном убийстве, совершенном три года тому назад, когда герцог Романьи был еще мирным кардиналом Валенсийским! – ответил за Мириам Альфонсо. – Три года тому назад? – повторил Александр, и тень от тяжелого воспоминания легла на его лице. – Клянусь памятью святого Петра, что не пощажу убийцы, кто бы он ни был, даже лицо, близкостоящее к нам! – Насколько мне известно, ваше святейшество, – продолжал Альфонсо, – возлюбленный этой еврейки был христианин. Она знает о нем только то, что его имя было Джованни, но, судя по описаниям его, можно смело заключить, что он был очень знатного рода. – О, это – старая история! – воскликнул Цезарь. – Говорят, что евреи убили его и сделали из его тела солонину. – Ваша светлость, вы, значит, изволили слышать эту историю? – спросил Альфонсо, с трудом сдерживая свое негодование. – Да, и очень много других в таком же роде. Таинственная смерть моего несчастного брата заставила меня везде искать его убийцу, и тогда я слышал эту историю! – спокойно ответил Цезарь. – Наведенные справки убедили меня, что это – плод фантазии душевнобольной девушки, которая, по уверению ее родственников, никогда не выходила из гетто. – Эта душевнобольная девушка лежит у ног вашего святейшества. Умоляю вас, выслушайте ее! Она расскажет вам об ужасном убийстве своего Джованни. Хотя она действительно не вполне нормальна, ибо страшное событие так сильно повлияло на нее, что временами она живет в прошлом. Тем не менее, ваша опытность поможет вам легко отличить бред больной фантазии от действительности! – горячо проговорил Альфонсо. Да, мы выслушаем ее, – мрачно сказал Александр. – Встань, дочь моя, и говори, не стесняясь, как с родным отцом. Когда и где убили твоего Джованни? От чьей руки он погиб? Если это сделали твои единоверцы, не бойся выдать их. Я могу защитить тебя от их гнева. Мириам так внимательно рассматривала Цезаря что почти не слышала вопроса папы. Она вздрогнула, когда Альфонсо прикоснулся к ней, чтобы заставить ее отвечать. – Говори, Мириам, – воскликнул он. – Кто был тот господин, который велел тебе пригласить Джованни, чтобы помешать ему пойти на свидание с красивой дамой? – Где же он? Ах, он уже ушел! – разочарованно произнесла Мириам, тревожно смотря на толпу, в которой скрылся Мигуэлото. – Мне никогда не нравились его черные глаза. Я не доверяла ему и сказала об этом Джованни. Я предлагала ему лучше уйти, но мой Джованни был храбр, очень любил меня и не захотел расставаться со мной. А когда взошла луна, и Джованни крепко уснул, я услышала чьи-то шаги у дверей. Сначала я думала, что это – те две ведьмы, но это пришел он... он! Его прислала та красавица, которая не могла вырвать из рук бедной еврейки прекрасного Джованни. Я видела на турнире эту даму. Она улыбалась какому-то рыцарю, в то время как Джованни посылал мне воздушный поцелуй. Ах, он был так красив, так красив! Вот такого цвета было его лицо, – прибавила Мириам и, дунув на розу, показала бледно-розовые лепестки. – Мы долго будем слушать эту любовную чепуху? – иронично спросил Цезарь, пожимая плечами. – Твой Джованни был блондин? – спросил папа Александр с видимым волнением и так близко наклонился к Мириам, что коснулся подбородком ее головы. – Какого цвета были его волосы? – Блестящие, как золото, светлые, как солнечный луч! – ответила молодая еврейка. Папа с глубоким вздохом откинулся на спинку стула. – А теперь, Мириам, расскажи его святейшеству все, что ты говорила мне об убийстве Джованни, – проговорил Альфонсо, – расскажи, как его вырвали из твоих рук, как его длинные волосы купались в крови, когда убийцы вытаскивали его из комнаты. Мириам охватила руками колени папы и со страстным рыданием повторила рассказ об убийстве герцога Гандийского. Альфонсо пристально смотрел на папу и по его волнению ясно видел, что Александр признает в возлюбленном Мириам своего сына. – Ты говоришь, что убийцы были в масках и в христианском платье? – переспросил папа, когда молодая девушка замолчала. – Скажи откровенно, знаешь ты еще что-нибудь об этом несчастном юноше, кроме того, что его звали Джованни? Мириам печально покачала головой. – Все убийцы были в масках? Помнишь, ты рассказывала мне, что у одного из них маска упала с лица во время борьбы? – спросил Альфонсо и взглянул на Цезаря, который вздрогнул при этих словах. – Да, у одного маска слетела, у того, что был в пурпурно-красном одеянии! – с ненавистью воскликнула Мириам. – Прикажите, ваше святейшество, всем снять маски. Может быть, несчастная девушка признает в ком-нибудь из присутствующих убийцу? – предложил Альфонсо. – Это было бы очень опасно, – быстро возразил Цезарь. – Безумная девушка может указать на невинного человека и это навсегда наложит пятно позора на его репутацию. Она не спускает с меня взора. Я уверен, что она потому приписала убийце пурпурное одеяние, что видит такое на мне. – Это действительно было бы опасно, – тихо прошептала Лукреция, в первый раз принимая участие в разговоре. – В доказательство того, как ненадежны ее показания, я готов поклясться, что еврейка признает мою сестру своей соперницей, так как все находят ее красивой. Я убежден, безумная станет утверждать, что она пригласила к себе своего возлюбленного для того, чтобы помешать его свиданию с Лукрецией, – презрительно заявил герцог. Мириам задрожала, откинула назад волосы и гневно закричала, обращаясь к Лукреции: – Да, да, это ты назначила ему свидание, – ты – Убийца! Ты заставила убить его за то, что он любил меня больше, чем тебя. Арестуйте ее, благородный судья, это она убила его. Я теперь припоминаю, что человек в красном сказал мне, что убивает моего Джованни по приказанию важной дамы, которую Джованни бросил из-за меня. Арестуйте ее! – Она действительно сошла с ума, а мы слишком долго слушали ее безумный бред, – устало проговорил папа Александр, но Альфонсо заметил, каким подозрительным взглядом папа окинул смущенное лицо Лукреции. В эту минуту раздался пронзительный крик и, прорываясь через толпу, выскочили две безобразные старухи. – Мириам, Мириам, – кричали они, – пощадите наше дитя, она сумасшедшая, сумасшедшая! – Это – родственники девушки, они пришли за своей идиоткой, – с громким смехом заметил Цезарь. – Эй, вы, отродье сатаны, берите свою заблудшую овцу! Увидев своих теток, Мириам вся сжалась, точно заяц, затравленный собаками. – Что это за фигуры, откуда они явились? Выросли из-под земли, или дьявол послал их из своего царства? – спросил Александр, отодвигаясь от старух, которые бросились перед ним на колени. – Ни то, ни другое! Это – просто старые аптекарши из гетто, – ответил Цезарь, и поспешил успокоить своих союзниц: – Говорите смело, добрые женщины, объясните, что с этой девушкой? Почему она болтает тут о каком-то убийстве, о пролитой крови? – Мы – две несчастные, бедные старухи – честно зарабатываем свой хлеб, – жалобно затянула одна из евреек. – Мы живет тем, что готовим некоторые лекарства, рецепты которых оставил нам в наследство наш отец, известный доктор. Эта девушка – внучка нашего отца. Она сошла с ума от любви. Ее любовником был христианин, бросивший ее, когда оказалось, что она ждет ребенка. Девушка с горя помешалась. Услышав об убийстве благородного герцога Джованни Гандийского, она однажды ночью проснулась от страшного сна и начала приставать к нам, двум слабым женщинам, с обвинениями в том, что мы убили ее любовника, который как будто тоже носил имя Джованни. – Назовите мне настоящее имя ее соблазнителя и, если бы все короли мира просили, чтобы я пощадил его, я и тогда не согласился бы на это! – сурово произнес папа. – Господин и повелитель, он скрыл, кто он такой, из страха вашего справедливого гнева. Даже его возлюбленная знала только имя Джованни, хотя по всей вероятности, и оно было вымышленное! – ответила Нотта. – По закону, христианин, находящийся в любовной связи с еврейкой, наказуется смертью! Вы думаете, ваше святейшество, что таинственный Джованни был бы достоин этого наказания? – живо спросил Цезарь. – Уведите ее! – вместо ответа проговорил папа и, схватившись за сердце, прибавил: – мне дурно! – Удалите свое несчастное дитя, добрые женщины! – обратился Цезарь к старым еврейкам. – Несмотря на болезнь, она еще слишком хороша для того, чтобы оставаться среди народа. Хотя ваши труды оказались бесполезны, рыцарь святого Иоанна, тем не менее, и его святейшество, и мы все, очень благодарны вам за ваше старание найти убийцу несчастного герцога Гандийского. Это – самое горячее желание всей нашей семьи. Нотта и Морта бросились к Мириам, на лице которой в первый раз за весь день отразился страх. Альфонсо, не обращая внимания на умоляющий взгляд Лукреции, помог Мириам подняться с места и объявил, что сам проводит молодую девушку. Цезарь сделал знак старухам, чтобы они не препятствовали рыцарю, и те, рассыпаясь в благодарностях, пошли вслед за Альфонсо, который заботливо поддерживал Мириам. Рыцарю не легко было пробраться с еврейками через густую толпу разъяренной черни. К счастью, ему помог отец Бруно. Дойдя до ворот гетто, старухи снова начали благодарить рыцаря, но по тону, каким произносились слова благодарности, можно было скорее предположить, что они проклинают его. Альфонсо очень хотелось проводить Мириам до самого дома, но он боялся настроить старых ведьм против их племянницы, а потому ограничился лишь тем, что напомнил старухам о болезни Мириам и затем пошел с отцом Бруно обратно. Не успели они отойти несколько шагов, как монах снова начал уговаривать Альфонсо уехать из Рима. – Я не знаю, почему вы думаете, что я изменю свое решение, – нетерпеливо возразил Альфонсо. – Наоборот, с тех пор, как я увидел, что папа пламенно желает отыскать убийцу своего сына, у меня явился лишний повод остаться здесь. – Да, вы сегодня стояли на волосок от того, чтобы приподнять завесу ужасной тайны. Но будьте осторожны. Помните, что доведенная до крайности женщина более жестока, чем самый злой мужчина! Этот намек на Лукрецию, в соединении с тем, что говорила Мириам, произвел сильное впечатление на Альфонсо. Он вспомнил о встрече еврейки с Мигуэлото и о рассказе относительно убийствагерцога Гандийского и вдруг почувствовал большое недоверие также и к отцу Бруно. – Дайте мне только проучить дерзкого англичанина, уверяющего, что ни один итальянец не в состоянии сражаться с ним, и я очищу вам всем путь, если бы он даже был покрыт лилиями и розами. Мне и самому надоело и все и вся здесь, – проговорил Альфонсо и посмотрел на монаха так, что тот вздрогнул. – Нам всем? – смущенно повторил отец Бруно. – Да, вам всем, монах! Вы все – одного поля ягоды! Я щажу ваш духовный сан и потому не выражаюсь яснее. Одно могу сказать, что люди очень удивились бы, если бы узнали, какое у вас было продолжительное совещание с вашей духовной дочерью. Какое счастье, что удар грома, или вернее – удар камня, брошенный чьей-то рукой, спас вас от великого греха. На лице монаха выразилась такая смесь горя, стыда, сомнения и гнева, что даже Альфонсо стало страшно. – Будьте покойны, я не выдам вас. Но вы также знайте, что я могу побить вас вашим же оружием! – сказал Альфонсо в заключение и поспешно ушел. (обратно)ГЛАВА XV
Наконец, наступил давно ожидаемый день турнира. Праздник начался с того, что Цезарь отправился в Капитолий, чтобы вступить в должность хоругвеносца церкви. Среди зрителей находился и Альфонсо д'Эсте, которому интересно было видеть, как герцог примет то звание, которое принадлежало его убитому брату. Цезарь был очень спокоен. Из уважения к римскому сенату и народу, он шел во время церемонии с непокрытой головой. Вдруг к нему подошла какая-то женщина, изображавшая Судьбу, – никто не знал, кто она такая, – и, предсказав ему блестящее будущее, возложила на его голову лавровый венок. Она объявила, что Цезарь Борджиа вернет Риму прежнее величие, когда сделается императором всего народа, который именно нуждается в нем, чтобы снова стать на ту высоту, на какой стоял раньше. Цезарь скромно поклонился и в сопровождении сенаторов и высших сановников отправился в Ватикан. Альфонсо узнал в предсказательнице судьбы бывшую Алекто и фею Моргану. Несомненно, что она выступила и в этой роли по приказанию герцога Романьи, лелеявшего в душе то, что высказала его наперсница. Альфонсо пожалел, что не может теперь заключить союз с папой, женившись на его дочери. Это было бы лучшим способом помешать Цезарю выполнить его опасный план. Раздумывая об этом, принц вернулся в гостиницу, чтобы подкрепиться. К его величайшему удивлению, хозяин подал ему блюда и вина гораздо разнообразнее и более высокого сорта, чем обыкновенно. Окончив завтрак, Альфонсо отправился в свою комнату, чтобы одеться для турнира, но хозяин остановил его и под большим секретом сообщил, что все то, что рыцарь ел во время завтрака, прислано какой-то дамой. – Я не знаю, кто она такая, – закончил хозяин гостиницы свой рассказ, – но человек, принесший корзину, сказал, что вы сами догадаетесь, какая дама вспомнила о вас. Сначала Альфонсо был глубоко тронут этим новым доказательством великодушия Лукреции, и в его сердце начала загораться надежда на что-то хорошее. Он чувствовал легкую слабость во всем теле. Однако, постепенно эта слабость начала усиливаться, вскоре он не в состоянии был держаться на ногах. Тогда ему в голову пришла страшная мысль: его отравили! «Неужели меня отравила Лукреция?» – не переставал думать Альфонсо, и от этой мысли больно сжималось его сердце. Он чувствовал, что раньше Лукреция любила его. Значит, до какой степени он оскорбил эту молодую женщину, если она так возненавидела его, что решилась отравить! Своей холодностью и небрежным отношением к Лукреции он сам создал себе соперника, который по-видимому, не долго будет бесплодно вздыхать по красавице. Альфонсо мысленно рисовал себе картину турнира, видел торжествующего Лебофора, склонившегося у ног Лукреции, которая приветствовала его нежной улыбкой. «Мое отсутствие, конечно, будет объяснено трусостью», – с горькой усмешкой подумал Альфонсо, и ему стало жаль себя, жаль своей молодой жизни: он, принц, наследник престола, жаждущий провести в жизнь самые благородные планы, должен погибнуть из-за ненависти развратницы! Однако, очевидно тот, кто приготавливал яд, был плохо знаком со свойством наркотических средств или не рассчитал, какое количество их проглотит Альфонсо. Странная слабость и сонливость первых минут перешли в необыкновенно возбужденное, лихорадочное состояние, но, тем не менее, он чувствовал, что не в состоянии будет принять участие в турнире, хотя этого ему хотелось во что бы то ни стало. Альфонсо начал обдумывать, что предпринять для того, чтобы парализовать действие яда, и решил обратиться за противодействием к теткам Мириам. Думая, что главным образом было отравлено вино, он взял его с собой и, оседлав лошадь, быстро помчался в гетто. Он нашел Морту и Нотту в лаборатории. Они разбирали травы и цветы для своих специй. У их ног сидела Мириам. Она занималась тем же, тихо напевая про себя. Старухи, видимо, испугались, когда вошел рыцарь, а Мириам посмотрела на него равнодушно, вероятно не узнав его. Альфонсо протянул старухам вино с просьбой посмотреть, нет ли в нем примеси яда. Обе торопливо схватили бутылку. Нотта попробовала напиток, плюнула и проговорила: – Выпей, Морта, можешь выпить хоть все, вреда от этого не будет никакого. Какой дурак приготовляет это питье? – Ты сама – дура! Какой вздор ты болтаешь! – возразила Морта. – Это средство предназначалось вовсе не для того, чтобы убить кого-нибудь, а лишь заставить его ослабеть. Тот, кто выпьет его, становится настолько слабым, что враг может поразить его своим мечом, чуть прикоснувшись к нему. «Следовательно, это сделано с целью посрамить меня на поединке!» – подумал Альфонсо с болью в сердце. – Один из моих друзей как раз выпил большое количество этого напитка, – обратился он к Морте. – Не знаете ли вы какого-нибудь противоядия, которое вернуло бы ему силу, хотя бы на несколько часов? – Вот это поможет, – сказала Морта, давая ему склянку. Только смотри, рыцарь, чтобы твоего друга не похоронили живым. После большого возбуждения наступит такой упадок сил, что можно будет подумать, будто он умер. Альфонсо щедро заплатил старухе, хотя очень сомневался, не будет ли это противоядие опаснее яда Лукреции. Наступил час, который был назначен для турнира. Хотя Альфонсо с трудом держал в руках меч, тем не менее, он поспешно направился к месту борьбы. Огромное разрушенное здание Колизея было наполнено зрителями снизу до самого верха. На развалинах бывшей императорской галереи были устроены подмостки с позолоченными перилами, обитыми пурпурным бархатом. Над колоннами возвышалась крыша, обтянутая небесного цвета материей, с золотыми звездами. Посредине, на возвышении сидел папа, а несколько ниже – герцог Романьи в костюме римского консула. Он был председателем судей поединка. Вокруг него разместились самые красивые из римских дам – судьи турнира. За папой сидели кардиналы, послы, владетельные князья и знатные гости. Все остальные ряды до самой верхушки Колизея были заняты народом. Его любовь к Лукреции выразилась несмолкаемыми криками «ура», когда молодая женщина появилась на турнире во главе длинного ряда рыцарей. Перед ней герольды несли на красной бархатной подушке роскошный венок из бриллиантов с надписью: «Храбрейшему-прекраснейшая». Лукреция сидела на белой красивой лошади, голова которой была украшена белыми перьями. Седло из белого бархата было роскошно расшито жемчугом. С него падали вниз живописные складки белого атласного платья Лукреции. Длиннейший шлейф из красного бархата со звездами из рубинов несли шесть пажей. На золотистой головке Лукреции скромно лежал венок из белых роз. Над ней возвышался балдахин из серебристо-белой парчи, который несли два рыцаря: Орсини и Лебофор. Вся блестящая процессия остановилась, когда Лукреция взошла на арену и села на приготовленный для нее трон рядом с председателем судей. Орсини, весь в белом и прозванный поэтому «белым рыцарем», и Лебофор стали по обеим сторонам ее трона. Тотчас же после этого маршалы стали по очереди впускать участников турнира, и Лукреция внимательным взором следила за каждым из них. Наконец, она увидела Альфонсо и он заметил, как молодая женщина вздрогнула и побледнела, точно встретила выходца с того света. Это доказательство ее вины – желание отравить или обессилить его подосланным питьем – так взволновало Альфонсо, что его слабость прошла, и он ощутил новый прилив сил. Все рыцари заняли свои места, и в наступившей тишине раздался могучий голос герольда, возвещавший условия поединка. В виду того, что желающих участвовать в турнире было очень много, решили, чтобы каждый рыцарь бился до тех пор, пока не сломает трех мечей, приготовленных заранее. После этого, герольд объявил о штрафах, которые были назначены за нарушение условий, и пригласил в заключение всех рыцарей, вдохновленных любовью, получить особенный орден, раздаваемый царицей праздника, донной Лукрецией. Рыцари ответили на это оглушительным «ура». Паоло Орсини попросил разрешения первым получить «орден любви». – Хорошо, – улыбаясь, ответила Лукреция, – а сир Реджинальд будет последним, – прибавила она, принимая из рук англичанина меч, который она дала ему на сохранение. За Орсини последовали другие рыцари. Кроме особого ордена Лукреции, они получали, каждый от своей дамы сердца, шарф, бант или что-нибудь другое в этом роде. Толпа рыцарей, стоявших вокруг Альфонсо, все редела, так как все устремились получить орден любви. Когда же Альфонсо очнулся от задумчивости, он увидел, что кроме него осталось еще два рыцаря, не подходивших к Лукреции. Одного он узнал сейчас же по его могучей фигуре, это был Вителлоццо, а другой сам напомнил о себе. – Клянусь честью, это – вы, иерусалимский рыцарь!.. Так как мы с вами уже поквитались, то теперь я с удовольствием буду на вашей стороне, против Борджиа, – со странной улыбкой воскликнул Оливеротто да Фермо. – Мы не поддадимся этой высокомерной развратнице, – воскликнул Вителлоццо с обычной грубостью, – и тому нежному юноше, запутавшемуся в ее сетях. Смотрите, он стоит перед ней на коленях, а она кладет ему голову на плечо. Вот она пишет что-то на его мече. Клянусь честью, красавица, сегодня мы посчитаем ему косточки. – Она делает вид, что падает в обморок. Боже, что за притворство! – со вздохом пробормотал Альфонсо. – Я очень прошу вас, благородный Вителлоццо, позвольте мне первому вступить с ним в бой. – Мне очень хочется отнять у него красивый меч, который дает ему Лукреция! – заметил Оливеротто. – Вот вам меч, дорогой рыцарь. Сделайте им несколько ударов сегодня, а затем носите всегда на память обо мне, – сказала в это время Лукреция, действительно передавая Реджинальду дорогой меч. Лебофор, не помня себя от восторга, поцеловал прекрасную руку с такой страстью, что дамы, видевшие эту сцену, переглянулись между собой. Затем он вскочил на лошадь и, размахивая мечом, закричал: – За Лукрецию против всего света! – Я принимаю вызов! – громко ответил Альфонсо и так бешено бросился на Лебофора, что тот, не ожидая такого нападения, едва не свалился с седла. – Что с вами, товарищ по оружию? – с удивлением спросил он, узнав иоаннита. – Я хочу доказать вам, рыцарь любви, что рыцари чести храбры не менее вас, – хрипло смеясь, ответил Альфонсо. Всех сражающихся поставили в два тесных ряда вдоль арены, с промежутком в сто шагов, чтобы при нападении был достаточный разбег. В обоих рядах было одинаковое количество людей, только один оказался лишним – Альфонсо. Он умышленно отошел в сторону, чтобы видеть, где станет Лебофор, и потом занять место как раз против него. Однако, в ту минуту, когда он хотел протиснуться в ряды сражавшихся, его остановил маршал своим жезлом. – Дайте нам лишнего рыцаря, маршал, так как с Вителлоццо Кастелло нужно сражаться двоим против одного – пошутил Лебофор. – Тогда, господин англичанин, – берите его себе на помощь, – сердито проворчал Вителлоццо, – так как я хочу сделать пробу своего меча именно на вас. – Нет, этого нельзя, – серьезно ответил на шутку Реджинальда маршал, – председатель судей, его светлость герцог Романьи, просит рыцаря святого Иоанна подождать вступать в бой, пока кто-нибудь из сражающихся не уйдет с арены, а до тех пор присоединиться к судьям. Альфонсо молча повиновался, он видел, что другого выхода нет. Чувствуя новый приступ необыкновенной слабости, он безучастно стал возле Цезаря. Вдруг он почувствовал на себе взгляд Лукреции, тревожно следившей за его мертвенно бледным лицом. Объяснив себе это тем, что Лукреция смотрит на него с целью узнать, какое действие производит на него подсыпанный ею яд, принц снова воспылал к ней гневом и ощутил новый приток сил. – Добро пожаловать, рыцарь печального образа! – обратился Цезарь к Альфонсо. – Если бы приличие позволило мне сражаться со своими гостями, то я непременно стал бы на вашу сторону из простой ненависти к женщинам, из-за которых я провел немало бессонных ночей. Теперь я понимаю, почему они вчера так смеялись, когда сир Реджинальд рассказывал о петушиных боях. Посмотрите, ведь этот турнир, в сущности – тот же петушиный бой из-за кур. Кстати, вы еще не приветствовали наших наседок, сидящих наверху на своем насесте. – Это было бы совершенно излишней вежливостью, – сухо ответил Альфонсо, – они смотрят на поле битвы. – Вперед, вперед! – раздался вдруг громкий возглас герольда, и рыцари ринулись друг на друга. Альфонсо видел, что среди нескольких десятков рыцарей, слетевших со своих седел, был и великан Вителлоццо, упавший на землю от удара англичанина. Реджинальд поскакал дальше, свалив еще трех соперников, и между ними Оливеротто. Вителлоццо в бессознательном состоянии унесли с арены. Оливеротто остался невредим. Поднявшись с земли, он снова вскочил на лошадь и бросился к Реджинальду, который размахивая мечом направо и налево, заставлял падать рыцарей, точно мух. Толпа восторженно приветствовала англичанина, ставшего в одну минуту ее любимцем. На него нападали со всех сторон. Отмахиваясь от налетевшего на него сзади, Реджинальд оглянулся и увидел Орсини, который тоже уже многих успел свалить на землю. Неизвестно, был ли Паоло ослеплен страстью, или непременно хотел заслужить славу человека, победившего англичанина, но он с бешеной отвагой бросился на Лебофора и так сильно ударил его прямо в грудь, что переломил свой меч на две половины. Англичанин зашатался, но удержался в седле и не возвратил удара. Затем он с рыцарской любезностью поклонился Паоло и, поскакав дальше, снова свалил на пути Оливеротто с поразительной легкостью. Это великодушие по отношению к Орсини и необыкновенная отвага вызвали бурю восторга. Лукреция растроганно смотрела на Реджинальда и громко произнесла: – О, мой Лебофор! Председатель судей, с удивлением отмечая необыкновенные подвиги Реджинальда, предложил ему на время выйти из рядов сражающихся, чтобы отдохнуть и собраться с новыми силами. Даже Лукреция и ее дамы просили англичанина пощадить себя, но он ответил, что не покинет поля битвы до тех пор, пока не раздробит всех трех мечей. Весь покрытый потом и пылью, он подъехал к дамам, чтобы поблагодарить их за участие. – С этой минуты я называю вас своим рыцарем. Вы действительно – рыцарь в полном смысле этого слова, – сказала Лукреция, приветливо обращаясь к Реджинальду! – Не только в Италии, но во всем свете нет равного вам. Возьмите мой платок, вытрите им пыль со своего лица, – и она протянула англичанину дорогой вышитый платочек. Однако, вместо того, чтобы исполнить приказание Лукреции, англичанин прижал сначала платок к губам, а потом обвязал его вокруг своего рукава. – Ну, теперь я непобедим! – воскликнул он. Борьба между тем продолжалась своим чередом. Теперь всеобщее внимание привлекал Орсини, показывавший чудеса храбрости и ловкости. Он чувствовал, что его удар, направленный на Лебофора, вызвал неудовольствие зрителей, и потому, чтобы привлечь к себе симпатии общества, сражался с отчаянной отвагой. Но вот герольды возвестили окончание первой части турнира. Оруженосцы бросились к своим рыцарям, чтобы помочь им переодеться, а служители начали приводить в порядок арену для следующей части поединка. Орсини встретился с Лебофором у ложи дам. Все представительницы прекрасного пола холодно приняли Паоло и были с ним сдержаны. Тогда он признал нужным исправить свой поступок по отношению к англичанину. Подойдя к Реджинальду, он протянул ему меч и проговорил: – Этот меч отнят вашим учеником специально для вас. Пусть он послужит доказательством моего раскаяния за удар вам, который был нанесен по какому-то печальному недоразумению. – Ваш удар, несмотря на всю его силу, не причинил мне боли, – ответил англичанин, – я страдал лишь от того, что вы нарушили слово. Ведь мы обещали щадить друг друга. Очень рад, что это оказалось недоразумением. В такой суете можно нечаянно напасть даже на своего отца. Буду стараться победить как можно больше людей этим мечом, и, само собой разумеется, что он ни разу не поднимется на того, кто мне его дал! Рыцари пожали друг другу руки, и печальный инцидент был улажен. Лакеи разносили вино и фрукты всем гостям папы. Лукреция заметила, что Альфонсо с ужасом отшатнулся от подноса, хотя по его лицу было видно, что он сильно нуждается в подкреплении. Пока шли приготовления ко второму поединку. Цезарь держал совет с герольдами, маршалами и всеми судьями о том, кого признать первым победителем. Единогласно пальма первенства была отдана Лебофору, а за ним следовал Орсини. Однако это не лишало их права сражаться и во втором турнире. Услыхав слова Цезаря, Альфонсо заявил о своем желании выступить тоже во втором турнире. – Если вы находите, что я не имею права на это, потому что отдыхал в то время, как другие тратили силы, то я могу предварительно скрестить свой меч с сиром Реджинальдом Лебофором. – К сожалению, и в этот раз, уважаемый рыцарь, количество сражающихся равное. Вам придется подождать, пока кто-нибудь выйдет из рядов участвующих, не нарушая своим выходом условий состязания. – Я уступаю свое место товарищу по оружию, – воскликнул Реджинальд, – и буду вознагражден за это лишение, оставшись здесь. – Прекрасно! Следовательно, Орсини суждено испытать на себе вашу ломбардскую храбрость, рыцарь святого Иоанна, – приговаривал Цезарь. Альфонсо волей-неволей пришлось согласиться на такую комбинацию, хотя она не соответствовала его цели. Взгляд, брошенный Лукрецией на его великодушного соперника, снова заставил Альфонсо почувствовать прилив силы, хотя до этой минуты он думал, что ему придется отказаться от состязания из-за все увеличивавшейся слабости. Второй турнир был, собственно, продолжением первого, только участвующие в нем боролись дольше и ожесточеннее. Альфонсо и Орсини, побуждаемые непрерывно устремленным на них взглядом Лукреции, показывали почти сверхъестественную силу и ловкость. Только мотивы были у обоих разные. Альфонсо объяснил себе исключительное внимание, которое проявила Лукреция к их борьбе, тем, что она ждет его поражения, и эта мысль выводила его из себя и придавала ему какое-то упрямое, отчаянное мужество. Орсини же хотел непременно доказать своей невесте, что он ничуть не хуже Лебофора. Оба, размахивая мечами, заставляли падать с лошадей всех рыцарей, вступавших с ними в борьбу. Наконец, случай свел их вместе. – Держись, иоаннит, – воскликнул Орсини, наскакивая на Альфонсо, – за Лукрецию и любовь! – За Пречистую Деву Марию и целомудрие! – возразил Альфонсо парируя удар Орсини. В следующий момент Паоло лежал распростертым на песке, а его взбесившаяся лошадь выскочила за пределы арены. Лебофор и оруженосцы упавшего бросились к нему на помощь, но Орсини успел уже подняться и, шатаясь, как пьяный, искал свою лошадь. Альфонсо громко, насмешливо засмеялся и с торжествующим видом взглянул на Лукрецию. Публика не одобрила поведения иоаннита, но он не интересовался ничьим мнением. Подобно сказочному герою, он побеждал всех, встречавшихся на его пути, и единогласно был признан первым победителем второго турнира. Орсини сидел в полном изнеможении в кругу дам и утешался сочувствием Лукреции и своего нового друга – Цезаря. В конце турнира Паоло хотел еще раз сразиться с Альфонсо, который стоял, опираясь на меч, посреди арены. – Нет, нет, синьор, этого нельзя! – быстро остановила Паоло Лукреция. – Вы успели отдохнуть, а иоаннит еле держится на ногах от усталости. Победа только тогда имеет значение, когда у противников одинаковые силы. – Наша сестра исполняет христианский долг, и я вполне согласен с нею, – заметил Цезарь, бросая на Орсини многозначительный взгляд. По правилам турнира, все трое победителей не должны были участвовать в третьем состязании. Это распоряжение было вполне целесообразно, так как рыцари имели очень утомленный вид. Когда оруженосец взял под уздцы лошадь Альфонсо, чтобы вывести ее из пределов арены, все заметили, что иоаннит склонился к голове лошади и с большим трудом выпрямился через несколько секунд. Неизвестно, из чувства ли сострадания, или для того, чтобы закончить свое злодейское дело, Лукреция послала феррарцу кубок вина. – Пресвятая Дева Мария подкрепит мои силы, и ни в чьей помощи я не нуждаюсь, – неожиданно ответил Альфонсо и вылил вино на песок. Между тем, началось третье состязание и шло чрезвычайно блестяще. Все три состязания заняли весь день, и Реджинальд с нетерпением смотрел на заходящее солнце. Наконец, рыцари третьего турнира сломали все свои мечи. Из пятисот человек, участвовавших в состязании, осталось только сорок, имевших право претендовать на приз. В число этих сорока вошли: Лебофор, Орсини и Альфонсо. Паоло поспешил к Цезарю с просьбой разрешить кончить турнир не мечами, а шпагами. – Нет, вы слишком озлоблены друг на друга, и дело может окончиться убийством. Поэтому, пока у каждого из вас имеются другие противники, вы трое не имеете права сражаться между собой, – ответил герцог. Орсини не мог скрыть свое неудовольствие, и пробормотал: – Вы покровительствуете феррарскому посланнику. Он победил меня не мечом, а потому, что моя лошадь испугалась его черного одеяния. – Тише, друг мой! – чуть слышно прошептал Цезарь. – Посмотрите на этого проклятого иоаннита, он и так еле дышит и ежеминутно меняется в лице. Вам не трудно будет одолеть его, когда настанет время. Кроме того, кто мешает вам приделать к своему мечу острие, и проткнуть ему сзади спину, как вы это делаете, охотясь на буйволов? Дав возможность сражающимся несколько отдохнуть, герольд возвестил начало последнего состязания. Все окружающие с напряженным вниманием следили за тем, чем окончится решительный момент, – кто возьмет приз. На высоком пьедестале стоял футляр с венком. Все рыцари собрались на арене, кроме Альфонсо. Уже два раза оруженосец напоминал своему рыцарю, что его вызывают. Тогда принц поднял олову, точно очнувшись от сна, и медленно выехал на арену. Борьба началась. На Альфонсо налетел французский рыцарь и сорвал своим мечом шлем с его головы. Ничего не понимающим взглядом иоаннит осмотрелся вокруг. Его лицо, и без того бледное, казалось еще бледнее от обрамлявших его черных, как вороново крыло, волос. Раздался слабый женский крик. Не надевая шлема, который оруженосец быстро поднял, Альфонсо двинулся вперед, и свалил на землю француза и двух других рыцарей. Лебофор и Паоло превосходили самих себя в геройской отваге, но и сопротивление было велико. Куски изорванной одежды, обломки раздробленных мечей и пятна крови покрывали песок. Многие рыцари падали в полном изнеможении и не в состоянии были больше бороться. Даже Цезарь несколько раз тревожно приподнимался со своего места, чтобы прекратить состязание. У него был прекрасный повод для этого, так как один рыцарь не был в полном вооружении, что нарушало правила борьбы. Этот рыцарь был Альфонсо. Несмотря на неоднократно повторенные просьбы своего оруженосца надеть шлем, феррарец ничего не слышал и, размахивая мечом, лез в самый центр свалки. Лукреция попросила брата прекратить состязание, и что-то в ее тоне показалось Цезарю настолько забавным, что он разразился громким смехом и из-за этого не успел ничего сказать. Кроме трех рыцарей, не имевших права сражаться друг с другом, на арене остались только шесть человек. Не помня себя от бешенства, они все бросились друг на друга в ожесточенной схватке. После минутного молчания, вызванного всеобщим удивлением, поднялся оглушительный шум, но он затих, когда зрители увидели, что произошло дальше. Бледное лицо Альфонсо вспыхнуло, глаза засверкали и звонким голосом он закричал: – Ну, английский мальчишка, посчитаемся теперь с тобой. – Нет, ломбардец, я не стану сражаться с тобой. Может быть, мой брат Орсини пожелает проучить тебя! – резким тоном возразил Лебофор. – Нет, я хочу состязаться только с тобой. У меня есть сила только для тебя. Я уже положил раз Орсини на землю, повторять то же не стоит труда. Но ты, английский рыцарь, ты – трус, говорю это громко, в присутствии твоей возлюбленной. Ты – трус, раб, на которого плюют, который... Однако Альфонсо не успел окончить свою фразу, потому что Лебофор, пришпорив свою лошадь, ринулся на него. Англичанин не заметил в пылу раздражения, что Орсини, задетый замечанием феррарца, тоже бросился на рыцаря святого Иоанна. Напрасно кричала толпа, что двое не могут нападать на одного. Тщетно маршалы и герольды старались прекратить борьбу, – последний час Альфонсо пробил. Он бессильно свалился с лошади и растянулся на песке. Его черные волосы окрасились кровью, лившейся струйкой из маленькой раны, нанесенной сзади. Он лежал неподвижно, без дыхания, как мертвец. (обратно)ГЛАВА XVI
После турнира Альфонсо в течение многих дней находился в бессознательном состоянии. Потом ему представлялось точно в тумане, что его подняли вскоре после того, как он упал, и быстро понесли куда-то. Холодный, влажный воздух, бывающий поблизости от реки, несколько освежил его. Затем все снова потонуло во мраке. Несколько раз, когда он открывал глаза, ему казалось, что его окружают какие-то незнакомые лица и среди них закутанная до самых глаз монахиня, смазывающая его раны. Вот все, что осталось в воспоминаниях Альфонсо, когда он окончательно пришел в себя. С большим удивлением разглядывал он роскошную постель, обитую бархатом, и белые атласные подушки, на которых он лежал. На стенах висели гобелены, на которых были изображены любовные сцены. Потолок украшала художественная живопись с изображением Гименея, окруженного богами любви, которые бросали Цветы на его ложе. Невдалеке от кровати сидел Бембо и сочинял оду, посвященную Лукреции. Заметив сознательный взгляд своего властелина, он быстро вскочил со своего места, подошел к нему и, умоляя Альфонсо поменьше разговаривать, рассказал ему, что, по приказанию папы его перенесли в Ватикан. – Его святейшество постоянно осведомляется о состоянии вашего здоровья, – продолжал Бембо, – он присылает каждый день четырех хирургов, а перевязки вам делают старшая кормилица донны Лукреции и сердобольная сестра-монахиня, которая посвятила себя уходу за больным и утешению страждущих. Я обязан каждый день докладывать донне Лукреции о том, как вы себя чувствуете. Даже отец Бруно приходил несколько раз сюда, предлагая свою духовную помощь. Альфонсо выразил подозрение, что Бембо умышленно выдал, кто он такой, но тот так горячо уверял его в обратном, что больной не мог не поверить ему. – А кто из тех двух презренных рыцарей, предательски накинувшихся на меня, получил приз? – спросил Альфонсо с горячностью. – Нет, мой благородный господин! Сир Реджинальд плакал, когда увидел, что произошло. Все утверждают, что это нападение двоих на одного было лишь печальной случайностью, а не сделано умышленно. Как только Лебофор встречает меня во дворце, он говорит о вас с нежностью, как о родном брате. Мне кажется, что и Орсини очень жалеет о вашем несчастье. Что касается приза, то пока никто не получил его. Герцог спрятал приз до вашего выздоровления. – Ты говоришь, что встречаешь англичанина во дворце? Следовательно, он часто навещает донну Лукрецию? Мне кажется, что она смеялась громче всех, когда я упал? – Она не могла смеяться ни громко, ни тихо, с ней моментально сделался обморок. – Она боялась за своего любимца! – с горькой улыбкой заметил Альфонсо. – Кто ее любимец, я не знаю, но несомненно, в ту минуту она беспокоилась только о вас. Она даже распорядилась, чтобы прекратили турнир, пока врачи не сказали, что вы находитесь вне опасности. Маленький грек заявил, что ваше состояние вызвано не сотрясением мозга при падении, а мудрой заботливостью самой природы, потому что неподвижное положение было необходимо для быстрейшего заживления такой опасной раны. – Удивительно, как проницателен этот врач! – насмешливо заметил Альфонсо, вспомнив о яде, поднесенном ему Лукрецией. Надеюсь, я теперь скоро поправлюсь и, как только я отомщу англичанину, так в тот же день мы уедем из Рима, благословляя Бога за то, что отделались еще сравнительно счастливо. – Тогда лучше уедем сейчас, синьор. Вам совершенно не за что мстить сиру Реджинальду! – возразил Бембо. – Ты в этом уверен? А я наоборот, думаю, что они смеются между собой, когда вспоминают об этой истории! – Врачи будут бранить меня за то, что я позволяю вам так волноваться! – проговорил Бембо. – Я слышу шаги. Держу пари, что это они идут сюда. Он ошибся – в комнату входил отец Бруно. На бледном лице монаха не было следа воспоминания о последнем свидании с Альфонсо – он только боялся встретиться с ним взглядом. Во всем же остальном его обращение было проникнуто нежным состраданием. Он сел у постели больного и пощупал его пульс, причем заявил, что обладает некоторым врачебным опытом. – Пульс еще не совсем спокоен, но видно, что силы возвращаются, – задумчиво проговорил он. – Если я не ошибаюсь, то ваша душевная рана сильнее телесной. Может быть, я могу облегчить ее? Монах взглядом пригласил Бембо оставить его с больным наедине. – Нет, отче, я не могу уйти от своего друга ни на минуту, – ответил Бембо. – Я это обещал нашей доброй монахине. – Монахине? Разве за вами ухаживает какая-нибудь монахиня, синьор? – Да, я же обязан наблюдать за тем, чтобы больному давались только те лекарства, которые сердобольная монахиня приготавливает собственноручно, под наблюдением врачей! – ответил Бембо, подозрительно глядя на доминиканца. – В самом деле? В таком случае, я должен сказать вам в присутствии третьего лица, чтобы вы были осторожны, рыцарь святого Иоанна. И, не доверяйте своих ран неловким, или – вернее сказать – слишком ловким рукам этой женщины. Я знаю случаи, когда совершенно невинные раны становились при ее помощи гангренозными. – С тех пор, как мы виделись в последний раз отец Бруно, я убедился, что ваши предупреждения так же верны, как крик ворона, – взволнованно проговорил Альфонсо, приподнимаясь с подушек. – Меня не удивит, если меня убьют среди всего этого великолепия. Ведь поднесли же мне яд в виде прекрасных плодов и дорогого вина. Этот яд и был причиной моего позора. – Этого не может быть! – быстро воскликнул монах. – По всей вероятности, вам дали сонное питье, чтобы помешать присутствовать на турнире, оберегая вас же. Я что-то слышал об этой истории. Теперь же я умоляю вас как можно скорее уехать из Рима. – Вам не причиняет боли та мазь, которая лежит на вашей груди, синьор? – спросил принца Бембо, встревоженный словами монаха. – Ничуть! Она наоборот, так успокоительно действует на меня, точно ее приготовила сама любовь! – Вот видите, и от нее удивительно быстро заживают раны! – воскликнул обрадованный Бембо. – Не знаю, что вы говорите о яде, но я готов поклясться, что монахиня, омывающая ваши раны своими слезами, не кто иная, как сама донна Лукреция. Я узнал это по ее руке несравненной красоты, а также по дорогому смарагду в ее кольце, которое она в тревоге забыла снять с пальца. – Неужели? – воскликнул Альфонсо и вопросительно взглянул на монаха. – То же самое было с принцем Салернским, я его тоже предостерегал заранее! – ответил отец Бруно, поднимаясь с места. – Помни одно, сын мой, если эта капризная женщина желает во что бы то ни стало восстановить твои силы, то есть некто, который по этой самой причине, не задумываясь, уничтожит тебя. У входа послышались шаги, а в следующую минуту дверь открылась, и у входа показались четыре врача, в том числе и карлик-грек. За ними следовали монахиня, покрытая густой вуалью, и почтенная матрона в черном одеянии, в которой Альфонсо узнал Фаустину. Бруно остановился и устремил на монахиню пронизывающий взгляд. Она слегка поклонилась и подошла к постели больного. Маленький грек приказал снять с груди раненого повязку, но, когда монахиня прикоснулась к одеялу, чтобы приподнять его, Альфонсо оттолкнул ее руки и произнес: – Нет, добрая сестра, не беспокойтесь!.. С тех пор, как одна женщина хотела отравить меня, я питаю ужас к прикосновению нежных женских рук. – Вас хотели отравить, синьор? – испуганным голосом спросила монахиня. – Если бы не это обстоятельство, я не был бы здесь, – ответил Альфонсо. – Тогда меч союзника Орсини не свалил бы меня, и я не стал бы посмешищем для всех Борджиа. Не прикасайтесь ко мне, если не хотите снять свою вуаль! Откройте лицо, дабы я мог убедиться, что ты не имеешь ничего общего с моими врагами. – Рыцарь бредит – сказала монахиня смущенным голосом. – Наше присутствие вызывает, кажется, лихорадочное состояние. Уйдем, Фаустина! Бруно показалось, что монахиня зашаталась. Он бросился к ней, чтобы поддержать ее, но она гордо выпрямилась и быстро вышла из комнаты, сопутствуемая Бруно. Врачи сами сделали перевязку и ушли, еще раз напомнив о том, что больной нуждается в полнейшем покое. Однако, Бембо был слишком взволнован для того, чтобы исполнить это приказание. По его просьбе Альфонсо рассказал о том, что он почувствовал, съевши фрукты и выпив вино, присланное Лукрецией. – Неужели под видом такого ангела может существовать дьявол? – с негодованием произнес Бембо, – теперь мне понятно то, что сказал Бурхард. «Кто бы подумал, – проговорил он, – что через месяц после такой веселой свадьбы новобрачный будет лежать мертвым на этой самой постели? Его, как оленя, загрызли собаки, после того, как стрела охотника не нанесла ему ни одной смертельной раны». – Ах, он сказал это? По чьему же приказанию меня положили в эти злополучные комнаты, где был убит несчастный принц Салернский, супруг Лукреции? – произнес Альфонсо. – По приказанию Лукреции, и я считал это большой честью для нас, – ответил Бембо, пугливо оглядываясь. – Я думаю, что это помещение очень удобно для некоторых таинственных целей. Вероятно, после того, как вы отыскали еврейку, знающую, как погиб герцог Гандийский, вы вряд ли приятны Цезарю и Лукреции. Дай Бог, чтобы, находясь под крышей Ватикана, мы узнали, наконец, правду. – Нельзя ли сделать этого Бурхарда более словоохотливым? – спросил Альфонсо. – Ты говоришь, он часто приходит сюда по поручению папы? Что, если мы предложим ему выпить и закусить вместе с нами? – Это, во всяком случае, будет не лишней предосторожностью, хотя, может быть, для вас опасно знать слишком много, – ответил Бембо. – Я хотел бы знать столько, сколько нужно для того, чтобы уничтожить мои сомнения. Вечером у дверей комнаты Альфонсо тихо постучали. – Войдите! – сказал Бембо. Дверь открылась, и показался церемониймейстер Бурхард в сопровождении двух пажей, принесших лампы. – Как вы себя чувствуете, синьор? – добродушно спросил церемониймейстер. – Я пришел не от его святейшества, а от донны Лукреции, которая не хочет, чтобы началась сарабанда, пока она не получит утешительных вестей о вашей болезни. – Кроме небольшой слабости я чувствую себя очень хорошо, – веселым тоном ответил Альфонсо. – Прошу вас передать донне Лукреции мою нижайшую благодарность. Если вы не очень спешите, синьор Бурхард, то, может быть, согласитесь доставить мне большое удовольствие, побеседовав немного со мной? – О, с удовольствием! Со стороны донны Лукреции это – простая вежливость. Если бы я немедленно вернулся, то, несомненно, застал бы нашу красавицу танцующей сарабанду с сиром Реджинальдом. Он теперь – кумир дам. Говоря это, Бурхард взял стул и сел невдалеке от Альфонсо. – Что, Бембо, есть у нас вино, которое пришлось бы по вкусу господину церемониймейстеру? – Нет, нет, не беспокойтесь, вам нельзя пить ни капельки вина! – возразил Бурхард, сам не отказываясь от предложения. – О, теперь можно! – шутливо заметил Альфонсо. – Бембо знает какое-то магическое слово, по которому мы можем получить все, что нам угодно. Бембо оправдал доверие своего повелителя, и на столе появился рейнвейн, любимый напиток церемониймейстера. – Пью от всего сердца за ваше быстрое выздоровление, почтеннейший рыцарь! – проговорил Бурхард, залпом опорожняя стакан. – Прекрасное вино, точно только что полученное с Рейна! При моей хлопотливой должности иногда необходимо подкрепиться. Ах, вы не знаете, как трудно поддерживать порядок в этом доме. Я буду очень счастлив, господа, если могу быть вам чем-нибудь полезен. Пейте, брат каноник. Только, кажется, вы предпочитаете кипрское вино? Может быть, вам что-нибудь угодно, господин рыцарь? – Нет, благодарю вас, – ответил Альфонсо. – Мне даже слишком хорошо под вашей гостеприимной кровлей. Я боюсь, что изгнал кого-нибудь из этого помещения. Такие покои скорее были предназначены для влюбленного новобрачного, чем для раненого рыцаря. – Вы правы и не правы, синьор, – с глубокомысленным видом сказал Бурхард. – Во всяком случае вы никого не изгнали, так как со дня смерти принца Салернского здесь никто не жил. – Он был мужем дочери его святейшества? – небрежно спросил Альфонсо. – Его племянницы! – поправил церемониймейстер. – Да, но он любит ее как дочь и даже гораздо больше! – невинным тоном возразил принц. – Да, это верно. Его святейшество советуется с ней даже в делах церкви. Нередко в его отсутствие всем управляет донна Лукреция. Нужно сознаться, у нее больше ума, чем у многих кардиналов. Я сам видел, как она плела золотые кружева и управляла всем городом. Все это прекрасно, но, как хотите, все же скандал! Бурхард вообще был счастлив, когда с ним вели беседы, а вино еще больше развязало ему язык. Поэтому он стал сыпать анекдотами из жизни папы и всего двора. Для Альфонсо было особенно интересно то, что он рассказывал об отношении папы к своей дочери и о предполагаемом браке Лукреции с Орсини. По словам церемониймейстера, желание Александра выдать замуж дочь за главу мятежного дома служило доказательством неладов между ним и Цезарем. – Вы думаете, что принца Салернского для того и убили, чтобы освободить место для синьора Паоло? – с деланным спокойствием спросил Альфонсо. – Какие-то неизвестные лица тяжко ранили принца на ступенях церкви Святого Петра! – ответил церемониймейстер, испуганный смелым вопросом. – Но стоит ли говорить об этом? Я думаю, не лишним будет напомнить вам, что в левом крыле этой башни живет донна Лукреция со своими фрейлинами, У женщин, как вам известно, слух очень тонкий. – В самом деле? Раз известно, что принц убит, – снова начал Альфонсо после некоторого раздумья, – то вы, как человек ученый, конечно, можете ответить, кому нужно было это убийство. – Я далеко не так учен, как говорят, – скромно возразил Бурхард, – но все же одно могу сказать вам, синьор, Орсини тут не при чем. Ему тогда и во сне не снилось стать зятем папы. – А у нас, в Ломбардии, рассказывают, что принц Салернский умер не от ран, а был задушен в своей собственной комнате, в Ватикане. – Да, это – правда, он умер внезапно. Я сам видел его за несколько минут до его смерти вот на этой кровати и не успел оглянуться, как его уже не стало. – Как же это случилось? Ведь он уже почти оправился от ран – спросил Альфонсо. – Хе-хе, вы, кажется, побаиваетесь того же? – шутливо проговорил церемониймейстер, видя, с какой тревогой ждет Бембо его ответа. – Много рассказывают разных историй по этому поводу, да нельзя всему верить. – Должен вам сознаться, что воспоминание об убийстве принца в этой же самой комнате и на этой постели не внушает и мне большого спокойствия! – заметил Альфонсо. – Могу себе представить это! Я могу сказать вам только то, что знаю, – доверчивым тоном сказал церемониймейстер, облокотившись на постель Альфонсо. – Я видел сам пять ран на теле молодого принца Салернского, нанесенных стрелами, мечом и острым ножом. – После этого он жил еще месяц? – спросил Альфонсо. – Да, целый месяц! Его ранили за час до захода солнца пятнадцатого июня, а восемнадцатого июля задушили. – Вы говорите «задушили?» – прервал его Альфонсо. – Ах, что за вздор я болтаю! – испуганно воскликнул Бурхард густо покраснев. – Да, так вот, синьор, восемнадцатого июля я пришел к принцу, чтобы, по поручению папы, узнать, как он себя чувствует. Принц был в очень веселом настроении, потому что отец Бруно принес ему привет от донны Лукреции, хотя она сделала это по приказанию папы. Сама она не очень любила своего супруга. Да, правда, он был очень грубый юноша! Пока отец Бруно и я разговаривали с принцем, пришел один человек с тайным поручением от его святейшества. Мы с отцом Бруно вышли, а с принцем остались лишь дон Мигуэль и врач-грек. Мы вышли в дверь, ведущую в гостиную, и, чтобы никто не подумал, что мы подслушиваем, забрались в противоположный угол комнаты. Вдруг отец Бруно схватил меня за рукав и спросил, не слышу ли я крика о помощи. Я ответил отрицательно. Тогда он выразил удивление, почему его святейшество избрал для тайного поручения не кого-нибудь из своих придворных, а доверенного герцога. Затем, он подошел на цыпочках к двери, чтобы узнать, что с принцем, но несчастный был уже при последнем издыхании. Дон Мигуэль и врач наклонились к нему для того, чтобы расстегнуть ему воротник. Оба были так испуганы припадком принца, что даже не могли позвать нас на помощь. Отец Бруно исчез куда-то, а я был такпоражен, что очнулся лишь тогда, когда меня позвали. В это время бедный принц уже был мертв. – Значит, его убил Мигуэль, пешка в руках Цезаря! – Нет, – испуганно возразил Бурхард, – дон Мигуэль сказал, что передал поручение его святейшества и сейчас же ушел, а доктор-грек Гоббо подтвердил все его слова. Ну вот, очень рад, что рассеял ваши подозрения по поводу смерти принца, – прибавил церемониймейстер, поднимаясь с места. – А теперь позвольте откланяться. Донна Лукреция может спросить, вернулся ли я. Бембо с большим нетерпением ждал, что скажет его повелитель по поводу разоблачений, сделанных церемониймейстером. К его величайшему изумлению Альфонсо гораздо больше обвинял в убийстве принца Салернского Цезаря, чем папу, и совершенно исключал участие Лукреции. В доказательство того, в какой мере Лукреция ненавидит своего брата, Альфонсо рассказал Бембо свое приключение в гроте нимфы Эгерии. Бембо был так поражен всем тем, что видел и слышал, что, перед тем, как лечь спать, осмотрел все углы и щели. Однако ночь прошла спокойно, но зато утром они услышали недобрые вести. Разнеслись слухи, что в городе поднялось восстание, вызванное приездом одного из семьи Колонна, которому покровительствовал неаполитанский король. Под видом посланника этого короля Колонна и явился в Рим. Пользуясь случаем, он поднял на ноги всех своих римских приверженцев. Тотчас же, чтобы поставить папу Александра в еще более затруднительное положение, Орсини потребовали, чтобы он немедленно назначил день свадьбы Паоло с Лукрецией. Убедившись, что Лукреция не принимала участия в убийстве принца Салернского, Альфонсо почувствовал некоторое облегчение, но утром пришел Бурхард от имени Лукреции, и снова возбудил целую бурю в душе больного. Церемониймейстер объявил, что донна Лукреция желает полнейшего выздоровления рыцаря святого Иоанна и надеется, что он скоро братски обнимет в ее присутствии Лебофора. Еле сдерживая свое волнение, Альфонсо спросил, будет ли в тот день прием у папы, и собирается ли донна Лукреция присутствовать на нем, а когда получил утвердительный ответ, то по уходе врачей заявил Бембо, что желает быть на приеме. По тону своего повелителя Бембо убедился, что его решение непоколебимо, и не пытался даже отговорить Альфонсо от его затеи. Когда же тот потребовал, чтобы Бембо пошел к Лебофору и сообщил ему о желании Альфонсо повидаться с ним в присутствии папы и всего двора, Бембо начал горячо убеждать своего повелителя не делать этого. – Не беспокойся, ничего дурного не произойдет! – ответил Альфонсо на все его просьбы. – Фаворит Лукреции думает, что я нежно обниму его и прижму к тем ранам, которые он нанес. Увы! Ему придется горько разочароваться. (обратно)ГЛАВА XVII
В то время как Бембо с тяжелым сердцем направлялся к Реджинальду Лебофору, Цезарь провожал двух закутанных друзей по черной лестнице во дворце Колонна, где он жил. Заперев все двери и спрятав ключ в карман мундира, Цезарь услышал звонок, извещавший о приходе третьего гостя. Это был дон Мигуэль. Его лицо было мрачно, сердито. – Ну, что говорит моя красавица? – спросил Цезарь. – У тебя такое кислое лицо, которое совершенно не подобает для любовных переговоров. Я знаю, она наверно желает, чтобы я посетил ее, – засмеялся Цезарь. – Но это совершенно невозможно. Я делаю ей большое одолжение, не соглашаясь на ее просьбу. Она зашла слишком далеко, желая узнать, настолько ли я люблю ее, чтобы ревновать. Как видишь, я настолько ревнив, что даже не желаю видеть ее. – Может быть, синьор, было бы лучше для вас, если бы вы вернулись к ней, так как ваша любовь – великое зло для всех наших планов! – решительно ответил Мигуэлото. – Не знаю, можно ли назвать злом полный успех, – весело возразил Цезарь. – Однако, хотя ты сегодня более дерзок, чем обыкновенно, я не сержусь на тебя и даю тебе новое поручение. Она сегодня же должна уехать из Рима. Я приготовил ей прекрасных лошадей и соответствующий экипаж. Все это пойдет в подарок султану вместе с Фиаммой, как тебе известно. – Это вы делаете для того, чтобы вызвать гнев Колонны? – с удивлением спросил Мигуэлото. – Да, это вызовет их гнев и, кроме того, Фиамма почувствует себя настолько оскорбленной, что пожелает мстить мне, а это тоже входит в мои планы. Ну однако, довольно об этом! Скажи, ты не был удивлен, увидев такое избранное общество в замке Святого Ангела? – Все главари черной банды! Мне непонятно, какая магическая сила помогла вам склонить их на свою сторону? – Я обладаю такой силой. Она действует на многих, между прочим, и на тебя. В чем тут секрет, я расскажу тебе когда-нибудь в другой раз. Во всяком случае результаты уже имеются налицо. Оливеротто возбудил видимое неудовольствие. Вителлоццо ничего так не желает, как покинуть поскорее Рим, и с трудом ждет, пока окончится сегодняшняя суета. Меня только удивляет, что Савватий не подает признаков жизни. – Это – несомненно обманщик. Он, вероятно, боится, что вы накажете его за донну Фиамму, – неуверенно ответил Мигуэлото. – Между тем, мне очень хотелось бы видеть его. Я готов отдать тысячу золотых тому, кто найдет его. – Можно попытаться, синьор, поискать его! – Люди думают, что мое солнце уже заходит, а между тем, оно только что показалось на горизонте! – задумчиво проговорил Цезарь. – Я только не понимаю, почему ты сомневаешься в успехе? Ты, очевидно, считаешь, что для нас все потеряно с того момента, когда на сцене появилась Мириам? Успокойся, еще никогда у нас не было лучшего положения. – Несмотря на то, что французы, испанцы, феррарцы, Орсини, Колонна, папа и донна Лукреция поворачиваются к нам спиной? – возразил Мигуэлото, пожимая плечами. – Все это очень хорошо. Уверяю тебя, что они – марионетки в моих руках. Стоит мне потянуть ниточку – и они пойдут в ту сторону, в какую я захочу. Испанцы и французы под моим влиянием открыто восстали, я посоветую папе разделить между ними Неаполь. Это вызовет кровавые распри, что тоже входит в мои планы. Это я заставил неаполитанцев прислать сюда Колонну. Орсини совершенно одурачены мной. Сегодняшним требованием они навсегда потеряют связь с папой и, конечно, браку Паоло с моей сестрицей не бывать никогда. Что касается Лукреции, то она так возбуждена дерзким пренебрежением иоаннита, что во что бы то ни стало хочет влюбить его в себя. – Следовательно, ему нужно умереть, синьор? – Конечно!.. Не может же он жить вечно! Но нужно подождать, пока Лукреция настолько влюбится в него, что откажется как от брака с принцем Феррарским, так и от всякого другого. Вследствие этого я и поддерживаю ее фантазию, все время строго следя за тем, чтобы из-за этого каприза не произошло ничего бурного, чтобы он не зашел слишком далеко. В мое отсутствие за ней будет присматривать Фаустина. При малейшем намеке на опасность нужно будет тотчас же сообщить папе об истинных намерениях дикого ломбардца. Тогда его немедленно вышлют из Рима или другим образом совершенно обезопасят его. Я имею в виду и еще кое-что. Нотта и Морта рассказывали мне, что Лукреция, напоив феррарца снотворным, хотела помешать ему принять участие в турнире. Очень хорошо, что она решила прибегнуть к таким средствам. Постоянно раздражая ее самолюбие рассказами о пренебрежительном отношении к ней иоаннита, можно довести ее до того, что она сама отравит своего рыцаря. Ну, значит, все отлично. Нам нужно удалить только еще одно препятствие с нашего пути, а именно, духовника Лукреции. Как я слышал от Фаустины, этот монах настаивает, чтобы моя сестра в виде покаяния сама призналась папе в своей любви к феррарцу. Лукреция пока упорно отказывается от этого, но, я знаю, она не устоит перед продолжительным гневом монаха. Следовательно, нам нужно или отделаться от него, или посвятить его в свои планы. Я предпочитаю первое. Да, мне кажется, и для него будет безопаснее уехать из Рима, ведь Орсини страшно возмущены проповедью Бруно и будут сегодня жаловаться на него папе. Скажи пожалуйста, как ты думаешь: не любит ли отец Биккоццо поболтать о своем господине? – Вы знаете, синьор, что мы неоднократно получали от него очень ценные сведения. – В таком случае, нужно пригласить его в замок Святого Ангела и постараться, чтобы он в присутствии скрытых свидетелей рассказал, что говорит доминиканец о браке Орсини с Лукрецией. Однако, пора окончить этот разговор. У тебя есть свое дело, а у меня тоже дел немало. Отпустив своего наперсника, Цезарь отправился к папе. Он умышленно явился в тот момент, когда весь двор уже был в сборе. Александра окружали высшие должностные лица. У огромных позолоченных дверей стояла Лукреция со своими дамами и несколькими благородными рыцарями, среди которых находился Реджинальд Лебофор. Зоркий взгляд Цезаря быстро нашел Альфонсо, затерявшегося среди толпы. Иоаннит сменил свое обычное черное одеяние на ярко-красное. К своему величайшему удовольствию, Цезарь заметил, с какой ненавистью Альфонсо посмотрел на группу, стоявшую у позолоченных дверей. Посредине комнаты заняли место Орсини со своими приверженцами. Прихода Цезаря, очевидно, ждали, и все переглянулись, увидев, как нежно он обнял Паоло. Когда Цезарь сел на свое место рядом с папой, последний сделал церемониймейстеру знак ввести неаполитанского посланника, Фабрицио Колонна. Фабрицио вошел один, наморщив брови и крепко сжав губы. Это были единственные признаки, выдававшие его волнение при виде своего злейшего врага. – Синьор Фабрицио Колонна, – резко проговорил папа, заметив, что посланник долго колебался, прежде чем решился стать на колени, – надеюсь, что поручение, данное вам, окажется более лояльным, чем лицо, которому его вверили. – Я теперь – только посланник короля неаполитанского, а не Фабрицио Колонна, – ответил храбрый солдат, быстро вскакивая с колен. – Я пришел к вашему святейшеству от имени вашего верного вассала, короля дона Федерико, с жалобой. Вы поддерживаете французов в их намерении овладеть поместьями, принадлежащими неаполитанскому королю. В особенности поощряет французов в этом деле герцог Романьи. Действительно, герцог, вы оставили нас в самом затруднительном положении, тогда как мы рассчитывали на вас, согласно вашему обещанию. – Я ответственен только перед его святейшеством за свои поступки, – высокомерно ответил Цезарь. – Считая себя вассалом и другом французского короля, я уеду к нему, как только будет возможно, и лично извинюсь за доставленные ему неприятности. Последние слова герцога вызвали шепот удивления всех присутствующих. – Кроме устного поручения короля неаполитанского, я имею к вашему святейшеству еще письмо от могущественного испанского короля, близкого родственника моего повелителя. Может быть, по прочтении этого письма герцог Романьи откажется от своей поездки. Синьор Датарий, вы хорошо разбираете всякие почерки. Пожалуйста, прочтите это письмо вслух. По знаку герцога, Датарий вскрыл шелковый конверт и прочел содержание послания. Испанский властелин упрекал папу за измену в пользу французов, объявлял, что всеми силами будет защищать интересы неаполитанского короля, и в заключение просил папу Александра сделать Цезаря снова духовным лицом, так как, обладая светской властью, он является виновником всех недоразумений, смут и раздоров. – Что же тогда будет с моей молодой супругой, если я по желанию испанского короля стану монахом? – серьезным тоном спросил герцог Романьи, чем вызвал общий смех. – Я стараюсь не забыть, что вы – лишь посланник, синьор Фабрицио. Пожалуйста, говорите скорее все, что вам поручено сказать мне! – с трудом скрывая гнев, заметил папа. – Остальное менее важно, – возразил Фабрицио, – я только обращаюсь к вашему правосудию относительно двух пунктов. Первый касается женщины, к сожалению, носящей имя Колонна. Это – Фиамма Колонна, бывшая монахиня. А второй касается наших имений, насильно отобранных у нас. – Господи, неужели ты, чудовище, еще не насытился кровью, которую твоя партия пьет из каждой поры этой несчастной страны? – воскликнул папа. – Ты жаждешь еще крови, льющейся в жилах несчастного создания? Прочь с глаз наших!., уезжай как можно скорей из Рима!., ты больше – не посланник, а низкий предатель. – Нет, ваше святейшество! Даже мы, Орсини, униженно просим вас вернуть наследникам Колонна отобранное у них имущество! – проговорил герцог Гравина, и положил по обыкновению, свою руку на эфес меча. – Мы желаем, чтобы вы наложили повязку на раны нашей страны, а Рим истекает кровью от раны, нанесенной Колонна. Александр был поражен этим доказательством союза между двумя давно враждующими домами и воскликнул: – Это – нечто новое: Колонна и Орсини дружески протягивают руки, союз тигра и волка! Впрочем, я и забыл, что у вас общие интересы. Вам хочется заполучить добычу, хотя бы для этого понадобилось разорвать ее. – Ваше святейшество, мы просим вернуть Колонна их имущество имея в виду только их интерес, – вмешался в разговор герцог Урбино. – Что касается нас, то мы желаем только мира с вами, который мы уже заключили с герцогом Романьи. В залог наших добрых отношений мы почтительнейше просим вас немедленно назначить свадьбу донны Лукреции с нашим горячо любящим ее Паоло. – Лукреция сама ответит вам на вашу просьбу, – возразил Александр и жестом руки подозвал к себе дочь. – Вы думаете, что можно насильно тащить к венцу женщину? – Конечно, нельзя требовать, чтобы вы высказались беспристрастно на этот счет! – как бы подчеркивая затаенный смысл грязных слухов о папе и Лукреции, – заметил Фабрицио. Лукреция подошла к отцу с видом разгневанной богини. Она поняла намек Колонны и бросила на него взгляд, полный глубокого презрения. – Я здесь, святой отец, и всегда готова беспрекословно исполнить каждое твое желание, за исключением того, против которого восстает мое сердце, – проговорила она нежным, но решительным тоном. – Позволь мне, святой отец, удалиться в какой-нибудь монастырь. Тогда я, по крайней мере, не буду причинять тебе ни столько забот, ни столько огорчений. – Если вы пожелаете исполнить эту просьбу, что конечно только шутка со стороны донны Лукреции, то дадите нам повод заключить, что вы умышленно подавали нам ложные надежды с целью склонить нас на свою сторону. Без этого брака, на который я имею полное право, согласно данному вами слову, никто из нас – ни Орсини, ни Вителлоццо, ни Урбино – не признаем вашей власти! – воскликнул Паоло Орсини, злобно сверкая глазами. – Совершенно верно, – подтвердил Вителлоццо. – Вы слишком часто обманывали нас, а потому мы уже давно перестали верить вам. – Мы не доверяем вам на основании фактов, которые видим перед своими глазами, – снова заговорил Паоло. – В вашем присутствии и по вашему приказанию монах читал проповедь против нас. Сама донна Лукреция не станет отрицать, что уже несколько раз назначала тайные свидания посланному из Феррары. – Что вы скажете в свое оправдание, прекрасная сестрица? – шутливо спросил Цезарь, как бы не придавая никакого значения словам Паоло. – Молчи, дерзкий мальчишка! Послушаем, что скажет, наша племянница, – остановил его папа и устремил пронизывающий, недоверчивый взгляд на Лукрецию. Красавица изменилась в лице, и вся задрожала. Боязнь за жизнь иоаннита, который, несомненно, погиб бы, если бы папа узнал об истинной цели его приезда, а еще более о чувствах своей дочери к нему, заставляла молодую женщину признать обвинение правильным, ведь никакого другого выхода у нее не было. – Действительно, из Феррары приезжал в Рим какой-то посланный с поручением ко мне, но я так мало придала значения его словам, что даже не нашла нужным беспокоить его святейшество по этому поводу. Синьору Орсини тоже не было никакого основания тревожиться! – смущенно ответила Лукреция. – Что же это за посланный? Где он? – спросил папа. Цезарь посмотрел на Орсини так, точно хотел ему сказать: «Видишь, как он умеет притворяться!» – Я обещала не выдавать этого феррарца, – ответила Лукреция, – но так как о нем спросили меня вы, святой отец, то я расскажу вашему святейшеству, как было дело. Что касается синьора Орсини, то могу сказать для его успокоения, что поручение, данное феррарцу, не достигло и никогда не достигнет цели, как не может ложь оказаться правдой. – Вам приходится удовольствоваться этим, синьор Паоло, – ехидно заметил Цезарь. – Нет, я не могу удовольствоваться! – горячо воскликнул Паоло. – Моя душа успокоится лишь тогда, когда я буду обладать тем существом, в которое вложены все мои надежды, мое счастье, вся моя жизнь! – Зачем вы хотите вывести меня из себя? – грустно проговорила Лукреция. – Ах, до чего упал рыцарский дух!.. Вы, славный победитель рыцарского турнира, представитель знатного рода, желаете угрозами заставить женщину любить вас?! – Так научите меня, обожаемая донна Лукреция, как мне поступить, чтобы заслужить ваше расположение! – сказал Орсини, склоняясь к ногам красавицы. – Простите, донна, но этот синьор – не победитель рыцарского турнира, – вдруг вмешался Альфонсо, который слышал разговор Лукреции о феррарском посланнике и объяснил себе ответ Лукреции страхом перед отцом, а не боязнью за его безопасность. – Как же, синьор? Ведь после того, как вы упали, пальма первенства принадлежала одному из двух оставшихся, и сир Лебофор признал, что победителем следует считать не его, а Паоло Орсини! – возразила Лукреция, с таким ужасом глядя на Альфонсо, точно видела перед собой призрак. – В таком случае, если они оба признают, что честно поступили со мной и честно выиграли приз, я называю их лжецами и бросаю им перчатку! – воскликнул принц д'Эсте, и с такой силой бросил перчатку, что она пролетела мимо Паоло прямо к ногам папы. – Успокойтесь, рыцарь! Я – председатель судей турнира, и обещаю вам, что приз будет отдан тому, кого признают победителем беспристрастные французские рыцари, с которыми я посоветуюсь, когда поеду к французскому королю. По возвращении оттуда я решу это дело! – проговорил Цезарь. – Неужели вы думаете, товарищ по оружию, что я воспользовался вашим несчастным падением для получения приза? – спросил Реджинальд, выступая вперед. – Я прошу, ваша светлость, передать эту перчатку тому из двух рыцарей, который примет приз, – обратился Альфонсо к Цезарю, не удостоив Лебофора ответом. – Ради этой перчатки, брошенной нам в лицо, я не отказываюсь от приза! – воскликнул глубоко оскорбленный англичанин. – Нет, сир Реджинальд, вы должны дать мне слово, что до моего возвращения из Франции вы сохраните между собой мир! – сказал Цезарь, и улыбнулся довольной улыбкой, заметив, каким гневным взглядом обменялись между собой оба соперника. – Мы, женщины, постараемся, чтобы до вашего возвращения, герцог, рыцарь святого Иоанна был пленником в Ватикане, – с искусственной веселостью проговорила Лукреция и густо покраснела, отчего ее красивое лицо стало еще лучше. – Мы посмотрим, как подействуют на врага женщин красота и любезность моих дам. – Я не боюсь побитого врага! – ответил Альфонсо с таким презрением, что Лукреция побледнела от оскорбления. – Слышите, прекрасные дамы, он бросает и вам вызов, – шутливо заметил Цезарь. – Победите этого бунтовщика! Отдаю вам его на хранение, и надеюсь, что вы вернете мне его даже в лучшем виде, чем он находится теперь, так как он будет пользоваться вашими милостями. Альфонсо поклонился и ждал, что папа восстанет против такого решения, но, к его величайшему удивлению, Александр милостиво улыбнулся и благосклонно сказал: – Мы очень довольны таким положением вещей. Рыцарь недавно выказал такую отвагу, что, конечно, нажил себе много врагов. Мы опасались за его участь, но раз он будет в Ватикане, то мы можем быть покойны относительно его. Это предпочтение, оказываемое иоанниту, возмутило Орсини. – Раз сир Реджинальд признает меня победителем, – сердито воскликнул он, – то я считаю оскорблением, что мне не отдают выигранного мною приза Этим как будто хотят показать, что действительно считают меня предателем. Пусть у меня отнимают, что хотят, но я никому не позволю задеть мою честь! – Если вы не хотите настолько рассердить меня чтобы я навеки отказала вам во всякой надежде получить мою руку, то ждите спокойно приговора французских рыцарей! – обратилась к нему Лукреция. – Будьте довольны, синьор Паоло, если донна Лукреция откажет вам. Вспомните о той крови, которая пролилась в Ватикане, в покоях принца Салернского. Кто знает, не дело ли это прекрасных, белых как лилия, ручек, которых вы так добиваетесь! – проговорил Фабрицио Колонна. Терпение Александра истощилось. – Ступайте прочь, изменник и бунтовщик, – закричал он, – иначе моя стража выгонит вас! – Это – ответ на мою просьбу! – насмешливо сказал Фабрицио. – А что мне передать своему королю? – Для твоего короля и моего дерзкого вассала, для всех королей вообще у меня существует лишь один ответ. Я назначен всемогущим богом быть главой христианской церкви и отцом и властителем всех королей. Мне, как отцу, не подобает подчиняться детям. Наоборот, они должны исполнять мои приказания. Кто идет против меня, тех я не считаю законными детьми. – А незаконных детей очень много под покровом святой церкви! – иронически засмеялся Фабрицио. – Эй, стража! – закричал Александр, побледнев от гнева. – Впрочем, пусть лучше уведет его тот, кто хочет спасти его. – Мне нужно еще кое-что сказать вашему святейшеству, – спокойно заявил Фабрицио. – В виду того, что вы стараетесь лишь возвеличить своих родственников в ущерб святой церкви, король Федерико и король испанский просят передать вам, что, если вы будете поддерживать требования французов, они откажутся признавать вас главой церкви. – Вот вам благодарность за то, что я уступил испанскому королю половину вновь открытых земель. – злобно воскликнул Александр! – Должен вам сказать, что в молодости я изучал римское право и теперь вспоминаю, что в нем говорится, что подаренное имущество может быть отнято обратно, если получивший дар оказывается непочтительным по отношению человека, сделавшего ему подарок. – Если бы вы, ваше святейшество, с таким же усердием изучали каноническое право, то вы вспомнили бы, что существуют большие преступления, чем неблагодарность. Тогда ваша дочь не имела бы столько мужей, – возразил Фабрицио. – Однако, я вижу, что донна Лукреция дрожит, и лучше промолчу, пока Господь не потребует вас к ответу. Александр задыхался от злобы, но затем вскочил со своего места и громко закричал: – Стража, сюда! На его зов со всех сторон сбежался караул, но, прежде чем папа успел сделать распоряжение, чтобы Колонна вывели, Лукреция опустилась к ногам отца и умоляла его успокоиться. К ней присоединились кардиналы, Цезарь и посланники. Благоразумие Александра всегда одерживало верх над его чувствами. Он пришел в себя и нежно сказал дочери: – Ты права, мое дорогое дитя! Нашему величию не подобает вести споры с мятежниками и бунтовщиками. С этими словами он взял руку Лукреции и, как разгневанный Юпитер, вышел из позолоченных дверей. Альфонсо заметил, что Лукреция сделала какой-то знак Лебофору и, подойдя к двери, умышленно уронила платок. Англичанин поднял его и быстро пошел вслед за молодой женщиной, как будто для того, чтобы передать ей этот платок. Все присутствовавшие на приеме папы с недоумением переглядывались между собой. (обратно)ГЛАВА XVIII
Альфонсо д'Эсте был так потрясен всем пережитым в последнее время, что никак не мог разобраться своих впечатлениях. Он не понимал, каким образом ревнивый папа допускал такую близость англичанина к своей дочери. Непонятны ему были также поступки Лукреции. С одной стороны, она очень беспокоилась о его безопасности и заботливо ухаживала за ним, а с другой – настолько ненавидела, что даже хотела лишить его жизни. Он сам не знал, радоваться ли ему, или печалиться по поводу последних событий, поколебавших власть Борджиа. Вскоре в Ватикане распространился слух, что герцог Романьи старается помириться с разгневанными феодалами. Судя по тем событиям, которые последовали непосредственно после приема у папы, можно было видеть, до какой степени Борджиа боялись, чтобы власть не ускользнула из их рук. Паоло Орсини внезапно получил титул римского сенатора, и это была честь, которой давно не удостаивался никто из их семьи. Затем, согласно жалобе Паоло, отец Бруно был переведен в замок Святого Ангела, в виде наказания за проповедь, в которой он осуждал предполагаемый брак Лукреции с Орсини. Требования Колонна тоже были почти удовлетворены. Фабрицио известили, что Колонна получат обратно все свои ленные владения, как только будут соблюдены все формальности. Донна Фиамма, во избежание разных неблаговидных слухов, должны была покинуть Рим и, забрав все свое имущество, переселиться в Неаполь. Получив этот ответ, Фабрицио уехал, чтобы посоветоваться со своими изгнанными родственниками, можно ли согласиться на такие условия. Альфонсо не знал, что Цезарь, пользуясь его присутствием, распространил среди Орсини слух, что папа ведет с ним тайные переговоры о браке Лукреции с принцем Феррарским. Это и вызвало со стороны Паоло требование, чтобы данное ему слово было исполнено немедленно. Услышав о высоком назначении жениха Лукреции, Альфонсо не сомневался, что требование Паоло было удовлетворено, тем более, что Вителлоццо покинул Рим вместе со своими приверженцами, а это тоже могло служить доказательством, что дело приняло благоприятный для них исход. В довершение беспокойства Альфонсо вечером в его комнату вошел церемониймейстер Иоанн Бурхард, и таинственно сообщил ему, что его святейшество приглашает его к себе, на половину донны Лукреции, где папа обыкновенно ужинает. Альфонсо не сомневался, что Лукреция в самом непривлекательном виде представила его своему отцу, и был уверен, что оба пламенно желают освободиться от дерзкого обличителя их преступлений. Если бы Альфонсо открыл им свое настоящее звание, это могло бы только ухудшить его положение. Взвесив все это, он беспрекословно последовал за Бурхардом. Они прошли целый ряд роскошно убранных комнат, на которые Альфонсо даже не взглянул. Остановившись у одних из дверей, церемониймейстер приподнял красную бархатную портьеру, и оба очутились в большой комнате, служившей столовой. По-видимому, приход церемониймейстера с рыцарем не был замечен присутствовавшими в комнате. Взоры папы Александра были устремлены на лицо дочери, сидевшей у его ног и напевавшей народную испанскую песенку. Сквозь открытые окна в столовую вливался ароматный воздух. У одного из окон стоял стол, на котором были расставлены фрукты, цветы, конфеты и вино. В почтительном отдалении сидела Фаустина и вязала что-то. Вероятно, тонкий слух Лукреции уловил шум шагов пришедших. Она перестала петь, но сделала вид, что не замечает присутствия посторонних. – Вы, кажется, ваше святейшество, не расположены слушать веселое пение? – обратилась она к папе. – Тогда я лучше спою вам балладу о двух влюбленных, которые должны были расстаться, хотя причиной их разрыва было лишь упрямство. – Что бы ты ни пела, или ни говорила, моя Лукреция, все из твоих уст будет сплошным очарованием! – нежно ответил Александр. – Однако, правда, веселая мелодия не соответствует моему настроению. – В таком случае, вздохи моих влюбленных придутся вам по сердцу, мой повелитель! – шутливо заметила Лукреция. – Нет, Лукреция, не называй меня повелителем, зови меня отцом, любящим тебя отцом! – возразил Александр. – Да, отец мой, дорогой мой отец, – горячо воскликнула молодая женщина, – отец, заменяющий мне Всех на свете. Кроме вас у меня нет никого, кто любил бы меня, и вы умеете любить лучше, чем кто бы то ни было. Ах, я и забыла о своей балладе! – и Лукреция затянула чарующим, мелодичным голосом грустную лесть о разбитых сердцах. Однако, она внезапно прервала ее и воскликнула: – впрочем, я лучше замолчу Эта баллада наведет на вас, дорогой отец, грустные мысли. – Я слышал только одно слово «разлука», и должен сознаться, оно расстроило меня, – печально ответил Александр, – Где бы ты ни была, мое дитя, твоя любовь останется со мной, ты будешь моим ангелом-хранителем и закроешь мне глаза на моем смертном одре. – Когда вы так говорите, дорогой отец, я могу только плакать! – сказала Лукреция, вытирая глаза. – Что же делать, дитя мое? В мои семьдесят два года нельзя не думать о смерти. Меня она не пугает. Единственна, что тревожит меня, – это твоя участь. Ах, если бы я мог быть уверенным, что ты будешь счастлива! – Поговорим лучше о чем-нибудь более веселом! – воскликнула Лукреция. – Хотите, я спою вам ту песню, которую пела кормилица, когда я была маленькой? Легкий кашель, от которого не мог удержаться Альфонсо, дал возможность Лукреции объявить папе о его приходе. – Рыцарь святого Иоанна здесь, – прошептала она, как будто только что заметив его присутствие. – Подойдите ближе, синьор, – обратилась она к Альфонсо. – Я рассказала его святейшеству то, что сама слышала от вашей приятельницы, бывшей в гроте Эгерии. Она сказала мне, что вы приехали в Рим, чтобы навести справки обо мне и о намерениях его святейшества. Для того, чтобы облегчить вам задачу, я просила поместить вас во время вашей болезни во дворце, ближе к интересующему вас источнику. Его святейшеству угодно, чтобы вы оставались в Ватикане, так как здесь вы находитесь в безопасности. Лукреция взглянула на Альфонсо таким умоляющим взором, что он смутился, но постарался скрыть свое волнение. Фаустина взяла свое вязание и ушла из комнаты. Альфонсо проследил за ней мрачным взглядом и, когда она открывала дверь в соседнюю комнату увидел альков с золотистыми занавесами, на которых были изображены серебряные фигуры апостолов и Богородицы. – Твоя осторожность, мой сын, вполне справедлива, – начал Александр по уходе Фаустины, – если герцог Эрколе д'Эсте не отказался от своего давнишнего плана, то оставайся у нас до тех пор, пока мы не выясним вполне этого дела. Что касается меня, то я всегда относился с большой симпатией к намерению герцога д'Эсте. Альфонсо чувствовал непреодолимую потребность узнать, когда будет свадьба Лукреции с Орсини, а потому тотчас же произнес: – Герцог Эрколе, ваше святейшество, конечно, очень желает, чтобы его давнишняя мечта осуществилась. Но это желание бесплодно а потому и мое дальнейшее пребывание здесь излишне. Ведь брак ее светлости донны Лукреции с синьором Орсини вполне решен и последует очень скоро? – Ну, после того, как я убедился в строптивом, мятежном характере Паоло, после того, как он вошел в сношение с Колонна, только крайняя необходимость может заставить меня отдать ему руку моей племянницы. Я только жду возвращения герцога Романьи, чтобы окончательно разделаться с домом Орсини. Попросите своего повелителя яснее выразить делаемое им предложение, и передайте ему, что вы находитесь у меня в гостях и что я в присутствии своей дочери – да, именно дочери, а не племянницы! – сказал вам, что из всех итальянских принцев я считаю достойным для нее мужем только Альфонсо Феррарского. Вы видите несравненную красоту этой женщины, но никто не подозревает, какой клад – ее сердце, как счастлив будет ее муж, которого она окружит своей любовью. Альфонсо сразу подумал, что в Ватикане узнали о его происхождении и папа льстит ему в надежде на помощь феррарцев, которая была бы для него очень кстати. – Синьор, – обращаясь к нему, проговорила Лукреция, и ее лицо слегка зарумянилось, – прежде чем говорить о нашей любви к принцу Феррарскому, нужно сначала узнать, любит ли он нас. Я, по крайней мере, слышала, что он всеми силами противится желанию герцога Эрколе. – В вашем тоне звучит гнев, ваша светлость, – холодно заметил Альфонсо, – а это доказывает, что дом Эсте не пользуется теперь благосклонностью в Риме. – Вы не можете сомневаться в нашей благосклонности, раз я прошу вас передать своему повелителю, что настолько предан вашему дому, что решаюсь отказаться от единственного своего утешения на старости лет, и отдаю ему редчайшее сокровище на свете! – ответил папа. – До свидания, синьор, – проговорила Лукреция, слегка поклонившись Альфонсо. – Господин церемониймейстер, вот все, что хотел сказать его святейшество! Бурхард вышел из зала в сопровождении принца. Разговор с папой еще более взволновал Альфонсо. Он не сомневался теперь, что Александр действительно искренне желал союза с ним, а тот факт, что Лукреция поместила его во дворце, зная, с какой целью он приехал в Рим, во всяком случае, говорил в ее пользу. Непонятным казалось Альфонсо поведение Цезаря. Вдруг его осенила мысль, что герцог Романьи умышленно не противился его пребыванию в Ватикане, чтобы дать Альфонсо убедиться, в каких отношениях состоит Лукреция со своим родным отцом. Бембо все время боялся покушений со стороны Цезаря на жизнь Альфонсо, и эта боязнь еще усилилась, когда Бурхард передав ему приказание папы, чтобы он не выпускал рыцаря из стен дворца без солидной охраны. Альфонсо прожил уже много времени почти в полном одиночестве в Ватикане. Его раны постепенно заживали. Лукреция, по-видимому, забыла о его существовании, а со стороны он слышал, что она не пропускает ни одного увеселения, везде появляясь в сопровождении Реджинальда Лебофора. Отъезд Цезаря и конец юбилейных торжеств совпали в один и тот же день. Накануне своего отъезда герцог Романьи устраивал большой бал в честь папы и представителей дома Орсини. Однажды вечером, когда Альфонсо утешал себя мыслью, что Лукреция вовсе не забыла о нем, а только притворяется, чтобы усыпить ревность своего брата, дверь в его комнату открылась, и без всякого доклада вошел Цезарь. Бембо с таким ужасом посмотрел на него, точно видел перед собой призрак смерти. – Не бойтесь меня, – проговорил Цезарь, заметив, какое впечатление он произвел на Бембо, – я пришел только для того, чтобы пригласить вашего храброго друга к себе на бал. Кроме того, у меня есть к нему маленькая просьба, но я могу говорить о ней лишь наедине. – Желание вашей светлости – закон! – ответил испуганный Бембо, не двигаясь, однако, с места. – Ну, я скоро завершу ваш шахматный турнир с тем рыцарем, – улыбаясь обратился Цезарь к Альфонсо, – еще один-два хода – и игра будет окончена. Скажите, вы не боитесь оставаться один в этих ужасных комнатах? – Как можно назвать ужасным помещение, пригодное для самого короля? – ответил Альфонсо. – Ну, тем лучше для вас, что оно вам нравится. Следовательно, вы не слышали ничего о том, что связано с этими комнатами? – серьезным тоном спросил Цезарь. – Ваше преподобие, – обратился он к Бембо. – Не будете ли вы любезны оставить меня на несколько минут наедине с вашим другом? Бембо со страхом посмотрел на своего господина. – Да, мой брат, можешь идти спокойно, – сказал ему Альфонсо, кладя руку на свой меч, – я не чувствую слабости. Стань вот у того окна. Ты легко можешь прийти ко мне на помощь, если я почувствую себя дурно. – Я хочу говорить с вами об одной женщине, – начал Цезарь, когда Бембо удалился, – а такой разговор требует тайны. – Меня удивляет, герцог, что вы собираетесь говорить со мной о женщине! Вы знаете, что в этом вопросе я – совершеннейший профан, – удивленно возразил Альфонсо. – Вот именно, зная ваш строгий взгляд на женскую добродетель, я и решил обратиться к вам с просьбой охранять в мое отсутствие одну женщину, которая очень дорога мне, даже, может быть, слишком дорога. Вы, конечно, догадываетесь, о ком я говорю. Я вполне уверен, что у вас нет никакого основания любить фатоватого англичанина, но, может быть, в память прежней дружбы вы согласитесь предостеречь легкомысленного юношу от той опасности, которая ему угрожает. Этот молодой человек очень красив, нравится женщинам и в мое отсутствие может позволить себе лишнее. С болью в сердце я не могу не согласиться, что многие слухи, распространяемые о близкой мне даме, совершенно верны. Предостерегите несчастного юношу. Напомните ему, что у него есть сильный соперник, который ни перед чем не остановится, даже перед убийством. – Я не понимаю, о какой даме вы говорите, и кто такой этот соперник? Мне кажется, ваша светлость, что вы во всяком случае, не допустите никакого соперника! – заметил Альфонсо. – К сожалению, такой соперник имеется, – со вздохом проговорил Цезарь. – В свою очередь считаю долгом предупредить вас, что вам желают отомстить и под видом радостного свидания приведут вас к гибели, как это уже сделали с моим несчастным братом. Ах, Боже, я проговорился! Ну, да теперь уже ничего не поделаешь. Вы не представляете себе, рыцарь, на краю какой бездны вы стояли, когда велели безумной еврейке рассказать о смерти герцога Гандийского. Несомненно, вы делали это в угоду папы, но от всей души советую вам не вмешиваться больше в дела подобного рода. – Неужели я похож на шпиона и предателя, что вы навязываете мне такую роль? – возмущенно спросил Альфонсо. – О, нет, благородный рыцарь, вы не поняли меня! – горячо воскликнул Цезарь. – Я прошу от вас только небольшой чисто христианской услуги. Должен сказать вам, что Фаустина, по некоторым причинам очень предана мне, и сообщает все, что делается при дворе папы. Как видите, я ни в каком шпионе не нуждаюсь. Я только хочу, чтобы вы вовремя остановили безрассудного юношу, вашего бывшего друга, когда наш домашний соглядатай Фаустина доложит вам, что опасный момент наступил. Это был очень ловкий прием: Цезарь возбудил ревность в Альфонсо и вполне рассчитывал на то, что результатом этого явится ссора между иоаннитом и англичанином. Отношения Лукреции к последнему очень не нравились ему, равно как и ее предположенный брак с принцем Феррарским. Чтобы расстроить все это, он и придумал эту новую интригу. Альфонсо попался на удочку. Цезарь внутренне смеялся, увидев смущенное молчание Альфонсо, доказывавшее без слов, что он согласен на его предложение. Чтобы не дать ему времени подумать, он перевел разговор на другую тему и снова повторил свое приглашение. Однако, ссылаясь на свои еще не вполне зажившие раны, Альфонсо отказался от этого приглашения. – Простите пожалуйста, я совершенно забыл о вашей болезни, и так долго утруждал вас! – испуганно проговорил Цезарь, поднимаясь со своего места и дружески прощаясь с больным. Наконец, он ушел, успокоив расстроенного до последней степени Бембо. А в душе Альфонсо снова поднялись все муки ревности и гнева в отношении папы, Лукреции и Реджинальда Лебофора. (обратно) (обратно)ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА I
Бэмптон, старый слуга Лебофора, состоявший в звании оруженосца и командовавший небольшим отрядом вооруженных людей, как будто только и ожидал несчастного исхода турнира, чтобы усилить затруднения молодого рыцаря. Он был приставлен к пылкому юноше скорее в качестве руководителя и дядьки, чем для исполнения обыкновенных обязанностей слуги, однако, теперь обнаружил мало такта в выборе момента и способа излить давно накипевшее в нем неудовольствие. Лебофором успела уже овладеть тайная и, пожалуй, бессознательная страсть, ставшая, благодаря роскошному климату Италии, непреодолимой. Воспламененный, с одной стороны, одобрением Лукреции и тем лестным восхищением, которого он удостоился в ее присутствии, а с другой стороны – озлобленный злословием и явной враждебностью Альфонсо, он с затаенной досадой выслушивал наутро после турнира пространную речь своего оруженосца, резко порицавшего иностранных женщин и в особенности итальянок. Однако, юноша не смел опровергать эти поучения, тем более, что Бэмптон свел разговор на похвалы кузине и невесте рыцаря, мисс Алисе Бофор, а в заключении сказал, что надо безотлагательно хлопотать о церковном разрешении на этот брак, которого легко добиться при благосклонности папской племянницы. Эти слова были так справедливы, так внушительно подкреплялись взором старика и собственным сердцем Лебофора, что он обещал немедленно приступить к необходимым хлопотам. Между тем, протекло много дней, а Лебофор, хотя и постоянно вращался в общество Лукреции, не обмолвился еще ни одним словом об этом деле. Правда каждый раз, идя в Ватикан, Реджинальд собирался изложить свою просьбу, но стоило ему попасть туда – и его намерения разлетались прахом. К несчастью, Бэмптон сам подавал ему повод действовать таким образом, представляя влюбленному юноше опасность в его дальнейшем пребывании в Италии, после того, как он навлек на себя гнев могущественного повелителя Феррары. Реджинальда возмущала мысль удалиться оттуда из-за личных опасений, и он отговаривался различными предлогами, либо молчал вовсе, лишь бы оттянуть отъезд из Рима. Однако, в оправдание юноши, надо заметить, что после тревожной ночи, последовавшей за прощальным пиром Цезаря, на котором Лукреция явно отличала его, Реджинальд пришел к решению поспешить к ней на следующий день и добиться разговора наедине, чтобы изложить ей свою просьбу. Он был уверен, что при безграничном влиянии Лукреции можно было скорее достичь успеха этим путем, чем подачей прошения в папскую канцелярию. Однако, перед этим ему вздумалось предварительно посоветоваться о своем деле с Орсини. Последний стал убедительно просить его отложить этот план, так как всякое подозрение насчет Реджинальда рассеялось теперь в его душе, и он почувствовал к нему прежнее расположение после великодушного поступка молодого рыцаря на турнире. Однако, Лебофор упорствовал в своем намерении, так что Паоло наконец стал просить его присутствовать на своем бракосочетании с Лукрецией. Свои расчеты на этот брак он основывал на следующем. Дворянство вступало в союз с Цезарем Борджиа и, в то время, как Цезарь действовал в Милане, стараясь усыпить подозрительность французов, дворяне хотели собрать свои военные силы под предлогом нападения на Пиомбино с целью вернуть его церкви, долгое время спорившей с родом Аппиани об обладании этой страной. Но в действительности, вместо этого союзники намеревались, после соединения с Цезарем, внезапно напасть на Тоскану, чтобы восстановить в ней господство Медичи. Получив такое подкрепление, папа,как рассчитывал Паоло, должен был уступить желаниям семейства Орсини отдать ему руку своей дочери. – Когда же моя цель будет достигнута, – со смехом прибавил Паоло, – то замыслы Цезаря против Феррары осуществятся еще нескоро. Размышления Реджинальда насчет удивительных хитросплетений итальянской политики были вскоре вытеснены другими, более приятного свойства. Молодым людям принесли богато разрисованные арабесками и любовными эмблемами грамоты на звание членов двора любви, основанного Лукрецией. Из числа своих приближенных она выбрала двадцать самых красивых и наиболее талантливых дам, которые с таким же числом кавалеров, отличавшихся теми же качествами, составили академию, где ей предстояло занять председательское кресло. В академики были избраны Паоло Орсини, Лебофор, Бембо, Макиавелли, кардинал Медичи и другие лица, одаренные остроумием и поэтическим талантом. Предполагаемой целью этого учреждения было обратить неподатливого иоаннита к сладостному учению любви. С этим намерением члены академии сговорились собираться в каком-нибудь месте, указанном очаровательной председательницей: или в одном из ее садов Ватикана, или во дворцах друзей, удостоенных столь высокой чести. Такие собрания должны были происходить по вечерам три раза в неделю. Первые заседания были назначены в винограднике Ватикана, как назывались прекрасные сады, покрывающие теперь холм, но должны были состояться лишь через неделю после отъезда Цезаря, когда иоаннит мог оправиться от своей раны окончательно. Альфонсо нетерпеливо ожидал своего выздоровления. Он хотел лично убедиться, как далеко простиралась близость между Лукрецией и Лебофором, и вместе с тем, для него было блаженством смотреть на нее хотя бы глазами навеки изгнанного духа, который заглядывает через решетку рая. Порою ему казалось, что желанный день никогда не наступит, однако он наступил. Сборным пунктом для членов академии было назначено дивное место Ватикана. Аркады виноградных лоз, переплетавшихся с ярко-зеленой весенней листвой и роскошными цветами, поднимались уступами на возвышенность и, сходясь вместе, образовывали там подобие звезды и навеса над густым ковром зеленеющей лужайки, в середине которой бил фонтан. Между аллеями виноградных лоз, а также среди множества розовых кустов и высоких кипарисов открывались великолепные виды на окрестности и на город, благодаря чему эта возвышенность называлась Бельведером. Альфонсо решил присоединиться к гостям, явившимся последними, и, поднимаясь на первую террасу, увидел, что здесь принята предосторожность. Все должны были проходить мимо караула из красивых детей, одетых амурами, которые защищали вход своими маленькими серебряными луками. Каждый посетитель был обязан отдавать им свое оружие и обещать вести себя со всеми вежливо и миролюбиво. Это показалось подозрительным иоанниту, но он все же дал точно такое же обещание, нетерпеливо поспешил затем вперед и вскоре очутился среди вновь учрежденной академии. Перед фонтаном был разостлан круглый, богато затканный цветами и фруктами ковер. Вокруг него на зеленых бархатных подушках низких плетеных кресел восседали двадцать избранных членов по обеим сторонам председательского кресла, возвышавшегося на лужайке. На нем сидела Лукреция, увенчанная диадемой из мирт и роз, а прочие дамы надели на себя только гирлянды из тех же цветов. Лебофор и Орсини помещались справа и слева председательницы, а против нее, на самом отдаленном краю круга, было приготовлено место для Альфонсо. Когда он подошел, Лукреция вела оживленный разговор с Лебофором. В ее игривом кокетстве и даже страстных взорах рыцаря было что-то такое, что успокоило ревнивые опасения влюбленного, но ему не понравились внезапная краска, ударившая ей в лицо, когда она отвернулась от Реджинальда, чтобы приветствовать его с холодной вежливостью, а также обнаруженная ею тревога, когда она, видимо преодолевая это чувство, приказала всем присутствующим вменить себе в обязанность ненарушимое согласие и приветливость во время заседаний. Устремив на Альфонсо Довольно грозный взгляд, Лебофор заявил, что не желает отступать от своего права. С таким же строгим взором и Альфонсо выразил свое согласие. Потом он занял назначенное ему кресло, которое одно не было украшено цветочными гирляндами. После того, у прекрасной председательницы все стали единодушно просить объяснения, в чем должна заключаться цель основанной ею академии, и какого рода услуг ожидает она от тех, кто был удостоен звания ее членов. Не бросив ни одного взгляда на иоаннита, она улыбнулась Лебофору и сказала следующее: «Академия поставила себе задачей обратить на путь истины такого мрачного и закоренелого противника любви, как феррарский рыцарь, а так как любовь – столь высокое и несравненное благо, что пренебрегать ею могут только люди, не знающие ей цены, то члены академии должны рассказывать на ее собраниях истории о действии и могуществе любви, счастливые или несчастные приключения, воспевать или описывать в песнях нежную страсть, стараясь рассеять или опровергнуть всякие сомнения, какие могут возникнуть у непокорного, и заключать каждое из своих заседаний танцами, музыкой и невинными развлечениями или чем-нибудь иным, способным внушить то дивное чувство, против которого восстает только один иоаннит». В заключение председательница предложила, чтобы каждый академик, во избежании скучных формальностей, избрал себе имя приятного для него значения, которым он и будет называться в академии. Бембо тотчас предложил, чтобы Лукреция, служившая сосредоточием и солнцем счастья для всех членов очаровательного кружка, называлась просто Светом. Тут она, поспешно обернувшись к Лебофору, спросила, согласен ли он быть ее Подсолнечником, когда же тот охотно принял это имя, Альфонсо заявил, что желает назваться Мраком, в виду того, что его мнения считаются противоположностью мнениям председательницы. Он не подозревал, насколько повредил себе, резкостью своего поведения невольно обнаружив обуревавшие его чувства. Но Лукреция чутким женским инстинктом угадала, что ревность Альфонсо может быть возбуждена. После того, как эти приготовления были окончены, Лукреция предложила Бембо открыть прения. Последний улыбаясь заявил, что прежде всего было бы нужно согласиться между собой насчет сущности любви, изложить ее законы и поставить ее себе задачей. Это предложение было единодушно принято всеми и затем последовала беседа, которую не мешало бы увековечить на этих страницах за ее блестящее красноречие, если бы она не отличалась сладострастной окраской, допускавшейся нравами того века и той страны. Сам Платон был бы, пожалуй, поставлен в тупик хитроумием иных из этих объяснений, а Сафо невольно бросило бы в краску от чувственного пыла других. Между тем, все общество разразилось громким хохотом, когда Лебофор, воображая, что он следует общему примеру, откровенно, но страстно признался в том чувстве, которое заполнило его сердце. Орсини определил любовь, как желание быть воздухом, окружающим Лукрецию, а Макиавелли, осмеяв эту сентиментальность, утверждал, что любовь есть желание попасть в сети Вулкана. Альфонсо, само собой разумеется, сочли неспособным вносить свое мнение по этому предмету, но объяснение самой Лукреции он нашел резко противоречившим ее характеру. Любовь, сказала она, есть желание души слиться с другой душой, чтобы изжелать одиночества, при котором мир превратился бы в пустыню. Обсуждение темы продолжалось с неослабевавшей живостью до тех пор, пока на темно-синем небе взошла луна. Тихая прелесть и угасающие краски вечера гармонировали с беседой молодежи и время пролетело незаметно до прихода посланного с докладом, что папа хочет садиться за ужин. Так как Лукреция всегда ужинала вместе с отцом, то академия решила проводить ее во дворец. Вдруг в начале аллеи, которая вела к башне Борджиа, из кустов неожиданно выскочил монах, пал на колени перед Лукрецией и подал ей письмо. Вся живость молодой женщины тотчас пропала. Бледная и дрожащая, она отвернулась и вскрыла конверт, приказав монаху встать. Однако, тот не поднимался с колен, с мольбою сложив руки. – Я не могу... не должна... не хочу... – заговорила, наконец, Лукреция в очевидном смущении. – Передайте отцу Бруно, что никто сильнее меня не сожалеет о его аресте, но исполнить его просьбу я не в силах. Скажите ему, пусть он подождет. За несколько дней могут произойти важные перемены. Скажите ему... Ах, право, не по недостатку сострадания отказываюсь я ходатайствовать за него! Но скажите ему, отец Биккоццо, что его слова оскорбляют меня, и он должен поискать себе другого посредника. При этих неожиданных речах Биккоццо громко зарыдал, стал умолять Лукрецию и горько сетовать на то, что он своей необдуманной болтовней дал врагам отца Бруно предлог к аресту его. Однако, Лукреция с несвойственной ей суровостью отвергла все его мольбы и приказала караульным солдатам выпроводить монаха, если он не удалится добровольно. Затем она пошла дальше, явно превозмогая стыд и упреки совести, и стараясь своим видом поддержать гордый и гневный тон своего ответа. Прошло несколько дней. Основываясь на своих наблюдениях, Альфонсо не сомневался более, что Лебофор вытеснил его из сердца Лукреции, и что его личное несчастье и благополучие его соперника вскоре сделаются полными. Он даже пришел к тому заключению, что при всей невинности первых заседаний новой академии под руководством Лукреции они скоро перейдут в разнузданность и будут доставлять ей удобные случаи, которыми она, по слухам, умела отлично пользоваться. Между тем, ее чары действовали неотразимо на избранную жертву. Альфонсо был окружен всем, что способно разжигать чувственные страсти. Его воображение подстрекалось пылкой поэзией и яркими описаниями, в которых изощрялись рассказчики любовных историй. Он находился постоянно под влиянием дивной красоты Лукреции с ее разнообразными приманками, и таким образом страсть, пожиравшая его, возрастала ежечасно, несмотря на все его старания преодолеть ее. Чем более Альфонсо, находясь в близком общении с Лукрецией, понимал редкое сочетание прелести с ее поразительно блестящим, хотя и не лишенным женственности умом, и неистощимое сокровище нежности и кротость, таившееся в ее сердце, тем сильнее вызывали его ревность муки отвергнутой любви. Он не мог более сомневаться в том, что им пренебрегали. Холодность красавицы к нему, равно как и поощрение, которое встречал от нее Лебофор, служили ему доказательствами этого. С целью утвердиться в своих намерениях, он старался воспользоваться своим положением, чтобы собрать против Лукреции улики, которые внушали бы ему отвращение к ней, и вооружили бы его против ее чар. Но как ни подозрительно думал Альфонсо о необычайной нежности, которую обнаруживал папа своим крайним снисхождением к Лукреции, – сейчас же находилось объяснение всему этому: ведь и тайные свидания между ними, и неограниченное влияние Лукреции на Александра вызывались опасностями, по-видимому, грозившими могуществу дома Борджиа, а очарованию Лукреции способствовали ее красота, таланты и отвращение к Цезарю. Да, танцовщица-сицилианка выразилась очень метко, сказав, что там, где отсутствует светлый дух любви, неминуемо явится мрачный. И этот дух нашептывал Альфонсо, как безрассудна была принесенная им жертва, какое великое счастье оттолкнул он от себя из-за призрака, потому что не чем иным, как призраком, было овладевшее им сомнение, ради которого он пренебрег представлявшимся ему блаженством. «Из-за чего именно ты отказался от прекрасной возлюбленной? Из-за того, что не мог облечь ее священной целомудренной прелестью супруги? Но разве уже слишком поздно? – продолжал нашептывать ему Дух. – Ведь Лукреция некогда любила тебя, да еще и теперь в ее взорах загорается порою отблеск прошлого!» Вдобавок, на горизонте появилась новая опасность. Шансы Паоло Орсини на брак с Лукрецией поддерживались обстоятельствами, которые по-видимому, обеспечивали за ним успех, но эти обстоятельства были политического свойства, так как холодность Лукреции по-прежнему стояла на точке замерзания. Дело в том, что Цезарь по прибытии в Милан стал во главе церковного войска, как назывались военные силы союзного Дворянства, и немедленно произвел нападение на Тоскану, а это давало ему как будто все шансы на восстановление владычества Медичи. Постепенно под влиянием все разгоравшейся страсти Альфонсо пришел к мысли, что для соперников, так жестоко оскорбивших его, самой горькой чашей был бы его успех у Лукреции. Мало-помалу эти рассуждения перешли в действия, Альфонсо стал с меньшей горячностью опровергать доказательства, приводимые членами академии любви, и Лукреция вскоре заметила общую перемену в его обращении с ней. Но она сама относилась к нему так, словно пламенные взоры, выдававшие пыл и нечестивый пламень его сердца, лишь еще более отталкивали и оскорбляли ее. Однако эта целомудренная холодность Лукреции и то гордое презрение, с которым она смотрела на него, только усиливали безумие желаний рыцаря, несмотря на всю их безнадежность. Члены академии, заметив смягчение прежних строгих правил Альфонсо, безжалостно подтрунивали над ним, но он нисколько не обижался на это, не скрывал того, что поддался убеждениям своих новых товарищей, и, хватаясь в своем отчаянии за каждую соломинку, напал на мысль, что, заявив о своем обращении, он может воспользоваться случаем для любовного признания, пыл которого, пожалуй, вновь зажжет в сердце Лукреции былое чувство к нему. Он не составлял себе определенного плана, не ставил определенно цели, но наконец, измученный равнодушием Лукреции, попросил Фаустину доложить своей повелительнице, что он считает себя совсем обращенным, но желает лишь краткого разговора наедине для разъяснения еще некоторых сомнений, прежде чем заявит перед собранием о своем отречении от прежнего заблуждения. Трудно представить себе тот восторг, который испытал Альфонсо, когда Фаустина принесла ему ответ, что Лукреция пойдет на другой день под вечер в сады Эгерии и даст ему там аудиенцию перед открытием заседания академии, которая должна собраться в этом месте по ее распоряжению. Почти впервые со дня своего прибытия рыцарь снял с себя свою обычную неуклюжую одежду и одел костюм из черного бархата, с роскошной отделкой из драгоценных кружев и золотого шитья, а к плечу прикрепил шелковый шарф белого цвета, избранного Лукрецией. Затем он тайком оставил Ватиканский дворец и вступил в долину Эгерии, обуреваемый страстями и воспоминаниями, которые отнимали у него не только всякую силу, но всякое желание сопротивляться. Поджидавшая его Фаустина сообщила ему, что Лукреция отпустила своих приближенных дам, предоставив им забавляться по-своему в саду и собирать цветы для гирлянд. Последние предназначались для круглого храма, сплетенного из ветвей и цветов и стоявшего в центре лабиринта, прозванного Минотавром по античной статуе, служившей ему украшением. Обрадованный Альфонсо надел на палец старой кормилицы дорогое кольцо, сказав, что дарит его в знак благодарности за ее внимание к нему во время болезни, и, не чуя под собою ног, поспешил вперед. Однако, едва перед ним показалась сквозь просветы листвы повитая розами арка храма, его сердце забилось так сильно, что ему пришлось остановиться, чтобы перевести дух. В этот момент Альфонсо услышал голос, но не Лукреции, и со щемящей болью в груди притаился в кустах, чтобы убедиться, насколько основательно шевельнувшееся в нем подозрение. Минотавр, вылитый из бронзы, представлял собою чудовищного быка, лежащего на мраморном полу храма в той позе, как он только что был поражен смертельным ударом Тезея, с опущенной к земле головой. Его могучая шея и плечи образовали удобное сидение, и Альфонсо увидел, что, полулежа на нем, Лукреция плела гирлянду из цветов, грудою лежавших перед нею. Возле нее, прислонившись к пьедесталу колонны, стоял Лебофор с несколькими венками на руке. Он говорил о чем-то тихо и страстно, а Лукреция отвечала ему равнодушным тоном, бойко смеясь и устремив взор на свою работу, и глубокое волнение молодого англичанина ею не замечалось. Лебофор до настоящего дня не сделал еще никакого дальнейшего шага для окончания своего брака с двоюродной сестрой. Он только сказал Лукреции, что хочет попросить ее о поддержке своего ходатайства перед папой, когда у нее будет время выслушать его. В то утро молодой человек был немало удивлен известием, что она готова принять его в своем саду перед заседанием академии и изложить папе его просьбу по возвращении во дворец. Это сообщение было получено Реджинальдом вместе с советом хранить его в тайне. Последнее обстоятельство возбудило в нем пылкие надежды и опасения, но он не хотел вдаваться в них и повиновался приказу Лукреции, решительно отбросив все размышления, чтобы не вызвать нового препятствия в своей совести. Альфонсо не догадывался, что Лукреция была уведомлена о его приходе таинственным знаком. Но, едва он очутился вблизи нее, она нетерпеливо перебила Лебофора: – Довольно, довольно! Полагаясь на ваше рыцарское слово, я готова поверить, что я прекрасна, как морская пена, если этого будет с вас достаточно. Скажите, однако, в чем заключается ваша просьба. Мы получили благоприятные известия из Милана и его святейшество особенно расположен сегодня оказывать милости. Смущенный Лебофор помолчал, после чего с усилием, которое не осталось незамеченным, в отрывистых словах изложил свою просьбу о разрешении ему жениться на двоюродной сестре, которая была помолвлена раньше с его братом. – Значит, вы любите англичанку, и хотите навсегда покинуть меня? – спросила Лукреция с заблестевшим взором, который пронзал Реджинальда насквозь. – Да, я люблю, люблю! – ответил он дрожащим голосом, с побледневшим лицом. – Я люблю... нет, я обожаю, боготворю тебя... одну тебя... чудная Лукреция! Прочь все посторонние соображения! Пусть предадут меня самой лютой смерти, если я лгу, только бы мне умереть у твоих ног! – и в порыве страсти Реджинальд бросился перед нею на колени. – Вот вы как раз приняли позу, удобную для примерки венка, который предстоит вам надеть сегодня вечером, – сказала Лукреция, беззаботно смеясь, точно признание Лебофора было самой обыкновенной речью, и шутя наклонилась к нему, чтобы надеть венок. Вероятно ее намерением было явно показать рыцарю свое благоволение, но она не рассчитала силы чувства, превозмогшего в его груди все остальные порывы, и внезапно очутилась в объятиях юноши. Лукреция отскочила назад и воскликнула: – Так вот какова твоя верность твоей кузине, твоя почтительность к дочери Александра! Но нет, я знаю твой честный нрав, – прибавила она, повернувшись и оторопелому рыцарю, когда послышался шорох в кустах, – и потому согласна принять это за карнавальную шутку и наказать тебя. Говоря таким образом, молодая женщина бросила бывшими у нее в руке цветами в смущенного и пристыженного Лебофора. В этот момент показался Альфонсо. Очевидно, довольный энергичным отпором, который встретил от нее Реджинальд, иоаннит пылко приветствовал Лукрецию, а затем, после церемонного поклона сопернику, напомнил ей, что выпросил себе аудиенцию наедине, чтобы откровенно изложить перед нею обуревавшие его сомнения. – Я боялась, рыцарь, что ваши вопросы окажутся слишком трудными для того, чтобы их могла разрешить неученая женщина, – с поразительной холодностью ответила она, – а потому позвала на подмогу вот этого ученого доктора академии и должна удержать его при себе. Он просветил меня уже насчет некоторых вещей, о которых я не имела понятия. Альфонсо стал настолько же мрачен, насколько повеселел Лебофор, однако превозмог себя и произнес: – Во-первых, я хотел бы знать, может ли истинная любовь до такой степени угаснуть в женском сердце, чтобы от нее не осталось и следа? – Об истинной любви я не могу сказать это. Ведь вам известно лучше, чем всякому другому, что я неспособна к ней. Но если поверх грубого и запутанного наброска должна быть нарисована новая и более блестящая картина, то было бы жаль, если бы от прежнего остался след. Лукреция высказала это с такою явной холодностью и презрением, что Альфонсо был жестоко уязвлен ее словами. – Тогда я снова впаду во все свои прежние ереси, – с горечью произнес он. – Мне всегда было противно смешиваться с толпой и быть любимым лишь в качестве одного из многих. Если женская любовь такова, тогда ничто не привлекает в ней моей души и она возвратится к своему прежнему покою. – От этой мысли на вас веет холодом, несмотря на знойные лучи солнца над нашей головой. Пойдите сюда, Лебофор, иначе мы превратимся в ледяные сосульки оба. – Я удалю с ваших глаз зиму, из опасения, чтобы горячность рыцаря не воспламенила также и меня, – горьким тоном заметил Альфонсо и удалился так внезапно, что Лукреция не успела остановить его. В дурном настроении, в отчаянии, иоаннит посетил Бембо, сообщил ему свои наблюдения и резко прибавил, что, так как влюбленные пришли к взаимному соглашению, то он не желает быть дольше свидетелем измены Лебофора, чтобы не дать воли своей досаде. Он поручил Бембо извиниться за него в том, что он не может присутствовать на дальнейших заседаниях академии и принимать участие в прочих увеселениях во время продолжавшегося поста, так как из-за них он соблюдал последний недостаточно строго, как это требовало его положение члена духовного ордена. Бембо ответил, что женщина, подобная Лукреции, опасна для каждого, и охотно взялся исполнить возложенное на него поручение. К вечеру Альфонсо получил известие, что его отсутствие нисколько не помешало общему веселью, и что Лукреция еще никогда не была оживленнее и довольнее, как в этот день. Он оставался, запершись у себя в комнате, как будто погруженный в молитвы, а в это время двор задавал все более и более многочисленные и блестящие празднества. Бембо постоянно ворчал о явных доказательствах благоволения Лукреции к Лебофору, и это доставляло новую пищу самым жестоким опасениям Альфонсо. В то же время он заметил, что его зорко стерегли, так что у него даже явилось опасение, что он скорее играет роль арестанта, чем гостя в Ватикане. Между тем, возвращение Цезаря, которое должно было освободить участников турнира, замедлялось, а успешные действия Орсини в Тоскане делали, вероятным, что они вскоре займут в Риме господствующее положение. Терпение Паоло, казалось, вытекало преимущественно из этой надежды, как вдруг все переменилось. Союзные дворяне, навлекшие на себя ожесточенную ненависть флорентийцев своими опустошениями, неудержимо готовились к осаде столицы, но были неожиданно остановлены могущественными приказами французского короля. Французское войско со своей стороны готовилось выступить против Неаполя, и Цезарь заявил, что должен повиноваться королю, вернувшему ему вновь свою благосклонность, и что церковное войско примкнет к французам согласно воле его святейшества. Его слова произвели действие громового удара средь ясного неба. Союзные дворяне увидели теперь, что их ловко перехитрили, и что им остается только заодно с партией Борджиа заискивать у французов. Однако, Цезарь и Александр сумели подговорить неаполитанского короля Федерико заключить союз с испанцами, и когда прибыли французские полководцы со своим войском, численность которого, правда, была далеко не достаточна для затеянного предприятия, то после торжественного богослужения в присутствии папы было объявлено о заключении этого союза, в виде результата которого Неаполь должен был быть разделен между французами и испанцами. Конечно, все это дело приукрасили разными мнимыми предлогами. На несчастного неаполитанского короля возвели разные обвинения, чтобы затушевать интригу папы и Цезаря, однако, столь явное предательство участников такой политической комбинации возмутило даже наиболее бессовестных государственных людей. Французы не могли особенно протестовать, не располагая достаточными военными силами, и примирились с положением, а Борджиа торжествовали. Все Орсини, особенно Паоло, чувствовали, что они впутались в игру, в которой потерпели поражение, а нескрываемое торжество партии Борджиа еще усиливало в них чувство унижения. Но им приходилось подавлять свои тревоги и гнев, и они собрались в большом числе, чтобы участвовать на пиру, который хотел дать папа в честь французских полководцев. Цезарь сам пригласил Лебофора и иоаннита, и велел передать им, что после совещания с французскими рыцарями он намерен объявить свой приговор относительно турнира. (обратно)ГЛАВА II
Молва о роскоши и великолепии папского двора подготовила французских полководцев к тому, что они встретят здесь большую изысканность, однако, и они были поражены, увидав в громадном зале башни Борджиа изумительное зрелище. Блестевший позолотой потолок, обои и бархатные драпировки, украшенные чудесами возрожденного искусства, простирались, насколько мог окинуть их взор, и заканчивались галереей, откуда ряд террас вел наверх, к восхитительным дворцовым садам, листва которых отливала зеленым серебром в прозрачном воздухе. Длинная галерея кишела прислугой в дорогой одежде, пажами и вооруженными людьми, которым предстояло услуживать во время пира многочисленным гостям, так как папа пригласил к себе все французское войско, за исключением простых солдат. Посредине галерея образовала круглый зал, над которым возвышался купол, густо покрытый серебряной пылью и опиравшийся на беломраморные колонны с коринфскими капителями. Это было самое парадное место пира. Тут на возвышении под балдахином восседал глава церкви. Тут же сидели Лукреция со своим женским штатом, французские полководцы и прочие знатные гости. Тройчатые жезлы архиепископов и епископские посохи перемешивались с копьями, блестящими боевыми секирами и жезлами герольдов, потому что за каждым стулом стоял представитель духовенства в расшитой золотом столе [538] или еще более нарядный герольд, или паж в берете с пером для услуг дамам, рыцарям или духовным особам. Античные статуи украшали все простенки. В полированном мраморном полу отражались серебряные вазы художественной работы, стоявшие в промежутках вокруг зала. В них дивно благоухали цветы. Столы были покрыты скатертями и уставлены сосудами, украшенными драгоценными камнями. В последнее время Цезаря сильно сбивали с толка донесения его шпионов, и он не без мучительного подозрения посматривал на рыцаря Лебофора, статная фигура которого, так же как цветущее лицо и великолепная одежда, возбуждали всеобщее внимание, зависть и любопытство, когда было замечено, как Лукреция отличала его своею сияющей улыбкой. Чело Цезаря омрачилось, когда он увидел, как равнодушно отвертывалась она от иоаннита и в какую глубокую грусть был погружен феррарский рыцарь. Цезарь старался подавить свое беспокойство и рассыпался в преувеличенных похвалах Лебофору, представляя его французским полководцам. Пир происходил с обычной пышной торжественностью. Красота Лукреции вызывала величайшее воодушевление среди французских рыцарей и сияла особенным блеском. Зная слишком хорошо дурную славу, ходившую о ней, молодая женщина старалась опровергнуть ее контрастом увлекательной живости и остроумия, которые слишком редко бывают уделом тех, кого осаждают мрачные мысли, вызываемые сознанием своей виновности в тяжких преступлениях. Правда, Альфонсо не раз по колебанию ее прекрасной груди замечал, что Лукреция вздыхала тайком, даже принимая со смехом поклонение своих новых обожателей. Но ему казалось, что это был вздох сладострастной нежности, предметом которой являлся Лебофор. Сладостное благоухание ароматов, тихая музыка, не мешавшая разговору, и ослепительная прелесть молодой женщины – все возбуждало эту ревнивую мысль и еще усиливало пламень страсти. Веселый смех гостей казался ему каким-то издевательством над его тоской и каждая чрезмерная похвала красоте Лукреции задевала его, как личное оскорбление. Такое зрелище сделалось, наконец, слишком тягостным даже для притворства Цезаря. Он, обуреваемый страстью к сестре, решил, что необходимо хотя бы на время удалить от Лукреции и Лебофора, к которому она, видимо, благоволила, и Альфонсо, казавшегося ему тоже подозрительным, а потому, внезапно переменив разговор, произнес: – Однако, мы лишаем себя превосходной забавы! Мне весьма интересно узнать, моя прекрасная сестрица, и вы, прелестные дамы, насколько вам удалось растопить лед в груди своего пленника. Знайте, господа французы, что этот духовный рыцарь презирает всех женщин и хвалится тем, что способен устоять против всех их соблазнов. – Рыцарь, – сказал тогда старик де Латремуйль, – если ты не сдался безусловно несравненной красоте той дамы, то я не называю тебя больше рыцарем потому что и небожителям не стыдно поклоняться ей. – О, – чуть побледнев, ответила Лукреция, – мы нашли лед таким крепким, что он только сильнее затвердел, хотя мы все беспрерывно озаряли его лучами своего благоволения. – Тогда узнайте мое решение, – внезапно сказал Цезарь. – Оно было торжественно обсуждено в присутствии господина де Латремуйля и его благородных товарищей. Так как все очевидцы турнира признают благородных синьоров Орсини и Лебофора неповинными в напасти, постигшей их соперника, видят в ней лишь несчастную случайность и приписывают им одинаковые заслуги, одинаковую славу, то мы заявляем, что приз может быть присужден только после бранных подвигов, а потому тот из этих синьоров, который по решению дам превзойдет всех храбростью на ратном поле во время предстоящего завоевания Неаполя, удостоится победного венка. Таким способом мы узнаем, действительно ли дамы чтят истинную доблесть, или же только обманчивое подобие силы и храбрости, которые они находят у тех, кто, обладая этими качествами в избытке, умеет владеть собой. Все присутствующие, за исключением иоаннита, ответили на эту речь единодушным возгласом одобрения. Воинственный дух проснулся даже в папе, и он громко изъявил свое согласие. Лебофор бросил тревожный и страстный взгляд на Лукрецию, которая, видимо, побледнела. Однако, она заметила, что взоры Цезаря устремлены на нее, и тихо промолвила: – Рыцарь-иоаннит не находит более нужным оспаривать награду, а потому я надеюсь, что нам, дамам, нет надобности подвергать своего борца столь суровому соревнованию. Альфонсо был совершенно ошеломлен. Хотя он, в качестве стойкого приверженца Франции, чувствовал, что было политической лестью служить таким образом тайно под знаменами французов, однако, мысль о безопасности Лебофора заставила его решиться. – Я принимаю ваш вызов, благородный синьор, – сказал он Цезарю, – тем более, что при этом можно избавить от карающей роли мой меч, острие которого притупляют старые воспоминания. Глаза Лебофора засверкали, и он был готов дать резкий ответ. Однако, Лукреция, к удивлению всех присутствующих, прикоснулась к его руке и удержала юношу повелительным взором. – Успокойтесь, успокойтесь, прошу вас всех, – сказала она, внезапно бросив на Цезаря крайне зоркий взгляд. – Я охотно доверила бы защиту благородного дела мечу английского рыцаря против благороднейших рыцарей в мире, и потому вы не должны удивляться, что я почитаю его, как только когда-либо чтил храбрость наш слабый пол. Но я признаюсь в такой же любви ко всем вам, и если кого-либо из вас постигнет беда, то знайте – я пожалею пострадавшего, а, быть может, и отомщу за него. Эта странная речь так и осталась неразгаданной, потому что предводитель гасконцев Иво д'Аллегр, воскликнул обидчивым тоном: – Вы говорите так, точно этот рыцарь непобедим, как сам Георгий Победоносец или древний Ахиллес! Я не смею равняться со столь испытанными мужами, но право, лучший рыцарь Англии нашел бы, пожалуй, между нами такого, который запретил бы ему хвастаться. – Если вы удовольствуетесь худшим, благородный синьор, то я и вашим услугам, – с горячностью подхватил Реджинальд. – Надеюсь, я не совсем забыл наставления своего деда, который рассказывал мне, каким образом ему удалось присутствовать на коронации нашего юного короля Генриха Шестого в Париже. – Славный ответ! – с добродушным смехом заметил Латремуйль. – Запомните это хвастовство, господа французы, и если улыбка ваших возлюбленных не способна заставить вас отнять славу у этого англичанина с острым языком, то пусть вас побудит к тому воспоминание о его бахвальстве. Таким образом затянулся странный спор между тремя славными участниками юбилейного турнира и начал привлекать к себе внимание всех рыцарских дворов в Европе. Но он оказался теперь близким к разрешению. Французское войско провело на своей стоянке лишь несколько дней, и римлянам пришлось полюбоваться еще одним величественным зрелищем, когда оно выступило в поход. Весь папский двор смотрел на него с высоких валов крепости Святого Ангела. Французские военные силы следовало признать несоразмерными затеянному предприятию, как ни кичились французы недавним завоеванием Милана и легкими победами Карла VIII. Их двенадцатитысячная армия состояла преимущественно из отборнейших французских рыцарей и швейцарской пехоты, почти непобедимой в поле благодаря военной выдержке и опыту, а римское дворянство выставило от себя еще около 5 000 человек. Когда вся эта армия двигалась по мосту крепости Святого Ангела, весь папский двор и дамы посылали воинам прощальный привет с крепостных валов, а папа благословлял их. Народ ликовал, пушечная пальба сливалась с военной музыкой и барабанным боем. Не замечая того, что взор Паоло почти впервые устремлен на него с подозрением, Лебофор появился с разорванным шарфом Лукреции на шее, который был отвергнут раньше Альфонсо. Внимательным наблюдателям показалось, что Лукреция послала воздушный поцелуй английскому рыцарю в отдельности, а Бембо заметил, что, когда скрылся из вида последний штандарт, ее глаза наполнились слезами. – Кого удостоили вы своего сожаления, прекраснейшая синьора? – полюбопытствовал Бембо нежным тоном. – Как известно всякому, не в моем характере улыбаться только одному, как и оплакивать одного, – с притворной живостью возразила Лукреция. – Мне стало грустно лишь при мысли о том, что немногие из этих воинов вернутся домой, чтобы радовать взоры своих матерей и тоскующих невест. Стены Рима вскоре остались позади удалявшегося войска, а вокруг него простиралось теперь мертвое уединение. Кампаньи. Дальновидные наблюдатели понимали уже многое в политике партии Борджиа. Цезарь внезапно обнародовал распоряжение, по которому все владения рода Колонна были объявлены отчужденными, и подстрекал род Орсини занять их в пользу папы или свою собственную. Еще яснее обнаруживались планы этих людей в мероприятиях, к которым прибег папа немедленно по выступлении союзных войск, причем подверглись притеснению многие мелкие дворяне, укрепленные замки которых были заняты им под разными предлогами. Не обращая внимания на великолепные виды, развертывавшиеся кругом, войско вступило в степи Понтийских болот. Эти места представляли в то время бесконечное болотистое пространство, перерезанное там и сям мрачными лесами и обширными пустынями или горами, на скалистых вершинах которых виднелись укрепленные замки и города. Жаркий, напитанный серными испарениями воздух висел над землею, как полог, и даже самым отважным становилось жутко. Солдаты, знакомые с народными сказаниями и пораженные прелестью уединенных оазисов, попадавшихся здесь в виде зеленых цветущих островов в необозримой пустыне, думали, что попали в заколдованную область, которая была так богато украшена, чтобы заманивать неосторожных путников. Между тем слава, за которую собирались сражаться соперники – Альфонсо, Паоло и Лебофор, – словно по какому-то высшему велению убегала от них. Несчастный неаполитанский король, пораженный множеством ополчившихся против него врагов, решил защищаться только в укрепленных городах. Ближайшим из них была Капуя. Цезарь объявил теперь во всеуслышание, что по тайному уговору между гарнизонными войсками он возьмет город, как только появится перед его воротами. Было известно, что в гарнизоне Капуи преобладали немецкие наемники, что там недоставало выдающегося вождя, что город переполнен напуганными беглецами, и французские полководцы твердо верили обещанию своего хитрого союзника, хотя он не сообщил им, на чем основывались его расчеты. А между тем, весь его план зиждился на том, что в Капуе находилась его возлюбленная Фиамма. Он послал ее туда для того, чтобы она уговорами и подкупом склонила начальников наемных немецких войск сдать город войскам папы. План был составлен хитро, но осуществление его произошло не совсем так, как рассчитывал Цезарь, о чем рассказано ниже. Войско подвигалось вперед, не встречая ни малейшего признака сопротивления, и, когда достигло спуска с гор, господствующих над равниною Вольтурно, перед ним открылась Капуя со своими башнями и зубчатыми стенами у подножия высокого холма. Вокруг нее цвел рай Италии, счастливая Кампанья. На каждом склоне зеленели виноградники. Рощи померанцев, лимонов и гранат наполняли воздух благоуханием, блестящая зелень лугов была так густо усеяна цветами, что они казались одинокими садами, тогда как на далеком горизонте виднелась вершина Везувия и полоса Средиземного моря. После своих заявлений Цезарь двинулся с итальянцами к городу, чтобы добиться сдачи. Его сопровождала многочисленная свита полководцев, между которыми находились и Альфонсо, Паоло и Реджинальд, смотревшие с неудовольствием на возможность мирной сдачи города. Герольд в белом предшествовал им. Дорога окаймлялась с обеих сторон померанцевыми рощами и цветущими липами и вела к роскошным лугам и садам под самыми городскими стенами. Фиалки и жасмин цвели даже в крепостных рвах у подножия земляных валов, и от всего окружающего веяло такой мирной идиллией, что было странно увидать на валах множество вооруженных людей, петарды, пушки и солдат с горящими фитилями в руках. Удивление нападающих возросло еще более, когда на требование герольда над воротами появился вооруженный предводитель и воскликнул: – Перемирие? Послушаем герцога Болонского! Это был хорошо знакомый голос Фабрицио Колонна. Повсюду носились слухи, что партия рода Колонна удалилась с войском короля Федерико, и присутствие страшного Фабрицио сулило неудачу плану Цезаря. Однако, он бесстрашно опередил на несколько шагов свою свиту, придержал коня и предложил городу сдаться его законному главе, папе. – Я не удивляюсь вашему требованию, мой любезнейший и учтивый убийца из-за угла, умертвивший родного брата, тиран и притеснитель! Ведь вы воображаете, что ведете переговоры с предателем Филиппе Маасом, а не с Фабрицио Колонна, который находится в Капуе, чтобы защищать город, принадлежащий его государю, королю неаполитанскому, против целого света, против святого отца и самого черта в придачу! – воскликнул Колонна. – По этой причине, сиятельный Борджиа, я вынужден отказать вам в приюте, но не в угощении. Вот вам дыни, чтобы утолить вашу жажду после утомительной езды до Капуи. Тут он кивнул нескольким солдатам. Те появились с большой корзиной, подняли ее над насыпью и поставили перед конем Цезаря, где она раскрылась, причем из нее выкатились шесть окровавленных голов. Даже Цезарь побледнел при этом ужасном зрелище и, с трудом успокоив лошадь, устремил взор на окровавленные лица казненных с неподвижными стеклянными глазами и слипшимися от крови волосами. – Разве тут не все те подлые негодяи, которые под влиянием твоих происков хотели сдать тебе этот город? Или ты ищешь между ними безусые уста твоей любовницы, чтобы расцеловать их? – с горьким смехом спросил Фабрицио. – Подожди несколько часов, и я пришлю ее голову с помощью одной из этих бомб к тебе в палатку и сердечно поблагодарю тебя за то, что своим последним вероломством ты дал мне предлог смыть ее кровью выродка позорное пятно с племени Колонна. – Как тебе угодно, – ответил Цезарь. – По крайней мере, ты спровадишь ее в рай правоверных турок, и султан будет стоять у входа, чтобы приветствовать свою возлюбленную. Как тебе угодно! А мое равнодушие при этом засвидетельствует миру, насколько были несправедливы твои обвинения. – Собака! – воскликнул Колонна. – Ведь она грозит мне твоим мщением, только твоим, как влюбленного в нее любовника, если я вырву ее из святилища, куда она скрылась, чтобы оградить себя от моей мести. Но я вправду сделаю это, если бритые головы не выдадут мне ее до заката солнце! – Вот я и опровергну твои слова, – возразил Цезарь. – Святилище находится в соборном храме, в центре Капуи, которую я передаю самой грубой ярости солдат и клянусь, что не пойду ни на какие уступки. Как представитель церкви, я лишаю всяких прав убежища каждый храм, каждую часовню в этих стенах, предаю проклятью весь город и отлучению всех, кто окажет сопротивление нашему повелителю, папе. Итак, ступай и делай, что хочешь с изменницей, с языческой любодейкой, со своею племянницей, из-за которой ты нападаешь на меня, чтобы Италия поверила твоей лжи о смерти султана Зема. – Даю тебе сроку, пока догорит этот фитиль, после чего наши пушки очистят воздух от твоего тлетворного присутствия, – ответил Фабрицио, взяв у одного из солдат горящий фитиль. Цезарь презрительно засмеялся и упрямо погрозил кулаком, однако счел нужным удалиться и не спеша отъехал назад, к своей свите. Фитиль догорел. – Пли! – загремел Колонна, поддавшись своему бешенству, и швырнул фитиль за насыпь. Все бросившие ему вызов удалились, исключая Лебофора. – Еще один удар в честь веселой старой Англии! – воскликнул он и, подняв коня в галоп, метнул своим копьем, как молнией, в высокие зубцы городских стен и сам помчался к городу. В продолжение нескольких секунд только сверканье его меча и его ободряющий клич давали знать, что он еще жив в вихре дыма и пламени, окружившем храбреца. Это зрелище пробудило дух соревнования в рыцарях и, не дожидаясь ни совета, ни приказа, они решили моментально идти на приступ. Войско хлынуло к городу, и только одни швейцарцы соблюдали свою строгую дисциплину, тогда какосажденные сыпали градом пушечных ядер и стрел со своих укреплений, высота которых почти удваивалась глубиною рвов. Однако, эти преграды не замечались в первом пылу штурма. Некоторые из нападающих, очертя голову, кидались верхом в ров, чтобы переправиться через него вплавь, другие запасались приставными лестницами и осадными орудиями, отчаянно стараясь взобраться на валы, и только когда много смельчаков утонуло, было пронзено стрелами или раздавлено громадными камнями, с изумительной силой брошенными в них с валов, люди рассудительные отчаялись в успехе предприятия. Между тем, пушки французов стали отвечать на неприятельский огонь и под защитой порохового дыма войско продвигалось ближе для возобновления приступа. Проворно были сколочены плоты для переправы через ров, и отряд храбрейших рыцарей ожидал сборки одного из них, чтобы попытаться проникнуть за неприятельские стены, как вдруг появление колоссальной и тяжеловесной машины, которую везли люди Цезаря под его собственным руководством, привлекло все взоры. Она состояла из четырех длинных бревен, поставленных стоймя на громадных колесах и снабженных перекладинами так, что они образовали четыре крутых лестницы до вершины, где была устроена башенка с подъемным мостом на цепях, который мог быть моментально спущен. Даже защитники города с беспокойством и удивлением смотрели на это невиданное, громадное орудие, поставленное по приказанию Цезаря вне обстрела неприятельских пушек. Рыцари теснились к нему, чтобы узнать цель этого нового изобретения. – Оно придумано Никколо из Флоренции, – ответил Цезарь на вопросы рыцарей. – Эта осадная башня предназначается для таких городов, как этот, с высокими валами и широкими рвами, но, пожалуй, для ее применения понадобятся более смелые люди, чем те, которые находятся между нами. Кто желает последовать за тремя рыцарями-участниками турнира, которые, конечно, готовы подняться в башню, чтобы опустить подъемный мост на крепостной вал и проложить нам дорогу в осажденный город? Самые отважные промолчали при этом предложении. Только Лебофор, спрыгнув с коня и ступив на первую перекладину лестницы, воскликнул: – Мы, англичане, победим! Он поднялся с большим проворством, несмотря на тяжелое вооружение. Орсини моментально был возле него. Альфонсо, за которым теснились молодые французские рыцари, поспешил присоединиться к своим соперникам. В несколько минут башня наполнилась, на лестницах висело множество воинов, рвавшихся в бой, а натиск желавших разделить их славу был так велик, что машина с величайшим усердием продвигалась вперед. На беду, на откосе она получила сильный толчок, от которого покатилась в ров. С оглушительным треском ударилась машина в городскую стену, причем ее верхняя часть отклонилась от башни. Цезарь воскликнул. Но осажденные оторопели до такой степени, что могли только смотреть на страшную машину, не двигаясь с места. Пользуясь благоприятным моментом, рыцари выскочили из своей деревянной тюрьмы и с победным криком напали на бастион у ворот в надежде проложить дорогу своим друзьям. Сражение возобновилось со всех сторон под грохот пушечной пальбы, крики, стоны и звуки труб. Цезарь, по крайней мере, обладал военными способностями и, ободряя своих воинов среди разрушения и адского шума, собственноручно помогал сооружать из лестниц и бревен мост к катапульте во рву, чтобы они могли спешить на выручку победоносным участникам штурма. Однако, те не нуждались в подкреплении. Защитники вала со страшной стремительностью были загнаны в башню над воротами, защищавшую вход. Между тем, Фабрицио Колонна поспешил к угрожаемому пункту и стал упорно защищать башню против всех нападений полуобезумевших победителей, которые при своих бурных попытках ворваться в крепость сталкивались друг с другом. Иоаннит и Орсини так сильно столкнулись между собой, что были отброшены оба в сторону и дали возможность Лебофору пробраться к штурмующим. Храбрец, не заметивший в пылу битвы, что его меч сломан, кинулся вперед и, хотя его плащ и верхнее платье были разорваны неприятельскими копьями, проник в башню. Он одновременно с тем отрядом копьеносцев выскочил из противоположной башни, с ожесточением напал на штурмующих с тыла, и разрубил цепи заслона над воротами, который с оглушительным треском рухнул вниз, едва не размозжив череп иоанниту. Лебофор очутился среди разъяренных врагов в башне, вход в которую был заперт, тогда как его друзьям, дравшимся снаружи, приходилось теперь защищаться самим против нового нападения. Но пока они в большом смятении готовились к отпору копьеносцев, осажденные собрались на зубцах башни. Там вспыхнуло яркое пламя и вдруг на головы осаждающих хлынул поток горящей смолы. Объятые пламенем некоторые из них в беспорядке ринулись вперед и многие были сброшены с вала в ров, где задохнулись под тяжестью своих доспехов. Однако, большинство рыцарей выстроилось снова в боевом порядке и отражало нападение копьеносцев с непоколебимым мужеством. Произошла жестокая рукопашная схватка на валах, сопровождаемая оглушительным шумом, который производили многочисленные отряды, теснившиеся внизу. Среди этой сумятицы ужасы кровавой резни достигли своего кульминационного пункта, и у осаждающих, казалось, была отнята всякая надежда на подкрепление. Ров вокруг их осадной машины внезапно запылал огнем, и пламя принялось бушевать в нем, как будто он был наполнен скипидаром, серой и прочими горючими веществами. Поднялся крик, предупреждавший, что подобные приготовления были сделаны вокруг всех валов, охваченные паникой солдаты бежали из крепостных рвов, побросав там свои осадные машины, лестницы и оружие. Услышав на валах крик и увидев беглецов, штурмующие, теснимые неприятелем, оставили всякую надежду. Они думали только о бегстве и, хотя машина Цезаря во рву была объята пламенем, рыцари все-таки спрыгнули на нее и уцепились за бревна. Однако, огненная бездна, пылавшая внизу, не соблазняла находившихся ниже всех спуститься еще глубже. Дон Мигуэль, скакавший верхом рядом с Цезарем, радостно крикнул ему: – Всем троим пришел конец, и донна Лукреция должна винить только себя! – Смотри, Мигуэль, кто это протягивает иоанниту руку, чтобы отвести его в безопасное место, и ловко увертывается от всех ударов? – так внезапно и сердито воскликнул Цезарь, что каталонец сильно встревожился, и его беспокойство еще усилилось при виде того, как герцог впился в происходившую перед ним сцену глазами. – Я вижу только одного: это – Фабрицио, благородный синьор, – ответил Мигуэль. – Глупец! – раздражительно продолжал Цезарь. – Уж не воображаешь ли ты, что зрение обманывает меня? Я различаю его совершенно ясно. Многочисленный отряд воинов, собравшийся вокруг Фабрицио, с громким победным криком схватил несколько бревен, подсунул их под неуклюжую машину, и приподнял ее с нечеловеческой силой, чтобы моментально уничтожить всех, стоявших на ней. Толстые бревна дрожали секунду в равновесии, а потом с такою силой рухнули назад, что почти все стоявшие наверху били сброшены, а многие раздавлены при падении. После этого нападающие ограничились тем, что вытаскивали солдат из горящего рва, восстанавливали порядок и поддерживали артиллерийский огонь с целью препятствовать вылазке неприятеля. Осадную машину Цезаря не было возможности спасти, она была объята пламенем. Множество солдат сгорело и было изуродовано, однако, наибольший урон понесли рыцари. Между ними не досчитывалось Лебофора. Хотя его судьба не были известна в точности, но едва ли оставалось сомнение в гибели молодого англичанина. Несмотря на уважительные причины неприязни к нему, сердце Альфонсо опять загорелось былой дружбой, когда он припомнил блестящие достоинства и печальную участь юноши. Однако, это благородное чувство поколебалось опять, когда старик Бэмптон в несвязной болтовне принялся роптать на одну женщину, предательские обольщения которой довели до гибели его молодого господина. Ярость и горе Орсини были не менее жестоки, и только мщение, которым он угрожал убийцам, могло удержать старика от отчаяния. Никаких верных сведений нельзя было добыть Фабрицио не допускал никого ни под каким предлогом приближаться к городским стенам. Тогда французы решили повести правильную осаду. Однако, для полного обложения Капуи понадобилось несколько недель. Наконец, оно завершилось, после чего город стал подвергаться беспрерывному обстрелу французской артиллерии, которая и тогда уже считалась первой в Европе. Вскоре было замечено, что город лишь слабо отвечал на неприятельский огонь. Было пробито много брешей, причем осажденные не прибегали к обычным средствам починки этих повреждений, однако, осаждающие изведали мужество защитников Капуи и потому продолжали расширять бреши, избегая возобновлять приступ, не собравшись предварительно с силами. Но вот однажды все с удивлением заметили, что крепостные валы совершенно покинуты. Французские вожди опасались военной хитрости со стороны неприятеля, а так как у них не было никакой возможности переправиться через ров, то они отложили всякую попытку напасть на город. Под вечер на бастионе появился Фабрицио с белым шарфом, повязанным на его жезле. Увидев иоаннита, который в мрачной задумчивости наблюдал за работами осаждающих, он обратился к нему и ослабевшим голосом попросил его прислать уполномоченных для переговоров о сдаче Капуи, причем добавил, что французские полководцы доставили бы ему большое удовольствие, если бы поручили ведение переговоров о сдаче именно ему, Альфонсо. Поощренный этим иоаннит в сильном волнении рискнул осведомиться об участи английского рыцаря. – Скажите Цезарю, – ответил Колонна, – пусть он пришлет за его трупом, если желает из братской любви отослать его к Лукреции. Злобная улыбка, сопровождавшая эти слова, до того взволновала Альфонсо, что он предпочел промолчать. Весть о сдаче вызвала всеобщее удовольствие. Так как во время осады иоаннит дал массу доказательств своего ума и храбрости, то Цезарь поддержал просьбу Фабрицио уполномочить феррарского рыцаря на ведение переговоров. Кроме того, он с приветливостью попросил его добиться выдачи тела английского рыцаря, чтобы можно было похоронить храбреца со всеми воинскими почестями, и с этой целью сам хотел сопровождать иоаннита до городских ворот с носилками, а потом следовать в погребальной процессии с рыцарями и военачальниками, которые пожелают отдать дань уважения доблестному воину. Эти слова почему-то невольно вызвали тревогу в сердце Альфонсо, однако всякие возражения были здесь, конечно, не уместны, в город был отправлен герольд с известием, что посол готов предстать перед вождями. Фабрицио ответил, что будет ждать его завтра поутру. На другой день весь лагерь поднялся рано. Однако, отправка Альфонсо для переговоров была благосклонно принята лишь предводителями войска, свирепые же и грубые солдаты пришли в бешенство узнав, что лишаются кровавого торжества и наживы, которую сулил им грабеж богатого города. Когда Альфонсо тронулся в путь, за ним в некотором отдалении последовал мрачный кортеж, состоявший преимущественно из свиты Борджиа и Орсини. Их значки были из черного бархата и они волочили за собою свои копья по земле. Босые монахи из соседнего монастыря сопровождали их с погребальным пением и горящими факелами. За ними шли два герольда с черным флером поверх пестрой одежды. Бэмптон вел под уздцы, под черным бархатным чепраком, с султаном из перьев боевого коня своего господина. Далее следовали носилки, сделанные из двух молодых березок, повитые зеленью кипарисов, которые несли английские стрелки. Цезарь добился того, что все войско должно было встретить в боевом строю прах павшего героя. Внимание гарнизона было привлечено всеобщим движением в лагере, и лишь по выяснении этого обстоятельства Альфонсо был допущен в город. Для него был спущен подъемный мост, который полагалось снова поднять по военным правилам, когда посол минует ворота. Монахи также вошли в город, а Цезарь с людьми, несшими носилки, вдруг быстро кинулся вперед и остановился на мосту, против чего караульный солдат – здоровенный немец – не сделал никаких возражений. Альфонсо, между тем, медленно ехал по улице, которая вела к замку, причем приветственные крики народа и потупленные взоры попадавшихся ему солдат ясно говорили, что произошло какое-то событие, облегчившее сдачу города Цезарю. Альфонсо нашел Фабрицио в одной из комнат замка, в нише окна, по-видимому, занятого наблюдением за какой-то работой, производимой на площади или на валах. Ему пришлось дважды докладывать о прибытии посла, прежде чем он обратил на него внимание, так что Альфонсо успел рассмотреть то, что так сильно приковывало его взоры. Напротив окна возвышались башни собора, громадные двери которого были заперты а все пространство между храмом и замком было битком набито молчаливо стоявшим народом, который, судя по всему, ожидал чего-то необычайного. – Рыцарь, – заговорил Колонна, внезапно подняв голову, вы увидели слишком многое, но я рассчитываю на ваше благородство. Перейдем к нашему делу. Не будь этого мятежного сброда и лукавых козней дьявола в образе женщины... Впрочем, это сюда не относится... итак, к делу! Альфонсо был крайне удивлен этими речами, и всем виденным, однако, промолчал о том и пожалел о положении Колонны. Он искренне желал, чтобы тот не колеблясь принял благоприятные условия, которых ему, конечно, не предложили бы вторично, если бы знали лучше его положение. Предложенные условия сдачи встретили мало возражений со стороны вождя и его офицеров, но Фабрицио прибавил одну оговорку, на которой настаивал с жаром, внушившим подозрение иоанниту, а именно, потребовал, чтобы наказание, которому он вздумал бы подвергнуть заведомых изменников, сносившихся с неприятелем, не было сочтено нарушением условий обоюдного освобождения пленных. Альфонсо заявил, что французы ни в каком случае не пойдут на столь безрассудную и унизительную уступку. – Тогда им придется снова прислать мне своих уполномоченных когда казнь уже совершится и не будет больше подлежать спору, – ответил Фабрицио. – Вы слишком благородны, чтобы довести меня до крайности. Знайте, я скорее готов погибнуть под развалинами, чем допустить дочь своего брата вновь сделаться любовницей подлого соблазнителя, да, да, дочь родного брата, отвратительную ведьму, которая возбудила моих людей к мятежу, а наемных солдат подкупила деньгами, и которая даже теперь, умирая с голоду в соборе, повсюду брызжет своим ядом! Своими пророчествами и безумствами она склонила народ к сдаче города и предвещает, что никакая власть на земле не может противиться военному счастью второго Цезаря. Но я запер ее. Замок и гарнизон еще верны мне, а своими пушками я могу превратить город в груды мусора. И я поклялся, что сделаю это, если мне не выдадут виновной для справедливого наказания, но не допущу, чтобы она попала после сдачи города вновь в развратные объятия Борджиа. – Этого не может быть, благородный синьор, – возразил Альфонсо. – Я всегда слышал, что она была любовницей языческого султана. – Тогда тем менее будет страдать Борджиа при виде постигшей ее справедливой кары. Монахи ищут только благовидного предлога для ее выдачи, потому что бдительность моих людей тяготит их. Если вы не можете договориться относительно этого пункта, то подождите еще немного, и в этом не окажется больше надобности. Тут Фабрицио гневно распахнул окно, и Альфонсо увидел площадь, наполненную вооруженными людьми, которые медленно и с ропотом сопровождали рыцаря в доспехах, но безоружного, и со связанными руками, как будто он был пленником. – Кто это? – воскликнул Альфонсо, вскакивая с места. – Этого не может быть... а между тем, это – он, рыцарь Лебофор! – Ха-ха! – разразился диким смехом Фабрицио. – Если прелестница Борджиа не околдовала и вас, то посмейтесь вместе со мною. Не правда ли, как ловко я надул ревность ее партии? Я пощадил английского рыцаря за его несравненную храбрость. Неужели вы все еще сомневаетесь? Пойдемте, поздравьте его с освобождением! (обратно)ГЛАВА III
Альфонсо машинально последовал за Фабрицио. Они пришли на площадь и стали пробираться в густой толпе народа. Их сопровождал беспрерывный тихий ропот, однако, внимание большинства было устремлено на собор, под громадным порталом которого Лебофор разговаривал с несколькими людьми. Он говорил громко, и Альфонсо мог ясно расслышать, как молодой англичанин объявил, что святилище может спокойно выдать изменников, нашедших в нем убежище, так как весь город предан отлучению уполномоченным церкви, герцогом Цезарем Борджиа, потому все священные места лишены своих привилегий. Когда Фабрицио и Альфонсо стали подниматься на ступени соборного крыльца, слова Реджинальда, очевидно, успели произвести свое действие. Изголодавшиеся стражи святилища, которое было окружено тесным кольцом караульных по приказу Колонны, несмотря на сопротивление толпы, открыли массивные двери храма. Тотчас же глазам присутствующих предстали два бледных и дрожащих инока весьма преклонных лет, изнемогавшие от долгого поста и страха. В глубине храма виднелся главный алтарь, а под расписным окном, в углублении, похожем на склеп, сидела женщина. Закутавшись в дорогой плащ, скрестив руки, она опиралась подбородком на колени и, как безумная, смотрела во все глаза на непрошеных пришельцев. Лебофор обнаружил величайшее смущение. Тихий, печальный ропот поднялся в толпе народа и даже воины готовые схватить несчастную, боязливо колебались. – Ах, вы, трусливый сброд! – загремел Колонна. – Разве вы не слыхали об отлучении, объявленном вашим святейшим отцом в Риме? Следуйте за мною и тащите нечестивую из ее норы, или я начну поругание храма, размозжив череп первому, кто окажет сопротивление на пороге! – Благородный и рыцарский подвиг совершил ты, предав женщину! – крикнул Альфонсо Лебофору и, оттолкнув его, проник за Фабрицио в церковь, однако, его сердце забилось от растерянного и негодующего взора, который бросил на него английский рыцарь. Фабрицио торопливо вошел в храм, монахи дрожа следовали за ним, и даже солдаты шли неохотно и боязливо. Когда Лебофор был удален, Колонна хотел ороситься на ступени алтаря, чтобы схватить свою жертву, которая с диким воплем уткнулась в колени своим призрачно-бледным лицом. – Хватайте ее! – воскликнул он. – О, ты можешь закрывать свое лицо, отвратительная развратница, позорное пятно моего рода, чумная болячка, которую нужно срезать, чтобы зараза не распространилась на всех! Сто золотых тому, кто первый схватит изменницу! Однако, Альфонсо стал увещевать его: – Благородный синьор, вспомните, что вы собираетесь пролить кровь своего родного брата. – Неправда! – с дикой яростью возразил Колонна. – Я хочу сжечь ее живьем, как ведьму, как языческую блудницу, как монахиню отступницу. – Ну, тогда, Колонна, клянусь святостью этого места, если вы не сжалитесь над несчастной, я удалюсь, сообщу, насколько слаба ваша власть над населением города, и заключу с вами мир лишь на условиях, влекущих за собою гибель. Однако, эти слова не зажгли ни искры надежды в душе несчастной женщины. Она подняла голову, устремила дикий взор на своего заступника и, несмотря на ужас, искажавший ее черты, Альфонсо узнал в ней когда-то блестящую фею Моргану. – Нет, рыцарь, не заступайтесь за меня, в особенности из-за крови, которая течет в моих жилах, иначе она закипит и даст себя знать! – воскликнула Фиамма со спокойствием отчаяния. – Я не прошу никакого милосердия у тебя, брат Агацит Колонна. Но тягчайшее проклятие, гораздо хуже, чем отлучение Александра, угрожает вам, лукавые монахи, так постыдно предавшие святилище Господне! – Дочь моя, – возразил один из монахов, – мы чуть не умерли от голода из-за тебя, и были вынуждены питаться Святыми Дарами. – Я пощадила вашу совесть и не участвовала в том, – сказала Фиамма. – Святилище не поругано, – возразил Альфонсо. – Представитель церкви нарочно наложил отлучение на весь город и отнял у священных убежищ их защитительную силу, чтобы доказать свету, что он не соблазнял тебя, и что ты была любовницей не его, а султана Зема. Фиамма вздрогнула. Когда она устремила на говорившего недоверчивый и испуганный взор, его благородные и серьезные черты, казалось, сильно удивили ее. – Может ли такой человек, каким кажешься ты, лгать, не краснея – воскликнула она. – Неужели угрожающая мне смерть недостаточна для вашей мстительности? Но то, что ты сказал, – ложь, ложь!.. Тогда Фабрицио вновь со страшным проклятием повторил свое обвинение. В чертах Фиаммы отразилось жестокое волнение, которое было ужаснее прежнего, вызванного грозившей ей смертельной опасностью. – Вы лжете, лжете! – закричала она. – Дайте мне только час, только мгновение, чтобы я могла известить его о вашей жестокости, и если он не сравняет с землею ваших стен для моего спасения, то ад настолько же правдив, насколько он лжив. – Хватайте ее, говорю я вам, подлые трусы! – завопил Фабрицио. – Топор должен напиться ее крови, прежде чем пламя пожрет ее тело, которого никогда больше не увидеть ее изменнику! – Остановитесь, Колонна, – воскликнул иоаннит, – если не хотите сделать угодное Цезарю, своему заклятому врагу! Разве вам не ясно, что он ищет ее гибели, может быть потому, что она поверенная его преступлений или наскучила ему, или потому, что он хочет устранить ее, как предмет соблазна? Не давайте обмануть себя, благородный синьор! Сам Фабрицио, казалось, был поражен этими доводами. Однако, они вызвали сильнейшую ярость в Фиамме, в пользу которой клонились. – Еще раз говорю, что ты лжешь, – воскликнула она. – Да может ли человек быть способен на подобное предательство? Нет, ты – дьявол и послан сюда, чтобы увлечь меня с собою в ад. Только Фиамма вымолвила эти гневные слова, как внезапно на площади поднялся шум. Это был уже не говор взволнованной черни, а крик, вой и топот множества бегущих вперемежку с трубными звуками. Фабрицио испугался открытого бунта простонародья, подумав, что оно пожалуй, спешит на защиту храма от поругания его убийством Фиаммы, и сделал нерешительное движение, точно собираясь схватить племянницу. Однако, Альфонсо уцепился за его руку, а молодая женщина вбежала на ступени алтаря и, схватив один из массивных золотых сосудов, крикнула: – Спасение! Спасение! Он идет, он идет! Фабрицио слегка побледнел. Теперь можно было ясно разобрать в оглушительном гаме слова, повторяемые хором: – Измена... измена! Борджиа! Орсо... Орсо! Мщение... мщение! – Лукавый рыцарь, ты предал меня! – яростно обратился Фабрицио к иоанниту, хватаясь за кинжал. – Нет, нет! Не будьте же так суровы к этой виновной, но тем более несчастной женщине! – и Альфонсо решительно стал между дядей и племянницей. – Это – лишь новая выдумка черни! Я прекращу беспорядок, размозжив несколько черепов. Идите со мною, рыцарь! Мне нужен залог вашей верности! – крикнул Фабрицио, все более и более озадачиваемый звуками, ясно выделявшимися из общего шума. Альфонсо охотно уступил ему, и они поспешили вдвоем к выходу из собора, перед которым толпились, выпучив от страха глаза, солдаты и чернь, тогда как зубцы крепости были унизаны беспорядочными массами сражающихся, которые часто срывались с них и стремглав летели вниз. Орудия палили у ворот, выходивших на дорогу, по которой Альфонсо прибыл в Капую. Фабрицио обернулся вне себя от ярости на его мнимое предательство и без сомнения жестоко отомстил бы ему, если бы Альфонсо не успел сообразить с первого взгляда, что именно произошло. Он с большим проворством и присутствием духа отступил обратно в собор и запер на засов крепкие двери храма. Между тем, пораженный успехом нападающих, Фабрицио громко скомандовал своим солдатам двинуться вперед и бешено помчался верхом сквозь толпу черни к крыльцу замка. Но в момент его прибытия ворота крепости распахнулись и отряд всадников и пехотинцев хлынул оттуда с криком: «Смерть ему! Смерть ему!». Колонна был тотчас окружен многочисленным неприятелем. Его оттеснили в сторону и непременно покончили бы с ним, если бы один из нападающих не прикрыл обреченного на гибель вождя своим щитом. Это был его недавний пленник, рыцарь Лебофор. Масса победителей катилась вперед, убивая каждого, кто становился на дороге. Толпы народа безжалостно растаптывались конскими копытами и падали под ударами неприятельских мечей. С неослабевающей яростью Цезарь сам руководил резней, тогда как Орсини и английские стрелки, хотя и нашедшие своего предводителя здоровым и невредимым, были охвачены какой-то бешеной жаждой разрушения. Альфонсо не сомневался, что город взят посредством предательского нападения, но мог только догадываться о конечном результате за массивными дверями святилища, которые испуганные монахи снова крепко заперли. Он не, знал, с какой стороны угрожает ему большая опасность. Шум и рев на улице, крик и вой вблизи и вдали, страшное ожесточение, с каким гнали массы народа к соборным дверям, адский топот, крики торжества, особенно со стороны французов, – все возвещало победу союзных войск. Эта догадка вскоре подтвердилась, когда послышались страшные удары боевых секир и копий в дверь, а до слуха Альфонсо донесся голос Цезаря: – Никаких священных приютов! Никакой пощады! Фиамма, по-прежнему стоявшая на ступенях алтаря, обхватив руками массивные сосуды, с вылезшими из орбит глазами, дико смотревшими на рыцаря, с разметавшимися черными локонами, похожими на гриву испуганной лошади, еще издали узнала этот голос и принялась оглашать церковные своды безумными криками радости: – Спаси! Я здесь! Цезарь, спаси! – Эй, вы! Здесь нет никого, кроме Фиаммы и меня, иоаннитского рыцаря! – воскликнул в свою очередь Альфонсо и застучал во всю мочь рукоятью своего меча в двери, чтобы его выслушали. – Взломайте двери! Убивайте каждого, кого найдете там! – кричал Цезарь. – Убивайте всех... всех! Смерть колдунам! Умерщвлять их – благочестивый подвиг. Фиамма не слышала этих слов, призывая на помощь тех, кому оказывала столь важные услуги, и сам Альфонсо на одну минуту счел вздором молву о ее связи с Цезарем. Но, когда он услыхал решительные приказания Цезаря не щадить никого в священном убежище, досада и бешенство в его душе разрослись почти до безумия. Он, правда, не сомневался, что будет узнан и принят под защиту некоторыми из числа нападающих, но решил во что бы то ни стало спасти и Фиамму. В надежде, что крепкие двери выдержат удвоенный натиск атакующих, Альфонсо поспешил назад к алтарю, но едва приблизился, как Фиамма подняла один из массивных серебряных сосудов, и громко закричала, что швырнет им в своего защитника, если тот сделает еще шаг в ее сторону. – Я хотел бы защитить вас, – сказал иоаннит, – иначе вы погибнете. Я слышал, как Цезарь приказывал нападающим убить вас, как колдунью и языческую любодейку. – Ты лжешь, предатель! – возразила она. – Цезарь не остановился ни перед чем, чтобы спасти меня. На помощь, Цезарь! Спаси свою Фиамму! Тут с оглушительным треском распахнулись двери собора и в него ворвался всадник, размахивая саблей. Бесчисленные искры брызнули из-под копыт его лошади, ударявшей подковами в каменные плиты пола. Вслед за ним кинулись копьеносцы. Церковь в миг наполнилась потоком беглецов и воинов. Всадник осадил своего коня и гнал прочих вперед. Однако Фиамма узнала его и хотела спрыгнуть со ступеней алтаря, восклицая с ликованием: – Цезарь!.. Мой Цезарь, я здесь! Однако Альфонсо кинулся вперед и схватил ее с такой силой, что она не могла вырваться. – Кто эта женщина? – спросил Цезарь. – Она зовет нас так фамильярно, как свою собачку. Не знаешь ли ты ее, Мигуэлото? – Правда, ужас и тревога изменили мои черты. Но... неужели ты не узнаешь меня, Цезарь? – произнесла Фиамма с тревожным воплем, заглушавшим весь шум и гам, наполнившие церковь. Но в ответ на это раздалось: – Действительно, ты – моя жена, прелюбодейка. Не правда ли, жена коменданта крепости Святого Ангела? Я – твой супруг, награжденный тобою рогами на потеху карнавала. Это произнес Мигуэлото, которому Цезарь приказал во что бы то ни стало уничтожить Фиамму. Замахнувшись окровавленной боевой секирой, он подскакал к ступеням алтаря, но не успел достаточно близко приблизиться к своей жертве, чтобы исполнить свое злодейство, иоаннит загородил ему дорогу и, швырнув свой щит на голову его лошади, поверг на землю коня и всадника. – Слушайте все! Эта женщина теперь моя! – крикнул Альфонсо, а затем, схватив одной рукой Фиамму, указал своим обнаженным мечом на поверженного каталонца: – Берите себе из добычи, что вам полюбится, но эту оставьте мне. Синьорита, пойдемте со мною, иначе вы погибнете. Солдаты, вы знаете меня! Однако, несмотря на это обращение к солдатам, на его испытанную силу и храбрость, Альфонсо, пожалуй, пришлось бы плохо, если бы в эту минуту на его счастье в собор не прискакали Лебофор, Орсини и французские рыцари, крича: – Священный приют, священный приют! Спасайте синьориту! – этот крик прервал на минуту ужасное избиение, происходившее вокруг и успевшее уже обагрить кровью раки святых мощей и усыпать изуродованными трупами каменный пол. – Рыцарь-иоаннит здрав и невредим! – тотчас воскликнул Цезарь. – А мы-то все яростно спешили отомстить за его гибель! Теперь действительно наша слава и победа не омрачены ничем, и я прощаю рыцарю Реджинальду, что он спас Фабрицио от заслуженной им участи изменника и убийцы. – Берите же себе, Цезарь, всю эту славу, которую будет оспаривать у вас только ад, – ответил Альфонсо, – единственным трофеем этой предательской победы, которым я хочу воспользоваться, должна быть... вот эта прекрасная возлюбленная султана Зема. – Как, благочестивый рыцарь, ненавистник женщин? – воскликнул Цезарь с язвительным и злобным хохотом, раздавшимся на весь собор. – Вы берете себе женщину? – Да, да, вполне справедливо, что она послужит наградой рыцарю-иоанниту, – воскликнул Орсини. – Вы должны гордиться своим триумфом, синьорита. Ведь его не удалось удержать ни единой из наших римских красавиц. – Вырви меня из когтей этого человека, Цезарь! – вопила Фиамма. – Что значит все это? – Я хочу только оградить вашу честь и безопасность, – воскликнул Альфонсо, – иначе пусть обрушатся на меня эти священные своды. Клянусь, что я намерен с глубоким почтением отвести вас под защиту Фабрицио Колонны, если он взят под стражу французами. Однако, эти слова как будто еще усилили страх молодой женщины, и она, словно обезумев, бросилась на колени почти под копыта коня Цезаря, который высоко взвился на дыбы. – Правда, прекрасная синьора, – сказал Цезарь, продолжая заливаться своим страшным хохотом, – эта причуда кажется нам весьма странной, но мы не хотим отнимать тебя у священного рыцаря. Впрочем, если ты боишься, то вот тебе мой кинжал. Тут он насмешливо протянул ей рукоятку острого и окровавленного кинжала. Однако, Фиамма, подняв кинжал высоко над своей головой и, глядя Цезарю в глаза, крикнула: – Слушай, изменник и предатель! Я напомню тебе предсказание твоего колдуна Савватия, что тебе суждено со временем быть обязанным мне своей жизнью или потерять ее. Говори же, должна ли я ударить в свое сердце, потому что твое собственное тверже стали! – Она сумасшедшая, – с видимым беспокойством сказал Цезарь. – Голод и страх лишили ее рассудка. Но нам не следует забывать, что при настоящей великой победе она оказала нам кое-какие услуги. Мигуэлото, отведи ее в замок с прочими пленными женщинами. – Я один провожу ее, – воскликнул иоаннит, когда Мигуэлото, шатаясь, двинулся вперед. Рыцари, в особенности Орсини и Лебофор, поддержали его притязания при общем хохоте и ругательствах, и Цезарь уступил как будто без затруднений. Фиамма полубессознательно позволила иоанниту увести себя прочь, но шла за ним, повернув голову назад и не спуская взора с Борджиа, пока не скрылась за дверями собора. Капуанский замок был во власти победителей. На самых высоких башнях развевались яркие флаги с французскими лилиями на голубом поле. Чтобы достигнуть ворот, приходилось пересечь площадь. Здесь вся мостовая была завалена грудами убитых, вперемежку с конскими трупами, среди ужасающего опустошения. Нигде не замечалось и следа сопротивления, а за варварской резней последовали грабеж и всякие бесчинства и насилия. Площадь казалась покрытой развалинами после жестокого землетрясения, такой на ней образовался хаос. Богатейшая утварь, драгоценные камни, ящики с серебряной посудой, тюки шелковых материй были навалены грудами вперемежку с самыми простыми предметами домашнего обихода. Двери всех домов были взломаны и некоторые из них пылали, подожженные грабителями. Дорогие вещи беспрестанно швыряли из окон под отвратительный хохот и грубое ликование. В каждом жилище разыгрывалась своя трагедия, из каждого неслись крики испуга, вопли отчаяния, заглушаемые диким гамом и ревом победителей. Женщины высокого звания, в роскошной одежде, бились в объятиях самых презренных обозных служителей, тогда как другие избегли этой ужасной участи, бросившись вниз головой с балконов своих домов. Дворцы и храмы были поруганы таким же образом. Ничто не встречало пощады, и напрасно монахини взывали к Небу, которому посвятили себя. Папское отлучение, постигшее весь город, опрокинуло единственную преграду, сдерживавшую страсти разнузданных воинов, и каждый из них предался самому отвратительному распутству. Безграничная мерзость этого зрелища ужаснула даже напуганную, ожесточенную Фиамму, и она машинально отдалась руководству своего защитника. Но ее страх еще усилился, когда, вступив в замок, они услышали крик: «Убивайте всех! Не надо пленных! Смерть всем!» Эти крики неслись из галерей и комнат замка, наполненных, как заметил теперь Альфонсо, солдатами Борджиа и Вителли. Сначала он хотел отвести свою пленницу к французским полководцам и просить их защиты для угнетенной. Но, когда раздался кровожадный крик, а Фиамма завопила: «Не к нему, не к Фабрицио!» – он вспомнил об одинокой башне, куда его ввели при начале его неудачных переговоров с Колонной, проник туда через тесный вход и втащил Фиамму по лестнице в комнату верхнего этажа. Несчастная женщина потеряла тут сознание. Так как солдаты продолжали кричать, то Альфонсо, опасаясь покушения на жизнь Фиаммы, заперся в своем убежище как можно крепче, а затем решил попытаться привести в чувство Фиамму. Однако, обернувшись назад, он с ужасом увидел, что она забилась в угол и с дикой гримасой следила за его движениями, сжимая в руке кинжал. «Хоть бы Цезарь был дьяволом, я хочу принадлежать ему и не буду ничьею до последнего вздоха!» – крикнула несчастная, почти задыхаясь. Почтительно приблизившись к ней, иоаннит выразил опасение, что им обоим грозит беда от восстания, несомненно, поднятого Цезарем ради их обоюдной гибели. Но тут Фиамма внезапно бросилась к нему и с такой силой ударила его кинжалом в грудь, что клинок согнулся, встретив крепкую броню, и разлетелся на куски. Однако, это напряжение забрало ее последние силы, и Фиамма без чувств упала к ногам рыцаря. Альфонсо не мог рассчитывать ни на чью помощь, чтобы привести ее в сознание, а к несмолкаемому шуму в крепости примешивались теперь крики, вероятно, издаваемые жертвами возобновившейся резни. К счастью, рыцарь нашел полуопорожненный кубок с вином, поданный ему Фабрицио при прибытии, и принялся заботливо ухаживать за юной пленницей. Наконец, она пришла в себя, приподнялась с судорожным усилием и осмотрелась вокруг. Иоаннит старался клятвами и просьбами успокоить ее расстроенное воображение, однако, ему до того не удавалось внушить ей доверие к себе. Наконец, сознание вернулось к ней, и она заговорила. Дикий поток ее речей открыл рыцарю, как сильно привязана она к своему неумолимому соблазнителю Цезарю и сколько выстрадала ради него. Затем Альфонсо услышал, каким опасностям подвергалась жизнь Фиаммы, когда она подкупала в Капуе наемных солдат, чтобы предать город войскам Цезаря, как она, почти умирая от голода в соборе, наконец, склонила немецкого воина впустить войско Цезаря в укрепленный город. Рыцарь едва мог поверить такому вероломству, но в конце концов с отвращением убедился, что Цезарь дал согласие на переговоры с осажденными лишь для того, чтобы вернее и неожиданнее осуществить свой коварный умысел. Между тем, наплыв горьких воспоминаний произвел такое потрясающее действие на молодую женщину, что она разразилась безумным хохотом. – Теперь я понимаю все! – воскликнула она: – Цезарь отдал меня тебе, изменнику Лукреции. Часть его замысла заключалась в том, чтобы разбить ей сердце и отделаться заодно от поклонника сестры, к которому она благоволила. Но тем не менее, он убьет тебя, убьет нас обоих! О, поспеши обмануть его постыдную жестокость! Предоставь меня моей участи... Ради Бога, предоставь меня ему! Фиамма, по-видимому, была основательно посвящена в тайны дома Борджиа, и Альфонсо надеялся добиться от нее некоторых объяснений. Он стал оспаривать справедливость ее последнего довода, указывая на слухи о том, что Лукреция состояла в преступной связи с Цезарем. Фиамма горячо возражала на это, сообщила ему о планах своего возлюбленного относительно брака между Лукрецией и сыном герцога Феррарского, о всей карнавальной интриге, в которой она принимала участие в виде феи Морганы, и, наконец, яростно упрекнула его в том, что он послан из Феррары с целью распространять клевету против всей партии Борджиа. В ответ на это иоаннит рассказал ей все происшествие в гроте Эгерии. Подозрение относительно неверности Цезаря, вероятно, давно уже таившееся в сердце несчастной жертвы, подтвердилось этими данными, за достоверность которых ручалось благородство феррарского рыцаря. Однако, Фиамма все еще не соглашалась с его выводами из всего виденного им и продолжала спор, не обращая внимания на окружавшие их ужасы и опасности. Альфонсо между тем заметил, что шум прекратился, по крайней мере, в крепости, и умышленно затягивал разговор, чтобы не дать Фиамме впасть в изнеможение. Таким образом среди их пылких пререканий наступила темнота, и молодая женщина стала убедительно просить иоаннита удалиться, а ее отпустить, чтобы она могла добровольно предать себя мщению Цезаря, избавив тем своего защитника от той же участи. Рыцарь был глубоко тронут таким самоотвержением, видя, что у несчастной оставалось лишь одно желание, одна надежда – умереть от руки изменника. Поэтому он ответил, что хочет сначала убедиться, утих ли шум, а потом пойдет к французским полководцам, чтобы выпросить у них стражу для ее охраны. Сказав это, он отворил оконный ставень с целью посмотреть, что произошло. Лучезарное солнце Кампаньи зашло над картиной ужаснейшего разрушения и кровопролития, и теперь ночное небо смотрело на еще более ужасный пир палачей шести тысяч жертв, устроенный посреди еще не остывших трупов убитых. На обширной площади, озаренной светом факелов и горящих смоляных бочек, дьяволы в человеческом образе совершали омерзительнейшие деяния, причем собственные воины Борджиа, отбросы многих наций, приводили в изумление своими страшными разбойничьими поступками даже своих кровожадных боевых товарищей. Сам Цезарь был сосредоточием и первым зачинщиком этого ужасного праздника убийства. Он сидел между грудами богатой добычи, окруженный несколькими из своих свирепейших военачальников, опоражнивал полные кубки вина и хохотал при воплях ужаса множества пленниц, которых гнали к нему сквозь копья его вооруженных людей, а также множества воинов, вытащенных из потайных мест, где они скрывались от врагов. Цезарь и его страшные товарищи, казалось, выбирали себе жертвы в группах этих несчастных, а остальных предоставляли произволу безжалостных солдат, обрекая беззащитных на невыразимые муки. – Он ищет меня между этими группами, – сказала Фиамма со спокойствием отчаяния. – Цезарь думает, что ты погиб при моей защите. Фабрицио также нашел себе смерть из-за моего преступления. Оставьте же меня, добрый рыцарь, ради собственной безопасности, ведь Борджиа скоро убедится, что меня нет среди пленных, начнет искать меня здесь, в замке, и убьет нас обоих. – Никто не смеет причинить вам вред, пока мой меч годен на что-нибудь, – ответил Альфонсо. – Но теперь в замке, кажется, все затихло. Эта уединенная комната не возбуждает подозрений, и, конечно, французы прогнали грабителей. Я попрошу рыцаря де Латремуйля дать вам охрану, и, наверно, он уважит мою просьбу. Заложите только за мною дверные засовы. Их одних достаточно, чтобы защитить вас, если я замешкаюсь дольше, чем рассчитываю. Фиамма поспешно одобрила этот план, однако, к ее глазам подступили жгучие слезы от страха. Когда же иоаннит с большой нежностью и участием стал успокаивать ее обещаниями вскоре вернуться, а в то же время вынул меч для защиты на опасном пути, это явное противоречие переполнило скорбью ее душу. – Неужели и ты, великодушный, благородный рыцарь, должен жертвовать собою ради спасения меня, недостойной того, чтобы остаться в живых? – воскликнула она. – Зачем хочешь ты помочь существу, которое не стремится ни к чему, кроме вечного уничтожения? Прощай! Я не могу принести тебе красноречивую благодарность, потому что слова напрасны. Спаси меня, если хочешь и можешь, спаси для жалких годов непреходящего страха, которые могут еще мне предстоять, и еще раз прощай. Альфонсо был искренне тронут. Он обнял Фиамму с братской нежностью и поспешно удалился, но, очутившись за порогом, постоял еще, прислушиваясь, как она задвигала засовы. В коридоре, которые вел из башни, ему попалось лишь несколько окровавленных трупов, и он не удивился, увидав на них значки Цезаря. Каменная лестница, которая вела в парадные комнаты замка, также была усеяна мертвыми телами, свидетельствовавшими о схватке между грабителями и защитниками, между пленниками и убийцами. Среди них попался один английский стрелок из свиты Лебофора. Двери, которые вели с этой лестницы в крепость, были крепко заперты и Альфонсо не без затруднения выбрался на площадь. Сопровождаемый одним из швейцарских солдат, он вскоре предсталперед французскими полководцами, которые сидели за столом с несколькими рыцарями, не принимавшими участия в ужасном кровопролитии, и со своими пленными. В числе последних находился и Фабрицио Колонна. Лебофор и Орсини сидели с ним рядом и, как узнал потом Альфонсо, Фабрицио был обязан их храброму заступничеству своим освобождением из рук грабителей и убийц Цезаря. Иоаннит горячо желал доказать Фабрицио, что он нисколько не причастен к предательскому нападению, а потому стал горько жаловаться французским полководцам, что на него пало несправедливое подозрение в вероломстве, и потребовал, чтобы резня была немедленно окончена. – Цезарю принадлежит вся слава и весь позор этого деяния, – сказал Латремуйль, – но на войне не придают важности договорам, пока они не подтверждены крестным целованием. Этот кровавый пример сделает ненужными много других, поэтому предоставим солдату свирепствовать досыта. Сверх того, о порядке и повиновении теперь нет и разговора. Если бы мы вздумали сдерживать своих подчиненных, то подстрекнули бы их только к еще худшим беспорядкам, чем тот, который был нами прекращен, потому что герцог сам поощряет их разнузданность. Однако, мне кажется, рыцарь, что вы менее всех имеете повод жаловаться, вам досталась прекраснейшая добыча в Капуе. – Я спас от позора девушку высокого происхождения, благородный синьор, – с неудовольствием ответил Альфонсо, – и пришел сюда просить вашей защиты для нее. Мне хотелось бы привести эту несчастную к вам или к благородному Колонне. – Приведите ее ко мне! – с яростью воскликнул Фабрицио. – На костер ее, французы, как колдунью и изменницу, иначе она предаст нас всех! – Она получит охрану, которую я могу ей дать, – ответил Латремуйль. – Приведите ее сюда! Но если она – особа легкого поведения, то, пожалуй, у вас скоро появится здесь соперник. – Я, по крайней мере, не собираюсь выходить здесь на поединок с иоаннитским рыцарем, – сказал Орсини. – Однако, нам стыдно отзываться таким образом о той, которая носит, хотя и недостойным образом, благородное имя Колонна. – Я помогу вам, феррарский рыцарь, защищать вашу добычу против целого мира, – с благородным жаром подхватил Лебофор. – Или она находится в толпе тех несчастных и ее нужно еще освободить? Если так, то вот мой меч в придачу к вашему, как ни отчаянно это предприятие. – В этом нет надобности, – ответил Альфонсо. – Дайте мне, однако, немного пищи для проголодавшейся пленницы и факел. Я тотчас вернусь. Лебофор и многие французские рыцари вызвались сопровождать его, лукаво перешептываясь между собою, и Альфонсо согласился на это, чтобы тем успешнее опровергнуть их нескромные предположения. Однако, его сердце стеснилось от тревожного предчувствия, когда, поднимаясь по винтовой лестнице, он заметил, что двери уединенной комнаты, где он оставил Фиамму, распахнуты настежь. Вступив в нее, он осветил факелом все углы, но Фиаммы нигде не было. По недоверчивым улыбкам своих провожатых иоаннит догадался, что они подозревают, что он привел их сюда лишь для отвода глаз, и эта мысль еще более укрепилась в нем, когда Пасло Орсини подошел к окну и, выглянув оттуда на площадь, точно ожидая увидать внизу изуродованный труп несчастной, тихо сказал Лебофору: Не сам ли он сбросил ее туда? В самом деле, отворенная дверь наводила иоаннита на мысль, что Фиамма, желая ввести его в заблуждение относительно ужасного способа своего самоубийства, нарочно распахнула ее настежь или избрала не менее страшный риск спуститься вниз к осатаневшему пирующему войску. В обоих случаях разведки были бы напрасными и, вероятно, привели бы его к гибели, если бы он попался Цезарю при таких обстоятельствах. Тем не менее, иоаннит, обманутый в своих ожиданиях, огорченный за Фиамму, не хотел совершенно отказаться от розысков. Он провел всю ночь один, тревожно и чутко прислушиваясь ко всему происходившему под окнами на площади, однако, не заметил ничего, что могло бы успокоить или усилить его опасения. Наконец, постепенно наступившее безмолвие в опустошенном городе, холодный, утренний воздух и собственное изнурение заставили его незаметно впасть в прерывистый, нарушаемый страшными видениями сон. (обратно)ГЛАВА IV
Второе завоевание Неаполя совершилось так же быстро, как и первое при Карле Восьмом. Войско французов и папского дворянства переходило от города к городу, и все они сдавались, едва завидев французские знамена. Альфонсо почти казалось, что он видит сон, когда Неаполь подчинился на очень невыгодных условиях, и он смотрел через великолепный залив на скалы острова Искии, куда злополучный король Федерико поспешил как в свое последнее убежище. Французское войско двинулось дальше, чтобы занять границы, указанные ему в договоре о разделе, а Цезарь готовился с вспомогательными войсками выступить обратно в Рим под предлогом совершить завоевание городов, на которые заявлял права папа. В виде последней попытки рыцарского состязания де Латремуйль передал командование наступлением на Искию Альфонсо, Паоло Орсини и Лебофору. Неутомимые старания Альфонсо разузнать что-либо об участи Фиаммы были безуспешны, и ему хотелось продолжать поиски ее. Однако, это было невозможно: он не видел возможности отклонить почетное поручение Латремуйля, тем более что оно было принято с жаром его соперниками, а сила морского вооружения и упорное сопротивление гарнизона Искии делали это завоевание одним из опаснейших предприятий в ту войну. Едва Цезарь ушел со своими войсками от Неаполя, разнеслась весть, что Борджиа дали перехитрить себя дворянам. Дело в том, что вскоре после прибытия герцога в Рим Ареццо восстало против Флоренции, а в то же время почти все войско дворян вторглось в Тоскану для поддержки восстания и восстановления дома Медичи. Хотя Цезарь со своими войсками осадил Камерино, один из городов, на которые заявил притязания папа, однако, взятие его и полная удача всего завоевательного плана Борджиа составили бы ничтожный противовес громадному превосходству, которого достигли бы дворяне восстановлением власти Медичи. Между тем, война в Неаполе велась вяло. Начались переговоры, и хотя приготовления к нападению на Искию продолжались, однако, три рыцаря участника турнира были обречены оставаться при этом безучастными зрителями. Ни шумная походная жизнь, полная всевозможных случайностей, ни разлука не изгладили впечатления, которое произвела на сердце Альфонсо прелестная Лукреция. Несмотря на то, что он старался не поддаваться опасному обаянию, роскошный климат Неаполя, заставлявший забывать все на свете, кроме любви, любовно поддерживал чары воспоминаний, преследовавших его, и его постоянно мучили опасения по поводу планов Орсини о браке Паоло с Лукрецией. В довершение всего, он узнал о внезапном отъезде Паоло в Рим. Когда же вскоре после этого стало известным отречение от престола несчастного неаполитанского короля, то и все военные силы Орсини, переданные им под начальство Лебофора, чрезвычайно поспешно выступили из лагеря в Рим. Альфонсо не захотел подражать подобной поспешности и, хотя горел нетерпением увидеть Лукрецию, все же отправился в Неаполь, чтобы проститься с французскими полководцами и передать им командование вверенного ему войска. Только там дошли до него удивительные известия, несомненно, послужившие поводом к поспешному возвращению Орсини. Цезарь победоносно осуществил великий замысел, посредством которого хотел обеспечить громадное увеличение своих владений. Для этого он решил использовать опять войска дворянства, действовавшие в Тоскане. Как будто одобряя их желание захватить Флоренцию, чтобы вернуть ее Медичи, он стал во главе их, даже наперекор французам, и это обмануло дворян. Затем он заявил, что для обеспечения победы необходимо, чтобы им оказал помощь герцог Урбинский со всеми своими военными силами, а главное, со своей артиллерией, доведенной до высокой степени совершенства. Герцог Гвидобальдо попался в эту ловушку и выслал свое войско из страны, приказав ему примкнуть к Цезарю под Камерино. Однако, когда это случилось, Цезарь стянул вместе свои гарнизоны в Романье, двинул их против Урбино, а одновременно сам внезапно свернул со своего пути в Камерино с избранным отрядом и вторгся с огнем и мечом в беззащитную область своего нового союзника, герцога Урбинского. Вскоре же все богатое герцогство Урбино очутилось во власти Цезаря, а герцогу Гвидобальдо и его брату не без труда удалось бежать в Венецию. Добившись такого крупного приращения своих владений, Цезарь отрекся от всякого участия в походе против Флоренции. В то же время французы отправили на помощь республике сильный отряд войска, и это принудило Вителли отказаться от завоевания Флоренции и удалиться из Тосканы. Таким образом, союзники были одурачены. Так как папа Александр, не забывая о завоевании Камерино, послал туда подкрепление, то союзные дворяне совершенно перепугались и их предводитель даже старался вступить в переговоры с Цезарем. Цезарь начал их, но, усыпляя союзников мирными предложениями, распорядился произвести внезапное нападение на Камерино, овладел городом и казнил его правителей, как изменников. Подобная военная удача, гибель верного друга Феррары и внезапное соседство такого бессовестного властелина, каким являлся Цезарь, объединивший массу земель в своих руках, были настолько зловещи, что заставили Альфонсо поспешить в Рим, где его давно ожидали с нетерпением. Это было видно по тому, что, едва успев прибыть, он получил через Бембо приказание папы явиться к нему, отдохнув с дороги, а до тех пор снова занять свои прежние комнаты в Ватикане. Казалось бы, это было благоприятным признаком, однако, тайные опасения Альфонсо немало усилились, когда Бембо, ревностный защитник Лукреции в былое время, совершенно отступился от нее теперь и заявил, что не сомневается более в ее необузданной страсти к Лебофору, так как она не могла скрыть свое радости и восторга при свидании с ним даже в присутствии грозных соперников, ревниво следивших за ней. К тому же и политическое положение было неблагоприятно для Феррары. Партия Борджиа торжествовала вполне, потому что французский король как будто предоставил им беспрепятственно предаваться грабежам и мщению, а вместе с тем его герольды приказали повелителям Болоньи передать этот громадный город роду Борджиа. Союзники так растерялись, что даже не протестовали и беспрекословно предоставили военные силы на поддержку этого предприятия Цезаря. В виду всего этого, Бембо настоятельно советовал принцу Альфонсо, во избежание неминуемого и крайне опасного открытия его инкогнито, немедленно уехать из Рима в Феррару, не повидавшись ни с папой, ни с Лукрецией. Однако, Альфонсо не принял этого совета, а запальчиво заявил, что он не хочет осудить Лукрецию, не имея достаточных улик против нее, и что у него выработан план, ограждающий его от непосредственной опасности, соединенной с его мнимой ролью посланника, на тот случай, если бы действительно оказалось, что склонность Лукреции к Лебофору переступила границы простого кокетства. «В момент победы, – прибавил он, – должно обнаружиться, были ли искренни уверения папы». Бембо упорно стоял на своем, но не мог поколебать решимость Альфонсо, и тот поспешил в Ватикан. Едва он вошел в свое прежнее помещение и приказал доложить его святейшеству о своем прибытии, папа лично вошел к нему в сопровождении начальника своей канцелярии. Александр так спешил, что только простер руки над коленопреклоненным Альфонсо вместо того, чтобы произнести обычное благословение, и тотчас заговорил о деле, занимавшем его мысли. – Теперь, – воскликнул он, – повелители Феррары поневоле не верят нам, даже если бы они были недоверчивы, как апостол Фома. Ты видишь, сын мой, как Господь помог нам преодолеть козни врагов и мятежников. Мы намерены попрать их, как стекло, своими сандалиями с помощью союза, который задумали заключить с Феррарой. Теперь мы хотим говорить так ясно, чтобы у ваших дворян не оставалось более предлога к сомнению. Подойди ближе, Джианн Баттиста, затвори все двери и будь начеку! Усевшись в одно из высоких резных кресел, Александр с омрачившимся лицом и тяжелым вздохом окинул взором великолепные украшения комнаты. Эта комната была ненавистна также и Альфонсо, так как еще недавно являлась брачной покоем Лукреции. Под влиянием своего подозрения относительно преступных отношений между Александром VI и его дочерью Лукрецией, он подумал, что и угрюмость папы вызвана подобной же ненавистью. Однако, он не вставал с колен, пока ему не подали знака подняться. – Вы – посланник нашего вассала, которого мы намерены сделать независимым государем, – заговорил папа. – Церковь, конечно, простит нам, когда мы обменяем ее призрачное обладание Феррарой на существенное господство, доставленное нами ей вновь в стольких странах и богатых городах, тем более что, по нашему мнению, святейший престол обязан Ферраре возвращением ему Болоньи, находившейся столько лет под незаконно захваченной властью. Но если бы мы, напротив, уступили убедительным просьбам нашего племянника и предоставили независимое войско в распоряжение его столь молодого и честолюбивого вождя, то наверно, вместо блага сотворили бы зло. Так пусть же все итальянские властители поймут, что наш отказ доставит Цезарю могущественное орудие, которого он домогался, содействует более их выгоде, чем нашему величию. Да, повторяю еще раз: если этот союз нельзя заключить, не припугнувши хорошенько дворян, то я должен согласиться на это. Пусть не воображают, что я отдамся во власть людей, кощунственно выражавших намерение объявить нас недостойными занимаемого нами престола и посадить на наше место враждебного нам и непокорного мятежника Юлиана делла Ровере. Наша племянница также не примет предложения Орсини, и мы не желаем теперь вступать в столь тесную дружбу с наглыми разбойниками, уничтожение которых с каждым днем становится все справедливее и необходимее. Альфонсо был смущен этими откровенными речами, приподнимавшими завесу, под которой скрывалась далеко не успокоительная политика Цезаря. – Но, ваше святейшество, достоинство моего повелителя требует предварительного удостоверения в том, что он не рискует получить отказ от донны Лукреции, – сказал наконец Альфонсо в надежде выпутаться таким образом из затруднения или хотя бы получить отсрочку. – Сын мой, – ответил Александр, – она совершенно подчинилась моей воле и обещала мне дать вам удостоверение, что, как только вы официально попросите ее руки от имени своего повелителя, она официально даст свое согласие. Альфонсо был так поражен этим известием, что не нашелся, что ответить, а папа, не заметивший в своем волнении этого странного молчания, с жаром заговорил о своих планах. Его щедрые обещания относительно приданого Лукреции и освобождения Феррары от подчинения и уплаты податей церкви ручались за настойчивость его желаний, однако, не могли соблазнить Альфонсо. Ему не давала покоя мысль, что Лукреция нарочно поставила его в это затруднение, чтобы погубить разоблачением тщетности его мнимой миссии или принудить его к поспешному бегству из Рима, которое избавило бы ее от его шпионства, и дало бы возможность предаваться на свободе своей страсти к Лебофору. К счастью, папа был настолько поглощён своими собственными планами, что не заметил чувств, обуревавших Альфонсо, и заключил свою речь приглашением отправиться прямо к Лукреции, чтобы услышать из ее собственных уст подтверждение своих обещаний. Альфонсо боялся, что роль, которую он играл, опасна и что он рискует получить резкий ответ от Лукреции. Однако, ему было невозможно отклонить предложенную честь, а потому он, волнуемый странной смесью чувств, отправился с папою в покои Лукреции. При входе в зал, где сидела Лукреция, он почувствовал сначала большое облегчение, увидев там многочисленное общество. Но жало ревности снова уязвило его сердце, когда он заметил, что молодая женщина играет в шахматы с Лебофором в отдаленной тесной нише окна. Нежный взор Реджинальда был так пристально устремлен на нее, что он почти машинально передвигал фигуры на шахматной доске. Лукреция бойко и самоуверенно разговаривала с ним, когда вошел папа с Альфонсо, и проворно сделала ход, которым надеялась взять верх над своим партнером. В этот же момент Лебофор запечатлел пламенный поцелуй на ее руке. Лукреция побледнев, поспешно отдернула руку, но тотчас поднесла ее к своим губам и нежно промолвила: – Лукавый рыцарь, поцелуй жжет даже мои губы, следовало бы утолить их боль! Досада придала твердости Альфонсо, и он стоял холодно и гордо перед Лукрецией, когда она поднялась навстречу своему отцу, как будто не замечая присутствия Альфонсо. Александр с улыбкой отошел в сторону. Когда же она увидала иоаннита, на глазах у нее навернулись слезы. Хотя она старалась скрыть свое волнение, но не делала попытки смахнуть их с ресниц и сказала несколько холодных слов приветствия с многозначительным взглядом на группу, стоявшую на балконе. Там, прислонившись спиной к балконным перилам, находился Цезарь, и смотрел в зал, продолжая для вида веселый разговор с несколькими дамами и молодыми придворными. – Мы не забыли несколько серьезного и неприступного рыцаря-иоаннита, – небрежно сказала Лукреция, когда Александр многозначительно назвал его имя, и, лукаво улыбнувшись, обратилась к Лебофору: – Теперь и вашему другу Орсини следовало бы явиться к нам, чтобы выслушать решение относительно нашего турнира. Мы просим вас прийти к нам завтра сюда в обычный час нашего вечернего приема, и тогда вы все дадите нам отчет о своих подвигах, а мы произнесем свое решение в один из следующих дней. – Не сделаете ли вы милость, назначив для этого послезавтрашний день, ибо мое пребывание в Риме будет весьма непродолжительной? – сказал Альфонсо. – Хорошо, я согласна, – ответила Лукреция и отвернулась. – А, тебе хочется отвезти в безопасное место свою добычу! – тоном добродушной шутки воскликнул Цезарь, подходя к кругу разговаривающих. – Уж не боишься ли ты, добрый рыцарь, что я вздумаю отнять у тебя возлюбленную султана Зема? – Боюсь, ваше высочество, что вы уже сыграли со мною эту шутку, – с непринужденной веселостью подхватил Альфонсо, радуясь случаю уколоть гордую Лукрецию. – В чьи бы руки ни попала несчастная Колонна, – заметила она, – будем, однако, надеяться, что они лучше тех, из которых она вырвалась. Пусть будет достаточно того, что мы изъявили нашу волю, а теперь я буду продолжать прерванную партию в шахматы с рыцарем Лебофором. Иоаннит вскоре удалился, не желая более оставаться свидетелем торжества своего соперника. Придя к себе, он приказал Бембо распорядиться всем необходимым для отъезда тотчас после приговора дам, и Бембо беспрекословно подчинился этому. Пока он занимался своими приготовлениями, Альфонсо проводил время в неприятном беспокойстве. На закате солнца к нему вошел паж, и с хитрой улыбкой доложил, что какая-то женщина под густой вуалью, которой он спас в Капуе честь и жизнь, хочет повидаться с ним, чтобы изъявить ему свою благодарность. Альфонсо тотчас вспомнил Фиамму и приказал допустить к нему незнакомку. На пороге показалась женщина, закутанная в черный плащ. Когда же она откинула вуаль, Альфонсо увидел бледное, скорбное лицо Фиаммы Колонна. – Как, – с удивлением спросил он, – вы рискнули явиться в Рим, в лагерь своих врагов? – Более того – в их крепость, – ответила Фиамма, опираясь лбом на судорожно стиснутые руки. – В ту безумную ночь в Капуе я бросилась к Цезарю Борджиа, чтобы скорее испить самую горькую чащу, чем продолжать терзаться страхом, и погибнуть от его руки, чем доставить ему отговорку, будто я была обесчещена другим. Не удивляйтесь!.. Ведь даже ваша честность не спасла бы меня от его подозрений. Поэтому я соглашалась лучше умереть. Однако, он пощадил меня и спрятал. Я вообразила, что злодей опомнился, но в действительности ему хотелось только повредить вам в глазах Лукреции и жестоко уязвить ее гнусной клеветой, которую он возвел на вас. – Ну, ей все равно: она занята теперь совсем иным. – Но есть еще мщение, мщение за все, – сказала Фиамма, скрежеща зубами. – Нет, не за все! Он был так несправедлив ко мне, что никакая месть не послужит достаточной карой ему за это. Что же касается вас... Ведь для вас все еще важно получить те достоверные сведения, ради которых, как уверяют, вы были посланы сюда своим повелителем? – Да, какою бы то ни было ценою, – ответил Альфонсо. – Ну, тогда вы можете сообщить ему, что Лукреция питает преступную любовь, и в этом я убедилась путем беседы с ее духовником. – Отцом Бруно, заключенным теперь в замке Святого Ангела? – Вот именно. С ним обращаются с неслыханной строгостью, к нему не допускают никого и он сидит в такой темной камере, что надо удивляться, как этот несчастный может, без сверхъестественного озарения, читать книгу, над которой он вечно размышляет. Однако, я все же добилась свидания с ним, чтобы переговорить о Лукреции. Я упросила Мигуэлото устроить мне это свидание, ссылаясь на мучения совести. Жестокий каталонец по своему набожен и, оттачивая нож, чтобы перерезать тайком мне горло, способен позаботиться о спасении моей грешной души. Не стану докучать вам передачей своего разговора с отцом Бруно – он был ужасен, однако, монаху не удалось запугать меня никакими ужасами и он не мог побудить меня ни к какому раскаянию, потому что моя душа так изнурена, что я могу питать только одну надежду на месть. Однако с помощью хитрости и намеков на перенесенные оскорбления я добилась смутных, но дьявольских подтверждений своей догадки, причем вынесла убеждение, что и Цезарь, и Лукреция пока еще только втайне питают чувство преступной любви друг к другу, так что есть еще возможность предотвратить роковой шаг. В конце беседы Бруно удалось как-то склонить меня к тому, чтобы я, поставив на карту свою жизнь, помогла ему выйти тайком из замка, положившись только на его обещание вернуться назад, раньше чем успеют заметить его отсутствие. – Я угадываю остальное! Он бежал! Но ради чего же вы доставили ему возможность к побегу? – в сильном волнении воскликнул иоаннит. – Чтобы, он посетил свою духовную дочь, вывел ее из преступной беспечности и с помощью своих ужасных обличений и чудесного бегства из Рима вырвал ее из той мрачной бездны, в которую она была готова броситься. – Ну, а что же сделал Бруно? Скрылся? – О, нет, он честно сдержал свое слово и добровольно вернулся в свою ужасную темницу. Из его слов я узнала, что ему удалось переговорить с Лукрецией наедине в гроте Эгерии. В суеверном испуге при его чудесном появлении, она покаялась в том, что любит безумно и не может противиться своему безумию, что ее страсть греховна и отчаянна, однако, никакие устрашения и угрозы не помогли вырвать у нее имя обожаемого ею человека, так как инстинкт любви подсказывал ей, что это сопряжено с опасностью. Бруно пылает страшным гневом на ее упорство и обещал открыть мне ужасные намерения и страшные преступления Цезаря Борджиа. – Да, но с помощью какой волшебной силы? – воскликнул иоаннит. – Впрочем, имя возлюбленного Лукреции известно и без того. Это – Реджинальд Лебофор! – Волшебная сила? – промолвила Фиамма и в смущении взглянула на рыцаря. – Действительно, никто, кроме мертвецов, не может открыть все ужасы злодейств, совершенных Борджиа, и если у вас хватит храбрости выдержать их страшное присутствие, то вы можете удостовериться в том, ради чего вы присланы сюда повелителем. – Присутствие смерти? Достоверность? – содрогаясь повторил Альфонсо, потому что в те времена верили в возможность подобных вещей. – Монах не решался на это, я же связана страшной клятвой, – сказала Фиамма, отирая со лба холодный пот. – Слышали ли вы когда-либо про мага дона Савватия? – Я слышал на юбилее, что ему по приказу Цезаря были обещаны большие награды, – ответил Альфонсо. – Говорили, что нужна его помощь при подготовлявшихся торжественных процессиях, на самом же деле к ней прибегали, чтобы сбыть непрошеного гостя, – объяснила Фиамма. – Если вы рискнете отправиться со мною в катакомбы сегодня ночью, то мы увидим убийцу в присутствии его жертвы, и услышим, как он будет открывать тайны своей черной души. – Возможно ли? – спросил иоаннит. – Неужели есть средство заставить могилу выпустить на волю ее страшных обитателей? – Если колдовство не удастся, то преступная совесть подействует сильнее всякого чародейства, и мы услышим истину от того, кто менее всего желал бы разглашать ее. – Но неужели мрачная тайна должна обнаружиться в столь священном месте, как катакомбы, где покоилось столько святых мучеников? – воскликнул Альфонсо. – Разбойники и убийцы в Риме, превратившие катакомбы в свое убежище, давно изгнали из них все священное. Дьяволы ходят въявь по галереям, где в минувшие времена шествовали ангелы между останками мучеников и на скалах чертили рассказы об их страданиях. Впрочем, как тебе угодно: подумай сперва, если не решаешься сразу, и отпусти меня теперь. Ведь мне пора вернуться в место своих мучений, как грешной мухе при первом проблеске рассвета под могилами кладбища. Если не ты согласен на попытку, которая навсегда избавит тебя и твоего господина от мучительной неизвестности, то говори. Тогда я встречу тебя у ворот Святого Себастьяна, переодетая нищенствующим монахом, и проведу к месту свидания. Оно произойдет в полночь. Подстрекаемый желанием, поглотившим всего его, Альфонсо дал торжественную клятву пренебречь всякой опасностью, какая могла угрожать ему при этом приключении, и встретиться с Фиаммой в назначенный час. Условившись между собою, они расстались. Его решимость поддерживалась надеждой, что открытие преступления Лукреции вернет ему душевное спокойствие, но вместе с тем, его беспокоили и сомнения. Разве не могла Фиамма, при всех поводах к мщению, все-таки послужить орудием Цезаря с целью погубить его? Но в конце концов он решил, что невозможна такая отвратительная неблагодарность и, вспоминая искренний тон Фиаммы, решил довериться ей. (обратно)ГЛАВА V
Поглощенный своим душевным волнением, Альфонсо не заметил, как наступила ночь, и поспешил заняться необходимыми сборами. Он по возможности скрыл свое вооружение и лицо под плащом и капюшоном и, отпустив оруженосца и Бембо, собирался уже выйти из комнаты, как в дверь тихонько постучали. Он отворил, и перед ним при свете маленькой серебряной лампы появилась Фаустина. – Благородный синьор, простите меня!.. – с большим волнением сказала старуха, поспешно входя. – Я – несчастнейшая, старая дура, которой уж, верно, так на роду написано, пропадать от своей глупости. Мое счастье послужило мне на гибель. У меня ничего не было, кроме румяных щек, но из-за них я попала в кормилицы к прелестнейшему ребенку в Риме, дорогой Лукреции. И вот теперь я пришла умолять вас, благородный синьор: если можете, поспешите спасти ее, иначе мы все погибнем, а с нами несдобровать и красивому, молодому рыцарю из страны на далеком море. О, ведь он был вашим другом, и, что бы ни произошло после этого между вами, я со слезами умоляю вас: спасите нас всех! – Да в чем же дело? Говорите! – Я не смею идти к герцогу Цезарю и рассказать о том, что задумал этот рыцарь, – ответила старуха. – Ведь герцог убьет нас всех до единого, а мое сердце обливается кровью за этого бедного безумца. О, горе, горе мне!.. Неужели я должна отдать на растерзание своих детенышей? А это непременно случится! Ведь если вы не удержите его, то я должна буду провести его дальше. Ведь еще никогда в своей жизни Лукреция не стремилась так упорно поставить на своем! Поэтому, умоляю вас, спешите!.. Вы найдете его на террасе, где он ожидает меня. Сделайте все, что возможно, чтобы удержать его, иначе все погибнет, и ему несдобровать, как шершню в пчелином улье, хотя бы там было меда через край. – Кого же я найду на террасе? – с замиранием сердца спросил Альфонсо. – Вы найдете там молодого рыцаря Реджинальда, которого донна Лукреция велела позвать под предлогом того, что ей надо поговорить с ним наедине о деле Орсини. Да сами посудите! Возможно ли это в столь поздний час и к тому же в ее собственных комнатах! – Неужели это – правда? – спросил Альфонсо, пошатнувшись, точно от смертельного удара. – А если так, то что мне за дело? Какое мне дело до этого, спрашиваю еще раз! Да лучше пусть пронзят мне сердце! Убирайся вон, беги, старая сводня, и предупреди герцога. Он знает старинный обычай. – Нет, сын мой, неужели нам всем зараз рехнуться умом? – зарыдала старуха. – Так вы не хотите? Ну, тогда я должна исполнить свой долг повиновения! Ведь донна Лукреция питалась моей грудью, стала родной мне, как дочь, и – что бы ни грозило потом – я сделаю то, что она велела. – Нет, Фаустина, остановитесь! Я пойду, я выслежу этого негодяя до его преступного дела! – воскликнул Альфонсо, когда старуха, хотя медленно и нерешительно, приблизилась к порогу. – Веди меня, но молчи. Мне нечего больше отвечать тебе. Фаустина привела его в большой зал, отделявший занимаемую Лукрецией часть дворца от комнат иоаннита. Отворенная дверь вела отсюда на террасу, примыкавшую с одной стороны к высокой голой стене дворца, а с другой – к возвышенности, поросшей померанцевыми деревьями и миртами. Фаустина сказала шепотом, что молодой английский рыцарь должен ожидать ее здесь, и просила иоаннита, если можно, удалить его от опасного места, после чего ускользнула со своей лампой, оставив Альфонсо одного в темноте. Он поспешил к высокой сводчатой двери и, пытливо осмотревшись, тотчас заметил закутанную фигуру, сидевшую на перилах с поднятым вверх взором, так что он скоро при свете восходящей луны без труда узнал прекрасное, разгоревшееся лицо Реджинальда Лебофора. Альфонсо медленно двинулся вдоль террасы, как будто не узнавая в своей задумчивости Лебофора, затем остановился неподалеку от него и, внезапно посмотрел на него так пытливо, что рыцарь счел себя узнанным, с притворным хладнокровием воскликнул: – Реджинальд Лебофор! Возможно ли это? Разве ты тоже помещаешься в этом дворце? Или, может быть, тебя привела сюда какая-нибудь случайность? – Благородный синьор, вы узнали меня, и я не намерен прятаться от вас и умалчивать о том, что привело меня сюда. Дамы при здешнем дворе красивы, и одна старая ведьма шепнула мне, чтобы я подождал здесь восхода луны, если хочу получить приятную весть. Кровь с такою силой прихлынула к сердце Альфонсо, что он едва переводил дух. Холодный пот выступил у него на лбу, он несколько секунд молча смотрел на раскрасневшееся лицо Реджинальда, затем пробормотал сквозь зубы: – Развратница! Но нет! Возможно ли, чтобы воздух Италии мог побуждать к черному предательству даже такие натуры, как твоя? Реджинальд, этому нельзя поверить! Лукреция... Лукреция! Ведь ты идешь к ней? – Лукреция! – повторил Лебофор, внезапная бледность которого служила уже достаточной уликой, а затем продолжал со смесью гнева и смущения: – Ну, а что, если Лукреция удостаивает выслушивать и других тайных послов, кроме уполномоченного феррарского двора? Ты отлично знаешь, что все твое старание по-прежнему направлено на то, чтобы оправдать перед светом всю ненависть к этой высокой особе. Между тем, ты в то же время изменнически выдаешь себя за тайного посла, отправленного сюда для устройства свадьбы, и этим тебе удалось довести Орсини до отчаяния. Положим, я не рассчитывал на высокую честь разоблачить тебя. Но как осмеливаешься ты касаться меня или моих действий? Каковы бы ни были они, я готов отвечать за их последствия. – Ты подчинился роковому обаянию, – с жаром возразил Альфонсо, – опасным чарам алых и пурпуровых цветом, под которыми распевает сирена возле гниющих трупов своих жертв. Но тебе не следует слушать ее голос, Реджинальд, иначе ты погибнешь. Уйдем отсюда прочь. Покинем вместе этот дворец и Рим. Нет иного спасения от соблазнов чародейки. – За все царства под солнцем не откажусь я повиноваться милостивым приказаниям своей царицы! – ответил Реджинальд. – Я – свободный английский рыцарь, а не твой наемник. Поэтому не командуй мною, я не обязан тебе подчиняться. – Конечно нет, – сказал Альфонсо, скрестив руки и горько смеясь, – но по воле судьбы я обязан твоей дружбе тем, что достиг цели своего путешествия и могу дать удовлетворительный ответ своему повелителю. Блаженствуй в своем раю, пока не надоешь Лукреции, а тогда она предаст тебя смерти, если ее отец или брат еще раньше не избавят ее от этих хлопот. – О чем бредите вы, синьор? – яростно возразил Реджинальд. – Ведь если вы обвиняете меня из-за Орсини, то действительно, донна Лукреция соизволила мне приказать, чтобы я присутствовал при обсуждении всех дел, касающихся этих людей. Я повиновался ей и буду повиноваться, если бы даже все духи преисподней и мечи десятерых Альфонсо старались преградить мне дорогу. – Реджинальд, прошу тебя, выслушай меня, – воскликнул Альфонсо. – Говорю тебе, чародейка соблазняет тебя предать своего друга, побуждает тебя к измене верности и чести. Ты не можешь сомневаться в степени ее любви к тебе! Ведь при ее испорченности эта любовь будет мимолетнее, чем у самых развратных и непостоянных мужчин. И ты не должен ходить к ней, не должен увеличивать груды ее жалких, обманутых жертв. – Рыцарь, пусть вам доставляет удовольствие копаться в тине грязного Рима, отыскивая там то, что даст возможность забрызгать грязью прекраснейшую и добродетельнейшую женщину, но, пока я в силах владеть мечом, ты не будешь делать это! – воскликнул Реджинальд, дрожа от стыда и ярости. – Ты видишь, я смиренно молчу. Ведь меч был дан тебе для того, чтобы сделаться ее забиякой! – со смехом подхватил Альфонсо и презрительно щелкнул по рукоятке меча молодого англичанина. – За это и за другие вещи ты еще поплатишься! – запальчиво воскликнул Реджинальд. – Да хоть сейчас, хвастливый мальчик! Не хорохорься однако, теперь ты не снаряжен для такого поединка. Ступай и попроси Лукрецию вооружить тебя на ее защиту! Впрочем, погоди! Ты предназначен для более верного мщения. Ступай и скажи ей, что посланник из Феррары, баламутящий в Тибре ил, чтобы забрызгать ее, – есть не кто иной, как сам принц Альфонсо д'Эсте. – В самом деле? Ну, теперь я раскрыл твою хитрость? Ты влюблен в совершенство, которое омрачил почти вечным позором. Мне следует выдать тебя Борджиа, чтобы они заставили тебя жениться на дивной представительнице их рода, – сказал Лебофор, и его ревность прорвалась наружу, несмотря на все усилия скрыть ее. – Ступай, ступай! Я не такой глупец, каким ты меня пожалуй считаешь, и, клянусь, согласен скорее убить тебя, чем обречь на блестящую участь обладания Лукрецией. – Разве жизнь и смерть до такой степени во власти норманнских выродков из-за моря? – возразил Альфонсо и прибавил, вздрогнув всем телом: – Но это – неправда! Твоя возлюбленная хуже последней продажной женщины из прокаженных французских лагерей, возбуждает во мне отвращение и презрение и, чтобы доказать это, я оставляю тебя невредимым сегодня вечером. Предоставляю тебя твоему блаженству, сам же я покину Ватикан и буду безмолвен, как его мрак, если... ты попросишь Лукрецию дать тебе сегодня венок за победу на турнире, что послужит мне благовидным предлогом вырвать у тебя из груди сердце на рыночной площади у всех на глазах. Она не откажет тебе в такой ничтожной награде, как моя опала и унижение, а если понадобится еще долее обманывать Орсини, то ты можешь вздыхать и клясться, что тебе было бы приятней, если бы награда досталась ему вместо тебя, хотя бы в действительности ты заслужил ее. – Нет, что бы ты ни говорил, я останусь здесь и буду ожидать своего счастья, – запальчиво ответил Лебофор, хватая в своей ярости Альфонсо за плащ. Однако, иоаннит вырвался от него, вошел в тень крытой аллеи и тотчас исчез. Вне себя от волнения, Альфонсо машинально покинул дворец, не зная хорошенько, куда направляет свои шаги. Смертельная битва была бы для него более желанной переменой, и, когда он внезапно вспомнил о своем уговоре с Фиаммой, он с удовольствием подумал об опасностях, сопряженных с этим приключением. Вместе с этим его на минуту утешила мысль, что оно должно привести его к полному раскрытию преступлений Лукреции. Было уже довольно поздно, и Альфонсо поспешил и месту свидания. У ворот Святого Себастьяна ему встретилась фигура, также закутанная в рясу и капюшон, но это не помешало ему узнать в ней по условному знаку Фиамму. Они молча прошли в ворота и быстро направились по равнине. Вскоре перед ними показалась древняя церковь Святого Себастьяна, откуда ветер доносил звуки духовных гимнов. Однако, Фиамма повернула на пустырь, покрытый глубокими ямами и поросшей тернием и можжевельником, спустилась в одно из углублений, вырытых в песчаной почве, и они приблизились к месту, где было высечено в скалах несколько пещер, наполовину заваленных обломками камней и заросших сорной травою. Фиамма юркнула с проворством змеи в одно из этих отверстий, Альфонсо же невольно замешкался, припомнив все слышанное о запутанных извилинах катакомб. Но, пока он стоял в нерешительности, он услышал удары стали о кремень и увидел при свете вспыхнувшего пламени, что Фиамма, стоя на коленях, раздувала огонь в куче сухих листьев, чтобы зажечь факел. Устыдившись своей трусости, Альфонсо углубился в пещеру и стал помогать своей спутнице. Когда факел был зажжен, он по ее требованию воткнул в расселину скалы заготовленный ею кол, просверленный насквозь. В это отверстие Фиамма продела конец шелкового шнура и тщательно прикрепила его, после чего, вложив клубок в руку иоаннита и взяв факел, сказала с грустной улыбкой: – Твое сердце сильно бьется? Решаешься ли ты следовать за мною? – Решаюсь, хотя бы путь пролегал по черным ехиднам, – ответил Альфонсо, но снова поколебался, угадав намерение своей проводницы. Он видел, что они стояли в низкой пещере из песчаника, откуда разветвлялось много сводчатых ходов по разным направлениям. Фиамма вступила в один из них, настойчиво внушая Альфонсо крепко держать клубок и разматывать его, продвигаясь вперед. Факел тускло светил в окружающих потемках, но рыцарь чувствовал, что тропинка вьется кверху. Подземная галерея была едва достаточной ширины, чтобы можно было ощупью находить в ней дорогу, и с обеих сторон завалена мусором. Молча и поспешно шли они дальше, причем клубок так быстро разматывался, что шелковый шнур постепенно опускался все ниже к земле. Иоаннит убедился, что они вступили в другую пещеру, откуда шло три узких хода, спускавшихся так круто и глубоко, что в иных местах их высота едва достигала человеческого роста, а в других они суживались до размера трещины, произведенной землетрясением. Фиамма изредка произносила какое-нибудь слово, то иногда поднимала на ходу факел, и тогда он освещал мрачные отверстия, откуда разветвлялись новые ходы, но чаще заставлял выступать на стене древнюю надпись, или грубый барельеф, высеченные в память страданий христианских мучеников, погребенных в нишах по стенам. Путаница лабиринта, куда углубился Альфонсо, и недоверие к проводнице колебали его твердость и мужество. Конечно, он тщательно соблюдал наставление Фиаммы при разматывании клубка, который, очевидно, был важнее для их безопасности, чем какое бы то ни было знакомство с местностью, и при этом заметил, что к шнурку были привязаны через промежутки маленькие свинцовые шарики, чтобы он снова слегка натягивался при спусках. Необходимость этой помощи стала еще очевиднее, когда подземный ход, опустившись на большую глубину, затерялся в таком множестве извилин, точно тянулся по самым внутренностям земных недр. Остальные неудобства еще увеличивались. Струи холодного воздуха, сырость и миазмы, доносились порою из пещер, обломки песчаника отваливались от каменных сводов, точно злой дух пытался преградить дорогу смельчакам, тогда как в отдалении внезапно раздавался странный вопль, переходивший в слабый, таинственный шепот. Длинный путь, пройденный в этих галереях смерти, удивлял и беспокоил Альфонсо. Но вот Фиамма вдруг остановилась и, направив на иоаннита свет своего факела, устремила на него внимательный взор, после чего сказала почти с оттенком презрения в голосе: – Ваш лоб, рыцарь, влажен. Вернитесь назад, если мужество покидает вас, потому что мы подходим теперь к месту, где начинается искус, и вы должны остаться один и без света в этом уединении до прихода действующих лиц, которые собираются дать страшное представление. – Какому бы риску я ни подвергался, ничто не заставит меня отступить, – ответил Альфонсо. – Тогда будем продолжать свой путь, – сказала Фиамма, пускаясь дальше. Подземный ход все расширялся и, наконец, уперся в арку, высеченную в скале, которая вела в пещеру устроенную в прежние времена для выкапывания песка По ее стенам были видны глубоко высеченные надписи, которые не стерлись от времени. Естественные столбы, оставленные при раскопках, были покрыть там и сям грубыми архитектурными украшениями в виде неуклюжей резьбы по камню, а пыль на полу была так бела и густа, точно ее посыпали нарочно чтобы духи могли беззвучно скользить по ней. – Это – страшная сцена, где предстоит разыграться, пожалуй, еще более ужасной драме, – сказала Фиамма и показала своему спутнику внутренность пещеры, насколько мог осветить ее факел. – Если верить сказаниям, то в этих подземных могилах погребено больше мертвецов, чем найдется теперь живых людей во всей Италии. Большая часть их – умерщвленные, изувеченные жертвы человеческой жестокости! Эта белоснежная пыль состоит из их истлевших костей, эти стены созданы из их остовов, которые обнажаются каждым отпавшим осколком скалы перед нечестивыми взорами, потому что сюда приходят ведьмы и колдуны справлять свой шабаш и тешить своего владыку и повелителя осквернением этого священного приюта. Сюда явится Цезарь, такой же мрачный дух! Но для того, чтобы увидеть все, оставаясь невидимкой, хватит ли у вас мужества спрятаться вон в ту нишу, там, над аркой у входа? – В ней страшно тесно! Это – могила? – спросил содрогаясь Альфонсо, и осветил факелом узкую, но глубокую, впадину в скале над входом. – Даже если так? – возразила Фиамма. – Развевы не видите полуистершейся надписи «Нет ничего более жалкого, чем жизнь»! ? Чем угрожает нам смерть, чего мы не выстрадали бы уже на земле? Впрочем, время не затянется для вас до моего возвращения. Вот та галерея ведет с несколькими извилинами в часовню, куда явится Цезарь с колдуном. Благочестивые монахи считают их богомольцами, желающими поклониться праху мучеников, и ждут от меня только условного знака. – Время? Что значит оно в этих жилищах мертвецов? – спросил Альфонсо, все еще не решаясь, так как его мужество ослабело при мысли остаться одному в этом страшном уединении. Однако, пылкость чувства к Лукреции победила страх. Выступы выдолбленной скалы давали возможность подняться в могилу, и, крепко держа клубок, рыцарь полез кверху. Но вдруг боязнь предательства так сильно овладела им, что он остановился. Кинутый на Фиамму взор открыл ей без слов его помыслы, и она с нетерпением воскликнула: – Предать тебя! Но с какой целью? Пусть эта гора обрушится мне на голову и раздавит меня, если я злоумышляю против своего благодетеля. Эта страшная клятва успокоила сомнения рыцаря, и он поднялся в пещеру, откуда ему предстояло наблюдать за своим врагом. Судя по ее глубине, она была вырублена в скале, чтобы служить для погребения. Действительно в ней, по старинному обычаю, был помещен стоймя длинный ряд трупов, но, вероятно, богатство наружных украшений подстрекало жадность грабителей, и они сорвали мраморную облицовку гробницы. Трудно сказать, принесло ли это преступление хорошую добычу, но теперь в могиле не было ничего, кроме пыли и кромешной темноты. Альфонсо был вынужден пятиться в своем убежище задом, не имея возможности повернуться в тесноте, и отступал все дальше от входа, пока Фиамма не убедилась, что его нельзя разглядеть из центра большой пещеры. Тогда она кивнула ему головой на прощание, и поспешно углубилась в один из подземных ходов на противоположной стороне пещеры. Альфонсо невольно подался вперед, чтобы проводить взором последний отблеск факела, после чего воцарились непроглядная тьма и такое безмолвие, как будто все звуки замерли навек. Предоставленный своим думам, рыцарь снова принялся размышлять о событиях в мире живых, причем забыл на некоторое время свое положение и сопряженные с ним опасности. Наконец, внезапно опомнившись, он испугался и был готов счесть окружающее нелепым сном. Но, гнет могильных стен убедил его что это – страшная действительность, сулившая ему мало хорошего. Отсутствие Фиаммы продолжалось уже довольно долго, она все еще не приходила, и мучительные предчувствия и опасения стали томить иоаннита. Вошедшее в пословицу коварство Борджиа, жестокое мщение, которому они подвергали своих врагов, навели его на мысль, что его обрекли на ужасную участь быть заживо погребенным в этом неизмеримом лабиринте. Несколько секунд несчастный не решался потянуть за шнурок, боясь, что тот отвязан от кола у входа в подземелье, а в таком случае, едва ли было возможно найти выход оттуда, и оставалось только погибнуть от голода и отчаяния. Однако, томительная тоска неведения была ужаснее всякой уверенности, и Альфонсо поспешил разрешить свои сомнения. Потянув за шнурок, он убедился, что его страх напрасен, а в этот момент показался свет в галерее, где он не ожидал его увидеть, и эхо шепчущих голосов донеслось до него по гулким стенам раньше, чем разговаривавшие появились перед ним. Впереди выступал человек в плаще и в маске, в надвинутой на глаза широкополой шляпе с пером. За ним следовал другой, в форме испанского солдата, на лицо которого свешивались длинные спутанные волосы, вылезавшие из-под шлема. Третий нес в руках факел, чтобы светить им. Судя по сгорбленной фигуре и медленной походке, это был старик преклонных лет, но под черной одеждой кающегося монаха его решительно нельзя было рассмотреть. Монах опирался на длинный черный посох, искусно украшенный фигурами и звездами, и нес на своей сгорбленной спине красный мешок, скрывавший в себе какие-нибудь орудия искусства колдовства. (обратно)ГЛАВА VI
– Священный воздух кажется мне удивительно промозглым, дон Савватий, а между тем, ему следовало быть сухим и теплым, мы ведь спустились чуть ли не в самое пекло, – произнес мужчина, шедший впереди, и по его веселому голосу в нем было не трудно узнать Цезаря Борджиа! – Как глубоко надо еще спуститься, чтобы злые духи услышали наш зов? – Настоящее место удобно для этого. Мы можем начертить достаточно широкий круг, – ответил колдун, голос которого хотя был старчески слаб и хрипл, но казался иоанниту знакомым. – Однако, мне нужна помощь, и я хочу пригласить двух своих товарок по ремеслу. Мы всегда оказываем друг другу взаимные одолжения. Савватий отошел в сторону, вытащил острый нож из своего узла, царапнул им свою руку, спустился в отдаленную подземную галерею, брызгая по дороге кровью, и стал громко произносить странные слова скороговоркой, точно призывая кого-то издалека. Ему нестройно откликалось многократное эхо. Вдруг послышался шум вихря и, когда он усилился, две сухопарых старухи спустились в галерею и вошли и пещеру, крича: – Мы идем... идем! – Прекрати свое бормотание святым угодникам, Мигуэлото, иначе ты помешаешь колдовству! – с нетерпением сказал Цезарь. – Разве ты не видишь? Ведь это – твои старинные приятельницы, ведьмы из гетто. Колдуньи приветствовали герцога фантастическим поклоном, указали своими костлявыми пальцами на дрожащего каталонца, и дружно расхохотались. – Ну да, черти не пугают вас, ведьмы, потому что вы день и ночь находитесь в их компании, – сердито огрызнулся Мигуэлото, – но, по-моему, вам не следовало бы смеяться вскоре после того, как ваша внучка навлекла опасность на всех нас своею безумной выходкой. – Молчи, дурачок! Матери были в не меньшей опасности, но монашеский рыцарь, вмешавшийся в дело, пожалуй, имел причину раскаяться в том, – мрачно заметил Цезарь. – Ну, дон Савватий, так как твои сестры по колдовству налицо, что ты мешкаешь и смотришь на меня? – Я хотел бы в точности узнать вашу волю. Ведь до сих пор вы лишь смутно намекали мне на свои желания, – спокойно и самоуверенно ответил чародей. – Я убедился, что тебе дана власть вызывать мертвецов. Разве не показал ты мне в волшебном зеркале Карла Великого? – сказал Цезарь после краткого, несвойственного ему колебания. – Но теперь ты должен вызвать мне духа, который не требует столь сильного колдовства, потому что еще блуждает между этим миром и тем, куда возвращается все существующее, или Вечностью, как возвещает нам духовенство. Как бы то ни было, я хочу узнать от него, что ему нужно, чтобы он успокоился и не заслонял мне больше солнца, не становился на каждом шагу поперек дороги. – Какого же духа должен я вызвать? – спросил колдун. – Очерчивай свои волшебные круги и произноси заклинания, тогда я тебе скажу, кого мне надо видеть, – ответил Цезарь. Чародей схватил свой посох и начертил им в воздухе какие-то таинственные знаки на три стороны пещеры, в то же время бормоча слова на неведомом языке. Потом он отбросил от себя посох, который извивался и шипел перед глазами испуганных зрителей наподобие огненного змея. После этого, выступив вперед, колдун начертил три магических круга, центром которых служил упавший жезл, и велел своим помощницам нагрести песка к магическим кругам бывшими у них медными лопатками. Те принялись за дело, произнося вслед за ним какие-то еврейские слова, и кричали во все горло, хлопая в ладони: «Учитель Каббалы, учитель!». Затем чародей выкопал много обломков костей и черепов и обложил ими третий круг. – Теперь скажи, сын мой: был ли вызываемый нами дух насильственно изгнан из тела, а если так, то где и когда это совершилось? – спросил колдун герцога и стал продолжать свою работу. Дон Цезарь, словно томимый усталостью, опустился наземь и, роя песок и пропуская его между пальцев, промолвил: – Зачем это нужно знать? – Магический круг должен быть огражден от ярости духа. Если же круг не окажет ему сопротивления, то спрашивающий рискует быть растерзанным на куски или взорванным на воздух адским огнем... – Насильственная смерть? Ну да, действительно, так было, но эти добрые женщины могут сказать, почему пал герцог Джованни Гандийский. – Он обесчестил чистую кровь нашего отца, чистую со времен Эноха, – ответила Нотта, отбрасывая назад свои спутанные черные волосы и поднимая взор от своей работы. Ее сестра, седая Морта, также приостановилась в своем занятии и прибавила с горьким смехом: – Но она была так прекрасна, Нотта! – Но за что он был убит? – спросил Савватий. – Ведь не ты же, благородный синьор, нанес удар в отмщение за кровь Эноха? – Я не предназначен быть младшим братом, – ответил Цезарь. – Свет Джованни был моею тенью. Но ведь ты давно слышал эти истории. – А не было тут другой причины, другого греховного пятна на душе твоего брата, которым мы могли бы воспользоваться, как чарами против злобы духа? – Да, – ответил Мигуэлото, с возраставшим волнением следивший за приготовлениями к колдовству, – я дал склонить себя к убийству герцога Гандийского, потому что мой господин уверял, что смерть его брата послужит тому наказанием за преступную страсть к донне Лукреции. – Молчи, глупец! – остановил его Цезарь. – Теперь не время для этого лживого бормотанья! Эти россказни были отголоском моего шепота, и если бы душа Джованни не имела на себе иного пятна, кроме этого, приписанного ему блаженства, то она действительно была бы недоступна власти вашего колдовства. Как вы полагаете? Ведь это Лукреция убила его, а не я, когда рискнула пожаловаться на брата за мимолетное безумие одной минуты, после чего надменный мальчик пригрозил мне своим мщением. Глаза чародея страшно засверкали в прорезях его черного капюшона, и он снова принялся за работу, бормоча: – Мы должны трижды производить колдовство, потому что обиженные одарены властью, о которой мы не подозреваем, и которая не снилась обидчикам. Ни единое слово этой неожиданной исповеди Цезаря не ускользнуло от напряженного слуха иоаннита. Пока ведьмы нагребали новый вал по краям магических кругов, колдун поставил в первый круг низкий треножник, поместил на нем медную сковороду и развел под ним огонь. После того он взял часть трав, принесенных ему еврейками, и прибавил к ним других из своего мешка, чтобы составить курение. Цезарь как будто занимался некоторое время разглядыванием скульптурных украшений и надписей в этой подземной часовне, а затем произнес: – Твои духи подобны женщинам, которые являются непрошеными и не приходят, когда их зовут. – Дух может иметь власть противиться моим чарам, – ответил колдун. – До сих пор я еще не произносил своих заклинаний, но время близится к тому. Сестры, садитесь в первый круг и повторяйте за мною имена. Но с какой стати дрожит этот воин? Дух явится только своему убийце, – вот и все. Перестань творить молитву, иначе все мы попадем во власть злых духов, – предостерег Савватий бледного Мигуэлото, щелкавшего от страха зубами. – Ступай в круг, если хочешь быть невредимым, и не бойся, пока наступит твой час. Герцог Цезарь, войди во второй круг! Мигуэлото машинально повиновался приказанию чародея, а Цезарь, смело выступив вперед, прыгнул в круг и, скрестив руки, остановился там с решительным, или, скорее, скептическим видом. Чародей вошел тогда в крайний круг, опустился на колени, вынул из-за пазухи восточную книгу, разрисованную волшебными знаками, схватил единственный принесенный им факел, сунул его в песок и потушил. Пещеру теперь освещал лишь слабый свет, распространявшийся от огня, под жаровней колдуна, от которой поднимался густой, благовонный дым. Альфонсо наблюдал за всем происходившим и под влиянием веры в силу колдовства, распространенной в те времена, чувствовал робость, которую может возбуждать ожидание пришельца из неведомого мира. Что касается Цезаря, то, несмотря на страх, естественно возбуждаемый своим преступлением, он с мужеством ожидал результата страшного опыта и лишь несколько раз бессознательно пробормотал: – Пусть бы он принял любую форму, только бы не эта темнота! Тогда я не стану ничего бояться! – Тише, тише! Не мешайте сестрам слушать мою речь, – с досадой произнес колдун и продолжал чтение своей книги, понятное только ему и колдуньям. Вскоре послышалось рокотанье, похожее на отдаленные раскаты грома и постепенно приближавшееся, а по песчаному полу и могилам в стенах пещеры забегали огненные языки и стали вырисовываться светящиеся иероглифы. Между тем, чародей спокойно читал, не поднимая головы, а ведьмы продолжали петь, причем их голоса уподоблялись вою морских волн во время бури. Вдруг жаровня с куреньями вспыхнула и зашипела, точно в ней клокотали пестрые змеи, извивавшиеся в пламени. Пещера наполнилась одуряющим дымом, который вызвал странную истому даже у Альфонсо. Это ощущение продолжалось недолго, но вызвало мечтательное забытье. Вскоре Альфонсо показалось, что он видит легионы отвратительных призрачных фигур, мелькавших вдоль стен пещеры, реявших в ней. Большинство этих призраков делали презрительные жесты или насмешливо ухмылялись, кивая на молчаливые человеческие фигуры, находившиеся в магических кругах. – Все напрасно, – тихо пробормотал Савватий. – Духи пренебрегают вашими посулами, не хотят принимать ничего кроме свежепролитой крови детей и юных дев, и не согласны отвечать. Ведьмы, заклинайте своего отца, жестокого старого чародея, чтобы он подал нам помощь, потому что он, наверное, находится между этими духами. – Это – неправда! – закричала Морта. – Эти духи не похожи на детей нашего племени, а твои соплеменники были всегда хуже чумы ненавистны нашему отцу. – Прибавить мандрагоры! – поспешно сказал Савватий. – О, наша ворожба еще сильна. Пот с правой руки убийцы в пламя! Говори, Цезарь. Напомни им об ужасных деяниях, которыми ты заслужил их благоволение и помощь. Говори, иначе у меня не станет власти удерживать их, или принуждать к повиновению. – Страданиями, пожирающими мою душу, невестой Христовой, взятой мною от Его алтаря, диким проклятием султана Зема, кровью своего брата заклинаю вас! – воскликнул Цезарь и при виде постепенного исчезновения призрачных сонмов продолжал с возрастающей яростью: – Ну, демоны и духи, слушайте меня! Ради отвратительных наветов и клеветы, возведенных мною на верховного главу, ненавистной мне церкви, велите явиться передо мною духу, которого я требую. Наступило жуткое безмолвие, а потом раздался общий крик, вырвавшийся у всех присутствующих, не исключая колдуна, но, кроме Цезаря, стоявшего неподвижно, как статуя, когда из галереи над противоположной стеною пещеры показался тусклый, призрачный, синеватый свет и в нем слабые очертания доспехов, плаща и роскошного одеяния, обагренного кровью. Среди них были чуть заметны расплывчатые черты лица. – Ангел или дьявол... кто бы ты ни был! – прохрипел Цезарь. – Да, да, это – он, каким мы оставили его в склепе церкви Пресвятой Девы!.. Джованни!.. Брат!.. Нет, я не хочу называть тебя братом, – продолжал он тоном безумца, бредящего в своей каморке. – Останься!.. Говори, или моя душа разорвется среди этого молчания. Говори: оттого ли мучишь ты меня так жестоко, что был убит в смертном грехе, в объятиях женщины из проклятого племени? Разве твоя душа не может найти покоя и не в том ли состоит твое адское мучение, чтобы ты создавал мне ад на земле? О, говори, скажи мне: какое покаяние, какие молитвы, сколько бесчисленных обеден могут доставить мне прощение, а тебе загробный покой? – Цезарь! – послышался наконец тихий неземной голос, словно выходивший из глубины могилы, но звучавший кроткой скорбью. – Я здесь! – безумно крикнул братоубийца. – Сбрось это платье, в котором ты уподобился Каину, первому убийце, облекись снова в свое священническое одеяние, предоставь свою сестру каждому, кого изберет ее любовный каприз, хотя бы последнему из твоих слуг!.. Проводи свои дни в покаянии, молитве и богоугодных делах, в беспрерывном старании загладить и опровергнуть отвратительные наветы, распространенные твоею испорченностью, тогда Небо еще может умилосердиться над тобою. – Никогда! Никогда! Никогда, дьявол! Ты нарочно принимаешь этот дружеский облик, чтобы терзать меня! – безумствовал Цезарь. – Скажи мне, что, сделавшись повелителем Италии, я должен освободить Гроб Господень из рук неверных или погибнуть в этой борьбе, и одарять Божьи храмы, чтобы в них совершались моления за твою душу, отошедшую не в мире. Да, сделай самое худшее, что ты можешь, уничтожь меня, я все-таки стану противиться тебе. Мальчик, ты был так любим и так прекрасен! Да, хоть ты и дух, я также хочу помучить тебя. Удались в свой могильный мрак, когда венец первого Цезаря будет возложен на меня, когда Лукреция, как императрица, в величии своей красоты воссядет со мною на трон, когда весь свет – из любви или страха, мне все равно – воскликнет: «Хорошо сделано!» Но, едва он произнес эти слова, видение исчезло во мраке, испустив протяжный и скорбный вопль, звучавший как прощанье со всякой надеждой. Тусклый, багровый свет в жаровне, померкший при неземном сиянии, показался теперь снова, и Альфонсо, остававшийся в полуобморочном состоянии, почувствовал, что наступило продолжительное молчание. – Дон Савватий, – заговорил наконец Цезарь удивительно твердым голосом, – Дай-ка нам свет! Это – странное мороченье. Слышал ли ты, что говорил красиво наряженный дьявол? – Цезарь, послушай меня, – прохрипел чародей, – ты видел настоящего духа. Мое колдовство не могло вызвать его. То был дух с небес, хотевший напомнить тебе о раскаянии, и я умоляю тебя: покайся и спаси свою душу от палящего огня, который пожрет ее. – Ты подаешь мне добрый совет! – с диким хохотом воскликнул герцог. – Раскаяние. Постричься в монахи? Не так ли? Бормотать обедни и толкнуть Лукрецию в объятья первого встречного нищего, который приглянется ей, – пожалуй сумасбродного молодого англичанина или бесчувственного шпиона из Феррары? Вздор! Разве ты забыл, что сам же показывал мне потомство Лукреции в виде венценосцев и с крестами, перед которыми меркли короны цезарей? – Помню, – простонал чародей. – Ну, значит, ты получил мой ответ, – задыхаясь произнес Цезарь. – Но дай мне испытать еще раз силу твоего могущественного искусства. Прикажи своим духам показать мне образ мужчины, которого Лукреция любит или должна любить, чтобы мы, повинуясь воле духов, не ошиблись в ее женихе. – Это напрасно! Злые духи утомлены и не захотят больше повиноваться моей ворожбе, – ответил Савватий, медленно выпрямляясь и осматриваясь вокруг с нервным содроганием. Иоаннит впервые заметил удивительную перемену в голосе колдуна. Этот голос стал теперь сильным, печальным, благозвучным и поразительно напоминал голос отца Бруно. – А я говорю тебе, что они согласятся! Произнеси слово заклинания! – с безумной торопливостью настаивал Цезарь. – Спроси только, не иоаннитский ли это рыцарь. Но нет, этого не может быть! Разве не пыталась Лукреция отравить его в день турнира? – Нет, я могу доказать тебе противное, – воскликнул Савватий. – Я сам приготовил напиток для одного соперника, хотевшего навлечь на него позор в тот злополучный день. Но не принуждай меня! Раздраженные духи послушаются только тех слов, которые поколеблют гору над нашими головами. – Можешь поколебать весь мир, если желаешь, только удовлетвори меня! – воскликнул Цезарь. – Хорошо, я сделаю, что могу, но, думаю, духи не послушаются, – и Савватий начал произносить свои заклинания, но слабым голосом и с видимой неохотой. Альфонсо находился в не менее мучительном беспокойстве, чем герцог. В своем нетерпении, забыв всякую осторожность, он вышел из своего убежища, чтобы посмотреть, что будет. Хотя в пещере было совершенно темно и пламя под жаровней отбрасывало лишь небольшой круг света, в котором виднелась согбенная фигура колдуна да горели в багровом отблеске край одежды Цезаря и кончик его султана из перьев, однако, на беду, огонь внезапно вспыхнул и отбросил яркий отблеск на иоаннита. Еврейки, в страхе отвернувшиеся от призрака, пронзительно вскрикнули, а Цезарь и чародей в испуге оглянулись назад и на одно мгновение ясно увидали Альфонсо, прежде чем он успел спрятаться. Рыцарь вспоминал потом, что Цезарь кивнул ему с удовольствием и насмешкой, как будто узнал его, а Савватий, застонав от страха, рухнул наземь без чувств. Иоаннит напряженно прислушивался с минуту, убедился, что испуганные зрители приняли его за привидение, а затем увидел, что Цезарь вступил в круг колдуна и приподнял его, но с возгласом, скорее отзывавшимся презрением, чем жалостью. – Мигуэлото, – сказал он вдруг под влиянием какой-то новой мысли, мелькнувшей у него в голове, – ведь мы почти не видели сегодня ночью лица дона Савватия. Я хочу хорошенько рассмотреть его. – С этими словами он разрезал кинжалом пояс монашеской рясы, откинул капюшон и внезапно воскликнул: – Отец Бруно! От изумления все точно окаменели. Наконец, Цезарь разразился диким хохотом и, хватая каталонца за грудь, крикнул: – Мигуэлото, тешится ли над нами нечистый, или ты – изменник? – Это – несомненно монах Бруно Ланфранки, но я не знаю, каким чудом ускользнул он из крепости Святого Ангела, – ответил Мигуэлото. – Мы узнаем это, когда увидим, каким образом он туда вернется, – задумчиво промолвил Цезарь, – но ведь монах давно уже слыл чародеем! У меня порою мелькало подозрение относительно его и теперь мне припомнилось все это. Смотрите, не смейте проговориться, что я видел его. Загаси огонь, Мигуэлото. Обманщик должен вывести нас из этого лабиринта, иначе нам пришлось бы долго ждать другого проводника. Сильные подергивания членов колдуна доказывали, что он очнулся от беспамятства. Цезарь опрокинул жаровню, так, что последнее мерцание света угасло, а потом поднял дона Савватия с земли. После кратких переговоров тот принялся шарить впотьмах, отыскивая свои книги и принадлежности чародейства, а затем, собрав их, принял на себя роль проводника, и вся достойная компания последовала за ним по пятам. Когда гул их шагов совершенно замер вдалеке, Альфонсо опомнился, собрался с мыслями и стал думать о собственном положении. Итак, Лукреция невиновна ни в одном из возведенных на нее обвинений! С минуту все душевные силы Альфонсо были поглощены этим блаженным сознанием. Но тотчас у него мелькнула мысль, что ведь Лукреция – возлюбленная Реджинальда, и это мгновенно отогнало весь поток блаженных чувств. Однако, затем ему вспомнились прежняя любовь Лукреции к нему и блестящие обещания, связанные с его браком с нею. Он кинулся вон из своего убежища, точно в надежде, что еще не поздно вырвать Лукрецию из объятий ее соперника, избавить от неслыханного позора и, лишь спустившись на пол подземной часовни, спохватился, что забыл о шелковом клубке. Он потерял его, поспешно прячась от взоров чародея. Вне себя от испуга Альфонсо поспешно поднялся опять в опустошенный склеп над входом и стал тщательно шарить в потемках по всем углам, но все поиски были напрасны. Наконец, ему пришло в голову, что клубок упал в пещеру, и он долго отыскивал его там, бродя ощупью во мраке. Вспомнив о жаровне, он с трудом добрался до места, где происходила ворожба, но Цезарь так основательно затушил огонь, что в золе не нашлось даже искры. После новой неудачи Альфонсо пытался уверить себя, что сумеет без труда найти дорогу, по которой пришел сюда, и пошел, как ему казалось, по направлению вперед, но подземная галерея внезапно сузилась до размеров трещины, в которой было можно продвигаться дальше, лишь с усилием протискиваясь между стен, а этого, насколько помнил Альфонсо, не встречалось ему по пути в пещеру. Все тревоги стушевались теперь перед убийственной мыслью, что он, пожалуй, безвозвратно погиб в этом темном лабиринте. Вернувшись опять назад, он принялся громко взывать о помощи, но только страшное эхо отзывалось на его зов в этом городе мертвых. Альфонсо по-прежнему находился в широком пространстве и, хотя не мог различить в густом мраке ни одного предмета, однако, у него блеснула мысль, что, если бы найти ощупью вход, приведший его в пещеру, то было бы не трудно отыскать и клубок, который, конечно, откатился недалеко от того места. Он совсем не отдавал себе отчета в том, сколько времени провел он в этих поисках, но убедился, что попал в одну из длинных подземных галерей. Тут ему припомнилось, что Бембо читал в одной старинной книге, будто бы эти ходы простираются до самой Остии и до такой степени перепутываются под землею, что едва ли возможно напасть в них на настоящую дорогу. В приливе отчаяния Альфонсо схватился за свой кинжал, желая убедиться, что у него осталось еще средство избегнуть страшной участи, на которую он был обречен в этом лабиринте. Однако, минуту спустя он ободрился и стал пробираться наудачу вперед, рассчитывая, что если идти все прямо, то перед ним должен открыться выход из подземелья. Эта надежда подкреплялась еще тем, что подземная галерея заметно шла кверху, как будто обещая вывести заблудившегося на поверхность земли. Но вдруг он наткнулся на скалу, совершенно преградившую ему путь. Несколько мгновений Альфонсо старался уверить себя, что все виденное и слышанное им было только сном. Он даже громко рассмеялся при мысли, что мог пойти на подобный риск, положившись на сомнительные уверения Фиаммы, возлюбленной Цезаря Борджиа, и убедил себя, что сам вложил в уста призрака Цезаря подозрение, давно таившееся у него в душе. Страшный пришелец из неведомого мира, принявший облик несчастного герцога Гандийского, конечно, также мог быть лишь порождением фантазии. Превращение колдуна в монаха являлось несомненно, плодом сонной грезы, так же, как и необъяснимое исчезновение Фиаммы с арены действия, где она играла важную роль, и все подробности ворожбы, появление ведьм в бурном вихре, демоны и ухмыляющиеся призраки. Однако, вскоре мысль о сне отпала, и Альфонсо пришел в сознание действительности окружавших его ужасов. Телесные и духовные силы покинули иоаннита при этом открытии. Мысли вихрем кружились у него в голове, сердце стучало, как молот, пот крупными каплями выступил на лбу, и он шатаясь, удалился на несколько шагов от каменной стены. Сделав отчаянное усилие воли, он оправился от слабости и попытался продолжать свой путь назад, как вдруг его заставили остановиться оглушительный треск и грохот посыпавшихся кругом каменных обломков и песка. Земля словно опустилась под ним и, потеряв сознание, он в глубоком обмороке упал на каменистый грунт. Альфонсо не отдавал себе отчета, сколько времени пролежал он таким образом, но, наконец, очнулся с онемевшими членами, томимый жгучей жаждой. Его язык и горло были покрыты густым налетом пыли, и он не сразу опомнился, после чего с трудом поднялся и растерянно уставился взором в темноту. Сначала ему померещилось, будто он смертельно ранен на поединке с Лебофором и делает последнее усилие, чтобы вырвать Лукрецию из объятий соперника, но, когда действительность предстала перед ним в смутных образах, он снова лег на землю, стараясь успокоить себя мыслью, что его по-прежнему преследует страшный сон. Обломки камней, на которых он лежал, и отвратительное зловоние, доносившееся издали, помешало ему забыться. Когда же сознание окончательно вернулось к рыцарю, он чуть не сошел с ума. Однако, врожденное мужество и чувство самосохранения оживили его угасавшие силы. Вдобавок, у него мелькнула спасительная мысль: ему ясно представился обидный контраст между его положением и положением Реджинальда. Тогда как ему угрожала жестокая участь безвестно погибнуть под землею, его соперник упивался радостью и торжеством. Безумная жажда мести вернула силы Альфонсо и он стал усердно продвигаться ощупью вперед, чтобы найти обратный путь. Но вдруг он наткнулся на неожиданное препятствие в виде груды камней, которые осыпались под его руками. Он припомнил оглушительный грохот подземного обвала, предшествовавший его обмороку, и еще неизведанный ужас овладел им при мысли, что обрушившиеся позади него скалы навсегда преградили ему выход. Каждое усилие, которое он делал, подтверждало это догадку. Тогда Альфонсо крикнул так громко, что его голос, казалось, должен был проникнуть сквозь расселины скал и дойти до чьего-либо слуха. Однако, никто не откликнулся. Тогда Альфонсо, немного помолчав, снова повторил свой зов, а затем стал горячо молиться, чтобы Провидение умилосердилось над ним или поразило его мгновенной смертью. Увы! Лишь глухое эхо отзывалось ему в вышине. Тут Альфонсо вспомнил, что ведь некоторые пещеры были очень высоки, а в подземных галереях зияли трещины, и у него мелькнула надежда выбраться из темной западни. Он поднял руки и, хотя не нащупал ими свода над своей головой, все же выпрямился, прижимаясь к тесным стенам. Вдруг, вне себя от восторга, он почувствовал, что трещина, в которой он пробирался, постепенно расширялась, и наконец его могучая грудь могла свободно вздохнуть. Он стал подниматься дальше, упираясь спиною и ногами в стены, и через несколько мгновений его нога нащупала острые края пещеры. С невыразимым облегчением он спрыгнул в открытое пространство. Отдохнув Альфонсо стал ощупью пробираться в темноте, все еще сознавая, что у него нет иной надежды, как высмотреть какой-нибудь выход. Рискуя в любую минуту попасть в новую ловушку, он шел вперед, понимая, что каждый шаг может привести его к гибели. Он с трудом переводил дух, воздух в подземелье был спертым и тяжелым. Но он преодолевал изнеможение и страх, спеша дальше, пока, наконец, измученный и усталый, остановился на минуту отдохнуть. Внезапно до его слуха донесся собачий лай. В приливе сил Альфонсо кинулся вперед, по возможности в том направлении, откуда слышались эти дивные звуки. К счастью, собака продолжала лаять, точно почуяв приближение чужого человека. Спустя немного времени, Альфонсо заметил слабый свет, выходивший из низкого, но широкого отверстия, В некотором отдалении показались глыбы скал, облитые багровым светом, и очевидно, собачий лай доносился с той стороны. Идя дальше, иоаннит убедился, что находится в пещере. Пещера становилась все ниже и ниже, и наконец, превратилась в извилистую расселину в скале, откуда виднелся свет. Альфонсо пришлось ползти в этой трещине на руках и коленях до края обрыва и здесь перед ним открылась пещера внизу, где расположились группами спящие мужчины, а собака, потеряв надежду разбудить их своим лаем, с ворчанием смотрела наверх. Альфонсо только хотел позвать на помощь, как на его счастье, один из прятавшихся здесь людей поднял голову и крикнул: «Куш, бестия!» Это был злобный голос бандита Джованни из катакомб. Альфонсо понял, что ему нечего ждать хорошего от этих разбойников. Все эти люди, теперь мирно спавшие в подземелье, были вооружены самострелами кинжалами и стальными или кожаными щитами. Конечно, было опасно отдаться в руки этих бандитов, и Альфонсо решил выждать их удаления, рассчитывая, что они поднимутся рано, чтобы отправиться на свой промысел. Он убедился, что ему не составит труда спуститься в пещеру, так как камни в стенах из песчаника образовали естественные уступы, а разбойники, несомненно, имели легкий доступ в свое укромное убежище. Успокоенный этой надеждой, Альфонсо прилег, стараясь собраться с силами. Однако, назойливые воспоминания не давали ему забыться, а все передуманное и выстраданное им в эту ужасную ночь носилось перед его глазами в живых образах. Но все телесные страдания, вынесенные им, казались ничтожными по сравнению с душевной мукой, терзавшей его при мысли о преграде, возникшей между его любовью к Лукреции и ею самой. В его ушах все еще звучало признание Цезаря в его преступной страсти к сестре, а при этом воображение, подстрекаемое ревностью, рисовало ему сцены сладострастного торжества его юного соперника – Лебофора, и, видя перед собою точно наяву, все прелести Лукреции, он чувствовал прилив ненависти и жажду мщения англичанину. Однако, силы Альфонсо были до такой степени истощены, что он постепенно погрузился в сон, смущаемый странными грезами, не имевшими, однако, близкой связи с его недавними страданиями. В заключение ему померещилось, будто его душа заключена в мраморную статую, лишенную способности двигаться, и навсегда обречена оставаться в этом состоянии. Когда же он, наконец, избавился от этого оцепенения и с трудом перевел дух, то заглянул во сне в какую-то пропасть, где Лукреция с Реджинальдом покоились на древней скамье, окруженной розовыми кустами, причем красавица прижималась румяной щекою к плечу рыцаря. Наконец, он проснулся и услыхал голос разбойника Джованни, по-видимому, рассказывавшего о странном лае своей собаки в ночную пору. – Цербер не должен ходить сегодня со мною, – сказал он. – Кажется, мой пес почуял целую стаю крыс. Меня нисколько не удивило бы, если бы они спустились со скал целыми сотнями: ведь Бог весть, что скрывается в этой зияющей пасти. Я спущу собаку с цепи и принесу ей на ужин бычье сердце. Разбойник говорил это единственному товарищу, оставшемуся в пещере. Последний точил кинжал о свои кожаные сандалии и утвердительно кивал головой, не поднимая взора от своей работы. Альфонсо решил выждать ухода бандитов. Те действительно вскоре покинули пещеру. Но собака оставалась. Правда, она была недовольна этим и попыталась последовать за своим суровым хозяином. Однако, он гнал ее прочь и проводил назад пинками. Животное покорилось нехотя, и долго с тоскою смотрело ему вслед, пока бандит удалялся по тропинке, вероятно, ведшей из подземелья на широкий простор, а затем принялось уныло лизать себе лапы, чутко прислуживаясь временами, точно до него все еще доносился отдаленный шум шагов. Альфонсо полагался на тонкий слух собаки и, лишь когда она безнадежно свернулась калачиком, рискнул спуститься в пещеру. При его первом движении Цербер насторожился, а едва рыцарь стал выползать из трещины скалы, разразился злобным лаем и подпрыгнул так высоко, что Альфонсо понял опасность, грозящую ему от нового противника. После неудачного прыжка собака стала карабкаться на выступы скалы, и Альфонсо, считая ее нападение в узком пространстве опасным, выполз из расселины с обнаженным кинжалом. Цербер, достигший подножия обрыва, подпрыгнул до него, но тотчас покатился на землю с кинжалом в горле. Теперь предприятие Альфонсо уже не было сопряжено с большими затруднениями. Подземная галерея, служившая выходом из пещеры, была пряма и заканчивалась углублением в почве, так густо заросшим терновником и другими кустами, что только знавшие эту лазейку могли найти дорогу в подземелье в их запутанной чаще. За нею простиралась открытая равнина. Альфонсо, наконец, выбрался на простор. (обратно)ГЛАВА VII
Когда миновала та страшная ночь, первый слабый отблеск рассвета, проникнув в комнату пыток в крепости Святого Ангела, осветил бледное со свинцовым оттенком лицо Цезаря Борджиа, искаженное гневом. Он вел жаркий спор с Фиаммой Колонна. Та, сидя на крестообразном приборе для пыток, спокойно опровергала его подозрение, по-видимому, приведшее герцога сюда в такую пору, и положительно отрицала, что суеверный Мигуэлото разрешил монаху Бруно выходить из его тюрьмы, когда ему вздумается. – Да, я видел его своими глазами! – воскликнул Цезарь, с досадой перебивая ее. – Я проследил за тем, когда он возвращался в крепость, и хочу знать, кто дал ему возможность выйти отсюда, по твоим же словам Мигуэлото отрицает всякое участие в этом деле. Я хочу знать это, иначе орудие пытки, на которой ты сидишь, не в первый раз будет пущено в дело. Взглянув с презрительной усмешкой на ужасный прибор, Фиамма равнодушно ответила: – Неужели только телесные мучения покоряют людей? – Ты притворяешься, Фиамма, твои женские нервы содрогаются перед этим испытанием! – Я ношу в себе пытку, которая несравнима ни с какими вещами, вызывающими страх и мучение, – ответила Фиамма как раз в ту минуту, когда в комнату входил Мигуэлото со своим узником Бруно. – Простите, святой отец, что я потревожил вас до петухов, – серьезно промолвил герцог. – Я не могу сомневаться, что нарушил ваш сон, не так ли, Мигуэлото? – Я застал святого отца на молитве, – почтительно ответил каталонец. – Я не надолго отвлеку вас от нее, если на мои прямые вопросы последуют столь же прямые ответы, – продолжал Цезарь. – Скажите мне, ведь вы – тот монах, которого я видел во время своего учения у Савонаролы, когда дожидался аудиенции в приемной Пьеро Медичи? – Да, и именно мне вы сказали: «Когда я сделаюсь римским императором, то помогу вам довести церковь до истинно апостольской бедности и подчинения, о каких только вы можете мечтать», – ответил доминиканец. – Значит, вам еще памятна та мальчишеская болтовня? – Да ведь и вы сами, думается мне, не забыли о ней. – Нет, не забыл, – согласился Цезарь, – и время исполнения моего обещания ближе, чем полагают многие из нас. А кого могло бы избрать Небо, более достойного для подобного дела, как не вас, своего святого и мученика? Вдобавок, мне известно, что вам я обязан неоцененной милостью. Вы сняли с вашего духовного сына, дона Савватия, проклятие, наложенное на него, и позволили ему помочь мне в одном деле, весьма близком моему сердцу. – Нет, я позволил ему помочь вам в одном деле, весьма близком моему сердцу, в котором вы играете роль избранного, хотя и слепого орудия, – спокойно ответил монах. – Я не надеялся так скоро найти удобный момент, но когда был призван к тому, то молился, чтобы мне поскорее избавиться от всяких плотских уз и приступить к заранее предназначенной работе. Я позволил дону Савватию ослепить вас обманчивым явлением духов в катакомбах, а теперь вы должны узнать, что жалобному замогильному голосу вашей жертвы подражала ваша сестра Лукреция. – Монах, ты, кажется, бредишь! – воскликнула Фиамма тоном предостережения и угрозы. – Нет, это – правда! – воскликнул Бруно. – Да, герцог, Лукреция Борджиа была свидетельницей вашей исповеди, вызванной у вас вашим собственным сознанием вины и хитростью заклинателя. Отныне вы во власти Лукреции, и так как вы не смеете погубить любимого ею человека, а злой дух, преследующий вас, не дозволяет вам вредить ей самой, то в вашем распоряжении остается единственное средство: вы должны разрушить ту силу, вследствие которой Лукреция грозна для вас... да, да, вы должны свергнуть с папского престола своего отца, Родриго Борджиа. – Монах!.. Дьявол!.. Должно быть, я вижу сон! – задыхаясь произнес Цезарь и откинул со лба влажные волосы. – Судьба изменяет мне. Возможно ли, что маг Савватий на самом деле – только низкий шпион, подкупленный на предательство? – Нет, – возразил доминиканец, – он – лишь существо, действия которого заранее предопределены роком и кто сам, мороча тебя ворожбою, получил ясное указание свыше, когда, вызвав призрак иоаннитского рыцаря, убедился, что его догадка была основательна и что Лукреция любит этого посланника из Феррары. – Однако, ты великолепно осведомлен обо всем! – воскликнул Цезарь, чувствуя холодный пот на лбу и нервную дрожь. – Если это – правда, то у тебя были сообщники среди нас. Уж не колдун ли и ты? Не сам ли Савватий? Да, да, я знаю это! Ведь я видел твое проклятое лицо, когда ты от трусости упал в обморок в катакомбах. – В таком случае, ты напрасно утруждал себя расспросами, – спокойно ответил монах. – Откуда эта отвага? – с яростью воскликнул герцог. – С небес или из преисподней? Признайся, кем ты приставлен так упорно играть эту странную роль, после того, как тебе удалось разжечь огонь в моей душе своими привидениями и пророчествами? Сознайся, или я сумею принудить тебя к этому. – Тащи сюда орудия мучения, пробуй пытки, раскаленное железо, кипящее масло, расправленный свинец или все вместе, ты не можешь причинить мне боль, – ответил Бруно. – Теперь я спокоен. Я слышал голос, и теперь наградою мне служит уверенность, что Лукреция не может совершить грех и что ваше адское отродье должно отныне стремиться к собственному уничтожению. Моя смерть уже не в вашей власти. – Ты годишься на то, чтобы содействовать моим планам и, если бы наступила пора... – воскликнул Цезарь. – Впрочем, я не подвергну тебя пытке, если ты сознаешься, какими средствами располагаешь для того, чтобы уходить из этого укрепленного замка, и каким образом совершил ты невозможное, о котором ведешь свои безумные речи? – Я тверд, как мрамор, и перенесу все мучения, но не отвечу тебе, Борджиа. – Цезарь, – сказала Фиамма, удивленная опасными признаниями доминиканца, – ты мог убедиться сам, что монах располагает чудесными силами, и не все ли равно, исходят ли они от ангелов, или от злых духов. – Но именно ангел на моих глазах отворил ему потайной вход в могилу Адриана и даже имел твой облик, – промолвил Цезарь, внезапно хватая молодую женщину за руку и устремив на нее пристальный взор. – И ты, ты предала меня! – продолжал он, с гневом отбросив ее руку. – Теперь я прозреваю все. Твой друг и союзник, посланник из Феррары, не был призраком. Он также находился в катакомбах и по твоему наущению. Ты была замаскированным венецианцем, приходившим к нему. Однако, я еще не совсем погиб, как вы все воображаете, и мною приняты меры даже против этой ловкой затеи предательства и неблагодарности. – Предательства и неблагодарности? – подхватила Фиамма, вскочив с места и став перед Цезарем с видом ожесточенного упорства. – Чудовище! Ты не хочешь, чтобы рассеялся мрак, которым ты окутал имя своей сестры, и чтобы благородный посланник из Феррары увез ее, как невесту своего государя, от твоей пагубной близости. Да, я была венецианцем, которого выследили твои шпионы! Но что ты сам? Каин, братоубийца, обольститель, душегуб. Я не боюсь твоей жестокости! Меня радует мысль, что по крайней мере, твоя сестра предупреждена против нее, и твои козни бессильны погубить ее. Наступило долгое, жуткое молчание, причем Цезарь зорко всматривался в своих узников. – Уведите их прочь, – приказал он Мигуэлото, словно очнувшись от сна. – Моя голова в огне, а они смеются над этими жалкими орудиями пыток, надо придумать для них нечто другое. Долой их с моих глаз! Да, им придется прибегнуть к колдовству, еслихоть один из них захочет вновь выйти живым из этих стен. – Тогда прощай, – сказала Фиамма, ярость которой внезапно утихла. – Впрочем нет, казнить меня следовало бы здесь. Ведь гибель от твоей руки была бы справедливостью, способной принести отраду, искупление для меня. Убей меня здесь, Цезарь! Я могу умереть от твоей руки так же безропотно, как ягненок, который дает мяснику тащить себя на убой. – Вот потому-то этого и не будет! – в бешенстве воскликнул герцог. – Прочь их отсюда! В темницу под валами! Мигуэлото поспешно повиновался и вернулся в смущении, дрожа всеми членами. Погруженный в глубокую задумчивость, Цезарь не скоро заметил его присутствие. – Ваша светлость, неужели все пропало? – заговорил каталонец. – Пропало? Что такое пропало? – рассеянно воскликнул герцог. – Лукреция знает лишь то, что она всегда подозревала, но не осмелится выдать меня папе. Вздор! Ничего не пропало, пока я остаюсь самим собой. Сестра будет держать этот секрет про запас, как колдовство, на защиту своего возлюбленного, как она полагает. Устрашающее колдовство! Уж не воображаешь ли ты, что мы с тобой сидим в темницах Александра? О, нет!.. Говорю тебе, что все идет хорошо. Я уже всех одолел, осуществил все свои планы, – с внезапным воодушевлением продолжал Борджиа. – Не бойся союза с Феррарой – он не состоится. А теперь мне нужно только одно доказательство для разбойников Орсини, чтобы принудить их доставить мне тот рычаг, которым я хочу приподнять мир. И, знаешь, кто должен послужить мне свидетелем? Поверенный Лукреции и правая рука Паоло – беспорочный английский рыцарь. Ты думаешь, что я брежу? Успокойся!.. – Вот если бы мы могли узнать от наших узников про все, что нам угрожает! – промолвил Мигуэлото, обводя взором сожаления орудия пытки. – Ты ошибаешься, – поспешно возразил Цезарь. – В их теперешнем безумии эти мучения бессильны над ними. Знаешь, даже сама злоба Фиаммы против меня вызывает во мне... что-то непонятное, так что я не желал бы калечить и терзать ее прекрасные члены пыткой. – Голод и жажда могли бы также сделать свое дело, не нанеся ей непоправимого вреда, – снова начал Мигуэлото. – Я убедился, что жажда причиняет невыносимые мучения. – Не отказывай Фиамме ни в чем, – серьезно промолвил Цезарь. – Мы должны действовать на дух, а не на тело. Ну, теперь принеси мне мой еврейский костюм и бороду и достань рыбачий челнок, который должен доставить меня в гетто, а сам оставайся тут и стереги хорошенько крепость Ангела. В худшем случае я могу вступить в союз с Орсини и разрушить все планы мщения. Прошло несколько часов, и уже обнаружились первые плоды козней Цезаря, этого страшного гения коварства, который был вынужден прибегнуть к крайним средствам, напрягая все свои силы. Лукреция лежала на кушетке в своей комнате, делая для вида распоряжение относительно праздника, назначенного ею на тот вечер, но часто забывая, о нем и о чем она говорит. Наконец, ей доложили о приходе двух старух, смиренно умолявших об аудиенции. По словам дежурного, это были две еврейки из гетто, вероятно, желавшие принести жалобу на несправедливые притеснения, которым часто подвергались угнетенные евреи. Когда назвали их имена, Лукреция вздрогнула. Подумав немного, она сказала своей свите удалиться и приказала ввести просительниц. Нотта и Морта предстали перед нею с низкими поклонами, но затаенное презрение в складках синих губ Нотты и ехидный блеск во взоре Морты встревожили Лукрецию. Взглянув со смешанным чувством отвращения и испуга на старух, преклонивших перед нею колени, она приказала им изложить свою просьбу. Они заговорили обе разом, но вскоре рассказом овладела Морта и, хотя путано и многоречиво, объяснила Лукреции, что римский сенатор Орсини потребовал их к себе на суд по обвинению в том, будто они, несмотря на преклонный возраст, посредством любовных напитков и ворожбы привлекали духов грешить с ними, невзирая на то, что за подобные преступления им грозит смертная казнь на костре. Лукреция с невольным недоверием взглянула на евреек, однако Нотта таким тоном, который тотчас возбудил ее любопытство, воскликнула: – Правда, наш отец научил нас искусству приготовления волшебных напитков, которые действуют так сильно, что преодолевают всякое равнодушие, всякую холодность и придают такое постоянство любви ветреных и легкомысленных людей, что она становится несокрушимой, как столбы в храме Соломона. Но взгляните на нас, прекраснейшая синьора: каждой из нас недостает немного до ста лет. Мы видели три поколения людей от колыбели до могилы. – Да, сестрица, но скажем правду, потому что существуют доказательства! – сказала Морта. – Высокая госпожа, ты видела наше дитя Мириам. Кто посмеет утверждать, что мы умертвили ее соблазнителя или посягнули на его жизнь, когда, чтобы образумить изменника и сделать его счастливым, мы дали ему выпить вина, которое возвратило вероломного к его первой любви и к позднему раскаянию! – Ведьмы!.. Дьяволы!.. Это – неправда! – воскликнула Лукреция, и, ее глаза сверкнули яростью. – Или вы хотите утверждать, что извлекли его из могилы, куда он... Впрочем, я могу отчасти верить вашему искусству, так как слышала кое-что об этом. Не вы ли приготовили чары для дочери Колонна? Колдуньи с удивлением переглянулись, но ответили утвердительно на этот пылкий вопрос. – Если бы вы, синьора, не были слишком прекрасны для того, чтобы нуждаться в подобных средствах, то мужчина, над которым мы вздумали бы испытать силу моего волшебного напитка, был бы счастливейшим из сынов Адама, – сказала Морта. – Я слышала, вы владеете темным и страшным искусством, – продолжала Лукреция, – и было бы презабавно зажечь в некоторых холодных и переменчивых сердцах божественный пыл, вызвать восторги, над которыми можно похохотать, как в былые времена люди хохотали над прыжками хмельных рабов. Такое смешное зрелище могло бы разогнать грусть, напавшую на меня с некоторых пор. Я позабочусь о том, чтобы Орсини прекратил против вас обвинение. Если же вы в состоянии приготовить мне эликсир такой замечательной силы, то я награжу вас так щедро, как неизлечимо больной король награждает врача, возвратившего ему жизнь и здоровье. – Вы недостаточно цените наши знания! Любовный эликсир представляет собою лишь самую ничтожную из тайн, которыми мы владеем, – сказала Нотта. – У нас есть тайны, способные превратить в красавца самого черта, – прибавила младшая колдунья, желая поддержать хвастовство сестры. – В таком случае... – начала было Лукреции, но тотчас запнулась. Однако, это не помешало Морте угадать окончание недоговоренной фразы и она воскликнула: – Но ведь мы не можем влить свежую силу в старые кости! ! ! Наш отец умер как раз в то время, когда был близок к тому, чтобы открыть эссенции, протекавшие в соках дерева жизни. Лукреция сидела некоторое время, погруженная в глубокую задумчивость, тогда как колдуньи внимательно наблюдали за нею. Когда же она, внезапно вскинув взор, увидала злобный блеск во взоре Морты, то отшатнулась назад, и мрачное подозрение, казалось, овладело ее душой. – Не расточай своего красноречия, – сказала она. – Я готова поверить в ваше искусство, но вы, сестры, должны хорошенько проверить, что составные части вашего волшебного напитка безвредны. Я предварительно испробую его сама. И если меня постигнет беда, то придется плохо вам и всему вашему племени, да не только в Риме, но и во всем христианском мире, в чем вы, конечно, не можете сомневаться. Морта на один миг впала в недоумение и нерешительность, а затем воскликнула: – Но ведь тогда вы сами испытаете страсть, которую хотите внушить, и пожалуй она не угаснет до гроба. – Этого я и желаю, – ответила Лукреция. Ведьмы еще раз с удивлением переглянулись между собою, услыхав слова, совершенно несогласные с установившимся мнением о непостоянстве Лукреции. Однако, Морта низко склонилась к мраморному полу и произнесла с восточным бесстрастием: – Дети твоего народа рождены для господства, а дети моего племени – для повиновения. (обратно)ГЛАВА VIII
Дамский суд происходил в большом зале дворца со всею подобающей пышностью и торжественностью. В приготовлениях к нему Лукреция, казалось, исчерпала все богатство своей блестящей фантазии. Был дивный вечер. Музыка, звучавшая кругом из укромных уголков, будила сладкую грусть, а цветочные ароматы были подобраны так искусно, что от них веяло как будто нежностью прощания. Красота Лукреции в глазах ее наиболее горячих поклонников еще никогда не блистала так ярко, как в тот вечер, и даже томность и легкая бледность, оттенявшие ее, только усиливали очарование. В отличие от прочих дам, избранных ею в число судей, она явилась в платье сицилийского покроя и в простом венке из мирт и ярко-красных водяных цветов. Альфонсо первым из трех соперников получил доступ в зал вместе с влиятельными придворными и наблюдал поодаль, но без особенного интереса, за появлением прочих гостей. Однако, когда вошел Паоло Орсини со своими друзьями, иоаннит подался вперед и заметил необычайную горячность и интимность в приветствии Лебофора, а также яркий румянец Лукреции, милостиво ответившей на его поклон. Зато, когда перед нею предстал сам Альфонсо, она побледнела и ее взор печально и как бы с мольбою остановился на нем. Упрямая твердость, с какой он избегал встречаться с ее глазами, видимо, удивила молодую женщину, но вместе с тем, помешала ему заметить злобный взгляд, брошенный на него Орсини из-за стула папы. Лукреция оправилась с видимым усилием и тотчас объявила заседание суда открытым. Трое соперников получили приказ предстать перед своими прекрасными судьями на указанном им месте и два герольда взяли с них клятву во имя рыцарской чести и подобающего почтения к дамам правдиво рассказать о своих подвигах на войне, где между ними происходило состязание из-за победного венца. Паоло, как знатнейшему, предоставили говорить первому, причем ему подложили подушку из золотой парчи. Преклонив на ней колени, он начал говорить, но, вопреки установившемуся мнению о его красноречии, его доклад отличался сбивчивостью, вялостью. Он сказал только, что проник в Капую вместе с Цезарем в передовом отряде участников штурма, но совершенно умолчал о храбрости, проявленной им при первом отчаянном приступе. Лебофор напомнил ему об этом, но Паоло заметил только вскользь, что лишь засвидетельствовал в данном случае доблесть и славу молодого англичанина. – И вы называете это славой? – сказала Лукреция. – Такой прекрасный город превращен теперь в развалины! Но, так и быть, послушаем теперь рассказ рыцаря Реджинальда. Альфонсо казалось, что красивый англичанин еще никогда не был очаровательнее, как в тот момент, когда он радостной и легкой походкой поспешил вперед и преклонил колени перед Лукрецией, как бы в порыве обожания. Однако, вероятно для отвода глаз присутствующих, Лукреция обнаружила холодность и даже неудовольствие. Это сейчас же охладило кипучую радость рыцаря, и так как подробности похода были достаточно известны, то он возбудил всеобщее восхищение весьма скромным описанием своих подвигов с явным старанием выставить на вид отвагу Орсини. По его словам, хотя он и вступил в Капую первым, но в качестве пленника, тогда как Орсини вошел в осажденный город с мечом в руках. – Вы забыли сообщить нам, что великодушно старались избавить от произвола грабителей прекрасную возлюбленную султана Зема, доставшуюся в подарок иоанниту, – сказал Цезарь, незаметно появившийся на собрании. Лукреция была поражена и устремила непроницаемый взор на Альфонсо. Единственным возражением на это обвинение со стороны иоаннита был откровенный рассказ о своих приключениях в Капуе. Как будто желая при этом снять с Цезаря всякое подозрение в нежных побуждениях к Фиамме, он подробно сообщил об усилиях и распоряжениях герцога погубить ее. Сам папа содрогнулся и с удивлением посмотрел на сына, который улыбаясь поигрывал драгоценной рукоятью своего кинжала. Что касается Лукреции, то она слушала Альфонсо с истинным сочувствием и видимо, так увлеклась его рассказом, что даже не замечала, что он говорил стоя, скорее, как король, возвещающий свою волю, чем как проситель, отстаивающий свое дело. Со своей стороны, Альфонсо, вопреки своему предубеждению к Лукреции, был невольно тронут ее слезами, подавленными вздохами, взорами, полными пылкого восхищения, волнением прекрасной груди, румянцем и бледностью, чередовавшимися на ее лице при волнующем рассказе, и у него внезапно возникла мысль, что ее прежняя склонность к нему воскресла вновь, и горячая страсть вспыхнула с прежней силой. Когда Альфонсо спокойно рассказал об освобождении Фиаммы и о своем почтительном обхождении с нею до момента ее бегства из-под его защиты, Цезарь разразился громким хохотом и спросил дам, неужели они верят подобной басне. – Я верю этому, как собственному существованию, – с жаром ответила Лукреция и бросила на Цезаря взор, смутивший его. – Достойнейшие синьоры, – продолжала она, – я нисколько не желаю нарушать права вашей мудрости, которой предстоит судить эти благородные подвиги, но мы можем выразить рыцарю-иоанниту наше одобрение тем, что разопьем с ним кубок превосходного вина. Паоло, стоявший в небрежной позе, с притворной беззаботностью, вздрогнул всем телом, но по знаку Цезаря, поданному тайком, сохранил наружное спокойствие. Реджинальд также побледнел. – Моя сестра слишком коротко узнала непреклонность рыцаря, чтобы не поверить его монашеской легенде, – со смехом сказал герцог. Лукреция кивнула негритенку, стоявшему за ее стулом с золотым подносом в руках, на котором стояли кубок и бутылка драгоценного вина, и, покраснев, взглянула на Альфонсо. Этот взор пробудил в нем магические воспоминания и, поддавшись им или иному необъяснимому побуждению, он впервые преклонил колени и воскликнул, обращаясь к Цезарю: – Нет, было бы против человеческой природы придерживаться дольше моей ереси перед лицом такой дивной красоты, какой обладает донна Лукреция! Я преклоняюсь перед ее господством и признаю себя ее рабом. – Значит, игра кончена, – промолвил Цезарь, бросая таинственный взгляд на Паоло Орсини. Орсини усмехнулся. Сияя радостью, осветившей ее красоту, как невидимым солнечным лучом, Лукреция посмотрела на своего побежденного противника, и хотя его лицо хранило выражение не поддавшееся ее пытливому взору, однако, новый поток слов обнаружил ее удовольствие. Папа засмеялся торжествующим смехом, когда она дрожащей рукою наполнила кубок до краев дивным красным вином, В то же время, пажи и слуги стали обносить гостей фруктами и винами. Орсини машинально взял с подноса персик, не спуская взора с Лукреции. Она поднесла полный кубок к губам, дрожа сказала Альфонсо: «За тебя!», и взглянула на него. Этот взгляд глубоко проник ему в сердце. После этого Лукреция отпила из кубка, а затем, нагнувшись к рыцарю, поднесла кубок к его губам. Тихий вечерний ветерок, шевеливший ее золотистые локоны, почти смешал их с густыми темными кудрями рыцаря, и в восхищении, с которым встретились их взоры, оба не заметили терзаний, исказивших черты Паоло, удивления Реджинальда и дьявольской усмешки Цезаря. Папа подозвал к себе Паоло и Лебофора, причем со смехом сказал им несколько шутливых слов насчет пристрастия женщин к делам милосердия даже наряду с громкими подвигами воинской доблести. Паоло понял, что его отозвали нарочно, однако, притворялся веселым и довольным. Хотя его страдания усиливались с каждой минутой, но это не мешало ему сохранять наружное спокойствие. Самый крепкий любовный напиток не мог бы оказать более сильное влияние на Альфонсо, чем то вино, которое он распил с Лукрецией. Ему показалось, что вся его душа, все чувства совершенно подчинились чарам ее красоты. Папа, наконец, нашел странным продолжительность и таинственность их разговора и приказал Бурчардо доложить Лукреции, что им пора удалиться. После этого Альфонсо еще раз преклонил колени, чтобы поблагодарить за оказанную ему честь, и выразил свою благодарность почти шепотом, от которого заалело все лицо молодой женщины. Она потупилась под его пламенным взором, а когда он поднялся, отвернулась, вспыхнула еще ярче, пробормотала в смущении несколько слов и протянула руку, которую Альфонсо несколько раз прижал к своим губам и сердцу. Уход Лукреции с папой и обычной свитой послужил сигналом к закрытию заседания суда. Цезарь сам проводил Паоло и пригласил Лебофора к себе во дворец. Альфонсо удалился в свою комнату. Бембо, вскоре последовавший за ним, нашел его прохаживающимся взад и вперед в большом волнении. Несколько запинаясь, он поздравил своего повелителя с возвращением к нему благосклонности Лукреции, но принц, перебив его, обрушился на молодую женщину с жестокими обвинениями и оскорбительной бранью. Бембо был ошеломлен и встревожен, но его негодование запылало почти также сильно, когда Альфонсо сообщил ему об открытой им близости Лукреции с Реджинальдом, а в доказательство ее нравственной распущенности прибавил, что, когда он с умыслом возобновил свои ухаживания, она опять возобновила свои прежние предложения по его адресу. С безграничным удивлением слушал Бембо рассказ о приключении в катакомбах и с величайшей радостью принял приказание принца готовиться в путь, чтобы им было можно на другой день внезапно и тайно покинуть Рим. Волнение Альфонсо нисколько не улеглось после этих вспышек, и когда при наступлении сумерек он остался один, то напоминал своим расстроенным видом человека, приговоренного к казни и в сильнейшем смущении ожидающего своей участи. Вдруг вошедший слуга доложил о прибытии посланца из Ломбардии, с важными вестями, и, прежде чем Альфонсо успел изъяснить согласие на его прием или уклониться от него, этот человек вошел в комнату. Альфонсо почти не взглянул на вошедшего, но, когда тот приблизился и, откинув свой капюшон, снял накладную бороду, он узнал Паоло Орсини. – Орсини!.. Вы здесь? – воскликнул Альфонсо, не веря своим глазам. – Да, и по делу, от которого зависит ваша жизнь, – ответил тот. – Я отчасти обязан вам своею жизнью и хочу отплатить вам за это, хотя признаю, что жизнь – лишь бедствие. Покиньте как можно скорее этот убийственный дворец и этот город: герцог Романьи обрек вас на гибель, но отсрочил ее лишь потому, что поручил назначенное мщение мне, наиболее обиженному вами. – Завтра, в этот час, я рассчитывал быть за стенами Рима, – ответил Альфонсо. – Раньше я не могу... нет, скорее не хочу уехать и желал бы иметь для этого уважительную причину, чем неопределенную угрозу или предостережение. – Чтобы привезти своему государю прекрасную невесту, с которой вы распили сегодня чудный эликсир для подтверждения вашего договора? – сказал Паоло, язвительно смеясь. – Какую прекрасную невесту? Какой любовный эликсир? Вы бредите!.. – О, не притворяйтесь!.. Мне известно ваше предательство, а вскоре оно должно быть открыто и вашему повелителю, и папе. Отвечайте же мне, непорочная невинность! Ведь вы прибыли в Рим в качестве тайного шпиона герцога Феррарского, чтобы добыть невесту его сына? И пожалуй, не дальше, как сегодня ночью? Постойте, постойте, выслушайте меня! Тот любовный напиток, который Лукреция распила с вами, чтобы укрепить вашу преступную любовь, обнаружил ваш умысел даже перед Цезарем, который хотел только удостовериться в вашем вероломстве, чтобы уничтожить вас... Ведь ведьмы – эти старые еврейки Нотта и Морта, – продавшие вашей возлюбленной волшебное снадобье, служат лишь его орудием. – Эликсир в питье, выпитом мною? Мне в самом деле казалось, будто бы неуловимый огонь... Неужели то был яд? Но это не может быть, Лукреция сама отпила из кубка, и так много, что я даже удивился. Любовный напиток?! – Так полагала она, воображая, что ваша взаимная любовь будет вечной, если вы разопьете с нею это вино, – ответил Паоло. – Но в нем не было иного эликсира, иного яда, кроме того, который оставили в питье уста такой прекрасной змеи, как эта женщина. Будьте уверены, тут не было предательства. Ведь колдуньи, варившие зелье, отлично знали, что заказчица попробует его сама. – И выпьет из кубка так много! О, значит, она намеревалась разделить мою участь, если бы в питье было что-нибудь смертоносное, или просто предвидела вашу хитрость и хотела провести вас. – Но, может быть, вы и правы! Неужели она действительно рассчитывала с помощью адского колдовства овладеть мною?.. Но она ошиблась – это только должно закалить мое сердце для заслуженного наказания ее низости! Клянусь, если бы она осталась верна даже своей лживости, это не наполнило бы моей души таким отвращением и презрением, какие я испытываю сейчас. Но довольно об этом!.. Вернемся к вашему тяжкому обвинению. Я отвечу на него признанием и его может подтвердить вам Реджинальд. Знайте, – я вовсе не посланник, которому поручено добиться руки Лукреции Борджиа для принца Феррарского. – Да, Лебофор не раз говорил, что вы ищете улик против нее, чтобы оправдать отказ вашего принца от брачного союза с нею, – ответил Орсини, – но он также заблуждался. Сам Цезарь сообщил мне тайну вашей миссии, открытую им случайно. Не правда ли, ведь Лукреция при сегодняшнем разговоре приказала вам от имени своего отца изложить папе на завтрашней аудиенции цель вашего прибытия в Рим? – Я не опровергаю этого, – ответил Альфонсо, – и вдобавок признаюсь, что, если бы не случилось того, что последовало дальше, меня удивила бы уверенность, с какою Лукреция рассчитывала на мое предпочтение. Ведь ей, как и Цезарю, известна настоящая цель моей миссии. Выслушайте меня терпеливо, и я открою вам тайну, а все мое поведение пускай подтвердит мои слова. Для Альфонсо стало крайне важно помешать опасному сближению между родом Борджиа и Орсини, и он без колебания приступил к рассказу о приключении в долине Эгерии, причем его слова в такой точности согласовывались с воспоминаниями Паоло, что он почти не сомневался в их справедливости. – Значит, Цезарь в конец одурачил меня! – свирепо воскликнул Орсини. – Ведь он как раз в ту ночь сообщил мне о цели вашего приезда сюда, и теперь я вижу, что для вас было сверх человеческих сил противиться искушениям, которыми вас окружали. – Уверяю вас, Цезарь присутствовал при том, но вы еще не знаете всей его гадости. Припомните все последующее, и вы не станете больше сомневаться в моей правдивости. Но я торжественно заявляю так: все, что я узнал, снимает с Лукреции постыдные обвинения, для подтверждения которых я намеревался собрать улики. Только один факт к несчастью, подтвердился, а потому лучше пусть земля похоронит под собою последний отпрыск великого дома Эсте, чем его незапятнанная честь погибнет в союзе с безнравственной женщиной. – Поищите доказательств тому, что она заслуживает этого названия, но будете ли вы в силах доказать? Горе вам, если вы не сделаете этого!.. Тогда вам придется иметь дело со мною!.. – запальчиво сказал Паоло. – Говорите же откровенно, в чем заключается ваше обвинение против Лукреции Борджиа? – Спросите у Реджинальда. Он может сообщить вам, куда он последовал за посланною Лукрецией, Фаустиной, и где и как провел ночь, – ответил Альфонсо, бледнея от собственных слов. – Он в самом деле не был дома и уклончиво отвечал на мои расспросы, – задумываясь подтвердил Паоло. – Но ведь не хотите же вы сказать, не можете же... – Думаю, вам станет понятно, если я скажу, что накрыл Реджинальда врасплох на тайном свидании в Ватикане, и он сознался мне, что приглашен для интимного разговора с Лукрецией о ваших делах. – Это – ложь, чистая ложь, – воскликнул Паоло, – все тогда уже миновало, и ему это было известно лучше всякого другого! В тот же день изменник сказал мне, будто решил покинуть Рим, чтобы вернуться в свое отечество. Он часто усыплял в последнее время мою подозрительность подобными уверениями, я же полагал, что он замедлил свой отъезд ради меня, так как я сообщил ему все свои планы и сказал, что он может оказать мне большие услуги, помешав намерениям Цезаря. – Ну, тогда будьте настороже. Ведь Лебофор мог открыть все ваши замыты Лукреции, своей любовнице! – сказал Альфонсо, вне себя от досады на такую измену. – Я могу сообщить вам более того, – прибавил он и рассказал, как ему случилось застать Реджинальда в лабиринте Минотавра в момент признания в страстной любви к Лукреции. – О, как мало подозревал я его и все сваливал на вас! – воскликнул сбитый с толку Орсини. – А между тем, Реджинальд как будто вечно боялся вас. О, неужели он, мой друг, любимый мною всем сердцем, мог по отношению ко мне стать таким мрачным злодеем? Нет, я не могу верить этому!.. Нет, нет, все, сказанное вами – лишь обман. – С какой стати обманывать мне вас на словах? – возразил Альфонсо. – Ведь мне достаточно возвысить голос, чтобы вас схватили и чтобы вы очутились во власти своих заклятых врагов! Но, когда я публично заклеймлю Лукрецию, неужели вы все-таки не измените своего решения соединить старинную славу своего имени с ее позором? – Неужели мне могут приписывать такое недостойное безумие? – воскликнул Орсини. – Я хотел выждать завтра вашего предложения и согласия папы, чтобы разоблачить вероломное поведение Лукреции, а затем покинуть Рим и решительным шагом снова восстановить наш союз... А Реджинальд оставался у изменницы Борджиа! – Ну, а если так, то мы дадим взаимную клятву мести! – сказал Альфонсо, сверкая от ярости глазами. – Действительно, в виду опасного положения дел Борджиа Лукреция, должно быть, помышляет о том, чтобы запугиванием и ласками склонить меня к измене моим повелителям или, если я в состоянии доказать ее непорочность, воспользоваться данным мне полномочием просить ее руки. Скажите, зачем пожелала она поговорить со мною об этом деле наедине, зачем согласилась со мною, когда я, смутно намекнув на боязнь шпионства, осмелился высказать просьбу, чтобы наш разговор, если можно, происходил ночью и без свидетелей? Зачем Лукреция обещала, что Фаустина проведет меня к ней в комнату в такой час, когда нам нечего бояться нескромных ушей? – А, это было в тот момент, когда она покраснела и кинула на вас пламенный взор, – пробормотал Орсини, оправляясь от потрясения, вызванного словами Альфонсо. – Но, будь что будет, я пойду, – продолжал иоаннит, – я хочу воочию убедиться в ее низости, потому что все прочее могло бы оказаться обманчивым. Не смотрите на меня так свирепо! Клянусь, я иду лишь с намерением усилить свое презрение, чтобы оттолкнуть от себя ее – красавицу Борджиа – даже в тот момент, когда она унизится до того, что станет задабривать меня, когда она будет заранее уверена в своей победе. Именно с этой целью я прикинулся сегодня, будто поддался ее чарам. Его речь прервал едкий смех Орсини, и затем, внезапно перейдя к серьезности, Паоло заговорил опять: – И неужели вы действительно воображаете, что один среди всех прочих ее людей можете похвастаться такою сверхъестественной стойкостью? Или вы надеетесь уйти живым из Рима после того, как нанесете женщине, да еще Борджиа, столь тяжкое оскорбление? – На что осмелится она посягнуть, когда у меня в руках такая тайна? – краснея возразил иоаннит. – А искус я уже выдержал. Вдобавок Лукреция обманула и своего отца, так что не решится принести ему жалобу на меня. В худшем случае она пощадит меня до завтрашней аудиенции. А теперь потолкуем о мщении. Если вы обещаете мне свою могущественную защиту для того, чтобы я мог покинуть этот дворец и Рим, то завтра я публично объясню настоящую цель своей миссии и скажу, что я достиг ее, открыв страсть Лукреции к Лебофору. Этим я нерасторжимо заключу ваш союз с могущественным государем Феррары. – Доставьте мне это мщение и берите за него все, что я имею, даже мою жизнь! – в порыве ярости воскликнул Орсини. – И для того, чтобы ваши повелители не обвинили вас в необдуманной поспешности, узнайте, какого рода планы построены родом Борджиа относительно Феррары. И в пылу разыгравшихся страстей Орсини открыл заговор против Феррары, в который вовлек его Цезарь своими вероломными клятвами. Эти неизвестные ему факты утвердили Альфонсо во мнении, что для него было бы выгодно довести до явного разрыва между его врагами, так как всякая надежда на супружество с Лукрецией исчезла. Он возобновил свои обязательства и привел столько новых доказательств, что в душе Паоло не осталось больше никакого сомнения. Кроме того, он знал, что Альфонсо не мог избегнуть мести Цезаря после открытия, вызванного любовным напитком. Они расстались со взаимными клятвами неизменно выполнить свой договор. (обратно)ГЛАВА IX
Приближалась полночь. Альфонсо сидел один в комнате дворца Лукреции. Фаустина привела его туда и удалилась, чтобы доложить своей госпоже о приходе посетителя. Альфонсо находился в комнате, называемой «каприччио мацама». Любовь и роскошь применили здесь все свои силы, чтобы украсить это святилище, казавшееся созданием волшебниц. Стены были украшены красочными арабесками, с террасы под окнами доносился аромат цветов. Кроме яркого лунного сияния, смягченного шелковыми занавесами, свет получался от прекрасной мраморной группы, представлявшей Психею, нашедшую спящего Амура. Повсюду виднелись принадлежности женских рукоделий или утонченных занятий Лукреции: тут были позолоченное веретено, драгоценные вышивки, ноты, музыкальные инструменты, рукописи с прелестнейшими миниатюрами. Тишина ночи, мелодичный плеск фонтана вдали, сочетавшийся с голосами бесчисленных соловьев, мечтательный лунный свет, таинственный шепот листьев в метком воздухе – все это затрагивало нежнейшие струны любви и желания в груди Альфонсо. Но даже в такой соблазнительной обстановке тревога и ярость, казалось, с каждой минутой только сильнее овладевали им, и все его помыслы сосредоточились наконец, на мрачной решимости отомстить ненавистной женщине, чтобы навсегда избавиться от жестокой ревности, державшей его душу, вырвать красавицу Лукрецию из объятий счастливого соперника, даже обречь ее на смерть. Эти черные думы обуревали принца, когда отворилась дверь, и в комнату вошла Лукреция в сопровождении Фаустины. Альфонсо, ожидавший встретить ее в ослепительном наряде, был невольно обезоружен при виде соблазнительно-скромного белого платья и бледности ее прекрасного лица, которое лишь слегка заалело, когда она почувствовала устремленный на нее взор рыцаря. Ее глаза оставались потупленными, а на их длинных ресницах трепетали слезы. Но ее голос дрожал от волнения, когда она перебила смущенное приветствие посетителя и приказала своей кормилице удалиться, чтобы ее гость мог без стеснения высказать волю своего повелителя. С улыбкой, не выражавшей особенной благосклонности к рыцарю, Фаустина повиновалась, однако не затворила за собою двери, из которой открывался вид на анфиладу комнат. Смежная комната была та самая, где Альфонсо видел раньше потолок с изображением Авроры, встречающей Ночь. Его взоры обратились тогда снова к Лукреции, и он едва сдерживал свою страсть. Между тем, молодая женщина следила глазами за фигурой удалявшейся кормилицы. Когда же та исчезла в отдаленной прихожей со своей лампой, она сказала: – Фаустина будет наблюдать, чтобы не поднялась тревога из-за необычного часа этой аудиенции. Садитесь, прошу вас. Лукреция указала рыцарю на место, довольно далекое от дивана, на который села сама, причем приняла позу скорее королевы, собирающейся выслушать просителя, чем женщины, оказавшей опасное снисхождение влюбленному. Альфонсо, успев оправиться от своего первоначального замешательства, поблагодарил ее низким поклоном, но остался на своем прежнем месте, гораздо ближе указанного ему. Протекло несколько секунд смущенного молчания. Принц, мучимый ревностью, не решался начать разговор, так что Лукреция заговорила сама. – Вы пожелали, чтобы ваша аудиенция была тайной, – сказала она, – и я согласилась на это, зная, что ваши настоящие побуждения и ваша миссия совершенно противоречат тому, о чем думает папа, и что ожидает он завтра услышать от вас. Я не забываю, что обязана вам жизнью, и хотела бы воздать вам тем же, а потому прошу вас принять средства к безотлагательному бегству, которые я приготовила и отдаю в ваши руки. Альфонсо был глубоко тронут этой великодушной заботливостью, однако, поддавшись ревнивым нашептываниям своей фантазии, не отступил от задуманного плана мщения. – Синьора, – ответил он вкрадчивым тоном, – даже падшие ангелы не были так внезапно изгнаны из рая, как вы удаляете меня из Рима, ставшего раем для всех благодаря вашему присутствию. К тому же ангелов не осудили, не выслушав сначала, а кто же обвинил меня настолько, что я должен понести столь же суровую кару? – Помните танцовщицу-сицилианку? Так вот, она созналась мне во всем, что произошло между вами. Не служит ли это для вас достаточным ответом? – На свою беду я оскорбил эту женщину, оттолкнув ее нежность. Не могла ли она после этого выставить мой проступок в ложном свете или преувеличить происшедшее? – сказал рыцарь, устремив взор на Лукрецию при воспоминании о гроте Эгерии. – Значит, вы сознаетесь, что с вашей стороны было преступно подумать обо мне что-нибудь столь дурное? – спросила Лукреция, устремив на Альфонсо испытующий взор, но тотчас отвела его в смущении в сторону, когда встретилась с ним глазами. – Я еще раз требую, чтобы мне сказали, в чем меня обвиняют! – воскликнул он. – Хорошо, я буду с вами откровенна, – ответила Лукреция с явной досадой. – Для меня невозможно усомниться в словах танцовщицы. – Танцовщицы? Ах, зачем она относится так враждебно к тому, кто, имея все основания питать к ней противоположные чувства, даже при слабом воспоминании о ее дивных прелестях пылает и всегда будет пылать страстью к ней? – с пылом и искренностью воскликнул принц. Лукреция как будто почувствовала ревность к собственной сопернице, потому что поспешно ответила: – Нет, она не питает к вам враждебных чувств, не оклеветала вас, и вы не осмелитесь утверждать это, когда я вам скажу, что та танцовщица была я, Лукреция Борджиа. – О, эта несравненная прелесть! И я знал об этом! – воскликнул Альфонсо. – И вы осмеливаетесь спрашивать про это у меня, у меня самой? – запальчиво продолжала Лукреция. – Как могли вы решиться на это даже здесь? Ведь, будь я тигрицей, как вам хотелось выставить меня, то каким образом могли бы вы осмелиться стоять перед Лукрецией Борджиа, подтверждая свои наветы? – На моих устах все еще горит огонь, оставленный на них танцовщицей. Как я, считая себя смертным, мог бы бояться, если пережил блаженство той минуты? – горячо промолвил Альфонсо. Этот тон отдался в любящей душе Лукреции, однако, ее черты выражали только стыд и досаду, когда она ответила: – О, даже теперь вы льстите мне! Однако, вы не сомневались в своей смертности, когда говорили сестре милосердия, будто я, Лукреция, прибегла к яду, покушаясь на вашу жизнь. О, Пресвятая Дева, покушаться на вашу жизнь! Впрочем, дело не в этом! Возвращайтесь на свой суровый север и берегитесь страшного гнева моего отца! – ответила Лукреция. – Да с какой же стати мне бояться этого гнева, если с помощью доказательств, добытых мною путем жесткого риска, я убедился, что вы не заслуживаете всех тех обвинений, которые со слезами были выслушаны танцовщицей? – возразил принц. – С какой стати мне бежать? Почему не исполнить поручения моего повелителя и не просить для него перед целым светом вашей руки? – Я сейчас объясню вам, – с живостью ответила Лукреция. – Герцог Феррары, кажется, – весьма гордый человек и, как я слышала, вы не хотели подвергнуть его унижению отказа, который последует с моей стороны на ваше сватовство, если вы рискнете заявить о нем вопреки моему предостережению. Клянусь этим священным изображением Богоматери, – и она, почти забывшись, показала на серебряное изображение Богородицы, висевшее над альковом в смежной комнате. Иоаннит был поражен, однако, в нем тотчас шевельнулось ревнивое подозрение. – Очевидно, вы обещали кому-нибудь, кто имеет над вами больше власти, чем интересы политики или честолюбия, отказаться от этого брака с принцем Феррарским, обещали, пожалуй, на этом же месте, – запальчиво воскликнул Альфонсо. – Ведь не могли же до такой степени вооружить вас против моего повелителя его разведки и сомнения... – Нет, я скорее уважаю его за благородное нежелание связывать себя с позором, – тоном воодушевления ответила Лукреция. – Но позвольте спросить вас, удовольствовался ли бы он ларчиком драгоценностей любви, откуда вынуть драгоценный камень? – Что вы хотите этим сказать? Что вы полюбили другого? – в волнении воскликнул Альфонсо и прибавил с горечью и скорбью: – Ах, я, глупец! Ведь я мечтал, что вы любили, но не так, как мне пришлось увидеть, когда я был в гроте Эгерии, следя за вами, пока вы поджидали кого-то, вместо которого явился герцог Романьи. – Вы... вы видели меня? – воскликнула Лукреция и закрыла руками лицо, вне себя от стыда, но в то же время ее губы нежно прошептали: – Да, я любила однажды... но любовь обменивает свой товар, а не продает его... Все это миновало. – Ну, если любовь обменивает, – пылко подхватил принц, опускаясь к ее ногам, – то люби меня всей силой любви своего пола, как я люблю тебя всею силой своего. Лукреция, ты обманула меня, я же не переставал обожать тебя с первой минуты, как увидал твою красоту, и даже в тот момент, когда мне казалось, что ты хотела отнять у меня жизнь и мою честь, когда я считал тебя чудовищем злобы, хотя на самом деле ты была только чудом доброты и прелести. – Да, да, я некогда любила вас, но теперь вы оскорбляете меня хуже моих самых ожесточенных клеветников, если думаете, что я любила мужчину, а не героя!.. Как же я могу любить вас теперь, когда вы изменяете таким образом своему государю и повелителю? – сказала Лукреция, резко отнимая руку, которую Альфонсо покрывал поцелуями. На один миг ее лицо выражало только презрение и досаду, однако, они внезапно были смыты потоком слез, и она, тщетно стараясь сдержать их, воскликнула: – Нет, я не могу не признаться вам во всем. У меня было намерение довести вас до этого взрыва страсти своими ласками, чтобы потом насладиться удовольствием, которое мы, Борджиа, как уверяют, находим в мщении... Да, да, я хотела добиться этого, чтобы презрительно оттолкнуть вашу любовь и подвергнуть вас упрекам совести за то, что вы обманули оказанное вам доверие и позорили свою до сих пор незапятнанную честь. Впрочем нет, это не то: проклятый любовный напиток в вине, выпитом мною за ваше здоровье, действует в ваших жилах! Оставьте меня... бегите! Вы видите, я такая дурная, что вы не можете себе представить. – Нет, – пылко возразил Альфонсо, – хотя в моих жилах течет огонь, но мою душу заполнили божественные и нежнейшие чары твоей красоты. Цезарь сам подослал к тебе двух колдуний Нотту и Морту, чтобы возбудить во мне смертельную ненависть к тебе и открыть настоящий предмет твоей любви. Но, кажется, это был обман и ты выпила за меня с единственной целью позабавиться и посмеяться над моим безумием. – Нет, нет! Оставьте меня, но я готова дать самую страшную клятву в том, что любила только раз в жизни, любила именно тебя! – плача сказала Лукреция, поникнув прекрасной головной. – Ну, если ты любила меня, то неужели мы должны расстаться так навсегда? Я хочу вернуть тебе тот твой поцелуй, яд которого остался в моей крови! – пылко воскликнул Альфонсо, заключая ее в безумные объятия. – Да, я люблю тебя, действительно люблю, но не пугай меня! – воскликнула она. – Прости меня только на этот раз. Ведь я не оскорбила тебя, признавшись в своем злобном колдовстве. Но поклянись, что ты немедленно оставишь меня!.. Но в этот момент Альфонсо в порыве ревности воскликнул, почти швыряя ее из своих объятий, которым она отдалась в порыве страсти и нежности: – Чародейка! Перестань! Будь, по крайней мере, верна своей измене. Эти губы еще не остыли от лобзаний, перед которыми мои покажутся слишком холодными!.. Ты велишь мне покинуть тебя! Но для чего? Конечно, для того, чтобы нашелся лучший преемник Реджинальду Лебофору, когда он успеет наскучить тебе. – Преемник? Реджинальду Лебофору? – почти машинально пролепетала Лукреция, подавленная стыдом и удивлением. – Нет, нет, тебе не удастся завлечь меня в погибель, красивейшая змея, – с отчаянием продолжал Альфонсо. – Моим намерением было склонить тебя к сегодняшнему свиданию, вырвать у тебя признание в любви ко мне, но лишь для того, чтобы я мог высказать тебе, до какой степени противна мне твоя нечистая любовь, как я презираю ее и насколько бессильны надо мною ее искушения. – Искушения... преемник... – в раздумье промолвила молодая женщина, как будто сознание медленно возвращалось к ней, и вдруг сказала самым спокойным тоном, но со скорбной улыбкой: – Значит, ты не заметил, что Фаустина если и не может нас слышать, то все-таки видит? – и она указала на свою старую кормилицу. Кормилица, находясь в конце анфилады комнат, прикидывалась спящей, но на самом деле зорко следила за ними. – Это – лишь мастерская уловка твоей хитрости, вероломная женщина! – воскликнул иоаннит. – Своими лживыми отпирательствами, своим притворным целомудрием ты думала склонить меня к тому, чтобы я связал сияющую и незапятнанную честь дома Эсте с твоим позором. – А ты все еще притворяешься, что не веришь моей невиновности! – воскликнула Лукреция с досадой и запальчивостью. – Невиновность! Ну, значит, мои чувства обманули меня, когда я слышал в лабиринте Минотавра, как лицемерный английский рыцарь признавался тебе в любви и не навлек на себя этим ни порицания, ни отпора с твоей стороны. Бембо описал мне вашу трогательную встречу после войны. – Реджинальд! – промолвила Лукреция со странным злорадством, мелькнувшем на ее лице, мрачном, как грозовая туча. – Нет, я не оставлю тебе ни малейшей лазейки для самооправдания. Припомни всю свою суровость ко мне, несмотря на то, что я любила тебя. Ты сам довел меня до кокетства с Лебофором. Ведь я полюбила тебя с первого момента, когда на меня упал твой гордый и презрительный взор, а страх, внушенный мне твоим резким и непримиримым нравом, еще сильнее подчинил тебе мою рабскую натуру женщины. Я былаготова плакать при воспоминании об этом, но так как малодушие порадовало бы тебя, то я не пролью ни единой слезы! Однако, если действительно было хитростью с моей стороны с помощью ревности разжечь в пламя ту искру любви, которая, по твоему признанию, запала в твое холодное сердце, то обвиняй природу, создавшую меня женщиной. Ты слышал, как бедный Реджинальд открыл мне свою любовь, но знай – к этому я привела его против его собственного желания. Я хотела только помучить тебя его присутствием, но не поколебалась резко охладить его, и он не замедлил принести повинную. Великодушная натура этого юноши благородно боролась до тех пор с моими жестокими ухищрениями, но как же зато горька моя расплата за них! – Ну, это – отлично придуманная басня! – сказал Альфонсо, – твой импровизаторский талант признан всеми. Но какою убедительною ложью оправдаешь ты то обстоятельство, что Реджинальд был тут прошлой ночью и имел тайное свидание с тобою в этих самых комнатах, причем свидетелями этого были лишь звезды на небе да заспанные глаза Фаустины? – Здесь, в этих комнатах? Прошлой ночью? Кто из нас сошел с ума: я или ты? – бледнея, спросила Лукреция. – Хочешь знать подробности? Ну, так слушай! – сказал Альфонсо, пылко схватив руку молодой женщины, которая отвернулась, точно готовая обратиться в бегство, а затем рассказал ей свое приключение с Реджинальдом, происшедшее прошлой ночью. – Как, даже моя старая кормилица предает меня? – воскликнула Лукреция, внезапно залившись слезами. – Но это невероятно! Лебофор неспособен оклеветать меня таким образом... Нет, нет! Не имея в запасе иной клеветы, чтобы окончательно очернить меня, ты выдумал эту в угоду своему повелителю! – Ну, если у тебя нет другой басни, поинтересней, то этой ты нам не отведешь глаз, – с горькой иронией возразил иоаннит, выпустив ее руку и скрестив на груди свои, точно в знак бесповоротного решения. – В таком случае, я действительно поплатилась за свою жестокую игру, но Реджинальд все же сделался жертвой низкого обмана! – воскликнула Лукреция, ловя несомненные признаки жестокой душевной борьбы в чертах Альфонсо. Однако, он с горьким смехом и язвительной иронией стал откланиваться и сделал шаг назад. – Остановись! – воскликнула Лукреция, кинувшись вперед и удерживая его за рукоятку меча. – Да как же могло это случиться, если те часы, когда, по-твоему, у меня происходило свидание, я провела не в этих комнатах и не с Реджинальдом, а с тобою в катакомбах, где я сыграла ужасную роль в ужасном зрелище, и где ты сам получил бы полное подтверждение моей невиновности, если бы на твою суровость могла подействовать хотя бы сверхъестественная клятва? Альфонсо смотрел на нее с величайшим изумлением. – Я не хочу, чтобы у тебя оставались хотя бы малейшие отговорки и сомнения, – с жаром продолжала она. – Когда я плакала втихомолку из-за твоего мнимого увлечения возлюбленной султана Зема и из-за окружавших меня угроз и ужасов, кто-то пожелал видеть меня. Мне доложили, что это – несчастная просительница, пострадавшая в Капуе. Оказалось, что это Фиамма Колонна. Она рассказала о всех перенесенных ею оскорблениях, о твоем великодушии, о клевете Цезаря на меня, о его преступлениях, которые, впрочем, и без того давно мерещились мне, как страшные призраки. Далее я узнала от Фиаммы о той роли, которую она сыграла по приказу Цезаря во время карнавальных празднеств, чтобы очевидными фактами подкрепить его поношения моего доброго имени. Она упомянула также о том, что моя невиновность будет доказана, и Цезарь понесет заслуженное возмездие, а твои подозрения будут рассеяны, вследствие чего мне достанется герцогская корона твоего повелителя. Но – поверь – у меня была только одна побудительная причина, давшая мне мужество повиноваться Фиамме и рискнуть тем, на что я рискнула. Это не было жадным стремлением женщины к господству, потому что, если не совершится невозможное, и ты не окажешься самим герцогом Феррарским, никакая сила, никакие просьбы не заставят меня разделить его корону, будь она даже императорской! – Ну, это также удивительно, как и прочее, – задыхаясь ответил иоаннит. – Расскажи мне, однако, все без утайки, чтобы мой сладостный сон не рассеялся раньше, чем я успею почерпнуть в нем достоверное утешение. – Фиамма чем-то подкупила колдуна, пользующегося доверием Цезаря, чтобы он действовал в твоих интересах, а вместе с тем в это дело был замешан и ты, и вот в своем безумном отчаянии и досаде, под влиянием надежды пресечь козни против меня моего врага Цезаря, а также горячей речи Фиаммы, я решилась помочь колдуну. Может быть, тут и прежде действовало колдовство, но, вернее всего, чародеи достигали своей цели при помощи диковинных зеркал, а также чудесного портрета моего покойного брата Джованни, висевшего до тех пор в этой комнате. Для того, чтобы устранить Цезаря, было решено устроить все в катакомбах и я, подчиняясь дону Савватию, согласилась, при вызове тени моего погибшего брата Джованни, подражать его голосу и произнести слова, которые Цезарь поднял на смех, хотя и поверил, будто могила отверзлась, чтобы обличить его. Неужели ты и теперь не веришь мне? – О, не давай мне проснуться от этого сна, иначе я могу умереть, – воскликнул иоаннит, не решаясь верить даже при этом избытке радости, охватившей его душу. – Лукреция! Моя Лукреция! Моя жизнь! Моя любовь! Но скажи, когда ты требовала, чтобы Цезарь предоставил тебе свободу выбирать мужа, думала ли ты обо мне? – Я знала, что это невозможно, – ответила Лукреция, – и хотела только навсегда избавиться от всякого сватовства, чтобы из-за тебя влачить свои дни без любви, в одиночестве... В ответ на это Альфонсо воскликнул: – Ты любишь меня, я обожаю тебя. Будь же моею и – клянусь всем, что есть святого и дорогого для человека, – ты сделаешься также и супругою Альфонсо д'Эсте. – Что ты говоришь, изменник? – воскликнула Лукреция, с гневом отталкивая его. – Эти слова разрушили чары, против которых были бессильны и голос чести, и гордость, и всякое оскорбленное чувство моего сердца. Оставь меня навсегда сию же минуту, иначе твой повелитель узнает, каким послом выказал ты себя! – Как бы ни бранил меня Альфонсо, он все-таки будет любить меня больше самого себя, а тебя еще в десять раз сильнее, – возразил иоаннит, отказавшись теперь от всех своих сомнений и всей своей ревности. – Узнай же, дорогая: ведь я – сам Альфонсо д'Эсте! Лукреция смотрела на него, словно боясь, что он внезапно помешался, но тотчас же убедилась в справедливости его слов, когда в ее памяти промелькнули все противоречия в его поведении. Однако, вместо того, чтобы обрадоваться, она мгновенно побледнела, как мертвец, и, если бы Альфонсо не заключил ее в объятия, когда она опускалась на диван, она упала бы на пол. – О, теперь небеса карают в моем лице греховную кровь нашего рода! – тихо и боязливо промолвила она. – Я приучила себя к терпению, считая невозможным когда-нибудь принадлежать тебе в честном супружестве, а теперь... О, ты не знаешь того, что проклятие тяготеет на тех, кого я полюблю, а также на мне самой! Отец Бруно был чудесным образом освобожден из своей темницы, чтобы возвестить мне это. – Отец Бруно? Успокой свою тревогу, отгони страх! Бруно не что иное, как обманщик, или – в лучшем случае – сумасшедший, – возразил Альфонсо. – Разве ты не заметила, что колдун Савватий и Бруно – одно и то же лицо? Цезарь обнаружил это, в то время, как Бруно лежал без памяти, лишившись чувств, когда случай открыл им меня как раз в момент вызова ими злого духа или того, который показал бы им образ человека, любимого тобою. Услышав это, Лукреция сообразила, что ей это было неизвестно, так как она сама в тот момент упала в обморок и была унесена Фиаммой, а потому дальнейший ход ворожбы был для нее новым чудом. Тогда Альфонсо высказал свое подозрение насчет страстной любви к ней Бруно и изложил все свои доводы против несчастного монаха. Досада Лукреции достигла крайних пределов, когда она услышала от него, что монах, ее духовник, свидетельствовал против нее и пытался отстранить Альфонсо от участия в турнире с помощью отравленного напитка, в то же время свалив вину на нее. Однако, принц не дал ей задумываться над этим, приступив к рассказу о своей душевной борьбе и о тех опасных хитростях, на которые он пускался, чтобы найти выход из своих затруднений. Лукреция слушала его с улыбкой и слезами на глазах и не раз под влиянием искреннего сострадания ласково поглаживала его своей рукой, на что он отвечал жаркими поцелуями. Наконец, Альфонсо перешел к обсуждению дальнейших действий и высказал смелый план открыть папе преступление Цезаря. Однако, Лукреция не одобрила этого. По ее словам, такое открытие могло привести папу в яростный гнев. Вдобавок для обвинения не хватало осязаемых улик, и можно было опасаться, что доведенный до отчаяния Цезарь, пустив в ход свое тайное влияние, свою силу и всю редкую изворотливость своего коварного ума, вызовет какую-нибудь гибельную катастрофу. Единственным триумфом для жениха Лукреция допускала его радость от того смущения рода Орсини, которое он мог вызвать, неожиданно выступив на следующий день открыто с предложениями повелителя Феррары. Правда, она тут же высказала свою тревогу о его безопасности, однако Альфонсо удалось успокоить ее клятвенным обещанием, что он уедет тайком в Ломбардию, а потом официально попросит ее руки и займется необходимыми приготовлениями, чтобы оказать поддержку папе, если в ней встретится надобность. Альфонсо настойчиво желал тотчас открыть свое имя и сан и немедленно обвенчаться с нею. Однако, это возбудило в Лукреции страх, как бы Цезарь не погубил его также, как он сделал со многими, павшими жертвою его противоестественной ревности. Она успокоилась лишь после того, как Альфонсо дал слово отказаться от своего рискованного намерения. Она даже не разрешила ему сообщить папе об истинном положении дел, прежде чем Альфонсо будет в полной безопасности, и указала ему на многочисленных шпионов Александра, донесения которых сильно действовали на него. Наконец, Лукреция стала уговаривать Альфонсо для доказательства того, что он оставил всякую ревность, предоставить ей самой высказать порицание Реджинальду. Она высказала свое убеждение в том, что Лебофор был обманут предательством Фаустины точно также, как сам Альфонсо в долине Эгерии, привела много трогательных примеров тому, как честно боролся Реджинальд со своею страстью, как сама она жестоко пользовалась ею, чтобы наводить его подозрения на ложный след. Однако, все эти речи Лукреции вместо того, чтобы успокоить Альфонсо, только вновь возбудили его ревность, и он наконец, воскликнул: – Нет, моя Лукреция, пока я не получу уверенности, на которую может положиться моя душа, я не потерплю, чтобы кто-нибудь завидовал мне в обладании таким сокровищем, как ты!.. Будь вполне моею, и я призову в свидетели землю и небо, что ты – моя невеста, моя супруга, моя душа, мое блаженство. Только будь моею, и тогда я поверю тебе даже против свидетельства ангелов. – Нет, нет, мой любимый, теперь ты доказываешь мне, что не любишь меня, а ненавидишь и глубоко презираешь, – с плачем ответила Лукреция, стараясь в испуге вырваться из объятий Альфонсо и обращая на него молящий взор. – Не бойся! Ты – моя супруга, Лукреция, моя жизнь! Оставь всякий страх! Я хочу только возвратить тебе поцелуй, полученный мною в долине Эгерии, мимолетный, как молния. – Тогда поклянись тотчас оставить меня! Я твоя вполне, но не бесчесть меня, чтобы я не сделалась такою, какою выставляют меня враги! – воскликнула Лукреция и, вырвавшись из объятий жениха, опустилась перед ним на колени. – Ты! – воскликнул он, – ты на коленях передо мною, тогда как мне самому следовало бы не вставая лежать у твоих ног! О, тебя оклеветали, потому что – я знаю – ты любишь меня. Но дай мне еще одно мгновение, чтобы я мог изгладить отвратительное воспоминание о долине Эгерии. Подари мне еще один прощальный небесный взор, и я уйду теперь от тебя, – воскликнул Альфонсо, после чего с нежностью поднял молодую женщину и, прильнув губами к ее устам, впился в них страстным поцелуем. Лукреция в первом упоении своей нежности также крепко обняла его и стала горячо отвечать на его ласки, но затем, словно вспомнив о пылкости его натуры, вырвалась из его объятий и, позвонив в серебряный колокольчик, крикнула: – Фаустина! Через несколько мгновений кормилица была уже в комнате. Делая вид, будто она протирает глаза и старается скрыть зевоту, старуха молча кивнула головою в окно, где первые лучи рассвета уже стали пересиливать лунное сияние. Лукреция и Альфонсо тотчас приняли, хотя не совсем успешно, чопорный вид, подходивший к их мнимым отношениям, а затем в полной уверенности, что старая кормилица расслышала очень немногое из их разговора, Альфонсо ушел, унося в душе последний взор своей возлюбленной, – веселый и страстный, сиявший любовью, гордостью и благодарностью. (обратно)ГЛАВА X
Зал Реджиа был убран для праздника, на котором должно было состояться присуждение приза за турнир. Однако, все смутно догадывались, что со всей роскошью и блеском этого зрелища связывались мрачные предчувствия. Было замечено, что папская стража во дворце необычайно многочисленна, а смотры, производимые Орсини, как будто в честь их молодого вождя, отличались также большою внушительностью. Вообще праздник носил несколько воинственный характер. Папа был удивлен, когда, вступив в зал с Лукрецией и своим придворным штатом, заметил, что большинство гостей явилось в доспехах. Паоло Орсини и Реджинальд Лебофор пришли в полном вооружении, только с непокрытой головой. Бледное лицо Орсини выражало буйную веселость, которая бросалась в глаза, составляя резкий контраст с мрачной миной Реджинальда. Паоло твердо устремил взор на Лукрецию, несомненно, в надежде заметить в ее чертах следы страданий и унижения, которым, по его мнению, должен был подвергнуть ее Альфонсо своим презрением. Но в его сердце вспыхнул дикий огонь, когда она вошла с довольным и радостным лицом, причем все ее движения были проникнуты каким-то внутренним блаженством. При выходе же иоаннита, явившегося в первый раз в дорогом придворном костюме, придававшем большую красоту его царственной фигуре, смущение Паоло еще усилилось, когда он заметил, что рыцарь и Лукреция не бросают друг на друга гневных взглядов, но стараются встретиться взорами, причем глаза Лукреции сияют ярким блеском, на ее устах играет загадочная улыбка, а щеки рдеют густым румянцем. Бембо последовал за своим повелителем, но с печальным выражением в чертах, так как Альфонсо осудил его платонические поползновения и поставил ему на вид опасное положение, в которое он рисковал попасть. Соблюдалась приличная случаю торжественная церемониальность, пока, наконец, трое претендентов на награду не предстали перед возвышенным сидением, которое занимала Лукреция в качестве председательницы суда, окруженная прекрасными ассистентками. Они были обязаны помогать своей повелительнице или, по крайней мере, подтвердить ее решение. На этих светских празднествах было в обычае не особенно замечать присутствие папы, и потому Лукреция начала свое обращение к присутствующим только приветливой улыбкой отцу и легким поклоном собравшимся, на который они отвечали с глубокой почтительностью. Хотя в ее речи и сказывались отчасти ораторские приемы того времени, но ее гармонический голос был способен придать ей силу убеждения помимо формы. – Любезнейшие дамы и уважаемые синьоры, – начала она после краткой паузы, – герольд нашего высокого суда уже возвестил нам, с какою целью собраны вы здесь, а именно, чтобы решить под озаряющим покровом Пресвятой Девы и по законам рыцарства, кто из этих замечательных своею храбростью рыцарей отличился более всех. Хотя мы – женщины и потому, пожалуй, не все считают нас способными произносить суждение по столь важным вопросам, однако, природа, отказавшая нас в телесной силе и храбрости, вселила в нас такое глубокое восхищение этими качествами и сделала их столь нужными нам, что мы уподобляемся любителям искусств, которые, не ведая ни предрассудков, ни соперничества, часто оказываются более беспристрастными судьями в этой области, чем сами художники. Но мы вдобавок – художницы по этой части, потому что именно женщины обратили грубый металл силы и храбрости в великолепие рыцарства, расплавив его в огне любви, облагородив великодушием, смирением и всеобъемлющим милосердием, выковав его в ледяной холодности целомудрия и воздержания, отшлифовать нежностью, грацией, чувством чести и вежливостью и только этим превратить его в истинную религию в стальных доспехах. Но, как бы то ни было, мы – женщины и будем судить по-женски. Поэтому вы должны знать, благородные синьоры, и храбрые рыцари, что наше суждение будет относиться не к одной храбрости, но также к достоинству подвигов тех лиц, которыми они совершены. На этом основании благородный синьор Орсини простит нам, что с нашей точки зрения его участие в нападении на Капую не может затмить заслуги его соревнователей. Это нападение пролило потоки крови, которую можно было бы пощадить, а именно, крови женщин с их детьми. Но между вашими судьями нет матерей, благородный синьор Орсини! – Да, донна Лукреция, но самая обыкновенная счастливая случайность может привести их к материнству, – перебил ее Паоло тоном такой угрюмой насмешки и с таким ударением на имени, что в собрании воцарилось всеобщее безмолвие, вызванное изумлением. – Рыцарь Реджинальд из Англии, – продолжала Лукреция, повернувшись с огневым взором, но с умоляющим выражением к Альфонсо, который схватился за меч, – рыцарь Реджинальд, выслушайте меня, моя речь обращена только к вам. Все мы согласны с тем, что награду следовало бы назначить вам, так как вы в открытом бою, с мечом в руке, первый и притом единственный проникли в Капую. Но, на вашем щите есть нечистое пятно, которое нужно сначала изгладить. Вы сделали себя недостойным какой бы то ни было рыцарской награды, низко опозорив доброе имя благородной женщины и, подобно Тарквинию, обвинив ее в преступлении, к которому вы нечестно и безуспешно старались склонить ее. – Это справедливо, как евангелие, исключая безуспешности, – с громким смехом подхватил Орсини. – Расскажи нам, друг неподкупной правдивости, расскажи, где и как ты провел ночь после судейского разбирательства. Скажи нам это, по крайней мере, в такой мере, в какой ты можешь признаться в этом, не вызвав краски на лице этой целомудренной Лукреции. – Отвечайте ему, рыцарь, не только перед лицом всех присутствующих, но и Того, Кто над нами, – с жаром сказала Лукреция. – Отвечайте ему, потому что я также обвиняю вас в несправедливой и вероломной клевете. – И вспомните, – вмешался Альфонсо, – что вы хвалились передо мною, будто эта высокопоставленная особа назначила вам в ту ночь тайное свидание в Ватикане. – Не робей, юноша, – внезапно подхватил Цезарь, – тебе надо сознаться лишь в мальчишеском хвастовстве. Не доставало только этого, чтобы ярость Реджинальда переступила всякие границы. – Нет, герцог Романьи, нет, мнимый рыцарь и вероломный государь! – воскликнул он. – Я скорее согласен открыть перед всеми присутствующими то, в чем ты уверял меня вчера с целью припугнуть и выведать от меня тайны рода Орсини. Ты сам подкупил лживую ведьму, и она заманила меня в одно место, куда я пошел с трепетной надеждой, не смея сознаться самому себе в руководивших мною чувствах. Но все это было одно безумие, предательство, низость, и я поплатился за свое легковерие горькой насмешкой обманутого ожидания в ту ночь или готов поплатиться теперь так, как вы прикажете, благородная синьора. – Молчать! Все ли ты рассказал о глупой шутке, затеянной мною, чтобы показать тебе твою собственную нелепую глупость? – со смехом сказал Цезарь, наполовину удивленно, наполовину весело. Но он смеялся один. – Как, Цезарь, ты осмелился позволить себе такую, как ты говоришь, шутку со мною, с добрым именем своей сестры? – воскликнул папа, ярость которого, казалось, была готова переступить все границы, но, к счастью для Цезаря, она нашла себе другой исход. – Пусть так, – подхватил Паоло, выпучив глаза, как одержимый злым духом. – Но ты, иоаннит? Разве тебе нечего сказать относительно того, что даже отвергнутый Орсини с удовольствием отказывается теперь от всякого притязания на руку этой сиятельной синьоры. – Да, нечего, и я падаю здесь на колени от имени Альфонсо Феррарского и смиренно предлагаю ей жениха, которому никакой Орсини не осмелится стать поперек дороги, – ответил Альфонсо, почтительно склоняясь к ногам Лукреции. – Во имя всех святых, замолчим и постараемся очнуться от этого странного сна! – воскликнул Цезарь, вне себя от изумления. – Говорите, синьор Бембо, не дурачат ли нас этими красивыми речами? Какого рода полномочие имеет этот человек от государей Феррары? – Всякого рода, какое ему понадобится, – ответил Бембо. – Ну, а ты, Лукреция, что скажешь на это? – воскликнул Цезарь с невыразимой тревогой и удивлением. – Говори откровенно, Лукреция! Ведь мы согласны с тобою в этом деле, и я охотно разрешаю тебе вступить в брак с принцем Феррарским? – спросил папа, поглядывая на Орсини, как лев, готовый сделать прыжок. – Это так же верно, как то, что я принимаю это кольцо. В нем я желала бы найти бриллиант, который может сокрушить одна смерть, – ответила Лукреция. – Я и все эти прекрасные синьоры, заседающие на судейских местах, единодушно находим, что истинную рыцарскую славу стяжал только этот благородный и безупречный рыцарь, и ему присудили мы венок за турнир в Колизее. С этими словами она приняла от коленопреклоненного иоаннита драгоценный бриллиантовый перстень, а герольд увенчал его чело давно оспариваемым венком победы. Папа тотчас поднялся и с радостным торжеством, которое он и не думал скрывать, преподал обрученным свое благословение. – Все это очень хорошо, но бесповоротного решения пока еще не последовало! – с диким хохотом воскликнул Паоло. – Посланник образцовой верности, я позабочусь о том, чтобы похвала вашему посредничеству раньше вас достигла Феррары. Если же тем временем милостивейшему повелителю Романьи интересно узнать, почему мы не завидуем принцу, удостоенному награды, то я скажу ему под видом загадки сфинкса, почему соучастие в вине доказывает невиновность. – Так вот, вы с союзными вам дворянами и сделаетесь соучастниками вины и приметесь доказывать свою невиновность, немедленно приступив к осаде Болоньи! – запальчиво сказал папа. – При этом, в случае надобности, вас поддержит оружие нашего могущественного и послушного сына, герцога Феррарского, и мы повелеваем вам тотчас выступить из Рима под предводительством нашего хоругвеносца со всеми своими военными силами, герцогу же Романьи поручаем исполнить наш приказ в течение двух дней. Что же касается тебя, дерзновенный молодой англичанин, то, если завтра, на закате солнца, ты, или кто-либо из твоей свиты замешкаетесь еще в Риме, вы не выйдете отсюда до тех пор, пока стены замка Святого Ангела будут достаточно крепки, чтобы удержать вас. Без дальнейшего формального прощания и не замечая Цезаря, папа оперся одной рукою на плечо Альфонсо, подал другую своей дочери и удалился, между тем, как все общество переглядывалось в величайшем смущении. – Нет, не отступай с ужасом передо мною, – сказал, наконец, Паоло, когда пристыженный Реджинальд медленно отвернулся. – Вместо того, чтобы мстить тебе, я желаю только услышать от тебя что-нибудь, подлежащее огласке. Ваша светлость, – обратился он к Цезарю, – с вами, как хоругвеносцем церкви, я могу, по крайней мере, обсудить вопрос, много ли своего войска намерены вы вести на осаду Болоньи. Одолжите мне свое оружие, верные друзья и союзники! При этих словах он со странным волнением подхватил под руку Цезаря и Реджинальда, чтобы увести их почти против воли на другой конец зала. Как ни был поражен английский рыцарь всем происшедшим, все-таки было удивительно, что он не сказал ничего, но удалился со вздохом, как бы в безмолвном отчаянии. Зато Цезарь дал волю бушевавшим в нем чувствам. Он был так расстроен, что дрожал всем телом и, видимо, не мог овладеть собою. Подобное душевное волнение даже выходило за пределы всего, что должен был чувствовать брат при открытии, которое в освещении, приданном ему Орсини, являлось непоправимо позорящим честь Лукреции. Между тем, принц Феррарский, равнодушный ко всем последствиям, какие могло повлечь за собою сближение его врагов, проводил папу в его гостиную и там, к своему величайшему удовольствию, получил приказ провести остаток дня с ним и с невестой. Это был первый счастливый день любви Альфонсо, счастливейший день его жизни, и он миновал с поразительной быстротой. Папа одобрил его план отправиться на другой день обратно в Феррару с донесением о благоприятном результате своей миссии и с величайшим удовольствием обсуждал все мелочи предварительных распоряжений. Когда Альфонсо остался один с Лукрецией и ее дамами, то все они предались своим радостным чувствам. Желая твердо запечатлеть в сердце любимого человека воспоминание о себе, Лукреция так щедро расточала все чары своей красоты и ума, что привела Альфонсо в совершенное упоение. Наконец, Лукрецию позвали к папе, желавшему переговорить с нею наедине, и ее прощанье с Альфонсо продолжалось так долго, что пришел второй нетерпеливый приказ, прежде чем она последовала на зов отца. Вскоре придворных дам потребовали к их повелительнице, Альфонсо же дали понять, что Лукреция не покажется больше в этот день. Принц стал бродить по садам Ватикана, с наслаждением предаваясь сладким надеждам и мечтам любви. Вдруг, повернув в одну из уединенных аллей, он услыхал позади себя чьи-то ковыляющие шаги и обернулся. Он увидал старуху в еврейском одеянии. Это была Морта. Она тотчас догнала его, склонилась к его ногам, а затем, поднявшись промолвила: – Послушайте, сын мой, я пришла к вам по одному тайному делу... Но прежде всего – чтобы вы поверили мне – вот амулет назареев. Узнаете ли вы его? Он дан мне той, которая научилась доверять вам в Капуе. – Да, я видел его раньше, – ответил Альфонсо, подозрительно посматривая на старуху, показывавшую ему простой серебряный крест, один из тех, какие носят монахини, и вспомнив, что Фиамма Колонна с суеверной бережностью носила его на шее, как единственное воспоминание о прошлом, причем отдавала ему предпочтение перед всеми своими драгоценностями. – Госпожа из вашего народа, которой принадлежал этот крест, очень ловка. Но, несмотря на это, часто обращалась за помощью к нашему могуществу, – продолжала Морта. – Теперь она нашла пристанище у нашего очага в гетто и полагается на нашу верность и благодарность, так как ей угрожают различные враги, опаснее шипящих змей. Она посылает вам этот талисман и заклинает вас немедленно посетить ее тайком, потому что ей надо посоветоваться с вами насчет того, как избежать вражеских сетей. Если же ее гибель неизбежна, то она хочет, по крайней мере, сообщить вам по секрету нечто такое, от чего зависит сама жизнь дочери первосвященника, носящей имя Лукреции Борджиа. Альфонсо не имел повода доверять еврейке, но переданное ею поручение было так правдоподобно и настолько подтверждалось обстоятельствами, которые могли быть известны Мерту только через саму Фиамму, что едва ли можно было сомневаться в искренности старухи. Последние ее слова усилили до крайности опасения Альфонсо, отлично знавшего как бессовестность Цезаря, так и обуявшее теперь его отчаяние. Однако, чувство благодарности и жалости громко заговорило в нем, когда он услыхал об опасности, которой подвергалась из-за него молодая женщина, а его основательные сомнения в надежности людей, приютивших ее под своим кровом, еще преувеличивали эту опасность. Он наскоро сообразил, что Фиамму было бы нетрудно увезти на другой день тайком из Рима в числе прочих лиц, составлявших его свиту, когда же убедился в правдивости речей старой ведьмы, явно опасавшейся, чтобы их свидание не было обнаружено, то решил сопровождать ее в убежище Фиаммы. Нося обыкновенно темную одежду, Альфонсо не опасался быть узнанным в придворном костюме, тем более, что на нем были еще надеты общеупотребительная ночная маска и широкий плащ, без которых никто не мог обходиться в ту эпоху бесчисленных раздоров. Принц продвигался вперед, не упуская из вида своей путеводительницы. Он не сообщал о своем намерении покинуть Ватикан ни одному из дворцовых слуг, которые могли выдать его, вышел с Мортой через заднюю калитку на берег Тибра и кликнул лодочника. Перевозчиком послужил им уже известный читателям старик-лодочник, который видел сбрасывающих труп герцога Гандийского. Старик как будто постарел еще более, или сделался молчаливее. Он почти не взглянул на своего пассажира и, вероятно, не узнал его. Когда они причалили к гетто, Морта подбежала к Альфонсо и стала просить его не выдавать ее, если она поведет его по кратчайшей дороге вместо той, которая огибала стены, потому что они рисковали не попасть в этот обособленный квартал, так как положенные для входа и выхода часы уже прошли. Альфонсо со смутным предчувствием опасности выслушал предложение старухи следовать по открытому им раньше водяному протоку, настолько мелкому, по уверению старухи, что в нем едва было можно замочить подошву. Однако, он согласился избрать этот путь, и пошел за колдуньей при тусклом свете, проникавшем из промежутков между стенами. Вскоре они, по мнению Альфонсо, уже приблизились к жилищу Морты, как вдруг он услышал позади себя оглушительный треск, и не успел оглянуться, как потоки света хлынули из множества отверстий в высоких стенах, откуда выглядывали теперь бесчисленные физиономии жителей гетто, сплошь искаженные злобой и яростью. Град ругательств посыпался на непрошеного пришельца. Поднялись крики, угрозы мщением. На него со всех сторон были направлены мушкеты и самострелы, и, наконец, он заметил, что вода протока быстро прибывала, а между ним и выходом была спущена толстая железная решетка. В эту страшную минуту распахнулась дверь жилища старых ведьм и Мириам, выбежав оттуда с безумным воплем: «Джованни!» кинулась к Альфонсо. Морта крикнула иоанниту, чтобы он спасался, схватила Мириам в объятия и увлекла ее насильно прочь. Альфонсо одним прыжком очутился позади нее в подвале, где было совершенно темно, и вдруг почувствовал, что его хватают со всех сторон. Он пытался обнажить свой меч, однако оружие было вытащено у него из ножен сзади, и в тот момент, когда он, обезоруженный, считал себя близким к гибели, в подземелье хлынул яркий свет, и Альфонсо увидел, что он окружен толпой евреев, большинство которых было вооружено. Все они выкрикивали яростные проклятия. «Предательство» и «Цезарь» – были две мысли, одновременно блеснувшие в уме Альфонсо, который не ждал ничего, кроме неминуемой смерти. Однако, к его изумлению, разъяренная толпа внезапно стихла, и какой-то старый человек, трясясь и кашляя, выступил вперед и крикнул: – Сдавайся, проклятый назарянин, обольститель дочерей нашего народа! Свяжите его и, не мешкая, отведите к сенатору, как было приказано, через ворота, ведущие на площадь Орсини, где бодрствуют его чиновники и проклятый инквизитор. Альфонсо почувствовал некоторое облегчение, убедившись, что его не собираются умертвить на месте. Тем не менее, тревожась о дальнейших последствиях сделанного им промаха, он стал с жаром уверять в своей невиновности и обратился за поддержкой к Морте, сестра которой вышла с Мириам. – Презренный сын нечестивого рода, собака из собак, наш враг! – яростно завопила Морта, – я должна заступиться за тебя, предавшего позору кровь нашего отца и привлекшего ее к суду, угрожающему ей?! Будь ты проклят, поганый выродок, со всем своим племенем, и да будет благословен тот, кто поможет уничтожить тебя вместе с ним! – Долой его! Он – совратитель дочерей и жен наших! – гневно подхватил старик. – Нет ему чести в Израиле, Пусть судят христианина по христианским законам! – Пусть посадят его живым на кол, как моего сына, моего Рувима! – закричал другой старый человек. – Пусть обождут совершения казни до солнечного заката. Как было с моим сыном. К той поре коршуны до того проголодаются, что перестанут робеть. Назарянин не допустил меня отгонять их, не дал мне смочить каплей воды запекшиеся, почерневшие уста моего Рувима. Это ужасное напоминание о горе старика до такой степени распалило ярость людей, карауливших пленника, что только строгий запрет старейшины удержал их от немедленной кровавой расправы с ненавистным врагом. Альфонсо чувствовал сам, что может надеяться на спасение, только подчинившись силе, но, пока он вел переговоры со своим караульным, явилась стража алебардистов, состоявшая на службе у сенатора. Ее приход подал рыцарю некоторую надежду, тем более, что между этими солдатами он увидал юного Фабио Орсини. Альфонсо тотчас объяснил, что он – посланник повелителя Феррары, и от имени папы требует защиты. Однако, единственным ответом знатного юноши был дикий хохот, звучавший насмешкой и ненавистью. Он приказал евреям тотчас предстать со своей жалобой и со своим пленником на суд его брата, и это приказание было неукоснительно исполнено. Между тем, ни один добрый или злой дух не шепнул об этих событиях Ватикану. Упоенная нектаром страсти, проникавшей во все ее существо, Лукреция не без удивления повиновалась требованию папы, велевшему ей зайти к себе, и ее удивление еще возросло, когда она увидела, что он крайне взволнован и расстроен. С мрачной серьезностью, какой она никогда не замечала в нем раньше, Александр сообщил дочери, что из-за слуха, пущенного Орсини, ей не следует больше видеться с феррарским посланником. Лукреция вспыхнула ярким румянцем и принялась с жаром возражать против такого странного распоряжения. Впрочем, молодая женщина не решалась расспрашивать о неприятном слухе из боязни, чтобы это не повело к опасным допытываниям со стороны отца. Ее молчание и замешательство не говорили в ее пользу и еще более усилили подозрение папы, так что он, приказав сообщить двору, что Лукреция не выйдет больше в этот вечер, задержал ее при себе до позднего часа, как будто совершенно углубившись в шахматную партию, которую сумел, со всей своей испанской ловкостью, затянуть почти на неопределенное время. В Ватикан пришло известие о беспорядках в гетто и об аресте христианина, явившегося туда проведать свою возлюбленную еврейку, однако, на это не обратили внимания, смута между евреями была усмирена самим сенатором, который нарядил следствие по этому делу. Но, когда Лукреция получила позволение удалиться, папа в ее присутствии отдал приказ доложить феррарскому посланнику, что завтра утром он сделает ему визит, чтобы сообщить свои последние распоряжения. Тут у молодой женщины мелькнуло тревожное подозрение, и она остановилась в нерешительности у входа в свои покои, спрашивая себя, не вернуться ли ей назад и не открыть ли всего отцу. Однако, выражение, замеченное ею в глазах начальника папской канцелярии, честность которого казалась ей сомнительной, удержало ее от этого. Беспокойство Лукреции усилилось еще более, когда она, войдя к себе, заметила отсутствие своей кормилицы, против обыкновения не дожидавшейся ее в тот вечер, причем на все расспросы прислуга отвечала ей, что не знает того, куда девалась Фаустина. В своем беспокойстве молодая женщина даже не подумала о том, чтобы лечь в постель, и отпустила своих служанок, отказавшись от их услуг. Забрезжившее утро застало ее все еще погруженной в задумчивость, которая, несмотря на свою сладость, вызывала слезы на ее глазах. Тишина рассвета успокоила утомленное тело женщины, и она предалась дремоте, не вставая с кресла. Но вдруг ее потревожил посол от папы. Посол немедленно требовал к себе дочь, желая видеть ее одновременно с феррарским посланником. Лукреция была удивлена, но ей не хотелось показаться перед своим возлюбленным истомленной и бледной после бессонной ночи, и потому она извинилась перед отцом, велев сказать ему, что не может прийти. Однако, на это последовал еще более настоятельный приказ явиться в папские покои, и Лукреция поспешила к отцу, даже не переодевшись. При входе и нему ее крайне поразил и встревожил его первый вопрос о том, куда девался иоаннит. С солнечного заката накануне он исчез из своих покоев, и перепуганный Бембо подтверждал это известие. Страх и замешательство Лукреции при этом известии, казалось, усилили до крайности гнев папы. Александр высказал намерение отправиться лично на поиски иоаннита, чтобы узнать, по какой причине тот спрятался во дворце, но затем без видимой связи с предшествующими словами приказал позвать Фаустину. Лукреция запинаясь сообщила, что кормилица исчезла. Это явно усилило волнение папы и он воскликнул своим страшным голосом, испугавшим даже Лукрецию: – Ну, так где же он? Это невероятно, хотя до нас дошли странные рассказы о его лицемерном поведении и распутстве. Фиамма... молодая еврейка... ты слышишь? – Клянусь своей жизнью и честью, – с большим жаром сказала Лукреция, – все это – отвратительные наветы, придуманные его врагами, чтобы вооружить вас против него. – А кто сказал нам не дальше, как вчера вечером... Слушай, Лукреция, твоя Фаустина – так мне сообщили – искала защиты у Орсини. Нет ли у нее на языке чего-нибудь такого, о чем охотно послушали бы враги? Несчастная, где иоаннит? – Клянусь всеми святыми, я сама желала бы знать это, чтобы успокоиться относительно его безопасности, – ответила молодая женщина с горячностью, поколебавшей подозрение папы. – Однако, что означает твой все разгорающийся румянец? – продолжал он после некоторой паузы. – Послушай, Лукреция, я хочу узнать самое худшее и, пожалуй, это необходимо, чтобы спасти наше имя от величайшего позора. Мне говорят, будто иоанниту |было поручено разузнать здесь нечто такое, что могло |бы беспрепятственно содействовать твоему браку с его повелителем, английский рыцарь подтверждал это раньше, да и меня уверяют, Лукреция... Но если ты |в самом деле такая презренная, какою я не хочу тебя назвать, то сознайся, по крайней мере, вовремя, чтобы я успел помешать предателю вернуться со своими хвастливыми речами в Феррару и покрыть нас вечным стыдом и позором, сделать всеобщим посмешищем. – Отец, что все это значит? – спросила до крайности пораженная Лукреция. – У тебя только одно средство спасти свою жизнь: выдай мне иоаннита без всяких условий! Или ты хочешь заставить меня предать все огласке и ворваться в твои покои с моими швейцарцами, чтобы найти в них этого иоаннита? Лукреция молчала с досады, стыда и горя. Однако, это молчание подтверждало догадку ее отца. Он был жестоко потрясен и опустился в кресло, точно силы покидали его и ноги отказывались ему служить. Закрыв лицо руками, он воскликнул: – Вот истинная небесная кара! – Умертвите меня, но не подозревайте в подобных вещах, – сказала Лукреция задумчивым тоном, словно ей не хотелось верить тому, что она слышала, и ее томило смутное предчувствие страшного несчастья. В этот момент вошел Бурчардо. Он, дрожа от страха, доложил о приходе двух убогих старух из гетто, которые такими странными словами добивались доступа к Лукреции, что он пришел спросить, как она прикажет поступить с ними. Не дав дочери распорядиться, чтобы евреек удалили, папа велел немедленно ввести их. Бурчардо тотчас явился назад с Мортой и Ноттой. Не замечая папы, или не обратив на него внимания, они бросились к Лукреции, ухватились за ее платье и принялись вопить, колотя себя в грудь. – Мы снабдили тебя чудесным питьем, которое доставило тебе любовь твоего возлюбленного, – закричала Морта, – будь же и ты сострадательна к нам! В нашем доме схватили назарянина. Но ты пожалела наше дитя и сказала, что было бы святым делом показать бедняжке соблазнителя ее юности, чтобы успокоить ее отчаяние, ибо в своем безумии обманутая считала его мертвым, убитым предательской рукою. Мы сделали только это, но не более. – Да, он расточает свое богатство, как приличествует воину, он очень богат, – подхватила Нотта, страшно ухмыляясь. – Но, прекраснейшая синьора, если ты согласна оказать милость ему и нам, то вот великолепнейший из его даров – эти драгоценные камни, доставшиеся ему при разграблении Капуи – возьми их себе. – Венок с турнира! – воскликнула Лукреция, все себя от испуга и удивления, когда старые ведьмы, с плачем и жалобными стонами, положили к ее ногам венец из превосходных бриллиантов. – Что это значит? Не похитил ли арестованный в гетто христианин этих дивных драгоценных камней, чтобы подарить их своей возлюбленной? – Нет, нет, только ты молчи, – возразила Нотта, и остальные слова были сказаны сестрами в один голос, как будто эти ведьмы не хотели уступить одна другой такого сладостного мщения. – Не разглашай о том, ведь пойманный синьор – рыцарь-монах, рыцарь Белого Креста Иоанна, которого назаряне называют святым. У Лукреции вырвался полуподавленный крик, и, растерянно взглянув на папу, она воскликнула: – Так его нет в вашем доме? Где же он, адские женщины? – Его увезли узником из Рима, – отвечала Морта. – Сенатор сам судил его, и мы не можем узнать, что стало с ним и с нашим детищем – Мириам. – Сенатор? Орсини? Узник! – задыхаясь, воскликнула Лукреция, а затем пошатнулась и упала без чувств к ногам папы. Когда молодая женщина снова пришла в себя, то ее взор упал на Цезаря, который суетился, подавая ей помощь. – Он казнен! Не ты ли убил его, палач? – закричала она. – Говори! Разбей мое сердце! Он умер? – Этот бред действительно подтверждает рассказ Орсини, приведший меня в смущение, – ответил Цезарь, содрогнувшись перед злобой, которою сверкали глаза его сестры. – Убийца! Прочь твою окровавленную руку! Но скажи мне, жив ли он. Если ты не скажешь, то заговорю я и покажу перед небом и землею, какое ты чудовище! – воскликнула Лукреция в сильнейшей ярости. – Он не умер и ему не причинено никакого вреда, – поспешно ответил герцог. – Еврейка бредит. Просто нечестивые похоти иоаннита отдали его во власть Орсини, а последний воспользовался этим случаем для нашего позора и отправил его в цепях в Феррару к его оскорбленному повелителю с неопровержимымидоказательствами его измены, если только это не было выдуманной шуткой. О, какой злополучный день!.. Он покрыл нас таким стыдом! Лукреция была изумлена этой поразительной цепью событий, которые так быстро содействовали всем намерениям зачинщиков, и долго смотрела перед собою, погруженная в молчание. Цезарь не понял значения одолевавших ее мыслей и не мог удержаться от горького смеха. Смех, к его удивлению, встретил отклик у его сестры. – А, так значит, вы поймали соблазнителя еврейской девушки, которого, говорят, убил злодей, не имевший себе равного на земле со времен Каина! – сказала Лукреция, скрывая, насколько хватало ее сил, действительную скорбь под видом другой. – Прошу вас, – продолжала она, обращаясь к папе, – если вы любили меня когда-нибудь, то прикажите вернуть негодяя и подвергнуть его заслуженной каре за его чудовищное преступление. – Можно предоставить наказание иоаннита его повелителю, – возразил Цезарь, – вернуть же его нет возможности, если посланный за ним вдогонку не помчится с быстротою ветра. Теперь светает, а он был увезен из Рима час спустя после солнечного заката на самой быстроногой лошади, какую только можно было найти. – Ах, догнать его решительно невозможно? – сказала Лукреция, причем ее прекрасное лицо удивительно просветлело. – Пусть он стремится к своему наказанию в Ферраре, а я подожду своего в Риме. Не осуждайте меня, не выслушав предварительно моих оправданий. Пошлите за сенатором Орсини, и пусть он предъявит свое обвинение. Если же мне не удастся опровергнуть его явными для всех доказательствами, то пусть я погибну, не оплаканная даже родным отцом. – Сенатор в замке Святого Ангела, куда он явился по моему желанию, – сказал Цезарь. – Но какой прок удовлетворять его жажду мести и радовать этого человека видом нашего отчаяния? – Все равно, пусть придет, – возразила Лукреция. Цезарь посмотрел на нее, как на помешанную, однако, ей не противоречил, и за Паоло Орсини был отправлен посол. – Никого не выпускать отсюда! – распорядилась Лукреция, заметив, что еврейки, стоявшие на коленях, хотели потихоньку ускользнуть ползком. – Вы не должны возвращаться к себе, в гетто, с половинными вестями обо мне: ведь их и так ходит слишком много. Вам нужно получить более справедливое мнение о своей внучке, прежде чем вы вернетесь к приготовлению своих ядовитых снадобий. Не удивляйся, Цезарь! Дай мне только убедиться в справедливости рассказа этих старух, а тогда я с радостью разделю всякую участь, какая постигнет феррарского посланника. Бембо был его товарищем. Пусть же он будет свидетелем его разоблачения. Пошлите также и за ним! Сам папа начал думать, что страх отнял рассудок у его дочери, однако, твердый и спокойный тон ее речи опровергал подобное подозрение. Орсини явился вскоре в сопровождении троих чиновников, членов его суда, двоих инквизиторов и одного писца. Радость мщения, которую он испытывал, носила спокойный характер, потому что Паоло чувствовал себя удовлетворенным с избытком. Он вошел со смиренной церемонностью, обычной при появлении перед папой. – Господин сенатор, – заговорила Лукреция, – как вы осмелились нарушить законы Рима, когда вы призваны перед всеми строго требовать их соблюдения? Как вы осмелились избавить рыцаря иоаннита от возмездия, положенного законом за то преступление, в котором он был изобличен? – А неужели вы разгневались так сильно из-за того, что к деятельности блудящих римлянок присоединилась и нечестивая еврейка? – со страшной улыбкой спросил Орсини. – Но у римского сенатора есть обязанность поважнее соблюдения законов, потому что общественная безопасность стоит превыше всего. Союз с Феррарой представляет политический вопрос такой важности, что я был совершенно прав, удалив мошенника, который испортил бы нам все дело. – Славная шутка! – возразила Лукреция. – Но объяснитесь точнее. – Как вам угодно, сиятельная синьора! Нотариус, прочтите нам то, что показала в нашем присутствии донна Фаустина, прежде чем была отправлена в качестве свидетельницы в Феррару, – сказал Орсини, дрожа от нетерпения и радости. Нотариус вздрогнул и в испуге посмотрел на папу, но Лукреция подала ему знак читать документ, и он, упав на оба колена, повиновался ее воле. Фаустина, бежавшая из помещения Лукреции, несомненно из-за угрозы Цезаря или по его приказанию, открыла все, что она знала о свидании Альфонсо с Лукрецией, или видела своими глазами, или подозревала. Хотя в ее словах не было прямого обвинения, но они указывали на опасность, грозившую в будущем. Кормилица утверждала, что, судя по обстоятельствам и жалобам своей повелительницы, она до последнего времени думала и знала, что феррарский посланник пользовался своим полномочием, чтобы действовать против Лукреции, но во время того свидания они как будто заключили между собою договор, результатом которого явилось предложение посланника на другой день. Затем, Фаустина рассказала все о ночном приключении и только не передала слов их разговора. Подробности ее рассказа бросили в краску Лукрецию, а у папы вызвали громкий стон. – Поэтому-то я и опасался, – сказал Орсини, – что союз с Феррарой не состоится, если не удалить своевременно этого человека. Если же я выследил его до самой потайной лазейки, то исполнил только свою обязанность. – О, какой же негодяй и отвратительный изменник – этот иоаннит! – воскликнул Цезарь будучи не в силах дольше преодолеть свое торжество. – И самым подлым из всех его преступлений я считаю то, что он пользовался своей возлюбленной-еврейкой, чтобы распространять гнуснейшие наветы на мой счет. Надо сознаться, я постоянно замечал, как все его стрелы направлялись втайне против меня. – Теперь, ваше святейшество, вы можете усмотреть, что я, не помышляя о предательстве, вправе сложить с себя навсегда свое презренное занятие, – сказал Орсини со спокойной улыбкой скрытой мстительности. – Да, я усматриваю здесь карающую десницу, – простонал папа, удрученный скорбью. – Мой Джованни убит, Цезарь помышляет о восстании, а Лукреция... О, ты, худшая из всего твоего злого рода, что ты такое? – Ваша дочь и невеста Альфонсо Феррарского, – спокойно ответила та. – Вся эти история, хотя и раздута болтовней старых баб, справедлива. Совершенно верно, что вплоть до продолжительного свидания со мною наедине феррарский посланник был против моего брака со своим принцем, но затем, он объявил о нем на следующий день. До той поры я не знала о клевете, возводимой на меня родным братом, и о том позоре, который навлекла на мое имя его шутка над английским рыцарем. – Нам пока неизвестно, одобрит ли Альфонсо Феррарский те средства, которые были выбраны иоаннитом для доказательства вашей невиновности, синьора, – заметил Паоло Орсини. – Презренная, неужели ты сама сознаешься в своей вине? – тоном отчаяния воскликнул папа. – Если любовь – провинность, то я, разумеется, страшно виновата, – ответила Лукреция. – Но разве мне не приходилось слышать очень часто, что вы сами признаете за Альфонсо Феррарским высокое геройство и все достоинства правителя? Неужели он захотел бы сочетаться с позором? Неужели согласился бы дать своим детям мать, имя которой должно было вызывать на их лицах краску стыда? Чтобы показать вам, отец, что я ни делом, ни помыслом не виновна в том, что мне приписывают, чтобы убедить вас, Орсини, что посланник, отправленный вами в Феррару – не изменник, а тебя, Цезарь, что эти старые бабы не сделали по крайней мере ничего, чтобы опровергнуть обвинения, которые ты усмотрел в бреду их внучки, я скажу вам всем... – нет, только вам, мой любимый отец: «Иоаннит – это сам Альфонсо Феррарский». Солнечный луч, внезапно проникший во мрак, не так быстро освещает все, что было темно и загадочно, как быстро подействовало это открытие на пораженных слушателей. Водворилась тишина, как после потрясающего громового удара. Цезарь опомнился первый и пробормотал: – Если так, то после приключения прошедшей ночи мы не скоро услышим что-нибудь о Ферраре! – Мы должны немедленно отправить посла за ним вдогонку, чтобы принудить его к исполнению обещанного, – сказал папа, бросая на Лукрецию растерянный взор. – Слава Пресвятой Деве, потому что, благодаря заботливости Орсини, его нельзя догнать, – со вздохом промолвила Лукреция. – Ни под каким видом принуждения не приняла бы я его руки. Только дай Бог ему благополучно прибыть в Феррару. А ты, Цезарь, вспомни катакомбы! Немедленное прибытие посла от Альфонсо должно подтвердить или опровергнуть мои слова, принести мне славу или бесчестье. – Как давно знала ты обо всем этом, Лукреция? – спросил Цезарь, смущенный зловещими словами сестры. – Ведь в долине Эгерии я слышал, как он признался тебе, что его намерения враждебны нам. – Ну, тогда я – величайший глупец, обманутый лукавством Борджиа! – воскликнул Орсини при таком неожиданном разоблачении обмана всей интриги Цезаря. – Удалитесь все, – в сильнейшем замешательстве сказал папа. – Мы должны узнать всю правду, Лукреция. Что же касается вас, Орсини, то если звание, которым мы вас облекли, причиняет вам столько забот и труда, тогда мы снимаем его с вас, чтобы отдать этот столь неприятный пост одному из ваших врагов. Вслед за этим Лукреция обратилась к брату: – Не смотри так дико, Цезарь! Уведи этих ведьм, так дерзновенно поносивших имя моего Господа, в твои темницы, в замке Святого Ангела и успокойся на том, что мы не хотим причинить тебе дальнейший вред, если ты не замышляешь ничего дурного против нас. Лукреция произнесла эти слова с твердостью, но даже ее смелый дух поколебался от страшного взора Цезаря и, отвернувшись с содроганием от брата, она упала в простертые ей объятия папы. (обратно)ГЛАВА XI
Лебофор покинул Рим в назначенный срок, к великой радости своей свиты и особенно старого оруженосца Бэмптона. Предполагаемой целью его путешествия была Венеция, но туда он направился несколько необычным путем, а именно, через Урбино, после того, как получил перед своим отъездом через неизвестное лицо письменное удостоверение от папы, что ему разрешено жениться на своей двоюродной сестре. Как слышал Бэмптон, рыцарь избрал этот путь, чтобы миновать область Феррары и сесть на корабль в одной из гаваней Умбрии, но, будучи незнаком с тайнами союзных дворян, в которые Орсини посвятил английского рыцаря, недоумевал, почему его юному повелителю вздумалось остановиться в Урбино, все еще сильно волновавшийся после предательского нападения Борджиа. Хотя многочисленная свита ограждала Лебофора от опасностей и оскорблений, однако, пребывание в Урбино, не представляло ничего приятного, и Бэмптон беспокоился до тех пор, пока Лебофор не решил продолжить свое путешествие. Приближаясь к границам Урбино, Реджинальд прибыл со своею свитой на плоскогорье под диким горным проходом в Романью, над которым господствовала крепость Сан-Лео, главная твердыня в области Умбрии. На дикой тропе, вившейся к горному перевалу, шло множество поселян, гнавших волов, овец, везших на возах зерновой хлеб, а также кучки горцев, нагруженных урожаем, полученным со своей скудной почвы. Реджинальд был безучастен к происходившему, но Бэмптон узнал, что по всей окрестности производятся насильственные поборы на удовлетворение нужд гарнизона в крепости Сан-Лео, что не было редкостью при разбойничьих наклонностях наемного войска Борджиа. Лишь когда путешественникам попались дроги с тяжелыми бревнами, Реджинальд стал собирать сведения и вступил в разговор с крестьянами-погонщиками волов, предводителем которых был коренастый горец, по имени Пальтрони. Собиралась гроза, когда английские стрелки приближались к вершине горы Сан-Лео, на которой была сооружена одноименная ей крепость. Подъемный мост через пропасть был спущен, и ворота отворены для пропуска крестьян с их кладью и убойным скотом. Гарнизон держал себя до крайности нагло, а его начальник с красным от пьянства лицом и яростным голосом бражничал верхом на лошади со своими офицерами, производил приемку привезенных припасов по списку, бывшему у него в руке, и ругал, даже бил несчастных крестьян, не исполнивших, по его словам, своих повинностей. Когда осмотр был окончен, крестьян впустили через подъемные решетчатые ворота башни во внутренний двор крепости, где они выгрузили свою кладь и получили подобие квитанций. Реджинальд, приблизившись к подъемному мосту, приказал своим людям остановиться и, по обычаю, дать сигнал трубой, что означало желание вступить в переговоры. Однако, начальник крепостного гарнизона, услышав звук трубы, в первый момент замешательства крикнул: «измена!», а затем приказал немедленно поднять спущенный мост. Реджинальд увидал, что его просьба не будет уважена. Впрочем, этого надо было ожидать как в виду суровости коменданта Пиетро Овиедо, так и в виду того, что было опасно впустить в крепость вооруженный отряд, потому что гарнизоны Цезаря были очень слабы в Урбино, а частью и совсем отозваны, чтобы послужить подкреплениями для союзных дворян при осаде Болоньи. Однако, Лебофор двинулся на своем коне к подъемному мосту и крайне вежливо попросил приюта и ночлега в Сан-Лео себе и своим спутникам. Тем временем, подоспел и Пальтрони со своими бревнами и, понукая волов, обогнал рыцаря, так что волы и бревна очутились между комендантом и его непрошеными гостями. – Прочь с дороги! – заорал Пиетро Овиедо. – Мы ответим на эту просьбу пушками, если нарядный господинчик не избавит нас сейчас же от своего присутствия. Чего вы рыщете по владениям моего государя, герцога Романьи? – Если хочешь знать это, то не угодно ли тебе пожаловать сюда со своим копьем! – ответил Реджинальд. – Чего ты лжешь? Этот замок принадлежит не герцогу Романьи. Он лишь отнял его, как вероломный и бесчестный грабитель. Горцы и крестьяне, столпившиеся позади Реджинальда, одобрили этот ответ громким криком, да и в крепости он нашел себе бурный отклик, так что комендант, сильно обеспокоившись, вторично приказал запереть ворота. Несколько солдат принялись гнать своими копьями волов дальше. Однако, когда бревна очутились как раз под опускными воротами крепости, Пальтрони внезапно схватил топор и, размозжив голову ближайшему из неприятелей, кинулся вперед с криком: «Вот и мой государь, герцог Урбино!» Этот возглас был немедленно подхвачен тысячью грозных и нестройных голосов внутри и снаружи крепости. Реджинальд со своими воинами тоже поскакал вперед с криком: «Святой Георгий!» В один миг Пиетро Овиедо был сброшен сильным ударом наземь, а затем Реджинальд, выхватив меч, вступил в рукопашную схватку с солдатами Борджиа. Бой был жесток, но не продолжителен, потому что неприятеля удалось захватить совершенно врасплох. Этим был осуществлен план Паоло Орсини оживить мужество союзников, отвоевав обратно Урбино и возвратить эту страну ее законному герцогу. Крепость Сан-Лео, имевшая важное стратегическое значение, пала. Из всего ее гарнизона только немногие и между ними комендант, спасенный Реджинальдом, избегли мщения народа, которое сами навлекли на себя жестокостью и вымогательствами. Но теперь возникло затруднение, каким образом удержать за собою дорого доставшуюся добычу. Реджинальд занял крепость своими воинами, а Пальтрони распространил весть об одержанной победе и поднял восстание во всей стране. В то время, как Лебофор после побоища распоряжался уборкой бревен с моста, через него поспешно перешел человек, изнуренный усталостью, и кинулся к его ногам. Это был негр с запекшимся от страшной жажды языком. Едва владея собой, он вытащил из-за пояса письмо, а затем потерял сознание. Бэмптон узнал в нем скорохода Цезаря, носившего кличку «душитель». Реджинальд созвал солдат в свидетели того, что письмо, принесенное негром, было адресовано коменданту, и вскрыл конверт. Однако, послание было написано тайным шифром, и, желая узнать его содержание, Лебофор приказал привести Пиетро Овиедо, и предложил ему прочесть письмо. Тот отказался, ссылаясь на свою неграмотность, и с письмом удалось ознакомиться при помощи духовника коменданта, знавшего ключ к тайному шрифту. В письме заключалось сообщение об аресте феррарского посланника, и о тех причинах, по которым для Борджиа было необходимо разрушить план Орсини, хотевших доставить виновного посла в Феррару. Поэтому, комендант крепости получил приказ во что бы то ни стало захватить этого пленника Орсини, если же они уже проехали со своим пленником через Сан-Лео, то отправиться за ними в погоню, и скорее перебить весь конвой, чем пустить их дальше, причем в случае возможности привезти узника обратно в Сан-Лео, и держать под стражей до дальнейших распоряжений. Щедрая награда, обещанная Цезарем, доказывала, какую важность придавал он удаче этого дела. Реджинальд тотчас поспешил расспросить негра и, узнав, что тому действительно удалось опередить путников, хотя и не на большое расстояние, разослать во все стороны разведчиков, которым было приказано привезти Орсини с их пленником в Сан-Лео. К вечеру вся компания прибыла в крепость. Хотя Орсини слышали дорогой о восстании и нападении на крепость, однако рассчитывали на дружбу урбинцев и на их ненависть к роду Борджиа, а потому были убеждены, что им дадут свободный пропуск, чтобы повредить интересам Цезаря. Конвоем командовал Фабио Орсини, причем его сопровождали опытные приверженцы рода Орсини и свита из воинов, закаленных в боях. Реджинальд нарочно не показывался, пока все прибывшие сошли с коней, а пленник был отведен в приготовленную для него комнату, но наблюдал через бойницу одной башни за прибытием всей партии, и его сердце волновалось разнородными чувствами, когда он увидал иоаннита, который в грубом плаще с поднятым капюшоном сидел связанным в седле, не теряя, однако, своей царственной осанки и спокойного достоинства. В отряде всадников оказалась и женская фигура. Всмотревшись в ее печальные черты, Реджинальд узнал Фаустину. Фабио Орсини обнаружил некоторое удивление, встретив в лице завоевателя Сан-Лео английского рыцаря, однако, не почувствовал ни малейшего беспокойства, воображая, что Реджинальд кипит непримиримой враждой к Цезарю, которая была вызвана поступком герцога. Со своей стороны Реджинальд удивился перемене, происшедшей в душе Фабио. Молчаливый юноша, обращавший прежде на себя внимание только своею скромностью и кротостью, пылал теперь дьявольской жаждою мести и ненавистью к вероломному, как он думал, посланнику Феррары. Фабио, должно быть, воображал, что узника ожидает страшнейшая кара со стороны его ожесточенных повелителей, и у него самого являлось искушение лично покончить с ним. Юноша, приведенный в ярость собственным рассказом об успехе Альфонсо у Лукреции и о разбитых надеждах его брата, Паоло Орсини и вспомнивший, что Реджинальда томит тоже горе, неожиданно кинулся в объятия Реджинальда, и сознался ему, что и сам он уже давно сделался жертвою страсти к Лукреции. Лебофор намеревался сначала объяснить молодому человеку опасность принятого им на себя поручения, и освободить пленника, но внезапное признание Фабио, а также уверенность в том, что урбинцы захотят удержать в своих руках заложником столь важное лицо, если обнаружится его звание, удержали его от этого необдуманного шага. Он быстро составит в уме план и посвятил в него лишь несколько из своих людей, без помощи которых не мог обойтись. Около полуночи Альфонсо был разбужен светом факела и, вскочив с постели, увидел перед собою Реджинальда Лебофора. – Не удивляйтесь, синьор Альфонсо, – заговорил англичанин мягким, но дрожащим голосом. – Не знаю, сообщили ли вам ваши стражи о том, что произошло в этой стране, но я считаю нужным сообщить вам, что я отбил и занял этот укрепленный замок для герцога Урбино. – А теперь явились сюда, чтобы стать убийцей? Да, действительно, ваш кроткий нрав совершенно переменился, – сказал Альфонсо, выпрямляясь и с отчаянием взглянув на свои крепко стянутые руки. – Эта горькая речь не совсем заслуженна мною, а потому я перенесу ее, – ответил Лебофор. – Но, клянусь, если бы кто-нибудь убил меня, когда я предался обманчивой надежде на райское блаженство, то я не изведал бы жестоких упреков совести. Не страшитесь однако! Я пришел освободить вас, избавить от рук Орсини. Да, вы получите свободу, но при одном условии, в исполнении которого вы должны поклясться мне своею рыцарской честью и словом государя. – Назовите свое условие, – сказал Альфонсо, и тогда я отвечу вам. – Судя по вашему странному поведению в Риме, по аресту в гетто, словом, по всему, вы стали равнодушны к Лукреции, и если бы... Впрочем, довольно! Поклянитесь мне, что вы не заплатите неблагодарностью за ее слишком расточительную любовь, что вы не покинете ее, чтобы осуществить тем низкую надежду Цезаря и Орсини, добивающихся того, чтобы она была покрыта стыдом и позором. Поклянитесь, что вы сделаетесь ее супругом, согласно принятому на себя обязательству. Несколько мгновений Альфонсо молча смотрел на Лебофора, почти завидуя его рыцарской преданности и бескорыстию его любви, но все же запальчиво ответил ему: – В таком случае, предоставьте меня моим врагам! Вы бесчестите Лукрецию и меня таким принуждением. Я отвечу вам вполне откровенно. Клянусь, если бы Лукреция уступила моей безумной страсти, в приливе которой я осыпал ее мольбами, находившими поддержку в ее собственной любви ко мне, я никогда не сделал бы ее – мою любовницу – своей супругой. Если же вы отпустите меня теперь на свободу, а я не попрошу из Феррары ее руки, то вы в праве счесть Альфонсо Феррарского малодушным изменником, я согласен на это, и хотел бы, чтобы наши мечи решили, справедливо ли я поступил, или нет. – Я удовлетворюсь и готов поверить вам, потому что всегда видел ваше благородство и ваш возвышенный образ мыслей, подобающий царственному лицу, – ответил Реджинальд, после чего распилил железные обручи на руках своего соперника. Будучи вполне побежденным великодушием англичанина и горя желанием оправдать себя и Лукрецию во мнении Реджинальда, Альфонсо правдиво рассказал ему, то, что привело его в гетто. Этот рассказ разоблачил еще много других вещей, и между прочим, принц открыл Реджинальду большую часть обстоятельств, убедивших его в невиновности Лукреции и в чудовищной преступности Цезаря. Для Реджинальда подобное открытие было благодетельно, так как оно убедило его в горячей любви Лукреции к своему жениху и в безнадежности его собственной страсти. Избавив своего соперника от оков и веревок, Реджинальд дал ему вооружение и плащ одного из своих стрелков и беспрепятственно вывел из крепости, где изнуренная стража и Орсини бражничали или спали. Одна из лучших лошадей Лебофора стояла оседланной по ту сторону крепостных валов. Тут Реджинальд простился с Альфонсо и дал ему на дорогу два паспорта: один, подписанный Пиетро Овиедо, – для партии Борджиа, а другой, изготовленный Пальтрони – для урбинцев, на случай, если бы принцу пришлось столкнуться в пути с людьми того или другого лагеря. Феррара находилась лишь в нескольких часах езды от Сан-Лео, и, будучи хорошо знаком с местностью, Альфонсо, снабженный такими надежными документами, едва ли рисковал чем-нибудь, так как ему не угрожало более преследование Орсини. Вскоре бывшие товарищи по оружию расстались. Побег иоаннита был обнаружен только на следующее утро. Все были поражены и изумлены, и стали подозревать измену, пока Лебофор не сознался открыто, что он сам освободил феррарского посланника. Он указал изумленным Орсини на ту опасность, какую они навлекли бы на себя, доставив в Феррару подобного узника, а урбинцам выставил на вид выгоду для них от возможности заручиться дружбой столь могущественного соседа или, по крайней мере, избежать явного разрыва с ним, который мог явиться следствием какого-нибудь насилия со стороны Орсини. В заключение, он сообщил, что иоаннит был сам Альфонсо Феррарский. Это сообщение подтвердилось в тот же день. Немного спустя, в крепость прибыл епископ д'Энна. Он был преданным слугою Цезаря, и, вероятно, получил от преступного герцога известные распоряжения, однако, счел нужным умолчать о них, когда увидел, как сложились обстоятельства, и когда очутился сам пленником. Однако, он подтвердил то, что произошло в Риме, причем ложно сообщил, что прислан с приказом об освобождении столь высокопоставленного пленника, и о почетном обхождении с ним. В приливе упорства и ненависти Реджинальд отправил негра, епископа д'Энну и Фаустину в ближайшую крепость Цезаря в Романье, приказав им как можно скорее явиться к своему повелителю с докладом о том, что его распоряжения опоздали. Фабио Орсини поневоле согласился с этим. (обратно)ГЛАВА XII
За взятием Сан-Лео последовало восстание по всей области Урбино, и герцог Гвидобальдо быстрее, чем лишился своего герцогства, снова получил его в свое владение, за исключением некоторых крепостей. Конечно, он поспешил немедленно осадить их. Реджинальд под влиянием жажды мщения Цезарю остался главной опорой восстания, и оно, благодаря его пылкому усердию и храбрости, вскоре произвело полный политический переворот. Последствия событий в Урбино были чрезвычайны. Римское дворянство оправилось от внезапного испуга, в какой повергли его отпадение Франции и победы Цезаря. Вассалы церкви не приняли предложения Цезаря выступить с ним вместе на осаду Болоньи, предписанную ему папой, но на заседании в Малжионе составили между собою явный союз против партии Борджиа, и обязались помочь всем, изгнанным из своих владений дворянам водвориться в них снова. После такого решения герцог Гвидобальдо, Вителлоццо и Оливеротто да Фермо выступили со всеми своими боевыми силами в Урбино, чтобы отразить нападение значительного военного отряда, высланного туда Цезарем под предводительством Мигуэлото. Сам Цезарь находился в Имоле, когда пришла первая весть о том, что счастье изменило ему. Он получил письмо, сообщавшее о захвате крепости Сан-Лео и об освобождении феррарского принца. Для Цезаря в политическом отношении было бы неизмеримо важно, если бы Альфонсо очутился в его власти, и на этом обстоятельстве основывалась большая часть его планов, задуманных им после того, как он попал в немилость у папы. Однако, события в Сан-Лео разрушили все его замыслы и поощрили дворян противиться его предложениям, и они приводили свои силы в полную готовность, готовясь к открытому сопротивлению господству рода Борджиа, а их главный советчик Паоло Орсини помышлял только о мщении. Цезарь понял, что запутался в странных затруднениях и окружен опасностями. Вся Италия с изумлением узнала, что он заперся с ничтожными боевыми силами в Имоле, в недалеком расстоянии от повелителей Болоньи, снаряжавшихся для нападения на него, тогда как в Перуджии дворяне южной части итальянских владений собирали под предводительством ожесточенного Паоло Орсини свои войска, наводившие ужас на Рим и не намеревавшиеся отступить оттуда. Умбрия находилась в волнении. Романья колебалась. Феррара была раздражена, а на французов в Милане Цезарю было трудно рассчитывать, так как их вице-король был личным врагом Цезаря. Венецианцы тоже были его заклятыми врагами. Флорентийцы колебались между двумя, почти одинаковыми антипатиями. Одним словом, положение Цезаря было почти безвыходным, а поражение, нанесенное под Кальи Мигуэлото герцогом Урбино, Орсини и Реджинальдом, довершило злополучия римского полководца. Победа союзников поразительно сказывалась в том беспокойстве, которое овладело всеми, имевшими причину бояться. Это особенно относилось к Флоренции, которая чуяла в этом повороте военного счастья торжество своих изгнанных тиранов, Медичи. Смущенная столь быстрым ходом политических событий и озабоченная тем, как Цезарь, отрезанный от Рима, не сдался Орсини, она решила отправить к нему посла с предложением убежища в своей области. Эта миссия была возложена на Никколо Макиавелли. Посол могущественной Флоренции был принят в Имоле с почетом и ему было отведено помещение в большом здании, походившем на крепость и служившем некогда резиденцией изгнанникам Риарти. В нем жил Цезарь, и в виде особого благоволения здесь же были отведены комнаты послу. Готовясь к аудиенции, Макиавелли только что переменил свое дорожное платье на простой черный костюм, из которого состоял его чисто республиканский гардероб, как вдруг за зеркалом отворилась потайная дверь, и в комнату вошел Цезарь. – О, Никколо! Неужели старейшины вашей республики не могут дать тебе ничего, кроме платья из черного генуэзского бархата? – заговорил он. – Республиканцы не любят тратить свое золото на позументы, а мое личное состояние заключается преимущественно в виноградниках, которые сильно опустошены недавними набегами Вителли, – не без замешательства ответил посланник. – Однако, я весьма рад видеть вас таким здоровым и веселым, и спешу сообщить, что имею поручение от имени своих повелителей предложить вам во Флоренции защиту и убежище от окружающих вас врагов. – Неужели полагают, что я нахожусь в таких тисках? – воскликнул Цезарь с несколько отуманенным лицом. – Впрочем, я с удовольствием выслушаю твое предложение, так как знаю, что дворяне просили тебя вступить в союз против тирана, каким считают меня. Не правда ли? – И весьма убедительно, но, пока Орсини и Вителли состоят в родстве с Медичи, – безуспешно, – ответил флорентиец. – Но, конечно, тебе поручено предложить мне благоволение и защиту твоих повелителей на тяжелых условиях? – Нет, мое поручение и воля моей республики будут исполнены, если я склоню вас принять ее помощь и не подчиняться власти ваших наглых мятежников, – возразил Макиавелли. – Ну, я не сомневаюсь, – заметил в раздумье Цезарь, – что, если мы заключим мир, то условием его будет поставлено восстановление Медичи. – Но ведь это было бы для вас окончательной гибелью, – с беспокойством подтвердил посланник. – Ваше собственное участие ко мне убеждает меня в безысходности моего положения, – сказал герцог со странной улыбкой, в которой таился загадочный смысл. – Вашей республике не мешало бы последовать благоразумному примеру прочих, не стараясь о поддержке моего закатившегося счастья, как это делают французы. Ты видишь, мне не шлют ни одного копья из Милана. – Наше желание помочь вам сильнее нашей власти, но ведь теперь у вас новый могущественный союзник в Ферраре, который не покинет вас в крайности, – возразил Макиавелли. – Как же, я слышал, его посланники проследовали вчера через Болонью. Но ведь они едут свататься, а не воевать, и нашлись злоумышленники, которые убедили их, что лучше сидеть дома, пока мои гарнизоны стоят у границ Феррары. Правда, перед его святейшеством они ссылаются, в данном случае, на венецианцев, будто бы мешающих им явиться со своей миссией в Рим, и папа принимает в уважение эту отговорку. Пусть будет так – до поры, до времени. Но я благодарен им. Они сделали мне больше добра, чем хотели. Паоло Орсини соблаговолил наконец, внять моим убедительным просьбам и, как только мои заложники прибудут в его лагерь, великодушно намеревается прибыть в Имолу, чтобы сообщить мне приказ о тех моих действиях, которые могут вернуть мне благосклонность как его самого, так и его сотоварищей по мятежу. – Ну, тогда я прошу вас не соглашаться ни на какие условия, клонящиеся к ущербу нашей республики. – Можешь быть уверен. Ну, а теперь, друг Никколо, скажи откровенно, по-дружески, что думаешь ты о моем теперешнем положении. – Прежде всего я дивлюсь, как это вы, столь мудрый государь, могли очутиться в нем, – поспешно ответил Макиавелли, – а, вспоминая наши частые разговоры, удивляюсь тому, что вы не постарались составить свое собственное войско, вместо того, чтобы по-прежнему полагаться на союзников и наемных солдат. – Никколо, Никколо! Ведь если бы не сумасбродство проклятого Лебофора, внезапно и насильственно раскрывшего мои планы, то почти все обстоятельства благоприятствовали бы моим замыслам и желаниям, потому что только испуг и гнев, вызванные могущественной коалицией дворянства, могли бы заставить папу и Лукрецию раскошелиться, чтобы я мог завербовать войско, как ты часто советовал мне. Но это не помешало мне все же позаботиться об этом важном для меня деле, и сейчас я тайком собираю войско в своих укрепленных замках, а также купил всю артиллерию бывшего неаполитанского короля Федерико. Таким образом, мои силы растут и для меня даже важно, чтобы мои враги думали, что я в опасном положении. Чем дольше оно будет продолжаться, тем лучше для меня. Мне нужно только время, и в конце концов, победа будет за мною. Дворяне против меня. Но что, из этого? Я неслышно забиваю клинья, однако, они раскалывают вражескую коалицию по всем направлениям. Почему например, Бентифольи колеблются пойти на приступ Имолы? Да потому, что я болтаю о том, будто намерен уступить им Болонью, взяв в вознаграждение их золото и их солдат. Орсини в свою очередь прислушиваются к моим удивительным замыслам против Феррары, начиная с насильственного брака их Паоло с Лукрецией. Вителли довольны тем, что я беру Сиену, а Петруччи – моими заявлениями о том, что герцог Урбинский Гвидобальдо не нуждается в восстановлении своей власти. Макиавелли с восхищением смотрел на своего великого ученика, или, скорее, учителя, и воскликнул, словно пророчествуя: – Тогда я по-прежнему могу видеть в моем Цезаре предназначенного судьбою освободителя Италии, который должен изгнать варваров из прекрасной, но опустошенной страны! – Да, я буду так славен, что мои недостатки покажутся изумленным взорам людей не темнее пятен вон там, на солнце, которое лучезарно закатывается над горами и долинами Италии, где мое имя должно быть так же вечно, как имя первого Цезаря, – сказал Борджиа с восторгом честолюбия. – Орсини проложили мне первый путь, и никакие просьбы, даже просьбы Лукреции, не могут укротить гнев папы против них, потому что они открыто заявляют о необходимости низвержения его. – Но, когда мои повелители услышат, что Паоло Орсини был у вас, что могу я сказать им в утешение? – жалобным тоном спросил Макиавелли. – Передай им только одно, что в промедлении вся моя надежда, а переговоры – скучное занятие. Прибавь еще, что я внимательно слежу за всем и выжидаю благоприятного времени. Так закончился первый деловой разговор между Борджиа и посланником, и последний с меньшим беспокойством ожидал теперь прибытия Паоло Орсини на следующий день. Это свидание Орсини с Цезарем состоялось и Паоло вышел от герцога с мертвенно бледным лицом и без той твердой и надменной осанки, с какой прибыл в Имолу. Очевидно, он убедился, что шансы дворянской коалиции вовсе не столь блестящи, как это могло казаться, и это вскоре оправдалось. Правда, все союзники энергично продолжали одерживать победы, и величие партии Борджиа висело на волоске. Но Цезарь прикидывался таким покорным, а страшная опасность, до которой они его довели, была так несомненна, что они поверили, будто достигли всего и охотно уступили его просьбам предписать ему условия. Паоло Орсини сделался его послушнейшим орудием, но, едва ослабела общая опасность, оказалось столько поводов к невозможности выполнить обещанное, и Борджиа умел так ловко пользоваться ими, что не только затянулись переговоры, но постепенно возникли недоверие и раздоры между союзниками. Вдобавок, по настойчивым требованиям папы Цезарь получил наконец, подкрепление, состоявшее из отряда французского войска, который вместе с набранными им самим боевыми силами уже давал ему перевес над его противниками. Смущение противников было велико, но Цезарь не обнаруживал своего намерения отступить от принятых им условий, и даже Вителлоццо поверил его искренности, когда возобновились переговоры о всеобщем мире. Борджиа даже отказался от своих видов на Болонью и вместо ее подчинения соглашался удовольствоваться порядочным количеством войска и денежной помощью. Зато он совсем не хотел выслушать условия союзников в пользу герцога Урбинского, но, чтобы усыпить их опасения, намеревался отпустить французских солдат, если ему обещают поддержку при вторичном завоевании герцогства Урбинского. Паоло Орсини особенно настаивал на этом. Вместе с тем, был возобновлен вопрос о командовании армией союзников. Наконец, было решено во избежание недоверия, что всеми военными силами будет предводительствовать один из вождей лишь под главным начальством Цезаря. Паоло выразил готовность принять на себя эту почетную и опасную должность, и роковой договор был заключен. Несчастный герцог Урбинский, окруженный наступающими врагами и вероломными союзниками, счел всякое сопротивление напрасным, и снова бежал в Венецию, предварительно разрушив большую часть своих крепостей, чтобы ими нельзя было снова воспользоваться для угнетения его верных вассалов. Он освободил своих приверженцев от всех обязанностей и уговорил Лебофора принять под свою защиту Синигалию, пока его сестра, повелительница этого города, успеет устроить свое бегство. Макиавелли был чрезвычайно обрадован таким оборотом дел и старался внушить Цезарю различные коварные меры, чтобы сокрушить вконец могущество союзных дворян. Цезарь согласился, и его отряд, состоящий преимущественно из французских солдат, действительно выступил для нападения на дворян, но по прибытии их в Фано было объявлено о заключении мира и о роспуске французского войска. Это крайне удивило всех, особенно французов, однако, Цезарь оправдывался истощением страны и невозможностью вернуть себе иным способом доверие дворян. Французы удалились в большой досаде, радость же союзников была напротив, безгранична, и они по просьбе Паоло позволили стянуть их боевые силы к Синигалии, чтобы снова отвоевать этот город для герцога Романьи, но с тем условием, что он не появится среди них лично – настолько еще сильно было их опасение перед ним. Повелительница Синигалии устроила свое бегство с помощью Лебофора, и были получены известия, что он будет занимать этот город лишь до тех пор, пока прибудут галеры, которые герцог Урбинский обещал прислать из Венеции, чтобы доставить туда Реджинальда с его солдатами. Но со времени бегства Альфонсо из Сан-Лео Паоло Орсини был так озлоблен против Лебофора, что ему очень хотелось утолить свою жажду мести, и Цезарь по-видимому, подстрекнул ее, чтобы довести дело до нападения. Дворяне поставили условие, чтобы Цезарь оставался в Фано, а их знатнейшие союзники, полководцы: трое Орсини, Вителлоццо и Оливеротто да Фермо, выступили во главе своих военных сил против Синигалии. Реджинальд, увидав многочисленное войско, понял, что может оказать ему лишь слабое сопротивление: город не был укреплен, население было недовольно, или парализовано страхом, а гарнизон едва достаточен для защиты валов. Однако, несмотря на это, он не упал духом, когда явившийся Паоло Орсини стал требовать сдачи города, а, заметив недоверие между дворянами и Цезарем, заносчиво ответил, что так как ему предлагают сдать город церкви, то он может вручить ключи Синигалии только ее представителю – герцогу Романьи. – Ну, тогда прощай, военачальник Синигалии, и если мы увидимся вновь, то один из нас будет стоять на краю вечности! – воскликнул Паоло. Начались приготовления к приступу, но жители города покинули крепостные валы, а так как собственные военные силы Реджинальда были слишком слабы, то он решил запереться в крепости и выговорить себе как можно более выгодные условия для почетного удаления из нее. Горожане тотчас вступили в переговоры с осаждающими, и знамена последних к вечеру уже развевались на городских валах. Два дня беспрерывных приступов внушили осаждающим уважение к мужеству врагов. Однако, крепость была окружена со всех сторон, а Цезарь прислал для поддержки своим союзникам несколько орудий, и те принялись обстреливать крепостные валы. У Лебофора не было особенных причин затягивать защиту города дольше того, сколько требовала честь, и он решил предложить сдачу крепости с условием, чтобы его солдаты могли беспрепятственно удалиться в Венецию. Когда пришло это предложение, дворяне совещались между собою, но о другом предмете. Однако, Паоло Орсини тотчас присоединил и его к настоящему делу. – Синьоры, – сказал он, – в данном случае я должен по требованию герцога Цезаря выразить его настоятельное желание лично переговорить с защитником Синигалии. Может быть, он помышляет отомстить вероломному чужеземцу или просто насладиться унижением его гордости, когда заносчивый юноша будет принужден вручить ключи от города полководцу церкви. Так или иначе, но было бы нелюбезно с нашей стороны отклонить его просьбу. Да и чего нам опасаться, раз он отпустил французов, а флорентийцы из-за его союза с нами питают к нему страх и недоверие, мы же примем его среди наших победоносных войск? – С какой это стати вздумалось Цезарю отдаваться в наши руки? – подозрительно спросил Вителлоццо, потряхивая длинной седой бородой. – Ну, почтенный Вителли, не станем спрашивать «почему», а лучше воспользуемся случаем, – перебил Оливеротто да Фермо. – Говорю вам, пусть он пожалует, тогда мы поднимем вопрос о Тоскане, а если Борджиа заартачится, то мы перережем ему глотку и бросим его труп собакам. – Замолчи, бульдог, ведь ты способен опровергать хоть соломонову мудрость, – возразил Вителлоццо. – Впрочем, нет, Паоло, ведь между нами было условлено, что только один из нас должен одновременно плясать в силках Цезаря, и ты сам добровольно принял на себя это назначение. – Совершенно верно, – ответил Паоло, – но подумал ли ты, Вителли, также и о том, как опасно оставить все здешние войска без предводителей, подвергнутыми влиянию серебряного языка Цезаря? – Его серебряный язык будет звучать напрасно перед моей суровой немецкой конницей, – с хриплым смехом возразил Оливеротто. – Ну, а что ты скажешь насчет золотого? – подхватил Паоло. – Папа хотя и стонет, что должен истратить приданое своей дочери, однако со страху сыплет деньгами обеими руками. Цезарь заранее предвидел нашу отговорку и потому соглашается, чтобы мы расквартировали своих солдат по ближайшим городам и замкам, а сами остались в лагере с одними нашими наемниками. – Я полагаю, что у него не наберется при себе в Фано и трехсот копий,тогда как я занял полгорода целою тысячью, – сказал Оливеротто. – Должно быть, страх, который мы на него нагнали, отшиб у него разум. – Нет, я не полезу в яму, которая так гладка и открыта, и оттуда так заманчиво несет трупным запахом, – решительно возразил Вителлоццо. – По-моему, мнимое намерение Цезаря уничтожить всякий повод к зависти и раздору между нами есть не что иное, как лакомая приманка. Нет, клянусь честным крестом, я не дамся ему в когти! – Ну, Паоло, будем откровенны с ними, – порывисто сказал герцог Гравина. – Синьоры, что может быть для нас опаснее этого союза Борджиа с Феррарой? Да и для Цезаря будет гибелью, если папа вздумает сделать имя детей своей дочери знаменитейшим в Италии. Кому не известно, что Урбино и Феррара соприкасаются на горах! Но пусть папа справляет великолепное бракосочетание своей Лукреции с Альфонсо Феррарским. Мы соберемся тоже на него, и что может вам помешать тогда – конечно, в согласии с Цезарем, – посадить его на трон? Ведь этот трон станет для него обузою на всю жизнь, лишить его навсегда благоволения Франции и папы, и поставить в полную зависимость от нас! Я не утверждаю, что Цезарь питает именно такое намерение. Но, что, если это именно так? При всем желании достичь своей цели, Паоло Орсини почувствовал зловещее волнение в душе, хотя отец высказал лишь мысли, внушенные им же самим, и, прерывая наступившее молчание, сказал: – Но о чем же мы беспокоимся? Ведь мы получим от Цезаря чрезвычайно важный залог его искренности. Дело в том, что Лукреция как помолвленная невеста, должна проезжать по владениям герцога Романьи, и Цезарь поклялся мне, что не потребует от нас ни малейшей помощи в ратном деле, пока не отдаст мне своими руками Лукреции, как невесту, давно обещанную нам его вероломным отцом. Все члены совещания оживленно заговорили. Многие оспаривали предложение Орсини, но в конце концов он убедил союзных дворян разрешить Цезарю желаемое свидание. Упоенный своею победой Паоло призвал посланного Реджинальда и велел ему передать своему господину, что враги предоставляют ему вручить на следующий день ключи города герцогу Романьи. – Да скажите доброму рыцарю, – угрюмо прибавил Вителлоццо, – что я предлагаю ему побрататься со мною и похлопочу о верном исполнении его условия, если останусь до тех пор жив. (обратно)ГЛАВА XIII
Заключение мира и уход французов удивили Макиавелли, а затем он был крайне озабочен слухом, что Цезарь хочет присоединиться к войску союзников в Синигалии. Наконец, его тревога еще усилилась тем, что герцог, против обыкновения, отказывал ему в аудиенции до утра следующего дня, причем назначил ему прием перед самым своим отъездом в Синигалию. Макиавелли явился к нему на рассвете и был введен в маленькую комнату, где Цезарь находился в обществе Мигуэлото и некоторых важнейших офицеров. – Доброго утра, мессир Никколо Макиавелли, – со смехом приветствовал его Цезарь. – Простите, что я побеспокоил вас еще до петухов. Позавтракайте у меня. Но разве кто-нибудь сказал вам о путешествии, что вы нарядились в дорожный костюм? – Если вы должны попасть в руки Орсини, то посланнику Флорентийской республики нечего у вас делать, – ответил Макиавелли. – Неужели ты боишься медведя в наморднике, Никколо? – в раздумье спросил Цезарь. – Э, полно!.. Как ни силен и ни увертлив Паоло Орсини, однако, он сделается таким же безобидным, как этот укрощенный зверь, между двумя силачами Савелли, у которых его дядя отнял ленное владение на Тибре. Бычок Вителлоццо буен, но при нем есть люди, которые удержат его на крепком недоуздке. – Да какой же в этом прок, раз они окружены войском, которое им легко созвать в один час? – возразил Макиавелли. – Между жизнью и смертью нет и минуты, Никколо, – мрачно заметил Борджиа. – В один час? Да, этого срока было бы достаточно для уничтожения всего человеческого рода, если бы мы имели к тому средства, как я имею их, чтобы поразить своих противников. Думаю, тебе известны правила, следуя которым я душу людей в раздражении или наношу внезапный удар и истребляю своих врагов без остатка, вместо того, чтобы обрубать им ветви. Тебе ли удивляться, если сегодня я навсегда избавлюсь от помех своему величию, как избавилась ваша республика от своих смертельных врагов, и отниму от своих противников в Риме их единственный противовес против меня, принудив их ради собственной защиты и спасения отхлебнуть из кубка кровавой мести? Макиавелли бросил боязливый взор на своего страшного воспитанника, но он был политик, лучше всех других посвященный в правила итальянской государственной хитрости, да к тому же патриот и республиканец, не могущий забыть набеги Орсини и Вителли на Тоскану и их намерения восстановить блестящую тиранию Медичи, а потому, овладев собою, он произнес: – Флоренция, разумеется, зажжет торжественную иллюминацию, когда услышит подобные вести вместо удручающих, которых ожидали от меня. Позвольте мне оставаться в вашей свите, чтобы я мог сообщить во Флоренцию столь приятные новости. Однако, сознаюсь, мне не понятно, как можете вы помышлять об уничтожении своих врагов, когда они окружают вас своим победоносным войском? – Слушайте, мессир Никколо: что бы ни случилось, я должен идти вперед, я не могу и не хочу отступать! Сегодня все будет приобретено или все потеряно, и я ни за что на свете не хочу расставаться со своею надеждою. Осуши же со мною бокал, пока солнце не успело еще взойти над нашими головами! Сумрак еще не рассеялся, когда герцог и Макиавелли с восемью офицерами и слабым прикрытием из отряда всадников выехали в Фано. Одно из опасений флорентийца рассеялось, когда он увидал выстроенное на берегу реки Метавро войско Цезаря, собранное им втайне из захваченных крепостей. Переправа через реку была произведена немедленно. Остальная часть пути пролегала по унылой местности, вдоль морского берега, по пустынным песчаным холмам у подножия горного хребта. Беспрерывный шум моря подействовал оживляющим образом на душевное настроение Цезаря, и он даже часто кидался на лошади в пенящуюся воду, как будто бушеванье пенящихся волн доставляло ему огромное удовольствие. Наконец, Цезарь прибыл в Синигалию. Между ним и союзниками состоялся договор, по которому дворяне обязались передать город ему и его свите, и свои собственные военные силы расквартировать по окрестным деревням. Однако, Оливеротто да Фермо, чтобы предохранить себя от всякой опасности, занял предместье, лежавшее по дороге в Фано и отдаленное от городских валов рекою, через которую вел узкий мост. Когда авангард войск Цезаря подъехал к этому мосту, он внезапно остановился, как будто хотел вступить в город, сделал поворот и разомкнул свои ряды. Тем временем союзные дворяне усаживались на коней, чтобы приветствовать гостя. Веселость Паоло бросалась в глаза. Он явился в великолепном вооружении с белым султаном. Вителлоццо, напротив, снова приуныл. Его костюм был поразительно небрежен, он был без доспехов, а его голову покрывала лишь зеленая бархатная шапочка. Заметив спешивших к городу многочисленных копьеносцев, лица и вооружение которых были ему чужды, он упорно отказался следовать дальше, если Оливеротто со своими немецкими ландскнехтами не останется в предместье Борго ради предохранения от всякой измены. Напрасно старался Паоло убедить его, что большой отряд двигался вполне мирно, а это должно было бы опровергнуть всякую мысль о каком-либо злом умысле. Вителлоццо стоял на своем. Оливеротто, его воспитанник и горячий приверженец, принял его сторону, и, наконец, было решено оставить его в Борго. С небольшим конным отрядом герцог Гравина с Вителлоццо и Паоло поехал дальше. Когда они переехали реку и Цезарь уже приближался к ним. Вителлоццо задрожал всем телом, как в лихорадке, и его лицо покрылось мертвенной бледностью. Паоло, тревожно наблюдавший за ним, сказал улыбаясь: – Вы дрожите, Вителлоццо, потому что на вас нет доспехов. Я видел вас во многих сражениях, но никогда не замечал, чтобы вы дрожали. – У меня на душе точь-в-точь так, как было у моего брата Паоло в тот день, когда мы возвращались во Флоренцию, где неблагодарные злодеи убили его, – чуть слышно ответил Вителлоццо. – Тем не менее, клянусь всеми святыми, я охотнее пошел бы навстречу целому городу Флоренции и его женщинам с их острыми ногтями, чем Цезарю Борджиа. – Это – пустая тревога, Вителлоццо! Знаешь ли, сегодня мне немного грустно, а между тем, я точно несусь на крыльях со своим конем, – возразил Паоло и заставил свою лошадь сделать высокий прыжок. Цезарь, увидавший в тот момент подъезжающих всадников, сказал в свою очередь Макиавелли: – Ну, Никколо, кажется ты улавливаешь на лицах этих людей тень вечного мрака, на грани которого они стоят? Клянусь небом, твое лицо имеет свинцовый цвет моря, по берегу которого мы проезжали. Макиавелли улыбался, но его сердце сильно билось. Цезарь радостно махнул рукою, когда полководцы приблизились, и пришпорил своего коня. – Я снова счастлив, мои паладины возвращаются! – воскликнул он и обнял Паоло, ехавшего впереди, после чего приветствовал обоих, старших воинов с большою почтительностью, и необычайно сердечно. – Сиятельный Гравина, которого я вправе называть своим отцом, потому что он – отец Паоло... Вителлоццо... о, мне так не доставало твоей высокой фигуры в моем боевом строю! Но где же храбрый Оливеротто? – Он собирает нашу маленькую свиту, чтобы приветствовать вас, – поспешно ответил Вителлоццо. – Хорошо, – сказал Борджиа, и его взор обратился на Мигуэлото, который понимал взгляды не хуже слов. Цезарь спокойно ехал дальше, не переставая рассыпаться в любезностях перед полководцами, пока Мигуэлото, по его расчету, успел исполнить намерение своего повелителя. Тогда он прикинулся сильно утомленным и попросил своих хозяев, как он их называл, проводить его в отведенную ему комнату. Тем временем Мигуэлото поехал на площадь предместья, где Оливеротто выстраивал своих солдат, и заявил: – Я послан просить вас о том, чтобы вы отослали своих солдат по их палаткам. Герцог опасается, как бы его люди – народ грубый и неотесанный – не напали на них, видя их праздными, а это могло бы повлечь за собою внезапное и опасное восстание. Поэтому я прошу отправить немцев на место их стоянки, и пожаловать со мною к герцогу, который поклялся мне, что ему не достает только вас в такую радостную минуту. Эта льстивая речь и мирное прибытие Цезаря заставили Оливеротто немедленно исполнить желание герцога и он весело поскакал к нему. Навстречу ему выехал дон Уго и между ним и Мигуэлото Оливеротто продолжал свой путь. Вскоре показался Цезарь. Он ехал, разговаривая с Паоло. За ним следовал герцог Гравина, беседовавший с епископом д'Энной и дворецким герцога Романьи. Вителлоццо замыкал кортеж в сопровождении двоих здоровенных швейцарцев. Швейцарцы кидали на него внимательные взоры, но Вителлоццо не обращал на них внимания, так как обдумывал свое решение остаться в Синигалии, очутившись среди солдат Оливеротто. Поэтому, можно будет представить себе, насколько усилились его опасения, когда он увидал, что предместье Борго совершенно покинуто ими, а Оливеротто слез с коня, чтобы приветствовать герцога. – О, ты снял свой траур? – с улыбкой сказал Цезарь, заметив нарядную одежду да Ферма. – Это – старое платье, то самое, в котором я был на банкете, когда вспыхнуло восстание, повлекшее за собою смерть моего несчастного дяди. Но с той поры прошел уже целый год, – в некотором замешательстве ответил Оливеротто. – Очень рад, очень рад, что у вас есть теперь друг в раю, который будет там вашим заступником. Я слышал, что он был предобрый старик, – сказал со странным ударением Цезарь. – Поезжайте, однако, впереди, сегодня вечером вы должны все отужинать у меня. – Прошу прощения, – возразил Вителлоццо. – Меня как-то странно знобит. Должно быть, оттого, что сегодня я в первый раз после долгого времени выехал без доспехов. – Но я прошу вас всех проводить меня на мою квартиру. Мне хочется посоветоваться с вами о том, как нам поступить с молодым отчаянным малым, который осмелился отнять у меня Сан-Лео. С этими словами он поскакал дальше и почти не слушал, что говорил Вителлоццо, пока не настиг арьергарда обреченных на гибель воинов, въезжавших в ворота Синигалии. – Я дал слово, Вителлоццо, – сказал тогда Цезарь, – это правда, и, если вы сдержите свое, то я последую вашему примеру. Но где же Фабио? – Мы не можем отучить его от книг, но я готов биться об заклад, что он представляет, будто изучает немецкий строй у солдат Оливеротто, – угрюмо ответил герцог Гравина. – Монахи сбили меня с толка, уговорив сделать из него ученого. Теперь, будь у меня хоть сотня внуков, ни один из них не станет долбить латынь. – Моя сестра – ученая особа, – с луковой улыбкой заметил Цезарь. – Она не допустит, чтобы вы исполнили свое намерение. Но что скажете вы насчет того англичанина, Оливеротто? – Да, по-моему, ему место вот на зубцах той башни, – ответил да Фермо и показал на замок, зубчатые стены которого возвышались над дворцом, отведенным для жилья Цезарю. – В самом деле, его предательство по отношению к моему сыну не заслуживает ничего лучшего, – сказал герцог Гравина. – Измена за измену! – серьезным тоном подтвердил Цезарь. – Значит, вот то мрачное здание должно служить мне жилищем? Ну, так как вы все, кажется, утомлены, то выпьем только за прочность любви и доверия между нами из одной кружки, а потом простимся до утра. – Прошу прощения, но я боюсь распри между солдатами, а потому хотел бы отправиться к ним, чтобы понаблюдать за порядком, – сказал Вителлоццо, хотя приглашение выпить из одной чаши устраняло всякую боязнь отравы. – Я смотрю на себя просто как на вашего гостя в Синигалии, – довольно решительным тоном возразил Борджиа. – Если вы не хотите приветствовать меня в моем временном жилище, то я провожу вас в ваше, чтобы уличные зеваки не сказали, что мы расстались холодно. Вителлоццо осмотрелся, увидал целый лес копий между собою и предместьем Борго и с тяжелым вздохом последовал за остальными, которые сошли с коней, чтобы ввести герцога Романьи в его комнаты. Когда они вступили в комнаты, он с удрученным видом замешкался на пороге и, поспешно подойдя к Макиавелли, произнес: – Мессир Никколо, я очень рад видеть вас здесь. Прошу покорно, отужинайте сегодня вечером с нами, и я надеюсь, что тогда у вас рассеется всякое подозрение насчет наших намерений. – Боже меня сохрани разделить сегодня вечером с вами трапезу! – возразил Макиавелли, испугавшись собственной мысли, мелькнувшей при этом приглашении, скорее похожем на требование. Пока он говорил таким образом, они вошли в большую мрачную комнату с железными решетками на окнах. У Вителлоццо немножко отлегло от сердца, когда он увидал, что тут не было никого, кроме Зейда, который уставился на вошедших огромными противными глазами с удивительно кровожадным выражением. – Вина! Вина! – воскликнул Цезарь. К нему проворно подлетел негр с золотым кубком и большою хрустальной бутылкой и подал их герцогу, опустившись на колени. – Как это вышло, что ты являешься моим виночерпием? – спросил Борджиа, наполняя кубок до краев, и, посмотрев на группу, почтительно окружившую его. – Мы выпьем за здоровье друг друга, – продолжал он, причем послушные исполнители его воли следили за ним нетерпеливым взором охотничьих собак в своре. В этот момент он заметил, что Вителлоццо вздрогнул, причем его взгляд был устремлен на носок сапога, торчавшего из-под стенного ковра. Нельзя было терять ни минуты, а потому, подняв кубок, Цезарь крикнул: «Смерть всем изменникам!» – и подбросил кубок кверху. В тот же миг каждый из полководцев почувствовал, что его оружие схвачено с обеих сторон, а когда кубок, упав на пол, разбился, ковер был сорван со стены спрятанными за ним вооруженными людьми, и не успел никто пикнуть, как вся группа была окружена копьями наперевес. – Да, смерть всем изменникам, а тем более, таким низким, как вы! – воскликнул Цезарь, хохоча в безумном ликовании над испугом своих гостей. – Ведь я говорил тебе, Паоло! – промолвил Вителлоццо со спокойствием смертельно раненого животного. – Нет, этого не может быть! Это невозможно! Цезарь не в состоянии осуществить без нашей помощи ни одного из своих планов. – Тогда Цезарь навеки сделался бы вашим рабом! Но – увы! он должен приступить к делу без вас и не теряя времени, – возразил герцог с насмешливой свирепостью. – Нет, Вителлоццо, не оглядывайтесь назад: там вы не увидите никого, кроме своего палача. – Убедительно прошу вас, вспомните, что все, чем я провинился перед вами, сделано мною из благодарности за множество великих милостей, оказанных мне Вителлоццо, – сказал Оливеротто и со страхом перевел взор со своего повелителя на своего неумолимого стража. – Негодяй! А какую благодарность выказал ты своему старому дяде, когда размозжил ему голову на пиру, который он давал в твою честь? – возразил Цезарь. – Взгляни, ты еще не износил башмаков, которыми топтал седые волосы почтенного старца, и тебе суждено умереть в них. Отведите его на молитву, пока я расправлюсь с мятежными рабами, которые оказывают им поддержку. – Но выслушай меня!.. Только одно слово, Цезарь Борджиа! – в отчаянии взмолился Паоло. – Да, ты должен выслушать меня! К какой позорной смерти ни приговорил бы ты меня, пощади только моего отца и младшего брата, попавших из-за моего безумия в эту переделку, в эту страшную беду. Пощади их, и я стану молиться о прощении тебя перед престолом Судии, к которому ты хочешь послать меня. – Было бы действительно делом великой мудрости обрубить сучья и оставить ствол, – насмешливо возразил Цезарь. – Между вами нет ни одного – старого или молодого – кто не был бы отвратительным изменником, угнетателем, опустошителем и убийцей, достойным лютой смерти. – Тогда да постигнет тебя мое проклятие на вершине твоих сбывшихся надежд и твоего могущества, и пусть тяготеет оно над тобою тяжелее крови твоего брата и поразит тебя хуже Каина, твоего первообраза! – в ярости воскликнул Паоло Орсини, порываясь кинуться на своих предателей, но Савелли крепко держал его. – Я спокойно спал под грузом целой горы проклятий, которыми осыпали меня Колонна, и не думаю, чтобы проклятия рода Орсини вернее достигли неба, – возразил Цезарь, после чего повелительно повторил: – прочь их отсюда! – Исполните только одну мою просьбу, которая касается моей души, а не тела, – робко взмолился Вителлоццо. – Его святейшеству было угодно отлучить меня от церкви. Обещайте, Цезарь, испросить мне от него прощение и отпущение хотя бы в загробном мире. – Клянусь Пресвятой Богородицей, я сомневаюсь, простит ли он тебя, даже если ты будешь там. Ведь это ты болтал о том, чтобы лишить его папского пурпура и сжечь живым под предлогом, который оставляет тебе мало надежды на заступничество Лукреции, – ответил Цезарь, и крикнул еще раз грозным голосом: – увести их прочь! Каждому из преданных и обреченных на гибель людей было строго приказано их стражей идти вперед. Паоло сделал машинально несколько шагов и посмотрел с разрывавшим сердце выражением лица на своего отца. Старый герцог стоял все время, словно окаменевший от страшной неожиданности, но взор сына заставил его опомниться и вернул ему врожденную гордость и злобу. – Адский Борджиа, священник-расстрига! Смеешь ли ты помышлять о пролитии крови Орсини и Вителли? – воскликнул он, дрожа больше от бешенства и невозможности ничего изменить, чем от страха. – Вспомни, негодяй, рожденный вне брака изменник, что за каждую каплю моей крови восстанет мститель, который прольет до последней капли всю свою кровь, чтобы отомстить за предательство, подобного которому не бывало с сотворения мира. – Старик, ты – мастер грозить, но я должен добраться и до Фабио, – спокойно возразил Цезарь. – А чтобы ты был доволен, я не пролью ни капельки вашей благороднейшей и вполне законной крови, но прикажу удавить вас, как заурядных воров, грабителей и опустошителей, каковыми вы всегда были и остались до сих пор. Яростные возгласы старого герцога и подлые мольбы Оливеротто вскоре замолкли, потому что осужденных поспешно увели прочь. Но страшное молчание и взор, кинутый Паоло Орсини на изменника Цезаря Борджиа, когда он покидал комнату со своим стражем, долго нарушали одинокое раздумье Макиавелли. – Вот мщение, которому я, как обещал тебе в Имоле, задумал подвергнуть врагов твоих повелителей, – сказал Борджиа своему бывшему наставнику, хохоча в избытке своего торжества. – В Риме у меня собственные враги. Они с содроганием услышат об этих событиях и запляшут теперь под мою дудку. А теперь, если у тебя хватит духа видеть применение в жизнь твоих уроков, то пойдем посмотрим, как будут уничтожены эти варвары в Борго. Во время описанных происшествий и городе Синигалии Реджинальд был занят приготовлениями к очистке крепости, но ответ на его предложение сдаться растерзал ему сердце. Он надеялся, что его раскаяние и старания в пользу союзников должны были смягчить Паоло Орсини. Однако, бегство было невозможно для него, а потому он был бы вынужден настаивать на своих прежних условиях. Его беспокойство усиливалось при мысли, что он унизился перед своим заносчивым врагом, герцогом Романьи, и что ему нельзя рассчитывать на свою безопасность. С зубцов своей башни он видел прибытие Цезаря с дворянами, а когда они скрылись во дворце, продолжил свои сборы к выступлению, которого, как ему казалось, от него должны вскоре потребовать. Поэтому Реджинальд не заметил, как Цезарь немного спустя снова показался из дворца, сел на коня и со всем своим конвоем поскакал в предместье Борго. Немецкие солдаты Оливеротто были захвачены врасплох, а потому, не будучи в силах оказать значительное сопротивление, были почти все перебиты. Тем временем войско, назначенное действовать против Синигалии, выступило под предводительством Мигуэлото для нападения на прочие места стоянок союзных дворян, а воины Цезаря, оставшиеся в городе, принялись за грабеж, считая себя в праве поживиться добычей по примеру своих собратий в предместье. Лебофор снова поднялся на зубцы, заслышав шум в городе, и подумал, что дело дошло по стычек между горожанами и победителями. Это предположение подтвердилось, когда Цезарь, наконец, снова появился среди поднявшейся сумятицы и в своей ярости собственноручно положил на месте несколько грабителей. Наступила ночь, и шум как будто затих, но вдруг Реджинальд был извещен герольдом, что герцог Романьи ожидает получения ключей. Рыцарь не счел нужным передать ключи в золотой чаше, данной ему с этой целью повелительницей Синигалии, но просто положил их и свой шлем и поехал в замок в сопровождении лишь одного стрелка. Впрочем, Лебофор предварительно дал Бэмптону приказ не сдавать крепости, пока сам он не вернется назад. Реджинальд ожидал, что враги встретят его насмешками за веселым пиром, и был удивлен, когда его ввели в пустую комнату, где только что произошло предательское нападение на трех вождей дворян. Цезарь беспокойно прохаживался взад и вперед. – Добро пожаловать, Роланд... добро пожаловать, Ланселот или, скорее, все рыцари Круглого Стола, соединенные в одном лице! – воскликнул он и схватил руку Реджинальда в железной перчатке. – Я – ни тот, ни другой, а комендант Синигалии и принес вам, нам уполномоченному церкви, ключи от крепости, потому что не могу долее сопротивляться вашему оружию, – холодно возразил Лебофор и поднес Цезарю свой шлем с меньшими изъявлениями почтительности, чем можно было ожидать от побежденного. – Ну, да, и он должен поучиться манерам в моей школе! – сказал Цезарь вслух, но как будто разговаривая с самим собою. – Впрочем, твое напоминание еще не оскорбило моей шутливости. Дело в том, что я научился ценить тебя лучше, даже когда ты вредил мне, если ты захочешь сделаться моим полководцем, то подвесишь сегодня ночью к своему поясу ключи более благородного города, чем это собрание рыбачьих хижин. – Я не намерен служить господину, стоящему ниже королевского величества, – гордо возразил Реджинальд. – Вот именно это и было у меня на уме. Ты должен служить более высокому повелителю – императору, римскому императору, ответил Борджиа, кинув сверкающий взор на удивленного воина, – да, императору, который должен взойти на трон с помощью таких испытанных и усердных мечей, как твой, и который вознаградит по заслугам всех, потому что он обязан всем. – Римский император? Как, разве Максимилиан и немецкие гибеллины призваны в Италию? – спросил крайне изумленный Лебофор. – Можешь ли ты так бредить? Взгляни на мою секиру, которою я лихо крошил сейчас толстые черепа немецких наемников Оливеротто, – ответил Цезарь, поднимая окровавленное оружие, на которое он опирался. – Я видел, как от вас понесли заслуженную кару несколько грабителей. Но какой же может быть император, если только не римский король явится в Рим требовать себе императорской короны? – спросил Лебофор, в душе которого шевельнулось подозрение. – Ах, ты не хочешь поверить в другого императора, кроме того, который носит на голове корону? – презрительным тоном ответил Борджиа. – Ну, я должен поговорить с тобой ясно. Грабители, павшие от моей руки, принадлежали к моему собственному войску, но из немецких ландскнехтов Оливеротто лишь немногие избегли своей участи. Однако, ты говоришь, что императорская корона находится в Риме, и вот туда-то отправляется за нею император, имя, а, может быть, и деяния которого обещают сделаться отголоском первого Цезаря. Реджинальд некоторое время молчал, пораженный огромностью честолюбия Цезаря Борджиа, но затем заговорил с явным недоверием: – Вы опять подшучиваете над моею недогадливостью северянина. Хотя его святейшество сильно любит вас, но какой папа потерпит в Риме императора? – А если перевернуть вопрос так: «Какой император потерпит папу»? – спокойно возразил Цезарь. – Я же думаю, что так может выйти, когда я вступлю со своими могучими и победоносными итальянскими легионами в Рим, что должно случиться через месяц. – Чтобы низложить с престола папу? Нет, нет! Только проклятый турок и язычник могут замышлять что-нибудь подобное! – воскликнул Реджинальд. – Ах, суеверный северянин! Но, действительно, дело касается папы Александра, отца моего, Лукреции и твоего, если ты захочешь и посмеешь, – пылко ответил Борджиа. – Но я говорю не о низложении, а только о занятии вновь императорского трона, который так долго присваивали себе священники. Пусть они облекутся опять в свое прежнее смирение и святость, от которых у них уже столько веков оставалось одно звание. – Но что скажут Орсини, Вителли и прочие ваши союзники? Предпочтут ли они сильное господство солдата слабому правлению священника? – спросил еще более изумленный Лебофор. – Я надеюсь, по крайней мере, на их молчаливое согласие! Или ты забыл, что Паоло любит Лукрецию и готов предать опустошению весь мир, лишь бы вырвать ее из объятий ее возлюбленного Альфонсо? – А разве вы дали свое согласие? – воскликнул Реджинальд, бледнея, что не укрылось от внимания герцога. – Я поклялся Паоло задержать Лукрецию на ее пути через Романью к своему обрученному жениху, к которому она уже отправилась. Она обещана мною Паоло в виде награды и залога его помощи в моем предприятии. – О, если так, то, клянусь, я не стану помогать вам, но скорее готов сражаться до смерти с вами, с Орсини и со всеми вашими вероломными союзниками! – воскликнул Лебофор. – Ты ведешь опасную для себя речь, – спокойно, даже с оттенком удовольствия сказал Цезарь. – Разве ты не знаешь, что я хитер в своем могуществе и слишком много доверил бы тебе, если бы ты не был вполне в моей власти? – Орсини, Вителли и даже неистовый Оливеротто обещали исполнить мои условия, – возразил Реджинальд, несколько встревоженный намеком Цезаря. – А я – нет, – серьезно произнес герцог. – Вителли не изъявляют больше готовности помочь тебе, тогда как Орсини и Оливеротто, по-моему, замыслили нарушить ваш договор, отняв у тебя жизнь. – Вероломные! Дайте мне отомстить им умирая, и позвольте вызвать их всех на поединок, чтобы я хотя бы мог пасть от их руки! – с яростью воскликнул Реджинальд. – Да, ты будешь отомщен совершенно по своему свирепому желанию, но двое из твоих противников вскоре сделаются недоступными тебе, очутившись, как я надеюсь, в лучшем месте, чем наша жалкая земля, – весело сказал Цезарь. – Прислушайся: как будто слышится молитва отходящей христианской души? В смежной комнате внезапно раздались крики, топот и суетливая возня, после чего как-то разом наступило глубокое молчание. – Убийца Оливеротто отправился на тот свет, навстречу своему старому дяде, – спокойно объявил герцог. – В моих действиях правосудие идет рука об руку с политикой. Вот теперь кто-то с грехом пополам бормочет «Отче наш». Не знаком ли тебе этот голос? – Вителлоццо! – воскликнул Реджинальд. – Молчи, не то ведь он подумает, что его зовет злой дух, потому что этот мерзавец подпал под церковное отлучение. Снова наступила ужасная тишина. Потом дверь приоткрылась, и оттуда высунулась отвратительная голова негра, который кивнул герцогу и тотчас скрылся. – Мир их предательским душам, хотя я и не завидую ему, – промолвил Цезарь. Мужество Лебофора поколебалось. Волосы стали дыбом, а колени затряслись, когда он спросил: – Что там творится? Неужели Вителли убит? – Пойдем, посмотрим! – ответил Цезарь, после чего взял со стола лампу и поспешно пошел, чтобы отворить дверь, откуда выглядывал негр. Эта дверь вела в маленький, обсаженный высокими деревьями двор, где возился Зейд, а Мигуэлото раздевал труп. Свет лампы упал на страшно искаженные черты человека, на шее которого был особенным образом скручен платок – орудие убийства. Невдалеке валялось другое мертвое тело, наполовину засунутое в мешок, что не мешало с первого взгляда узнать в нем великана Оливеротто. – Неужели Паоло Орсини также нет в живых? – хрипло вымолвил Реджинальд. – Я решил отложить расправу с Орсини до тех пор, пока получу известие из Рима о поимке всего их отродья, включая и Фабио Орсини, который, к несчастью, замечтался над своим Петраркой, – мрачно ответил Борджиа. – Когда кардинал и прочие будут охвачены, я покончу с теми, которые находятся в моих руках, потому что не желаю видеть их среди живых, точно также как и ты, и не имею причины благоволить к ним. Если ты воображаешь, что я все еще веду переговоры с человеком, мечтавшим получить руку Лукреции, то пойдем со мною. Герцог пошел через двор к башне и поднялся по узкой лестнице в комнату, запертую изнутри на замок и охраняемую снаружи солдатами. Он постучал и вошел, когда ему отворили. Лебофор машинально следовал за ним. Первое, что бросилось здесь ему в глаза, был Паоло Орсини, сидевший в цепях, устремив взор на лампу, которая за неимением стола была поставлена прямо на пол и отбрасывала мрачные тени наверх, на его бледное лицо. – Это – палач, – сказал Паоло Орсини, не оглядываясь назад. – Так следовало бы по-настоящему, но это – комендант Синигалии, явившийся с ключами, – весело возразил Цезарь, и Паоло обернувшись, увидел своего бывшего друга. – Ты желал, чтобы он погиб от моей руки. Желаешь ли ты теперь, чтобы он простился с жизнью, или поменялся с тобой участью? – Какой участью должен он поменяться со мною? – со странной поспешностью спросил Паоло, хватаясь за последнюю надежду. – Вот видишь, Реджинальд, как охотно предоставляет он тебя твоей судьбе! – продолжал герцог. – Но я говорю не о той участи, которая постигла сейчас сообщников твоей измены, а о другой, которую назначил ты себе сам в Фаэнце, мечтая о несравненных прелестях Лукреции и не думая о ее ненависти и отвращении, которых нечего особенно бояться этому красавцу-рыцарю. – О, изменник! Лютый зверь в человеческом образе! – яростно завопил Орсини. – Я не обращаю внимания на твои дьявольские глаза и хочу сказать тебе, англичанин, что он влечет тебя на погибель этой приманкой, которая завлекла меня сюда. О, я, глупец, непроходимый дурак! В Фаэнце он хотел поймать Лукрецию и не допустить ее до брака с Альфонсо. – А где найду я более смелое сердце для исполнения этого замысла, чем то, которое бьется в груди Реджинальда? – спокойно ответил Цезарь. – Знаменитый воин, с сильными связями в Англии, откуда я могу привлечь к себе храбрые мечи, не родня могущественным мятежникам Эсте или Орсини, не совсем безразличный для Лукреции – я высказываю мысль, давно засевшую у меня в голове, – он из всех ухаживателей, которых имеет или имела Лукреция, был наименее опасным, а для меня наиболее желанным. Клянусь небесами, если он согласится, я немедленно назначу его начальником Фаэнцы! – Говори же, Реджинальд, в силах ли ты устоять против такой соблазнительной приманки? – с хриплым смехом спросил Паоло. – Да, рыцарь Лебофор, ты должен узнать, что я так же нуждаюсь в тебе, как ты можешь нуждаться во мне, – сказал Борджиа, кидая взгляд смертельной ненависти на свою скованную жертву. – Лукреция не должна прибыть в Феррару, а между тем, пока Рим еще не очутился в моей власти, я не могу задержать ее в Фаэнце. Твоя любовь к ней, Лебофор, известна, и многие полагают, что Лукреция неравнодушна к тебе. В Риме я могу свалить всю беду на твое наглое упорство, а свету и Альфонсо Феррарскому поведаю такие вещи, которые должны задеть его чувство даже к такой красавице-невесте, как Лукреция. Твоя храбрость и кое-какие оскорбления, нанесенные тебе мною, послужит оправданием тому, что я доверяю тебе теперь самую важную крепость в своей стране. После всего этого было бы странно, если бы ты в блеске своей славы не добился успеха у Лукреции, потому что я буду покровительствовать твоему ухаживанию за ней, а, достигнув безусловной власти в Риме, пожалуй даже заставлю сестру принять твою руку. – Если ты хоть на миг заслушаешься голоса этой сирены, то твоя гибель неизбежна, – сказал Паоло, невольно с бешеной ревностью переведя взор с искусителя на Реджинальда. – Предоставь мне умереть даже без малейшей надежды на то, что тебя будет мучить совесть за мою гибель. Ведь это ты привел меня сюда!.. Если бы ты хотя бы намекнул мне на герцога Феррарского, то я приучил бы свою душу к отчаянию и благополучно избег бы всех ловушек коварного Борджиа. Что я тебе сделал, что ты хочешь пролить кровь своего друга и охранять своего соперника и врага от всякого вреда? Реджинальд Лебофор был глубоко растроган этими речами, однако чувствовал необходимость лицемерить и ответил Цезарю с притворным видом радостного смущения: – Если бы я мог считать обещаемое тобою счастье не пустой мечтою, то я в самом деле стал бы твоим рабом навек. – Теперь ты – начальник Фаэнцы и сделаешься ее государем в тот день, когда Рим увидит меня коронованным императором, – сказал Цезарь. Упоенный своим триумфом над самыми тонкими политиками Италии и знакомый с всесильной страстью, влияние которой на Реджинальда было испытано им, Цезарь не мог сомневаться в успехе своей хитрости. Однако, большую часть следующей ночи он употребил на то, чтобы вызывать в воображении Лебофора самые блестящие картины честолюбия и любви, а также сообщить ему кое-какие сведения о своих чудовищных планах. Он с притворной искренностью уверял рыцаря, что главнейшим препятствием его намерению достичь нераздельной власти в Риме послужил бы союз папы с могущественным домом Эсте, и помешать ему было бы для него столь важно, что успех сватовства его, Реджинальда, к Лукреции он счел бы вернейшим признаком своей собственной победы. Он обещал Лебофору всевозможное содействие и старался разжечь в нем самые пылкие страсти, представляя ему ожидающий его громадный триумф, когда он отобьет у своего гордого соперника прелестную невесту даже с ее собственного согласия. – Лукреция, – сказал Цезарь, – вероятно, уже убедилась, что ошибочно приняла робость и обидчивость, вызванные в ней наглым обращением иоаннита, за любовь, которую в действительности заронила в ее сердце твоя родственная ей натура, и в этом она, конечно, успела удостовериться в настоящее время. Волнения, которые неминуемо вызовет в Риме весть об уничтожении мятежников, – прибавил Цезарь, – должны вызвать обратно меня туда. Когда же мне удастся овладеть городом и громадными сокровищами, накопленными папой, то уже в моей власти будет принят в зятья человек, пришедшейся по сердцу мне и Лукреции. Когда лукавый герцог отпустил от себя молодого рыцаря, он был вполне уверен, что рассеял все его недоверие и сделал из него поспешное и необходимое орудие своей отважной политики. (обратно)ГЛАВА XIV
На другой день Реджинальд был уже на пути в Фаэнцу, в сопровождении собственных стрелков. Однако, Пиетро д'Овиедо и хитрый епископ д'Энна, также ехали возле него с многочисленным отрядом солдат, состоявших на службе Цезаря. Эти люди и гарнизон Фаэнцы составляли внушительную военную силу, вполне достаточную для того, чтобы не выпустить из рук ожидаемой добычи. Борджиа не особенно полагался на верность своего нового приверженца, и обставил дело так, что Реджинальду было немыслимо убежать или уклониться от исполнения предначертаний Цезаря. По прибытии в Фаэнцу ему отвели помещение в старинном замке под бдительным надзором прелата д'Энна, он был окружен солдатами Овиедо и не имел возможности открыть свое положение даже старику Бэмптону. Устроив эту часть своего замысла, Цезарь пустил в ход все рычаги и колеса, бывшие у него давно наготове. Мигуэлото покинул Синигалию и отправился в Рим под предлогом доставить туда известие о поражении Орсини, на самом же деле с целью осуществлять замыслы Цезаря. Между прочим, он был обязан, сообщая о беспокойном состоянии страны, покрытой рассеянными, но не подавленными приверженцами Орсини, тормозить отъезд Лукреции до тех пор, пока план задержки ее в Фаэнце станет исполнимым. Получив донесение Цезаря, папа немедленно велел арестовать всех членов дома Орсини, находившихся в Риме, и завладел всеми их укрепленными замками, предварительно разграбив их. Он объявил весь их род лишенным имущества и прав, и приказал опустошить их владения. Однако, возвращение Фабио и необычайная храбрость, проявленная им, внезапно воскресили мужество и решительность приверженцев их рода. Сам Цезарь был удивлен победоносными успехами юноши и, казалось, отложил принятые им решения, потому что щадил жизнь своих пленников или скорее, откладывал смерть Паоло и его отца, герцога Гравины. Он повсюду таскал их за собою в цепях, тогда как папа ограничился тем, что заточил свои жертвы в замок Святого Ангела, где доставлял им всевозможные льготы и даже публично заявил, что не посягнет на их жизнь. Тем временем Цезарь не терял ни минуты для осуществления своих планов. Он пока соблюдал заключенный им договор с Болоньей, и только принудил повелителей города доставить ему выговоренное подкрепление, составлявшее значительную военную силу. В области Виены, где он также воевал, до него дошла весть о победах Орсини, которые овладели всей Компаньей и угрожали даже Риму. Тогда Цезарь поспешил к Вечному городу и тем помешал отчаянной попытке Фабио, замышлявшего захватить в плен папу с Лукрецией, чтобы держать их заложниками для обеспечения безопасности своих отца и брата. Это возбудило сильнейший гнев папы, и когда Орсини после нескольких кровопролитных сражений были изгнаны превосходящими силами Цезаря из Неаполя и вынуждены были искать убежища в своих укрепленных замках, он дал приказ осадить Браччиано, где нашел себе приют Фабио. Политика Цезаря принесла ожидаемые плоды и в Неаполе, где французы после неудачных сражений с испанцами стали более зависеть от произвола папы, последний же пренебрегал теперь их просьбами и даже угрозами перейти на сторону Орсини. Весть о подавлении восстания Орсини и об отчаянном положении их юного вождя только успела дойти до Фаэнцы, как там стало известно, что Лукреция приближается к этому городу, последнему из значительных городов в области Борджиа, через которые лежал ее путь. В Фаэнце делались блестящие приготовления к ее приему, но на самом деле, они должны были послужить только средством к тому, чтобы задержать ее. Фаэнца отстоит всего на какой-нибудь день пути от Феррары, и хотя город, обнесенный крепкими стенами и защищаемый значительным гарнизоном, мог дать отпор всякому нападению, однако Цезарь желал, по возможности, убедить герцога Феррарского, что его невеста не была задержана здесь против ее воли. Кроме устройства празднеств, от участия в которых Лукреция, конечно, не могла уклониться, был пущен еще слух, что Вителли бежали в окрестности и до их изгнания оттуда проезд в Феррару представляет крайнюю опасность. В то же время были пущены в ход все ухищрения, чтобы доставлять удовольствия Лукреции с ее свитой, причем Реджинальду дали понять, что в отношении влияния на Лукрецию Цезарь рассчитывает преимущественно на него. Борьба в сердце Лебофора была бы еще сильнее, если бы, зная о недостойной страсти Цезаря, он не был уверен, что этот лицемер ни в каком случае не мог желать успеха его собственной любви. Рыцарь видел, что в Фаэнце следят за каждым его шагом и вовсе не намерены предоставлять ему настоящую власть, которая находилась фактически только в руках епископа д'Энна и Овиедо. Вдобавок, Реджинальд был уверен в любви Лукреции к своему жениху, а также в том, что союз с таким могущественным государем льстил ее гордости и честолюбию. Между тем, Лебофор считал совершенно невозможным предостеречь Лукрецию от расставленной ей западни, не рискуя при этом внезапной и бесполезной гибелью. Он мог только питать пустые надежды и строить неисполнимые планы разрушения коварных замыслов Цезаря, беспрекословно и терпеливо исполняя в то же время все предъявленные ему требования, чтобы усыпить подозрение своих врагов. Наконец, приближение поезда невесты принесло ему некоторую свободу, а поутру в тот день, когда ожидалось прибытие Лукреции, Реджинальд получил официальное назначение комендантом Фаэнцы. Однако, епископ д'Энна заявил, что для рыцаря было бы рискованно выступать публично в своем новом звании, покаЛукреция не прибудет в город, причем отсутствие начальника при встрече можно было извинить опасностью, которою угрожали здесь беглецы из партии Вителли. В жаркий летний день появились два герольда, возвестивших о приближении поезда невесты. Любопытство жителей собравшихся на рыночной площади, было немного отвлечено прибытием нового коменданта, который выехал из замка со своими английскими стрелками для приема ожидаемых гостей. Горожане были разочарованы, потому что он не поднял своего забрала, но его великолепные доспехи возбуждали всеобщее восхищение. Поезд вступил в город и продвигался по главной улице, приветствуемый оглушительными криками, звуками труб, литавр и ружейным огнем войска, выстроенного двумя рядами. Лебофор был удивлен и несколько успокоен при виде многочисленности и молодецкой выправки испанских стрелков и всадников, состоявших в охране Лукреции. Епископ д'Энна был заметно озадачен такой неожиданностью. Они открывали шествие, а за ними следовало множество хорошо вооруженных и великолепно одетых слуг, что заставило епископа еще более призадуматься. Далее ехали украшенные роскошными покрывалами повозки, нагруженные гардеробом невесты и драгоценными подарками, полученными ею от отца, а главное – ее денежным приданым из трехсот тысяч золотых. Потом показался мул с мягким сидением на спине, устланным белыми атласными подушками, под балдахином из золотой парчи. Он был предназначен для Лукреции, однако, она предпочла вступить в город на своем белом коне. Лицо красавицы было почти совершенно закрыто тонким покрывалом невесты, ниспадавшим до ног, но ее похорошевшие черты были видны под ним, а ласковая улыбка, которою молодая женщина благодарила за шумные приветствия народа, сияла подобно солнечному лучу сквозь прозрачную ткань, прикрывавшую ее лицо. Рядом с Лукрецией ехал кардинал д'Эсте, брат Альфонсо, в алом одеянии, а их сопровождало множество придворных дам, знатных дворян, рыцарей и прочая свита из Рима и Феррары. Однако, несмотря на столь многочисленную и великолепную свиту, Лукреция вздрогнула, увидав на рыночной площади внушительное войско под знаменем Цезаря. Но в этот момент возле нее очутился епископ д'Энна, чтобы принести ей приветствия и поздравления от города. Внимание Лукреции было тотчас приковано личностью коменданта, едва он приблизился к городу. Реджинальд произнес несколько слов таким тихим и невнятным голосом, что епископ д'Энна в оправдание его указал на иностранное происхождение рыцаря. – Синьор, – перебила епископа Лукреция, обращаясь к Лебофору, – я не могу ошибаться так сильно: ваш голос положительно знаком мне, а между тем, вы на службе герцога Романьи! Прошу вас, откиньте забрало, чтобы я могла удостовериться в столь волшебном превращении. Лебофор повиновался с низким поклоном. Лукреция вздрогнула при виде бледного и взволнованного лица, которое она привыкла видеть юношески цветущим, но все ее черты просияли радостью и она сказала с восторгом, больно кольнувшим в сердце Реджинальда, как упрек: – О, теперь я вполне спокойна и очень... очень счастлива! Молодая женщина протянула ему руку с такой доверчивой улыбкой, что Лебофор почти не мог преодолеть свое волнение, когда наклонился поцеловать ее. Вероятно, она почувствовала трепет его губ, потому что тотчас бросила на него взор, в котором было много ее врожденного кокетства. По прибытии в замок Лукреция сошла с коня при помощи Реджинальда, а при входе в мрачные залы взглянула на него с содроганием и попросила его оставаться при ней. Однако, она произнесла это таким тоном, что его беспокойство лишь усилилось. Должно быть, его нерешительные и мрачные ответы встревожили Лукрецию, потому что она, садясь за парадный обед, сказала низко кланявшемуся ей епископу, что намерена на следующий день продолжать свой путь. Кардинал д'Эсте, отличавшийся более остроумием, чем святостью, смеясь заметил, что не мешало бы немножко отдохнуть с дороги, прибавив, что надо обождать еще известия, все ли готово в Ферраре к приему нареченной невесты герцога. Лукреция краснея улыбнулась, и ее лицо опять повеселело. Однако, новое беспокойство овладело ею, когда она спросила Реджинальда, правда ли, что Вителли опустошают окрестности. Дон Уго предупредил его ответ и нарисовал яркую картину опустошений, чинимых мятежниками, и их планов кровавой мести. Лукреция побледнела и стала убедительно просить Лебофора посетить ее и кардинала рано поутру для обсуждения необходимых мер безопасности. Взор молодого рыцаря при его ответе на это приказание имел особенное выражение, потому что она покраснела снова, а кардинал многозначительно улыбнулся. Лукреция несколько мгновений исподтишка наблюдала за Реджинальдом, а потом задала ему вопрос, каким образом очутился он в Фаэнце. В разговор тотчас вмешался один из бдительных приспешников Цезаря, а епископ д'Энна поспешил произнести блестящий панегирик английскому рыцарю, сказав, что его несравненная храбрость заставила герцога Романьи не только простить ему поддержку, оказанную мятежникам, но и убедительно просить его поступить к нему на службу. – Подвиги рыцаря Лебофора превозносят его больше ваших слов, – ответила Лукреция, наблюдая за борьбой страстей на лице Реджинальда. – Однако, я надеюсь, что воспоминание о старой дружбе окажется сильнее всяких посулов и уверений герцога Романьи. К этому моменту Реджинальд достаточно овладел собою, чтобы искусно играть свою роль, однако, он выдал себя, когда ответил: – В Синигалии, конечно, понадобились иные чары, чтобы склонить меня к содействию, но Орсини искали случая погубить меня, а потому какое же мне дело до их собственной гибели! Содрогнувшись при этих словах и вызванных ими воспоминаниях, Лукреции дала другой оборот разговору, и он вскоре сделался общим и очень оживился. Кардинал д'Эсте был сам остроумный собеседник, отличавшийся острою наблюдательностью, а в его свите находилось много превосходных поэтов, придворных и ученых людей, которые сделали Феррару знаменитой. Между всеми выделялся Людовико Яриосто, молодой человек, состоявший на службе кардинала и приобретший благосклонность Лукреции приятным характером и веселостью. Реджинальду очень хотелось узнать, какие заключения вывели шпионы Цезаря из событий этого знаменательного дня, и он с удовольствием услыхал, что они не на шутку встревожены численностью и силою свиты невесты. Хотя Пиетро д'Овиедо разместил прибывших солдат отдельными группами там, где его превосходные силы могли одолеть их без труда в случае надобности, однако, приверженцы Цезаря обнаружили свое беспокойство, единодушно согласившись с мнением епископа д'Энна, что Лебофору следует повидаться с Лукрецией отдельно в отсутствие кардинала д'Эсте. В разговоре наедине он мог скорее напугать ее опасностями, грозившими со стороны Вителли, и склонить к тому, чтобы она воспользовалась этим предлогом для своей остановки в Фаэнце. Реджинальд, сделав вид, будто не заметил иронии епископа, когда тот обратился к нему, принял его предложение с радостью, каким следовало ожидать от счастливого влюбленного. Так как Лукреция предложила епископу привести к ней Лебофора, как только кардинал будет готов принять участие в совещании, то, следуя своему плану, он договорился с Реджинальдом, что проведет его одного в ее комнаты, как будто по недоразумению. Однако, Реджинальд заявил, что если за ним должен следить шпион, то ему будет невозможно коснуться воспоминаний, которые могут привести к возврату благосклонности Лукреции и нему. Он дал епископу совет оставить его с Лукрецией вдвоем, как только представится удобный случай. Епископ по-видимому, не был расположен согласиться на это, однако Овиедо и Уго одобрили это требование. Епископ был немало удивлен, когда его позвали очень рано утром к Лукреции. По его мнению, она не могла рассчитывать на то, что кардинал д'Эсте будет готов в столь ранний час. Вдобавок, подозрительным казалось то, что ей вздумалось принять рыцаря в маленьком саду при дворце. Однако, он поспешил к ней с Реджинальдом. Реджинальд был взволнован особыми обстоятельствами этого свидания и едва мог владеть собою, когда Лукреция, наскоро поздоровавшись с ними, взяла его под руку и, отпустив епископа приветливым кивком головы, увела его к террасе, подальше от группы своих приближенных. – Злое орудие моего злого брата, – сказала она, провожая взором д'Энну, который в свою очередь следит за ней и Реджинальдом мрачным взором сыщика. – Но я знаю, вы – не орудие злобы, мой рыцарь, вы сделались полководцем Цезаря потому, что в противном случаи он стал бы вашим палачом. – Действительно, я скорее могу назваться узником, чем комендантом Фаэнцы, – ответил Лебофор и оглянулся с беспокойством, испугавший Лукрецию, которая знала, что такой храбрый человек, как он, не станет беспокоиться без причины. – Тогда, мой супруг может отплатить вам отчасти за великую услугу, оказанную вами ему. Ведь я знаю все... все, так же, как и ваше беспримерное великодушие, – сказала она со слезами на глазах. – Послушайте, вам не могут запретить проводить меня, когда я поеду из этого города, а ведь стоит мне очутиться за его стенами, и вы сами можете стать вольной птицею. Тогда от вашей воли зависеть, вернуться ли вам назад, или сопровождать меня в Феррару, где герцогский дворец будет вашим родным кровом, повелитель страны вашим братом, а его супруга вашею признательной, неизменной, даже любящей приятельницей. Пусть Италия сделается вашим отечеством, и позвольте Лукреции д'Эсте расположить к себе паладина Лукреции Борджиа. – О, неужели вы считаете это возможным? Неужели мыслимо, чтобы я, завидующий каждому взору, который любуется помимо меня вашей несравненной прелестью, мог видеть вас в объятиях другого, мог слышать, как ваши дети станут звать его своим отцом? Нет, нет, я не в силах выдержать это и остаться в живых! – воскликнул Реджинальд, однако, заметив беспокойство Лукреции, прибавил с печальной улыбкой: – И неужели вы после всего происшедшего все же уверены, что герцогу Альфонсу понравится такой провожатый? – Чего же ему опасаться, когда он сам будет среди нас? – возразила Лукреция с боязливой улыбкой, причем в ее глазах отразилась сильная тревога. – Об этом-то я и хотела потолковать с вами. Так как мне говорят об опасностях, которыми будто бы угрожают нам Вителли, то я должна сознаться вам, что мой супруг не хочет дольше ждать моего прибытия в Феррару, а явится сюда сам на закате солнца в своем прежнем одеянии иоаннита, поэтому я прошу вас, вышлите отряд своих солдат навстречу ему – я лично не могу отпустить ни одного воина из своего конвоя, – охраняйте дороги и доставьте Альфонсо невредимым в Фаэнцу. Если же это невозможно, тогда я, пренебрегая всякими опасностями, должна пуститься сама навстречу моему супругу. – В таком случае все погибло, и теперь я вижу, почему вероломный герцог Борджиа выбрал именно этот город на границе Феррары. Да, да, все погибло! – свирепо произнес Реджинальд. – Ад посвятил Цезаря во все свои хитрости, и теперь нам действительно нет спасения. – Что значит ваша тревога? – в сильном волнении спросила Лукреция. – Если меня станут так пугать, то я немедленно покину ваш город. Или вы не верите, что я старалась уклониться от этого безрассудства? – Верю, но – увы! – вы не знали, как это сделать, – ответил Реджинальд, с отчаянием поднимая взор на высокие, зорко охраняемые стены. – Неужели нам не вырваться из этой громадной западни? С виду кажется, будто довольно одного прыжка, чтобы очутиться на свободе, а между тем, мы заперты в бойне и ожидаем только топора убийцы. – Я хочу уехать, не дожидаясь завтрака, – сказала Лукреция, мрачно нахмурившись, но дрожа всем телом. – Прощайте, если вам доставляет удовольствие пугать меня, и пусть ваш Цезарь один пользуется этим дворцом. – Вам не удастся так просто выйти отсюда! – возразил Лебофор. – Выслушайте меня и, если хотите, попробуйте выбраться из этого проклятого заколдованного места, где, пожалуй, вас стерегут, чтобы отдать в жертву ужасам, какие не снились самим чертям, тогда как я и ваш жених точно погибнем здесь лютой смертью. – Говорите откровенно, иначе страх убьет меня! – воскликнула Лукреция, опускаясь на подножие статуи, обросшее вьющимся растением в цвету. – Как раз теперь Цезарь со своим громадным войском наверно находится в Риме, повелевая всем и дерзая на все! – сказал Реджинальд. – Последними словами моего отца перед разлукой было торжественное обещание, что он ни под каким видом не впустит в город шаек Цезаря, пока его жизни или господству не будет грозить опасность, – возразила Лукреция, зорко наблюдая за действием своих слов. – Тогда, пожалуй, и жизнь, и власть его святейшества в крайней опасности, – ответил Лебофор. – Как так? Разве вы опасаетесь влияния приверженцев Цезаря в консистории? – продолжала Лукреция. – Но эти времена миновали: сторонники мира в Италии, друзья Феррары и мои получили теперь там перевес. – Все напрасно! Консистория, составленная даже из ангелов, едва ли спасет нас в данное время, – торопливо ответил рыцарь, а затем рассказал Лукреции о том, что открыл ему Цезарь в Синигалии, сообщил его план, для осуществления которого он сам был послан в Фаэнцу, и не умолчал даже о назначенной ему при этом роли. Лукреция понимала свое опасное положение и после долгого жуткого молчания заговорила вновь: – Если таков его чудовищный план, то Небо воспротивится его осуществлению. Пресвятая Дева защитит нас. Пожалуй, это Она внушила мне сию минуту благую мысль. Нет ли у вас кого-нибудь, кого вы могли бы отправить как надежного гонца, по важному делу? Лебофор ответил: – Каждый из моих всадников пригоден на это, да беда в том, что ни один человек в одежде моих слуг не имеет права покинуть город. – Хорошо. Тогда мы сумеем обратить затеянное предательство против самих же его зачинщиков, – продолжала Лукреция. – Так как они пожелали воскресить нашу дружбу, то передайте им, что я примирилась с вами, благодаря вашему красноречию, тем более, что принц Феррарский, к моей досаде, отказался от своего обещания прибыть за мною в Фаэнцу. В качестве ревнивого соперника или влюбленного, желающего обеспечить за собою полную победу, подайте им совет, каким способом они могут еще захватить Альфонсо. Ведь им было бы слишком больно, если бы от них ускользнула такая лакомая добыча. Скажите, будто вы уговорили меня написать в пылу гнева письмо Альфонсо с приглашением повидаться со мною тайком в Фаэнце. Можете прибавить, что я соглашаюсь доверить свое поручение только человеку, не знающему местного языка, чтобы он не разболтал о нем дорогой – именно одному из ваших преданных слуг. О, если бы ему удалось еще своевременно застать моего супруга дома и привезти сюда, но не одного, а с военной силой, которою всегда должен быть окружен государь! Этого отряда вместе с моею свитой будет вполне достаточно для того, чтобы изменники побоялись исполнить свой злодейский умысел. Реджинальд охотно принял это предложение, которое являлось первым лучом надежды, мелькнувшим перед ним во мраке. (обратно)ГЛАВА XV
Во время этих происшествий в Фаэнце политические дела в Риме также быстро приближались к развязке. Мигуэлото под ночь угрюмо бродил по одному из обширных залов замка Святого Ангела, осматривая затворы у дверей и окон и чутко прислушиваясь по временам, как вдруг чья-то рука неожиданно опустилась ему на плечо. Он вздрогнул и увидал перед собою фигуру мужчины в грубой одежде ратника. Каталонец схватился уже за кинжал, однако, незнакомец приподнял с одной стороны широкие поля своей шляпы, так что Мигуэлото увидел перед собой Цезаря Борджиа. – Не удивляйся тому, что видишь меня в Риме, – сказал Цезарь, – ведь официально я нахожусь в лагере под Браччиано и сплю у себя в палатке. Что нового? – Начальник папской канцелярии внезапно заболел, весьма опасной резью в животе, – с серьезным видом ответил Мигуэлото. – И странные вещи высказал на этот счет его святейшество, как довелось слышать одному из моих друзей, – мрачно заметил Цезарь. – Говорю тебе, нам нельзя терять время. Лукреция в Фаэнце, и мои замыслы осуществляются так удачно, что Альфонсо, благодаря предательству влюбленного английского рыцаря, должен скоро очутиться в моей власти. Но негодяй не воспользуется плодами своего преступления, – продолжал Цезарь, – его ожидает заслуженное возмездие! – Удивительно, как вы умеете подделаться к каждому человеку! – промолвил Мигуэлото несколько укоризненным и дрожащим тоном. – А вот я так думаю, что для меня будет очень душеспасительно сделать из бедняжки Мириам христианку. – Для тебя? – со смехом воскликнул Цезарь. – Она еле жива, потому что тюремный воздух быстро подтачивает силы в юношеском возрасте, а назойливые мысли втайне гложут сердце. – Когда мы освободили монаха Бруно от пытки и дали ему опять немного отдышаться, я позволил ей посещать его, и он привел девушку в такое мирное, благочестивое настроение, что она проливает слезы и на нее отрадно смотреть. – Значит, ты осмелился нарушить мои приказания? – злобно спросил Цезарь. – Нет, ваша светлость, потому что, как только был получен ваш приказ, мы ни на миг не прекращали его кары. – А еврейка чуть жива? Но это не может происходить от тюремного воздуха. Ведь остается же здесь в живых Фиамма? – Да, но Фиамма черпает утешение в твердой надежде, хотя последняя исходит не от неба, потому что она смеется, когда я увещеваю ее опомниться и обратиться к покаянию, – возразил каталонец. – Ну, если ты до сих пор веришь в разоблаченного обманщика, то чернь будет поклоняться ему, – шутливо промолвил Борджиа. Проводи меня в его темницу, мне надо поговорить с ним. Мигуэлото немедленно повиновался и повел герцога в подземелье под садом замка, настолько глубокое, что свет не проникал туда, а воздух там был душен, как в могиле. Цезарь взял лампу Мигуэлото, приказал ему дожидаться за дверьми, и вошел один в темницу отца Бруно. Даже при огне, тускло горевшем в этом удушливом воздухе, он не мог сначала ничего различить вокруг себя. Лишь постепенно его глаза освоились с темнотой, и он увидал отца Бруно. Последний был прикован к стене такою короткой цепью, что едва мог отойти от кучи соломы, служившей ему ложем, и покоился на ней в полусидящем положении, с закрытыми глазами. Его громкое бормотанье нарушалось только монотонным капаньем воды, которая сочилась из отверстия в стене и медленно падала на каменный пол с однообразным плеском. Уверяют, будто необычайное мучение, вызываемое этим неизменным звуком, нередко преодолевало упорство преступников, которых не могли привести к сознанию самыми жестокими пытками. Цезарь прислушался и уловил несколько слов страшного разговора отца Бруно с самим собою: – Дьявол, ты лжешь, потому что я верю в это! Я молю только о том, чтобы получить знамение, устраняющее всякие сомнения. Тик-так! Да, постоянно и вечно! О, если бы то был хотя бы одинаковый звук: «Тик-тик» или «так-так»! Пусть капли падали бы лишь чуточку поскорее! Но нет, тик-так во веки веков в этом непроглядном мраке преисподней! – Вот тебе знамение! Пробудись и воспрянь! – воскликнул Цезарь, внезапно направив свет прямо на доминиканца. Тот вскочил, загремев цепями, но тусклое пламя лампы ослепило его в первый момент, и отец Бруно страшным голосом воскликнул: – Я вижу свет твоего присутствия, но не твой образ! Ангел ли ты с неба, или насмешливый злой дух, который нагромождает мне на мозг целые горы невыносимо тяжких дум? – Я не ангел, – возразил Цезарь, – хотя женщины находят, что я недурен собою. Неужели ты не можешь припомнить меня? – Прочь, дьявол! Не ради того ли принял ты этот облик, что в ее облике тебе не удалось довести меня до богохульства? – в ярости завопил монах. – Я плюну тебе в лицо, оттолкну тебя из своих объятий, хотя бы ты обладал всею ее прелестью и старался соблазнить меня самым нежным тоном ее голоса. – Дьяволом я, пожалуй, могу быть, но и злые духи иногда вынуждены способствовать благим целям небес, – спокойно ответил Борджиа. – Я пришел избавить тебя от твоих оков и твоего несносного «тик-так» и послать тебя проповедовать людям, которые уже давно видят в тебе чудотворца. Скажи им, что ты послан небом исправить церковь, вернуть ее к первоначальному смирению и святости апостольских времен, и прибавь к тому, что существует избранник, предназначенный служить твоим мечом в этом великом деле, имя же ему Цезарь Борджиа. Во время этой речи монах смотрел во все глаза на говорившего, как будто не понимал смысла его слов. Он повторял их странным тоном удивления, видимо, напрасно стараясь вникнуть в сказанное. Цезарь терпеливо ждал результата и старался помочь усилиям доминиканца, повторяя свою речь. – Внимание Александра скоро будет поглощено его собственными делами. Колонна хлопочут в Риме, чтобы извлечь выгоду из нашей войны с Орсини за пределами города. Но, как бы то ни было, клянусь помогать тебе во всех твоих трудах. Этот замок должен быть твоим убежищем, а всякий раз, когда ты будешь показываться народу, пусть твое появление считают чудом. – Ты, Цезарь Борджиа, станешь помогать в этом деле? – спросил Бруно, выпучив на него глаза. – Можешь поверить мне в этом. Тигр и волк живут в одном логовище. Говорю тебе, скоро в Риме будет император. И разве ты не обличал перед небом и землею замужества Лукреции, как беззаконие? Эти слова возымели немедленное действие. Наполовину притупившаяся у монаха способность понимания внезапно ожила, блуждающие мысли получили направление и со злобным взором, заставившим содрогнуться даже Цезаря, он воскликнул: – Кто отрекается от своих слов, тот обрекает сам себя на осуждение! – Я не отрекался, – возразил Цезарь, – потому что отважился на очень опасный шаг, чтобы помешать этому браку. Лукреция сейчас находится под наблюдением одного моего соратника, и как раз теперь она – моя пленница в Фаэнце. Эта весть, видимо, изумила доминиканца и он сказал: – Твоя пленница? В Фаэнце? – Мне нет надобности говорить тебе, духовнику, что я скорее согласен погибнуть, чем допустить, чтобы Лукреция вступила в брак в Альфонсо Феррарским, которого она так страстно любит, – сказал герцог с дьявольским выражением лица. – И позволь сказать тебе, что хотя ты устоял против всех моих пыток, однако я знаю, почему ты так жестоко ненавидишь меня: ведь ты сам слишком любил Лукрецию. Бруно поник головой, и даже на его бледном, как у привидения, лице, выступила краска. Но после долгой паузы он спросил: – Так она захвачена тобою в Фаэнце на своем пути в Феррару? – Да, на пути к супругу, герцогу Феррарскому! – подтвердил Цезарь. – Разве ты не знаешь, что герцог Альфонсо – тот самый человек, который добивался ее любви под видом иоаннита? – Я давно знал это, но судьба сильнее людей, и вот Лукреция твоя пленница в Фаэнце, – поспешно ответил доминиканец. – И, прежде чем она убедится в том или ее отец получит весть о ее плене, я должен овладеть Римом или искать убежища. Ты спросишь – где? Его может доставить мне только могила. Поэтому ты должен возвестить это предстоящее событие среди суеверной черни, а с помощью волнений, вызванных мною, и восстания рода Колонна, папа будет вынужден призвать меня с моими войсками в Рим. Когда я сделаюсь властелином, тогда ты должен приступить к исправлению церкви и привести ее к такой бедности и убожеству, какие только подскажет тебе твоя фантазия монаха-босяка. Да, я припас тебе такое чудо, что самые закоренелые в неверии люди должны поверить, что ты послан небом. – Какое чудо? Есть вещи чудеснее тех, которые чернь называет чудесами, – промолвил Бруно, очнувшись, наконец, от своего экстаза. – Когда мой план созреет, я задам новым кардиналам пир – только это между нами. Их девять счетом. Все они, как на подбор, богаты, все – мои заклятые враги, а их наследство будет весьма желанным и очень пригодится моему новому государству. Ты также должен появиться на пиру с прочими зрителями. Обличи во всеуслышание кардиналов в симонии, а в доказательство их виновности и своей миссии призови внезапное мщение небес на их головы. И говорю тебе: ни один из них не встанет живым из-за стола на этом пиршестве. – Несчастье делает людей недоверчивыми, – сказал после кратного молчания отец Бруно. – Как же произойдет это чудо? – Смеешь ли ты сомневаться, что Небо поможет тебе превратить твои проклятия в разящие молнии? – спросил Цезарь. – Да, потому что ты стоишь передо мною здрав и невредим, – ответил монах. – Видишь, я не лицемерю. – Да мне этого и не нужно. Женщины из гетто, также томящиеся в этой могиле, помогли мне закупорить несколько бутылок превосходного вина, – сказал Цезарь, спокойно скрестив руки на груди. – Но разве ты не боишься, что в дело неожиданно вмешается ангел и отравленное питье случайно попадет в твой собственный кубок? – спросил Бруно, поднимая на него мрачный взор. – Смотрители погребов – мои верные слуги, а у всех превосходных вин, предназначенных для моих друзей, есть особый признак, которого нельзя заметить, – ответил Цезарь, смеясь, но все-таки будучи слегка раздосадован уже одним предположением о таком грубом промахе. – Но что за святой был бы я, если бы вызвал одно чудо, а за ним не последовало бы другое? – в глубоком раздумье сказал монах. – Цезарь, я понимаю тебя. Но знаешь ли ты достоверно, что тот яд смертелен, что он не имеет вкуса и приготовлен так тонко, что нельзя разобрать его примесь? – Вот я сейчас произведу пробу, – задумчиво ответил Цезарь. – Мне до смерти надоели старые ведьмы, страшные проделки которых могут со временем обратиться против тех же, кто пользовался ими, и потому обещал им свободу. Да, если сами составительницы напитка выпьют его, ничего не подозревая, то кто же может, открыть в нем примесь ядовитой эссенции без вкуса и без всякого запаха? – Ну, в таком случае, это будет только правосудием, – с восхищением ответил отец Бруно. – Значит, ты хочешь выпустить колдуний не только из каменной тюрьмы, но и из ветхой, презренной темницы их плоти? Цезарь самодовольно усмехнулся. – Разумеется. – Тогда я избавлюсь от своего вечного «тик-так». Я узнаю знамение свыше! Я согласен исполнить поручение! – воскликнул отец Бруно с некоторым воодушевлением. Последнее возбудило подозрительность вечно бдительного Борджиа и он сказал: – Да, но помни: за каждым твоим шагом будет следить некто, умеющий владеть тем, что он держит в руке. – Ты называл меня колдуном, но, кажется, не веришь сам в мое колдовство? – со страшной улыбкой возразил доминиканец. – Но так и быть! Я продался дьяволу, то есть, тебе! (обратно)ГЛАВА XVI
При всей своей хитрости епископ д'Энна по-видимому, дался на обман. Его сбили с толка лукавое предложение Лукреции, уверенность в том, что Лебофор действует под влиянием ревности и ненависти к счастливому сопернику, а также собственное усердие выслужиться перед своим повелителем, изловив Альфонсо д'Эсте. Старик Бэмптон был тем гонцом, которого, с согласия д'Энны, отправили с письмом в Феррару. Ради поддержки затеянного обмана Лукреция усилила по отношению к Реджинальду свою показную нежность и кротость с ним, и конечно, это вызвало в душе влюбленного и мучимого ревностью Лебофора самую жестокую и ужасную борьбу, какой он еще не испытывал во время всех перипетий своей страсти к Лукреции. Наступила ночь, но герцог Альфонсо не явился. Между тем, он мог бы уже прибыть в Фаэнцу, если бы не получил спасительного предостережения. Благодарность за это принудила Лукрецию отнестись к Лебофору с еще большей нежностью, но это доводило Реджинальда до невыразимой тревоги и отчаяния, так как он знал ее причину. Минутами под влиянием ревности к счастливому сопернику он готов был отказаться от дальнейшей помощи Лукреции и склонялся к тому, чтобы исполнить поручение Цезаря, но тотчас же в его честной душе раздавался голос совести и он неуклонно принимался за поставленную себе трудную и опасную задачу. Он говорил епископу, будто бы его ухаживание увенчалось поразительным успехом, и это даже удивляло самого прелата, который начал уже опасаться, как бы молодые, люди не зашли в своей любовной игре дальше, чем этого желал великий заговорщик. Реджинальд даже заявил, что его окончательная победа вне сомнения, если только Лукрецию удастся уверить, что жених оказывает ей пренебрежение, а с этой целью необходимо захватить Альфонсо тайком и тщательно скрывать от нее поимку герцога, пока она сама найдет повод радоваться такому обороту дел. До тех же пор ее следует держать в уверенности, будто к ее приглашению жених отнесся пренебрежительно, или – еще хуже с недоверием, оскорбительным для ее гордой души. Под предлогом очистить окрестности от бродячих шаек Вителли, по совету Лебофора, были разосланы по всем дорогам, ведущим к Фаэнце, сильные конные отряды с приказанием схватить иоаннита и доставить его при наступлении ночи к одним из городских ворот, которые взялся стеречь сам Реджинальд со своими стрелками. Такой был план Лебофора. Епископ по-видимому, окончательно попался в ловушку, и Лебофор заметил, что на другой день большое число самых свирепых и решительных солдат Цезаря покинуло город, чтобы рыскать по всем направлениям в местности, примыкавшей к Ферраре. Между тем, радость, с какой Лукреция ждала прибытия Альфонсо, невольно причиняла Реджинальду такие мучительные страдания, что молодая женщина заметила страшную перемену в его обращении, и ее подозрения стали еще мрачнее. В ее душе возникли опасения в его честности, и она терзалась мыслью, что сама придумала план, посредством которого ее жених будет предан врагам. К тому же ее письмо к Альфонсо, написанное таким образом, чтобы его было можно показать епископу, содержало в себе непреодолимую приманку для влюбленного жениха и было доверено приверженцу его соперника. Подозрения молодой женщины еще усилились при исчезновении Реджинальда около того времени, когда мог прибыть Альфонсо. Лукреция узнала, что рыцарь находится на валах для встречи посланных разведчиков, о чем он умолчал перед нею, потому что часть плана, которую предстояло теперь выполнить, была связана с большою личной опасностью для него. Но он признал необходимым держать свиту Лукреции наготове, и потому решил довериться Бембо. Содействие последнего не могло возбудить особенные подозрения, и он мог тайком предупредить свиту герцогини о предстоящем прибытии принца, который, хотя путешествовал инкогнито, но должен был рассчитывать на встречу, подобающую его сану. Вскоре Лебофор со своими стрелками занял наблюдательный пост на валу, и был очень удивлен неожиданным визитом. Лукреция в сопровождении своей свиты и стражи телохранителей приблизилась к нему, когда он с печальным видом смотрел вдаль, ожидая солнечного заката, потому что Альфонсо мог прибыть в эту пору. Рыцарь пошел ей навстречу и был крайне изумлен переменой, произошедшей с нею в такой короткий срок, а именно, странным выражением гнева и озабоченности, занявших место обычной приветливости и веселого оживления в ее чертах, к которым привык рыцарь. – Я пришла сторожить вместе с вами, рыцарь, – торопливо сказала она. – Время тянется невыносимо во дворе, являющемся для меня тюрьмою, а свежий вечерний воздух, может быть, освежит меня и разгонит печальные мысли, не дающие мне покоя. Вдобавок, мне еще необходимо поговорить с вами наедине. При этих словах спутники герцогини Борджиа отошли в сторону. Тогда Лукреция приблизилась к Реджинальду и заговорила в большом волнении: – Я доверяла вам и буду доверять, наперекор нашептываниям злого недруга, пока не увижу своими глазами вашего вероломства. Ко мне приходил епископ д'Энна и предостерегал меня от слепого доверия вам. Он сообщил, что вы подняли мятеж среди гарнизона и склонили на свою сторону солдат Цезаря, чтобы они оказали поддержку вашему предательству, так как вы замышляете забрать меня в плен. Да, епископ опасается, что вы намерены отрезать мне всякое общение с моими друзьями, и говорит, будто сам слышал, как вы давали своим разведчикам приказ убить какого-то иоаннита, который должен явиться сюда с вестями из Феррары, причем прибытие окровавленного тела иоаннита к городским воротам должно послужить сигналом к открытой измене, имеющий целью лишить меня жизни. Реджинальд, услышав это, воскликнул: – Так вот на что надеялись и рассчитывали эти гнусные злодеи! – Выслушайте меня! – продолжала Лукреция. – Я приказала своей свите в полном составе дожидаться меня внизу, у ворот. Моя безрассудная жалость и доверие дали вам надежду и средства исполнить ваш жестокий замысел. Но, знайте, я хочу дожидаться здесь прибытия Альфонсо. Если он жив и невредим, то я буду благодарна вам за свое существование, в противном же случае я отомщу вам за его смерть собственной рукой. Да, я намерена убить вас за ваше бесчестное предательство. Я отдам вас на расправу моим солдатам, без всякого сожаления, не задумываясь ни на одну минуту. Пораженный этими словами Реджинальд не мог ответить ей ни слова, а только показал на заходящее солнце и поник головой в тягостном раздумье. Лукреция сделала бы еще попытку разрешить свои мучительные сомнения, если бы на валу не показался епископ. Он сделал вид, будто не замечает волнения Лукреции и Реджинальда, и с целью усилить подозрения молодой женщины выразил удивление, что ни один из всадников, посланных по направлению к Ферраре, не вернулся назад. – Быть может, они услышали что-нибудь о рыскающих по окрестностям Вителли и соединились в один отряд, – возразил Лебофор с притворным спокойствием. Епископ кинул испытующий взор на Лукрецию. Она меж тем, печально смотрела на своих солдат, поспешно собиравшихся у подножия крепостного вала, и думала: «Так вот в чем заключался злодейский умысел! Альфонсо намеревались убить, его смерть приписать содействию Реджинальда, меня же заставить или покончить с ним, или разделить позор приписанного ему преступления!» Нетерпение и тревога молодой женщины возрастали с каждой минутой. Солнце уже закатилось, но на горизонте не появлялось еще ни одного копья и ничто не возвещало приближения избавителей Лукреции. Она слушала речи епископа, явно не понимая, что ей говорили, и часто ее взор с беспокойством обращался на Лебофора. Мучения рыцаря становились почти невыносимыми. Сам епископ тоже, видимо, волновался и снова осведомился о разведчиках. Убедившись, что Альфонсо не едет, Реджинальд пришел в бешенство от окружавшего его вероломства и стал думать о насильственной расправе со злоумышленниками. Он мог надеяться овладеть городом с помощью свиты Лукреции, если бы ей внезапно стала грозить опасность, но его удерживало от этого шага только опасение, что мятеж, который неминуемо должен последовать за тем, мог бы оказаться пагубным для нее. При наступлении ночи он стал убедительно просить герцогиню отправиться на покой. Однако, его мрачные мысли и озабоченность, усилили ее сомнения и опасения, и вместо того, чтобы последовать его совету, она вскочила и воскликнула точно в припадке безумия: – Нет, изменник, прежде чем я удалюсь отсюда, я хочу дождаться здесь окровавленного трупа Альфонсо и увидеть, как падет твоя голова в расплату за твое предательство! Во время ее речи епископ внезапно воскликнул: – Чье это знамя вдали! Ведь мы не высылали своих главных сил? – Это – знамя Альфонсо д'Эсте и его войска, – ответил Реджинальд, посмотрев по направлению, указанному епископом, и обратился к Лукреции: – ну, зовите своего палача. Его удар не так жесток, как ваши слова. – Где же дон Уго?.. Вот странное дело! – воскликнул епископ д'Энна и внезапно повернулся, как бы намереваясь уйти. Однако, Реджинальд Лебофор проворно схватил его и воскликнул: – Ни с места! Иначе, несмотря на твой святительский сан, я покажу тебе, что я – комендант Фаэнцы и требую повиновения от всех, кто находится в ней! Ни с места, или эта секира размозжит твой предательский череп! Наконец-то простая честность одолела тебя. – Реджинальд... мой герой... мой спаситель! Неужели вы не простите меня? – воскликнула Лукреция, и ее жестокое нравственное напряжение разрешилось потоком слез. – Отпирайте ворота, стрелки! Спешите навстречу нашим друзьям! Трубите в рог в знак приветствия! – воскликнул Лебофор. Подступающее войско уже настолько приблизилось к Фаэнце, что услышало звуки военных труб и пришпорило усталых коней. Лебофор сам направился к воротам, чтобы приветствовать всадников, во главе которых ехал иоаннит. Однако, Реджинальд не спешил присутствовать при свидании влюбленных и только когда вся свита Лукреции вернулась во дворец, а принц сам в сопровождении своих знатнейших офицеров и рыцарей пошел искать его. Лебофор показался приезжим. Но эта холодность была почти побеждена искренним и долгим объятием, которым Альфонсо приветствовал своего бывшего друга. Принц сказал ему, что велел своим собственным солдатам расположиться на ночлег по соседним деревням, чтобы не отяготить обывателей Фаэнцы своим неожиданным посещением. Реджинальду было не особенно приятно провожать царственного жениха к Лукреции, однако, его неудовольствие растаяло от сердечного волнения, когда красавица бросилась им навстречу и, схватив руки Реджинальда, стала просить у него прощения за свои несправедливые подозрения. Она заметила бледность, почти моментально сменившую яркий румянец на его лице, когда Альфонсо смеясь заявил, что в нем заговорила ревность, и сказала: – О, простите меня, чтобы я могла заснуть сегодня ночью, иначе совесть не даст мне сомкнуть глаза! Теперь замысел Цезаря был уже не страшен. Военные силы герцога Феррарского не уступали в численности гарнизону Фаэнцы, а на рассвете к ним должен был присоединиться еще более значительный отряд, по прибытии которого принц со своею невестой намеревался выступить из города. Оба они убедительно просили английского рыцаря сопровождать их в Феррару, однако, он отклонил их просьбу. Странное дело: Лукреция вспыхнула и со вздохом отвела взор, избегая взгляда своего жениха. Тут Реджинальд объявил о своем решении вернуться тайком в Рим, чтобы спасти Орсини, открыв папе заговор Цезаря. Лукреция не желала огорчать отца разоблачением вероломства и предательства своего брата, однако необходимость предостеречь его заставила ее сделать это. Вместе с тем, Лебофор в Риме мог подвергнуться опасности, и мысль об этом внушила Лукреции настоятельное желание послать туда другого гонца. Однако, ей не удалось поколебать решимость рыцаря, да в конце концов, ее пылкие настойчивые просьбы вызвали неудовольствие Альфонсо. Реджинальд доказывал, что никто другой не обнаружит такого усердия в данном случае, как он, потому |что им руководит желание загладить свою несправедливость перед Орсини, и никто лучше его не сумеет привести неопровержимые доказательства виновности Цезаря. Но Лукреция не соглашалась с ним, пока Лебофор, заметивший внезапную мрачность принца, не обещал проводить ее для вида по дороге в Феррару, как будто с намерением отправиться туда, а потом вернуться переодетым в Рим, чтобы избежать мести Цезаря. Пока они совещались, забрезжил рассвет, и Альфонсо стал просить свою невесту дать себе отдых. – Я должна привыкать повиноваться, – сказала она, – но я хочу поставить одно условие. Я по-прежнему дрожу от страха, и вы должны обещать мне, что будете бодрствовать со своим боевым товарищем. Реджинальд чувствовал, что теперь ему будет труднее всего заручиться согласием Бэмптона на предстоящее дело. Верный оруженосец, рискуя жизнью, по воле своего господина успешно исполнил поручение, и теперь надеялся, что приключениям Реджинальда в Италии пришел конец с освобождением Лукреции. Поэтому Бэмптон крайне разочаровался, узнав о намерении Реджинальда возвратиться в Рим и получив приказ отвести его стрелков в Феррару, куда обещал явиться в скором времени сам Лебофор, чтобы вслед затем отплыть в Англию из Венеции. – Я так и знал, что мне не суждено больше увидать дочь и белокурых внуков, – сказал старик со слезами на глазах. – Если вы допустите мысль, что я способен отпустить вас теперь одного, то лучше назовите меня лукавым и бесчестным негодяем. Нет, нет, я последую за вами в саму пасть смерти. Реджинальд знал упорство своего старого оруженосца и напрасно старался отговорить его от такого опасного решения. Бэмптон был непоколебим, и рыцарю пришлось уступить верному слуге. На восходе солнца вооруженная свита, которой предстояло сопровождать герцога Альфонсо с его невестой в Феррару, получила значительное подкрепление. Однако, оно едва и было нужно, потому что Лебофор не позволил никому покидать Фаэнцу, чем отнял у заговорщиков всякую возможность собрать военные силы, которые могли бы оказать сопротивление провожатым Альфонсо. Прежде чем могла дойти весть до соседних гарнизонов, свадебный поезд в сопровождении Реджинальда со стрелками, покинул город. По прибытии в Равенну всякая опасность миновала, так как тут начинались уже хорошо охраняемая граница Венецианской республики. Когда путешествие подходило к концу, Лукреция была так поглощена разговором с женихом, что несколько минут не замечала отсутствия Лебофора, но вдруг увидела всадника в темной одежде иоаннита, в сопровождении одного старого воина. Когда же рыцарь сошел с коня и, подняв забрало, опустился на колени у ее стремени, она узнала в нем Реджинальда, который спросил ее дрожащим голосом, нет ли у нее поручений в Рим. – Его святейшеству мой всенижайший привет, – ответила она также в сильном волнении и вынула из-за корсажа письмо. – Я прошу его святейшество оказать вам безусловное доверие и как можно усерднее позаботиться о вашей безопасности. В знак удостоверения представьте папе вот это кольцо. Я получила его от отца с обещанием, что всякая моя просьба, при которой оно будет предъявлено ему, должна быть уважена. Возьмите же этот перстень, добрый, храбрый и честный рыцарь, и пусть ваше теперешнее одеяние принесет вам столько же счастья, сколько принесло оно моему супругу, по его словам. – Тогда оно должно принадлежать мне навек, – сказалРеджинальд, напрасно стараясь придать своему голосу внятность и твердость. – Нет, нет, Лебофор, – возразила Лукреция, наклонясь, чтобы скрыть свое волнение, но не будучи в силах сдержать хлынувшие слезы. – Обещайте мне привезти к нам вашу милую английскую невесту, чтобы она могла познакомиться с вашими друзьями в Италии. Благодарность не может вознаградить вас, поэтому я не говорю о ней. А между тем, – прибавила Лукреция с одной из своих очаровательнейших улыбок, – мой супруг простит мне, если я помышляю о том, что ваш первый поцелуй был принят приветливо. Пускай же этот наш последний поцелуй унесет с собою пчелиное жало. – О, никакое время не изгладит в моей памяти этого мгновения, и, чтобы оно длилось вечно, я не хочу прощания! – воскликнул Реджинальд и расстался с Лукрецией и принцем Альфонсо. (обратно)ГЛАВА XVII
Реджинальда воодушевляли теперь надежда и цель спасти Орсини и отомстить за себя Цезарю, которого он хотел показать во всей его низости, чтобы разрушить все смелые планы его честолюбия. Рыцарь позаботился о том, чтобы ни один гонец не мог покинуть Фаэнцы перед его отъездом оттуда, и имел повод рассчитывать, что приверженцы Цезаря употребят все средства, чтобы поправить беду, прежде чем осмелятся послать ему известие о постигшей их неудаче. Путешествие Лебофора совершилось настолько быстро, что на другой день он был уже у берегов Тибра. Когда он сошел с коня в лесной долине, чтобы переправиться через реку на пароме, его догнал чернокожий и, кинув беглый взор на обоих всадников, поспешил дальше с неимоверной быстротой. Погруженный в задумчивость Реджинальд Лебофор почти не заметил этого человека, принятого им за беглого мавританского раба. Бэмптон схватил свой лук, наложил стрелу и нанес смертельную рану быстроногому гонцу. Реджинальд только тогда опомнился от изумления, когда узнал в убитом, который с диким воплем ужаса скончался, быстрейшего скорохода Цезаря, Зейда. Они с Бэмптоном утащили мертвое тело в лес и тщательно обыскали его, думая найти при нем какое-нибудь важное письмо, но нашли лишь несколько строк, составлявших краткое донесение епископа д'Энна герцогу Романьи о том, что весь план в Фаэнце был разрушен изменою английского рыцаря, и Альфонсо со своею невестой благополучно достиг Феррары, и что сам он с целью принять меры на случай опасности намерен собрать все военные силы и поспешить с ними к Риму для присоединения к Цезарю. Лебофор поспешно продолжал путь, нигде не останавливаясь, пока не приблизился к Браччиано. Он нарочно замедлил свой проезд через окрестности этого города до наступления ночи, чтобы не наткнуться на бродячие шайки осаждающих, и на одном холме ему попалось печальнее шествие. Несколько вооруженных людей с факелами в руках, одетые в цвета Орсини и по-видимому, находившиеся под караулом буянов Мигуэлото, среди которых бросался в глаза известный разбойник и наемный убийца Джованни из катакомб, сопровождали высокую колесницу, драпированную черным бархатом и украшенную гербами. На ней стояли носилки, где под алым бархатным покровом покоилось два трупа. Это зрелище, естественно, подстрекнуло любопытство Реджинальда. Он приблизился к предводителю отряда, сообщил полученный в Фаэнце лозунг: «Цезарь император», и узнал, что на носилках лежали тела Паоло Орсини и его отца, герцога Гравины, которые были задушены по приказу Цезаря в их замке Пиеве. С целью устрашить юного Фабио с его приверженцами зрелищем кары, постигшей его родных и принудить его к подчинению, тела убитых торжественно препровождались в Браччиано, где должно было состояться их погребение. Лебофор не решался поверить этому рассказу, хотя разбойник уверял его, что сам, собственноручно совершил над пленниками акт «правосудия». Наконец, перед его глазами откинули погребальный покров, и рыцарь увидал при свете факела лица обоих Орсини. В душе Реджинальда снова разгорелось чувство мести Цезарю, но он, затаив его, двинулся в путь, предварительно сказал разбойнику следующее: – Передай герцогу Романьи, что тебе повстречался гонец из Фаэнцы в вооружении, некогда принадлежавшем одному иоанниту, и доложи его светлости, что в Фаэнце все идет как нельзя лучше. Лебофор прибыл в Рим очень рано, поэтому не смог тотчас представиться папе. Известия, полученные им по приезде, только увеличивали его гнев и опасения. Уничтожение всего дома Орсини, казалось, было делом решенным. Приверженцы этого несчастного рода были доведены до открытого восстания яростным преследованием, которому они подвергались. Род Колонна волновался в южной Кампанье, встречая тайную поддержку в испанцах. Но еще зловещее было появление вновь пресловутого монаха Бруно Ланфранки. Ходила молва, будто он обладает сверхъестественной властью покидать, когда ему вздумается, подземную темницу, где его держит в заключении герцог Романьи, и эти странные бредни поддерживались красноречием доминиканца. Он собирал вокруг себя несметные толпы народа и вещал, в качестве посланника небес, страшные пророчества относительно папы и его правления. Бруно выказывал при этом такую горячность, что всех удивляло равнодушие или беспокойство папы, не принимавшего никаких мер для прекращения шумных сборищ вокруг этого обличителя. Между тем, в данный момент было крайне рискованно допускать волнения среди фанатичной и свирепой римской черни, так как папские войска находились в отсутствии, с целью подавить попытки со стороны Колонна, а затянувшаяся осада Браччиано наряду с охраною новых владений Борджиа требовала содействия всех военных сил Цезаря. Наконец, Реджинальд явился в Ватикан и после доклада о том, что он привез письмо от герцогини Феррарской, был тотчас принят папою. Александр сидел, погруженный в мрачные думы, но тотчас повеселел при появлении гонца своей дочери. – Ну что, какие новости? – нетерпеливо спросил он. – Как поживает молодая герцогиня? Присутствовали вы при ее торжественном въезде? Что говорили феррарцы при виде красоты невесты своего государя? Ах, им досталось все, чего лишились мы! – Ваше святейшество, привезенные мною вести предназначаются только для вашего слуха, – ответил Реджинальд, не открывая лица, причем его голос показался папе знакомым. – Вы говорите каким-то замогильным голосом, – заметил Александр. – Почему не откинете вы своего забрала? Неужели вы воображаете, что я доверюсь незнакомцу с опущенным забралом? – При мне есть письмо, которое должно служить достаточной порукой за меня, – возразил Лебофор и, преклонив колени, подал послание Лукреции. – Да, это рука нашей любезной Лукреции, – сказал папа и, распечатав письмо, принялся за него. Вдруг он побледнел, как смерть, и, торопливо приказав своей свите удалиться, обратился к Реджинальду: – значит, это именно вы одурачили Цезаря, благородный английский паладин, наделавший нам столько вреда? Говорите смело! Мы уважаем вашу храбрость, хотя она и была нам пагубна. В этом письме сказано, что я должен доверять вам, как бы ни были удивительны ваши сообщения, и каких бы ужасов ни передали вы мне относительно поступков герцога Романьи. Но прежде всего скажите, где оставили вы Лукрецию? Она, конечно, в безопасности, в объятиях ее августейшего супруга? – О, да, в безопасности, по ту сторону Равенны, за пределами Фаэнцы. – За пределами Фаэнцы? Важнейшей крепости ее брата? Неужели вы осмеливаетесь повторять ложные слухи, за которые понесли кару неаполитанские поэты? – Судите о том сами, когда услышите, с помощью каких средств и с какою целью герцог Романьи назначил меня комендантом Фаэнцы, – ответил рыцарь и весьма спокойно изложил свою беседу с Цезарем в Синигалии относительно захвата в плен Лукреции. Папа часто прерывал его возгласами, выражавшими недоверие, гнев и удивление. Однако, сомнения взяли перевес над всем остальным. – Какое безумное вранье! – воскликнул он. – Пожалуй, вы придумали эти небылицы, чтобы потешить свою ненависть к герцогу и отомстить за изменников, своих друзей? А между тем это – рука Лукреции. Но я понимаю, в чем тут суть. Вы позавидовали тому величию, которого добился Цезарь с таким трудом, такими подвигами храбрости. Мятежное отродье Орсини скоро будет истреблено и мы сделаемся повелителями Италии. И вот являетесь вы со своей ложью! У Лукреции нет больше сердца Борджиа, она стала теперь настоящей Эсте. Она разлюбила своего отца. Да, да, ведь любящая дочь побоялась бы терзать мне сердце подобными выдумками. Прочь с моих глаз, клеветник! Или не отослать ли мне тебя в замок Святого Ангела! – Соблаговолите, ваше святейшество, обратить внимание на заключение письма, где епископ обещает прислать военные силы герцога Романьи в Рим, – продолжал неумолимый мститель. – Вам надо еще узнать, для чего именно явятся они сюда. – Да, герцогиня пишет о предательстве, замышляемом против меня, о разоблачениях, которые я слышу от вас, и предлагает мне помощь своего супруга против своего брата. Ну, она слишком рано вздумала разыгрывать из себя королеву! Святейший престол под нашим господством еще не дошел до того, чтобы нуждаться в помощи ломбардского герцога. Не взирая на муку, причиняемую им, Реджинальд продолжал свой рассказ, излагая последствия замысла в Фаэнце, которых Цезарь несомненно будет добиваться в Риме и которые приведут к свержению папы или по крайней мере, лишат его действительной власти. – Мне дурно, добрый рыцарь, воздуха, воздуха! – произнес Александр и, шатаясь, сделал несколько шагов, но, прежде чем Лебофор подоспел ему на помощь, он уже оправился и резко продолжал. – Это – ложь, это должно быть ложью! Если бы Цезарь замыслил измену против нас, зачем лишил бы он себя поддержки, которую мог бы дать могущественный союз с герцогом Феррарским? – Он руководствуется здесь тем же самым побуждением, которое довело его до убийства родного брата, герцога Джованни Гандийского, – ответил Реджинальд, и его взор встретился с полубезумным взором Александра. – Джованни убит? – повторил папа, причем, на его лице проступил холодный пот и он одно мгновение даже навалился всею своей тяжестью на плечо молодого англичанина. Однако, он оправился после энергичного усилия над собою, и промолвил, – это ничего, мы только становимся стары. У меня на секунду потемнело в глазах. Но где же вы оставили мое дитя? Где моя Лукреция? Ах, я близок к смерти, и она подумает, что убила меня! Скажите ей, что это – неправда, добрый рыцарь. Но чтобы Джованни пал от руки Цезаря? Нет. Это – выдумка, это – ложь! – А разве вы уже забыли безумную молодую еврейку из гетто? – Это было бы, конечно, заслуженной карой для меня, более тяжким жребием, чем участь грешника, обреченного на вечные мучения в неугасимом пламени геенны, – простонал папа. – Но этот страх не основателен. Вот ты сейчас услышишь сам. – С этими словами он дернул серебряный звонок, прикрепленный к его скамеечке, и, приказав вошедшему слуге ввести доминиканца, опять обратился к Реджинальду: – Встаньте в тени вон того балдахина. Монах видит плохо и не заметит там вашего присутствия. Лебофор повиновался. В комнате вскоре появилась тучная фигура монаха Биккоццо который, приблизившись к папе, опустился перед ним на колени. – Не бойтесь! Великая услуга, оказанная вами, согласно вашему обещанию, конечно, может заставить забыть дикие безумства человека, с которым мы поступили несколько сурово и который только что выпущен из нашей тюрьмы, – заговорил Александр. – Верный своему долгу, отец Бруно не откроет того, что было доверено ему на исповеди, но, разумеется, назовет нам убийцу герцога Гандийского. – Да, если новообращенной еврейке будет дозволено явиться сегодня вечером на торжественный пир, на котором будет присутствовать убийца, – ответил монах. – На празднестве в Ватикане? Но разве ему известно, что герцог Романьи прибудет сюда из лагеря под осажденным Браччиано? – Отец Бруно поручил мне просить вас послать за ним, чтобы он мог разделить радость открытия, которое, судя по слухам... Впрочем, я должен быть глух ко всему, кроме того, что мне велено сказать! – Хорошо. Тогда ступай и скажи отцу Бруно, что если он исполнит свое обещание, то его капюшон может преобразиться в красную шляпу кардинала, – многозначительно добавил папа. – Отец Бруно хочет чтобы вы, ваше святейшество, соблаговолили послать за ним, когда он будет всенародно крестить молодую еврейку на площади Святого Петра. Но только для этого понадобится значительная военная сила. Появление большого отряда воинов послужит в глазах черни извинением его покорности. Солдаты должны быть под командой надежного человека, на которого вы можете положиться, что он не отступит ни перед каким сопротивлением, так как убийца – лицо с большою властью. Папа выразил знаком свое согласие. – Отец Бруно, – продолжал доминиканец, – боится могущества тех, кого он должен предать в жертву вашему мщению, ради собственной безопасности умоляет вас послать ему в залог вашей защиты золотой ковчежец, который вы всегда носите за пазухой. – Ковчежец со Святыми Дарами? – сказал папа. – Один астролог говорил мне, что я не умру, пока ношу его при себе. Но вот он! Передайте отцу Бруно, что он должен держать его у себя, пока не попросит у меня сам выкупа за него. Биккоццо взял святыню и почтительно приложился к ней, после чего был отпущен молчаливым жестом папы и удалился. – Ну вот, вы слышали? – торжествующим тоном воскликнул Александр, когда Реджинальд вышел из своего убежища. – А это поручение исходит от отца Бруно? – спросил рыцарь также радостным голосом, хотя сначала лишь смутно припомнил странные истории, слышанные им от герцога Альфонсо. – Разумеется, от него, – подтвердил папа, превратно истолковавший себе довольство, обнаруженное Лебофором. – Послушайте, к какому решению я пришел. Цезарь сам дает сегодня вечером праздник примирения вновь назначенным кардиналам, хотя немногие из них считаются его друзьями. И вот, чтобы опровергнуть эти злые помыслы и отвлечь его от зависти счастью сестры, приглашенные должны столковаться со мною относительно того, чтобы превратить герцогскую корону Цезаря в королевскую. Да, он должен сделаться королем Романьи, потому что Небо даровало нам власть раздавать и отнимать все мирские господства на земле, особенно в пределах нашего отечества. Не бойтесь за себя! Ваша безопасность дорога нам, как наша собственная, и мы полагаем, что на этом празднике будет положено начало всеобщему примирению. Вы предназначены способствовать благому делу и быть тем послом, которого мы намерены отправить за отцом Бруно и новообращенной еврейкой. Вы должны быть свидетелем всего, а потом вернуться к Лукреции с радостными новостями и докладом, что мы желаем видеть ее на троне в Ферраре. С этими словами папа сделал жест, указывавший на то, что аудиенция Реджинальда Лебофора окончена, и рыцарь удалился. (обратно)ГЛАВА XVIII
Приблизительно около того часа, когда Реджинальд встретил носилки с прахом обоих Орсини, из одной тюремной камеры замка Святого Ангела выскользнула фигура человека, черного кающегося монаха и, пройдя мимо нескольких часовых, которые пропустили ее без оклика, затерялась в длинном коридоре. Коридор вел в подземелье, где находилась Фиамма. Монах – это был дон Савватий – спустился туда по винтовой лестнице в колонне, зажег факел и осмотрелся в темноте. Первый предмет, который отец Бруно различил перед собою, была фигура женщины, прикованной к стене и распростертой на соломе. – Тик-так! Фиамма, час мщения наступил, – сказал монах. – Нотта еле жива и могла лишь с трудом вымолвить в своей агонии, что ты видела, где было спрятано отравленное вино. Говори: где мне найти его? Не отвечая ни слова, узница указала только своей исхудалой бледной рукой на сводчатую галерею. Савватий тотчас последовал по указанному направлению и вошел в круглое углубление, служившее как будто винным погребом. Там была навалена большая куча снега, из которой торчали красные бутылки, закупоренные пробками с серебряным колпачком. Другие бутылки точно такой же формы и цвета, но со свинцовыми колпачками на пробках, лежали поодаль от первых, Доминиканец подошел к первой груде, вынул из кармана инструмент и осторожно вытащил пробки из всех бутылок, не повредив печатей. Потом он откупорил такое же количество посуды, закупоренной свинцом, заткнул каждую бутылку пробкой с серебряным колпачком, а каждую из первых бутылок снабдил свинцовою пробкой. Произведя этот обмен, он поставил опять всю посуду на прежнее место, в том порядке, в каком нашел ее, и удалился. – Фиамма, – сказал он, вернувшись в тюремную камеру узницы, – Морта сообщила человеку, обрекшему тебя на медленную смерть, что лишь тебе одной из всех ее учениц известно противоядие той тонкой отраве. Смотри, никому не выдавай его! Молодая женщина засмеялась чуть слышно и заслонила лицо ладонью, как будто свет резал ей глаза. Колдун с тяжелым вздохом загасил свой факел и пробормотал: – Тебе следовало бы, по крайней мере, сохранить сознание, чтобы ты понимала, что отмщена и была свидетельницей мучений твоего убийцы. Когда около полудня сигнальная пушка в замке Святого Ангела возвестила прибытие Цезаря, Мигуэлото немедленно представился ему. Герцог выслушал его донесения с большим вниманием и интересом, причем в его чертах против обыкновения замечалось беспокойство. – Нам некогда много разговаривать, – сказал он. – Каждая минута дорога. Но монах, надеюсь, не сомневается более в действии нашего волшебного напитка, так как он видел своими глазами старых ведьм в предсмертной агонии. – Они все еще ползают, – возразил Мигуэлото. – Если бы старухи не питались впроголодь и не были так подозрительны, то не прожили бы и получасового срока, который они предоставляют каждому, кто хлебнул их снадобья. Вот послушали бы вы, как эти колдуньи неистовствуют, ругаются, как они обещают мне все свои сокровища в гетто, если я доставлю им то, что нужно для изготовления противоядия. Но я доберусь до их богатств более дешевым способом. Однако сильнее собственной участи сокрушает евреек обращение в христианство их внучки. – Я буду рад этому, – сказал Цезарь, – потому что это – дело справедливое, а когда мы достигаем своей цели честными средствами, то должны радоваться. Не понимаю, однако, почему на меня напало такое уныние? Обыкновенно я бываю всегда спокоен духом и бодр при каждом своем предприятии, а это – величайший замысел моей жизни, завершение и венец всего. Между тем, мне не на что пожаловаться. Все идет отлично. Орсини парализованы страхом и заняты теперь лишь погребением своих мертвецов. Хотя Фабио непреклонен, однако их приверженцы уже тайком переговариваются о сдаче, которую я отклоняю, потому что откажусь от Браччиано, только получив взамен его Рим. Если грянет гром, то старик не посмеет отказать мне в этом, хотя он и обещал все своей любезной Лукреции, которая мечтает подчинить своему господству нас всех, заняв герцогский трон в Ферраре. Самые утешительные известия приходят из Фаэнцы. Лукреция попала в западню, и последний гонец привез мне весть об одном замысле, который должен погубить обоих моих врагов. Герцог Альфонсо д'Эсте и упрямый английский рыцарь, вероятно, уже сложили головы. Иначе что могли бы значить переданные мне честным Джованни слова одного незнакомца, встреченного им в Браччиано? Человек в черной одежде иоаннита у трупов Орсини! Конечно, он скоро будет здесь, так как пушка возвестила о моем прибытии в Рим. – Но не странно ли, что он не явился со своими вестями к вам в Браччиано? – спросил каталонец. – Это мы узнаем. Конечно, епископ д'Энна послал его, чтобы изобразить в благоприятном свете пребывание Лукреции в Фаэнце, согласно моему требованию, – возразил Цезарь. – Но этот поступок действительно немного странен. Где же монах? – продолжал он после некоторой паузы. – Я как раз слышу его бормотанье – неизменное «тик-так», – ответил Мигуэлото. – Одиночное заключение несколько помутило ему рассудок, но так бывает со всеми. Фиамма в свою очередь сделалась очень странной. – Тик-так! Как удивительно вертится мир, не зная ни покоя, ни отдыха! – бормотал про себя отец Бруно, входя в комнату, но его тон сделался рассудительнее и спокойнее, когда он узнал герцога Романьи. – Ваша светлость, – продолжал он, – еврейки находятся в ужасном предсмертном томлении и умрут без покаяния и отпущения грехов. – Туда им и дорога! – заметил Цезарь. – Их гибель – дело правосудия. – Герцог Романьи говорит так, и это – вещие слова, – промолвил Бруно с особым выражением в глазах. Последнее не ускользнуло от подозрительного Борджиа и он пригрозил: – Назови это мщением, а не правосудием, если хочешь, но смотри, как бы то же самое не постигло тебя самого! Соучастники твоего колдовства еще живыми могут поведать миру, кто ты таков, если ты прогневишь меня. Но я тебе доверяю. Отныне ты должен быть нашим единственным чудотворцем. Вопреки заявлению Мигуэлото, вопреки мольбам евреев, ты должен сдержать слово, данное черни, и появиться со своею новообращенной на площади Петра. Ты должен опровергнуть перед папой слова этих евреев, утверждающих, будто бы Мириам помешанная. Да, ты должен опровергнуть их своими чудесами, хотя твое обвинение навлечет гибель на князей церкви, симонистов, имена которых ты найдешь вот в этом списке. А если тем временем Мириам придется выдать по высочайшему повелению евреям, и вся христианская чернь поднимет из-за этого бунт, если Колонна и Орсини затеют открытое восстание, а простонародье признает твою чудодейственную силу, то Александру останется искать себе защиты только в моей крепости и мечи моих солдат явятся для него единственной надеждой на спасение. Когда же он очутится у меня, в замке Ангела, а она – в Риме, то я сделаюсь императором, ты – святым, а Лукреция... – А она?.. – спросил доминиканец. – Ну, чем же она может сделаться, подавленная ужасной молвой, которая должна последовать за нею сюда из Фаэнцы, и после гибели обоих своих возлюбленных? – сказал Цезарь, кидая на Бруно огненный взор. – Монахиней самого строгого ордена, – холодно ответил тот. – Разумеется, чтобы она тем лучше подходила тебе! – с мрачным смехом подхватил Борджиа. – Доведенная до отчаяния, изнемогающая под бременем своих преступлений, чем же иным может сделаться она? Ведь не думаешь же ты, что мы станем умолять ее разыгрывать роль императрицы в Риме или помогать тебе в деле исправления ее любезного родителя? Однако, примемся поскорее за дело, – продолжал Цезарь. – Наш властелин пьет на испанский манер, но погода стоит жаркая. Мигуэлото, шести бутылок того же сорта, как те, чудодейственные, будет вполне достаточно, а мы оба удовольствуемся свинцовыми пробками, хотя они не так почетны, как бутылки с серебряными коронами, предназначенные для наших гостей. – Никакого подозрения не может возникнуть, – сказал Мигуэлото. – Однако нам следует подать смотрителю погреба знак, когда он должен поднести превосходный напиток нашим друзьям. Кроме того, пусть он пришлет мне тарелку с персиками по числу осужденных, тех самых, что были собственноручно сорваны мною. Ну, теперь ступай и ты, берись за свое дело, монах! Минуты бегут. Бруно вздрогнул, словно очнувшись от забытья, но тотчас повиновался и вышел с низким поклоном. – И до тебя дойдет очередь, – промолвил Цезарь, провожая его долгим, тревожным взором. – Когда твое дело будет сделано, я постараюсь узнать, почему помогал ты мне с таким рвением. Мигуэлото, смотри, чтобы все было готово, а если сюда придет иоаннит, посол из Фаэнцы, то пошли его немедленно ко мне во дворец. Роковые часы быстро мелькали один за другим и приглашенные на праздник гости собрались в большом числе в зеленеющих крытых ватиканских аллеях. Папский двор направился в зеленый зал из пальмовых деревьев, переплетенных между собою побегами виноградных лоз. Здесь находились папа и герцог Романьи с блестящей свитой из кардиналов и дворян, среди которых можно было заметить рыцаря со спущенным забралом. Волнение в чертах папы возбуждало всеобщее внимание. Цезарь также казался расстроенным, в особенности когда он увидал иоаннита. Но в ответ на его испытующий взор со стороны рыцаря последовал многозначительный кивок головою, что снова успокоило и ободрило герцога. Папа был погружен в глубокую задумчивость и делал вид, что слушает любезности, которые Цезарь расточал кардиналам по мере того, как Бурчардо представлял их с обычными формальностями. – Церковь более чем в одном смысле получила превосходное приращение по внушению свыше, – произнес герцог. – Хотя мы и не принимали участия в вашем повышении, высокочтимые синьоры, однако сердечно радуемся ему и даем этот праздник в знак нашего удовольствия. – Племянник, – сказал папа, – признавая, что ваше довольство настолько же политично, насколько и благородно, прошу вас выслушать нашу речь. В доказательство того, что всякие слухи о нашем нерасположении к вам или о незнакомстве с вашими заслугами были несправедливы, святая коллегия с нашего согласия единодушно решила в воздаяние ваших трудов заменить ваш герцогский титул королевским и сделать вас королем Романьи. Сам Цезарь был так поражен подобной неожиданностью, что не сразу опомнился. Однако, он скоро пришел в себя и поразительно кратко и холодно выразил свою благодарность. – Романья! – воскликнул честолюбец. – Мы боимся, что это название скоро сделается настолько нестерпимым для нашего слуха, что ему не поможет даже возведение ее в королевство. Не по приказу ли вашего святейшества герцогиня Феррарская остается в Фаэнце? – Уж не боишься ли ты, Цезарь, что она отнимет у тебя город? – возразил озадаченный папа. – Нет, не то, но я назначил Реджинальда Лебофора комендантом Фаэнцы за его храбрость, а вашему святейшеству известно, что герцогиня Феррарская по некоторым причинам не должна оставаться в том месте, где повелевает он. И... я вынужден позволить себе смелость просить вас, чтобы вы заставили ее поторопиться с отъездом во избежание дурной молвы, вредной для всех нас. – Вина! Мне нездоровится! Но это – правда, Цезарь, мы слышали о том. Набеги Вителли пугают Лукрецию. Однако, при ней теперь супруг, который придаст ей мужества, – ответил папа с заметным содроганием. Это было не без удовольствия замечено Цезарем, и он воскликнул: – Ну, тогда наполним кубки и дружески чокнемся между собою! Я нашел в Урбино запасы превосходного вина и хочу угостить им сегодня на радостях знатоков. Скажите мессиру Антонио, чтобы он прислал мне алые бутылки вместе с персиками, собранными мною собственноручно в садах Лукреции. В эту минуту из тесной толпы придворных выступил Мигуэлото, опустился перед папою на колена и, по-видимому, ждал, чтобы ему позволили заговорить. – Что с тобою? – спросил его Цезарь. – На тебе лица нет. Чем ты так напуган? – Ваша светлость, – ответил каталонец, – монах, бежавший из замка Святого Ангела и уже давно мутивший народ, крестит теперь, вопреки моему запрещению, еврейку на площади святого Петра, да еще держит возмутительные речи к уличной черни. Еврейка помешана, и ее родные утверждают, что доминиканец старается только присвоить себе ее наследство. Это берутся доказать богатейшие и самые почтенные из ее соплеменников. – Ступайте, передайте еврейку ее близким и схватите монаха именем его святейшества! – повелительным тоном распорядился Цезарь. – Эти народные волнения становятся опасными. – Нет, монах и новообращенная должны предстать перед нами! – внезапно вспылив, воскликнул папа. – Евреи должны быть выслушаны, и мы сами рассудим, в здравом ли уме та женщина, или такая же помешанная, как некоторые люди среди нас, разгуливающие на свободе. – К чему все это, если нам известно что дело идет о той самой сумасшедшей девушке, которая вела странные разговоры против нас в день юбилея? – с беспокойством возразил Цезарь. – Так должно быть, или мы посмотрим, кто властелин в Риме, – ответил папа более строгим тоном и, тяжело вздыхая, оглянулся на Реджинальда, после чего прибавил: – Рыцарь, мы можем вполне положиться на вас. Возьмите с собою наших швейцарцев, которых мы отдаем под вашу команду. – Может произойти внезапное волнение, а у нас, в Риме, не найдется достаточно военных сил для отпора мятежникам, – сказал Цезарь, – в особенности, если еврейка будет схвачена с целью передать ее родственникам. – Пусть этот рыцарь предотвратит насилие, – возразил папа со вздохом. Цезарь истолковал это в благоприятном смысле, тем более, что посол из Фаэнцы ответил на этот испытующий взор низким поклоном, и устремил свое внимание на смотрителя погреба, появившегося с вином в красных бутылках. Реджинальд немедленно удалился, а Цезарь так зорко следил за смотрителем погреба, откупоривавшим вино, что Мигуэлото напрасно ожидал условного знака с его стороны. Лишь заметив, что кубки, предназначенные для него и папы были наполнены из бутылок со свинцовыми, а все остальные из бутылок с серебряными головками, Цезарь, подняв взор, произнес: – Теперь у нас лихие времена, и мы должны быть готовы ко всему худшему! Окружи виноградник моими телохранителями, Мигуэлото, чтобы чернь не последовала сюда за своим коноводом, прорицателем. Отвори ворота в замке Святого Ангела и вели своим солдатам выстроиться, чтобы мы могли доставить его святейшество в безопасное место в случае возникновения беспорядков. Волнение Александра явно усиливалось, но, будучи уверен, что его приказ поспешат исполнить, и монах с еврейкой сейчас предстанет перед ними, он развеселился. Рассыпаясь в похвалах, он вторично заявил о своем намерении возвести Цезаря в королевский сан и предложил присутствующим выпить за здоровье короля Романьи. Между тем, Мигуэлото явился со свирепыми и хорошо вооруженными солдатами Борджиа, после того, как Реджинальд отправился исполнять данное ему поручение. Тут Цезарь впервые высказал свою благодарность, хотя пожаловался со смехом, что ему самому нельзя отведать превосходный напиток. Когда же все собрание поднялось и каждый из вновь произведенных кардиналов взял в руки наполненный кубок, ожидая знака со стороны папы, чтобы поднести его к губам, лицо Цезаря просияло страшной радостью. Зато на лице папы виднелось совсем иное выражение. Его нервная руна дрогнула, когда он поднял кубок, и после минутного колебания он поставил его на стол, стал шарить у себя за пазухой, а затем сказал молодому епископу Караффа: – Ступайте во дворец и принесите мне мой ковчежец. Впрочем, нет, нет, я забыл, что отдал его сам в залог нашей защиты одному человеку! Однако, епископ успел уже удалиться, чтобы исполнить полученное поручение. Папа осмотрелся с некоторым смущением вокруг, поспешно схватил кубок и осушил его, не произнеся никакого тоста. – Ваше святейшество, вы забыли провозгласить тост за здоровье короля Романьи, – с улыбкой сказал Цезарь, но взглянул с видом обманутого ожидания на гостей, которые смотрели друг на друга во все глаза, не решаясь пить. – Да, это – правда, – торопливо подтвердил папа, – однако, мою забывчивость легко исправить. Пусть наполнят еще раз бокалы. Я забыл, нет, не забыл, но мои мысли были рассеяны. Не знаю, как это произошло. Мне все чего-то не достает, и я сам не свой с той поры, как не стало солнечного света, навсегда покинувшего нас. Моя старость становится крайне одинокой. Но это должно предостеречь нас на будущее время, чтобы мы не опустошали сердца других. Кротость подобает старцу, и отныне я намерен более прислушиваться и ее голосу, чем к строгому призыву правосудия. За здравие короля Романьи! Папа вторично осушил кубок, и все последовали его примеру, к безграничному удовольствию Цезаря. После этого поднялся с места он сам, и выпил за здоровье новых кардиналов. Папа присоединился к нему, в надежде успокоить свое все усиливавшееся волнение. Цезарь осушил свой кубок до дна, не оставив в нем ни единой капли, и приказал смотрителю погреба, принесшему персики, снова наполнить кубки его превосходным вином, чтобы все присутствующие могли выпить за благополучное и скорое прибытие герцогини Феррарской в ее новую столицу. Александр с жаром присоединился к этому тосту и, обуреваемый своими затаенными помыслами, впервые по восшествии на папский престол нечаянно назвал Лукрецию своею любезной дочерью, сестрою короля Романьи. Кардиналы переглянулись, несколько раздосадованные обмолвкой папы, но Цезарь вдруг воскликнул с затаенной насмешкой: – Да, никто не может отрицать, что его святейшество всегда обращался с моею сестрою, как с дочерью, со своей любимой дочерью. Александр взглянул с неописуемым и страшным выражением на герцога, так что тот едва мог выдержать молнию этого гневного, испытующего взора и отвернулся в сторону, устремив взор на дверь, откуда должен был появиться монах Бруно. Монах действительно показался минуту спустя между двух швейцарцев, но без Мириам, в сопровождении лишь доминиканца Биккоццо. Все взоры тотчас устремились на отца Бруно и, когда он остановился перед группами участников пира в их пышном одеянии и гордо выпрямился без малейшего признака почтительности к папе, с мертвенно-бледным лицом, выражавшим жестокую, хотя немую страсть всем невольно стало жутко. Только герцог Романьи оставался спокойным. Он кивнул монаху и бросил многозначительный взгляд на опорожненный бокал. Бруно отлично понял этот взгляд, и страшная ухмылка осветила его изможденные мрачные черты. – Где же твоя новообращенная? – спросил монаха папа. – Мы приказали представить ее нам, чтобы мы могли разрешить спор между тобою и евреями, которые объявляют ее помешанной. – Она с моими прочими верующими и ругающимися евреями задержана у ворот стражей герцога Романьи, – спокойно ответил доминиканец. – Черный рыцарь, посланный вашим святейшеством, просит вашего приказания впустить их, или позволения проложить дорогу среди сопротивляющихся. – Бурчардо, ступайте и прикажите от моего имени, чтобы никто не препятствовал пропуску иоаннита, евреев и Мириам. Мы сами будем чинить здесь суд, – сказал папа с порывистой запальчивостью. Это заставило Цезаря воздержаться от решительного сопротивления отцу, и он произнес с притворным равнодушием: – Хорошо! Я – не вмешиваюсь в обращение неверных, хотя, говорят, эта еврейка хорошо собою. Однако, монах, ведь я – знаменосец церкви и имею право спросить тебя, какого рода учение проповедуешь ты. Ведь оно подстрекает народ к мятежу и еретическому неверию. – Мое учение не подлежит вашему суду, – спокойно возразил монах, судить о нем подобает только церкви. – Тогда изложи мне его. Я есть церковь, – приветливо, но все еще в сильном волнении сказал папа. – Познакомь меня со своими планами, и если они хороши и полезны, то я буду усердно способствовать им, так как чувствую, что слишком долго медлил с этим делом. – Вот мои планы! – ответил монах. – Я хочу искоренить симонию Родриго Борджиа, ложно именующего себя папою Александром Шестым. Она расшатала столпы церкви в глазах всего мира, так что небесная твердь колеблется над нашими головами, готовая рухнуть и ввергнуть землю опять в первобытный хаос. Я хочу предать уничтожению все ее и его проклятое отродье. Я хочу очистить церковь от ее грязи и вернуть заблудшие человеческие племена в ее стадо. Я хочу показать небесное правосудие во внезапном, страшном и окончательном падении нечестивой шайки, которая осмелилась похитить даже молнии Господнего гнева, чтобы только опустошить землю. – Он – сумасброд, совершенный сумасброд, – сказал после долгой паузы Александр, опомнившись от своего изумления, – но, как безумец, этот монах может неистовствовать безнаказанно. – У него смелость и, пожалуй, миссия пророка, – возразил Цезарь, причем в тоне его слышался, может быть, не совсем притворный страх. – Взгляните, как почернели все ступени Ватикана от его уличного сброда. Надеюсь, что нам, по крайней мере, не преградят дороги в замок Святого Ангела, и мы успеем доставить этому чудотворцу наш ответ из-под Браччиано. – Я вспомнил, Цезарь, что имел намерение посетить наши тюрьмы в замке Святого Ангела ради дел милосердия и помилования преступников, – произнес папа. – Между прочим, я обещал Лукреции навести справки, содержится ли там Фиамма Колонна, как узница, или живет у вас в качестве гостьи. – Ваш зять великодушно принял ее во Флоренции под свою защиту. После взятия Капуи мы не слышали ничего более о ее судьбе, – не без тревоги ответил Цезарь. – Дай Бог, чтобы она не натворила бед в Ферраре! Однако, монах, древние пророки имели видимые знаки своего призвания свыше. А где же доказательства, что ты послан Богом? – насмешливо спросил герцог, но с таким взглядом, который был понят отцом Бруно. Отец Бруно ответил на него взором, полным отвращения и торжества, и воскликнул: – Может ли быть знамение более явное, чем то, что Цезарь Борджиа, братоубийца, превзошедший жестокость Каина, тиран гнуснее Нерона, неверующий, перещеголявший Фому, помышляет об исправлении церкви? Неужели было бы удивительнее этого, если бы развалины, покрывающие пустыни семи римских холмов, внезапно воздвиглись вновь во всем их минувшем великолепии? – Послушай, монах: хотя ты и помешанный, но твои бредни отзываются злобой, отличающей тебя от прочих безумцев, – заметил Цезарь. – Я ссылаюсь на защиту его святейшества, которая была обещана мне при этом знаке, – с горькой усмешкой ответил Бруно и показал ковчежец папы. – Это – правда, – подтвердил Александр глухим, мрачным тоном. – Цезарь, так как ты считаешь этого монаха пророком, то оказывай ему тот почет, который подобает пророку. – Но ведь вы требуете доказательство, – поспешно продолжал доминиканец, – и я даю вам ответ. Разве я здесь не на свободе? Разве я не принудил камни в замке Святого Ангела возвратить мне мою новообращенную? Да, и я отозвал твою приносящую несчастье дочь, Александр, от ее прелюбодейств в Фаэнце, и она должна повиноваться. – Какие прелюбодейства возводишь ты на нашу дочь? – воскликнул папа и перевел взор с монаха на Цезаря, который был его сообщником. – Симонист! – запальчиво воскликнул Бруно. – Ты противозаконно и безбожно расторг помолвку своей дочери с сыном человека, который спас тебе жизнь и которым ты пренебрег, возгордившись своим нечестиво достигнутым господством. Это он называет супругу Альфонсо Феррарского прелюбодейкой, ту самую, которая милуется с Реджинальдом Лебофором. Это он через посредство отвратительного чудовища, твоего сына Цезаря, возвращает ее теперь обратно в Рим! – А где же он, этот удивительный, первый жених Лукреции? Глупец, ты бредишь! – воскликнул Цезарь не своим голосом, и схватился за кинжал, но отпрянул назад перед гневным взором, который метнул на него папа. – Он здесь, – ответил монах. – Я – Бернардо Ланфранки, которого жалкая гордость и тирания Родриго Борджиа лишили обрученной невесты, чтобы принудить его к монастырской жизни. – Если ты – Бернардо Ланфранки, то зачем ты так долго скрывался от моей благодарности, хотя, правда, она не зашла бы так далеко, чтобы принести тебе в жертву мое дитя? Ты должен получить все нужное для своего благосостояния, только перестань бредить Лукрецией. Узнай, что твое требование пришло слишком поздно в Фаэнцу, а сюда явится сейчас некто, принесший нам весть, что она благополучно избегла расставленной ей западни, встретилась со своим супругом, Альфонсо Феррарским, и прибыла в его укрепленную столицу. Приветствуй его, Цезарь! Это – твой военачальник в Фаэнце, Реджинальд Лебофор! В этот момент Реджинальд вошел в зеленый зал в сопровождении Бурчардо и новообращенной Мириам, которая шла в длинном белом одеянии, устремив взор на мотылька, порхавшего перед ней. Услыхав слова папы, рыцарь тотчас откинул забрало и предстал перед изумленными взорами Цезаря. Появление Лебофора еще сильнее подействовало на доминиканца. Он несколько минут смотрел во все глаза на молодого англичанина, но затем оправился от своего потрясения после такой неожиданности. – По крайней мере, я требую мщения, – произнес отец Бруно. – И я требую мщения, – воскликнул Лебофор, после чего схватил новообращенную и, увлекая ее вперед и сорвав ее покрывало, воскликнул: – Мириам, осмотрись вокруг, и скажи нам – кто он! – Мириам, – проговорил отец Бруно, – вот награда, обещанная тебе мною за твою веру – месть убийце твоего Джованни! Наступило страшное глубокое молчание. Мириам озиралась кругом, пока ее взор не упал на Цезаря, лицо которого пылало, искаженное дьявольскими страстями и страхом. С воплем, который, казалось, должен был достичь до неба, молодая еврейка указала на него! – Вот он, вот он! – О, окажи мне правосудие, судья, и умертви убийцу Джованни!.. Она стремительно подбежала к папе, заседавшему среди собрания, и бросилась перед ним на колени. Цезарь вскочил, как дикий зверь, потревоженный в своем логовище, и, казалось, был готов кинуться на несчастную еврейку. Однако, папа со страшной тревогой в лице, сам поднялся с места и воскликнул: – Проклятие тебе, Каин! Подойди ближе, и моя собственная рука... Гвардейцы, копья вверх! Меч Реджинальда тотчас сверкнул над головою коленопреклоненной еврейки. – Ну, теперь выслушай мое проклятие, – сказал тогда отец Бруно, стоявший перед блестящим собранием в суровом величии зловещего пророка древних времен, с горевшими дикой злобою глазами. – Выслушайте меня, Родриго и Цезарь Борджиа! Небу стали, наконец, нестерпимы ваши преступления, – земле и небу. Тираны, угнетатели, изменники! Час суда, справедливого возмездия и разрушения близок! Повелеваю вам через час предать свои отвратительные души праведному мнению, и пусть ответ на мое требование решит, пророк ли я, посланный Богом, или лживый обманщик из ада. – В самом деле, со мною поступают ужасно! Отцеубийца, ты отравил мое питье? – воскликнул Александр, побледнев, как мертвец, и после короткой борьбы пошатнулся и был отведен Реджинальдом к своему креслу. – Мое сердце в огне, но в этом я не повинен, Александр. Адский колдун, ты отравил меня? – сказал доминиканцу Цезарь, в грудикоторого уже начал действовать яд. – Нет, я только заменил головки на бутылках серебряных ради почетного отличия, подобающего вашему сану и вашим заслугам, – со страшной улыбкой ответил ему отец Бруно. – Унесите меня прочь отсюда! Я умираю! Рыцарь, в Ватикан, не в замок Ангела, – простонал папа и, бросив ужасный взор на Цезаря, прибавил: – это – правосудие! После того он без сознания склонился на руки подоспевших к нему Реджинальда и Бурчардо. – Противоядия! Противоядия! Нотта и Морта! Тысячу золотых тому, кто приведет сюда одну из них! – крикнул Цезарь. – Ваша светлость, они обе умерли, когда я покидал крепость Святого Ангела. Епископ д'Энна прибыл со страшными вестями, – сказал Мигуэлото, только что вбежавший в зал пиршества и с ужасом смотревший на потрясающее зрелище. Мириам тотчас же увидала его и с криком испуга выскочила из-за кресла папы, после чего кинулась опрометью в одну из крытых аллей виноградника. – О, никакой надежды более не осталось! – кричал Цезарь, шатаясь и бледнея, как смерть. – Все пропало! Отрава горит в моих жилах! Однако, мщение! Мигуэлото, хватай колдуна! Он отравил нас. Отец, не считайте меня своим убийцей! Помогите!.. Фиамма!.. О, Фиамма! Противоядия! Огненные фигуры! Черная в сверкающей чалме. Прочь его! Он вырывает у меня сердце своими раскаленными щипцами! Все эти чудовищные образы. Пламя... пламя! Так это и есть ад? Ужас! Ужас! Помогите... спасите, Фиамма, помоги! И герцог Романьи, в свою очередь, рухнул без памяти наземь. Когда с поразительной быстротой по Риму распространилось известие, что папа лежит при смерти в Ватикане, а герцог Романьи в таком же состоянии в замке Святого Ангела, в городе тотчас возникли беспорядки, грозившие всеобщей гибелью. Еще неделю томился папа в жестоких предсмертных страданиях, пользуясь до самого конца заботливым уходом Реджинальда Лебофора. Об участи Цезаря не знали ничего достоверного. Ходила только смутная молва, что он еще жив и что какая-то колдунья избавила его от действия отравы разными снадобьями. Однако, телесные муки, казалось, не сломили силы и энергии его духа, и, как только стало известно, что папа скончался, его солдаты заняли Ватикан, откуда Реджинальд успел своевременно удалиться. Фабио выступил с сильным войском в Рим и угрожал гибелью всем Борджиа. Реджинальд поспешил ему навстречу и скрежетал зубами от ярости, когда услышал, что Паоло Орсини в последние минуты просил передать английскому рыцарю просьбу уехать в Англию не ранее того, как он отомстит за его смерть уничтожением тиранов. Относительно участи, постигшей Мириам, не удалось получить верные сведения, но, когда мстители проезжали по мосту в замок Святого Ангела, старый лодочник Чиавоне причалил к берегу с женским трупом, который он вытащил из речной тины. Это было мертвое тело Мириам. Однако, добровольно или насильственно нашла она смерть в волнах Тибра, осталось навсегда неразгаданной тайной. Фабио Орсини и Реджинальд решили отомстить Цезарю, но значительные боевые силы, которыми герцог Романьи занял Ватикан и крепость Святого Ангела, а также приказы кардинальской коллегии, взявшей на себя управление городом и старавшейся удалить оттуда все враждующие партии на время выборов нового папы, сильно затрудняли эту задачу. Тогда Фабио вздумал подстрекнуть фанатическое безумие народа, прося помочь ему освободить отца Бруно из рук Цезаря. Народная ярость вспыхнула при этом с такою силой, что римляне потребовали оружия, собираясь идти на приступ крепости Святого Ангела. Однако, этот замысел был внезапно разрушен встречным народным движением, вызванным партией Борджиа. Было объявлено, что колдун в монашеской рясе потребовал, чтобы Божий суд огнем доказал непреложность его пророческой миссии и несправедливость взведенного на него обвинения, и Цезарь разрешил произвести это торжественное испытание всенародно на площади Святого Петра. Любопытство и фанатизм черни были возбуждены до крайности. Фабио с Реджинальдом решили присутствовать на этом зрелище, чтобы воспользоваться каждым благоприятным случаем для возмущения народа, и надежде, что доминиканец потребовал Божьего суда лишь с целью искать защиты у своих приверженцев и врагов Борджиа. Костер был воздвигнут. Лебофор и Фабио с конным отрядом отборного войска были готовы действовать, как только представится удобный момент. Бруно Ланфранки явился, окруженный многочисленной стражей. Мигуэлото шел с ним рядом с обнаженной головой. Бруно шел, откинув капюшон и потупив взор, но ни в его поступи, ни в чертах ничто не указывало на твердую решимость подвергнуться страшному Божьему суду. Вдруг Биккоццо, проложив себе дорогу в густой толпе, кинулся к ногам отца Бруно и стал молить его сказать только слово, после чего народ немедленно освободит его. В несметной толпе, запрудившей площадь, поднялось страшное волнение. Но Бруно мановением руки водворил молчание и стал держать воодушевленную речь народу, в которой изъявил свое непоколебимое намерение предать себя пламени. Реджинальд был склонен освободить его насильно, но Фабио Орсини поддался общему суеверному волнению и просил своего друга выждать результата. Костер был подожжен, и пламя взвилось высоко кверху. Реджинальд хотел сделать еще попытку подстрекнуть народ к освобождению монаха, как вдруг возглас Бэмптона: – «Берегитесь! Измена!» заставил его вздрогнуть. Верный старый оруженосец кинулся к нему и успел еще вовремя заслонить его собою, чтобы принять в грудь смертельный выстрел, направленный в молодого рыцаря. Увидав неудачу своего покушения, Мигуэлото крикнул своим конным солдатам, чтобы они спешили обратно в крепость Святого Ангела, но Лебофор яростно поскакал за ним вдогонку и настиг каталонца на мосту замка. Однако у Мигуэлото не было охоты меряться силами с разъяренным противником, да не было и времени: испуганная лошадь Мигуэлото прыгнула вместе с ним самим через перила в реку. Бэмптон умер в объятиях своего юного повелителя с последним словом: – Домой! Домой! Кардиналы употребили все средства, чтобы восстановить спокойствие в городе перед избранием нового папы, и по соглашению с посланниками иностранных держав было решено, что Цезарь, Орсини и Колонна должны оставить город со всеми своими войсками. Реджинальд не хотел уезжать, пока партия Борджиа не выступит из Рима, и остановился у городских ворот. Вскоре появились носилки, у которых двенадцать алебардистов несли некогда столь могущественного властелина. Реджинальд выразил желание переговорить с Цезарем, как вдруг подскакал паж в надвинутом на глаза берете и поднял свою секиру, как будто считая возможным оказать какое-либо сопротивление, если бы английский рыцарь воспылал враждебными намерениями. Реджинальд передал ему свою железную перчатку с просьбою доложить Цезарю о вызове. – Удержите ее, рыцарь, при себе, – ответил юноша. – Это бесполезно, он не может отвечать вам. Некогда столь могучий ум потрясен, и не осталось больше ни одного столба, чтобы подпереть падающее здание. В это время Цезарь сам отдернул занавеску своих носилок, свирепо и упрямо посмотрел на своего противника и воскликнул: – Подай мне перчатку, Фиамма! Я хочу жить, хотя бы только для того, чтобы отомстить этому рабу, разрушившему все мои планы создания могучей империи. Реджинальд хотя и обманулся в своем расчете расквитаться с заклятым врагом и потерял надежду на все, все же не мог заставить себя вернуться в свое отечество и однажды, в момент полного уныния, решился отпустить обратно в Англию своих стрелков и хлопотать о принятии его в орден иоаннитов. Покинув Рим, он отплыл на остров Родос, в то время главное владение ордена. Однако, некоторое время спустя молодой англичанин был так возмущен распущенностью иоаннитских рыцарей, что изменил свое намерение. К тому же произошло событие, подавшее ему новую надежду удовлетворить свою жажду мщения. Падение Цезаря Борджиа произошло так же быстро, как и его возвышение, а после того, как физическое действие отравы было ослаблено, больного постиг душевный недуг. Ярость его врагов несколько утихла, когда они отняли у него всю власть и все его владения. Испанцы отправили некогда победоносного вождя в качестве пленника в свое отечество, где он просидел два года в одном укрепленном замке, пока не вырвался на свободу с помощью своего верного пажа Фиаммы, делившей его заточение. Цезарь бежал в Наварру, король которой, его тесть, принял его с распростертыми объятиями. В войне между королем и его вассалами Борджиа стяжал вновь свою былую военную славу, и молва об этом побудила Реджинальда оставить свое намерение поселиться на Родосе. Вновь воспылав жаждой мщения, он отправился через Францию в Наварру и прибыл в город Виенну, который был осажден королем наваррским и Цезарем Борджиа. Лебофор поступил добровольцем на службу владетельного князя Виенны, и прибытие этого знаменитого английского рыцаря вдохнуло новое мужество в осажденных. Они отважились на вылазку. Последовала общая битва, и осажденные потерпели в ней поражение. Когда Цезарь слишком рьяно пустился преследовать беглецов, ему внезапно преградил дорогу рыцарь в ненавистном и зловещем для него одеянии иоаннитского ордена. – Цезарь Борджиа, – громко воскликнул Реджинальд, – я явился к тебе за своею железной перчаткой! Через минуту, думая, что противник успел приготовиться к битве, он взял копье наперевес и кинулся на герцога. Тот как будто внезапно обессилел, и Лебофор почувствовал, что оружие врага лишь слабо скользнуло по его груди, тогда как его собственное копье, пробив доспехи Цезаря, вонзилось ему в тело, и кровь хлынула из раны. Цезарь еще твердо держался в седле, пока, наконец, упал навзничь на руки пажа, который, соскочив с лошади, едва успел подхватить его. Тяжесть герцога пригнула верного слугу к земле. Тогда Реджинальд в свою очередь также спрыгнул с коня, чтобы поспешить ему на помощь. Паж снял шлем со своего раненого господина. Опершись на локоть, Цезарь уставился на Лебофора взором, а юноша-паж старался унять кровь, лившуюся из глубокой раны. – Не суетись, не суетись, Фиамма, все напрасно! Видишь, он явился схватить меня, – сказал Борджиа глухим тоном ужаса. – Это – Джованни! – Нет, я – Реджинальд Лебофор и явился, чтобы заставить тебя поплатиться за все преступления! Жаль только, что тебе не пришлось умереть смертью злодея. – Реджинальд Лебофор! Ну, тогда человеческое ли ты существо, или... порождение ада... Фиамма, пусти меня! – воскликнул Цезарь и оттолкнул руку, зажимавшую ему шарфом рану. Он с нечеловеческим усилием вскочил на ноги, чтобы кинуться на своего врага, но почти моментально рухнул наземь возле коленопреклоненной Фиаммы. Много лет не мог позабыть Реджинальд Лебофор вопль испуга, вырвавшегося у нее, когда она увидела смертельную бледность окровавленного трупа, голову которого несчастная еще старалась безуспешно приподнять. Приближение отряда наваррских всадников заставило английского рыцаря подумать о собственной безопасности, и он покинул пажа на груди слишком горячо любимого, жестокого повелителя, этого гения коварства, наконец покинувшего земной мир, который он осквернял своими ужасными преступлениями. История занесла их на свои бесстрастные, правдивые страницы, и имя Борджиа считается вечным позором человечества. (обратно) (обратно) (обратно)Эскотт Линн Робин Гуд
Текст печатается по изданию: Москва – Ленинград, ГИЗ, 1928 г.
ГЛАВА ПЕРВАЯ ГОСТИ В ШЕРВУДСКОМ ЛЕСУ
 Майское утро в старом Шервудском лесу!
Восходящее солнце золотило верхушки вековых дубов и буков, зяблики и снегири весело порхали с ветки на ветку, в утреннем воздухе стоят аромат цветов.
На берегу журчащего ручья сидел молодой человек в серой фуфайке, штанах из тонкого сукна, высоких кожаных сапогах и синей бархатной шапочке. Подле него, на траве, лежала арфа. Сжимая голову обеими руками, юноша глубоко вздыхал. Потом взял арфу, настроил ее и стал задумчиво перебирать струны. Музыка привела его в уныние. Отложив в сторону инструмент, он снова вздохнул и запел:
Майское утро в старом Шервудском лесу!
Восходящее солнце золотило верхушки вековых дубов и буков, зяблики и снегири весело порхали с ветки на ветку, в утреннем воздухе стоят аромат цветов.
На берегу журчащего ручья сидел молодой человек в серой фуфайке, штанах из тонкого сукна, высоких кожаных сапогах и синей бархатной шапочке. Подле него, на траве, лежала арфа. Сжимая голову обеими руками, юноша глубоко вздыхал. Потом взял арфу, настроил ее и стал задумчиво перебирать струны. Музыка привела его в уныние. Отложив в сторону инструмент, он снова вздохнул и запел:
О, горько мне! Какие муки!
Любимая навек уходит от меня
Но я не вынесу разлуки
И не увижу завтрашнего дня
И не увижу никогда я глаз,
Прекрасных глаз возлюбленной моей!
О, если б перед смертью только раз
Увидеться мне с ней!
ГЛАВА ВТОРАЯ ПИР В ЛЕСУ
Альрик хотел было отвязать привязанную к дереву лошадь, но Робин Гуд остановил его, сказав, что и о лошади и об убитом олене позаботятся его люди. Они отправились в путь. Впереди шел Вилль Рыжий. Пробираясь сквозь заросли и пересекая поляны, он, казалось, руководствовался какими-то приметами, невидимыми для постороннего человека. Изредка на пути им попадались люди – хмурые угольщики и свинопасы. Робин Гуд кивал им головой и шел дальше. Иногда он обменивался с ними условными знаками или несколькими словами, имеющими какой-то тайный смысл, после чего крестьяне снова скрывались в чаще. Все это не ускользнуло от внимания Альрика, который начал понимать, что здесь, в Шервудском лесу, Робин Гуд действительно является важной особой. Дорогой Альрик рассказывал своим новым друзьям о себе. Дед его Торед жил в Коллингхэме, где был у него замок и участок земли – все, что осталось от некогда большого поместья. Франклин – как его называли – вел уединенный образ жизни и почти никогда не выезжал из своего замка. Питая ненависть к норманнам, он окружил себя людьми чисто саксонского происхождения. В ту эпоху норманнами англичане называли людей не только норманно-французского, но и англо-норманнского происхождения, а также фламандцев и брабантцев. После завоевания Англии норманнами[540] народная масса осталась англо-саксонской, тогда как первую роль в государстве играла норманнская знать, говорившая на норманно-французском наречии и кичившаяся своим происхождением. В первые десятилетия английские бароны отнесены были на второй план – все лучшие поместья норманнский король отдавал своим соплеменникам, самые выгодные должности также переходили к норманнам. Нередко норманнские графы, пользуясь своим высоким положением, силой отнимали у английских аристократов родовые замки, и после завоевания английское дворянство ненавидело победителей. Но понемногу междоусобные распри английских и норманнских баронов ослабели: немало норманнских дворян породнились с английскими, и в дни правления Иоанна (брата Ричарда Львиное сердце) большинство баронов объединилось для борьбы с королем, забыв о своей национальной вражде в прошлом. Иоанн благоволил к норманнскому дворянству, но приблизил он к себе только нескольких любимцев, а со своей массой английских и норманнских аристократов совершенно не считался. Деспот, коварный, злой и мстительный, он скоро возненавидел норманнских рыцарей, как ненавидел и английских, – возненавидел потому, что крупные вассалы не мирились с его деспотизмом. Таким образом он восстановил против себя не только англичан, но и норманнов, жестоко расправляясь с непокорными феодалами при помощи немногих своих фаворитов. Еще с большей жестокостью расправлялся он с крестьянами, ремесленниками и горожанами. «Свободные люди» стонали от притеснений его ставленников. Интересы народа не совпадали с интересами английской и норманнской знати, но из баронов той эпохи никто не превзошел в жестокости ставленников Иоанна, которые считали себя в полной безопасности, опираясь на поддержку короля. И никто не притеснял свободных людей больше, чем королевские чиновники. Накипало раздражение как у баронов, так и у народа, бесправного и угнетаемого. Конечно, бароны восставали не против королевской власти – они восставали против произвола Иоанна, лишившего их многих привилегий, и во имя своих целей они нередко опирались на помощь крестьян и горожан, чтобы свести счеты с королем. А так как народ ненавидел облеченных властью ставленников короля, то он не отказывался в ту эпоху сражаться вместе с баронами против Иоанна. Английский франклин Торед был одним из тех, кто не желал иметь дело со своими соседями норманнами. Пожалуй, эта неприязнь к норманнам могла навлечь на него гнев короля, если бы не было у него защитников при дворе – английских танов[541], которые с течением времени успели забыть о своей вражде к победителям или же считали более благоразумным поддерживать добрые отношения с власть имущими. Такой точки зрения придерживался Эдуард, тан Боддингтонский, близкий друг франклина Тореда. Эдуард свободно говорил на языке норманнов, носил норманнскую одежду и оружие. Часто бывая в Коллингхэме, он полюбил Альрика и, к великому неудовольствию старого Тореда, обучил его норманнскому языку. Хотя предки Эдуарда сражались при Гастингсе[542] под знаменем Гарольда, но тану чуждо было чувство национальной вражды. Благодаря покровительству Эдуарда, Альрик, с согласия своего деда, получил возможность присутствовать на турнире, который скоро должен был состояться в Ноттингхэме. В турнире принимал участие и тан Эдуард. Эдуард с Альриком приехал в Ноттингхэм два дня назад. Пользуясь ясной погодой, Альрик ранним утром выехал на прогулку и забрался вглубь Шервудского леса, находящегося в окрестностях Ноттингхэма. Случайно удалось ему подстрелить оленя. Дело в том, что франклин Торед глубоко возмущался законами об охоте, воспрещавшими охотиться в королевских лесах. В своих собственных владениях Торед разрешал охотиться каждому и свои взгляды сумел внушить внуку. Вот почему Альрик, увидев оленя, натянул тетиву и, недолго думая, убил его. Когда он закончил свой рассказ, Робин сказал: – Признаюсь, я разделяю точку зрения твоего деда, Альрик, но боюсь, как бы он не попал в беду, да и ты вместе с ним. Быть может, в окрестностях Коллингхэма нет шпионов, но здесь, в Шервуде, нужно быть осторожным. Человек, убивший королевского оленя, рискует в лучшем случае потерять правую руку. – Но ведь тебе и твоим молодцам случается охотиться в Шервудском лесу, – возразил Альрик. – Верно! – засмеялся Робин Гуд. – Но мы объявлены вне закона, а потому и не признаем закона об охоте. Кроме того не всякий посмеет нас тронуть. Баронам пришлось бы идти на нас с войском, если бы они вздумали оспаривать у Робин Гуда право охотиться в Шервудском лесу! Но вот мы и достигли цели нашего путешествия. Обещай мне одно: никому из тех, кто питает к нам недобрые чувства, ты не расскажешь того, что увидишь здесь или услышишь. – Даю тебе слово, Робин! Они вышли на просеку, и глазам Альрика предстало странное зрелище. Просека походила на неглубокую воронку, имевшую ярдов триста в ширину и двести в длину. Трава зеленым ковром покрывала отлогие склоны; вокруг росли карликовые дубы. В дальнем конце просеки сверкал на солнце кристально-чистый ручей, а меж деревьев виднелись хижины и шалаши. Там дымились костры, и ветерок доносил аппетитный запах жареного мяса. На просеке толпились люди – молодые дюжие парни в ярко-зеленых костюмах. Одни бродили взад и вперед по лужайке, другие, смеясь и болтая, валялись на траве; кое-кто практиковался в стрельбе из лука, – мишени были поставлены у ручья, – а несколько парней затеяли борьбу. Робин Гуда встретили радостными возгласами. Один из молодцов – человек средних лет, с лицом цвета дубленой кожи – крикнул ему: – Здорово, Робин! Ребята проголодались и требуют, чтобы подавали обед. Мы ждали только тебя. – Больше вам ждать не придется, Нэд, – отозвался Робин. – Скажи, чтобы вынесли столы и созвали всех ребят. Только караульные должны остаться на своих местах. Пусть их сменят через два часа, чтобы и они могли принять участие в общем веселье. – Все будет сделано, – откликнулся Нэд. И ушел напевая песню. Робин направился к хижинам, видневшимся меж деревьев. Между тем парни вытащили на поляну столы, скамьи, блюда, корзины и глиняные кружки. Вокруг огромных костров суетились люди; они шпиговали мясо, поджаривали на вертелах куски оленины и говядины. На одном вертеле жарилась целая овца. Жареные куры и зайцы лежали на траве рядом с пшеничными хлебами, по-видимому испеченными сегодня утром. В стряпне мужчинам помогало несколько женщин. Присутствие женщин в этой лесной глуши удивило Альрика. Он с недоумением посмотрел на Робин Гуда, а тот расхохотался и сказал: – Неужели ты думал, что человек, объявленный вне закона, не может иметь жену? Все эти женщины последовали за своими мужьями, когда те, спасаясь от притеснений, бежали в Шервудский лес. Они нас обшивают и ухаживают за больными. Признаюсь, без них нам трудно было бы обойтись. В эту минуту внимание Альрика привлек толстяк в монашеской рясе, помогавший выкатить на лужайку две огромные бочки. Лицо у этого человека были румяное, нос багровый, губы толстые и красные, а шея бычья. Бахромка жестких черных волос окаймляла его тонзуру[543]. Маленькие черные глазки поблескивали весело и лукаво. – Здравствуй, отец Тук! – обратился Робин к толстяку. – Здорово, Робин! Ну и задал же ты мне сегодня страху! У нас тут уже все готово, а Робина нет как нет. Опоздай ты еще на несколько минут – и жаркое бы пережарилось. А уж тогда наложил бы я на тебя епитимью[544]. – Ну-ну, не пугай меня! – улыбнулся Робин. – Познакомься-ка с моими друзьями. Вот это – Элен-э-Дэл, знаменитый менестрель, а этого юношу зовут Альриком. – Pax vobiscum[545], – буркнул отец Тук. На гостей он даже и не взглянул; по-видимому бочки поглотили все его внимание. – Эх ты, медведь! – заорал он, когда один из парней оступился, и бочка тяжело упала на траву. – Если ты ее продырявишь, я тебе шею сверну! Драгоценная влага создана для того, чтобы лить ее в глотку, а не на землю. С этими словами он схватил бочку и без всякого труда поставил ее, как следует. – Красноносый, ты больше интересуешься выпивкой, чем гостями, которых мы привели, – упрекнул его Маленький Джон. – Нечего сказать, вежливое у тебя обхождение! – Молчи, карлик! – прикрикнул толстяк. – Можно ли думать о вежливости, когда драгоценной влаге грозит опасность? Он утер рукавом рясы вспотевшее лицо и повернулся к Элен-э-Дэлу и Альрику. – Добро пожаловать, друзья! Кто вы такие – мне неизвестно; что же касается меня, то я – отец Тук. Окрестить вас, женить или похоронить я могу не хуже, чем любой монах, а уж напою или накормлю, не в пример лучше! Если же дело дойдет до драки на дубинках, то я любого отколочу так, что у него все косточки будут ныть. Все захохотали, а отец Тук, убедившись, что бочка прочно стоит на земле, вытащил втулку и, подставив кожаный мех емкостью в три пинты, нацедил в него пенистого эля. Затем он сдул пену и, подмигнув Маленькому Джону, крикнул: – Пью за всех нераскаянных грешников! Глубоко вздохнув, он припал губами к меху. Маленький Джон, надеявшийся, что мех пойдет в круговую, рассердился и заворчал: – Хватит с тебя, красноносый пьяница! Или не видишь, что и другие хотят утолить жажду? С этими словами он вырвал мех из рук монаха и стал пить большими глотками. – Разбойник! Что ты со мной делаешь? – завопил Тук, пытаясь отнять мех. Но Маленький Джон выпил все, до последней капли. – Робин, я, взываю к тебе! – крикнул толстяк. – Не предать ли мне его анафеме? – Довольно, довольно! – остановил его Робин Гуд. – Оба вы – словно малые ребята. Слышишь – трубят в рог, зовут молодцов на пир! Позаботься-ка лучше о том, чтобы все наелись досыта. Еще не замер звук охотничьего рога, когда Робин со своими друзьями вышел на просеку. Длинные столы и скамьи были уже расставлены. Принесли хлеб, кружки, огромные блюда с овощами, мясом и дичью. Частенько приходилось изгнанникам жить впроголодь, но сегодня по случаю майского празднества всего было вдосталь. Все заняли свои места и приступили к еде, разрезая мясо охотничьими ножами. По правую руку Робин Гуда сидели Элен-э-Дэл и Альрик, по левую – Маленький Джон и Вилль Рыжий. За этим же столом разместились еще человек шесть-семь, в том числе и отец Тук. Доски стола гнулись под тяжестью фляжек с элем и блюд с олениной, бараниной, говядиной и дичью. Отец Тук положил на свою тарелку целую курицу и, не мешкая, стал ее уплетать. В течение получаса слышался только стук ножей, звон посуды да громкие возгласы: «отрежь еще кусок оленины», «передай мясо», «наполни мою кружку, приятель!» Утолив голод, молодцы убрали со столов объедки и наполнили кружки элем, медом и сидром. – Менестрель, – обратился Робин к Элен-э-Дэлу, – настрой-ка свою арфу и спой нам песню, если хочешь порадовать и меня и моих ребят! – Охотно исполню твою просьбу, – отозвался Элен-э-Дэл. – Хочется мне сложить песню в честь веселых молодцов. Взяв лежавшую на траву арфу, он настроил ее и пробежал пальцами по струнам. Потом мелодичным голосом запел, аккомпанируя себе на арфе:Молодцы веселые! Дружно
Веселитесь в зеленом лесу
Унывать никогда не нужно.
Поглядите – бочонки несут.
Эх, тяжелые дни и недели
Вы запейте добрым вином,
Нацедите крепкого эля,
О котором мы песни поем.
Молодцы веселые! Дружно
Песни пойте и пейте вино.
Эти бочки пузатые нужно
Осушить по самое дно.
Вы свободны и вольны, как птицы,
Что живут в зеленом лесу.
Пусть же каждый развеселится –
Вот еще бочонки несут.
Покинем лес, и на лугах
Нас ждет всегда олень.
Мы бьем его и здесь, в лесах,
Пируем целый день.
Глядите – дичь над головой!
В руках наш добрый лук.
Довольны мы своей судьбой
И делом наших рук.
Кто веселее нас живет?
Кто ценит каждый час?
И сам король не перепьет
Ни одного из нас.
У нас и Джон и Тук всегда,
И с нами Робин Гуд
Их не заменишь никогда,
Когда они умрут.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПОСЛЕ ПИРА
Робин Гуд был радушным хозяином. Альрика и Элен-э-Дэла он взял под свое покровительство и позаботился о том, чтобы они увидели все самые интересные спортивные упражнения. Альрик, страстно любивший спорт, с любопытством следил за состязаниями в борьбе, беге и прыжках и восхищался ловкостью этих жителей лесов. Затем началось состязание на дубинках – любимом оружии англичан. Дубинка – шест с железным наконечником – имела около восьми футов в длину и в руках ловкого человека являлась опасным оружием. Обеими ее концами пользовались и для защиты и для нападения. Немало голов разукрасилось шишками и ссадинами, но участники состязания не обращали внимания на такие пустяки. Заклеив ранку куском грубого пластыря и промочив горло элем, они забывали о своей неудаче и не прочь были испытать свои силы в какой-нибудь другой игре. Искуснее всех владели дубинкой Маленький Джон и отец Тук. Оба вышли победителями к концу состязания, и теперь им оставалось помериться силами друг с другом. – Э, карлик, да тебе, кажется, еще не проломили башки? – осведомился толстяк, вытирая пот с лица. – Ты не ошибаешься, красноносый, – усмехнулся Маленький Джон. – Они меня пощадили, чтобы я мог попотчевать тебя дубинкой. – Ну, мы еще посмотрим, кто кого попотчует! – И смотреть нечего! Или не помнишь, как в последнюю нашу игру ты распластался на земле? – Верно, малютка! Трава была мокрая, и я поскользнулся, а ты наступил мне ногой на брюхо и стал размахивать дубинкой перед самым моим носом. Я признал себя побежденным только для того, чтобы доставить тебе удовольствие. – Память у тебя короткая, красноносый. Я тебя погладил дубинкой по голове, а ты рухнул, как подкошенный. – Полно, хвастун! Это ты припоминаешь свою схватку с котельником из Барнсдэла. Да и тот бы тебя приколотил, не испугайся он твоей страшной рожи. – Не на меня он смотрел, а на тебя! – захохотал Маленький Джон. – Не чудо, что его затошнило. – Ах ты, дерзкий плут! Как ты смеешь оскорблять служителя церкви? – Скажи лучше – служителя винной бочки, это одно и то же! Впрочем, тебя с таким брюхом даже и в монастырь не пустят! – Робин, – крикнул монах, – сегодня этот болтун дважды оскорбил мой слух. Разреши мне его проучить! – Проучи, если можешь, отец Тук! – Если могу! Скажи лучше – если хочу! Ну, карлик, – повернулся он к Маленькому Джону, – бери свою дубинку и защищайся. Я из тебя выколочу спесь, и впредь ты будешь знать, кто из нас двух сильнее. – Я и теперь это знаю, старая трещотка. Можешь быть уверен, что не тебе достанется приз. Толстяк сбросил рясу и остался в одной рубахе и коротких холщовых штанах. Следуя его примеру, Маленький Джон снял куртку. Зрители, с восторгом прислушивавшиеся к шутливой перебранке двух друзей, подошли ближе. Все знали, что в Англии никто не владеет дубинкой лучше, чем эти двое. Маленький Джон был выше ростом, но отец Тук отличался атлетическим сложением и, несмотря на свою толщину, был подвижен и увертлив, как юноша. Схватив дубинку, он поднял ее над головой и стал крутить, словно легкое перышко. Маленький Джон добродушно улыбнулся. – Смотри, не утомляйся, – предостерег он своего противника. – Будь спокоен! Я хочу отделаться от излишней силы. А то ударю тебя так, что ты ноги протянешь. – Ну что, готовы? – спросил Робин. – Да, – отозвались оба. – Начинайте! И противники заняли свои места. Сначала они, словно шутя, размахивали дубинами, не переставая подсмеиваться друг над другом, но мало-помалу оба разгорячились. Быстрее замелькали дубины, слышался оглушительный треск и стук, когда палка ударялась о палку. Десять минут продолжалась первая схватка, пот ручьями лился с обеих силачей, но ни одному не удавалось хотя бы коснуться противника дубинкой. Наконец оба начали задыхаться и, по взаимному соглашению, сделали передышку. – Вот это игра, так игра! – воскликнул Робин Гуд, а зрители наперебой восхваляли обоих бойцов. Действительно, редко кому приходилось быть свидетелем такого поединка. – Ты прав, Робин, – сказал Тук. – Это была только игра, а сейчас я поведу дело всерьез. Береги голову, малютка! – крикнул он Маленькому Джону, поднимая дубину. – А ты береги плечо! – откликнулся тот. Снова застучали друг о друга дубинки. Противники сходились, расходились, кружились на одном месте, парировали удары, стараясь использовать каждый известный им трюк. Казалось, силы их были равны, и нельзя было решить, на чьей стороне перевес. – Эге, я тебя задел! – заревел Тук, ударив Маленького Джона по плечу. – А я с тобой расплатился! – отозвался гигант, ткнув толстяка железным наконечником в бок. – Не будь ты таким жирным кабаном, я бы сломал тебе ребро. – Берегись! – снова закричал Тук. – Голову береги! Локоть! Колено! Ага, попался! Его дубинка больно ударила Маленького Джона по колену. – Да разве ты меня коснулся? – воскликнул тот. – А я и непочувствовал. Ну, посмотрим, как тебе этот удар понравится! И он треснул толстяка по голове. Однако Тук устоял на ногах, и снова начали они наступать друг на друга. Когда через десять минут они приостановились, чтобы перевести дух, зрители разразились восторженными рукоплесканиями. – Клянусь костями короля Гарольда, таких бойцов я еще не видывал! – крикнул Робин Гуд. – Эй, Нэд, принеси-ка рог с элем! Утолите жажду, ребята! Еще одна схватка, и тогда я решу, кого из вас признать победителем. Противники осушили рог, и состязание возобновилось. Теперь оба бились с еще большим пылом. Так быстро мелькали дубинки, что зрители не успевали следить, попадают ли в цель удары. Дважды толстяк с ожесточением нападал на гиганта, и дважды Маленький Джон парировал удары. Вдруг Джон, взяв за один конец дубинку, размахнулся, намереваясь ударить Тука по ногам. Если бы ему это удалось, состязание было бы окончено. Но Тук, не имея возможности парировать удар, высоко подпрыгнул, и дубинка Джона рассекла воздух. Зрители заревели от восторга. Действительно, такой прыжок делал честь толстяку Туку; никто не ждал от монаха такого проворства и находчивости. Джон не успел опомниться, как Тук наградил его ударом по плечу, а Маленький Джон ответил на этот выпад ударом в бок. Состязание грозило затянуться до бесконечности; в третий раз бойцы сделали перерыв. Робин Гуд поднял руку и крикнул: – Довольно! Такой драки никто еще не видывал. Ни одни не уступает другому, и вас обоих я объявляю победителями. Тук и Маленький Джон – лучше бойцы в мире. И я готов сразиться на дубинках с каждым, кто вздумает оспаривать мое решение. – Нет, нет! Никто не оспаривает! – закричали со всех сторон. – Да здравствуют Маленький Джон и Веселый Тук! Ура! – Наполним кружки! – крикнул Робин Гуд и громко запел:Да здравствует толстый Тук,
Да здравствует Маленький Джон!
Этих могучих рук
Берегись, король и барон!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ТОМ-БРОДЯГА
Четыре дня спустя после приключения Альрика в Шервудском лесу толпы народа собрались на лугу, находившемся на расстоянии мили от города Ноттингхэма. Был последний день турнира, устроенного Робертом Рэно, шерифом ноттингхэмским, в честь короля Иоанна, остановившегося в Ноттингхэмском замке. Состязания происходили на овальной формы площадках или аренах, вокруг которых были протянуты веревки. Было воздвигнуто несколько трибун. Центральное место занимала великолепная трибуна, украшенная королевским гербом. На конце каждой площадки возвышались павильоны и палатки рыцарей, участвовавших в турнирах. Пестрели знамена и флаги, сверкали щиты участников состязания. На королевской трибуне восседал король Иоанн в богатом одеянии, окруженный пышной свитой. Придворные были одеты в шелковые и атласные костюмы всевозможных оттенков. Были здесь и женщины – жены или родственницы рыцарей и вельмож. Вокруг трибуны расположилась стража, а за веревками, преграждавшими путь к аренам, толпился народ. Собрались здесь и англичане, и норманны, и датчане. Из Дерби, Лейчестера, Линкольна, Георгшира пришли сюда поселяне, ремесленники, рабы, бродяги, солдаты. Всем любопытно было поглазеть на турнир. Богато разоделись вельможи, восседавшие на королевской трибуне, но у простолюдинов не было праздничного платья. Кое-где среди грубых серых или коричневых курток из домотканой материи мелькали белые и черные рясы монахов. Блестели в лучах солнца стальные шлемы. Первый день турнира был посвящен состязанию в верховой езде и искусстве владеть оружием. К концу дня победителями вышли сэр Питер де Молак, Генри, Монфише и английский тан Эдуард Боддингтонский, получившие дорогие призы. В полдень началось состязание тридцати всадников, вооруженных пиками и щитами. Немало сломано было пик, немало зазубрин осталось на щитах и шлемах, но никто из участников не потерпел повреждений, так как на острия пик были надеты тупые наконечники. Вечером были устроены игры. В многочисленных палатках продавались всевозможные напитки, кушанья, одежда, безделушки. Торговля шла бойко. В последний день турнира пажи и оруженосцы рыцарей, а также юноши, еще не получившие рыцарского звания, состязались в метании копий, борьбе и других видах спорта. В этом состязании участвовал и Альрик, получивший призы за фехтование и верховую езду. Его успех не прошел незамеченным, и юноши, которых он победил, стали посматривать на него недружелюбно. Состязание в стрельбе из лука устраивалось для народа. Лучшим стрелкам шериф Рэно должен был выдать два приза – серебряный охотничий рог и серебряную стрелу. Этого состязания Альрик ждал с нетерпением. Ему хотелось знать, найдется ли в толпе хоть один человек, который может соперничать с меткими стрелками из Шервудского леса. – Знаешь ли, Альрик, – сказал Эдуард Боддинтонский юноше, сидевшему рядом с ним на королевской трибуне, – не миновать тебе беды, если Рэно или де Молаку, будет известно, что ты провел целый день с людьми, объявленными вне закона. А знай наш хозяин, кто доставил нам на дом оленину, плохо пришлось бы нам обоим. Альрик засмеялся. – Однако, дорогой тан, в тот день ты сам похвалил жаркое! – Верно! Но ты только после обеда рассказал мне, как оно попало к нам на стол. – Что ты ни говори, а оленина была превосходная, – улыбнулся Альрик, припоминая, как три дня назад какие-то неизвестные люди принесли ему на дом сочный кусок оленины. Перед началом состязания в стрельбе Альрик пошел побродить вдоль перил. Всматриваясь в толпу народа, он пришел к заключению, что многие лица кажутся ему знакомыми, хотя он не мог припомнить, где их видел. Один здоровенный рослый парень с надвинутым на глаза капюшоном обратил на себя внимание Альрика. Юноша пристально посмотрел на него, а тот отвернулся. В эту минуту Альрик заметил, что к его капюшону приколото павлинье перо. Такое же украшение он и раньше видел на шапках некоторых поселян. – Странно! – подумал он. – Не будь у него бороды, я бы мог поклясться, что это тот самый великан – Маленький Джон. Но, конечно, я ошибаюсь: люди, объявленные вне закона, не рискнут идти в Ноттингхэм. Шериф Рэно ненавидит Робин Гуда и его стрелков. Возвращаясь на трибуну, Альрик припомнил один из последних подвигов Робина. Три брата-поселянина, охотясь в лесу, убили королевского оленя, а шериф всех троих приговорил к повешению. Об этом прослышал Робин Гуд. В день казни, когда братьев уже тащили к виселицам, он напал со своими стрелками на людей шерифа и помог несчастным бежать. Братья нашли убежище в Шервудском лесу и присоединились к отряду Робина. С той поры шериф зеленел от злобы, когда в его присутствии произносили имя Робин Гуда. Началось состязание в стрельбе из самострелов и луков. Рыцари участия в нем не принимали, но интересовались исходом состязания, так как в нем принимали участие их слуги и наемники. Многие держали пари и ставили на того или другого стрелка. Лучшими стрелками были Арнульф, наемник сэра де Молака, и Уолтер Черный, любимый слуга шерифа Рэно. До сих пор они побеждали всех, кто с ними состязался, и как Рэно, так и де Молак не спускали глаз со своих любимцев. – Клянусь небом, Рэно, – сказал де Молак, – твой охотничий рог достанется моему Арнульфу! Перед ним никто не устоит. Здорово! – крикнул он, приветствуя удачный выстрел своего слуги. С этими словами он вскочил и захлопал в ладоши. Высокий смуглый, гладко выбритый, с орлиным носом и густыми черными бровями, де Молак обращал на себя внимание и своей внешностью и своим костюмом. На нем были малиновые атласные штаны и длинный белый плащ, стянутый поясом с золотыми пряжками. Он носил золотые шпоры и тяжелый меч, привешенный к поясу. Шею его обвивала золотая цепь. – Мы еще посмотрим, кто победит, – возразил шериф, толстый коренастый человек в синем камзоле, опушенном мехом. – Мы еще посмотрим. Уолтера Черного не так-то легко побить. – Бьюсь об заклад, что победителем останется Арнульф! Ставлю эту золотую цепь против лучшей лошади в твоих конюшнях. – Идет! – крикнул шериф. – А если Уолтер не выиграет приза, пусть убирается на все четыре стороны. – Э, нет! Если ты его прогонишь, все подумают, что призы ты предложил только для того, чтобы выиграли их твои ставленники, – насмешливо сказал де Молак. Рэно хотел на насмешку ответить насмешкой, но в эту минуту внимание обоих было привлечено возгласами, раздавшимися в толпе: – Молодец – старик! Поддержи честь Англии! Проучи этих ставленников знати! Высокий, слегка сгорбленный человек с седой бородой и надвинутым на глаза капюшоном подошел к тому месту, где стояли Арнульф и Уолтер. Он только что победил своего противника и теперь, опираясь на свой шестифутовый лук, спокойно ждал дальнейших испытаний. – Что тебе нужно, старик? – грубо спросил его Арнульф. – Хочу выиграть охотничий рог, – невозмутимо ответил тот. – Вот что выдумал! – захохотал Уолтер Черный. – Да ты так стар, что лука в руках не удержишь! – Однако я побил всех, кто со мной состязался и теперь хочу помериться силами с вами двумя, – отозвался старик. – Молодец! – заорала толпа. – Покажи-ка этим прихвостням, как у нас стреляют! – Кто этот парень? – спросил король Иоанн, с интересом следивший за ходом состязания. – Какой-то англичанин, простолюдин, ваше величество, – ответил граф Пэмброк, стоявший подле короля. – И эта свинья хочет соперничать с моими слугами-норманнами? – удивился Иоанн. – Позовите-ка его сюда! Старик подошел, остановился перед трибуной и смело посмотрел в лицо королю. – Ты кто такой? – спросил король. – Зовут меня Том-Бродяга, а родом я из Йоркшира, если угодно вашей милости. – Том-Бродяга? А не вернее ли будет: Том-Вор? – Все может быть, ваша милость. Не только мы, бедняки, воруем. Слыхал я, что рыцари и вельможи крадут родовые поместья, а короли – королевства. Король Иоанн закусил губу. – Зачем ты сюда пришел? – Хочу выиграть приз – серебряный рог шерифа. – Уж очень ты самоуверен, старик. Где тебе состязаться с лучшими стрелками королевства? Да и болтаешь ты всякий вздор. Смотри, как бы я не приказал отрезать тебе язык! Голубые глаза старика сверкнули. – Как будет угодно вашей милости. Что стоит королю, не пощадившему своего собственного племянника[547], убить такого ничтожного человека, как я! Король побагровел от злобы, но граф Пэмброк шепнул ему что-то на ухо, и Иоанн, овладев собой, сказал: – Слушай, хвастун, если ты побьешь этих двух стрелков, я велю наполнить охотничий рог шерифа серебряными пенни и отдам его тебе. Если же ты дашь промах, то – клянусь кровью Иисуса – я прикажу сломать твой лук, отрубить тебе правую руку и наказать тебя плетьми! Эта варварская угроза вызвала ропот среди некоторых придворных, а тан Эдуард громко сказал: – Никто не тронет этого старика, пока я еще не разучился владеть мечом. – Все будет так, как я сказал! – вскипел король. – Пусть продолжается состязание. Берегись, старик! Если сегодня ты не выиграешь приза, тебе больше никогда не придется стрелять. Альрик с волнением прислушивался к разговору. Голос Тома-Бродяги, показался юноше знакомым. И эти блестящие голубые глаза он когда-то видел, хотя не мог припомнить, когда и где. Но седая борода и сутулые плечи сбивали его с толку. Однако он наклонился к тану Эдуарду и шепнул, что лицо Тома-Бродяги ему знакомо. Состязание вызвало такой интерес, что многие рыцари и придворные спустились с трибуны и расположились полукругом около трех стрелков, которые уже заняли свои места. Альрик и Эдуард находились в числе зрителей. Приблизившись к старику Тому, Альрик заметил, что и к его капюшону приколото павлинье перо. (обратно)ГЛАВА ПЯТАЯ СОСТЯЗАНИЕ
Поставили мишень – белую с черным кружком в центре. Отмерили стол шагов. Арнульф, Уолтер Черный и Том-Бродяга стали тянуть жребий – кому стрелять первому. Первый номер достался Уолтеру. – Давайте, осмотрим раньше наши стрелы, – сказал Том-Бродяга. – Видите – в каждую мою стрелу воткнуто перо сойки. А у вас, приятели, есть какие-нибудь приметы? – Нет, – отозвался Арнульф, – для меня хороши и простые гусиные перья. – Для меня тоже, – проворчал Уолтер Черный. – Почему ты задал этот вопрос, старик? – осведомился шериф. – Потому что стрелять мы будет в одну мишень, а наймитам вельмож я не доверяю, – спокойно ответил Том. Рыцари, столпившиеся около стрелков, разразились гневными криками. – Видали вы такого наглеца! – воскликнул шериф. – Хочется мне проучить тебя тут же, на месте! – Сначала он пустит свою стрелу, – сказал тан Эдуард. – Да... И если промахнется – король сумеет щедро его наградить, – усмехнулся де Молак. – Не мешает проучить хвастуна. На все эти замечания Том-Бродяга не обращал ни малейшего внимания. С невозмутимым видом стоял он, опираясь на свой лук. Уолтер Черный занял позицию в ста шагах от мишени и долго прицеливался, оттянув тетиву к правому уху. Затем он опустил лук, переменил позу, снова прицелился и спустил тетиву. Люди, столпившиеся около мишени, разразились криками: – Славный выстрел! Славный выстрел! Стрела вонзилась на расстоянии одного пальца от черного кружка. По-видимому, Уолтер Черный был не очень доволен своим выстрелом; мрачно отошел он в сторону, уступая место Арнульфу. – Сейчас узнаем, кто из нас двоих возьмет первый приз, а кто – второй, – сказал Арнульф Уолтеру. – А мы узнаем, возьмешь ли ты мою цепь или я – твою лошадь, – обратился де Молак к шерифу Рэно. – Арнульф, старайся! Если ты попадешь в черный кружок, я тебе подарю десять монет. – Буду стараться, милорд! Арнульф прицепился и спустил тетиву. – Попал, попал! – закричали в толпе. – Ну, значит лучшая твоя лошадь переходит в мои конюшни, – сказал де Молак шерифу. – Проклятый парень! – проворчал Рэно. – Это чистая случайность. – Ну, седобородый, убирайся восвояси, – обратился Арнульф к Тому. – Моя стрела попала в цель, и побить меня ты не можешь. Старик направился к мишени, осмотрел стрелу и, вернувшись на свое место, сказал: – Ты не попал в центр черного кружка. Твоя стрела вонзилась на два дюйма выше центра и торчит косо. Я попаду в самый центр и сделаю зазубрину на твоей стреле. Арнульф презрительно захохотал. – Ну, если тебе это удастся сделать, значит ты – сам дьявол! – воскликнул он, а все присутствующие с недоумением посматривали друг на друга. Бродяга Том выпрямил сутулую спину, выставил вперед левую ногу и, почти не целясь, выстрелил. Раздался гром рукоплесканий. – Ура! Он попал в самый центр! Он сделал зазубрину на стреле! – гудела толпа. Арнульф и Уолтер растерянно переглянулись. – Удивительный выстрел! Такого меткого стрелка я еще не встречал! – воскликнул тан Эдуард. Многие вельможи вслух высказывали свое одобрение, но де Молак и Рэно были недовольны. Оба не сомневались в том, что победителями будут их ставленники, и неожиданное поражение пришлось им не по вкусу. Однако они молчали, пока не заговорил Арнульф. – Это была нечистая игра, – сказал он. – Старик не имел права трогать мою стрелу. Он должен был стрелять, не задев моей стрелы. – Верно! – крикнул де Молак. – Значит, ты победил, Арнульф, а этот парень в счет не идет. – Нет такого правила, – возразил Том-Бродяга. – Не раз участвовал я в состязаниях, а о таких правилах не слыхивал. – Молчи, плут! – прикрикнул на него де Молак. – Как ты смеешь со мной спорить? – Смею – да и все тут! – Он совершенно прав, – вмешался тан Эдуард. – Его стрела вонзилась в центр мишени. Он – победитель. Из присутствующих вельмож одни приняли сторону тана, другие защищали мнение де Молака, а толпа гудела: – Старик победил! Ему должны присудить серебряный рог! К спорщикам подошел герольд и объявил, что король желает знать причину спора и призывает стрелков. Стрелки и группа придворных направились к трибуне; одни называли победителем Тома, другие кричали, что он недостоин приза. – Прекратите этот шум! – крикнул Иоанн. – Отвечай, старик, попал ты в цель или не попал? – Попал, ваша милость, но если этот солдат, которого зовут Арнульфом, недоволен, мы можем сделать еще по одному выстрелу. Это последнее испытание было слишком легким. В такую большую мишень нельзя не попасть. Я предлагаю испытание потруднее. – А что ты называешь трудным испытанием? Том-Бродяга достал из кармана красный шарик величиной с яблоко; такими шариками жонглируют фокусники. – Он сделан из дерева и обтянут кожей, – сказал старик. – Пусть воткнут в землю копье, на рукоятку копья насадят шарик и отмерят сто пятьдесят шагов. Тот, кто пронзит шарик стрелой, имеет право называть себя стрелком. – Немыслимо это сделать! – воскликнул Арнульф. – На таком расстоянии не разглядишь шарика. – Я не только разгляжу, но и сумею в него попасть, – возразил Том-Бродяга. – Старик выжил из ума, – проворчал шериф, и многие его поддержали. – Никто не попадет в такую мишень. – Слышишь, что говорят? – обратился Иоанн к Тому. – Слышу, – отозвался тот. – Ну так знай: если ты промахнешься, лучше было бы тебе не родиться на свет... Отмерьте сто пятьдесят шагов, насадите шарик на копье, и вы, двое, стреляйте! Приказ короля был исполнен: отмерили сто пятьдесят шагов, воткнули копье острием в землю и на рукоятку положили шарик. Том-Бродяга и Арнульф заняли свои места. Среди глубокой тишины Арнульф спустил тетиву. Как и следовало ждать, стрела его пролетела мимо цели. Том достал стрелу из своего колчана, оторвал от другой стрелы перо и подбросил его вверх, чтобы определить силу и направление ветра. Затем проверил, туго ли натянута тетива. Прицеливался он долго. Сотни людей следили за каждым его движением; все затаили дыхание. Наконец он спустил тетиву, и через секунду из толпы вырвались ликующие возгласы. Стрела вонзилась в шарик и вместе с ним упала на землю в нескольких шагах от копья. Герольд поднял шарик с торчавшей в нем стрелой и, подойдя к трибуне, провозгласил: – Ваша милость, старик попал в цель. Он – победитель. Больше не могло быть никаких колебаний. Иоанн приказал наполнить охотничий рог пенни. Когда приказание его было исполнено, он взял рог и воскликнул: – Том-Бродяга, похвальбу твою все слышали, но бранить тебя не приходится – ты выиграл приз. Тебе повезло, – не попади ты в цель, я бы сдержал свое слово. – В этом я уверен, – ответил старик. – Не сомневаюсь и в том, что теперь ваша милость отдаст мне приз. – Ваше величество, – закричал Арнульф, пробиваясь сквозь толпу. – Это была нечистая игра. Я едва мог разглядеть шарик, хотя зрение у меня хорошее. Тут что-то неладно, это какое-то волшебство. – Значит Том-Бродяга – не кто иной, как сам дьявол, – сказал Иоанн. – Каково ваше мнение, милорд епископ? – обратился он к толстому епископу хирфердскому, восседавшему на трибуне. – Надеюсь, ваше величество ошибается, – ответил прелат, осеняя себя крестным знаменем. – Сейчас мы его испытаем. Взяв висевшее у него на груди распятье, он поднес его к самому носу Тома и торжественно провозгласил: – Изыди сатана! Но Том-Бродяга только расхохотался, и успокоенный епископ сказал: – Нет, это простой человек. Будь он дьяволом, он бы провалился сквозь землю, и огненный столп поднялся бы на том месте, где он стоит. – Если это человек, значит он выиграл приз. И с этими словами Иоанн протянул Тому охотничий рог. Старик принял его и слегка наклонил голову. – Слушай, старик, – продолжал Иоанн, – стреляешь ты лучше молодых парней; хочешь быть капитаном моих стрелков? – Благодарю вас, ваша милость, но мой дом – дремучие леса и проезжая дорога. Я не могу жить в городах, и нет такого человека, которого я бы признал своим хозяином. Бродягой я был, бродягой и останусь. Иоанн нахмурился. – Ну так убирайся с глаз моих долой, упрямое животное! – Благодарю короля и шерифа за приз. Я отдам его тому, кто откажется лучшим стрелком, чем я. А деньги ваши мне не нужны! Он взмахнул рогом и высыпал монеты к ногам стоявших поблизости конюхов и солдат. – Дерзкий грубиян! – проворчал король. – Я бы его проучил, не дай я моего королевского слова отпустить его с миром. Шериф шепнул что-то на ухо Уолтеру Черному, и тот, подойдя к Тому, сказал: – Перед королем должно стоять с непокрытой головой. С этими словами он дернул его за капюшон. Старик рванулся вперед, капюшон съехал у него с головы, а седая борода отклеилась и упала на землю. Все присутствующие ахнули, увидев молодое загорелое лицо, обрамленное каштановыми кудрями. – Так я и знал! – крикнул шериф. – Это Робин Гуд, человек, объявленный вне закона! Он один мог попасть в такую мишень. – Держите его! – закричал де Молак. – Мы с ним сведем старые счеты! Стрелок попятился назад и, поднеся к губам только что выигранный рог, взял три ноты. Затем повесил рог на шею, поднял свой лук и прицелился. К нему уже направлялись солдаты, возглавляемые Рэно. Не двигаясь с места, стрелок закричал: – Я – Робин Гуд! Ни с места! Если кто-нибудь осмелится сделать хоть один шаг, эта стрела вонзится в сердце шерифа или де Молака! Рэно и де Молак побледнел и поспешили отступить, а солдаты остановились, как вкопанные. Тогда Робин Гуд насмешливо крикнул: – О чем задумались, рыцари? Если вы сомневаетесь в зоркости моего глаза, прикажите своим наймитам схватить меня! (обратно)ГЛАВА ШЕСТАЯ БРАТЬЯ ПАВЛИНЬЕГО ПЕРА
Еще не замерли звуки охотничьего рога, как человек двадцать рослых парней в одежде мельников, мясников и каменщиков перепрыгнули через протянутые вдоль арен веревки и бросились к своему вождю. Все они были вооружены луками или крепкими дубинками, у всех красовалось на шляпе павлинье перо. Их вел здоровенный детина, размахивавший огромной дубиной. Через несколько секунд они уже стояли за спиной Робин Гуда. Робин не сводил глаз с рыцарей и придворных, а стрела его дрожала на туго натянутой тетиве. Солдаты нерешительно переминались с ноги на ногу. Они знали, что стоит им двинуться вперед – и один из их начальников не минует смерти. – Что, Робин, не попотчевать ли их нашими дубинками? – спросил великан. – Нет, Маленький Джон. Пока они на нас не нападают, мы их не тронем, но стоит им перейти в наступление – на удар мы ответим ударом. Не успел он выговорить последнее слово, как с королевской трибуны кто-то выстрелил из арбалета, и стрела, просвистев над ухом Робина, вонзилась в плечо человека, стоявшего за его спиной. Робин на секунду отвел взгляд от шерифа и де Молака, и те, воспользовавшись этим, поспешили спрятаться за своих солдат. Теперь преимущество было на их стороне, и шериф скомандовал: – Вперед, ребята! Хватайте их! Убивайте всех, кто будет сопротивляться! Солдаты двинулись на Робин Гуда. Человек, вооруженный арбалетом, снова прицелился, но Альрик, стоявший подле, толкнул его в плечо и закричал: – Стыдно стрелять в человека, который защищает свое право! Вторая стрела не попала в цель, а взбешенный арбалетчик выхватил кинжал и занес его над головой Альрика. Робин Гуд это заметил и спустил тетиву. Стрела вонзилась в шею воину; он зашатался и упал, вцепившись рукой в окрашенное кровью оперенье стрелы, торчавшей из раны. Арбалетчик был одним из наемников де Молака, и рыцарь пришел в бешенство. – Щенок! – крикнул он Альрику. – Как ты смел поднять руку на моего слугу? Я тебя проучу! И он выхватил меч. Эдуард Боддингтонский тоже обнажил свой меч и, заслонив своим телом Альрика, воскликнул: – Посмей только его тронуть! – Спрячьте оружие! – закричал шериф. – Сейчас не время заводить ссоры. Мы должны задержать этих разбойников и, в первую очередь, Робин Гуда. Король Иоанн давно уже покинул трибуну. Вслед за ним удалились все женщины, а также многие придворные. Гибель норманна-арбалетчика привела в ярость всех его соотечественников, и с новой силой вспыхнула старая ненависть между норманнами и англичанами. Арнульф, вооруженный тяжелым мечом, повел воинов де Молака и Шерифа на лесных стрелков. Маленький Джон, размахивая гигантской дубиной, крикнул человеку с копной рыжих волос: – Стой подле меня, Вилль! Никого не подпускай к нашему вождю. – Положись на меня, Маленький Джон, – отозвался Вилль Рыжий. Стрелки сомкнули ряды, и в воздухе засвистели стрелы. Затем завязался рукопашный бой. Маленький Джон проломил дубиной голову одного из воинов; череп треснул, как яичная скорлупа. Своим страшным оружием великан размахивал так, словно это была легкая тросточка. Робин Гуд выхватил меч из рук раненого воина и занял место рядом с Маленьким Джоном, а Вилль Рыжий руководил действиями стрелков. Бой был жаркий, но продолжался недолго. Через две минуты воины потеряли двенадцать человек и начали отступать. Один из молодцов Робин Гуда был убит, многие получили раны, но почти все держались на ногах. – Смотри, проклятые наймиты бегут! – задыхаясь выговорил великан. – Перейдем в наступление! – Нет, нет, Маленький Джон! – остановил его Робин Гуд. – О наступлении нечего и думать! Позаботимся о том, чтобы убраться отсюда подобру-поздорову. В эту минуту де Молак, уже надевший кольчугу и шлем, бросился на помощь Арнульфу и Уолтеру. Он вел отряд человек в двадцать. Солдаты при виде подкрепления воспрянули духом и снова перешли в атаку. До сих пор толпа, затаив дыхание, следила за боем, но когда Робин Гуда начали теснить, многие поселяне, размахивая палками и ножами, перепрыгнули через веревки и бросились ему на помощь. От Йорка до Мейчестера все знали Робин Гуда как защитника угнетенных, друга бедняков и врага ненавистной знати. Сейчас об отступлении нечего было думать, и Робин Гуд, помимо своего желания, снова вступил в бой. Численный перевес был на стороне приверженцев де Молака, но ряды лесных жителей пополнялись поселянами. Де Молак командовал воинами. Пробившись к Робин Гуду, он завязал с ним рукопашный бой. Этим воспользовался Арнульф, горевший желанием отомстить человеку, который отнял у него приз. Зайдя с тыла, он поднял меч, готовясь вонзить его в спину Робину, но Альрик, вмешавшийся в толпу стрелков, громко крикнул: – Берегись Робин! На тебя нападают сзади! Робин Гуд оглянулся и успел отскочить, но де Молак, воспользовавшись удобным случаем, занес меч над его головой. Это заметил один из молодцов и, подставив дубинку, принял удар. Меч перевернулся в руке де Молака и тяжело опустился тупой стороной на плечо Робина. Тот упал на колени. Подбежал Арнульф, и была секунда, когда жизнь Робина висела на волоске. Альрик не выдержал и принял участие в бое. Выхватив свой меч, он выбил оружие из рук Арнульфа. Между тем на помощь подоспел Маленький Джон. Заревев от гнева, поднял он свою дубинку и ударил врага по голове. Арнульф зашатался и, обливаясь кровью, упал. В это время поселяне, вооружившись, кто чем мог, пробились между воинами и стрелками, давая возможность последним отступить к палаткам, за которыми ждали их лошади. – Нужно уходить, – сказал Робин, еще не совсем оправившийся после полученного удара. – Собери людей, Маленький Джон. Поселяне прикроют наше отступление. – Останемся, Робин, и доведем дело до конца! – Нет! Перевес не на нашей стороне. Когда мы уйдем, побоище прекратится. Он поднял рог и взял одну ноту, созывая своих молодцов. Они сбежались к нему; троих тяжелораненых несли на руках. – На коней! – скомандовал Робин Гуд. Не мешкая, ребята вскочили на коней; раненых положили поперек седел. В эту минуту в дальнем конце ристалища показался конный отряд; во главе отряда стоял шериф. – В лес, друзья! – крикнул Робин, направляя лошадь к опушке леса, находившегося на расстоянии мили. Через несколько минут они въехали в лес и поскакали по узкой тропинке. Они знали, что враги не посмеют за ними следовать. (обратно)ГЛАВА СЕДЬМАЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
На четвертый день после побоища в Ноттингхэме собрались вечером вокруг лесного костра главные действующие лица нашей повести. На вертеле жарилась задняя нога оленя, а, стряпней ведал красноносый толстяк в монашеской рясе. – Ха-ха-ха! – хохотал он, – славную ты выкинул штуку, Робин! А ведь дело могло окончиться виселицей. Ты знаешь, шериф тебя ненавидит и поклялся с тобой расправиться. – Тем занятнее было его одурачить и выиграть приз. – Если бы ты видел, как Робин изображал старого йоркширца! – воскликнул Маленький Джон. – Я чуть не лопнул от смеха. Он сгорбился и прихрамывал, а стреляя в мишень, почти не целился; казалось, его стрелы случайно попадают в цель. – Да, сначала мы повеселились, – вмешался Вилль Рыжий. – Зато потом было не до смеху. – Все сошло бы нам с рук, если бы шериф меня не заподозрил, – сказал Робин. – Но дело могло обернуться хуже. К счастью, наши раненые выздоравливают, а нам всем не мешало встряхнуться после долгого отдыха... Ну, что, отец? Готово ли жаркое? – Подожди минутку, Робин. Очень уж хороша оленина. Жалко будет, если она не прожарится. – А еще досадней, если нечем ее запить, – подхватил Маленький Джон. – Вилль, помоги мне выкатить бочку меда! Вскоре мясо уже шипело на тарелках, а в кружках запенился мед. Когда все утолили голод, Робин крикнул Элен-э-Дэлу, окончательно принятому в их среду: – Приятель, настрой свою арфу и потешь нас песней! Элен-э-Дэл охотно взял арфу, пробежал пальцами по струнам и затянул песню; каждая строфа заканчивалась веселым припевом. Когда тишину леса прорезали молодые голоса, караульные, расставленные на всех просеках, облокотились на свой лук и заслушались пения. Умолк Элен-э-Дэл. Тогда Маленький Джон запел густым басом песню, пользовавшуюся популярностью у жителей лесов. Припев был такой:Как птицы мы живем,
Не ведая забот.
Охотимся, поем
И пьем веселый мед.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ БОЙ В ЛЕСУ
В лагере все были на ногах. Одни осматривали свои луки, другие наполняли колчан стрелами, многие закусывали на ходу. Заметив, что Альрик проснулся, отец Тук направился к нему. – Pax vobiscum, сын мой, – густым басом сказал толстяк. – Советую тебе подкрепиться пищей. Кажется, нам предстоит бой, а я еще не слыхивал, чтобы можно было драться на пустой желудок. С этими словами он запустил руку в карман своей широченной рясы и извлек оттуда большой пирог. Отломив кусок, он подал его Альрику, а затем и сам принялся за еду. Альрик заметил, что к веревке, заменявшей толстяку пояс, привешена большая кожаная фляжка. Покончив с пирогом, Тук приложился к фляжке, но не подумал о том, чтобы угостить и Альрика. Пил он большими глотками, причмокивая от удовольствия, как вдруг к нему подскочил Маленький Джон и, вырвав из рук монаха фляжку, в свою очередь к ней присосался. – Разбойник! – заревел толстяк. – Как ты смеешь лишать меня божественного нектара? Да я с тебя шкуру спущу! Он подпрыгнул, стараясь дотянуться до бутылки, но Маленький Джон безжалостно его отпихнул и, сделав еще несколько глотков, спокойно сказал: – Действительно, напиток недурен. – Слишком хорош для твоей нечестивой глотки! – кипятился Тук. – Жаль, что нет у меня под рукой дубины! Я бы раскроил тебе череп! – Не жадничай, отец! Вот уже два часа, как я на ногах, а ты, если не ошибаюсь, только что проснулся. – Зачем же брать насильно, когда можно попросить? Почему ты не сказал: «с вашего разрешения» или что-нибудь в этом роде? – Ну, так с вашего разрешения, достойный друг, я приложусь еще разок к вашей бутылке. – А я с твоего разрешения тебя отколочу, если ты сделаешь еще хоть один глоток. Такую жажду, как твоя, может утолить чистая ключевая вода. – Если бы там сам почаще ходил к ручью, побелел бы даже твой багровый нос, – захохотал Маленький Джон. – Как! Сначала он меня ограбил, а потом вздумал оскорблять! – завопил толстяк. – Этого я не прощу! Он дал тумака Маленькому Джону, тот не замедлил ответить тем же, а Альрик стоял поодаль и хохотал. Из-за деревьев вышел Робин Гуд и направился к драчунам. – Джон, Тук, как вам не стыдно! – крикнул он. – Нашли время затевать драки! Тук, ты с ума сошел! – Но он отнял у меня вино! – Без которого ты прекрасно можешь обойтись. Слушайте меня: наши разведчики принесли весть, что человек двадцать рыцарей, двести солдат и отряд арбалетчиков с шерифом ноттингхэмским во главе вступили в Шервудский лес. Этот негодяй, которого захватили в плен, удрал; теперь он передаст врагу все, что успел здесь разузнать. – Робин, – вмешался Альрик, – будь осторожен! Этого человека я знаю. Он хитер и пронырлив, а шериф Рэно ему покровительствует. Можешь быть уверен, что он запомнил, сколько вас и где находится ваш лагерь: Он приведет сюда войско шерифа. Робин Гуд улыбнулся. – Не беспокойся, никто не может застигнуть нас врасплох. Поживи ты с нами дольше – ты бы знал, что все происходящее в лесу немедленно становится нам известно. Но я благодарен тебе за предостережение. Итак, я продолжаю: разведчики узнали, что неприятель приближается с трех сторон. Как видишь, Альрик, мы все знаем. Но бегство пленника вызывает серьезные опасения. Я подозреваю, что среди нас есть предатель. Если это так, мы должны быть вдвойне осторожны. – Не поздоровится этому молодчику, если мы узнаем, кто он, – задумчиво сказал Тук. – Попади он мне в руки, я его проучу, – зловеще проворчал Маленький Джон. К Робину подошел Вилль Рыжий, и в течение нескольких минут главари стрелков вчетвером обсуждали план действий. Затем Робин Гуд поднес к губам свой охотничий рог и взял несколько нот. Издалека донеслись ответные сигналы. Альрику казалось, что эхо гуляет по всему лесу. Стрелки по двое и по трое углубились в лес. Предложив Альрику сопровождать его, Робин Гуд с Маленьким Джоном последовал за стрелками. Долго пробивались они сквозь заросли, а в полдень сделали привал и пообедали. Тотчас же после обеда молодцы принялись за работу. Одни рубили топорами молодые деревца, очищали их от ветвей и заостряли концы кольев; другие перетаскивали эти колья на просеку у ручья, где местность была болотистая. Альрик работал наравне со всеми. Несколько человек, вооружившись кирками и лопатами, рыли на просеке канаву. В канаву забили наклонно колья, остриями наружу, а сверху навалили хворосту. Такое же ограждение сделали у ручья. На это место Робин смотрел, как на последнее пристанище, в случае если враги будут их теснить. К ночи работа была окончена, но многим стрелкам пришлось еще несколько часов стоять на страже. Альрик спал тревожно; несколько раз будили его разведчики, приходившие с докладом к Робин Гуду, который, казалось, ни на секунду не сомкнул глаз. Задолго до рассвета Альрик был уже на ногах; волнение не давало ему спать. Он не сомневался, что сегодня будет бой, и бой серьезный, так как люди де Молака и шерифа были опасными противниками. Лесным стрелкам нечего было и думать об отступлении. Альрик знал, что они должны победить или умереть. Сдача на милость неприятеля была равносильна смерти. Главари стрелков долго совещались; когда совещание было окончено, Альрик подошел к Робин Гуду. – Робин, я хочу просить тебя об одной милости. – Что тебе нужно? – рассеянно спросил Робин. – Разреши мне сражаться в твоих рядах. – Нет, дружок, об этом не может быть и речи. Мы сводим счеты со знатью, а тебе тут делать нечего. И не забудь, что с военным делом мы знакомы, а ты еще новичок. Было бы безумием подвергать тебя опасности. – И все-таки я буду сражаться в твои рядах, – упрямо сказал Альрик. – Ты меня приютил, и ваши враги – мои враги. Я разделю вашу судьбу. Если вас убьют, то убьют и меня. Робин Гуд засмеялся и ударил юношу по плечу. – Молодец! – воскликнул он. – Ты мне нравишься. Ну, коли так, я не могу запретить тебе драться. Но ты плохо вооружен. Мы дадим тебе меч и подберем кольчугу, которая придется по росту. Повторяю – битва будет нешуточная. – Я буду драться так же, как и ты, – без кольчуги, – возразил Альрик. Но Робин Гуд настоял на своем. Альрику принесли кольчугу и крепкий старый меч, испытанный в боях. Наскоро закусив, главари повели своих людей в глубь леса. Робин стоял во главе отряда в восемьдесят человек. Они пошли на запад и вскоре вышли на узкую тропинку. Здесь Робин остановился. Они находились неподалеку от одной из проезжих дорог, пересекавших лес. Слева, между тропинкой и дорогой, тянулась просека. – Здесь мы дадим врагу первый бой, – сказал Робин. – Вы все спрячетесь в кустах, а когда прозвучит мой охотничий рог, натянете тетиву лука. Стреляйте, когда я подниму левую руку. Пусть каждый стрелок позаботится о том, чтобы его стрела попала в цель. Промахов давать нельзя. Робин со своим отрядом дальше не пошел, но двое или трое из самых молодых и проворных стали пробираться вперед, чтобы выведать замыслы врага. Альрик не отходил от Робин Гуда. Прошло около часа. Никто из стрелков не нарушал молчания. Наконец вернулся один из разведчиков и шепотом сказал Робину несколько слов. Тот отступил на сотню шагов влево от просеки. – Друзья! – крикнул он. – Враг разбился на несколько отрядов. Один из них направляется в эту сторону. Через несколько минут он будет здесь. Приготовимся встретить его. Медленно тянулись минуты. Альрик прислушивался к биению своего сердца. Многие из стрелков влезли на деревья; отсюда им видна была просека, хотя они сами оставались невидимыми. Наконец, послышался топот, звон кольчуг, гул голосов; меж ветвей засверкало оружие. Показалось человек шесть рыцарей в кольчугах; за ними гуськом ехали конные воины, с флангов шли арбалетчики. На щите одного рыцаря Альрик увидел черную голову вепря на красном фоне; узнав герб сэра Питера де Молака, он шепотом сообщил об этом Робину. Приказав юноше держаться под прикрытием, Робин Гуд поднес к губам охотничий рог и взял три ноты. Отряд тотчас же остановился, а де Молак со своим оруженосцем выехал вперед, озираясь по сторонам. Внезапно из-за деревьев вышел Робин: – Стойте! – крикнул он. – Зачем въезжаете вы, вооруженные, в этот лес? – Негодяй! – воскликнул оруженосец, сопровождавший де Молака. – Кто ты такой, что осмеливаешься задавать нам вопросы? – Шервудский лес – мои владения. Я – Робин Гуд. – Клянусь золотыми шпорами, разбойник сам идет нам в руки! – закричал де Молак. – Так знай же, Робин Гуд, что мы ищем тебя и твоих людей, а также Альрика Коллингхэмского, который здесь скрывается. Сдайся, если хочешь избежать кровопролития. – Еще неизвестно, чья кровь прольется, – насмешливо ответил Робин. – Э, нет, сэр рыцарь! О сдаче не может быть и речь! На милость рыцарей рассчитывать не приходится – слишком часто они нас обманывали. Посмей сделать еще один шаг – и тебе несдобровать! Услышав эти слова, воины де Молака выхватили мечи; клинки засверкали в лучах солнца. – Спрячьте оружие! – сурово сказал Робин Гуд. – Смотрите, как бы не пришлось вам каяться. В ответ на это оруженосец де Молака, горевший желанием отличиться, поднял копье и направил лошадь прямо на Робин Гуда. Тот спокойно поднял левую руку, а в этот момент человек, стоявший за де Молаком, выстрелил из арбалета; стрела просвистела над ухом Робина, задев его каштановые кудри. Но стрелки, спрятавшиеся в кустах и на деревьях, не зевали; воздух прорезали сотни стрел длиной в один ярд. Раздались вопли и стоны. Человек двадцать были ранены или убиты; убит был и оруженосец де Молака. Началась паника. Иногда стрелы отскакивали от рыцарских кольчуг, но чаще пробивали кожаные куртки арбалетчиков или проникали в щели воинских доспехов. Раненые лошади брыкались и ржали, а всадникам приходилось думать только о том, чтобы удержаться в седле. Одна лошадь ворвалась в толпу арбалетчиков и вызвала в их рядах смятение. Однако арбалетчики скоро оправились и стали стрелять наугад, в невидимого врага. В ответ раздался насмешливый хохот. Спрятавшиеся в кустах и на деревьях стрелки снова послали тучу стрел, и около трети арбалетчиков выбыло из строя. Воины спрыгнули с седел и, бросив коней, стали рыскать между деревьями, отыскивая стрелков, а сверху падали на них стрелы. Робин Гуд стрелял без промаха. Подле него стоял с мечом в руке Альрик. Вдруг сзади послышался шорох. Оглянувшись, Альрик увидел надвигающихся с тылу де Молака и четырех воинов. Он вскрикнул, а Робин, обернувшись, пронзил стрелой одного из воинов и через секунду вступил в рукопашный бой с де Молаком. – Вперед, люди! Вот он, разбойник! – крикнул рыцарь, скрещивая оружие с Робином. Рослый воин подбежал к де Молаку и занес алебарду над головой Робина. Альрик полоснул его мечом по руке и ранил до кости. Но двое товарищей подоспели воину на помощь, а Робин, несмотря на все свое искусство, уступал де Молаку, защищенному крепкой кольчугой. Положение его и Альрика было отчаянное, пока из-за деревьев не выбежали двое молодцов, вооруженных мечами. Де Молак сделал попытку уложить на месте Альрика, но Робин парировал удар, и рыцарь отступил вместе со своими приверженцами. Снова прозвучал охотничий рог, и стрелки, повинуясь сигналу, стали медленно отступать, держась под прикрытием деревьев и не переставая отстреливаться. Лес огласился бряцаньем оружия и криками сражающихся, а стрелки все отступали, заманивая врага в чащу. Дав какое-то поручение Нэду из Уайнда, Робин повел своих людей к просеке. Вдруг по данному сигналу они бросились врассыпную, а через минуту собрались на просеке и выстроились в ряды. Воины де Молака разразились победными криками и бросились на врага. Пока арбалетчики заряжали свое неуклюжее оружие, стрелки Робин Гуда, державшие их под прицелом, успевали пустить по три-четыре стрелы. Потерпев тяжелые потери, солдаты вынуждены были бросить свои арбалеты. Обнажив мечи, они двинулись на сомкнутые ряды стрелков. Но два отряда так и не встретились в решающем бою. Справа и слева засвистели стрелы. Робин Гуд заманил воинов в засаду. Раньше чем арбалетчики успели опомниться, на просеке показались еще два отряда, возглавляемые Виллем Рыжим и Маленьким Джоном. Громко прозвучал старый боевой клич: «Вперед за веселую Англию!» Стрелки, вооруженные топорами и копьями, напали на людей де Молака с обеих флангов; в то же время Робин Гуд повел свой отряд в атаку. Сначала солдаты пытались защититься, но вскоре панический страх заставил их побросать оружие и обратиться в бегство. Многие пали на поле битвы. Стрелки хотели преследовать бегущих, но Робин Гуд восстал против этого, и они ограничились тем, что послали еще десятка два стрел вслед отступающему врагу. В эту минуту на просеку выбежал человек. Ноги его подкашивались, он с трудом переводил дух. Увидев Робин Гуда, он бросился к нему. – Робин! Робин! Спеши на помощь отцу Туку! Нас теснят люди шерифа, долго мы не продержимся. Тук дрался, как лев, но враг превосходил нас численностью! – Вперед, показывай дорогу! – крикнул Робин. – Мы идем за тобой! Затем, повернувшись к своим стрелкам, он добавил: – Ребята, выручим наших товарищей и славного Тука! (обратно)ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ВЫЗОВ
Победа над Молаком воодушевила стрелков. Словно ищейки, понеслись они по лесной тропе, вслед за Робин Гудом, спешившим на помощь отцу Туку. Бежать им пришлось недалеко. Вскоре донеслись до них громкие крики сражающихся. Робин поднял руку, призывая товарищей соблюдать тишину. – Не шумите, – сказал он. – Враг превосходит нас численностью, и только неожиданная атака может обратить его в бегство. Он стал осторожно пробираться вперед, решив предварительно сделать разведку. Отец Тук, стоявший во главе одного из отрядов, вынужден был отступить, и враг, заняв более выгодное положение, теснил его со всех сторон. Воинов вел рыцарь, которого Робин Гуд узнал по гербу на щите – два сложенных крест-накрест ключа, это был Рэно, ноттингхэмский шериф. Вернувшись к своим стрелкам, Робин приказал им спрятаться в кустах и оттуда обстреливать неприятеля. – Цельтесь хорошенько, ребята, чтобы не убить друга вместо врага, – сказал он. – И смотрите – не высовывайтесь! Когда я дам сигнал, бросайтесь вперед и никого не щадите. Через несколько минут все заняли свои места и, прицелившись, спустили тетиву. Четыре раза они выстрелили до того, как воины шерифа почуяли что-то недоброе. Раздались испуганные крики, и враг начал отступать перед Туком и его горсточкой молодцов. – Вперед! – кричал толстяк, размахивая огромным топором, в то время как пот ручьями струился по его лицу. – Поразим филистимлян! Обратим их в бегство! В этот момент прозвучал охотничий рог Робин Гуда. Из кустов выскочили рослые молодцы в зеленых костюмах, вооруженные мечами и топорами, и окружили воинов шерифа. Застигнутые врасплох, те обратились в бегство, а впереди бежал сам шериф ноттингхэмский. – Славный был бой, Робин! – воскликнул Тук. – Тебе известно, что я – человек мирный, презирающий смертоносное оружие. Но, клянусь своей головой, все мы дрались на славу! – Да, сражаться ты умеешь, Тук, – отозвался Робин. – И выпить не дурак! – подхватил Маленький Джон. – Послушай-ка, дружище, угости меня вином из твоей фляжки! В горле у меня пересохло. – Поделом тебе, разбойник! – ответил Тук. – Это тебе наказание за то, что ты вчера меня обокрал. И не смей напоминать мне о вине, когда фляжка моя пуста, как твоя голова! – Сейчас не время шутить, – перебил Робин Гуд. – Соберите людей, мы должны вернуться в лагерь. На открытом месте нам не выдержать атаки, а я не сомневаюсь в том, что неприятель снова перейдет в наступление. Он поднес к губам охотничий рог и взял протяжную ноту. Услышав условный сигнал, стрелки стали стекаться к нему со всех сторон. Многие несли убитых и раненых. Быстро отступили они на просеку у ручья, где накануне были устроены укрепления. На этот лагерь они смотрели как на последнее свое пристанище. В арьергарде шествовал Тук; он подобрал полы рясы, засучил рукава, а топор нес на плече. В лагере все утолили жажду, оказали первую помощь раненым и, наскоро поев, легли на отдых. Часа через два в лесу прозвучала труба – люди шерифа и де Молака готовились к атаке. Со всех сторон доносился топот ног, и вскоре на просеку выехали сэр Питер де Молак, шериф и еще двенадцать человек в кольчугах. За ними выстроились воины и арбалетчики; у многих головы были обмотаны окровавленными тряпками, на руках и на ногах, виднелись повязки. Робин убедился, что неприятельские ряды поредели. Из двухсот человек, вступивших в лес, добрая половина полегла на поле битвы. Не успел он придти к этому заключению, как снова прозвучала труба, и шериф в сопровождении де Молака и трубача выехал вперед. Шериф размахивал копьем, к которому был привязан белый платок. – Клянусь святым Дунстаном! – воскликнул Робин Гуд. – Они хотят вступить в переговоры! – Не о чем нам с ними разговаривать, – проворчал Маленький Джон. – И все-таки мы должны их выслушать. – Не доверяй им, Робин! Это ловушка – предостерег Вилль Рыжий. – Посмотрим. Я готов вступить в переговоры с этим высокомерным шерифом. Альрик, ты пойдешь со мной. – Я тоже, – заявил Маленький Джон. – Я им не доверяю. С луком наготове Маленький Джон последовал за Робином и Альриком. В ста шагах от лагеря они встретились с шерифом. – Дерзкий стрелок, я хочу вступить с тобой в переговоры, – сказал шериф. – Слушаю. – Знай, что, по приказу короля, я должен задержать тебя и твоих людей и покарать по своему усмотрению. – Ну что ж! Исполни свой долг... если можешь, – усмехнулся Робин Гуд. – Да, исполню, хотя бы это стоило жизни всех моих людей! – злобно ответил Рэно. – Но я хочу избежать кровопролития. – Похвальное желание! Я готов пойти тебе навстречу. – Ха! Я рад, что ты благоразумен. – Я не только благоразумен – я милостив. Шериф посмотрел на него недоумевающе. – Мне кажется, говорить о милости должен я, а не ты. – О, нет, рыцарь! Ведь ты пришел сказать, что ты сдаешься? Как же иначе можешь ты предотвратить кровопролитие ? Шериф побагровел от злобы. – Дерзкий! – крикнул он. – Не я, а ты должен просить пощады! Я хотел сказать тебе, что если вы сдадитесь немедленно, я обещаю пощадить всех, кроме тебя самого и еще четверых. Иначе, клянусь мессой, вы погибнете все! Робин Гуд громко расхохотался. – Хвастун! Твоя угроза мне нестрашна. Чтобы осуществить ее, ты не должен был отступать перед моими стрелками. – Как ты смеешь говорить мне такие слова? Клянусь, ты в этом раскаешься! – Возвращайся к своим людям, пока терпение мое не истощилось, и передай им мои слова, – сказал Робин. – Раз ты так храбр, я вызываю тебя на поединок. Мы будем драться здесь, перед нашими отрядами. Если ты меня победишь, я отдаю себя в твои руки, но ставлю одно условие: моих людей ты не тронешь. Если же победа будет на моей стороне, твои люди могут покинуть Шервудский лес, но ты будешь убит. Теперь предупреждаю тебя: если вызова ты не принимаешь, спеши увести свои отряды, иначе все вы сложите здесь свои головы. Шериф презрительно засмеялся. – Ловко придумано! – воскликнул он. – Но никакие уловки тебе не помогут. Теперь и Робин Гуд покраснел от гнева. – Это не уловка! – крикнул он. – Я веду честную игру. И знай: если ты откажешься встретиться со мной в честном поединке, во всех городах и деревнях узнают, что ты – негодяй и трус! – Клянусь кровью Вильгельма Завоевателя, за это ты мне заплатишь! – закричал шериф, обнажая меч. – Еще никто не осмеливался называть меня трусом. Защищайся! – Робин, этот человек одет в стальные доспехи, а твоя зеленая куртка – плохая защита! – встревожился Альрик. – Ты забыл, что у меня есть добрый меч, – возразил Робин. – Я не люблю прятаться за стальную скорлупу. Между тем шериф и де Молак, отойдя в сторону, о чем-то совещались вполголоса. Наконец шериф обратился к Робин Гуду: – Дерзкий болтун, я принимаю твой вызов. Сейчас я вернусь к своему отряду и передам твои слова. Через десять минут я буду здесь. И если я тебя убью, твои люди должны мне сдаться. – Нет, они никогда не сдадутся. Шериф снова вспылил, де Молак шепнул ему что-то на ухо, и он, овладев собой, сказал: – Хорошо, пусть будет по-твоему. Я принимаю твои условия. Он отправился к своим, а Робин вернулся в лагерь. – Это безумие – идти без кольчуги на поединок с человеком, защищенным стальной броней! – возмущался Альрик. Но, к великому его удивлению, исход поединка казалось, нимало не тревожил стрелков. Однако он заметил, что Робин долго выбирал себе меч, испытывая его остроту и тяжесть. В сопровождении Маленького Джона и Вилля Рыжего, вооруженных луками, вождь лесных стрелков покинул лагерь и направился к тому месту, где должен был происходить поединок. Альрик добился у Робин Гуда разрешения быть его оруженосцем. (обратно)ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ЗАМАНИЛИ
Шериф с де Молаком и двумя арбалетчиками вышел навстречу Робин Гуду. На приготовления потребовалось мало времени. Робин заметил, что шериф заменил свой круглый шлем другим, только что начинавшим входить в употребление. По форме этот новый шлем напоминал бочку, для глаз было сделано два отверстия, а щель посредине давала возможность дышать. Щита у шерифа не было, так как на правом плече он нес огромный меч, который приходилось держать обеими руками. Это было страшное оружие; Робин прекрасно понимал, что один удар таким мечом должен положить конец поединку. Выручить могла только ловкость и изворотливость, так как не было возможности парировать удары. Увидев меч шерифа, Альрик сказал де Молаку: – Сэр рыцарь, это противоречит правилам рыцарства. Противники должны драться одинаковым оружием. – Друг мой был вызван на поединок. Следовательно, ему принадлежит право выбирать оружие, – возразил де Молак. – Не бойся за меня, Альрик, – сказал Робин. – Мой меч сослужит мне службу, хоть на вид он и нестрашен. К нему я привык и владею им лучше, чем этим тяжелым неуклюжим оружием. – Значит, ты не возражаешь? – злорадно улыбнувшись, спросил де Молак. – Нет. – В таком случае начинайте! И поединок начался. Человек в тяжелой броне стал приближаться к Робину, обеими руками держа перед собой меч. Вдруг он замахнулся, и попади этот удар в цель – он бы рассек Робина пополам. Но Робин подпрыгнул и быстро отскочил назад, а меч, разрезав воздух, с силой ударился о землю, причем шериф едва устоял на ногах. Раньше чем он успел оправиться, Робин ударил по стальному шлему так, что металл зазвенел. После этого шериф стал значительно осторожнее. Несколько раз заносил он свой меч, но Робин Гуд был увертлив, как кошка. Он то отскакивал в сторону, то бросался вперед, и страшное оружие ни разу его не коснулось. Своему противнику он не давал ни секунды покоя; пятясь, он увлекал его вперед или, внезапно переходя в атаку, заставлял быстро отступать. Шериф задыхался под тяжестью доспехов, вдобавок и шлем препятствовал притоку свежего воздуха; вскоре он начал уставать, тогда как Робин Гуд не чувствовал ни малейшей усталости. Всем было ясно, что Робин Гуд играет со своим страшным противником и в любой момент может нанести решающий удар. Маленький Джон не выдержал и громко захохотал, а лицо де Молака потемнело от гнева. Шепотом сказал он несколько слов одному из арбалетчиков, и тот, повинуясь приказанию, выступил вперед, прицелился в Альрика и выстрелил. В этот самый момент юноша, видя, что шериф заносит меч над головой Робина, испуганно рванулся вперед. Не сделай он этого движения – и стрела вонзилась бы ему в грудь, тогда как сейчас она соскользнула по кольчуге. Со стоном упал Альрик на землю, а Маленький Джон, заревев от злобы, натянул тетиву и крикнул Виллю Рыжему: – Я прикончу этого негодяя, а ты стреляй в того, который стоит справа! Стрела вонзилась в сердце предателя-арбалетчика, а Вилль Рыжий свел счеты с его товарищем. Между тем Робин Гуд нанес шерифу удар в плечо и перерезал ремни его шлема; шлем покатился на землю. Взбешенный предательством врагов, Робин снова занес меч и, с силой ударив по капюшону кольчуги, рассек стальные звенья. Шериф тяжело рухнул на землю. Гибель обоих арбалетчиков разрушила предательские замыслы де Молака. Бегом бросился он с просеки к своим воинам, а пока он бежал, несколько стрел ударились об его латы и отскочили, не причинив ему ни малейшего вреда. Маленький Джон поднял Альрика и понес его на руках в лагерь; за ним последовали Робин Гуд и Вилль Рыжий. В лагере стрелки восторженно приветствовали Робина. Альрик был очень бледен и не приходил в сознание, но ран на теле у него не оказалось Однако Робин заметил, что в кольчуге, которую он заставил юношу надеть, рассечено несколько звеньев. Тогда он понял, что произошло. – Стрела задела его, но не проникла в тело. Мальчик оглушен ударом, – объяснил он. – Скоро он оправится. Это известие обрадовало всех стрелков, которые успели привязаться к Альрику. Вскоре Робин Гуд дал сигнал, и все заняли свои места, так как враг уже приближался к укреплениям. Рыцари и воины ехали с обеих флангов, а между ними шли уцелевшие арбалетчики, которые стреляли на ходу. Однако их стрелы никакого вреда не причиняли, так как люди Робин Гуда, находились под прикрытием. Заметив это, де Молак приказал своим солдатам стрелять в воздух, чтобы стрелы сверху падали за укрепления. Но арбалетчики не могли на ходу хорошо прицелиться, и ни одна стрела не попала в цель. Стрелки Робина горели желанием открыть стрельбу, но Робин Гуд их остановил. – Я хочу, чтобы они попытались взять лагерь приступом, – объяснил он. – Они сами себе причинят больше вреда, чем можем причинить мы. Не встречая отпора, воины де Молака обнажили мечи и, пришпорив коней, галопом помчались вперед. Гулко разнесся по лесу их боевой клич. Но не прошло и минуты, как лошади по колени увязли в болоте, а всадники, вылетев из седла, рухнули на острые колья, прикрытые охапками хвороста. Те, кому удалось миновать топкую местность, попытались перебраться через канаву, но колья кололи лошадей в брюхо, лошади брыкались и пятились назад, а люди, падая, увлекали за собой других. Вот тогда-то Робин Гуд дал сигнал открыть стрельбу. Целясь из-под прикрытия, стрелки не дали ни одного промаха, и немало солдат сложили здесь головы. Ужас овладел оставшимися в живых. В бегстве видели они единственное спасение. Выбравшись из канавы, они побежали к лесу, бросая на бегу оружие, доспехи и все, что замедляло их шаги. По сигналу, данному Робин Гудом, стрелки выскочили из-под прикрытия и бросились преследовать врага. Их копья и стрелы били без промаха. С наступлением темноты Робин Гуд прекратил преследование. – Мы уже потеряли нескольких товарищей, – сказал он. – Довольно жертв. Пусть жалкие остатки войска, вступившего сегодня в Шервудский лес, вернутся в Ноттингхэм и расскажут о том, как мы их встретили. Быть может, их судьба послужит предостережением для всех остальных. А мы должны позаботиться о наших раненых и обсудить план действий. Вернемся в лагерь. В лагере отец Тук уже хлопотал около раненых. Робин послал Элен-э-Дэла за женщинами, которых стрелки заблаговременно отвели в безопасное место. К полуночи они пришли вместе с менестрелем. Одни оплакивали убитых мужей или братьев, другие ухаживали за ранеными, не делая различия между своими и чужими. Этой ночью многие стрелки бродили по лесу, преследуя заблудившихся в чаще врагов. Некоторые заснули под деревьями, так как слишком устали, чтобы возвращаться в лагерь. (обратно)ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА
Настало утро, и лучи солнца упали на поле битвы. Поляна, где находился лагерь, была усеяна трупами людей и лошадей, так как во время последней атаки враг понес тяжелые потери. Все утро стрелки работали, не покладая рук. Вырыв глубокую канаву, они положили в нее мертвецов и засыпали землей. Несколько поодаль, под сенью вековых дубов, они похоронили своих товарищей – четырнадцать рослых молодцов, павших в бою. Над могилой полились заунывные звуки – стрелки трубили в охотничий рог. Альрик совершенно оправился после вчерашнего происшествия. Только глубокая царапина осталась у него на груди. Помогая стрелкам подбирать мертвых, он наткнулся на труп человека, убитого Робином в поединке. – Мы можем снять его кольчугу, – сказал Альрик отцу Туку, и вдвоем они начали ее расстегивать. Вдруг Альрик заглянул в лицо мертвеца и вскрикнул: – Что это? Клянусь всеми святыми, этот человек не похож на Рэно! Они нас обманули! Действительно, этот смуглый человек с черной бородой нисколько не походил на гладко выбритого шерифа. При более внимательно осмотре оказалось, что он значительно выше и плотнее, чем шериф. – То-то я подумал, что шериф стал выше ростом, когда он выступил вперед со своим мечом, – сказал Альрик; – но потом я совсем забыл об этом. – Да, конечно, это не шериф, – подтвердил Тук. – Я его хорошо знал. Вместо него выставили какого-то воина несомненно испытанного бойца – в надежде, что ему посчастливится убить нашего Робина. – Бедняга поплатился за обман, – заметил Альрик. – Мы должны тотчас же сообщить об этом Робину. Но Робина они нигде не могли найти. Он вернулся в лагерь часа через два и выглядел встревоженным и печальным. – Видел ли кто-нибудь сегодня Вилля Рыжего и Маленького Джона? – с беспокойством спросил он. Нет; никто их не видел. – Значит, опасения мои оправдались. Либо они убиты, либо попали в лапы сэра Питера де Молака. Дорого досталась нам победа над врагом, если они погибли! – Робин, что с тобой? Может ли это быть? – дрожащим голосом заговорил отец Тук. – Неужели Вилль убит? И Джон? Маленький Джон, мой товарищ, мой друг! И слезы заструились по одутловатым красным щекам толстяка. – Нет, я не говорю, что они убиты, но, несомненно, им обоим грозит серьезная опасность, – сказал Робин Гуд. – Слушайте, я вам расскажу все, что мне известно. Вчера вечером, наши товарищи не вернулись в лагерь. Я решил, что они увлеклись преследованием врага и слишком далеко отошли от лагеря. Признаюсь, у меня сразу возникли опасения. Утром, видя, что их все еще нет, я отправился на поиски. У Оленьего пруда я нашел беднягу Меча, сына мельника; он лежал на траве, пронзенный копьем. Я оказал ему помощь, а он, очнувшись, спросил, вернулись ли в лагерь Вилль Рыжий и Маленький Джон. Я ответил отрицательно. Тогда он со слезами сообщил, что они либо убиты, либо взяты в плен. Прошлой ночью они втроем преследовали группу рыцарей, в числе которых находился сэр Питер де Молак. На берегу Оленьего пруда произошла стычка. Одного из рыцарей Маленький Джон поверг на землю, как вдруг из-за деревьев выскочили шестеро воинов и напали на наших товарищей. Меча пронзили копьем. Падая, он видел, что Вилль Рыжий бьется в руках схвативших его солдат, а Маленький Джон дерется, как лев, в надежде спасти товарища. Больше Меч ничего не помнит. Я осмотрел место, где происходил бой, и увидел несколько кровавых пятен и примятую траву; но трупов Вилля и Маленького Джона я не нашел. Вот тогда-то я и решил, что они взяты в плен. – Ну, если так, то мы их спасем, хотя бы нам пришлось весь Ноттингхэм смести с лица земли! – воскликнул Тук. – Они не могут находиться в Ноттингхэме, – возразил Робин Гуд. – Шериф убит, и его люди не стали бы брать пленных, так как теперь награды ждать не от кого. – Но шериф не убит, – сказал Альрик. – Что? – недоверчиво переспросил Робин Гуд. Тогда Альрик рассказал о сделанном им открытии. Гневно сверкнули глаза Робина. – Негодяй! – крикнул он. – Но, мы с ним еще встретимся, и тогда ему несдобровать... Теперь я почти не сомневаюсь в том, что наши друзья попали в плен. Как вам известно, за их поимку, а также и за мою шерифу обещана щедрая награда. Печальная весть привела в уныние всех стрелков, но Робин был не из тех, кто падают духом. – Они объявили нам войну! – воскликнул он. – Ну, что ж! Будем воевать! Они посмели тронуть лучших моих друзей, и этого я не прощу. Я верю, что Вилль и Джон живы, а если они живы, мы сделаем все, чтобы их спасти. Если же они погибли, то мы за них отомстим. (обратно)ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ УЧЕНИК ЭСКУЛАПА
На рассвете следующего дня Робин был уже на ногах. Всю ночь он строил планы, а к утру придумал способ разузнать, какая судьба постигла его друзей. Свой проект он обсудил с отцом Туком. Альрик присутствовал при их разговоре. – Так как сэр Питер де Молак находился с теми, кто одержал верх над Маленьким Джоном и Виллем Рыжим, то, несомненно, пленники находятся в его руках, – сказал Робин. – Де Молак, как и всякий другой, не прочь получить награду. Следовательно, я предлагаю отправиться, прежде всего, к Конистонскому замку и там произвести разведку. Робин Гуд, Альрик, Нэд Локсли и еще несколько стрелков оседлали лошадей и отправились в путь, оставив лагерь на попечение отца Тука. Толстяку поручено было заботиться об охране лагеря и ухаживать за ранеными. Так как нельзя было заранее сказать, с какими людьми придется им иметь дело, то Робин и его спутники сочли разумным снять свои зеленые костюмы и одеться так, как обычно одевались наемники рыцарей и баронов. Пока они ехали по Шервудскому лесу, им часто попадались на пути угольщики, дровосеки и свинопасы. Среди них у Робина было много верных испытанных друзей; со всеми Робин обменивался условными знаками и получал от них нужные сведения. На опушке леса они встретили пастуха и от него узнали, что в ночь после битвы его разбудил топот копыт и бряцание стали. Выглянув из хижины, он разглядел при лунном свете группу вооруженных людей, среди которых находились два пленника. Один из пленников обращал на себя внимание своим гигантским ростом. Они держали путь на север – туда, где находился Конистонский замок. – Это известие подтверждает мои подозрения, – сказал Робин Гуд. – Во всяком случае мы сделаем все, чтобы их проверить. Вперед, товарищи! Выехав из леса, они молча стали продвигаться дальше, зорко осматриваясь по сторонам. После полудня они увидели резко вырисовывающиеся на фоне неба башни и зубцы Конистона. Это была сильная крепость, обнесенная рвом с водой, через который был переброшен подъемный мост. За внешними стенами находились толстые внутренние стены; над замком развевался флаг с гербом де Молака; на фоне красного полотнища отчетливо выделялась голова черного вепря. – Вот она – твердыня знати, притесняющей бедняков, – с горечью сказал Робин Гуд. – Но я сюда проникну, хотя бы мне пришлось снести эти стены! И, не спуская глаз с грязных каменных зубцов, он злобно погрозил кулаком. Но эта вспышка гнева тотчас же прошла. Робин Гуд прекрасно понимал, что сколько бы он ни бесновался – все равно подъемный мост не опустится, а ворота не распахнутся. Между зубцами стен и башен сверкала сталь; по-видимому замок хорошо охранялся. Было более чем вероятно, что за стенами находится большой гарнизон. В бою с лесными стрелками участвовали, главным образом, люди шерифа из Ноттингхэмского замка, и, следовательно, де Молак, выставивший лишь несколько десятков своих солдат, не понес больших потерь. – Оставаясь здесь, мы ничего не выигрываем, – сказал Робин. – Сойдем с коней, спрячемся под прикрытие деревьев, и обсудим положение. Они последовали его совету. Робин, заложив руки за спину и сдвинув брови, долго шагал взад и вперед, обдумывая план действий. Наконец решение его было принято. – Прежде всего, – объявил он, – мы должны узнать, действительно ли наши друзья находятся в замке. Я попытаюсь туда проникнуть. Дело это несложное, но нужно также придумать способ оттуда выбраться, а это уже значительно труднее; впрочем, план у меня созрел, но я рассчитываю на вашу помощь. – Располагай нами, как самим собой, – отозвались стрелки. – Я вам расскажу, что мы должны делать. Оставайтесь здесь и ждите меня. При первых признаках тревоги садитесь на коней и возвращайтесь в Шервудский лес. В бой не вступайте. Если же все будет спокойно, но я не вернусь к тому времени, когда запираются на ночь ворота замка, – скачите к отцу Туку и скажите ему, что я нахожусь в плену в Конистонском замке. Он позаботится о моем спасении. – Но неужели ты один рискнешь туда пойти? Это безумие! – воскликнул Альрик. – Можешь быть уверен, что де Молак не выпустит тебя из рук. – Де Молак не будет знать, кто у него в гостях, – улыбнулся Робин. – Мне часто приходится переодеваться и изменять свою внешность. Таким путем я узнаю, что делается у врага. До сих пор все сходило мне с рук. Из мешка, привешенного к седлу, он достал узел с одеждой и бросил его на землю. Затем снял высокие сапоги со шпорами, шапочку с пером и оружие, кроме длинного острого кинжала, который спрятал под куртку. Лицо он натер какой-то мазью, и кожа приняла грязновато-желтый оттенок. Покрыв голову седым париком, он надел длинный плащ скапюшоном, надвигавшимся на самые глаза. В руку взял посох и маленький узелок, в котором находились коробочки с порошками и мазью. Сгорбившись и прихрамывая, он сделал несколько шагов; затем, обращаясь к своим товарищам, сказал старческим надтреснутым голосом: – Прошу вас, милостивые господа, испробовать мои лекарства. Я удаляю бородавки и мозоли, шрамы и прыщи, излечивают от колик и разлития желчи, от зубной боли и ревматизма; старых я делаю молодыми, молодых – неустрашимыми. У меня есть снадобья, исцеляющие от любовного недуга, есть порошки, сметающие с пути всех соперников. Господа и простолюдины, покупайте мои товары. За один пенни вы можете получить все, что вам угодно. Нэд и его товарищи громко расхохотались, а Альрик был поражен удивительным талантом Робина. – Действительно, в этом костюме трудно тебя узнать, – сказал он. – Но будь осторожен: ведь ты идешь в логовище зверя. – Не бойся за меня, – ответил Робин. – А вы, друзья, исполните все, что я вам сказал. Опираясь на палку, он заковылял к воротам замка. Друзья, следившие за ним, видели, как он перешел через мост и скрылся в воротах. Робин Гуд был уверен, что в этом костюме никто его не узнает. Поэтому он не испугался, когда из караульни, находившейся за мостом, раздался грубый голос: – Что тебе нужно, старик? Или ты пришел сюда шпионить? Знай, что мы неласково встречаем непрошеных гостей! Из караульни вышел рослый, свирепый на вид воин. Робин остановился и отвесил низкий поклон. – Не гневайтесь, достойный сэр, – сказал он. – Какой же я шпион? Я честно зарабатываю свои пенни и приношу радость и утешение тем, кто мне платит. Я – ученик Эскулапа. – А кто он такой – этот Эскулап? Нам нет дела до него и всех его учеников. Если ему служат такие жалкие старики, как ты, то вряд ли твой господин пользуется большим влиянием. Признаюсь, я что-то не слыхал о рыцаре, которого бы звали Эскулапом. С трудом удерживаясь от смеха, Робин Гуд смиренно отвечал: – Достойный воин! Эскулап был греком, который положил начало искусству врачевания. Из его писаний мы узнали, как нужно лечить больных. – А мне что за дело до его писаний? Я писаниями не занимаюсь и не доверяю людям, которые умеют разбирать написанное. – Конечно, доблестному воину не подобает терять время на чтение рукописей, но мы, бедные ученые, извлекаем из них полезные сведения. У меня есть лекарственные травы и снадобья, излечивающие от всех болезней... И Робин Гуд произнес приблизительно такую же речь, какую не так давно прослушали его друзья. Смиренные слова старика произвели на воина благоприятное впечатление. – Ты говоришь, что излечиваешь от ревматизма? – спросил он, покручивая длинный ус. – А у меня чертовски болит колено. Если ты можешь меня вылечить, идем в караульню. Но предупреждаю: если твое лекарство окажется никуда негодным, я спущу с тебя шкуру. – Я не боюсь, – ответил Робин Гуд, следуя за ним в караульню, где двое солдат играли в кости. Воин, которого звали Стифеном, был, по-видимому, начальником караула. Он обнажил колено, а Робин, достав баночку с зеленой мазью, энергично принялся за дело. Он втирал ее в колено до тех пор, пока кожа не покраснела. – Клянусь костями святого Фомы, – сказал Стифен, – у тебя чертовски жгучая мазь; она жжет мне кожу. – Это пойдет вам на пользу, – объяснил Робин. – Болезнь ваша вызвана воспалением подкожных желез, и вследствие окостенения... – Довольно, довольно! – перебил его Стифен. – Все равно я ничего не понимаю. Делай свое дело и молчи. Мазь, которую втирал ему в ногу Робин, была хорошо известна лесным стрелкам и действительно успокаивала боль. Стифен почувствовал облегчение и, поглаживая свое колено, сказал: – Клянусь мессой, старик, ты заработал пенни! – Кладите на ночь горячие припарки, – посоветовал Робин. – Не очень-то я люблю горячую воду, – проворчал Стифен. – Охотно этому верю, но время от времени не мешает прочищать поры. – Убирайся к черту! – выругался Стифен. – Можно подумать, что у солдата нет другого дела, как заниматься омовениями! И вообще разговаривай поменьше и не надоедай своими советами. Робин Гуд напустил на себя смиренный вид и осведомился у других солдат, нет ли у них каких-нибудь болезней. В то же время он украдкой осматривал комнату. Караульные не нуждались в помощи лекаря, но Стифен сказал: – У моей жены мозоль на ноге. Если ты легко уладишь эту мозоль, я тебе дам десять пенни. Когда у жены что-нибудь болит, несносная старуха грызет меня день и ночь. – У меня есть верное средство от мозолей, – ответил Робин. – Ну, так ступай к моей жене. Но предупреждаю тебя: если ты ей не понравишься, она тебе закатит такую пощечину, что у тебя в глазах потемнеет... Эй, Диккон, проводи лекаря к моей старухе! Скажи ей, что у него есть средство от мозолей. Робин Гуд заковылял вслед за солдатом и вскоре очутился в присутствии уже немолодой и свирепой на вид особы, ее-то мужем и был Стифен. У Робина сжалось сердце, когда он увидел кислую физиономию, длинный нос и острые глазки супруги Стифена, но Робин мастер был говорить комплименты, и вскоре добился ее расположения. Срезав мозоль, он стал восхищаться маленькой ножкой госпожи Стифен и высказал предположение, что мозоль она натерла, надевая слишком широкую обувь. В действительности же у госпожи Стифен нога была, как у солдата. – Положите в чулок пучок лекарственной травы, – сказал ей Робин. – Тогда от мозоли не останется следа. Но будьте осторожны: эту траву можно найти только в лесу, а сейчас по лесам рыщут разбойники, которые могут похитить такую прелестную даму, как вы. Госпожа Стифен шутливо хлопнула Робина по плечу; рука у нее была тяжелая, и стрелок едва устоял на ногах. – Уверяю вас, что я не шучу, – продолжал он. – Правда, не так давно разбойникам нанесли тяжелый удар. Многие убиты, некоторые взяты в плен, а остальные разбежались. – Верно, старик! Даже в нашем замке сидят два пленника. Я их видела: один – великан, а у другого волосы огненно-рыжие. Говорят, что из носа и изо рта у них вырывается пламя. По словам отца Амброза, это значит, что они продали душу дьяволу. – Хотелось бы мне на них посмотреть. Кое-кого из этих разбойников я знаю. – Вздор ты болтаешь, старик! Этих двоих ты не увидишь. Они сидят в подземелье замка, а стережет их старый Николас. Сэр Питер давным-давно бы их повесил, но говорят, что шериф предлагает за них щедрый выкуп. Кажется, дня через три сам шериф сюда приедет. – А я бы научил сэра Питера получить большие деньги, если за поимку разбойников назначена награда. Я знаю, где скрывается их начальник, сам Робин Гуд. Госпожа Стифен пронзительно взвизгнула, и в комнату вбежал ее муж. – Это еще что значит? – спросил он, выхватывая кинжал. – Старик грозит привести сюда самого Робина Гуда, – объяснила его супруга. – Нет, я сказал только, что мне известно, где он находится, – перебил его Робин. – А коли так, то ты не покинешь этого замка пока не откроешь тайны моему господину! – крикнул Стифен. – Я не прочь рассказать все, что знаю, но за это мне должны заплатить. Я слыхал, что голову Робин Гуда оценили в триста золотых монет. – Это верно, и сэр Питер обрадуется золотым монеткам. Идем со мной. – Подождите минутку, доблестный воин! – сказал Робин. – Если сэр Питер поймает разбойника, я получу в награду несколько жалких шиллингов, да и вам достанется не больше. Если же мы с вами вдвоем его поймаем, премия будет наша. Деньги мы поделим и будем обеспечены на много лет. У Стифена засверкали глаза. – Но как же нам его поймать, старик? – Завтра утром вы с двумя или тремя воинами выедете из Конистона по какому-нибудь делу. Мы встретимся за крепостным рвом, и я вам покажу путь к хижине пастуха, где находится сейчас Робин Гуд. Банда его рассеяна, и сегодня я узнал, где он сам скрывается. С помощью ваших людей мы захватим его в плен, и тогда награда будет наша. – Клянусь всеми святыми, ты хитро придумал, но кто мне поручится за то, что ты говоришь правду? Робин засмеялся старческим смешком. – Стану ли я – жалкий старик – вас обманывать? Я буду вашим проводником, и если вам покажется, что я солгал... ну, что же! За поясом у вас торчит кинжал! – И этот кинжал я всажу тебе в спину! Идем в караульню и обсудим твой план. Он мне пришелся по вкусу. Триста золотых монет! – Стифен прищелкнул языком. – Да ведь я смогу бросить службу у сэра Питера и заняться каким-нибудь другим делом, более выгодным и спокойным. Двадцать лет я рисковал своей шкурой, и мне это надоело. Улыбаясь, Робин последовал за Стифеном в караульню. Здесь он подробно объяснил ему свой план и с радостью увидел, что рыба идет на приманку. Они условились встретиться на следующее утро за крепостным рвом, и Робин обещал проводить воинов к хижине, где скрывается опасный разбойник. – Вы нападете на него внезапно, – сказал он Стифену. – Возьмете с собой троих или четверых солдат – этого совершенно достаточно. Чем меньше народу, тем больше золотых монет придется на долю каждого из нас. Связав разбойника, вы отвезете его в Ноттингхэм. – Нет, мы должны вернуться сюда, а то сэр Питер разгневается, – возразил Стифен. – Но я позабочусь о том, что мне выдали награду. Снова сверкнули его глаза, и Робин понял, что алчность Стифена является самым уязвимым его местом. Распрощавшись с воином, Робин заковылял было к подъемному мосту, как вдруг Стифен его окликнул и заставил вернуться. – Почему бы не переночевать тебе здесь? – спросил он. – Я и сам об этом думал, – отозвался Робин Гуд, – но вряд ли следует мне здесь остаться. Если сэр Питер увидит, что вы вместе со мной покидаете замок, у него могут вспыхнуть подозрения, и тогда он нас задержит. – Правда! Об этом я не подумал. Ну, будь по-твоему! Завтра через час после восхода солнца жди меня за стенами крепости, против бойницы. Но берегись, если ты меня надуешь! Я этого не прощу. – Положись на меня, достойный воин, я буду на своем месте. И, втихомолку посмеиваясь, Робин поплелся к подъемному мосту. (обратно)ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ В ЗАМКЕ КОНИСТОН
На следующее утро, за несколько минут до назначенного часа, Робин Гуд, по-прежнему переодетый стариком, занял наблюдательный пост на расстоянии полумили от бойницы Конистонского замка. Накануне вечером он благополучно вернулся к своим товарищам, рассказал обо всем, что произошло, и сделал необходимые распоряжения. Сидя на пригорке у дороги, он видел, как опустился подъемный мост, и четверо вооруженных всадников выехали из крепости. В рослом воине, ехавшем впереди, Робин узнал Стифена. Вскоре всадник поравнялся с Робин Гудом и вздохнул с облегчением, убедившись, что вчерашний гость его не обманул. – Пройди вон через тот лесок, – сказал он ученику Эскулапа. – Мы встретим тебя за поворотом дороги. Робин повиновался и, выйдя из рощи, увидел, что Стифен сошел с лошади и ждет его, а трое солдат придерживают своих коней. – Ну, влезай на лошадь! – приказал Стифен. – Ты будешь сидеть за моей спиной и показывать нам дорогу. Дай, я тебя подсажу! С помощью Стифена Робин Гуд, охая и вздыхая, вскарабкался на лошадь. Мирно беседуя, тронулись они в путь, вскоре достигли леса, и по извилистой тропинке углубились в чащу. – Опасное дело мы затеяли, – проворчал Стифен. – В этой части леса всегда можно было повстречать разбойников. А если они сейчас на нас нападут, нам четверым с ними не справиться. – Не бойтесь, – отозвался Робин. – Если бы Робин Гуд стоял сейчас во главе своей шайки, вам не позволили бы углубиться в лес. Его веселые стрелки встретили бы вас на опушке. – С какой уверенностью ты говоришь об этом негодяе! – воскликнул Стифен. – Я его хорошо знаю. Сотни раз случалось мне проходить через этот лес, и у разбойников я всегда встречал радушный прием. Мне известны все их обычаи и уловки. – И, однако, ты готов его предать! – презрительно бросил Стифен. Робин пожал плечами. – Сейчас это не имеет значения, – сказал он. – Шайка рассеяна, Робин Гуд больше ее не возглавляет. А мне нужны деньги. Если я о себе не позабочусь, кто же обо мне подумает? В этот момент где-то неподалеку прозвучал рог. Воины заметно побледнели и остановили коней. – Что это значит? – крикнул Стифен. – Неужели сигнал разбойников? Куда ты нас заманил, старый плут? И он схватил Робина за плечо. – Добрый господин, – взмолился Робин, – ведь со вчерашнего дня я не был в лесу и, следовательно, не мог вам изменить! Это трубил один из королевских лесничих. Но если вы мне не верите, поезжайте назад. В конце концов триста золотых монет не такие уж большие деньги. – Нет, нет! Вперед, товарищи! – скомандовал Стифен. – Оружие держите наготове. Воины обнажили мечи. Вскоре они выехали на лужайку, окаймленную высокими деревьями. Лучи солнца золотили поверхность прозрачного лесного пруда; олени, пришедшие на водопой, испуганно встрепенулись и скрылись в чаще леса. – Мы находимся неподалеку от хижины, – сказал Робин. – Следовало бы продолжать путь пешком, чтобы не спугнуть разбойника. Воины спрыгнула с седел и, привязав лошадей, зашагали по тропинке. Робин указывал дорогу, а Стифен крепко держал его за руку, опасаясь, как бы старик не улизнул. Вскоре они увидели маленькую хижину, обнесенную невысоким деревянным забором; она находилась на просеке, за ней вставала зеленая стена деревьев. – Вот мы и пришли, – прошептал Робин. – Лучше я один пойду вперед и посмотрю, тут ли он. Крадучись, он подошел к дому и заглянул в окно. Потом поманил Стифена и его товарищей. Те ворвались в хижину, но, к великому своему огорчению, никого там не нашли. – Негодяй! Мошенник! – заревел Стифен, хватая Робина за шиворот. – Ты нас обманул! Где он? Где этот разбойник? – Странно, – отозвался Робин. – А я готов поклясться, что он здесь. – Но где же, где? – спрашивал Стифен, в бешенстве топая ногами. – Он не мог улизнуть! Робин Гуд осматривался по сторонам, словно искал кого-то. Стифен, потеряв терпение, закричал: – Ты лжешь, старый плут! Робин Гуда здесь нет и никогда не было. Ты меня одурачил! – Нет, я вам не лгал. – Лгал! Я знаю, что ты – лжец! – Сам ты лжец! Робин здесь был, да и сейчас он тут. – Ну, так покажи же мне его! Робин Гуд громко расхохотался, сорвал с себя капюшон, парик, сбросил длинный плащ, и воскликнул: – Вот он, Робин Гуд! Хозяин Шервудского леса! Воины рты разинули от изумления, но через секунду в лучах солнца уже засверкали мечи и кинжалы. Стифен со своими товарищами готов был броситься на Робина, но тот пронзительно свистнул и закричал: – Берегитесь! Еще один шаг – и все вы будете убиты! Оглянитесь! Воины оглянулись и ахнули: за ними стояли Альрик и Нэд с обнаженными мечами. В дверях толпились стрелки, вооруженные луками; за окном показались еще два стрелка, а Робин выхватил кинжал. Стифен и его солдаты поняли, что сопротивляться не имеет смысла; их жизнь была в руках стрелков. – Вы видите, что положение ваше безнадежно, – сказал Робин. – Сдайтесь в плен, и никто не причинит вам вреда. Воины мрачно сложили оружие, а вошедшие в хижину стрелки крепко связали им руки. Альрик бросился к Робин Гуду и, пожимая ему руку, воскликнул: – Какое счастье, что ты цел и невредим! Мы с Нэдом не знали ни минуты покоя с тех пор, как расстались с тобой. – Все произошло так, как я предсказывал, – улыбнулся Робин. – Бедняга Стифен пошел на приманку. Боюсь, что ему придется провести несколько дней в лесу. Но это пойдет ему на пользу. Вернись он немедленно – его жена, узнав о неудаче, загрызла бы своего муженька. Но через неделю она встретит его, как человека, восставшего из гроба, и, вместо упреков, осыплет поцелуями. Рассказав о всех происшествиях этого дня, стрелки плотно пообедали, не забыв угостить и своих пленников. Затем Робин Гуд приступил к выполнению второй части своего плана. Прежде всего с пленников сняли кожаные куртки, шлемы и кольчуги; их доспехи надели на себя Нэд, Альрик и еще двое стрелков. Достав из сумки мазь и какую-то жидкость, Робин Гуд стал гримировать своих спутников, стараясь придать им сходство с четырьмя воинами, взятыми в плен. К хижине привели лошадей, стрелки напоили их и накормили, всадники выбрали себе коней, подтянули подпруги и стремена. Из лесу один из стрелков привел пятую лошадь, и на нее вскочил Робин Гуд, снова надевший свой зеленый камзол и шапку с пером. Попрощавшись с товарищами, пятеро всадников поскакали по направлению к Конистонскому замку и перед заходом солнца увидели знакомые зубцы и башни. Под прикрытием деревьев они спрыгнули с седел и сделали последние приготовления. Затем Робин снова вскочил в седло, и стрелки скрутили ему веревкой руки за спиной, а ноги связали под брюхом лошади. Ростом и сложением Нэд Локсли походил на Стифена, и в темноте его можно было принять за наемника де Молака. Поэтому он взял на себя командование, и маленький отряд двинулся к замку. Робин, как пленник, ехал посередине. Подъехав к наполненному водой рву, они увидели, что мост уже поднят на ночь, но Локсли окликнул часового, а тот ворчливо осведомился, кто его зовет. – Ты что, ослеп? – грубо крикнул Локсли, подражая голосу и манере Стифена. – Поторопись! Я привез пленника, которого нужно поскорей запрятать в надежное место. – Как, еще один пленник? Ха-ха-ха! Скоро наши темницы будут битком набиты. Опустили мост. Отряд въехал в ворота. – Эй, Симон! – крикнул воин, сидевший у двери караульни. – Наш Стифен вернулся. – Да, вернулся и привез славную дичь, – проворчал Локсли. – И эта дичь придется по вкусу сэру Питеру, – подхватил Альрик, подражая манере человека, в чьи доспехи он облачился. – Э, видно, вы поймали еще одного разбойника! – догадался Симон. – Мы поймали их главаря! – провозгласил Локсли. – Это сам Робин Гуд. Помоги нам втащить его в караульню. Они сошли с коней и развязали веревку, спутывавшую ноги Робина, но не отходя от него ни на шаг, словно опасаясь, как бы он не удрал. Вчетвером повели они пленника в караульню, а Симон замыкал шествие. Войдя в комнату, Альрик кинжалом перерезал веревку, которая стягивала руки Робина, а тот тотчас же стал бороться с державшими его людьми. – Эй, Симон, на помощь! – закричал Локсли. – Негодяй хочет удрать! Симон и его два помощника не замедлили отозваться на призыв. Велико же было их изумление, когда и Робин Гуд и четыре воина, которых они принимали за своих товарищей, набросились на них и обезоружили! Локсли достал веревку и, с помощью Робина, связал караульных по рукам и по ногам, а Альрик, держа в одной руке меч, в другой – кинжал, грозно прошептал: – Посмей только крикнуть – и ни один из вас не уцелеет! Ошеломленные пленники даже не помышляли о сопротивлении. Стрелки заткнули им рты кляпом и приостановились, чтобы отдышаться. – Пока все идет хорошо, – сказал Робин. – Самое главное сделано; мы проникли в крепость. – Только бы нам удалось отсюда выбраться! – пробормотал Локсли. – Мы должны верить в успех, – отозвался Робин. – До сих пор нам все удавалось. Как бы то ни было, но отсюда мы не уйдем, пока не освободим Маленького Джона и Вилля Рыжего. Оседланных лошадей они поставили в конюшню около караульни, чтобы в минуту опасности можно было немедленно ими воспользоваться. – Теперь мы должны пробраться в подземную темницу, – сказал Робин. – Воспользуемся тем, что нигде не видно людей и путь свободен. Нужно отыскать старого Николаса; ключи у него. Мы его заставим провести нас в подземелье. Там мы отыщем наших друзей и вместе с ними вырвемся на волю. Следуя за Робином, стрелки вошли во внутренний двор и направились к маленькой башне, где – как узнали они от Симона – жил Николас. Судьба им благоприятствовала, и они сразу нашли комнату старика. Но здесь их подстерегала первая неудача: Николаса в комнате не было, и они не могли найти ключей. – Быть может, тюремщик делает обход темниц, – высказал свое предположение Робин. – Очень возможно, – отозвался Нэд Локсли, – и, пожалуй, нам это будет на руку. Башня несомненно сообщается с замком и находящимися под ним темницами. Попытаемся найти этот ход. Вряд ли кто-нибудь попадется нам на пути. Если же нам придется вступить в борьбу, наверху не услышат шум. – Ты прав, – сказал Робин. – Отправимся на поиски. Пожалуй, нам понадобится свет, – добавил он, снимая с подставки лампу. Выйдя из комнаты Николаса, они спустились по каменной лестнице и очутились в длинном коридоре, который привел их к тяжелой железной двери, к счастью, оказавшейся не на запоре. Спустившись еще на несколько ступеней вниз, они попали в лабиринт коридоров и, не зная, в какую сторону идти, – долго блуждали наугад, пока не вышли в большую сводчатую комнату с многочисленными дверями. Факел, вставленный в железную подставку, освещал это сырое мрачное подземелье. Здесь пахло плесенью и землей. Робин нерешительно осматривался по сторонам, как вдруг под сводами гулко пронесся протяжный вопль, исторгнутый, по-видимому, невыносимой болью. – Что это? – в ужасе воскликнул Нэд Локсли. – Скоро узнаем, – отозвался Робин, нахмурившись и обнажая меч. – Здесь совершается какое-то злое дело, и этому мы должны помешать. Они попытались открыть двери, выходившие в сводчатую комнату, но ни одна не поддалась их усилиям. Вдруг из-за двери, в которую ломился Нэд, донесся голос: – Кто это? Что вам нужно? Вы пришли меня убить или пытать, как того беднягу, чей вопль я только что слышал? – Нет, нет, мы – друзья, – поспешил успокоить его Робин. – Кто ты такой? – Друзья, говорите вы? – снова раздался голос, но на этот раз в нем звучала нотка надежды. – Друзья? Ну, если вы – друзья, умоляю вас, освободите меня! Я заживо гнию в этой могиле. Лучше просуньте меж прутьев решетки кинжал, чтобы я мог положить конец своим страданиям. – Мужайся, друг! Мы постараемся тебе помочь. Кто ты такой? – Реджинальд де Траси. – Это имя мне знакомо. Кажется, я его когда-то слышал. – Быть может... Было время, когда многие меня знали. – Подожди... – Ведь так звали человека, пользовавшегося влиянием при дворе короля Ричарда[548]. Это был храбрый рыцарь. Неужели ты – Реджинальд де Траси? – Да, когда-то я им был, но теперь мне не нужны ни титулы, ни почести. Освободи меня, и я до конца своей жизни готов быть простым пастухом или дровосеком. О, только бы еще раз увидеть голубое небо, подышать свежим воздухом, погреться в лучах солнца! Сжалься надо мной! И несчастный громко застонал. – Клянусь, я сделаю для тебя все, что в моих силах, – сказал Робин, – но сначала мы должны покончить с нашим делом. – Робин, вон из-под той двери пробивается луч света! – воскликнул Альрик. – Оттуда доносятся голоса. Стрелки направились к двери, на которую указывал юноша. Робин попытался ее открыть, но дверь была заперта. Прижавшись ухом к замочной скважине, он услышал грубый голос, говоривший: – Упрямый пес, говори где скрывается твой начальник! Обещай показать нам дорогу к его логовищу, а не то – берегись! Видишь эти докрасна раскаленные щипцы? Этими щипцами я сдеру мясо с твоих костей! – Не слушай его, Маленький Джон! – раздался хорошо знакомый Робину голос. – Не слушай его! И не будь таким трусом, как я. Я проклинаю себя за то, что не удержался и вскрикнул от боли! – Не бойся, Вилль! Ты показал мне, что значит быть храбрым, и с тебя я буду брать пример... А ты, барон, не подходи ко мне, если не хочешь получить плевок в морду! Делай, что тебе угодно. Вари меня в котле, поджаривай на вертеле, но я не скажу ни одного слова, которое могло бы повредить нашему Робину! Раздался звук пощечины; затем Робин Гуд услышал прерывающийся от злобы голос де Молака: – Вот тебе, получай, негодная скотина... Ральф, если через минуту он не заговорит, натяни веревку потуже и отдери щипцами кусок мяса на его груди. А теперь займемся вторым! Окати его еще раз ледяной водой и подпали подошвы раскаленным железом! Робин побледнел и, не владея собой, стал громко стучать в дверь рукояткой меча. В комнате все стихло. Тогда он постучал снова. – Кто там? – Это я, Стифен, – отвечал Робин, подражая голосу караульного. – Откройте! Я должен передать сэру Питеру важное известие. – Если ты, болван, тревожишь меня по пустякам, я тебя проучу! – сердито крикнул де Молак. – Впусти его, Арнульф! Я должен знать, какое известие он принес. Пока отодвигали засов, Робин успел шепнуть своим друзьям: – Как только дверь распахнется, мы все ворвемся в комнату. Если они будут сопротивляться, никому не давайте пощады. Дверь приоткрылась на несколько дюймов, но стрелки навалились на нее всем телом и влетели в комнату, сбив с ног стоявшего за дверью человека. Раньше, чем тот успел вскочить, его оглушили ударом по голове. Робин увидел двух приближающихся к нему парней; подняв меч, он расправился с обоими, пока Нэд Локсли сводил счеты с третьим. Здоровенный детина с обнаженными по локоть руками, в расстегнутой на груди рубахе, занес над головой Альрика огромные раскаленные щипцы, но Альрик ловко отскочил в сторону и вонзил меч в грудь своего врага. Тот со стоном рухнул на пол. Видя, что никто больше не оказывает им сопротивления, Робин и его спутники осмотрели по сторонам. Они находились в маленькой сводчатой комнате, посредине которой пылала огромная жаровня. Из жаровни торчали раскаленные железные прутья. Вдоль стен стояли какие-то странные рамы и козлы с веревками и блоками; над ними висели железные инструменты – по-видимому, орудия пытки. Комнату освещали факелы, воткнутые в железные подставки. Пол был каменный. Но стрелкам некогда было осматривать страшную комнату пыток: их внимание привлекли два человека, в которых они сразу узнали своих товарищей – Маленького Джона и Вилля Рыжего. Маленький Джон, обнаженный до пояса, был привязан к деревянной раме, по форме напоминавший римскую цифру X. Голову его стягивала веревка, глубоко врезавшаяся в тело. – Джон, бедный Джон, что они с тобой сделали! – хрипло прошептал Робин. – Но они за это поплатятся! Кинжалом он разрезал веревку. – Робин, я боялся, что ты придешь! – дрожащим голосом ответил Маленький Джон. – Страшное это место! Что, если не удастся тебе отсюда выбраться? Не стоило ради меня рисковать жизнью. – Неужели я мог покинуть тебя и Вилля в беде? Вместе мы жили, вместе сражались и пировали, вместе и умрем, если враги нас одолеют. Пока Робин помогал Маленькому Джону, друзья его хлопотали вокруг Вилля Рыжего. Бедняга, связанный по рукам и по ногам, лежал на каменном полу. Ему на грудь и на живот навалили груду камней, под тяжестью которых он едва мог дышать. Время от времени его окатывали ледяной водой, а подошвы прижигали раскаленными железными прутьями. Эта последняя страшная пытка исторгла у него крик, который услышали друзья. Приди они на полчаса позже – неизвестно, в каком состоянии нашли бы они своих товарищей. Локсли и Альрик сняли камни с груди Вилля и помогли ему дотащиться до жаровни; пока он отогревался, они поддерживали его, так как бедняга едва мог стоять. Подошел Робин и крепко обнял его. – Бедный Вилль! Но мы за тебя отомстим. Де Молак дорогой ценой заплатит за свою жестокость! – А кстати где же он? – неожиданно спросил Альрик. – Мы слышали его голос, но я его нигде не вижу. Стрелки с недоумением переглянулись. Действительно, барона в комнате не было. Быть может, он выбежал за дверь, через которую вошли стрелки, быть может, воспользовался каким-нибудь потайным ходом. Как бы там ни было, но он ускользнул. – Нужно не мешкая уйти отсюда, – сказал Локсли. – Если де Молак удрал, он через несколько минут вернется с подкреплением, против которого мы не устоим, и дело кончится тем, что мы не только не освободим наших друзей, но и сами очутимся в плену. Все признали правоту его слов. Маленькому Джону и Виллю Рыжему помогли одеться. Первый уже несколько оправился после пытки, которая, к счастью, началась за несколько минут до освобождения. Взяв кинжал, принадлежавший одному из убитых, он заявил, что готов сразиться с наймитами де Молака. Но бедняга Вилль едва мог ступать на обожженные подошвы, и его приходилось поддерживать. Перед уходом из комнаты пыток, Локсли хотел перерезать горло Николасу и Арнульфу, лежавшим без сознания на каменном полу, но против этого восстал Робин Гуд. Другие двое – палач и его помощник – были убиты. Взяв ключи у Николаса, и захватив один факел, все вышли из комнаты пыток. Вилля Рыжего вели под руки Локсли и еще один стрелок. – Мы должны помочь тому несчастному пленнику, который умолял нас спасти его, – вспомнил Робин. – Можно себе представить, какие мучения выпали ему на долю. Он подошел к двери темницы и стал подбирать ключи, но ни один не подходил. – Давно ли ты здесь сидишь? – спросил он заключенного. – Не знаю! Я потерял счет годам. Должно быть прошло много лет с тех пор, как я в последний раз видел солнце. Неужели ни один ключ не подходит? О, не покидай меня, не покидай! Обещай, что ты меня не покинешь! Попытайся еще! – Мужайся, приятель! Быть может, сейчас мне не удастся тебе помочь, но я вернусь и заставлю негодяя де Молака выпустить тебя на волю. – Скажи ему, что от меня он не услышит ни одного слова обвинения. Скажи ему, что я отказываюсь и от этого замка, и от своих земель. Я готов все ему простить, только бы еще хоть раз увидеть солнце! Робин еще возился с ключами, когда из каменных коридоров донесся гул и топот вооруженных людей. – Враги приближаются! – крикнул Альрик. – Робин, мы должны подумать о своем спасении. – Да, придется уйти, – отозвался Робин. – Слушай, несчастный! Зовут меня Робин Гуд. Если удастся мне вырваться живым из этого замка, то, клянусь, я не успокоюсь до тех пор, пока не выпущу тебя на свободу! (обратно)ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СПАСЕНИЕ
Вилль Рыжий, обессиленный пыткой, едва держался на ногах, но Маленький Джон совсем оправился и готов был сражаться вместе со своими друзьями. Однако вшестером они не могли противостоять людям де Молака, и им оставалось только бежать. Бежать! Но куда? В лабиринте коридоров легко было заблудиться и попасть в лапы врага. Даже если бы удалось им добраться до конюшен и вскочить на коней – все равно у них не хватило бы времени пересечь двор, поднять решетку, преграждающую путь к воротам, и, наконец, открыть ворота. Но Робин Гуд был не из тех, что предаются отчаянью. Ему часто случалось подвергаться серьезной опасности, и каждый раз, словно чудом, он спасался. И сейчас он надеялся, что судьба им улыбнется. Они бросились бежать по коридору; казалось, это был тот самый коридор, по которому они сюда пришли. Через несколько минут до слуха их донеслось бряцание оружия, и вдали замелькали факелы. Как раз в этот момент стрелки добежали до подножья лестницы. – Нам повезло, – сказал Нэд Локсли. – Я помню, в конце лестницы была дверь, запиравшаяся с другой стороны железным болтом. Мы запрем ее за собой перед самым носом врага. Но, поднявшись по каменным ступенькам, они убедились, что дверь уже заперта, и путь им отрезан. Маленький Джон, растолкав товарищей, всем телом навалился на дверь, но она не поддалась. Стрелки очутились словно в ловушке – впереди запертая дверь, сзади надвигающиеся воины. Действительно, положение было отчаянное. – Проклятая каменная могила! – с бешенством крикнул Маленький Джон. – То ли дело встретить врага в лесу, где можно вступить в честный бой! А здесь мне не хватает воздуха. Будь у меня в руках топор, я бы расщепил эту дверь, хотя она и сделана из доброго старого дуба. И гигант глубоко вздохнул. – Во всяком случае живыми мы не дадимся им в руки, – сказал Робин Гуд. – Нэд, стой подле меня, а ты, Альрик, поднимись на следующую ступеньку. Клянусь, мы дорого продадим свою жизнь! Эти слова воодушевили стрелков, и врага они встретили презрительными возгласами. Воины – их было человек двадцать – приостановились, но де Молак, замыкавший шествие, угрозами и бранью заставил их идти вперед. Коридор был узкий, и только трое могли пройти здесь в ряд, да и то они помешали бы друг другу свободно владеть оружием. Это обстоятельство было на руку стрелкам. Вилль Рыжий, не имея сил участвовать в предстоящей битве, занял место на верхней ступени у двери и высоко поднял факел. Подле него стояли два стрелка. Несколькими ступеньками, ниже находился Альрик с Маленьким Джоном, а перед ними – Робин Гуд и Нэд Локсли. На воинов, вооруженных мечами и топорами, произвел впечатление спокойный и вызывающий вид стрелков. Но, повинуясь команде де Молака, двое наемников бросились вперед и взбежали на ступени. Робин и Нэд занимали более выгодное положение, и вскоре один из нападавших упал, пронзенный мечом. Его место тотчас же занял второй, но и этот вскоре выбыл из строя. Гибель двух товарищей привела в бешенство воинов де Молака. С гневными криками перешли они в атаку, но в тесноте не могли наносить удары. Маленький Джон выхватил кинжал, поднятый им в комнате пыток, и, просунув руку из-за плеча Робина, вонзил клинок в грудь одного из воинов. Тот зашатался, и товарищи, поддерживая его, вынуждены были отступить. Однако Локсли получил рану – не опасную, но вызвавшую сильное кровотечение. Он ослабел и уступил свое место Джону как раз в тот момент, когда вперед прорвался рослый солдат, вооруженный огромным топором. – Сейчас я разделаюсь с твоими разбойниками! – закричал он, подкрепляя свое обещание отборнейшими ругательствами. – Э, да мы с тобой, кажется, знакомы! – воскликнул Маленький Джон. – Какая приятная встреча! Если не ошибаюсь, это ты заманил меня в западню, там, в лесу. Отлично! Теперь ты мне за все заплатишь! Размахивая кинжалом, он бросился на врага. Солдат уже занес над его головой свое страшное оружие, но топор задел по нависшему каменному своду и выбил из камня сноп искр. Солдат пошатнулся, разжал руки, и топор со звоном упал к его ногам. Этим воспользовался Маленький Джон. Обеими руками обхватив своего противника, он навалился на него всем телом. Началась борьба двух гигантов, по силе равных друг другу. И воины и стрелки, словно по взаимному соглашению, прервали бой и, затаив дыхание, следили за странным поединком. Вдруг Робин Гуд заметил, что лицо солдата побагровело, а вслед за этим Маленький Джон еще крепче сжал его в железных объятиях. Верхняя часть туловища противника откинулась, и понемногу тело его изогнулось дугой. Неожиданно он разжал руки и громко вскрикнул. Послышался треск, и солдат тяжело рухнул на каменный пол. Маленький Джон сломал ему позвоночник. Не теряя ни секунды, Джон схватил валявшийся у его ног топор и бросился на врагов. Робин Гуд последовал за ним. Воины, не ждавшие атаки, пришли в ужас при виде бежавшего им навстречу разъяренного великана. С громкими криками обратились они в бегство, а издали донесся голос де Молака, проклинавшего своих наемников. – Трусы, негодяи! – кричал барон. – Стойте здесь! Ни шагу дальше! Не выпускайте этих свиней из коридора, а я пойду за арбалетчиками. Живыми я их не выпущу! Услышав эти слова Робин сказал: – Сейчас де Молак уйдет. Воспользуемся этим и вырвемся из ловушки. Воины перепуганы, они не выдержат нашей атаки. – Нет, Робин, – возразил Маленький Джон, – я придумал план получше твоего, а ведь меня нечасто осеняют умные мысли. Этот топор – прекрасное оружие, с его помощью мы вырвемся на свободу... Друзья, – обратился он к стоявшим у двери, – спуститесь-ка на несколько ступенек; освободите место, чтобы я мог размахнуться топором, и обещаю вам, что через две минуты эта дверь превратится в щепки. Казалось, гигант не ведал усталости. Перенесенные им лишения и физическая боль не подорвали его чудовищной силы. Через секунду гулкие удары разнеслись по сводчатому коридору. Догадавшись, что дело неладное, несколько воинов побежали поторопить арбалетчиков, за которыми пошел де Молак, а Маленький Джон продолжал наносить удары. Наконец топорище прошло насквозь, и лишь с помощью Робин Гуда Джону удалось вытащить его из щели. Снова раздались оглушительные удары и треск. Дело приближалось к концу, как вдруг Альрик, следивший за оставшимися на страже воинами, громко крикнул: – Берегитесь стрел! Вон идет арбалетчик! – Погасите факел и наклонитесь! – скомандовал. Робин Гуд. Не успел он выговорить эти слова, как стрела, пущенная из арбалета, ударилась о каменный свод. Маленький Джон спустился на несколько ступеней как раз в тот момент, когда просвистела вторая стрела и вонзилась в дверь. Замешкайся Джон на одну секунду – и стрела пронзила бы его насквозь. Разбежавшись, он всей тяжестью налег на дверь; дерево затрещало, и дверь распахнулась. Беглецы очутились в темном коридоре. Ощупью продвигались они вперед, поднимались по каким-то лестницам, сворачивали то в одну, то в другую сторону, и, наконец, пришли в маленькую комнату, освещенную медными лампами. Шли они медленно, так как Нэд Локсли и еще один стрелок были ранены, а Вилля Рыжего приходилось поддерживать под руки. Они хотели пересечь комнату и продолжать странствование по лабиринту, как вдруг из коридора выбежал вооруженный отряд. У Робин Гуда исчезла последняя надежда на спасение. И внезапно, в последний момент он увидел полуоткрытую дверь под невысокой аркой. Никто из них не знал, куда она ведет, но мешкать было нельзя. Быстро проскользнули они в дверь и очутились в часовне замка; сквозь цветные стекла пробивались бледные лучи луны. Дверь была крепкая и запиралась изнутри болтами и засовом; беглецы получили передышку по крайней мере на несколько минут. А передышка была им крайне необходима. Ею они воспользовались, чтобы перевязать раны и порезы; затем уселись на холодный каменный пол, так как ноги отказывались им служить. Всем хотелось пить; дорого дали бы они за глоток воды, но об этом можно было только мечтать. Через несколько минут раздался оглушительный стук: воины колотили в дверь часовни рукоятками мечей. Послышались крики: – Сдавайтесь, сдавайтесь! На это требование беглецы не обратили ни малейшего внимания. Робин, не выпуская из рук меча, обошел часовню, отыскивая второй выход, но надежда его не оправдалась – выхода не было. Между тем стук все усиливался; воины взялись за топоры, и дверь задрожала под тяжелыми ударами. – Друзья, – тихо сказал Робин, – похоже на то, что песенка наша спета. Мы попали в ловушку. Если бы, выдав себя, я тем самым мог вас спасти, – вы знаете, что я бы это сделал. По моей вине вы очутились в западне, но я не мог оставить здесь Вилля Рыжего и Маленького Джона. Если гибель наша неизбежна, умрем сражаясь. – Ты всегда был для нас верным другом и защитником, – воскликнул Нэд Локсли. – Все мы дали клятву не покидать друг друга в беде. Как же было нам не пойти на выручку Вилля и Маленького Джона? – Робин, – сказал Маленький Джон, – умирать, так умирать всем вместе, а мы с Виллем все равно тебя не переживем. Обменявшись крепкими рукопожатиями, стрелки отошли в дальний конец часовни к ступеням алтаря. Здесь решили они биться до последней капли крови. С минуты на минуту Робин ждал, что в часовню ворвутся враги. Но дверь не поддавалась. Вдруг в нескольких шагах от алтаря показалась маленькая фигурка человека с черным лицом, на котором резко выделялись ослепительно белые зубы и белки глаз. Ни один из стрелков ни разу не видел негра, и потому в первый момент они все испугались, а у Альрика даже зубы застучали от страха. Ростом этот человечек был не выше пяти футов; голова его казалась слишком большой, а руки – слишком длинными. Он был одет в пестрый костюм из красного и желтого шелка, серебряная цепь обвивала его шею, за поясом торчал кинжал с серебряной рукояткой. – Вы – враги сэра Питера де Молака? – густым басом спросил карлик, приближаясь к стрелкам. – Да, на этот счет не может быть никаких сомнений, – ответил Робин Гуд. – Я подслушал, о чем ты говорил с моим господином, сэром Реджинальдом де Траси. Если вы не уйдете из этой часовни, через несколько минут всех вас перебьют. Я могу вас спасти, но поклянитесь, что ты не оставишь здесь камня на камне и вернешь свободу сэру Реджинальду. – Кто ты такой? – с удивлением спросил Робин. – Не все ли равно? – нетерпеливо отозвался карлик. – Отвечай, можешь ли ты дать клятву? – Я уже обещал Реджинальду де Траси сделать для него все, что в моих силах. Карлик сердито пробурчал несколько слов на каком-то непонятном языке, а затем добавил: – Дай клятву, или вы все погибнете! Стрелки с недоумением переглянулись. Альрик сказал: – Мне кажется, этот человек хочет нам добра. Я знаю, ты исполнишь то, что обещал несчастному пленнику. В таком случае почему же тебе не дать клятвы? – Ты прав, Альрик... Слушай, человечек, клянусь – я не оставлю камня на камне ради того, чтобы спасти того, кого ты называешь своим господином. – Ты обратишься к королю, ты отыщешь друзей сэра Реджинальда, ты вызовешь на поединок Питера де Молак? – Даю клятву сделать все, что в моих силах. – В таком случае следуй за мной. Нельзя терять ни секунды. Я могу вас спасти. Стрелки последовали за карликом, который повел их к высокой каменной колонне у алтаря. При тусклом свете они увидели полуоткрытую потайную дверь в колонне, за которой начинались ступени, ведущие вниз; у подножья лестницы стояла маленькая серебряная лампа. Карлик, спустившись вниз, взял в руки лампу и поманил стрелков. Все повиновались, но Маленькому Джону нелегко было пролезть в узкую дыру. Проводник все время их торопил и, когда все спустились вниз, нажал какой-то рычаг. Послышался легкий скрип, и Робин догадался, что потайной ход закрыт. Долго шли они по каким-то коридорам. Наконец дорогу им преградила дверь; карлик отодвинул засов и распахнул дверь. Повеяло свежим воздухом, и стрелки поняли, что приближается конец их мытарствам. – Клянусь честью, – воскликнул Маленький Джон, – я чувствую, как возвращаются мои силы! Там, в этом каменном склепе я был слаб, как мышь, но здесь, под открытым небом, враг мне не страшен. – Тише, – перебил его Робин. – Не забудь, что мы еще не выбрались из крепости. – Да, но вы уже во дворе, – вмешался их спаситель. – Из башни в крепостной стене мы вышли во двор. Отсюда несколько шагов доконюшен. У ворот вы встретите двух-трех караульных. Ступайте! Теперь вы сумеете вырваться на свободу. – Прощай, человечек! – сказал Робин. – Нашим спасением мы обязаны тебе, и я сделаю все, чтобы тебя отблагодарить. Он горячо пожал ему руку. Карлик вернулся в башню и запер дверь, через которую они только что прошли. Осмотревшись по сторонам, стрелки убедились, что находятся во внутреннем дворе, неподалеку от замка. Пробираясь вдоль стен, они вышли во второй двор и направились к конюшням. Лошадей они нашли там, где их оставили. Маленький Джон вскочил в седло и посадил перед собой раненого Нэда Локсли, другой стрелок поддерживал Вилля Рыжего. Остальные повели своих лошадей на поводу. Они надеялись без дальнейших приключений вырваться на свободу, но когда железные подковы застучали о камни, из караульни выбежали двое вооруженных. По-видимому патруль, делая обход, нашел в караульне связанных воинов, освободил их и назначил на их место других караульных. – Альрик! – крикнул Робин. – Атакуй того, который ниже ростом! Обезоружь его, а в случае необходимости убей! А я займусь вторым! Бросившись навстречу врагам, он закричал: – Сдайтесь, и мы вас пощадим. Но если вы вздумаете сопротивляться, клянусь, вы не увидите завтрашнего дня! Воины, ошеломленные неожиданным появлением стрелков, дали себя обезоружить. Потрясая кинжалом, Робин приказал одному из них медленно открыть ворота и опустить подъемный мост. – А второй парень поможет мне поднять решетку, – сказал Альрик. – Я знаю, как это делается. Пока Робин командовал внизу, Альрик со своим пленником вошел в башню и поднялся в комнату, где находился ворот, с помощью которого опускалась и поднималась решетка. Вдвоем они стали поворачивать ворот. Внизу скрипели блоки, грохотали цепи подъемного моста, и вдруг, сквозь этот шум, Альрик расслышал доносившиеся со двора гневные крики. Это кричал де Молак, и его воины. Очевидно, они ворвались в часовню и, убедившись, что стрелков там уже нет, бросились на поиски. Грохот, с каким опускался подъемный мост, привлек их внимание, и они побежали к воротам. Нельзя было терять ни одной секунды. Под опускной решеткой, только наполовину поднятой, мог пройти пеший, но всаднику не удалось бы проехать. Альрик, напрягая все силы, поворачивал ворот и не следил за своим пленником. Тот этим воспользовался и внезапно напал на него. Воин был толст и неповоротлив. Альрик успел выхватить меч и тяжелой рукояткой ударил врага по голове. Парень, оглушенный ударом, упал на пол. Теперь Альрику одному пришлось поворачивать колесо. Казалось, отчаяние удесятерило силы юноши, мускулы его напряглись, кровь стучала в висках. В эту минуту снизу донесся голос: – Альрик! Альрик! Спускайся! Мы уже проехали под решеткой! К воротам бежит до Молак со своими головорезами! Не мешкай! Альрик подбежал к окну и взглянул на подъемный мост. Двое лошади – на каждой сидело по два всадника – находились уже на середине моста. У ворот стоял Робин, державший на поводу двух лошадей. Убедившись, что друзья вырвались на волю, Альрик крикнул: «Ступайте, я следую за вами!» и снова бросился к вороту. Он считал, что задача его еще не выполнена; нужно было исключить всякую возможность погони, чтобы за это время друзья успели отъехать от замка. Быстро повернул он рычаг, удерживающий решетку, колесо завертелось, и решетка с грохотом опустилась. Тогда Альрик спустился с лестницы, подбежал к воротам и, повернув в замке массивный ключ, сунул его в карман. Затем снова вернулся в башню. За ним уже гнались люди де Молака. Стычка произошла на узкой лестнице. Стоя несколькими ступенями выше, Альрик занимал более выгодное положение, чем его враги. Ловким ударом он выбил оружие из рук бежавшего впереди воина и вонзил меч ему в ногу. Человек вскрикнул от боли, пошатнулся, и, потеряв равновесие, упал на обнаженные мечи толпившихся за его спиной товарищей. Их смятением воспользовался Альрик. Взбежав в комнату, где находился ворот, он поднялся по приставной лестнице на крышу башни. Взглянув вниз, он увидел в конце подъемного моста неподвижную фигуру всадника, освещенного луной. Это был Робин Гуд. – Не жди меня! Не жди! – крикнул Альрик и, достав из кармана ключ от ворот, швырнул его в мутную воду рва. За его спиной раздался шум; два воина вылезали на верхушку башни. Зная, что все пути отступления для него отрезаны, Альрик принял безумное решение: зажмурившись, он прыгнул с башни. Казалось ему, что падение продолжалось бесконечно долго. Наконец раздался плеск, и он погрузился в холодную воду. Ему удалось выплыть на поверхность, но падение его оглушило, и он не знал, в какую сторону плывет. Руки его и ноги были словно налиты свинцом, в ушах звенело, он чувствовал, что тонет. Еще раз он выплыл на поверхность, но руки ему не повиновались, и, теряя сознание, он пошел ко дну. Когда он открыл глаза, холодный ветер обвевал его лицо Ему казалось, что он покачивается в седле, а кто-то прижимает его к своей груди. Через минуту он снова потерял сознание. (обратно)ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ПОСЛАНИЕ
Альрик очнулся в хижине угольщика. Он лежал у очага, а Робин растирал его окоченевшее тело. Тогда только он узнал о том, что произошло. – Когда ты замешкался в башне, – начал свой рассказ Робин Гуд, – наши друзья поехали вперед, так как они сидели по двое в седле, и, в случае погони, их лошади стали бы отставать. Стук опустившейся решетки привел меня в ужас. Я решил, что враги взяли тебя в плен и спешат закрыть выход из их логовища. Но потом эта мысль показалась мне нелепой. Я рассудил, что будь их воля – они бы бросились за нами в погоню. Им нечего было бояться столкновения с горсточкой измученных людей. Вот тогда-то я понял, Альрик, какой подвиг ты совершил... – Право же, Робин, я ничего... – заговорил было Альрик, но Робин его перебил. – Я знаю, дружок, что ради нас ты хотел пожертвовать жизнью. Ведь, опустив решетку, ты отрезал себе путь к спасению. И все-таки я на что-то надеялся и ждал, как вдруг из башни донеслись крики. Я догадался, что враги на тебя напали. Каким беспомощным чувствовал я себя в те минуты, пока не показался на верхушке башни и не прыгнул в ров. Тогда я не знал, прыгнул ли ты или раненый сорвался вниз. Видя, что ты барахтаешься в воде, я тоже прыгнул в ров и вытащил тебя на берег ... Вот и все. Но это далеко не все. Впоследствии Альрик узнал, что Робин, спасая его, сам едва не утонул. Пока он плыл со свой ношей, стрелы, пущенные из арбалетов, падали в воду около него, но ему посчастливилось выкарабкаться на берег и вскочить в седло. В этот момент его лошадь была убита стрелой, а Робин тяжело упал на землю и, оглушенный падением, не сразу мог подняться. Между тем стрелки, как было условленно, ждали их неподалеку в роще. Обеспокоенный долгим отсутствием Робин Гуда, Маленький Джон пешком пошел ему навстречу. По дороге он поймал вторую лошадь, которую Робин вел на поводу. На нее он усадил и Альрика и Робина и, ведя ее под уздцы, направился к роще, в то время, как арбалетчики обстреливали их с крепостных стен и башен. К счастью, ни одна стрела не попала в цель. В роще они встретились с друзьями и, благодаря Альрику, могли продолжать путь, не опасаясь погони. В хижине угольщика они отдыхали сутки, так как, несмотря на богатырское здоровье, все были измучены Из лагеря вызвали человек двадцать стрелков, которые явились на следующее утро. Велика была их радость при встрече с Маленьким Джоном и Виллем Рыжим. В тот же день отправились дальше, в лагерь веселого Тука. Нэда Локсли и Вилля несли на носилках, остальные ехали верхом. Стифена и его трех товарищей решено было пока не отпускать. Казалось более чем вероятным, что бой в лесу с людьми шерифа ноттингхэмского и сэра Питера де Молака, а также нападение на Конистонский замок повлекут за собой серьезные последствия. Следовало ожидать, что король Иоанн, взбешенный дерзостью Робин Гуда, сделает все, чтобы его сломить. Стрелки подвергались величайшей опасности, и на утро по прибытии в лагерь главари стали обсуждать, какие шаги нужно предпринять. Поскольку де Молаку и шерифу удалось узнать местонахождение лагеря, стрелки перестали чувствовать себя в безопасности. Учитывая возможность неожиданного нападения, они хотели найти бы на некоторое время другое пристанище. Нового боя они не могли сейчас принять, так как в предыдущем сражении понесли большие потери. Кроме того, многие стрелки были ранены и нуждались в заботливом уходе. Присутствие в лагере женщин и детей также исключало возможность принятия боя. Нужно было во что бы то ни стало отвести их в безопасное место. В дремучих лесах – Шервудском, Барнедэлском, Чарнокском и Сэльвудском – у стрелков были надежные пристанища, известные им одним. Без проводника никто не нашел бы дороги среди лабиринта лесных тропинок. Таким пристанищем служили им также пещеры в Йоркширском графстве, но туда стрелки удалялись обычно на зиму, а сейчас Робин решил перевести раненых, женщин и детей и один из лесных уголков. Но сначала нужно было предпринять какие-либо шаги для освобождения несчастного пленника, заключенного в Конистонском замке. Посоветовавшись с товарищами, Робин пришел к тому выводу, что де Молаку следует послать торжественного предостережение. Отец Тук сочинил письмо, которое прочитал вслух в присутствии всех стрелков: «Сэру Питеру де Молаку, рыцарю, кастеляну Конистонского замка в графстве Ноттингхэмском, от Робин Гуда. Пусть это послание послужит тебе предостережением. Если ты не освободишь немедленно сэра Реджинальда де Траси, которого незаконно держишь пленником в подземелье Конистонского замка, я пойду на тебя с войском, и знай, что от него тебя не защитят твои каменные стены. И еще я тебя предостерегаю: если ты осмелишься покуситься на жизнь Реджинальда де Траси, я – Робин Гуд – оповещу все ноттингхэмское графство, что ты – негодяй и убийца, и отомщу за твою жертву, хотя бы ты окружил себя всеми головорезами Англии. Также я призову тебя к ответу, трусливый и подлый рыцарь, за то, что ты незаконно передал пытке двух моих стрелков, отказавшихся открыть тебе мое местопребывание. Не пренебрегай моим предостережением. Помни, что от моей стрелы ни одна кольчуга тебя не защитит». Это послание привело в восторг всех стрелков. На следующее утро Робин, Альрик и Маленький Джон поскакали верхом к Конистонскому замку. Остановившись у края рва, Робин достал послание, привязал его шелковинкой к стреле и выстрелил. Он видел, как стрела упала между зубцов крепостной стены. Караульный поднял ее, осмотрел, потом подозвал двух товарищей Долго они ее рассматривали; наконец один из них разорвал шелковинку и развернул пергамент. – Они отнесут ее своему господину, – сказал Робин. – Им захочется узнать, что здесь написано. Подождем, не будет ли ответа. Ждать им пришлось недолго. Через полчаса из бойницы вылетели две стрелы, пущенные из арбалета. Одна не долетела до всадников, другая упала где-то в стороне. Робин презрительно расхохотался. – Этим арбалетчикам не мешает взять несколько уроков стрельбы в цель, – сказал он. – Еще нескоро смогут они состязаться с лесными стрелками. Как бы то ни было, но эти две стрелы являются красноречивым ответом. Кажется, больше нам нечего здесь делать. Они пришпорили коней и поскакали по направлению к Шервудскому лесу. Через несколько часов они въехали на лесную тропу. Дорогой Робин молчал, очевидно размышляя о том, какие шаги следует предпринять для спасения пленника и к кому можно обратиться за помощью. Вдруг Маленький Джон, ехавший впереди, остановил лошадь. – Робин, – сказал он, – слышишь, кто-то кричит в лесу? Что бы это могло быть? Действительно, слева, из чащи леса, глухо доносились протяжные вопли и какой-то странный шум, напоминающий свист хлыста. По знаку Робина всадники спрыгнули с седел и, привязав лошадей к деревьям, стали, крадучись, пробираться в ту сторону, где раздавались крики. Идти им пришлось недалеко. Раздвинув кусты, окаймлявшие проезжую дорогу, параллельно которой вилась тропинка, они увидели такую картину: у края дороги стоял привязанный к дереву человек; он был обнажен до пояса, а рослый воин в доспехах оруженосца бил его хлыстом по спине. В нескольких шагах от них неподвижно сидел на лошади всадник с рыцарским гербом на щите. Прислушиваясь к воплям несчастной жертвы, он спокойно следил за экзекуцией. Робин, взбешенный такой жестокостью, выбежал на дорогу и повелительно крикнул: – Негодяй, брось хлыст! За что вы истязаете этого несчастного? Оруженосец оглянулся и, увидев фигуру стрелка, заметно побледнел и выронил хлыст. Но рыцаря не так-то легко было смутить. Презрительно окинув взглядом Робина, он процедил сквозь зубы: – Кто ты такой, что осмеливаешься вмешиваться не в свое дело? Этот болван провинился и должен понести наказание. Я потребовал, чтобы он указал мне дорогу в Ноттингхэм, а он имел дерзость отказаться и в оскорбительный выражениях отозвался о моем друге, шерифе Рэно. – Эге! Так значит шериф Рэно – твой друг! Он – подлец и трус, а ты – негодяй, осмеливающийся нападать на слабых и беззащитных. Достойная парочка! Рыцарь взбешенный, схватился за меч, но оруженосец бросился к нему и, заикаясь от страха, воскликнул: – Господин, не противоречь ему! Разве ты его не узнаешь? Ведь это – сам Робин Гуд! Достаточно ему затрубить в рог, и мы будем со всех сторон окружены его проклятыми стрелками. Видишь, там, в кустах притаились двое и целятся в нас? Действительно, Маленький Джон и Альрик не дремали, один целился в рыцаря, другой – в оруженосца, и оба ждали только сигнала Робин Гуда. Но сигнала не последовало, так как рыцарь, услышав имя, внушавшее ужас баронам, быстро вложил меч в ножны. Было ясно, что он не помышляет о сопротивлении, очевидно, не надеясь на прочность своей кольчуги. – Ни с места! – крикнул Робин, поднимая лук и натягивая тетиву. – Альрик! Маленький Джон! Обезоружить обоих. Приказание было немедленно исполнено. И рыцарь и оруженосец беспрекословно отдали оружие, а Маленький Джон связал рыцарю руки за спиной. Лошадь оруженосца была привязана к дереву; Альрик отвязал ее и заставил воина вскочить в седло. Затем ему, как и его господину, скрутили за спиной руки. – Маленький Джон, – сказал Робин, – возьми лошадей под уздцы и выведи их из леса на прямую дорогу, ведущую в Ноттингхэм. Там хорошенько хлестни лошадей; пусть они скачут к воротам города. У ворот всадников встретят люди шерифа и проводят к своему господину... А ты, – добавил он, обращаясь к рыцарю, – передай от меня весточку твоему другу. Скажи, что Робин Гуд шлет ему проклятье за гнусный обман; пусть шериф знает, что ему не избежать поединка со мной! Рыцарь не ответил ни слова и только с ненавистью смотрел на Робин Гуда. Маленький Джон взял лошадей под уздцы и зашагал по дороге, а Робин с Альриком освободили привязанного к дереву человека и у лесного ручья обмыли его окровавленную спину. Бедняга оказался угольщиком из ближней лесной деревушки. Пока Альрик ходил за лошадьми, оставленными на тропинке, Робин расспрашивал угольщика о его встрече с рыцарем. – Видно, этот знатный господин – не из нашего графства, – сказал угольщик. – Наши-то уж знают, что в Шервудском лесу им приходится своей шкурой расплачиваться за расправу с нами, бедняками. Робин с Альриком проводил угольщика до его родной деревушки, а оттуда вдвоем поскакали в лагерь, куда приехали только поздно вечером. Через полчаса явился Маленький Джон. Он сообщил, что поручение выполнил в точности, и в настоящую минуту неизвестный рыцарь несомненно рассказывает своему другу шерифу о новой дерзкой выходке Робин Гуда. Час был поздний, и путешественники, утомленные долгой поездкой верхом, улеглись спать. На следующее утро начались сборы к переселению в другое место. Вдруг в зарослях прозвучал рог. – Это похоже на сигнал Альфа Красного, – сказал Робин Гуд. – Я поручил ему следить за де Молаком. Неужели в Конистоне что-то произошло? Через несколько минут на просеку вышел коренастый рыжий парень и направился к Робину. – Ну что, Альф? Кажется, у тебя есть какие-то новости? – Да, Робин. Зверь покинул свое логово. – Как? Де Молак уехал из Конистона? – Да, сегодня, после восхода солнца. Он ускакал с четырьмя спутниками по направлению к Ноттингхэму. Я поручил Тому из Минстэда следить за замком, а сам поспешил сюда. Робин Гуд нахмурился. – Это мне не нравится, – сказал он. – Быть может, де Молак вздумал навестить шерифа, но может быть и так, что он отправился за подкреплением. Сейчас было бы опасно атаковать замок, так как в любую минуту де Молак может вернуться с новым отрядом, и тогда мы очутимся между двух огней. Да, это известие мне не нравится.... Снова он задумался, а затем обратился к Альфу: – Скажи, де Молак не вез с собой пленника? – Нет, с ним было только четверо слуг. После долгих совещаний с Маленьким Джоном и отцом Туком, Робин отдал распоряжение ускорить сборы, а через час-второй разведчик принес весть, что де Молак прибыл в Ноттингхэм. – Пока его нет в Конистоне, де Траси никакая опасность не угрожает, – сказал Робин. – Придется отложить нападение на замок. Мы должны застигнуть де Молака врасплох, – тогда только можно надеяться на победу. К вечеру сборы были окончены, и стрелки отправились в путь. На четвертый день прибыли они к месту своего назначения – постоянному лагерю, находившемуся в чаще леса, в стороне от всех проезжих дорог. Альрик пришел в восторг при виде маленьких бревенчатых домиков, разбросанных меж деревьев. У края просеки серебрился лесной ручей, в котором водилось много рыбы; позади домиков был разбит огород, в амбаре хранились запасы зерна, а в искусно устроенном погребе – бочки с элем; ключ от погреба находился на хранении у отца Тука. Здесь больных и раненых окружили заботливым уходом, а остальные стрелки отдыхали, охотились и развлекались. Маленький Джон и толстяк Тук, забыв о перенесенных невзгодах, снова увеселяли стрелков своими шутками и перебранкой, Вилль Рыжий и Нэд Локсли выздоровели через несколько дней, а Элен-э-Дэл каждый день сочинял новую песню. Альрику очень хотелось провести неделю-другую с веселыми стрелками, но нужно было подумать и о возвращении домой. – Я боюсь, что дед обо мне беспокоится, – сказал он Робину. – Хотя ты и послал ему весточку, что я жив и здоров, но все-таки я должен навестить и его и мать. – У тебя есть мать, Альрик? А ты мне ни разу о ней не говорил, и я думал, что ее нет в живых... Скажи мне: твой дед, хоть он и англичанин, а не норманн, пользуется влиянием? – Он живет уединенно, но у него много друзей. – И, быть может, среди этих друзей есть влиятельные люди? – Эдуард Боддингтонский – близкий его друг, а он поддерживает добрые отношения с норманнами и сохранил свое имущество и власть. – В таком случае, Альрик, я отправлюсь с тобой к франклину Тореду. Посмотрим, как он меня встретит. Я не могу нарушить клятву, данную слуге этого несчастного де Траси. Если я один не могу освободить узника, то нужно заручиться поддержкой влиятельных людей; быть может, среди них найдутся друзья де Траси. Об этом и еще кое о чем я хочу переговорить с твоим дедом. – Как я буду рад, если ты поедешь со мной! – воскликнул Альрик. – Послезавтра мы отправимся в путь. Раньше я еще должен сделать кое-какие распоряжения; кто знает, скоро ли мне удастся вернуться к моим молодцам. А сегодня будем веселиться. Скажи Маленькому Джону, чтобы он созвал всех ребят, а Тук пусть позаботиться о еде и выпивке. (обратно)ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ В КОЛЛИНГХЭМЕ
Рано утром Робин с Альриком и Нэдом Локсли верхом отправились в Коллингхэм. Робин не знал, сколько времени придется ему провести в гостях у франклина Тореда, и взял с собой Нэда для того, чтобы в случае необходимости можно было наладить сообщение с лагерем, оставленным на попечение Маленького Джона. Человек двадцать стрелков вызвались проводить Робина до реки Маун, где находилась переправа. От лагеря до Коллингхэма было немногим больше двадцати миль, если ехать прямой дорогой, но Робин Губ избегал проезжих дорог и пробирался по лесным тропинкам. Им приходилось проезжать мимо ютившихся в лесу хижин дровосеков и маленьких лесных деревушек. Казалось, в каждой деревушке у него были друзья; везде он останавливался, разговаривал с крестьянами, которые рассказывали ему о своих невзгодах. Путешествие не обошлось без приключений. В полдень стрелки выехали на опушку леса и сделали привал в ближайшей деревушке. Здесь они отдохнули и закусили вместе с крестьянами и уже собрались ехать дальше, как вдруг к Робину подошел человек еще нестарый, но изнуренный трудом и заботами Робко потянул он его за рукав и сказал: – Помоги, брат... – Какая беда у тебя стряслась? – спросил Робин, всматриваясь в пасмурное лицо крестьянина. – Жена померла, – ответил тот. – Двое ребят на руках остались. Нужно ее хоронить, а священник не хочет. – Как это – не хочет? – Да так, не хочет. Вон, видишь, стоит возле моей лачуги и ругается. Я за ним послал в соседнюю деревню; приди-то он пришел, а хоронить отказывается. Что ты, говорит, думаешь, даром что ли я сюда тащился? Заплати золотой, тогда и похороню. А у меня не то что золотого, а куска хлеба нет. Робин нахмурился и, не говоря ни слова, направился к жалкой лачуге, перед которой стоял высокий толстый человек в рясе священника. Сильно жестикулируя, он что-то объяснял угрюмо посматривавшим на него крестьянам. За Робином гуськом потянулись и его стрелки. – Эй, ты, отец! – еще издали окликнул его Робин. Священник вздрогнул и оглянулся: голос показался ему знакомым. – Э, да мы с тобой уже встречались! – продолжал Робин. – Помнишь, как я вытурил тебя из Шервудского леса, когда ты ходил по лесным деревням, выжимая из крестьян деньги на церковь? – Да, да, почтенный Робин, кажется, и впрямь мы где-то виделись, – ответил священник, тщетно пытаясь скрыть свое волнение. – А теперь ты опять за старое принялся? А знаешь ли ты, что у этого парня двух пенни нет за душой? Не знаешь?.. А следовало бы знать... Ну-ка, полезай в карман, доставай кошель. Посмотрим, как ты одаришь сирот. Священник исподлобья взглянул на Робин Гуда, взглянул на стрелков, выстроившихся за спиной своего главаря, и покорно протянул набитый кошелек. – Друзья, – крикнул Робин, – вы – свидетели, что святой отец добровольно жертвует эти деньги на сирот! Получай, старина! И он передал кошель вдовцу. – Теперь, отец, хорони покойницу, а мои стрелки позаботятся о том, чтобы похороны прошли по всем правилам... Ребята, – повернулся он к стрелкам, – мне пора отправляться в путь, а вы оставайтесь здесь и присмотрите за святым отцом; я его оставлю на ваше попечение. Дальше мы с Нэдом и Альриком поедем без провожатых. – Ладно, Робин, – усмехаясь, ответили стрелки. – Мы тут обо всем позаботимся. Попрощавшись с крестьянами, Робин вскочил в седло; Альрик и Нэд последовали его примеру. Дальше они ехали без всяких приключений и вскоре добрались до переправы через реку Трент, пересекли лес и, выехав на опушку, увидели возвышавшийся на холме дом франклина Тореда. Это был длинный низкий каменный дом с двумя невысокими квадратными башнями, обнесенный рвом. Ров соединялся каналом с рекой и был наполнен водой. Мост, переброшенный через ров, нельзя было поднимать и опускать, как мост в Конистонском замке; однако, он был защищен сторожевой башней, откуда в случае нападения обстреливали врага. За рвом тянулся высокий деревянный частокол. Проехав по мосту, Альрик затрубил в рог, привешенный на железной цепи к массивным воротам. В ответ на его призыв ворота распахнул старик, который при виде Альрика горячо его приветствовал. – Что, Гурт, мой дед дома? – спросил Альрик. – Дома, дома, мастер Альрик. Как же он вам обрадуется! Заждались мы вас совсем. – Ну, как видишь, я вернулся цел и невредим! Альрик со своими друзьями въехал во двор. Оставив лошадей у конюшен на попечение Нэда, Локсли, они вошли в дом и очутились в длинной низкой комнате, посреди которой стоял большой дубовый стол. На стенах висело оружие и охотничьи трофеи. Вдоль стен были расставлены скамьи и стулья. В глубоком кресле у камина, где несмотря на теплую погоду потрескивали дрова, сидел старик с вьющимися седыми волосами и загорелым энергичным лицом. У его ног лежало несколько огромных волкодавов. Заслышав шаги, собаки грозно зарычали, но при виде Альрика радостно бросились к нему навстречу. – Вот я и вернулся, дедушка! – сказал Альрик, подходя к сидевшему у камина старику. – Альрик! Наконец-то! И франклин Торед, поднявшись с кресла, горячо обнял внука. Потом, взглянув на Робин Гуда, спросил: – Это твой друг, Альрик? – Да, дедушка, и я от твоего имени пригласил его к нам. – И хорошо сделал. Для твоих друзей двери моего дома всегда открыты... Добро пожаловать в Коллингхэм, – добавил он, обращаясь к Робин Гуду. Тот внимательно присматривался к нему. Ростом франклин Торед был выше Робина и в молодости, по-видимому, отличался недюжинной силой. Глаза у него были голубые, седые кудри падали ему на плечи. Он был одет в короткий камзол, у ворота обшитый мехом, малиновые штаны, гетры и невысокие сапоги. Несмотря на свои семьдесят лет он выглядел бодрым и энергичным. – Благодарю вас за радушный прием, – улыбаясь, сказал Робин, – но боюсь, что, узнав мое имя, вы пожалеете об оказанном мне гостеприимстве. – Не думаю, чтобы это было так, – отозвался франклин. – А могу ли я узнать, как ваше имя? – Меня зовут Робин Гуд! – гордо ответил стрелок. Старик расхохотался. – Клянусь честью! – воскликнул он. – Я так и знал! – Как же вы могли это знать, если мы с вами никогда не встречались? – Мой друг Эдуард из Боддингтона рассказал мне о вашем появлении во время турнира и о знакомстве с вами Альрика. Я так и думал, что этот месяц он провел у вас в гостях... Добро пожаловать, Робин Гуд! Много я о вас слышал и, признаться, всегда хотел с вами встретиться. И они крепко пожали друг другу руку. – Альрик меня предупреждал, что я встречу здесь радушный прием, – сказал Робин, – но я не был уверен, захотите ли вы видеть у себя в гостях человека, объявленного вне закона. – Я ненавижу тирана Иоанна и всех его приспешников, норманнских баронов, а что касается его законов, то мне нет до них дела, – объявил старик. – А кроме того я знаю, почему вы навлекли на себя гнев короля и вынуждены были искать убежища в лесах. Давно это было, но я до сих пор все помню. – Дедушка, расскажи! – вмешался Альрик. – Пусть он сам тебе расскажет, – с улыбкой отозвался франклин. – Твой дед прав, Альрик, – сказал Робин. – Действительно, это было давно, и многое стерлось в моей памяти. Я был еще юношей и жил в Чарнокском лесу со своим отцом лесничим. В окрестных деревнях народ стонал от побоев, и я со своими товарищами, деревенскими парнями, задумал помочь беде. В течение нескольких месяцев мы по целым дням учились стрелять из лука, и однажды, когда в соседнюю деревню явился королевский сборщик налогов с отрядом солдат, мы взяли наши колчаны и луки и убили нескольких солдат. Зная, что за это нам грозит повешение, мы бежали в Шервудский лес и были объявлены вне закона. Вместе со мной бежал из деревни Маленький Джон и Вилль Рыжий, мой двоюродный брат. Годы шли, а к нам в леса прибегали бедняки из деревень и присоединялись к нашему отряду. Теперь, как тебе известно, сам шериф нас побаивается и вынужден с нами считаться, и даже окрестные бароны не осмеливаются хозяйничать в лесных деревнях. Все знают Робин Гуда и его молодцов, – гордо добавил стрелок, закончив свой рассказ. – Да, все его знают и все слышали о его подвигах, – подтвердил старый франклин. – Но мы тут занимаемся разговорами, а вам обоим нужно отдохнуть после дороги, а затем пожалуйте к столу... Эй, Эбба, Вульф, Снур, через десять минут подавайте обед! А ты, Тортиг, приготовь воду и полотенца для Альрика и его друга. И сообщите леди Эдвине, что ее сын вернулся. Альрик повел Робина в свою комнату, где они умылись и отряхнула с одежды дорожную пыль. Когда они вернулись в залу, там уже собралось много народу; это были домашние франклина – его приятели и слуги, – с которыми Нэд Локсли успел завязать знакомство и даже подружиться. (обратно)ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
Во главе длинного стола рядом с франклином Торедом стояла высокая, стройная женщина. Это была леди Эдвина, мать Альрика. Альрик подбежал к ней и крепко ее обнял. – Здравствуй, мой мальчик! – приветствовала она сына. – Наконец-то ты вернулся! Пока тебя не было, я не знала ни минуты покоя. – Я вернулся не один, я привез с собой друга, – сказал Альрик, оборачиваясь к Робин Гуду. Тот подошел ближе и взглянул на Эдвину. У нее были такие же голубые глаза, как у Альрика, – густые белокурые волосы и красивое печальное лицо. Позолоченный пояс филигранной работы стягивал у талии ее темное платье, напоминающее тунику. – Добро пожаловать в Коллингхэм, – сказала она, протягивая Робину руку. – Если не считать того, что вы слишком свободно распоряжается королевской дичью, я слышала о вас только хорошее. Говорят, что вы – друг бедняков, защитник женщин и угнетенных. Мы только что говорили об этом с франклином Торедом. – К столу! – крикнул Торед. Все заняли свои места и принялись за еду. Ели много, запивая сытные кушанья вином и элем. Когда обед кончился, Торед приказал подать бутылку старой мальвазии и, наполнив свой кубок и кубок Робина, сказал: – А теперь, дорогой гость, расскажите нам обо всем, что произошло за это время с вами и с моим внуком. Кое-то я уже знаю от тана Эдуарда, но многое остается для меня неясным. – Я не мастер рассказывать, – с улыбкой отозвался Робин. – Пусть Альрик говорит за меня. Альрик начал свой рассказ с описанием встречи с Робином. Когда он дошел до разговора Робина с королем Иоанном на турнире в Ноттингхэме, глаза Тореда засверкали, он ударил кулаком по столу и воскликнул: – Эх, жаль, что меня там не было! Хотел бы я послушать, как вы клеймили этого кровожадного тирана! Но знаете ли, Робин, вы вели опасную игру. Иоанн мог бросится на вас с кинжалом. – Опасность была не так уж велика, – засмеялся Робин. – Стоило мне затрубить в рог – и мои молодцы пришли бы мне на помощь. – Да, но Иоанн не мог этого знать. Удивляюсь, почему он так спокойно принял ваши слова. – Боялся своих приближенных. Он знает, что даже многие бароны вооружены против него, и каждый неосторожный его шаг может привести к взрыву. Затем Альрик рассказал о том, как его заключили в темницу Ноттингхэмского замка и как тан Эдуард его освободил. – Да, об этом Эдуард мне говорил, – перебил Торед, – и я знаю еще кое-что, о чем, быть может, вам неизвестно. Твое бегство, Альрик, привело в бешенство шерифа; вместе со своим другом, этим негодяем де Молаком, он пожаловался королю на тана Эдуарда, способствовавшего твоему побегу. Доказательств у них никаких не было, и тану пришлось бы плохо, если бы Иоанн не стремился привлечь его на свою сторону. Воспользовавшись первым удобным случаем, тан отправился в Боддингтон. Проезжая через деревню Хораспуль, он освободил Вульфлака, которого слуги де Молака захватили в плен. Из разговоров солдат Вульфлак узнал, что ты спасся, и сообщил об этом тану. – Как я рад, что удалось освободить Вульфлака! – воскликнул Альрик. – Меня мучила мысль о том, что я бросил его на произвол судьбы. Мне следовало вернуться и постараться ему помочь. – Поступи ты так, и слуги де Молака тебя бы убили, – перебил Робин. – Разве ты не знаешь, какой приказ дал им де Молак? При упоминании о де Молаке Торед нахмурился. – Этот барон – отъявленный негодяй, – сказал он. – Сколько раз я говорил тебе, Альрик, что его ты должен опасаться больше, чем кого бы то ни было! – Да, дедушка, ты говорил об этом, но я не знаю, почему именно он мне опасен. – Когда-нибудь узнаешь, а пока продолжай рассказ. Альрик повиновался. Когда он заговорил о приключениях в Конистонском замке, и Торед и леди Эдвина насторожились. Дальше стал рассказывать Робин. Он не забыл упомянуть об узнике, заключенном в подземелье Конистонского замка, и о клятве, данной его слуге. Рассказал о том, как ни один ключ не подошел к замку темницы, как сетовал несчастный узник и как карлик вывел стрелков из часовни замка, предварительно взяв с Робина клятву освободить его господина. Леди Эдвина слушала очень внимательно, а когда Робин закончил свой рассказ, она спросила: – Кажется, вы сказали, что узник согласен был отказаться от своих прав на замок и земли, только бы вернули ему свободу? – Да, так он мне сказал. – А вы не знаете... он вам не назвал своего имени? – спросила леди Эдвина, едва сдерживая свое волнение. – Разве я забыл упомянуть? Это сэр Реджинальд де Траси; кажется, некогда он пользовался известностью. Услышав это имя, леди Эдвина громко вскрикнула, вскочила с кресла и, потеряв сознание, упала на пол. Началась суматоха. Альрик бросился к матери. С помощью Тореда и слуг он вынес леди Эдвину из залы, перенес в ее спальную и оставил на попечении женщин. Между тем Робин шагал взад и вперед по комнате, недоумевая, почему упоминание о де Траси вызвало такой переполох. Через несколько минут вернулся Торет с Альриком. Старик хмурился и, по-видимому, был встревожен, но Робин делал вид, будто ничего не замечает. Наконец Альрик не выдержал и задал вопрос: – Дедушка, кто такой этот Реджинальд де Траси, и почему ты и мать так встревожились, услышав его имя? – Видишь ли, мой мальчик, мы думали, что его давно уже нет в живых. – Но какое он имеет к нам отношение? – Кажется, настало время рассказать тебе всю правду. Ты должен знать, кто был твой отец и почему я до сих пор это от тебя скрывал. Слушай же: Реджинальд де Траси – муж твоей матери и твой отец. Ему принадлежал Конистонский замок, и его-то держит де Молак в подземельях этого замка. А твое имя – Альрик де Траси. Альрик был потрясен этим известием не меньше, чем леди Эдвина, когда узнала, что жив ее муж, которого она оплакивала в течение многих лет. Видя взволнованное и недоумевающее лица мальчика, Торед сказал: – Слушай, Альрик, слушайте и вы, Робин! Вам обоим я расскажу о том, что было много лет назад. Он увел их в свою комнату, куда никто не входил без спроса, и, усадив за стол, начал свой рассказ. (обратно)ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ РЕШЕНИЕ
Когда на троне сидел Гарольд, последний английский король, Конистонский замок принадлежал некоему Сигурду. Сигурд пал в битве при Сенлаке, сражаясь за Гарольда, а его восемнадцатилетняя дочь Синетрит осталась в Конистоне. Вильгельм Завоеватель конфисковал Конистонский замок и пожаловал его одному из своих приближенных, норманну Генри де Траси. Говорят, что этот де Траси был неплохим человеком и вассалов своих не притеснял. Он женился на Синетрит, и от них-то и ведет свое происхождение Реджинальд де Траси. Генри де Траси был его прадедом, Синетрит – его прабабушкой; таким образом в венах его смешалась кровь английская и норманнская. Этот Реджинальд был другом короля Ричарда Львиное Сердце. «Из англичан, спасших свои поместья от грабителей-норманнов, я знал старого тана Вульфстана из Боддингтона. Сын его, Эдуард Боддингтонский, в настоящее время считается влиятельным человеком. «Мечтал я выдать замуж за тана Эдуарда дочь мою Эдвину, и сам Эдуард шел навстречу моим желаниям, но случилось так, что на пути ее встал молодой Реджинальд де Траси... Застигнутый непогодой, он искал убежища в Коллингхэме, а двери моего дома раскрыты для всех путников, даже если в жилах их течет норманнская кровь. Он увидел мою дочь и с тех пор стал навещать нас под тем или иным предлогом. Я всеми силами старался дать ему понять, что он является нежелательным гостем, но де Траси не обращал внимания на мои намеки. Отрицать не стану: было в нем что-то, располагающее в его пользу. Наконец он попросил у меня руки Эдвины, но я отказал наотрез, заявив, что уже дал свое согласие тану Боддингтонскому. К несчастью, в самой Эдвине де Траси нашел пылкую союзницу. Она сказала мне, что или выйдет замуж за Реджинальда де Траси, или уйдет в монастырь. Не стоит останавливаться на деталях. Кончилось тем, что они обвенчались без моего согласия, и Эдвина стала женой де Траси. Все шло хорошо, пока король Ричард не задумал отправиться в крестовый поход. Несмотря на мои возражения, молодой Реджинальд решил его сопровождать, а Эдвина осталась в Конистоне. Вернулся он больной и измученный, оставив Ричарда за морями. Эдвина выходила мужа, а он повел борьбу с регентом, теперешним королем Иоанном, который пытался овладеть Конистонским замком. Обманутый в своей надежде, этот кровожадный тиран, возненавидел де Траси. Когда вернулся Ричард, Реджинальд был посвящен в рыцари. Но Ричарду не сиделось на месте; снова отправился он в крестовый поход, взяв с собой де Траси. С тех пор мы его не видали. Говорили, что он умер в Нормандии вскоре после того, как был убит Ричард, помешанный на крестовых походах. В то время, как Реджинальд был в Нормандии, родился ты, Альрик. Незадолго до родов твоя мать из Конистона переехала в Коллингхэм, а Иоанн, узнав о смерти брата, завладел Конистонским замком и пожаловал его норманнскому рыцарю, Питеру де Молаку, участвовавшему во всех его заговорах. Этот де Молак знал, что твоя мать жива, но понятия не имел о твоем существовании, Альрик. Знай он, что есть у него соперник, который в один прекрасный день может оспорить его права на Конистон, он давным-давно покончил бы с тобой. Все это было известно тану Эдуарду, но он, подчиняясь моей воле, хранил тайну. Тебя, Альрик, он полюбил, как сына, быть может, в память своей любви к Эдвине. Я лелеял надежду, что со временем она выйдет за него замуж, так как о Реджинальде не было никаких известий. Но Эдвина говорила, что Реджинальд, может быть, еще вернется. Теперь ты понимаешь, как были мы потрясены, узнав, что де Траси томится в подземелье своего собственного замка. Нужно подумать, что мы можем предпринять для его освобождения, а освободить его мы должны, хотя бы для этого пришлось стереть с лица земли Конистонский замок». Можно себе представить, какое впечатление произвел этот рассказ на Альрика. Дед всегда запрещал ему задавать вопросы, и Альрик знал только, что отец его был норманнского происхождения. Теперь выяснилось для него то, что раньше вызывало недоумения. Робин Гуд с глубоким вниманием слушал рассказ Тореда. Когда старик умолк, Робин задумался и, наконец сказал: – Какая странная история! И удивительнее всего то, что Альрику посчастливилось найти отца, которого он не знал. Альрик, я уже дал клятву освободить несчастного узника. Теперь я эту клятву повторяю. Реджинальд де Траси – твой отец; ради тебя я сделаю все, чтобы его спасли. И он крепко пожал юноше руку. Втроем они долго обсуждали вопрос о том, какие шаги следует предпринять. Де Молак был врагом могущественным и безжалостным. Пользуясь покровительством Иоанна, он мог безнаказанно совершить любое преступление. Обвинять его открыто было делом рискованным, так как в ответ на такое обвинение де Молак мог убить своего пленника, а затем объявить, что знать о нем не знает. Напасть на Конистонский замок можно было лишь при наличии хорошо вооруженного войска; кроме того, следовало иметь осадные машины и орудия, необходимые для атаки крепости. Быть может, неожиданный штурм и увенчался бы успехом, но после недавней стычки с Робином люди де Молака, несомненно, были начеку. Пожалуй, Эдуард Боддингтонский мог разоблачить де Молака, но в настоящее время он был в немилости у короля. И неизвестно, согласился ли бы он хлопотать об освобождении человека, бывшего его счастливым соперником. Вот о чем рассуждал Робин Гуд с Торедом и Альриком. Наконец Робин заявил, что решение он примет, лишь посоветовавшись с Маленьким Джоном и Туком. К ужину вышла леди Эдвина, оправившаяся после недавнего потрясения. Она умоляла Робина предпринять шаги освобождения ее несчастного мужа и сама готова была сделать все, что от нее зависело. – Отец, – обратилась она к Тореду, – я сама пойду к этому бесчестному рыцарю, брошу ему в лицо обвинение и потребую немедленно освободить моего мужа. Если он мне откажет, я дойду до короля. – Нет, Эдвина, – возразил старик, – к королю тебя не допустят, а если и допустят, то не забудь, что де Молак – правая его рука. Если же ты пойдешь к де Молаку, он поступит с тобой так же, как поступил с Реджинальдом – т.е. бросит в темницу. – Вы правы, франклин, – вмешался Робин Гуд; – за это дело нужно приниматься с величайшей осторожностью. Нам придется сражаться против любимца короля Иоанна, а быть может и против самого короля. Я вам открою одну тайну, которую вы сохраните, если не желаете рисковать своей головой. Знайте, что Иоанн восстановил против себя даже многих своих приближенных. Северные бароны объединились и дали клятву принудить этого тирана принять их требования. Конечно, бароны защищают свои интересы; однако они понимают, что им ничего не удастся сделать, если их не поддержит народ. Вот почему они обещают добиться льгот и для простого народа. Давно уже они ведут со мной переговоры и пытаются втянуть в свою игру. Я знаю, настанет время, когда они обратятся за помощью ко мне и к моим стрелкам. Думаю, эту помощь мы им окажем, так как только таким путем сможет мы отстаивать интересы народа и добиваться проведения льгот. И тогда кое-кто из них – сейчас их имена я называть не буду – не откажет мне оказать поддержку в борьбе с де Молаком... Согласны ли вы поручить это дело мне? – Нет! – воскликнул старик. – Пока я еще могу держать меч в руках, я сам хочу сражаться против де Молака. – На вашу долю выпадет защита Коллингхэма, а это дело нелегкое, – возразил Робин. – Вы правы! Я окружен врагами – любимцами короля. – Робин, если твой план будет принят, я настаиваю на том, чтобы идти с тобой! – вмешался Альрик. – Ведь речь идет о моем отце! – Вы даете свое согласие, франклин Торед? – спросил Робин. – Кажется, иного выхода у меня нет. Хотя клянусь святым Дунстаном, я бы предпочел надеть шлем, взять меч и вместе с вами пойти против де Молака. Итак вопрос был решен, и черездень Робин с Альриком и Нэдом Локсли отправился в обратный путь. Радостно встретили их стрелки, которые очень не любили, когда Робин отлучался на долгий срок. Через несколько дней они покинули лагерь и переселились в маленькую деревушку Эдвинстоу, находившуюся в сердце дремучего леса. Население этой деревушки души не чаяло в Робине и его стрелках. К деревне вели извилистые и переплетающиеся тропинки, известные только местным жителям, и ни один посторонний человек не сумел бы сюда пробраться. Все дороги охранялись караульными, которые в случае тревоги трубили в рог, предупреждая о близости врага. Здесь, в Эдвинстоу, и расположился главный отряд с Туком во главе. А несколько дней спустя Робин, Альрик, Маленький Джон, Вилль Рыжий и человек пять стрелков покинули деревню. О цели своей поездки никто не говорил ни слова. (обратно)ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ РЫЦАРЬ ЧЕРНОГО ВОРОНА
Темнело. Всадники ехали гуськом по узкой тропинке, намереваясь заночевать в доме мельника, который не раз давал приют стрелкам, а те в свою очередь защищали его от всех окрестных баронов, посылавших своих слуг грабить местное население. Робин, ехавший впереди, вдруг остановил лошадь и воскликнул: – Слушайте! В лесу раздаются голоса! Вилль Рыжий спрыгнул с седла, растянулся плашмя и, приложив ухо к земле, стал прислушиваться. Через секунду он вскочил. – Клянусь святым Губертом, я слышу топот ног и стук копыт! – закричал он. – Что-то неладное делается в лесу... и как будто недалеко отсюда. – Сейчас узнаем, кто осмелился сражаться в наших владениях, – нахмурился Робин и, пришпорив лошадь, поскакал налево, откуда доносились крики. Вскоре они услышали бряцание стали и снова остановили коней. – Мы, четверо, пойдем пешком, – сказал Робин Маленькому Джону, Виллю и Альрику. – Остальные пусть ждут нас здесь. Не шумите, друзья! Не следует показываться врагу раньше, чем мы не узнаем, с кем придется иметь дело. Они стали быстро пробираться сквозь заросли и вскоре вышли на поляну. Под ветвями старого дума, прислонившись спиной к стволу, стоял рыцарь в кольчуге и шлеме со спущенным забралом. В левой руке он держал щит, на котором был изображен черный ворон, в правой – тяжелый бердыш. Очевидно, он прекрасно владел этим страшным оружием, так как у ног его валялся человек, раненый или убитый. На рыцаря нападали пятеро. Размахивая мечами и кинжалами, они то подбегали к нему, то отскакивали, пугаясь занесенного бердыша. Друг друга они подбодряли громкими криками. – Кричите, кричите, трусы! – проворчал рыцарь. – Где вам со мной справиться? Ведь вас только пятеро против одного! – Нужно его прикончить! – заревел один из нападавших, а Робин Гуд, взглянув на него, узнал Арнульфа, совершенно оправившегося от ран, полученных им в комнате пыток. Ясно было, что дело неладное, раз в числе нападающих находился Арнульф, и Робин решил придти на помощь рыцарю. – За мной, друзья! – крикнул он. – Если я не ошибаюсь, эти негодяи – слуги де Молака! Вперед! Размахивая мечами, стрелки выбежали на поляну. Воины, застигнутые врасплох, растерялись. Робин и Вилль убили двоих, третьему размозжил голову Маленький Джон, а Арнульф и единственный его уцелевший товарищ, узнав Робин Гуда, вскочили на коней и ускакали. Робин повернулся к рыцарю, который стоял, прислонившись к дереву, и тяжело дышал. – Рыцарь, – сказал он, – бой был неравный, но вы доблестно сражались. – Благодарю вас и ваших друзей за оказанную мне помощь, – отозвался рыцарь. – В другое время я бы и сам сумел расправиться с этими негодяями, но сейчас я еще слаб, так как сегодня в первый раз после тяжелой болезни надел кольчугу. Робин с любопытством посмотрел на человека, так уверенно говорившего о расправе с пятерыми, нападавшими на одного. Ничего особенного он в нем не заметил; это был человек среднего роста, крепко сложенный. «Если он, едва оправившись после болезни, мог так сражаться, то каков же он, когда здоров?», – подумал Робин. Казалось, рыцарь угадал его мысли. – Не подумайте, что я хвастаюсь, – сказал он. – Моей заслуги нет в том, что я наделен богатырской силой и умею владеть оружием. Но сегодня мне пришлось бы плохо, не приди вы на помощь. Я чувствовал, что силы меня оставляют, а эти негодяи – наймиты злейшего моего врага, решившего со мной покончить. – Похоже на то, что у нас с вами – общий враг! – воскликнул Робин Гуд. – Одного из нападавших я узнал: это наймит сэра Питера де Молака. – Да, о нем я и говорил, – ответил рыцарь. – Сюда в Англию я приехал для того, чтобы свести с ним счеты. Хозяин харчевни, где я выздоравливал после болезни, догадался о цели моего путешествия, и здесь в лесу я попал в засаду, расставленную де Молаком... А теперь могу ли я узнать имя моего спасителя? – Охотно скажу вам, кто я, если и вы себя назовете. – К сожалению, этого я сделать не могу. Мое дело требует полной тайны. Называйте меня Робертом или рыцарем Черного Ворона. Я сражался бок о бок с Ричардом Львиное Сердце, братом кровожадного тирана Иоанна. – В ответ я вам скажу, кто мы, – ответил Робин. – Я – Робин Гуд, а это мои друзья. И он назвал их по именам. – Я так и думал, что вы – Робин Гуд, хотя одеты вы не в зеленый костюм. Много я слыхал о вас и о ваших веселых молодцах. – Куда же вы отправляетесь, рыцарь? – спросил Робин. – По правде сказать, я заблудился в этом бесконечном лесу, а ехал я в Ноттингхэм. – Мы тоже туда направляемся. Если хотите – едем вместе. Сейчас уже поздно, засветло не доберемся до Ноттингхэма, но здесь неподалеку есть место, где можно переночевать. – Я вам буду очень благодарен, если вы меня примете в свою компанию, а утром укажете дорогу в Ноттингхэм. – Ладно, – сказал Робин. – А сейчас пора трогаться в путь. Все вскочили на коней и рысью поскакали по лесной тропинке. Вскоре они увидели большую мельницу, расположенную на берегу ручья, а возле мельницы – дом и несколько сараев. Мельника звали Меч. Он был отец того самого Меча, который навлек на себя гнев шерифа и бежал в лес к Робину. На мельнице и Робина и стрелков всегда ждал радушный прием. Не раз скрывались они здесь от врагов, а однажды несколько человек – в том числе и Робин – спасаясь от погони, забежали на мельницу и спрятались среди мешков с зерном. Здесь они пролежали несколько часов, пока враги рыскали по лесу. Меч-отец часто разъезжал по соседним деревням и собирал полезные для Робина сведения, а в благодарность за это стрелки приносили ему то зайца, то фазана, то кусок оленины. Отведя лошадей в сарай, стрелки вошли во двор, где их встретил толстый краснолицый мельник, первый силач во всей округе. – Здорово, Робин, здорово, друзья! – воскликнул мельник. – Давненько не видались. А кто это с вами? Не очень-то я люблю людей в кольчугах и шлемах. – За этого рыцаря я отвечаю, – сказал Робин. – Приюти его на ночь вместе с нами. – Как знаешь, – проворчал мельник. – А где же мой прощелыга-сын? Почему его здесь нет? – Он остался в лагере, – ответил Робин. – Был ранен, но теперь поправляется и тебе шлет поклон. – Очень мне нужны его поклоны! Бездельник! Не попади он в лапы шерифа – чтоб этому шерифу ни дна, ни покрышки! – так был бы сейчас помощником отцу, а не рыскал по лесу с беспутными стрелками! – А не будь беспутных стрелков, твой сын гнил бы сейчас в тюрьме! – расхохотался Робин, хлопнув мельника по спине. – Что правда, то правда, – отозвался тот. – Но уж такой у меня нрав – должен я поворчать и отвести душу... Что же вы стоите? Входите в дом. А я скажу моей старухе, чтобы накормила гостей. Мальчишку Уоткина поставлю караулить, чтобы кто-нибудь ненароком сюда не заглянул. Все вошли в большую кухню и уселись за стол. Рыцарь Черного Ворона снял свой тяжелый меч, шлем и кольчугу, и стрелки увидели перед собой красивого человека лет сорока, с черными вьющимися волосами, черными глазами и бронзовым от загара лицом. Видя, что рыцарь снял доспехи, мельник забыл о своей неприязни к нему и сразу повеселел. На стол подали олений окорок, сыр и холодные пироги. К великой радости Маленького Джона, в углу кухни стояла бочка пенистого эля, и каждый мог пить, сколько душе угодно. Мельник подавал своим друзьям пример, осушая кружку за кружкой, а Маленький Джон от него не отставал. После ужина стрелки затянули песню; мельник им подтягивал, а потом все стали просить рыцаря тоже что-нибудь спеть. Нельзя было отказаться, и он запел о крестовых походах. Когда смолкла песня, его начали расспрашивать, был ли он в Палестине. Рыцарь отвечал, что он там был и сражался вместе с Ричардом Львиное Сердце. – Вечно этот Ричард таскался по чужим землям, – проворчал мельник, – а эти его крестовые походы недешево стоили, и расплачивался за них народ. Но уж и то хорошо, что был он воином, а не трусом, как его братец. Пью за погибель Иоанна, кровожадного тирана и труса! Рыцарь усмехнулся и, повторив: «Пью за погибель Иоанна!» осушил свою кружку. (обратно)ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ ЧЕРНАЯ СТРЕЛА
На следующее утро хозяин ушел на мельницу, а стрелки стали собираться в путь. После завтрака Робин Гуд и рыцарь вели долгий разговор. – С какой ненавистью вы говорите о Питере де Молаке! – сказал Робин. – Он – мой враг. Раньше я покончу со своими делами, а затем вызову его на поединок, и если он вызова не примет, я его убью, как бешеную собаку. – Странно... – заметил Робин. – Я тоже добиваюсь гибели этого рыцаря. – Мы могли бы действовать сообща. Скажите, в чем вы его обвиняете, а я вам расскажу свои историю. Робин охотно рассказал ему о том, что произошло на турнире в Ноттингхэме, упомянул о сражении в лесу и о приключениях в Конистонском замке. Услышав о Реджинальде де Траси, рыцарь его перебил. – Послушайте, да ведь мы с Реджинальдом были добрыми друзьями, вместе сражались в Палестине! Много лет назад я слышал, что де Траси попал в плен в Нормандии, бежал оттуда, вернулся в Англию и здесь умер. – Он сидит в темнице, – сказал Робин, – а я должен его освободить, во-первых, потому, что дал клятву его чернокожему оруженосцу, а во-вторых, ради его сына. – Его сына? Да разве у него есть сын? – удивился рыцарь Черного Ворона. – Вы его видели; это Альрик. – Как? Тот юноша, который вместе с вами спас меня от людей де Молака? – Он самый. Альрик – сын Реджинальда де Траси и Эдвины из Коллингхэма. – Какая удивительная встреча! Даю слово, Робин, что я вам помогу расправиться с де Молаком и освободить де Траси. Но раньше я должен довести до конца дела, которые заставили меня ехать в Ноттингхэм. Вы мне доверили свою историю, а я вам расскажу о себе. Кто я такой – в настоящее время не имеет значения. Достаточно будет сказать, что я сражался вместе с Ричардом в Палестине, а затем, раненый и больной, вернулся в Англию. Здесь я узнал, что Иоанн строит козни против своего брата. Я уведомил Ричарда, и тот вернулся на родину и устранил Иоанна от управления страной. «После смерти Ричарда я впал в немилость. Иоанн лишил меня всех моих владений и изгнал из Англии. Я требовал суда над собой, но мне отказали, а женщина, которую я любил от меня отвернулась, поверив наветам моих врагов. В отчаянии я решил покинуть Англию и в течение многих лет странствовал по чужим странам. Совершенно случайно, от одного умирающего человека я узнал, что виновником всех моих бед был де Молак, он добился моего изгнания и завладел моими поместьями; он же оклеветал меня в глазах любимой женщины, так как сам хотел на ней жениться. Получив эти сведения, я тотчас же отправился в Англию, чтобы призвать его к ответу. Приехав сюда, я заболел лихорадкой и несколько недель боролся со смертью. Как я вам уже сказал, де Молак мог узнать о моем приезде только от хозяина харчевни, где я остановился, и я нисколько не сомневаясь, что засада устроена была его людьми». – В этом я совершенно уверен, – подтвердил Робин Гуд. – Значит я могу обвинить его еще в одном преступлении – в покушении на мою жизнь, и я добьюсь того, чтобы Иоанн рассмотрел мою жалобу. Но сначала я должен покончить с другими делами; и если бы вы согласились мне помочь, я могу обещать, что вам будут возвращены все права, которых вы лишились, когда были объявлены вне закона. Робин Гуд улыбнулся. – В защите закона я не нуждаюсь, – сказал он, – но о каких делах вы говорите? – Видите ли, я действую сообща со многими влиятельными баронами, которые возмущены несправедливыми и незаконными действиями Иоанна и его приверженцев. Те, кого он в течение многих лет угнетал, против него восстали, и если он откажется пойти на их требования, они низвергнут его с трона. У меня с собой есть подлинная хартия короля Генриха, обеспечивающая права и привилегии английского народа. Хартия эта хранилась в монастыре, и мне поручили доставить ее сэру Джону Маршаллу, который обсудит этот вопрос с архиепископом Кентерберийским и другими лицами. Их имена я называть не буду, но у меня имеется полный список. Все эти люди поклялись добиться от короля новой хартии для английского народа. Шпионы короля рыщут всюду: каким-то образом они узнали, что эти документы находятся в моих руках; вот почему на меня напали люди де Молака. Мне поручено созвать собрание, но об этом собрании я говорить вам не буду, так как обязался хранить тайну. – Рыцарь, – с улыбкой сказал Робин, – быть может, об этих делах я знаю больше, чем вы думаете. Уже около года со мной ведутся переговоры, и не раз случалось мне и моим друзьям доставлять письма в Ноттингхэм, Дерби, Лейчестер и Йоркшир. Можете быть уверены, что мне известны имена всех, кто занесен в ваш список. Об этом вам скажет Джон Маршалл. Рыцарь недоверчиво взглянул на Робина, а тот, заметив этот взгляд, продолжал: – Король Иоанн был бы очень удивлен, если бы узнал, какие собрания происходят в Шервудском лесу. Мне известно все, что происходит при дворе; мне известно, какие планы строят враги Иоанна. Пожалуй, удивитесь и вы, рыцарь Черного Ворона, если я вам скажу, что догадался, кто вы. Я говорю с графом Нортумберлендским, осужденным на изгнание, не так ли? – Тише! – воскликнул рыцарь, хватая Робина за руку. – Не называйте этого имени! За мою голову назначена щедрая награда, и гибель моя неизбежно, если враги узнают, что я нахожусь в Шервудском весу. – Однако, Питер де Молак знает или, во всяком случае догадывается... – Возможно, хотя я не понимаю, как мог он узнать. Должно быть, в харчевне во время болезни я бредил и выдал свою тайну. Но вы, Робин, меня не предадите? – Никогда я не был предателем, – сказал Робин, – да и не в моих интересах вас предавать. Сейчас бароны добиваются хартии, которая может оказаться полезной и простому народу. И с баронами я вступаю в переговоры, чтобы добиться льгот для народа. Наши пути случайно скрестились, и я готов вам помогать. – А я, – отозвался рыцарь, – готов со своей стороны помочь вам и освободить де Траси. Долго еще беседовал Робин Гуд с рыцарем Черного Ворона, и только в полдень тронулись они в путь в сопровождении Альрика и стрелков. – Было быв неразумно въезжать нам вместе в город, – сказал Робин рыцарю. – Въедем в Ноттингхэм разными воротами, а вечером встретимся в харчевне «Корона». Так они и сделали. Вилль, Робин и Альрик отправились на разведку и к вечеру вернулись в харчевню. Они узнали, что король вместе с Питером де Молаком находится в Ноттингхэмском замке, где в их честь устраивают сегодня вечером пир. Через две недели состоится в Лейчестере турнир, на котором будет присутствовать король Иоанн, а де Молак примет участие в состязаниях. Узнав об этом, рыцарь Черного Ворона воскликнул: – Вот случай, которого я ждал! Я явлюсь на турнир, разоблачу де Молака и вызову его на смертный бой. – А я решил послать сегодня предостережение и де Молаку и королю, – сказал Робин. Он отказался дать какие бы то ни было объяснения. Поздно вечером он вышел из харчевни в сопровождении одного только Альрика. Оба были закутаны в длинные темные плащи, а Робин захватил с собой лук. Смешавшись с толпой слуг и вассалов, проникли они в замок и вошли в залу, где пировал король. Окруженный рыцарями и вельможами, Иоанн сидел на возвышении во главе стола, ломившегося под тяжестью блюд и кувшинов с вином. По правую его руку сидел де Молак. Держа в руке золотой кубок, Иоанн встал, чтобы произнести застольную речь, как вдруг под самым его ухом прожужжала черная стрела и вонзилась в спинку трона. Раздались пронзительные крики. Придворные бросились к королю, а тот, дрожа от страха, едва держался на ногах. К стреле была привязана записка. Один из придворных прочел ее вслух: «Берегись, Питер де Молак! Освободи узников, томящихся в подземелье твоего замка! Помни, что не уйти тебе об суда. Берегись, король Иоанн! Твои подданные принудят тебя справедливо править страной и соблюдать законы, которые ты попираешь». – Кто посмел оскорбить короля? – раздались недоумевающие возгласы. – Я знаю, кто это сделал, – ответил де Молак, бледный, как мертвец. – Это Робин Гуд, человек, объявленный вне закона. – Схватить его! – закричал взбешенный Иоанн. – Если и на этот раз он уйдет, вы будете в ответе. Обыскав замок, обшарили все закоулки города, но Робина не нашли. Пока придворные суетились около короля Робин с Альриком выскользнул из залы и бросился к городским воротам. Здесь ждали их друзья. Вскочив на коней, они поскакали по направлению к Шервудскому лесу. Однако, де Молак сделал попытку их поймать. Человек сорок всадников с Арнульфом во главе были посланы за ними в погоню и выехали через те же ворота. (обратно)ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ НОЧНОЕ НАПАДЕНИЕ
Спустя неделю Робин, Альрик и рыцарь Черного Ворона ехали по направлению к Лейчестеру. Они старались избегать проезжих дорог, запруженных толпами любопытных, желавших поглазеть на турнир. С того дня, как король Иоанн получил такое красноречивое предостережение, Робин и его друзья успели побывать в лагере стрелков, повидаться с Джоном Маршаллом, подготовлявшим восстание против короля, и, наконец, съездить в Мельтон, где Альрик купил себе шлем и кольчугу. Исполнилось его заветное желание: на предстоящем турнире он должен был выступить в роли оруженосца рыцаря Черного Ворона. В то утро они расстались с Маленьким Джоном, Виллем Рыжим и другими стрелками, ездившими с ними в Мельтон; Робин, не желая привлекать внимание встречных, попросил своих верных друзей ждать его в Чарнокском лесу. Однако Маленький Джон и Вилль чуть ли не впервые решили ослушаться своего главаря. – Слишком уж он смел, – сказал Вилль. – Опять скачет в стан врагов. Если на этом турнире случится что-нибудь неладное, Робин может попасть в плен, а Альрик с рыцарем не сумеет его освободить. Знаешь что, Джон? Поедем-ка следом за ним, но так, чтобы он нас не видел. В случае если на него нападут, мы будет тут, как тут. Одеты мы, как простые крестьяне, и нас никто не узнает... – Правду ты говоришь, Вилль, – согласился Маленький Джон. – Робина одного нельзя отпускать; мы поедем за ним, а в толпе нас не заметят. Вечером накануне турнира Робин, рыцарь и Альрик решили переночевать среди развалин древнего храма в окрестностях Лейчестера. Неподалеку от них расположились на ночлег Маленький Джон, Вилль и другие стрелки, о присутствии которых Робин не подозревал. В соседней деревне Робин купил провизии. Втроем они поужинали и, завернувшись в плащи, улеглись на поросший мхом каменный пол полуразрушенной часовни. Ночь была душная, знойная. Спали они около часу. Вдруг Робина разбудил громкий крик. – Вскочив, он увидел, что в часовню ворвались какие-то вооруженные люди. Несколько человек набросились на Альрика, другие старались обезоружить рыцаря Черного Ворона. Нападающие старались не шуметь; молча делали они свое дело, по-видимому, поставив себе целью убить или захватить в плен всех троих, приютившихся среди развалин храма. Один из воинов атаковал Робина; при свете луны Робин узнал в нем Уолтера Черного. – А, опять мы с тобой встретились! – воскликнул Робин. – Теперь я понимаю, кто вас послал. Но берегись, чернобородый! Несдобровать тебе сегодня! На эту угрозу Уолтер Черный не обратил ни малейшего внимания. Еще несколько человек бросились к нему на помощь, а Робин и Альрик под натиском врагов отступили к стене часовни и едва успевали парировать удары. Силы были неравные; рыцарю, сражавшемуся в дальнем углу полуразрушенной часовни, приходилось отражать нападение четверых. Казалось, не было никакой надежды на спасение, как вдруг раздался топот ног, и в часовню ворвались какие-то темные фигуры; их вел человек гигантского роста. Это был Маленький Джон. – Робин, Робин! Ты ранен? – кричал он. – Я им отомщу – этим головорезам! – Я цел и невредим! – отозвался Робин Гуд. Теперь перевес был на его стороне, и враги, не ожидавшие такого отпора, обратились в бегство. Выбежав из часовни, они вскочили на коней и ускакали. Однако своей цели они отчасти достигли: рыцарь Черного Ворона в обмороке лежал на полу. Он получил две раны – не смертельные, но вызвавшие сильное кровотечение, и потеря крови грозила серьезной опасностью. У стрелков всегда были под рукой бинты и мазь. Рыцарю перевязали раны и влили в рот вина, а Робин, пожимая руки Маленькому Джону и Виллю, горячо благодарил их за помощь. – Еще раз вы меня спасли! – воскликнул он. – Если бы я последовал вашему совету, мы бы не попали в ловушку. – Стоит ли говорить об этом, Робин? – перебил Маленький Джон. – Зная, как мало ты думаешь о своей безопасности, мы с Виллем решили следовать за тобой. Когда вы расположились на ночлег среди этих развалин, мы тоже улеглись здесь неподалеку и успели прибежать на помощь, как только завязался бой. Вполголоса обсуждали создавшееся положение. – Опасно здесь оставаться, – сказал Робин. – В любую минуту враги могут вернуться с подкреплением. Нужно поскорей уйти в безопасное место. Они немедленно отправились в путь. Раненый не мог сидеть в седле, и его несли на носилках. На рассвете они пришли в маленькую деревушку, отдохнули там и тронулись дальше, а к полудню добрались до опушки леса, где находился дом арендатора Эльтуна. Эльтун был верным другом Робина и стрелков. Здесь они встретили радушный прием; раненого уложили в постель, а так как делать было нечего, то после захода солнца все легли спать. Проснулись рано, и Робин Гуд прежде всего пошел узнать, как чувствует себя рыцарь. Оказалось, что ему лучше, но о поединке с де Молаком нечего и думать; лишь через несколько недель сможет он надеть кольчугу и сесть на коня. Альрик затронул вопрос о том, кто же бросит вызов де Молаку. – Этот вопрос я уже решил, – объявил Робин. – Де Молака разоблачу я, и со мной придется ему драться. – Я сам хотел его вызвать, Робин, – задумчиво сказал Альрик. Стрелок расхохотался. – Что ты, мальчуган! Предоставь это людям постарше тебя. Я знаю, ты умеешь драться, но с таким сильным противником, как де Молак, тебе не справиться. – Робин, – вмешался рыцарь, внимательно прислушивавшийся к разговору, – не забудьте, что сражаться вы должны верхом и в кольчуге, а вы, насколько мне известно, никогда не надеваете рыцарских доспехов. Робин презрительно усмехнулся. – Я умею сидеть в седле, и если я без кольчуги справлялся с рыцарями, защищенными броней, то в полном вооружении я, конечно, одержу верх над де Молаком. Правда, копьем я владею хуже, чем вы, рыцари, но зато никому не уступлю в искусстве владеть мечом. Вас, рыцарь, я попрошу дать мне коня и вашу кольчугу; она будет мне впору, так как мы с вами одного роста и сложения. Имени своего я не назову и выступлю, как рыцарь Черного Ворона. Не бойтесь, вашего оружия я не обесчещу, а меня никто не узнает, так как мое лицо будет закрыто забралом. – Робин, – воскликнул рыцарь, – мое оружие и мои доспехи в полном вашем распоряжении. Поступайте, как хотите, и если вы потерпите неудачу, клянусь, я разыщу де Молака и отомщу за вас, как только смогу сидеть в седле. Вечером Робин надел на себя рыцарские доспехи и вместе с Альриком, который переоделся оруженосцем, тронулся в путь. За ними на некотором расстоянии следовали Маленький Джон и стрелки. Ехали они в Лейчестер. (обратно)ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ВЫЗОВ
Робин и Альрик смело въехали в город и остановились в маленькой харчевне. На улицах толпился народ; все только и говорили о великолепном турнире. Первый день турнира прошел блестяще; король – в прекрасном настроении, придворные дамы ослепительно хороши, рыцари превосходят один другого в ловкости и храбрости. Героем дня был Питер де Молак. Он победил четырех противников, и король был в восторге от своего фаворита. Сегодня вечером в замке устроено пиршество, а завтра турнир будет продолжаться. Робин с Альриком рано улеглись спать, а утром отправились в мастерскую оружейника. Тот осмотрел их доспехи, укрепил звенья и застежки кольчуг, наточил их мечи и кинжалы. Здесь купили они длинные копья. В это время в мастерскую заглянул Вилль Рыжий, переодетый поселянином. Поманив Робина, он шепотом сказал ему: – Вчера я ночевал в харчевне с Уолтером Черным. Вечером я его напоил, и он стал хвастаться, что накануне он со своими людьми убил знаменитого стрелка Робин Гуда и еще одного парня, переодетого рыцарем. По его словам, этот парень должен был явиться на турнир и предъявить свои права на поместья одного человека, давным-давно умершего. Робин Гуд усмехнулся: – Хорошо, если де Молак поверил этим россказням, – сказал он. – То-то он удивится, когда окажется лицом к лицу с рыцарем Черного Ворона. Когда солнце склонилось к западу, Питер де Молак в рыцарских доспехах, верхом на великолепном коне, выехал на арену. Мужчины встретили его аплодисментами, женщины размахивали платочками. Он победил всех, кто осмелился против него выступить. Теперь, если никто не бросит ему вызова, он будет объявлен королем турнира и получит приз – кольчугу и боевого коня. Трижды объехав вокруг арены, де Молак остановился перед королевской трибуной, а на середину арены вышли четыре герольда и затрубили в трубы. Один из маршалов возвестил: – Могущественный рыцарь сэр Питер де Молак из Конистона был назначен бойцом его величества короля Иоанна Английского, Ирландского и Уэльсского и герцога Нормандского. Он бросил вызов всем, кто бы ни пожелал с ним сразиться и всех своих противников победил. Если трубы прозвучат трижды и ни один рыцарь не явится оспаривать у сэра Питера его право на первенство, сэр Питер де Молак будет объявлен королем турнира и из рук его величества получит награду. После этих высокопарных слов маршал и герольды выстроились за спиной сэра Питера де Молака, который гордо восседал на коне перед королевской трибуной. Снова прозвучали трубы. Звук еще не замер, как к маршалу подошел один из младших герольдов и что-то сказал ему. Маршал поднял руку, чтобы остановить трубачей, готовившихся затрубить вторично, и, низко склонившись перед королем, провозгласил: – Ваше величество! Я только что узнал: на турнир прибыл рыцарь, оспаривающий у сэра Питера звание короля турнира. Он молит о разрешении вызвать сэра Питера на поединок. Иоанн нахмурился. – Кто этот рыцарь? – сердито спросил он. – Он отказывается назвать свое имя и желает предстать перед вашим величеством. – Ты говоришь, он отказывается назвать свое имя? Да как он смеет отказываться? – вспылил Иоанн. Его одутловатое лицо покраснело от гнева. – Что скажешь, сэр Питер? – обратился он к своему фавориту. – Пустить ли нам его на турнир? Сэр Питер, только что снявший свой шлем слегка побледнел, услышав слова маршала. – Ваше величество, – сказал он, – быть может этот человек – самозванец, не имеющий рыцарского звания. – Ну, если это так, – вскричал Иоанн, позеленев от злобы, – то он будет примерно наказан! – Однако, – вмешался один из вельмож, завидовавший королевскому фавориту, – однако, если сэр Питер откажется сразиться с этим рыцарем, кое-кто подумает, что он струсил. Вельможу поддержали, а маршал добавил: – По правилам турнира рыцарь имеет право быть выслушанным. В противном случае сэр Питер не может претендовать на звание короля турнира. Де Молак злобно посмотрел на маршала и хотел что-то сказать, но его перебил старый граф Сюррэй: – По законам рыцарства следует выслушать этого человека, и сэр Питер не вправе отказываться от поединка. Иоанн вынужден был уступить. – Приведите его сюда, – проворчал он. Маршал с поклоном удалился, а через несколько минут на арену выехали два всадника, – рыцарь и его оруженосец. На рыцаре был надел бочкообразный шлем с отверстиями для глаз и рта; у луки седла висел щит, на котором красовался герб – черный ворон. Оруженосец был ниже ростом; голову его закрывал старомодный шлем, к седлу была привязана огромная алебарда, а в руке он держал два двенадцатифутовых копья. Рыцарь Черного Ворона пересек арену и остановил коня перед королевской трибуной. – Ну, говори, что тебе нужно? – сурово обратился к нему Иоанн. – Ты хотел, чтобы мы тебя выслушали; излагай свое дело. – Я обвиняю сэра Питера де Молака из Конистона в разбое и грабеже, – спокойно произнес рыцарь. – Я требую, чтобы он понес заслуженное наказание. Эти дерзкие слова вызвали ропот возмущения среди вельмож, толпившихся на трибуне. – Негодяй! – заревел Иоанн. – Кто бы ты ни был, ты поплатишься головой, если слова твои лживы! – Я не лгу! – воскликнул рыцарь. – Питера де Молака я вызываю на поединок, и сражаться мы будем, пока один из нас не убьет другого. Победа достанется правому; я предлагаю испытание мечом. Удивленные возгласы вырвались из толпы придворных, но Иоанн сердито приказал всем молчать. – Кто ты такой, что осмеливаешься предъявлять неслыханные требования? – спросил он рыцаря. – Я прошу привилегии сражаться, не называя своего имени. Если я буду убит, мой оруженосец откроет всем, кто я такой; если я выйду победителем, я сам открою свое имя. – Кажется, я знаю, кто он, – вмешался де Молак, взволнованный и побледневший. – Ваше величество, у меня есть основания предполагать, что перед вами находится этот изменник, граф Нортумберлендский. – Клянусь распятием, – закричал Иоанн, – если это действительно граф Нортумберлендский, он не увидит завтрашнего дня! – Сэр Питер лжет, – холодно возразил рыцарь. – Я – не граф Нортумберлендский. – Проклятие! Так кто же такой? – грозно крикнул король. – Маршал, герольды, сорвите с него шлем! – Стойте! – воскликнул рыцарь, обнажая меч. – Первый, кто осмелится меня тронуть, умрет на месте! – Ваше величество... ваше величество... – вмешался старый граф Сюррэй. Наклонившись к королю, он шепнул ему что-то на ухо. – К черту правила рыцарства! – проворчал Иоанн. – Я не допущу, чтобы какой-то самозванец над нами издевался. Слушай, рыцарь, обвинения твои ни на чем не основаны. Я не даю разрешения на испытание мечом. – Он лжет! Каждое его слово – ложь! – закричал де Молак. – Я не лгу, – невозмутимо повторил король. – Я обвиняю сэра Питера в том, что он незаконно подверг пытке двух пленников... – Воров, объявленных вне закона, – перебил де Молак. – Я обвиняю его в том, что он держит в своей темнице узника – рыцаря Реджинальда де Траси. Он покушался на жизнь графа Нортумберлендского, который по его проискам был изгнан из Англии и чьим поместьями он незаконно завладел. Эти слова рыцарь произнес во всеуслышание. Иоанн спросил своего фаворита: – Что ты скажешь в ответ на эти обвинения? – Все это – гнусная ложь! Вашему величество я готов дать отчет во всех своих поступках, – заявил де Молак. – Я не верю этим наговорам! – крикнул король, обращаясь к рыцарю. Но граф Сюррэй снова вмешался, встретив поддержку среди придворных. Де Молака попросили удалиться, и в течение нескольких минут король совещался с вельможами и маршалами. Когда закончилось совещание, герольды затрубили в трубы, и маршал провозгласил: – Согласно правилам рыцарства сэр Питер должен принять вызов. Завтра в восемь часов утра состоится поединок, но неизвестный рыцарь должен дать клятву, что свое имя он откроет в случае, если останется победителем. – Эту клятву я даю, – сказал рыцарь. – А теперь, – продолжал маршал, – удалитесь в павильон, который находится в конце арены. До завтрашнего дня вам не разрешается оттуда выходить. К вам будут допущены только священник и оружейных дел мастера. – Не жди пощады, если завтра ты будешь побежден, – добавил Иоанн. – Пощады я не прошу, – холодно ответил рыцарь, – а оружейник мне не нужен. С этими словами он пришпорил лошадь и в сопровождении своего оруженосца отъехал в дальний конец арены. Здесь они оба спрыгнули с седел, отдали своих лошадей конюхам и вошли в павильон. (обратно)ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ПОЕДИНОК
Оставшись наедине с Альриком, Робин сказал: – Не нравится мне эта отсрочка до утра. Не понимаю, почему мы не могли немедленно начать поединок. – Должно быть, это не отвечает правилам рыцарства, – отозвался Альрик. – Ничего не поделаешь. Хорошо, что Иоанн в конце концов согласился на поединок. Я боялся, что он придет на помощь своему фавориту и ответит мне отказом. – Он бы это сделал, если бы мог. – Да, и если бы в дело не вмешался граф Сюррэй. Во всяком случае мы своего добились, но теперь нужно смотреть в оба – я опасаюсь предательства. У входа в павильон была поставлена стража; Робину и Альрику запретили выходить из павильона, но обещали доставить все необходимое. Вскоре принесли ужин. Робин снял шлем, но не поднял металлической сетки, закрывавшей его лицо. Стемнело. Любопытные, явившиеся поглазеть на турнир, разошлись по домам, замер шум на арене, звезды усыпали небо. Робин рано лег спать. Альрик, закутавшись в плащ и спустив на лицо капюшон, остался сторожить у двери. Тревожные мысли бродили у него в голове; в тот день многое показалось ему подозрительным. Когда они стояли перед королевской трибуной, Альрик заметил в толпе зевак Маленького Джона. Встретившись с ним глазами, он увидел, что великан делает ему знаки. Альрик решил при первом же удобном случае с ним переговорить, но сейчас от этой мысли пришлось отказаться, так как нельзя было уйти из павильона. Стоя в дверях, он рассеянно следил за рабочими, готовившими арену к завтрашнему поединку. Вдруг в нескольких шагах от него проехал конный отряд, и в одном из всадников Альрик узнал Уолтера Черного. Рядом с ним ехал закутанный в плащ человек, ростом и фигурой походивший на Арнульфа. Их появление показалось Альрику очень странным. Ему хотелось посоветоваться с Робином, но он не посмел его разбудить. Перед поединком Робин Гуд должен был выспаться и проснуться свежим и бодрым, так как де Молак был опасным противником. Так прошла ночь. На рассвете Робин проснулся и, заставив Альрика прилечь, сам стал на страже у двери. Вскоре после восхода солнца сотни зрителей расположились у барьеров, окружавших арену. Плотно позавтракав, Робин надел свои доспехи, а, Альрик заботливо осмотрел все застежки и скрепы на броне и шлеме. Было около восьми часов, когда Робин вышел из павильона и велел привести лошадей. Лошади были уже оседланы, но Альрик к великому своему изумлению заметил, что у седла Робина подрезана подпруга и стремянные ремни. Робин вспылил и накинулся на конюхов, которые привели лошадей. Однако, те утверждали, что знать ничего не знают, так как лошадей седлали не они. – По-видимому, мы имеем дело с человеком, который не останавливается перед подлостью, – сказал Робин. – Нужно держаться настороже. Альрик наскоро починил подпругу и ремни и поменялся с Робином седлами. Было уже около восьми часов. Не коснувшись стремени, Робин ловко вскочил в седло, и из толпы зрителей вырвались одобрительные возгласы. Объехав вокруг арены, он остановился возле павильона де Молака, где висел щит с гербом его противника. Когда на королевскую трибуну взошел Иоанн со своими приближенными, Робин ударил копьем по щиту де Молака и громко произнес: – Сэра Питера де Молака я объявляю презренным негодяем. Вызываю его на смертный бой и клянусь мечом доказать правоту своих слов! Затем он отъехал в противоположный конец арены. Вышел маршал с герольдом и возвестил о начале поединка. Де Молак верхом на красивом черном коне занял место возле своего павильона, а маршал стал излагать условия поединка. Поединок начинать копьями. Если после трех схваток оба бойца останутся невредимыми и усидят на конях, король решит дальнейший ход поединка. Если оба бойца потеряют коней, они продолжают бой пешими; вооружение меч или алебарда; каждый рыцарь может избрать это оружие в случае, если его копье сломается. Если король опустит жезл, поединок должно прекратить. Герольд затрубил в трубы, маршал бросил перчатку, и противники, опустив копья, пришпорили коней и поскакали друг другу навстречу. Встретившись они на середине арены. Робин владел копьем менее ловко, чем его противник, и первый удар не попал в цель: острие копья только скользнуло по шлему. Де Молак целился Робину в грудь, но тот принял удар на щит, и копье с треском сломалось. От сильного толчка Робин покачнулся, но удержался в седле, и противники отъехали – каждый к своему павильону. Толпа приветствовала бойцов громкими криками, а Альрик, подъехав к Робину, спросил, не ранен ли он. – Все благополучно! – крикнул Робин Гуд. – В следующий раз я не промахнусь. Де Молаку подали новое копье, и по сигналу противники снова съехались на середине арены. На этот раз Робин нанес де Молаку удар по шлему, и сэр Петер едва не слетел с коня. Робин сломал свое копье, но, не растерявшись, тотчас же схватил тяжелую алебарду, привешенную к луке седла. Осадив лошадь, он замахнулся алебардой, но де Молак ловко уклонился от удара. Однако, лошадь ему не удалось спасти; алебарда вонзилась ей в лопатку, и через секунду всадник и конь лежали на земле. Теперь перевес был на стороне Робина, но он не пожелал воспользоваться своим преимуществом и, соскочив с коня, выждал, пока де Молак не поднялся с земли. – Защищайся, бесчестный рыцарь! – крикнул он своему врагу. Де Молак тоже схватил алебарду; пешие, они продолжали бой, осыпая друг друга ударами. Любой из этих ударов мог оказаться смертельным, но броня защищала обоих. Наступая на де Молака, Робин заставил его отступить к королевской трибуне и здесь нанес ему страшный удар в бедро, латы треснули, лезвие алебарды вонзилось в тело, и сэр Питер тяжело рухнул на землю. – Пробил твой последний час, если ты не сознаешься в своих преступлениях! – крикнул Робин. Сжимая обеими руками алебарду, он ждал ответа своего врага, но раньше, чем тот успел раскрыть рот, король Иоанн опустил жезл и закричал: – Довольно! Довольно! Прекратите бой! Маршалы и герольды, все время державшиеся поблизости, бросились вперед, но Робин воскликнул: – Прочь! Не мешайте! Я не позволю себя дурачить! Не успел он выговорить эти слова, как несколько человек набросились на него и схватили за руки. – Измена! Предательство! – закричали в толпе. Между тем оруженосец и слуги унесли де Молака с арены. Король, слышавший восклицание Робина, побледнел от гнева. – Этого я не потерплю! – воскликнул он. – Как ты смеешь восставать против моего решения?.. Эй вы, – повернулся он к герольдам, – отведите его в павильон, и пусть он оттуда не выходит. Мы узнаем, кто он такой. А если сэр Питер умрет, этот неизвестный рыцарь будет обезглавлен! К Робину подъехал Альрик, ведя на поводу его лошадь. – Бежим! – прошептал он. – Я перекинулся несколькими словами с Маленьким Джоном. Он говорит, что нас предали. Нам грозит серьезная опасность. Робен растолкал окруживших его герольдов, вскочил на коня и раньше, чем кто-либо успел опомниться, уже скакал вместе с Альриком в дальний конец арены. Там за барьером мелькали в толпе знакомые лица стрелков. Лошади взяли барьер, и толпа расступилась, очищая путь всадникам. Турник происходил на большом лугу в окрестностях города. Вырвавшись из толпы, Робин и Альрик пришпорили коней и поскакали по полю. Сзади доносился топот, но они не боялись погони, так как далеко опередили преследователей. Вдруг вдали увидели они группу рыцарей и воинов, преграждавших им путь. – Альрик, мы во что бы то ни стало должны пробиться, – крикнул Робин Гуд. – Кажется, рыцарей только двое. Ты займись тем, что сидит на серой кобыле, а я уберу с дорогу второго. Альрик схватил копье, Робин крепче сжал рукоятку алебарды, и вдвоем они смело поскакали навстречу врагам. (обратно)ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ БУНТ В ЛЕЙЧЕСТЕРЕ
По-видимому, всадники, перерезавшие путь Робину и Альрику, догадались, что эти двое уезжают из Лейчестера против воли короля и распорядителей турнира. Быть может, в Робине они узнали того неизвестного рыцаря, который накануне бросил вызов де Молаку. Как бы то ни было, но они твердо решили задержать беглецов. Опасаясь, что рыцарь с оруженосцем свернет в сторону, они рассеялись по всему полю, но эта тактика оказалась на руку Робину. Разогнав лошадь, он налетел на одного из закованных в броню рыцарей и ударил его алебардой по голове. Тот, как мешок, свалился на землю, а Альрику, посчастливилось ранить лошадь второго рыцаря и прорваться вперед. Теперь путь был свободен, и беглецы, пришпорив коней, свернули на боковую дорогу и, объехав Лейчестер, направились к лесу, у опушки которого жил Эльтун. Оглянувшись, Альрик убедился, что их преследуют. – Нужно оставить этих парней далеко позади, – крикнул он Робину. – Боюсь, что мы их приведем к самому дому Эльтуна. К счастью, у обоих лошади были выносливые и мчались, как ветер. Преследователи начали отставать и наконец отказались от погони, а Робин и Альрик пришпоривали коней, пока не добрались до леса. У ворот дома Робин спрыгнул с седла, а Эльтун вышел ему навстречу. – Ну, Робин, как дела? – осведомился он. – Ты проучил этого негодяя? – Дела неплохи, но могли быть лучше. Де Молака я ранил, а король велел прекратить поединок. – Любимца своего защищал? Ну, ничего! Когда-нибудь он за всеответит. Робин, почему твоя лошадь вся в мыле? Что-нибудь случилось? – Да! Иоанн хотел нас задержать. Мы ускакали. Пришлось гнать лошадей, чтобы уйти от погони. Мы боялись, что они нас проследят до твоего дома. – Не велика беда! Я сумею защитить свой дом от королевских наймитов. – Кажется, все обошлось благополучно, – отозвался Робин. – Они остались далеко позади, а нам пора отправляться в путь, – нас ждут в лагере. На этот раз мне не удалось покончить с де Молаком, нужно посоветоваться с друзьями и придумать какой-нибудь другой план. – А как быть с этим раненым рыцарем? Он останется здесь? – Нет, мы возьмем его с собой; сделаем для него носилки и повесим между двумя лошадьми. Сейчас я пойду поговорю с ним. Рыцарь Черного Ворона чувствовал себя значительно лучше, и его можно было перевезти в лесной лагерь. К полудню вернулся из Лейчестера Маленький Джон со стрелками и передал Робину поручение от Вилля Рыжего: Вилль решил остаться в Лейчестере и узнать, смертельна ли рана де Молака и какие шаги думает предпринять король; Робина он просил не ждать его. После полудня стрелки тронулись в путь и к вечеру следующего дня прибыли в лагерь. Отец Тук взял на себя уход за раненым, а Робин созвал своих молодцов на совещание. Стали обсуждать что делать дальше. Альрик объявил, что домой он не вернется, пока не решена судьба де Молака. Робин его одобрил. Вдруг в лесу прозвучал рог. – Слушайте! – воскликнул Робин. – Это возвращается Вилль Рыжий. Я сразу узнал его сигнал. Действительно, через несколько минут к костру подошел Вилль Рыжий с Нэдом Локсли. Вид у него был измученный, одежда разорвана, лицо и руки запачканы кровью. – Вилль, что с тобой? – бросились к нему товарищи. – Да ничего, пустяки, – ответил Рыжий. – Дайте промочить горло, я чуть дышу. Толстяк Тук подав ему огромную кружку пива, и Вилль в одну секунду осушил ее до дна. – Вот это дело! – с довольной улыбкой сказал он. – Я сразу ожил. Теперь дайте мне поесть. Ему принесли оленины и хлеба, и он с жадностью принялся за еду. Потом растянулся на траве и воскликнул: – Вот высплюсь хорошенько – и опять буду здоров, как бык. – Вилль, не томи нас! – не выдержал Робин. – Говори, какие вести ты привез. Что делается в Лейчестере? – Плохо там было, Робин, очень плохо. Хоть я не мастер рассказывать, ну да уж так и быть расскажу. – Да ты не тяни, говори скорее! – Когда ты с Альриком ускакал, за вами, конечно, послали погоню. Но в толпе много было людей, которые только того и хотели, чтобы ты прикончил де Молака. Очень уже он притесняет народ. Многие негодовали, что король велел прекратить поединок, а тебя задержать. Когда послали погоню, толпа первых всадников пропустила, а потом решила никого не пропускать. Тут как раз подъехал шериф Рэно с рыцарями и солдатами, а толпа стоит и ни с места. И вот народ стал кричать, что не позволит тронуть рыцаря Черного Ворона, он сражался по всем правилам, а де Молак – трус. Услышав это, Рэно и капитан копьеносцев – какой-то итальянец граф Фалько – велел своим солдатам врезаться в толпу и пустить в дело копья. Человек десять были ранены и помяты. Вот тогда-то в толпе вспыхнуло возмущение; народ вооружился, кто чем мог, и набросился на королевских наймитов. Троих-четверых убили. Славная завязалась драка, но Иоанн послал на помощь шерифу и итальянцу отряд конных стрелков, и те стали стрелять прямо в толпу. Народ побежал в город, воины проследовали, и на улицах начался бой. Наемники убивали не только мужчин, но даже женщин и детей. Тогда горожане вбежали в дома, взяли луки и стали обстреливать врага из окон. Кончилось тем, что шерифу и Фалько пришлось увести свои отряды. Ночью в город вошел новый отряд. Они будто бы искали зачинщиков, а на самом деле убивали всех встречных, врывались в дома и подожгли несколько лачуг. Говорят, все это делалось по приказу Иоанна. Стрелки перебили рассказчика гневными возгласами. – Продолжай, Вилль, – сказал Робин, хмурясь и нервно теребя бороду. – Конец выходкам шерифа положил старый граф Сюррэй. Он да еще кое-кто из рыцарей почестнее – Гуго де Биго, Роджер де Монфише – въехали в город и разогнали солдат. Горожане окружили графа Сюррэя и стали требовать, чтобы король их принял и разобрал дело. Я тоже участвовал в драке, а потому на следующее утро отправился вместе с горожанами в замок Эмби, где находился Иоанн. Нас ввели в залу, и горожане начали жаловаться королю за зверство его воинов и требовать, чтобы шерифа и Фалько предали суду. Иоанн ругался и клялся, что перевешает всех жителей Лейчестера, а граф Сюррэй хоть и шептал ему что-то на ухо, но ничего не мог поделать. Король позвал стражу, и нас вытолкали из замка, словно стадо овец, да вдобавок еще наградили тумаками. Говорят, после нашего ухода Иоанн крупно повздорил с друзьями графа Сюррэя и вскоре после этого уехал в Лондон. Я вертелся в Лейчестере, пока не узнал, что де Молак, тяжело раненый, находится в замке. Больше нечего было мне делать, и я решил отправиться восвояси. У ворот города повстречался мне этот негодяй Арнульф с солдатами. На беду он меня узнал, но я пришпорил лошадь и ускакал. За мной погнались трое, а я, по глупости, решил их проучить, хотя и мог свободно удрать. Драка у нас завязалась на лужайке в лесу. Вдруг, откуда ни возьмись, на подмогу моим врагам выскочили еще несколько человек. После я узнал, что Рэно и Фалько разослали своих людей искать тебя, Робин. Я получил две пустячных раны, но моя лошадь была убита. Не мешкая, я пустился наутек и спрятался в чаще леса. А потом пешком побрел в лагерь. По дороге встретил несколько конных отрядов, но они меня не видели. Целый день я ничего не ел, а сейчас меня ко сну клонит. Так закончил Вилль Рыжий свой рассказ. Долго еще волновались стрелки и посылали проклятия по адресу короля Иоанна. Несдобровать бы ему – попадись он только им в руки! Опасаясь, как бы солдаты ночью не вторглись в лагерь, Робин всюду расставил караульных и разослал разведчиков в окрестные деревушки. Час был поздний, и совещание отложили на следующий день. (обратно)ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ НЕОБЫЧНАЯ СВАДЬБА
На следующее утро в лагере только и разговору было о бунте в Лейчестере. На совещании решили перебраться дальше на север, где не угрожала опасность столкновения с королевскими войсками. Благодаря заботливому уходу, рыцарь Черного Ворона был на пути к выздоровлению. Робин посоветовал ему остаться в лесу и здесь ждать известий от баронов, задумавших идти против короля. Новый лагерь находился неподалеку от Хекнолла, и Элен-э-Дэл, стосковавшийся по своей Берте, решил отправиться в родную деревню. Ушел он рано утром, а Маленький Джон и Альрик проводили его до проезжей дороги. Несколько дней погода хмурилась, но сегодня выдался первый ясный день, и стрелки решили этим воспользоваться, чтобы отпраздновать новоселье. Когда Альрик с Джоном вернулись в лагерь, отец Тук уже покрикивал на женщин, занимавшихся стряпней. – Эй, малютка! – подозвал он Маленького Джона. – Помоги выкатить бочки с элем! Да смотри, не разбей! Если разобьешь – ни одной кружки не получишь! Джон, ухмыляясь, поспешил ему на помощь. После сытного обеда начались игры и состязание в стрельбе, а вечером, когда стемнело, стрелки уселись вокруг костров и затянули песню. Не хватало только Элен-э-Дэла и его арфы, и стрелки несколько раз вспоминали о своем товарище. Было уже поздно, когда в лесу прозвучал рог: караульные предупреждали стрелков, что к лагерю приближается человек. Это был менестрель, вернувшийся их Хекнолла. Молча сел он у костра, не отвечая на приветствия друзей. – Элен, дружок! – закричал Маленький Джон. – Мы по тебе скучали. Без тебя и праздник не в праздник. Хорошо, что ты рано вернулся! Сыграй нам на арфе. – Нет, Маленький Джон, больше я никогда не прикоснусь к струнам, – грустно отозвался менестрель. – Как так? Или что-нибудь случилось? Ты болен? Тебя обидели? Говори, кто обидчик! Я ему отомщу! И великан ласково обнял Элена за шею. – Нет, Маленький Джон, – вздохнул Элен, – ты мне не можешь помочь, сердце мое разбито. В ответ на расспросы товарищей, Элен признался, что Берта потеряна для него навсегда. – Как? Неужели бедная девушка умерла? – осведомился Робин. – Ох, лучше бы она умерла! Но она жива и выходит замуж за этого отвратительного старика барона де Брасье. – Как скоро она тебя забыла! – Нет, Робин, кажется, у бедняжки не было выбора. Слушайте! Я вам расскажу все, что мне самому известно. Было около полудня, когда я добрался до Хекнолла. Я твердо решил поговорить с Уолтиофом и добиться свидания с Бертой. Подхожу я к его дому и вижу, что дверь заколочена, а окна закрыты ставнями. Во дворе не видно ни души. Прождал я около часу, надеясь, что кто-нибудь из его семьи вернется, а потом стал расспрашивать соседей Уолтиофа, но все они отмалчивались. Наконец одна добрая женщина надо мной сжалилась и сказала, что Уолтиоф с семьей переехал в замок барона, а Берту завтра выдают замуж за старика. В деревне распространился слух, будто я умер, и барон этим воспользовался; говорят, что Уолтиоф продал ему свою дочь за большую сумму денег... Завтра свадьба! Больше мне не на что надеяться! И бедный Элен-э-Дэл закрыл лицо руками. – Не грусти, сынок! – воскликнул Робин. – Я знаю, песни ты петь умеешь, но в воины не годишься, зато мои молодцы любят драться. Пора нам проучить зазнавшихся баронов, да и самим повеселиться!.. Скажи мне, Элем, ты все еще любишь эту девушку? – Больше жизни! – И хочешь на ней жениться? – Робин, не шути! И слеза скатилась по щеке менестреля. – Успокойся, я не шучу. Где будет свадьба? В замке? – Нет, в церкви св. Патрика. – В котором часу? – В десять утра. – Отлично! Я явлюсь на свадьбу! Друзья, – крикнул он стрелкам, – завтра за час до рассвета мы отправляемся в путь. Со мной поедет отец Тук и еще человек двадцать. Ты, Элен, надень праздничное платье, Тук поедет в рясе, а вы все возьмите с собой оружие. Робина стали спрашивать, что он задумал, но он только усмехался и молчал. На рассвете Робин, Тук, Элен-э-Дэл в нарядном костюме и двадцать стрелков с Нэдом Локсли во главе отправились в Хекнолл. По дороге они заехали в деревушку Саксдэл, где Робин купил несколько темных плащей для себя и своих товарищей. Тук, Маленький Джон и еще два-три человека надели плащи и, оставив своих лошадей на попечение Нэда Локсли, последовали за Робином. Нэд, получив инструкции от Робина, остался со стрелками в Саксдэле, а маленькая группа людей, возглавляемых Робином, пешком направилась к церкви, которая находилась на полпути между деревней Хекнолл и замком де Брасье. На паперти толпились крестьяне, пришедшие поглазеть на свадьбу; тут же сновали бродячие фокусники и разносчики. Слышался смех, громкие разговоры. Робин и его друзья, смешавшись с толпой, болтали и шутили с крестьянами, пока не прозвучали трубы, возвещавшие о прибытии де Брасье. Старый барон, в богатой одежде, верхом подъехал к церкви, поклонился направо и налево и сошли с лошади. Его сопровождали оруженосцы и человек двадцать вооруженных солдат. Народ вслед за бароном повалил к церкви; никто не обратил внимания на шестерых рослых парней, закутанных в темные плащи и занявшие места у входа. На ступенях паперти сидел человек с надвинутым на лицо капюшоном. В руках он держал арфу. Когда к церкви подошел Уолтиоф под руку с дочерью – миловидной белокурой девушкой – музыкант, перебирая струны, запел грустную песню. Когда Берта проходила мимо менестреля, он заглянул ей в лицо. Девушка встретилась с ним глазами и громко вскрикнула. – Что с тобой? – заворчал Уолтиоф, дернув ее за руку. – Или этот нищий певец тебя сглазил? Пусть он убирается восвояси, а не то я спущу с него шкуру. – Нет, нет, ничего, отец, – дрожащим голосом сказала Берта и покорно пошла за отцом. Все заняли свои места, загремел орган, и служба началась. Не успел священник объявить, что Роберт де Брасье, барон английский и нормандский, сочетается браком с Бертой, дочерью Уолтиофа из Хекнолла, как кто-то крикнул на всю церковь: – Стойте! Тут что-то неладно! Кричал человек в плаще с капюшоном, бросавший тень на красивое загорелое лицо и блестящие голубые глаза. Священник сурово посмотрел на незнакомца. – Как ты смеешь прерывать церемонию? Что ты можешь возразить против этого брака? – У девушки есть другой жених, а этот старикашка не годится ей в мужья! В толпе раздался хохот, а барон хотел было обнажить меч, но судорога в ноге заставила его отказаться от этой мысли. Берта испуганно вскрикнула и схватила отца за руку, когда к решетке, отделявшей алтарь от церкви, решительными шагами подошел менестрель. – Кто этот негодяй? Прогоните его! – закричал де Брасье. Слуги барона смущенно переглядывались, не зная, что делать, а Робин Гуд затрубил в рог. В ту же секунду двери распахнулись, и в церковь ворвались двадцать рослых молодцов в зеленых костюмах. Их вел Нэд Локсли. По знаку Робина, каждый стрелок поднял свой лук и натянул тетиву, целясь в наемников барона де Брасье. Те спрятали мечи и кинжалы в ножны, по-видимому, не желая вступать в драку со стрелками. Робин Гуд сбросил плащ; его примеру последовал Элен-э-Дэл. Узнав своего жениха, Берта обвила руками его шею, не обращая внимания на брань отца и гнев барона. – Ну, живей; священник! – воскликнул Робин. – Обвенчай эту парочку! И он указал на Берту и Элена. – Я не могу... я отказываюсь, – залепетал священник. – Хочешь ли ты взять эту девушку в жены? – спросил Робин Элен-э-Дэла. – Это самое заветное мое желание. – А ты, Берта, хочешь быть его женой? – Да, – прошептала девушка. – А барон де Брасье тебе не по душе? – Я его ненавижу! – А ты согласен выдать свою дочь за того, кого она любит? – обратился Робин к Уолтиофу. – Я... я... – заикаясь, начал старик, но запнулся и умолк. – Отвечай! – сурово прикрикнул на него Робин. – Если тебе нужды деньги, я заплачу больше, чем обещал тебе барон. Де Брасье хотел было вмешаться, но Робин оборвал его: – Молчи! Тебя никто не спрашивает... Говори, Уолтиоф, согласен ли ты на этот брак? – У меня нет выбора... – В таком случае, священник, делай свое дело. – Я отказываюсь, если барон де Брасье не дает своего согласия. – В его согласии мы не нуждаемся, – заявил Робин. – Да и ты нам не нужен, так как я обо всем позаботился: Эй, отец Тук! Иди сюда и обвенчай эту парочку! – С большим удовольствием, – отозвался толстяк, пробиваясь вперед. – Ты кто такой? – возмутился священник. – Я отлучу тебя от церкви! Ты не имеешь права священослужительствовать! – Я не боюсь я твоего отлучения! Ну, дети мои, вы готовы? – Да, – ответил Элен-э-Дэл. – Идите сюда и станьте передо мной! Не обращая внимания на проклятия барона и негодующие возгласы его слуг, отец Тук совершил церемонию бракосочетания, и через пять минут Берта стала женой Элен-э-Дэла. По окончании церемонии Робин шепнул несколько слов на ухо Маленькому Джону, а тот, усмехнувшись, подозвал шестерых стрелков и с их помощью отнял оружие у воинов барона. Затем Робин со своими друзьями вышел из церкви, а барон ковылял за ними, осыпая их проклятиями. – Развеселись! – сказал ему Робин. – Мы хотим, чтобы ты поплясал на свадьбе. – Плясать я не буду, а вот ты еще попляшешь, негодяй! – И я попляшу, да только после тебя! Ну-ка, начинай! – Я не могу я плясать! У меня подагра... я слишком стар... – Вот тебе и на! Слишком стар, а хочешь жениться! Пляши, пляши! Элен, сыграй-ка что-нибудь! Элен заиграл веселый танец, и как ни ругался старый барон, но пришлось ему пуститься в пляс. Маленький Джон концом лука подталкивал его в спину, а де Брасье подпрыгивал и вертелся, пока ноги не отказались ему служить. – Веселей, веселей! – кричали стрелки, а зрители хлопали в ладоши и хохотали. Наконец барон выбился из сил и сел на траву. Стрелки бросили отцу Берты туго набитый кошелек, а всех крестьян угостили медом и элем. Робин послал Нэда Локсли привести лошадей, Берту усадил на лошадь Элена, стрелки затрубили в рог и ускакали. (обратно)ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ПЕРЕГОВОРЫ
Вернувшись в лагерь, стрелки рассказали своим товарищам о том, как подшутили над де Брасье и как старый барон плясал на свадьбе своего соперника. Все поздравляли Элена и Берту и в честь молодых устроили пир. Однако в самый разгар веселья, когда солнце склонилось к западу, из чащи леса донесся звук рога, а затем сигналы раздались неподалеку от лагеря. Через несколько минут на поляну вышел караульный и, подойдя в Робину, сказал ему что-то вполголоса. Робин Гуд повернулся к обступившим его стрелкам и крикнул: – Ребята, странные гости пожаловали к нам в лес и хотят вести со мной какие-то переговоры. Я их позову сюда в лагерь, чтобы все вы могли слышать, о чем они будут говорить. От вас у меня не было тайн и никогда не будет. Гостей не обижайте, но оружие держите под рукой, чтобы в случае измены наказать предателей. – Это излишняя предосторожность, Робин, – вмешался рыцарь Черного Ворона. – О предательстве не может быть и речи. Я знаю, с какой целью они пришли сюда, и, признаюсь, давно уже их поджидал. – Так-то оно так, – отозвался Робин, – но когда имеешь дело с такими знатными господами, нужно держать ухо востро и быть ко всему готовым. Рыцарь нахмурился, но промолчал, а Робин сказал караульному: – Том, приведи их сюда! Том ушел, а через пять минут на поляну вышли четыре рыцаря. Трое были одеты в нормандское платье, а в четвертом Робин сразу узнал английского тана Эдуарда Боддингтонского, с которым дед Альрика поддерживал дружеские отношения. Впереди шел высокий старик в кольчуге, вооруженный мечом и кинжалом. Это был граф Сюррэй, который на турнире в Лейчестере выступил на защиту Робин Гуда. Он первый поклонился и приветствовал стрелков. – Добро пожаловать, – отозвался Робин. – Случалось нам встречаться с приближенными короля, но до сих пор эти встречи происходили на поле битвы, а не в мирном лагере. – Вы говорите обо мне и о моих друзьях, как о приближенных короля, – сказал граф Сюррэй. – Действительно, было время, когда мы сражались за него, и даже готовы были пожертвовать жизнью, но Иоанн оказался кровожадным тираном, и больше он не может рассчитывать на нашу поддержку. Мы, норманнские бароны, соединились с англичанами и решили положить конец его беззакониям. Вы видите – с нами пришел к вам и английский тан Эдуард. – Норманны вы или англичане – для меня не имеет значения, – ответил Робин. – Важно то, что вы – вельможи и рыцари, а, значит, нам, простым людям, нужно вас остерегаться. – Мы пришли с мирными целями, – вмешался тан Эдуард. – Мы хотим предложить вам дружбу, но если вы нам не доверяете, мы можем отдать свое оружие. – Зачем? Вы окружены моими молодцами, и следовательно мы можем не опасаться предательства. – Вы не доверяете рыцарям, – продолжал тан Эдуард, – и, однако, одного из них вы приютили в своем лагере. – Вы говорите о графе Нортумберлендском? Да, ему мы дали приют. Больной и беспомощный, он искал у нас защиты. Мы знаем, что он – враг Иоанна и нас не предаст. Граф Сюррэй нахмурился. – Если вы меня и моих спутников считаете врагами, что боюсь, что дальнейшие переговоры ни к чему не приведут. Быть может, один из ваших стрелков поможет нам выбраться из леса на опушку, где мы оставили лошадей. В эту минуту один из рыцарей, сопровождавших графа, красивый рослый мужчина, выступил вперед и, протягивая руку рыцарю Черного Ворона, воскликнул: – Граф Нортумберлендский! Какая удивительная встреча! Я думал, что вас уже нет в живых. Дружище, неужели вы забыли Гуго де Биго? А ведь мы сражались с вами бок о бок. – Я сразу вас узнал, Гуго, – ответил рыцарь Черного Ворона, крепко пожимая ему руку. – Вы словно из могилы встали, Роберт. Расскажите, как вы здесь очутились? – Длинная эта история. Когда-нибудь все узнаете, а пока я вам только скажу, что Робин Гуду и его стрелкам я обязан жизнью. Уговорим же его выслушать предложение графа Сюррэя. Я уверен, он присоединится к вам, когда узнает, что вы защищаете правое дело и помышляете только о благе народа. – Робин, – вмешался Альрик, который уже успел поздороваться с таном Эдуардом, – выслушай их! Может быть, их предложение тебе понравится. – Боюсь, что рыцари больше помышляют о своих интересах, чем о благе народа, – усмехнулся Робин. – Но если к нам они пришли за помощью, то мы должны их выслушать. Говорите, граф Сюррэй! – В присутствии ваших стрелков? – От них у меня нет тайн. – В таком случае я приступаю к делу. Мы четверо – я, Гугу де Биго, Вильям Маршалл и тан Эдуард – действительно ищем у вас поддержки. Бароны английские и норманнские объединились и поклялись покарать Иоанна за все его злодеяния. Король окружил себя какими-то проходимцами, приехавшими с континента, которые помогают ему творить суд и расправу. Одним из них является этот итальянец Фалько со своей шайкой головорезов. Чтобы иметь деньги на содержание наемных войск, Иоанн пытается повышать налоги. О последнем его преступлении вы, конечно, слыхали. Я говорю об избиении ни в чем неповинных горожан в Лейчестере. Это переполнило чашу, и мы четверо открыто выразили Иоанну свое возмущение. Он нам ответил оскорблениями и угрозами, и эти угрозы, несомненно, привел бы в исполнение, если бы нас не поддержали друзья. Тогда он надеется привлечь на свою сторону горожан, но мы-то прекрасно знаем, что они стоят за нас. Мы, бароны, решили добиться от Иоанна подписания грамоты, дарующей права и свободу всем англичанам. Наши друзья собрались в Стэнфорде, и туда-то мы и намереваемся отправиться. Затем мы отыщем короля и вырвем у него обещание править справедливо. Если он откажется, мы его принудим. – Каким образом вы его принудите? Готовы ли вы в случае необходимости пустить в ход оружие? Граф Сюррэй нерешительно осмотрелся по сторонам. Робин заметил этого взгляд и воскликнул: – Можете говорить спокойно. Здесь нет ни одного предателя. – Я вам отвечу на ваш вопрос. Одной клятвой мы не удовольствуемся. Иоанн должен подписать хартию; если же он откажется, мы обнажим мечи. По-видимому, этот ответ понравился стрелкам, внимательно прислушивавшимся к словам Сюррэя. Одобрительный шепот пробежал по рядам. – Чем же мы можем вам помочь? – спросил Робин. – Сейчас я подхожу к самой сути дела. Речь идет не о заговоре баронов против короля. Сам народ должен принять участие в этом движении и вместе с нами защищать свои интересы. Мы сражаемся за свободу и равные права для всех и хотим привлечь на свою сторону представителей народа. Население Лондона – за нас, и я буду счастлив, если вы, Робин, согласитесь действовать с нами заодно. Робин Гуд усмехнулся. – Мне кажется, вы не договариваете, граф. – Да, есть еще одна причина, почему я ищу вашей помощи. Вы стоите во главе сильного отряда стрелков, смелых, как львы, и твердых, как сталь. Если на нашем пути встретятся серьезные препятствия, вы нам поможете их преодолеть. – Вот теперь мы действительно добрались до сути дела! – засмеялся Робин. – Ну, молодцы, что вы скажете на это предложение? – обратился он к стрелкам. – Куда ты пойдешь, туда и я пойду! – воскликнул Маленький Джон. – Я тоже, – отозвался Тук. – Правда, человек я миролюбивый, но если дело дойдет до драки, я буду в первых рядах. Многие стрелки высказались за то, чтобы выступить вместе с баронами против короля. Иные колебались, и Робин сказал им: – Друзья, все вы слышали, о чем здесь шла речь. Подумайте, потолкуйте, а завтра я вас спрошу, на чем вы порешили. Помните одно: если мы примем участие в этом походе против короля, мы будем защищать прежде всего интересы народа и позаботимся о том, чтобы в хартию, о которой говорил граф Сюррэй, были включены статьи, дарующие права не только знати, но и простолюдинам... А вы, рыцари, останьтесь с нами до утра. Сегодня мы празднуем свадьбу нашего менестреля и вас приглашаем на пир. Завтра утром вы узнаете наше решение. – Это любезное приглашение следует принять! – воскликнул Гуго де Биго. – Я лично с удовольствием останусь здесь до утра, – подхватил тан Эдуард. – Альрик, познакомь нас с твоими друзьями. Альрик охотно исполнил эту просьбу, и снова начался пир, прерванный появлением незваный гостей. Поздно вечером, когда почти все стрелки улеглись спать, Робин, Альрик, Маленький Джон и рыцари уселись у костра и беседовали до рассвета. Альрик рассказал о своем отце, томящемся в темнице де Молака, а Гуго де Биго дал клятву сделать все, чтобы его освободить. – Мы добьемся от Иоанна, чтобы де Молак был призван к ответу и понес заслуженное наказание, – сказал тан Эдуард. – А вам, Робин, мы обещаем щедрую награду за вашу помощь. Вам будут возвращены все права, вы получите поместье и титул. – Не нужны мне поместья и титулы, – улыбнулся Робин. – Мой дом – Шервудский лес, и отсюда я никуда не уйду. Если мои молодцы решат идти за вами, мы пойдем, не требуя награды и добиваясь только защиты прав простого народа. На следующее утро стрелки большинством голосов решили выступить против короля. Условились, что через три дня сто двадцать человек стрелков, одетых в зеленые костюмы и вооруженных луками и мечами, явятся в Ковентри – город в Уорвикском графстве, где их встретят тан Эдуард Боддингтонский, де Биго и граф Сюррэй. (обратно)ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ В ВИНДЗОРЕ
Во главе сильного отряда стрелков Робин Гуд, Альрик и рыцарь Черного Ворона вступили в Ковентри. Горожане с любопытством смотрели на рослых здоровых парней, одетых в зеленые костюмы, а узнав Робин Гуда, разразились восторженными возгласами. По-видимому, они недоумевали, как он осмеливается открыто въезжать в город, и удивление их усилилось, когда на базарной площади стрелков встретил граф Сюррэй, де Биго и другие бароны, явившиеся в Ковентри со своими отрядами. Стрелки и воины продолжали путь вместе и к вечеру добрались до замка Уорвик, который принадлежал Вильяму Ньюбургу, одному из участников заговора против короля. Замок был укреплен, мост поднят, на крепостных стенах расставлены часовые. На вопрос начальника караула, по какому делу они приехали, граф Сюррэй коротко ответил: – Наш лозунг – права народа, свобода Англии. Опустили подъемный мост, и войско въехало во двор замка. Воинов и стрелков разместили на ночлег, и в тот же вечер вожди собрались на совещание в большой зале замка. В совещании участвовали Робин Гуд и Маленький Джон. В течение нескольких часов обсуждались отдельные статьи хартии, получившей название «Великой Хартии Вольностей». Бароны должны были прислушиваться к мнениям, высказываемым Робин Гудом, и благодаря этому в хартию вошли статьи, обеспечивающие права не только баронов, но и вообще всех свободных людей. Так, отныне ни один свободные человек не мог быть арестован, брошен в тюрьму, изгнан из страны, объявлен вне закона или лишен своего имущества иначе, как по суду. Уничтожались злоупотребления феодальными правами и уменьшались размеры штрафов. Прежде при наложении штрафов нередко конфисковали все имущество, теперь товар купца и сельскохозяйственные орудия крестьянина были объявлены неприкосновенными. При королях Ричарде и Иоанне все леса считались заповедными, и охотиться в них запрещалось под страхом смертной казни. По настоянию Робина в хартию внесли статью, уничтожавшую неприкосновенность лесов. Но делая уступки народу, бароны, разумеется, не забыли и о себе, и большая часть статей была посвящена обеспечению прав и привилегий знати. Когда закончилось обсуждение хартии, речь зашла о поведении короля. Опираясь на наемные войска и баронов, оставшихся ему верными, он держал себя вызывающе и клялся, что никакой грамоты, ограничивающей его власть, он не подпишет. Тогда восставшие бароны решили начать против него войну. На следующее утро войско покинуло замок Уорвик и двинулось на Лондон, где население устроило ему восторженную встречу. Многие из приверженцев Иоанна от него отступились, и король с теми, кто остался ему верен, укрепился в Виндзорском замке. Восставшие бароны настойчиво требовали свидания с ним, и наконец Иоанн, опасавшийся лишиться и короны и жизни, пошел на уступки. Свидание было назначено на пятнадцатое июня, на Руннимедском лугу в окрестностях Лондона. Войско баронов раскинуло лагерь на берегу Темзы. Отсюда ясно был виден Виндзорский замок, возвышавшийся на холме. Робин Гуд сидел в своей палатке и весело болтал с Альриком и Маленьким Джоном. Эти двое впервые видели Лондон и пришли в восторг от его людных улиц и Вестминстерского дворца. – Странно, что Иоанн так легко пошел на уступки, – сказал Робин. – Ведь он даже не попытался скрестить оружие с восставшими. Правда, он – трус, но все-таки я не думал, что он сдастся без боя. – Быть может, он замышляет измену, – отозвался Альрик. – Хотя он и обещал подписать хартию, но что ему стоит изменить своему слову? – Ты прав, дружок! – раздался чей-то голос. Все трое оглянулись и увидели тана Эдуарда, который только что вошел в палатку и слышал замечание Альрика. – Робин, – продолжал тан, понижая голос, – настало время, когда вы можете оказать нам великую услугу. Иоанн действительно замыслил измену. Опираясь на копьеносцев, возглавляемых Фалько, он думает этой ночью покинуть Виндзор, бежать в Нормандию и, собрав там войско, вернуться и свести с нами счеты. Хотите ли вы нам помочь? – Я уже обещал вам свою помощь. – Соберите своих стрелков, вооружите их мечом, кинжалом, луком и стрелами и идите с нами. – Куда? – К Виндзорскому замку. Мы овладеем замком, возьмем в плен короля и завтра заставим его явиться в Руннимед и подписать хартию. – Вот это дело!.. А вы что скажете, друзья? – обратился он к Маленькому Джону и Альрику. – Куда ты, туда и мы! – не задумываясь, ответили оба. Вечером воины и стрелки небольшими группами покинули лагерь и, переправившись на другой берег Темзы, вошли в город Виндзор. В то же время человек двадцать вооруженных всадников въехали в город с другой стороны и направились к замку. Это были Робин Гуд, Маленький Джон, графы Сюррэй и Нортумберлендский и другие вожди партии баронов. Когда они проезжали по улицам города, воины и стрелки, обменявшись условными знаками, последовали за ними. Замок был ярко освещен. – Эге! Король, кажется, пирует! – воскликнул Робин. – Придется ему пригласить на пир и нас, нежданный гостей! Подъехав к воротам, они позвонили в колокол, и караульных, приоткрыв окошечко в воротах, спросил, по какому делу они явились. – Мы хотим видеть короля! Открой ворота! – Король отдал приказ никого не впускать сегодня, – ответил солдат. Он хотел было захлопнуть окно, но Робин просунул в отверстие рукоятку своего кинжала, а граф Сюррэй закричал: – Разве не видишь, с кем ты имеешь дело? Я – граф Сюррэй. Открой! Я должен немедленно говорить с королем. Встревоженный солдат побежал за начальником караула; тот бегом бросился к воротам. Это был француз, ни слова не понимавший по-английски, но графа Сюррэй он видел не раз, и сейчас, при свете фонаря, сразу его узнал. По его приказу, солдат открыл калитку, и граф со своими спутниками вошел во двор. Начальник караула испугался, увидев вооруженный отряд, но раньше, чем он успел что-либо предпринять, Маленький Джон одной рукой обхватил его за плечи, а другой – зажал ему рот. Робин поспешил связать пленнику руки за спиной, а когда солдат обнажил меч, граф Сюррэй ударил его рукояткой кинжала по голове, и солдат, оглушенный ударом, упал на землю. Затем несколько человек ворвались в караульню, обезоружили и связали всех, кто там находился, и заперли комнату на замок. Между тем граф Сюррэй уже распахнул массивные ворота. Двести воинов и стрелков вошли во двор. Маленький Джон с десятью стрелками остался охранять ворота, а остальные направились к замку. Навстречу им вышел рослый человек в кольчуге и шлеме; подойдя к графу Сюррэю, он шепотом спросил: – Все идет хорошо? – Да, – ответил тот и, повернувшись к Робину, добавил: – Это Ван-Штоффель, фламандский копьеносец, подкупленный нами. Получив из рук графа туго набитый кошелек, Ван-Штоффель спросил: – Где ваши люди? Граф Нортумберлендский вполголоса отдал распоряжение, и сорок воинов выступили вперед. Обменявшись несколькими словами с графом, Ван-Штоффель увел их по направлению к замку. – Они сменят караульных, которые могли бы нас задержать, – шепнул Робину тан Эдуард. – Одеты они так же, как и те, и никто ничего не заметит. Когда наши люди займут их места, мы можем быть спокойны. – Странно... – прошептал Альрик. – Этот Ван-Штоффель производит впечатление смелого солдата. Как же он пошел на такое предательство? – Все наемники таковы, – отозвался тан Эдуард. – Они служат тому, кто им больше платит. Ван-Штоффеля мы подкупили, и он обещал нам помогать, но если Иоанн даст ему больше, он в любой момент может нас выдать. Да он и сам этого не скрывает. Вот почему, не доверяя ему, мы привели сюда сильный отряд. Через четверть часа вернулся Ван-Штоффель во главе сменившегося караула. Солдаты опомниться не успели, как их окружили, связали и заперли в караульне. – Друзья, – сказал заговорщикам граф Сюррэй, – путь свободен. В сущности мы являемся хозяевами замка. Идем к королю. Ван-Штоффель пошел вперед и показывал дорогу; за ним следовали граф и бароны, Альрик и Робин со своими стрелками. Воины под предводительством де Биго остались у ворот вместе с Маленьким Джоном. Поднявшись по каменной лестнице, Ван-Штоффель открыл маленькую дверь, и заговорщики вошли в замок. Миновав длинные тускло освещенные коридоры, они добрались до залы, где происходило пиршество. Из-за дверей доносились громкие голоса и смех. Послышался голос Иоанна: – Пейте, друзья! Наполняйте кубки! Нам предстоит дальний путь. – Мы отправимся в полночь? – спросил один из собутыльников короля. – Да, ровно в полночь. Хотел бы я увидеть физиономию этой старой лисы, графа Сюррэй, когда он узнает, что я его перехитрил! Месяца через два я вернусь в Англию и расправлюсь с мятежниками. Клянусь распятием, я никого не пощажу! А теперь выпьем за успех нашего дела и гибель всех наших врагов. Этот тост был встречен одобрительными возгласами. Осушив свой кубок, Иоанн воскликнул: – Да, рано или поздно граф Сюррэй ответит за все свои преступления! – Я здесь, ваше величество, и готов немедленно отвечать, – раздался голос. В зал вошел граф Сюррэй с остальными заговорщиками. (обратно)ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ НА РУННИМЕДСКОМ ЛУГУ
За круглым столом, заставленным блюдами, кубками и фляжками с вином, сидело человек двенадцать. Во главе стола восседал король Иоанн, пьяный, растрепанный и залитый вином. По правую руку сидел граф Фалько, начальник наемного войска, человек жестокий и кровожадный, получивший прозвище «Фалько Кровавый». Тут же находились еще два или три начальника копьеносцев и бароны, оставшиеся верными королю: Вильям де Молеон, графы Арэндэль и Пэмброк, де Варэн и другие. При виде вооруженных людей, вошедших в залу, Иоанн побледнел и встал. – Как вы смеете сюда вторгаться? – крикнул он. – Мы просим аудиенции у вашего величества, – ответил граф Сюррэй. – Что-то я не вижу, чтобы вы просили. Вы врываетесь сюда без спросу. – Мы боялись, что вы нам откажете. – И были правы. Король я или нет? – Сейчас вы еще король. От вас зависит, останетесь вы им или нет. – Вы это слышите? – воскликнул король, обращаясь к сидевшим за столом. – И допускаете, чтобы меня оскорбляли? Стража! Схватить изменников! Бароны вскочили из-за стола и обнажили мечи. Но в эту минуту Робин дал знак, и в залу вошли двенадцать стрелков, вооруженных луками. – Бесполезно звать стражу, – спокойно сказал тан Эдуард. – Замок в наших руках. Караульные сидят под замком, ворота охраняются нашими людьми. Достаточно нам дать сигнал – и в замок войдет отряд в пятьсот человек. Приверженцы короля испуганно переглянулись и поспешили вложить мечи в ножны. Иоанн тяжело опустился на стул. – Что вам от меня нужно? – хрипло спросил он. – Мы слышали, что сегодня ночью вы намереваетесь покинуть Виндзор, – ответил граф Сюррэй. – Мы явились сюда, чтобы этому помешать. – Негодяй Ван-Штоффель меня предал! – заревел Иоанн. – Я с него шкуру спущу! – Однако вы не отрицаете, что помышляли о бегстве? Иоанн в бешенстве грыз ногти. – Сюррэй, ты мне за это заплатишь, – прохрипел он. – Кого ты привел сюда? Если не ошибаюсь, с тобой явился этот изменник граф Нортумберлендский, который много лет назад был объявлен вне закона. – Но пэры его графства восстановили его во всех правах, – ответил Сюррэй. – А это кто такой? – спросил Иоанн, указывая на Робин Гуда. – Его лицо мне знакомо. – Да, король, вы меня видели в Ноттингхэме, – сказал Робин. – Вы не забыли Тома Бродягу? А помните турнир в Лейчестере и рыцаря Черного Ворона? – Так это был ты? Ну, счастье твое, что тебе удалось улизнуть, а то бы ты висел на первом дереве! – Ваше величество, – перебил граф Сюррэй, – сюда мы явились, ибо наш долг – не покидать вас в дни испытания. Нам известно, что со всех сторон вам угрожает опасность. Разрешите нам на сегодняшнюю ночь быть вашими телохранителями, а завтра проводить вас в Руннимед. – Это уже слишком! – крикнул Иоанн. – Ты что, смеешься надо мной? Нет, не быть тебе свидетелем моего унижения! И выхватив кинжал, он бросился к Сюррэю. Но Робин и граф Нортумберлендский подбежал к нему и схватили за руки. Иоанн побагровел от злобы. Потрясенный мыслью, что подданные осмелились поднять на него руку, он дико вращал глазами и не мог выговорить ни одного слова. – Ничего нет удивительного в том, что здесь происходит, – холодно сказал Сюррэй. – Король, неспособный обуздать своих страстей, не может управлять страной. Бароны, – обратился он к приверженцам Иоанна, – проводите короля в его покои. Замок в наших руках. Охрану королевской особы мы берем на себя. Завтра утром мы отправимся в Руннимед. Спокойной ночи! Король едва держался на ногах. Графы Арэндэль и Пэмброк взяли его под руки и вывели из залы. За ними последовали Фалько и остальные приверженцы Иоанна, а заговорщики расставили у всех входов и выходов караульных и всю ночь не смыкали глаз. С восходом солнца стрелки и воины выстроились во дворе замка и стали ждать появления короля. Иоанн вышел в сопровождении рыцарей и придворных; им подвели коней, и они выехали через главные ворота. За ними на почтительном расстоянии следовал Робин Гуд со своими ста двадцатью стрелками и граф Сюррэй, возглавлявший свой отряд. Так прибыли они в деревню Руннимед и на Руннимедском лугу остановили коней. Здесь, под высоким дубом, стоял стол, покрытый зеленой скатертью; на столе лежала Великая Хартия Вольностей и другие документы. Вокруг стола разместились бароны в кольчугах и шлемах. Король сошел с коня и вместе со своей свитой направился к столу. За ним последовали графы Сюррэй и Нортумберлендский, Альрик и Робин Гуд. Иоанну подали гусиное перо, и он беспрекословно написал свое имя на Великой Хартии. – Здесь есть еще два документа, – сказал граф Сюррэй. – Не угодно ли вам ознакомиться с их содержанием? – О чем в них говорится? – В первом отменяется указ об изгнании графа Нортумберлендского и возвращаются ему поместья. – Не нужно читать. Раз пэры восстановили его во всех правах, пусть так и будет. Что еще? – Второй документ нуждается в некоторых разъяснениях. Сэр Питер де Молак, который, как известно вашему величеству, в настоящее время находится в замке, где залечивает раны, полученные на турнире в Лейчестере, – незаконно завладел Конистонским замком, принадлежащим сэру Реджинальду де Траси. В течение многих лет он держит де Траси в подземелье замка. Этот документ предписывает де Молаку немедленно освободить узника и вернуть ему его владения. Рыцарь де Молак должен предстать перед судом и ответить за свои преступления. – Этим вопросом не время сейчас заниматься, – поспешно ответил Иоанн. – Если де Траси умер, то Конистонский замок может остаться у де Молака. Я прикажу навести справки. – Но у де Траси есть сын, который является его наследником, – вмешался тан Эдуард. – Вот как! Где же этот сын? – Я здесь, ваше высочество, – сказал Альрик, выступая вперед. – Я умоляю вас освободить моего отца и покарать Питера де Молака. Иоанн хмуро взглянул на юношу. – Ты – друг Эдуарда Боддингтонского, – сказал он, – но я впервые слышу, что зовут тебя де Траси. – Я сам это узнал несколько недель назад. – Гм... Темное дело, но я им займусь, – уклончиво ответил Иоанн. – Когда-нибудь ты мне о нем напомни. – Но, быть может, вы подпишите сейчас указ об освобождении узника и о возвращении замка законному его владельцу? – настаивал тан Эдуард. – Нет, больше я ничего подписывать не буду, – сердито буркнул Иоанн. Снова заговорил граф Сюррэй: – От имени всех собравшихся я прошу вас дать обещание свято соблюдать эту хартию. – Я ее подписал – этого достаточно, – перебил его король. – Мы требуем, чтобы вы выслали из Англии все наемные отряды и их начальников. Из нашей среды будут избраны двадцать пять человек для надзора за соблюдением Хартии Вольностей. Иоанн нахмурился, но вынужден был уступить. – Признаюсь, этих новых требований я не ожидал. Однако я иду на уступку. Можете выбрать двадцать пять человек. Но знайте, что эта уступка является последней. Больше я никаких просьб не принимаю! Он встал, направился к тому месту, где ждали оседланный лошади, вскочил на коня и ускакал. (обратно)ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ НЕОЖИДАННЫЙ СОЮЗНИК
В стане баронов торжествовали победу: Великая Хартия была подписана. Иоанн проклинал изменников и думал только о мести. По его приказу были вызваны из Фландрии, Аквитании и Гаскони наемные войска, состоявшие исключительно из авантюристов, падких на деньги. Гасконцы, брабантцы, фламандцы наводнили Англию. Когда бароны обвинили короля в нарушении хартии, он расхохотался им в лицо и объявил, что все их подозрения ни на чемне основаны. Приближалась осень. Робин со своими друзьями перебирался с места на место вместе с армией баронов. Вскоре он убедился в том, что среди баронов начались нелады. Многие из них думали только о своих интересах и добивались новых почестей. Все это время Альрик хлопотал об освобождении отца, а Робин Гуд и граф Нортумберлендский по мере сил старались ему помочь. Пришлось оставить всякую надежду на короля, а так как в стране царила смута, то граф Сюррэй не мог послать своих людей для захвата Конистонского замка. Как-то вечером Робин, Альрик и Маленький Джон сидели в палатке и обсуждали создавшееся положение. – Я думаю, Альрик, что на короля плохая надежда, – сказал Робин Гуд. – Иоанн будет защищать де Молака. Мы сами должны позаботиться об освобождении твоего отца. Мой совет – вернемся в Шервудский лес и возьмем дело в свои руки. Я поклялся освободить Реджинальда де Траси и клятву свою сдержу. Здесь нам нечего делать. – Мне кажется, мы можем хоть сегодня отправиться восвояси! – воскликнул Альрик. – Ведь хартия уже подписана, и мы свое дело сделали. Пусть бароны пререкаются между собой; нас это не касается. – Верно, верно! – подхватил Маленький Джон. – Если бы вы знали, как я соскучился по Шервудскому лесу, по толстяку Туку и Элен-э-Дэлу! Надоели мне большие города. И сколько дней я не ел оленины! Робин, прошу тебя, вернемся домой! – Я сам здесь задыхаюсь, – отозвался Робин. – Да и наши ребята стосковались по лесу. Пойдем, отыщем графа Сюррэй и скажем ему, что мы уходим. Сюррэй они нашли в палатке Гуго де Биго. Граф согласился отпустить Робина и его друзей, и на следующий же день стрелки покинули лагерь. До Ноттингхэма спутниками их были граф Нортумберлендский и де Биго. Прощаясь, граф сказал: – Я должен ехать в свой замок Алнуик. Покончу там со своими делами, а затем вернусь к вам и помогу расправиться с де Молаком. У меня с ним старые счеты. Де Биго также обещал свою помощь. – Де Молак не принадлежит к числу моих друзей, – заявил он. – Я приведу конный отряд, и мы завладеем Конистонским замком. Радостно было стрелкам снова въезжать в Шервудский лес. В лагере друзья устроили им торжественную встречу, так как караульные заранее дали сигналами об их возвращении. Отец Тук и Элен-э-Дэл бросились Робину на шею, стрелки роздали товарищам подарки, привезенные из Лондона и других городов, где им довелось побывать. Путешественников угостили сытным обедом, а затем начались расспросы и рассказы. Тук сообщил Робину обо всем, что произошло за время его отсутствия. Де Молак залечил свои раны и вернулся в Конистон. Гарнизон крепости он пополнил наемниками-иностранцами, которые грабили и оскорбляли жителей окрестных деревень. Рэно, ноттингхэмский шериф, по-прежнему злоупотреблял своей властью и притеснял население. В общем за время отсутствия Робин Гуда ничто не изменилось. Ясно было, что король Иоанн и не помышляет о том, чтобы предать суду своего любимца. На помощь графа Сюррэя также не приходилось рассчитывать. – Это наше личное дело, – сказал Робин. – Мы сами должны расправиться с де Молаком; пока не вернутся рыцарь Черного Ворона и де Биго, мы будем следить за каждым шагом негодяя, а затем атакуем замок. На следующий день Альрик поехал в Коллингхэм и рассказал деду о предстоящей атаке Конистона. Узнав об этом, старый Торед заявил, что он сам примет участие в борьбе с де Молаком. Он и слушать не хотел никаких возражений. – Это дело касается меня не меньше, чем тебя или Робина, – говорил он. – Я стар, дни мои сочтены, а я всегда хотел умереть с мечом в руке. – Но кто же будет защищать Коллингхэм и мою мать? – спросил Альрик. – Твоя мать сама будет защищать Коллингхэм, как делали это в старину жены рыцарей. Я оставлю здесь сильный гарнизон. Через несколько дней Альрик и Торед в сопровождении шестерых вооруженных слуг въезжали в Шервудский лес. В лагере их встретили радушно и угостили на славу. Вечером Торед, Альрик, Тук, Робин и Маленький Джон, греясь у костра, обсуждали план нападения на Конистон. Вдруг Альрику показалось, что какая-то фигура притаилась в кустах неподалеку от костра. Альрик терялся в догадках: кому это вздумалось подслушивать? Ведь любой стрелок мог открыто подойти и принять участие в разговоре. Улучив момент, он вскочил и бросился на неизвестного. Завязалась борьба. На помощь Альрику подоспел Маленький Джон, и вдвоем они вытащили человека из кустов и подвели к костру. – Да ведь это Стифен! – горестно воскликнул Тук. – Что же это ты, приятель? В изменники записался? Действительно, это был Стифен, наймит де Молака, несколько месяцев тому назад захваченный в плен Робин Гудом. – Шпионить вздумал? – сердито крикнул Робин, обнажая меч. – Отвечай, или ты умрешь! – Если не веришь – убей, – мрачно отозвался Стифен. – Нет, нет, Робин, дай мне с ним поговорить! – вмешался Тук. – Без тебя мы с ним частенько беседовали и осушили не одну кружку эля. Он мне показался славным парнем и веселым товарищем. Стифен, ведь ты сам мне говорил, что Шервудский лес пришелся тебе по душе. Разве не так? – Пожалуй, что так... – Ну, так объясни, зачем ты подслушивал, – перебил Робин. – Раньше спрячь меч. Объяснить я не прочь, но ты меня не запугаешь. Этот ответ пришелся Робину по душе. Он спрятал меч в ножны и сурово сказал: – Садить и говори. Стифен присел к костру и задумчиво потер рукой подбородок. – Дело было так, – начал он, – когда ты заманил нас в лес и поймал на удочку, я здорово был зол. Недели две только и думал о том, как бы тебе отомстить. Но ты и твои ребята обращались со мной по-приятельски, кое с кем я подружился, и злобу как рукой сняло. Пока тебя не было, я частенько толковал о разных делишках вот с этим толстяком. – И Стифен дружелюбно подмигнул Туку. – От него я узнал, что мистер Альрик – сын Реджинальда де Траси, которому принадлежал Конистон. Питера де Молака я не люблю, да и не за что его любить. Это жестокий и злой человек. Десять лет я ему служил, я кроме пинков да попреков ничего от него не видел. Один только Арнульф стоит за него горой, потому что они вместе часто обделывали разные темные делишки. От де Молака я собирался уйти, когда ты захватил меня в плен, а служил я ему только потому, что должен был зарабатывать себе на хлеб. Теперь, когда ты вернулся, я узнал, что ты собираешься напасть на Конистон и освободить узника. А я тебе вот что скажу: чтобы взять Конистон, нужна целая армия и осадные машины. В крепости стоит сильный гарнизон. Я придумал другой способ; но прежде чем сказать тебе о нем, я хотел убедиться, что вы действительно намереваетесь идти на де Молака. Вот почему я подслушивал здесь у костра. – Это похоже на правду, – задумчиво сказал Робин. – Какой же план ты придумал? – Слушай дальше. Кроме меня ты захватил в плен еще троих – Джеффри, Мэтью и Диккона. Последние двое – надежные парни; за мной они всюду пойдут. Джеффри я не доверяю. Отпусти на волю меня, Мэтью и Диккона. Мы вернемся в Конистон, а я расскажу де Молаку историю, которой он поверит. Расскажу ему, как мы попали в плен, как из плена бежали и только теперь смогли вернуться в замок. Отец Тук мне говорил, что из Конистона вам удалось уйти только с помощью этого черного карлика. Зовут его Зарок. Де Молак считает его безобидным дурачком и разрешает бродить по всему замку. Но мне кажется, что у этого парня есть голова на плечах. Иначе как бы он мог узнать о потайном выходе из часовни, о котором никто из нас не знал? Я вернусь в Конистон и открою свой план Зароку. Ночью, когда мне поручат охрану главных ворот, я возьму себе в помощники Диккона и Мэтью. Мы утащим ключи у старого Николаса и дадим тебе сигнал. А ты должен быть настороже. С несколькими стрелками ты проникнешь в замок, и мы освободим сэра Реджинальда. – Что тебе известно о сэре Реджинальде и карлике? – Знаю только, что года три тому назад они приехали в Конистон. Сопровождал их Арнульф и еще несколько воинов. Сэр Реджинальд ужинал с де Молаком; за ужином вспыхнула ссора, они обнажили мечи. Сэра Реджинальда – я только недавно узнал его имя от Тука – де Молак приказал бросить в темницу. Вместе с ним посадили и карлика, но скоро выпустили. Однако ему не разрешается выходить за крепостные стены. Де Молак сделал из него шута и считает придурковатым, но я-то знаю, что Зарок – не дурак. Он нам поможет. – Придумал ты неплохо, Стифен, – спокойно сказал Робин, – но я знаю, что даром ты помогать не станешь. Говори, какой ты ждешь награды. – Конечно, я и о себе подумал, – невозмутимо ответил Стифен. – Я уже сказал, что де Молака я не люблю, а с Арнульфом у меня старые счеты. Пока де Молак владеет Конистоном, мне там не житье. Вам я помогу освободить сэра Реджинальда, и если он вернет себе замок, пусть меня назначит сенешалем. А не то – дайте мне с женой двадцать золотых; тогда мы будем сами себе господа. – Вижу – ты высказал все, что было у тебя на уме, – сказал Робин. – Ладно, мы это дело обсудим, и я тебе скажу, на чем мы порешили. А теперь ступай и больше не подслушивай. – Не бойся, тебе я не изменю, – отозвался Стифен. Он отошел к другому костру и завязал разговор со стрелками. Робин и его друзья склонялись к тому мнению, что Стифену можно доверять. – Обманув нас, он ничего не выиграет, – заметил Робин. – Его предложение нужно принять. Без его помощи нам не проникнуть в замок. Я не знаю, стоит ли ждать возвращения де Биго и графа Нортумберлендского. Боюсь, как бы за это время де Молак не убил сэра Реджинальда. На следующее утро Стифену объявили, что его предложение принято. – А знаешь, что мне пришло в голову? – сказал ему Робин. – Что, если де Молак тебе не поверит? Ведь он тебя повесит! Стифен пожал плечами. – Я об этом думал, – отозвался он. – Ну, что же! Ничего не поделаешь! Придется рискнуть. Кто не рискует, тот не выигрывает. – Молодец! – одобрил Робин. – В трусости тебя нельзя обвинить. Но помни: если что-нибудь с тобой случится, мы придем на выручку. Разработали план, условились относительно сигналов. Через день Стифен, Мэтью и Диккон сели на коней и, выехав из Шервудского леса, поскакали в Конистон. (обратно)ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ НЕУДАЧА
На следующий день Робин с шестьюдесятью стрелками покинул лагерь. Его сопровождали Альрик, Вилль Рыжий, Маленький Джон и Торед. У каждого стрелка под зеленой курткой была надета кольчуга, так как в случае рукопашной схватки стрелкам пришлось бы скрестить оружие с людьми, вооруженными до зубов. Робин, его друзья и двадцать стрелков ехали верхом; это был передовой отряд. Остальные следовали пешком и должны были придти позже. Выходить на проезжую дорогу было опасно; приходилось пробираться по лесным тропинкам до самого Конистонского замка. В полдень отряд выехал на опушку леса. Лошадей привязали к деревьям на берегу прозрачного ручья, а Робин, Альрик и Маленький Джон отправились на разведку. На фоне неба четко вырисовывались темные башни Конистонского замка. Робин со своими друзьями, крадучись, обошел вокруг замка. Подъемный мост был защищен высокой башней, поднимавшейся над воротами. Крепостные стены имели в толщину восемь футов. В первом дворе находились конюшни и помещение караульных, во втором – внутреннем – высился замок, защищенный четырьмя массивными башнями; к нему примыкала часовня – та самая часовня, из которой карлик Зарок вывел стрелков. Осенний ветер развевал знамя де Молака, поднятое над башнями; по крепостным стенам шагали караульные, сверкали их шлемы и копья, освещенные солнцем. – Не удастся нам застигнуть де Молака врасплох, – сказал Робин. – Да, что и говорить, враг не дремлет, – проворчал Маленький Джон. В крепостной стене было три башни. Одна имела форму призмы и называлась «квадратной», две другие были круглые. Стифен должен был дать сигнал с квадратной башни; с Робином он условился повесить в бойнице зеленую куртку, если дело будет идти на лад. Робин внимательно осмотрел все бойницы, но зеленой куртки не было видно. – Может быть, он еще не успел ее вывесить, – предположил Маленький Джон. – Но неужели Мэтью или Диккон не могли сделать это вместо него? – А что, если Стифен попал в беду? – сказал Альрик. – Мне кажется, он был уверен в успехе, – отозвался Робин, – но боюсь, что у де Молака могли возникнуть подозрения. Нужно поставить караульного против этой башни. А теперь пойдем дальше и посмотрим, что делается у главных ворот. Оставаясь под прикрытием деревьев, они добрались до того места, откуда видна была дорога, ведущая от замка в деревню, раскинувшуюся за крепостным рвом. По дороге сновали солдаты, к воротам замка шли крестьяне с корзинками, пастухи гнали стада овец, изредка проезжала телега, нагруженная мешками. – Похоже на то, что де Молак готовится выдержать осаду и запасается провиантом, – задумчиво сказал Робин. – Во всяком случае уезжать он не собирается. К вечеру подошел второй отряд стрелков. Лагерь разбили в чаще леса на расстоянии мили от замка. В течение следующего дня ждали сигнала, но на квадратной башне не видно было зеленой куртки, и Робин начал беспокоиться. В сумерках он пошел в деревню, но никаких сведений там не получил. Узнал только, что де Молак велел доставить в замок съестных припасов – мяса, хлеба и овощей – для гарнизона и грозил сжечь деревню, если его требование не будет исполнено. Было ясно, что крестьяне ненавидят барона, но противоречить ему не смеют. Робин в унынии вернулся к своим друзьям. – Я должен узнать, что происходит в замке, – сказал он. – Во что бы то ни стало нужно туда проникнуть. Стифен попал в беду – в этом я совершенно уверен. А мы не имеем права бросить его на произвол судьбы. – Что же мы можем сделать? – спросил Альрик. – Если завтра утром сигнала не будет, я проберусь в замок и наведу справки. Видя недоумевающие физиономии товарищей, Робин расхохотался. – Да ведь тебя оттуда не выпустят! – воскликнул Вилль Рыжий. – Робин, ты с ума сошел! Никуда ты не пойдешь. – А если пойдешь, то вместе со мной, – проворчал Маленький Джон. – Неужели вы думаете, что я надену этот зеленый костюм и явлюсь в гости к де Молаку? – усмехнулся Робин. – Не бойтесь! Даже вы меня не узнаете, когда я переоденусь. Или забыли, что я – мастер на такие штучки? Стрелки долго его отговаривали, но он заупрямился. – Сказал, что пойду, и конец делу! Не в первый раз мне идти в берлогу зверя. Не бойтесь за меня. Я вернусь целым и невредимым. На следующее утро караульный донес, что на квадратной башне по-прежнему не видно зеленой куртки. Тогда Робин рассказал друзьям о своем плане. – В деревне я встретил знакомого, которого зовут Хигг. Он мне сказал, что сегодня утром должен доставить в замок воз дров. Пойдет он не один, а с двумя парнями. А я уговорю его взять меня в помощники. Этот план показался рискованным. – Тебя узнают! – воскликнул Альрик. – У тебя и походка не такая, как у дровосеков, и говоришь ты не так, как они. – Альрик, давай держать пари на двадцать серебряных пенни, что ты сам не узнаешь, который из этих двух парней – я! Расплатишься ты со мной после того, как мы освободим твоего отца. – Идет! – согласился Альрик. – Но еще неизвестно, кому придется расплачиваться. Робин ушел в деревню, а Маленький Джон и Альрик залегли в кустах, которые росли шагах в двадцати от проезжей дороги. Ждать им пришлось часа два. Наконец вдали заскрипела телега; четыре вола тащили в гору воз дров. На возу сидел старик-погонщик в короткой куртке и вязаном колпаке, надвинутом на глаза; сзади воз подпихивали два рослых неуклюжих парня. Альрик заключил еще одно пари – на этот рас с Маленьким Джоном, который утверждал, что парень, шедший справа, похож на Робина, тогда как Альрик уловил сходство с Робином в парне, шагавшем слева. Они видели, как телега поднялась на холм, проехала по мосту и скрылась в воротах. Робин вступил в логовище зверя. Альрик и Маленький Джон вернулись в лагерь. Оба не находили себе места и не знали, как скоротать время. Два раза ходили они к квадратной башне посмотреть, не видно ли сигнала. На обратном пути им едва удалось избегнуть встречи со слугами де Молака. Маленький Джон хотел было завязать с ними драку, надеясь, что его потащат в замок, и там он узнает о судьбе Робина. К счастью, Альрику удалось его отговорить. В лагере они сидели, как на иголках, и уже собирались идти в деревню и там разузнать, вернулся ли Хигг, как вдруг послышался знакомый голос, и на поляну вышел Робин Гуд. Он выглядел озабоченным, и стрелки догадались, что дело неладно. – Робин! Наконец-то ты вернулся! – воскликнул Маленький Джон. – Мы не знали, как убить время. Тебе удалось что-нибудь разузнать? – Да. Сейчас я вам все расскажу, а потом нужно приниматься за дело. – Ладно, но сначала скажи, кто из нас прав. Мы с Альриком поспорили: он говорит, что ты подталкивал воз слева, а я говорю – ты шел справа. – Вы оба ошиблись, – ответил Робин. – Я был стариком-погонщиком. И видел, как вы притаились в кустах. Ну, а теперь слушайте внимательно; я вам расскажу все по порядку. Я отыскал Хигга, и он мне позволил занять его место на возу. Я переоделся в его платье, а лицо запачкал сажей. Во двор замка нас впустили сразу, и мы начали разгружать телегу. Я попытался завязать разговор с солдатами, но о Стифене они не заикались, а я боялся спрашивать. Почти все слуги де Молака – иностранцы и плохо понимают по-английски. Один из солдат показался мне знакомым, я его видел в Ноттингхэме и знал, что он говорит по-английски. Мы с ним вступили в разговор, и я сказал, что прихожусь дальним родственником жене Стифена и очень хотел бы с ней повидаться. – Сейчас ей не до тебя, – ответил он. – Бедная женщина... Ее муж пропал несколько месяцев назад и только на днях вернулся. Говорят, и он и его два товарища будут повешены завтра утром. – Тогда я сказал, что, быть может, мне удастся утешить мою бедную родственницу. – Ну, коли так, идем за мной. – Он повел меня в комнату Стифена, кликнул его жену, а сам ушел. Конечно, меня не узнала. Я ее попросил рассказать, что случилось с ее мужем. Но она, по-видимому, не хотела вступать в разговоры. Пришлось мне ей сказать, что я – тот самый человек, который увел Стифа. Тогда она начала ругаться и минут пять не закрывала рта. Такой подняла шум, что я испугался, как бы кто не прибежал. Пришлось пригрозить, что я ей глотку заткну, если она не замолчит. Наконец, она унялась, а я объяснил, что хочу помочь ее мужу. Она поняла и все мне рассказала. Стифена она уже не надеялась видеть в живых, как вдруг на днях он вернулся с двумя товарищами. Успел переброситься с ней несколькими словами, а через минуту приходит Арнульф и говорит, что де Молак требует его, Мэтью и Диккона к себе. Что там произошло – она не знает, а затем всех троих бросили в темницу. Я ей рассказал кое-что о нас и объяснил, что карлик Зарок – единственный человек, который может помочь. Она бросилась его отыскивать и через несколько минут привела. Ему я сказал, кто я такой, а он сразу все понял и подтвердил, что Стифен, Мэтью и Диккон завтра утром будут повешены. Этот парень оказался очень неглупым, и вдвоем мы придумали план. Сегодня в десять вечера он поднимется на верхушку квадратной башни и спустит нам веревочную лестницу, а мы должны подплыть к башне на лодках или на плоту – в темноте нас не увидят. По этой лестнице мы влезем на башню, а Зарок проведет нас в комнату Николаса. У него мы возьмем ключи, освободим узников и вырвемся на волю. У Альрика глаза засверкали. – Робин, это блестящий план! – воскликнул он. – Верно! – подхватил Маленький Джон. – А мне, сказать по правде, недоело сидеть сложа руки. И если дело дойдет до стычки с де Молаком, я буду очень рад. Сегодня я его проучу! (обратно)ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ КВАДРАТНАЯ БАШНЯ
Ночь была темная, облачная. Моросил дождь, когда Робин с Альриком и двадцатью стрелками остановился у края рва против квадратной башни, которую едва можно было разглядеть в темноте. Стрелки принесли с собой крепко сколоченный плот и весла. Плот мог выдержать шестерых и был заранее сделан под наблюдением Робина. Осторожно спустили его на воду, и первым вступил на него Робин, затем Альрик и еще четверо. Управляя веслом, Робин подвел плот к башне и приказал Альрику поискать веревочную лестницу. Альрик долго ощупывал мшистую стену, и наконец его рука коснулась перекладины лестницы. – Молодец Зарок! Не подвел! – радостно прошептал Робин. – Я поднимусь первым, а вы следуйте за мной. Маленький Джон, ты вернешься и перевезешь остальных. Когда все переправятся, привяжите плот к концу лестницы. Ты, Джон, останешься за воротами с вспомогательным отрядом. Робин стал взбираться наверх и скоро исчез в темноте. Оставшиеся на плоту тревожно ждали сигнала. Минуты через две сверху донесся тихий свист. Вторым поднимался Альрик. Лестница раскачивалась, вверху и внизу было темно, у него кружилась голова, и пугала мысль о том, что враги услышат шум: меч в ножнах ударялся о стену. Однако он благополучно добрался до верхушки башни. Чьи-то руки обхватили его за плечи, кто-то заставил его опуститься на колени, и знакомый голос шепнул: – Лежи. Идет караульный. Альрик притаился в тени. Караульный его не заметил и прошел мимо, но темная фигура Робина привлекла внимание солдата. Он резко окликнул Робина и, не получив ответа, обнажил меч. Вынырнувший из темноты Зарок громко вскрикнул, а Робин бросился вперед, выхватывая кинжал и ударил караульного. Зазвенела кольчуга, когда солдат со стоном упал на камни. – Пришлось его убить, – пробормотал Робин. – Он мог поднять тревогу. – Не жалей его, – отозвался Зарок. – Это был жестокий, злой человек. Больше нет на башне караульных; поторопи своих людей. Робин тихонько свистнул. Один за другим стрелки взбирались по веревочной лестнице, последним поднялся Вилль Рыжий. На это ушло около получаса, Альрик беспокоился, как бы их не застигли врасплох, но карлик оставался невозмутимо спокоен. Он был одет в пестрый костюм, за поясом у него торчал странный кривой меч и кинжал. – Не бойся, нас не поймают, – сказал он Робину. – На страже стоит Хильда, жена Стифена. Она никого не пропустит. У нее есть кинжал, и она не задумается пустить его в дело. А теперь следуйте за мной и старайтесь не шуметь. Если кто-нибудь нам встретится – убейте его раньше, чем он успеет крикнуть. Спустившись по каменной лестнице в помещение башни, они увидели стоявшую на страже Хильду и от нее узнали, что пока все идет хорошо. Винтовая лестница вела отсюда во двор. Осторожно они спустились вниз и притаились в тени крепостных стен. Было тихо и темно; глухо доносились издалека шаги караульных. Молча двинулись они вперед и вскоре подошли к внутренней стене крепости. Здесь возвышались две башни. Остановившись перед маленькой низкой дверью в одной из этих башен, Зарок тихо сказал: – Здесь всегда находятся двое караульных. Один сторожил, другой спит. Тот, кто сейчас на страже, разрешил мне пройти, и на мой стук откроет дверь. Нужно убить обоих. Я покончу с первым; кто убьет второго? – Предоставь нам первого, а сам займись вторым, так как ты знаешь, где он находится, – отозвался Робин. Зарок согласился и постучал. Послышались шаги, дверь приоткрылась, и чей-то грубый голос сказал: – Долго же ты шлялся, черномазый! А ведь обещал через пять минут вернуться. Не успел он выговорить последнее слово, как кто-то схватил его за горло и заткнул ему рот тряпкой. Пока Робин держал солдата, Альрик и Вилль Рыжий сняли с пленника пояс и связали ему руки за спиной. – А где же второй? Ты его связал? – спросил Робин Зарока. Глаза карлика вспыхнули ненавистью. – Я его убил, – сказал он, вытирая кинжал плащом пленника. Робин посмотрел на него неодобрительно. Поступок карлика казался ему зверским. Лишь много времени спустя он узнал, какие злодеяния совершались в Конистонском замке, и понял, почему Зарок так глубоко ненавидел этих людей. Но сейчас некогда было предаваться размышлениям. Они вышли во внутренний двор и направились к жилищу Николаса. – Его я бы хотел пощадить, – сказал Зарок. – Он – старый ворчун, но незлой человек. – Не бойся, я не хочу его убивать, – ответил Робин Гуд. – Мы не тронем тех, кто не будет нам сопротивляться. Одного только де Молака я бы не пощадил. Николас жил в каменном строении, примыкавшем к замку. Следуя за карликом, стрелки пересекли двор, гуськом вошли в низкую дверь, которую Зарок отпер ключом, и по винтовой лестнице поднялись в маленькую комнатку, освещенную тускло горевшей лампой. Карлик приложил палец к губам и на цыпочках скользнул в дальний угол комнаты, завешенный куском материи. Робин и Альрик следовали за ним по пятам. Когда карлик отдернул занавеску, они увидели сторожа Николаса, толстого, краснощекого старика. Он лежал на узкой койке и, по-видимому, спал; на стуле у изголовья стояла пустая кожаная фляжка. – Куда он прячет ключи? – шепотом спросил Робин. – Мы можем их взять, не разбудив его. – Не удастся, – ответил карлик. – Он всегда привешивает их к поясу. – Ну, ничего не поделаешь. Я позабочусь о том, чтобы он не кричал, а ты, Зарок, снимай ключи. И с этими словами Робин быстро обмотал одеялом голову спящего. Николас проснулся и попытался сбросить одеяло, но Альрик крепко его держал, а карлик завладел связкой ключей. Тогда Робин снял одеяло с головы старика, и тот, мигая, уставился на обступивших его людей. Узнав Зарока, он сделал попытку встать, но Робин сжал его руку и внушительно сказал: – Лежи смирно, и никто не причинит тебе вреда. А если посмеешь пикнуть, я заколю тебя кинжалом в сердце. У Николаса зуб на зуб не попадал от страха. – Кто ты такой? – заикаясь, выговорил он. – Черт, что ли? – Он самый, – отозвался Робин. – Альрик, дай-ка веревку. Старика связали по рукам и по ногам, покрыли одеялом, а рот заткнули кляпом. – Если ты не дурак, лежи спокойно, – шепнул ему Робин. Взяв стоявшую на столе лампу, Зарок спустился с лестницы и, миновав несколько коридоров, вошел в часовню. Убедившись, что стрелки следуют за ним, он нажал потайную пружину в одной из колонн. Через минуту стрелки гуськом спускались по каменным ступеням в подземелье замка. Долго шли они по длинным коридорам и, наконец, остановились перед массивной дверью, за которой слышались заглушенные голоса. Зарок долго подбирал ключи. Когда дверь распахнулась, Робин увидел лежавших в углу на соломе узников. В этих исхудавших, запачканных грязью и кровью людях он не сразу узнал Стифена, Диккона и Мэтью. Они щурились от света, резавшего им глаза; двое начали стонать, а Стифен сказал: – Ребята, видно, нам помирать пора. Опять Арнульф пришел нас мучить. – Ты ошибаешься, приятель! Это не Арнульф, – тихо отозвался Робин. Узнав его голос, Стифен вскочил и бросился ему навстречу, от слабости он едва держался на ногах. – Робин Гуд! Ты нас не покинул! Как ты сюда попал? – Сейчас некогда объяснять. Скажи, ты можешь стоять и ходить? – Да, да! Я ослаб, но если мне дадут хлеба и воды, я даже драться смогу. Я еще отомщу этим негодяям. – Я принесу вам поесть, – сказал Зарок. – Выходите из темницы! Не бойтесь – здесь только друзья. Несчастные повиновались. Как выяснилось впоследствии, их несколько раз пытали: де Молак хотел узнать, где провели они эти последние несколько месяцев. Между тем Зарок дрожащей рукой отпер дверь другой темницы. Он вошел, высоко держа лампу; Робин и Альрик последовали за ним. На соломенной подстилке сидел человек с седыми волосами и длинной седой бородой. Он протирал глаза, недоумевающе смотрел на вошедших и жалобно повторял: – Что вам нужно? Что вам нужно? Зачем вы меня разбудили? Мне снилось солнце... Зарок подбежал к нему, помог встать и заговорил с ним на непонятном языке. Выслушав его, старик подошел к Робину. – Может ли это быть? – воскликнул он. – Неужели вы – тот самый человек, который обещал вернуть мне свободу? О, уведите меня отсюда! Дайте мне умереть на воле! – Рано говоришь о смерти, – отозвался Робин. – Вы вернетесь к тем, кому вы дороги. – Нет у меня никого. Я одинок, – сказал старик. – Вы – Реджинальд де Траси? – дрожащим голосом спросил Альрик. – Да, так меня звали когда-то, – задумчиво отозвался старик. – А ты кто? – Сейчас не время об этом говорить, но вы должны знать, что у вас есть друзья, вы не одиноки, – сказал Альрик. – Хватит ли у вас сил следовать за нами? – Да. Я каждый день шагал взад и вперед по своей темнице, чтобы не разучится ходить. Зарок снова сказал несколько слов на непонятном языке и вывел узника в коридор. Старик с недоумением посмотрел на вооруженных стрелков; казалось, он не верил своим глазам. Мешкать было нечего. Карлик снова повел их по коридорам, и через несколько минут они вошли в часовню. – Подождите меня здесь, – сказал Зарок. – Я сейчас приду. Он ушел, но вскоре вернулся и принес хлеба, мяса и вина. Пленники ели с жадностью, а вино восстановило их силы. Затем они покинули часовню, пересекли внутренний двор и вошли в башню, где лежал связанный караульный и его убитый товарищ. Здесь, на стене, висело оружие. Стифен схватил меч, Диккон последовал его примеру, а Мэтью взял алебарду. – Ну, теперь я их не боюсь! – воскликнул Стифен, размахивая мечом. – Если придется нам с ними встретиться, я дорого продам свою жизнь! (обратно)ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СПАСЕНИЕ
Не успел Стифен выговорить последнее слово, как в комнату ворвалась его жена, Хильда. – Скорей! – кричала она. – Они нашли в квадратной башне убитого Дениса! Сейчас поднимут тревогу! Действительно, через минуту ударили в большой колокол, во дворе замелькали огни фонарей, донесся заглушенный гул голосов. Хильда мельком взглянула на своего мужа. – Значит им все-таки удалось тебя освободить, – сказала она. – Удалось, – проворчал Стифен. – Ну, смотри, как бы опять не очутиться тебе в темнице, – сердито буркнула жена, украдкой пожимая ему руку. – Ладно, ладно. Теперь я им в руки не дамся. Стифен обнажил меч, а ножны отбросил в сторону. – Путь к квадратной башне отрезан, – сказал Зарок. – Что теперь делать? – Умереть, сражаясь! – мрачно отозвался Стифен. – Нет, мы пробьем дорогу к главным воротам, – перебил Робин. – За воротами нас ждет отряд в сорок человек. С их помощью мы справимся с де Молаком и его головорезами. Вперед, друзья! Окружите сэра Реджинальда. А вы, Хильда, идите рядом с ним; так будет безопаснее! – Я пойду впереди! – крикнула эта энергичная особа, поднимая валявшийся на полу меч. – Драться я умею не хуже любого мужчины. – Она правду говорит, – усмехнулся Стифен, одобрительно посматривая на свою супругу. – Вперед! К воротам! – скомандовал Робин Гуд, выбегая во двор. Между тем гулкие удары колокола всполошили стражу. Воины вышли из казарм и выстроились у входа в узкий туннель между двумя башнями, возвышающимися над воротами. Многие держали в руках факелы, и красноватые блики загорались на шлемах и панцирях. Стрелки, возглавляемые Робином и Виллем Рыжим, гурьбой помчались к воротам. Столкновение произошло в начале узкого прохода. В первый момент воины, застигнутые врасплох, растерялись; наконец, при свете факелов, они разглядели зеленые куртки стрелков и поняли, с кем имеют дело. – Де Молак! Де Молак! На помощь! – закричали они. Разгорелся бой. Так как туннель был узкий, то драться могли только те, что стояли в первых рядах. Стифен, горевший желанием отомстить врагу, пробился вперед и, словно одержимый, наносил удары мечом. Его узнал начальник стражи. – Пленники вырвались на свободу! Измена! Измена! – крикнул он. Больше он не успел выговорить ни слова. Стифен ударил его мечом по голове, шлем раскололся, и воин с рассеченной головой упал на землю. Стража отступила. Робин громко затрубил в рог, давая сигнал Маленькому Джону и франклину Тореду, ждавшим за воротами. Немедленно раздался ответный сигнал. – Если нам удастся открыть ворота и опустить подъемный мост, друзья придут нам на выручку! – воскликнул Робин. – А ну-ка, нажмем на них еще разок! – проворчал Стифен. – Они не устоят. Пусть кто-нибудь из вас откроет ворота, а я опущу мост. Робин, Вилль, Стифен и еще несколько человек смело бросились на врага. Воины отступили к воротам. Потеряв несколько человек, они ворвались в караульню и захлопнули за собой дверь. – Не выпускайте их оттуда! – крикнул Стифен. – Эй, Мэтью, ко мне! Нам с тобой частенько приходилось опускать мост. А ты, Хильда, открой ворота. Стифен и Мэтью взбежали по лестнице в комнату, где находилась машина, посредством которой опускался и поднимался мост и решетка. Между тем Хильда с помощью Альрика отпирала ворота. Еще минута – и они вырвались бы на свободу, но вдруг раздались крики: «Де Молак, де Молак!», и в глубине двора замелькали факелы. – Гарнизон! – воскликнул Зарок. – Не пускайте их в туннель! – Вперед, молодцы! И стрелки бросились вслед за Робином навстречу новым врагам. Впереди бежал сам де Молак и еще несколько рыцарей в полном вооружении. У входа в туннель они встретились со стрелками. Бой продолжался в течение пяти минут. Под натиском противника стрелки отступали шаг за шагом; звенела сталь, глухо стонали раненые. Вдруг подъемный мост с грохотом опустился, раздался топот бегущих людей и оглушительные крики: «За Робина и Шервуд!» Торед и Маленький Джон, а за ними сорок рослых молодцов ворвались в ворота и пробились вперед, заслоняя ослабевших товарищей. Маленький Джон, размахивая огромным бердышом, раскалывал шлемы, словно яичную скорлупу. Он был на голову выше всех остальных, и рядом с ним воины де Молака казались карликами. Раздались испуганные возгласы, и неприятель стал отступать. Тщетно кричал и ругался де Молак – воины отказывались ему повиноваться. К Робину подбежал Стифен. – Путь свободен, – сказал он. – Созови своих молодцов! Мы успеем уйти. – Да, нужно спешить. Мы и так понесли тяжелые потери. Было бы безумием продолжать бой. – Выпустим лошадей из конюшни, – посоветовал Стифен. – Тогда де Молак не сможет нас преследовать. – Бежим! – воскликнул Робин. Вместе со Стифеном и несколькими стрелками он бросился к конюшням и выпустил лошадей. Альрик погнал их к воротам, а Стифен, подняв тлеющий факел, раздул его и поджег конюшни. Пользуясь тем, что воины де Молака, не выдержав неожиданного натиска стрелков, скрылись во внутреннем дворе, Робин затрубил в рог, призывая своих ребят. Последним вернулся Маленький Джон. Многие были ранены, но франклин Торен хотел продолжать бой. – Нет, нет! – запротестовал Робин. – Мы должны отступить, пока не поздно. Раненых, которые не могли идти, стрелки понесли на руках, убитых товарищей пришлось оставить. Альрик перевел через мост лошадей, и на них усадили раненых, Хильду и сэра Реджинальда. Торед с Маленьким Джоном и его отрядом остался в воротах, чтобы в случае атаки прикрыть отступление товарищей, но де Молак не помышлял о погоне. Конюшни пылали, и слуги тушили пожар, опасаясь, как бы пламя не охватило замка. Когда Робин снова затрубил в рог, Маленький Джон вывел свой отряд из крепости. Все вскочили на коней и помчались по направлению к лесу. (обратно)ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Ночь была темная, и ехать приходилось медленно. Стифен вызвался служить проводником. Раненые теряли сознание от потери крови; товарищи должны были все время их поддерживать и следить, чтобы кто-нибудь не отбился от отряда. Те, что остались целыми и невредимыми или отделались царапинами, также едва держались в седле; усталость давала о себе знать. Наконец Робин решил сделать привал на берегу ручья. Раненых напоили водой и в темноте кое-как перевязали им раны. Робин приказал стреножить лошадей и расставить караульных, так как не исключена была возможность, что де Молак не отказался от мысли о преследовании. Франклин Торед, Маленький Джон, Вилль Рыжий, Зарок и Стифен принадлежали к тем счастливцам, которые в бою не получили ни одной царапины. Альрику рукояткой кинжала ушибли левую руку, и кость мучительно ныла; Робин Гуда ранили в шею, но, к счастью, рана оказалась неглубокой. Ночь прошла без всяких приключений. Наконец рассвело, и лучи солнца осветили лагерь. Люди лежали, кто ничком, кто на спине. У некоторых лица были бледны, как снег; одни спали, другие лежали в обмороке; Реджинальд де Траси выглядел глубоким стариком, в лице его не было ни кровинки. Зарок принес воды и, напоив своего господина, заговорил с ним на непонятном языке. Робин прежде всего пересчитал стрелков и убедился, что семеро отсутствуют, в том числе Мэтью. Несомненно, все они были убиты. Один стрелок умер ночью, а пятеро были тяжело ранены и нуждались в заботливом уходе. Робин понимал, что далек тот день, когда они снова смогут владеть оружием. Зарок, оказавшийся искусным лекарем, тотчас же принялся за дело и заново промыл и перевязал раны. Сидя на лужайке, Реджинальд де Траси растерянно осматривался по сторонам, глядел на небо, деревья, траву и, казалось, не мог дать себе отчета в том, что произошло. Разговаривал он только с одним Зароком, но Альрик не отходил от него ни на шаг и старался оказывать ему мелкие услуги. Де Траси еще не знал, что этот юноша – его сын, и посматривал на него с удивлением. Торед и Робин с тревогой обсуждали создавшееся положение. Оба понимали, что опасность грозит серьезная. За ними в погоню де Молак мог послать сильный отряд, но в состоянии ли будут они сражаться, когда у них на руках находятся тяжело раненые. Нужно было, не мешкая, отступить и скрыться в чаще леса. Торед настаивал на том, чтобы все отправились в Коллингхэм, где раньше найдут заботливый уход. Решив принять его предложение, Робин послал Нэда Локсли к отцу Туку, чтобы уведомить его о том, что произошло, и вызвать в Коллингхэм. В путь тронулись около полудня. Приходилось соблюдать величайшую осторожность и избегать нежелательных встреч, но все обошлось благополучно, и к вечеру отряд остановился перед домом франклина Тореда. Вестник, посланный вперед, известил об их приближении, и стрелков ждал радушный прием и сытный ужин. Когда Альрик и Торед ввели сэра Реджинальда де Траси, леди Эдвина вскрикнула и пошатнулась. Трудно было узнать в этом сгорбленном седом старике того стройного молодого человека, с которым она рассталась много лет назад. Де Траси выглядел семидесятилетним, хотя ему было лет пятьдесят. Но Эдвина овладела собой и, подбежав к мужу, крепко его обняла. Он был растроган не меньше, чем она, но от слабости и пережитых волнений едва держался на ногах. Жена и сын отвели его в приготовленную для него комнату и уложили в постель. Между тем Робин и Торед вели серьезный разговор. Зная, какая опасность им угрожает, Торед, словно боевой конь, потряхивал гривой седых волос. В любой момент де Молак мог напасть на Коллингхэм, и нужно было принять меры, чтобы отразить нападение. Стифен оказался полезным советчиком и помощником. Втроем они обошли владения Торена и всюду расставили караульных. Раненых поручили заботам леди Эдвины. Лошадей, которым не хватало места в конюшнях, оставили пастись на лугу. Наконец, все дела были сделаны, и измученные люди улеглись спать. На следующее утро явился отец Тук, но вести привез неутешительные. Оказывается, шериф Рэно, желая выслужиться перед королем, предпринял меры к тому, чтобы захватить в плен Робина; во все стороны он разослал патрули, и солдаты шерифа рыскали по Шервудскому лесу. Вождь стрелков понимал, что оставшиеся в лесном лагере с нетерпением ждут его возвращения и нуждаются в его помощи. Ему самому очень хотелось к ним вернуться, но нельзя было покинуть Коллингхэм, которому грозило нападение де Молака. Посоветовавшись с Торедом, Робин принял наконец решение: вместе с Туком он вернется в Шервудский лес, созовет оставшихся там стрелком и вместе с ними перекочует в лес, находящийся в окрестностях Коллингхэма, чтобы в случае нападения де Молака можно было объединиться с Торедом и разбить их общего врага. Нечего было и думать о том, чтобы перевезти раненых в более безопасное место. Вместе с ними остались в Коллингхэме Стифен, Диккон, Маленький Джон и человек десять стрелков. Разумеется, Альрик тоже остался со своими родными. Наконец Робин, дав обещание вернуться в самом непродолжительном времени, уехал. Его сопровождал отряд стрелков. Проводив Робина, сели обедать. К обеду вышел и Реджинальд де Траси. Он выспался, отдохнул, но все еще чувствовал слабость; Зарок сбрил ему бороду, подстриг седые кудри, помог надеть нарядный костюм Тореда. Узнав, что Альрик – его сын, старик горячо его обнял. К де Молаку он, казалось, не питал никакой злобы и избегал о нем говорить. Только по настоянию жены рассказал он свою историю. Он объяснил, что Зарок был слугой мусульманского вождя, который получил тяжелую рану в битве при Акре. Его сочли убитым и оставили на поле сражения. Когда кончился бой, Зарок его отыскал и стал перевязывать рану. Какие-то солдаты, бродившие по полю, хотели убить обоих, но сэр Реджинальд их прогнал и с помощью Зарока перенес раненого в свою палатку. Через несколько дней бедняга умер, а Зарок остался у де Траси и перенес на него любовь, которую питал к прежнему своему господину. Вскоре после смерти короля Ричарда, де Траси был ранен и взят в плен. Лишь через несколько месяцев его выкупили из плена, и он отправился в Англию, но туда не доехал, так как до него дошли слухи, что жена его умерла. Эти слухи, несомненно, распускал де Молак, но Реджинальд им поверил и в течение долгих лет скитался по европейским странам. Наконец он стосковался по родине и вернулся в Англию. Приехав в Карлтон, он остановился на ночь в харчевне. Там он повстречался с Арнульфом, который завязал с ним разговор и кое-что он него выпытал. Этим Арнульф не удовлетворился. Узнав от Зарока, кто такой сэр Реджинальд, он известил де Молака, а тот пригласил сэра Реджинальда в Конистон. Горя деланием разузнать, что произошло за время его отсутствия, Реджинальд принял приглашение и вместе с Зароком отправился в Конистон. Де Молак встретил его любезно, но за ужином они повздорили. Де Молак назвал его французским шпионом, а Реджинальд вспылил, и выхватил меч. Но в ту же секунду слуги де Молака обступили его, отняли оружие и бросили в темницу, где онпросидел три года. – Я не мог понять, почему они меня не убили, – спокойно заметил сэр Реджинальд. На Зарока де Молак смотрел как на слабоумного и оставил его в замке, а карлик, понимая, что может сослужить службу своему господину, разыгрывал из себя шута и терпеливо ждал того дня, когда удастся освободить Реджинальда. – Теперь, благодаря Робин Гуду, я снова на свободе. Мало того – я нашел жену и сына, и больше мне ничего желать, – так закончил свой рассказ сэр Реджинальд. Прошло несколько дней, и Альрик стал надеяться, что де Молак оставит их в покое. Но как-то утром разведчик донес, что в Оссингтон прибыл конный отряд. Стифен навел справки; оказалось, что это были наемники де Молака. Дом франклина стоял на холме, а холм с трех сторон омывался рекой. На берегу расставили караульных. Те видели, что на противоположном берегу снуют меж деревьев воины, которые пока не делали попыток переправиться через реку. Однако не было никаких сомнений в том, что явились они сюда со злым умыслом. Часто стреляли они в Альрика, выходившего на мост, но стрелы не попадали в цель. Когда кто-нибудь из обитателей Коллингхэма пытался переплыть в лодке на другой берег, воины выстраивались на берегу и, казалось, готовы были убить каждого, кто осмелится высадиться. Понимая, что Коллингхэм окружен врагами, старый Торед горел желанием дать бой, но Стифен и Альрик удерживали старики. Со дня на день ждали они возвращения Робина и его стрелков. Дни стояли ясные, теплые, но внезапно погода испортилась, полил дождь, не прекращавшийся целые сутки, а к вечеру следующего дня спустился такой густой туман, что в десяти шагах ничего нельзя было разглядеть. Альрик, Маленький Джон и Стифен роздали оружие всем обитателям Коллингхэма и поставили усиленный караул на случай внезапного нападения. Альрик стоял у ворот, когда издалека донесся протяжный крик. Он прислушался, потом позвал Стифена и Маленького Джона. Втроем они тревожно ждали и, наконец, услышали топот и шарканье ног. Казалось, толпа людей, шлепая по лужам, приближалась к частоколу. Вдруг завеса тумана на секунду разорвалась, и Альрик ясно увидел человека, бегущего по мосту, переброшенному через ров. Он выхватил меч, но человек, добежав до частокола, стал стучать в ворота. – Откройте, откройте! – кричал он. – Сотни воинов идут на Коллингхэм. (обратно)ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КОНЕЦ КОЛЛИНГХЭМА
Узнав караульного, которому было поручено следить за неприятелем, находившимся на другом берегу реки, Альрик поспешил открыть ворота. Он сразу понял, что произошло: под покровом тумана люди де Молака переправились через реку и теперь приближаются к частоколу. – Ступай, предупреди франклина! – крикнул Альрик караульному. – Мы трое будем защищать ворота, пока остальные не подоспеют на выручку. – Эх, если бы не этот проклятый туман, мы могли бы с башни обстреливать мост и не подпускать врага к воротам! – воскликнул Маленький Джон. Да, сейчас все преимущества на их стороне, – отозвался Стифен. – Но башню мы во всяком случае может удержать. – Это нам не поможет: они проскользнут мимо нас и ворвутся в дом, – возразил Альрик. – Мы должны удержать мост. – Послушайте-ка, что мне пришло в голову, – перебил Маленький Джон. – Видите эти две толстые деревянные балки – перекладины от ворот? Помогите мне положить их одну на другую! Мы на них встанем, перевесимся через ворота и будем бить каждого, кто с той стороны подойдет. – Верно! – одобрил Стифен. Через минуту они уже стояли на балках и всматривались в густой туман за воротами. Ждать пришлось недолго. Все громче слышался топот ног, бряцание оружия, неясный гул голосов. На мосту показался человек в латах, за ним следовали воины – шли они по шесть человек в ряд. – Вот оно – это осиное гнездо! Вперед! Мы их отсюда выкурим! – крикнул начальник отряда. Альрик узнал голос де Молака. Несколько солдат бросились вперед и начали колотить в ворота тяжелыми бердышами. Тогда через ворота перевесились трое, сверкнул меч, опустились два топора, и три воина, глухо застонав, упали. Но их места были тотчас же заняты товарищами. Ворота трещали, Альрик и его друзья сверху наносили удары, но было ясно, что их дело проиграно. Вдруг к Альрику подбежали Диккон и Гурт, старый слуга франклина. – Назад! – кричали они. – Враги перелезли через частокол и бегут к дому! Не говоря ни слова, Альрик, Стифен и Маленький Джон спрыгнули с балок на землю и бросились вслед за Гуртом. Вбежав в дом, они заперли массивные двери, опустили тяжелые болты, задвинули засовы. В доме царило смятение. Слуги снимали со стен кольчуги и второпях надевали их на себя; другие метались по комнатам, не зная, с какой стороны ждать нападения. Десять стрелков, оставленных Робин Гудом в Коллингхэме, выстроились в ряд и держали наготове свои луки. Посреди залы стоял старый Торед в кольчуге, но без шлема; с невозмутимым спокойствием он ждал нападения. За его спиной стоял сэр Реджинальд, держа в руке обнаженный меч. – Зажгите еще несколько факелов! – громко крикнул Торед. – Бой будет жаркий, а в темноте невесело драться. Альрик подбежал к отцу. – Прошу вас, уйдите отсюда! – воскликнул он. – Вы еще не оправились, у вас не хватит сил сражаться. – Я ему это говорил, Альрик, – вмешался Торед, – но он настоял на своем. Снаружи раздавались оглушительные крики; дверь сотрясалась от ударов. Сзади послышался треск; солдаты де Молака, выбив раму окна, спрыгнули в залу и через минуту завязался рукопашный бой. В дом ворвались двенадцать человек, и с ними люди Тореда справились без труда. Но вдруг затрещали массивные двери и, не выдержав напора, распахнулись, открывая путь де Молаку и его воинам. Ожесточенный бой продолжался в течение десяти минут; Торед со своими людьми медленно отступал в дальний конец залы. Одному из воинов де Молака пришла в голову дьявольская мысль: он выхватил из подставки факел и поджег драпировку. Языки пламени лизнули стену и поползли к потолку. Огонь быстро распространялся, и бой прервался на несколько минут. Торед воспользовался этим и подозвал Альрика. – Мой мальчик, все погибло! Ступай, отыщи мать! Спаси ее и всех женщин, которые находятся в доме. Постарайтесь спуститься к реке и переправиться на другой берег. Потом отыщи Робин Гуда и оставайся с ним, пока не настанут другие времена. – Дедушка, позволь мне остаться с тобой! – взмолился Альрик. – Нет, ступай! Перед тобой вся жизнь, а я уже стар, и все равно мне жить осталось недолго. Я хочу умереть с мечом в руке. – Да, да, Альрик, иди! – вмешался Маленький Джон, который прислушивался к разговору. – Я останусь с франклином и буду защищать его до последней минуты. – Ну, так вперед, друзья! – крикнул Торед. – Покажем этим собакам, как мы умеем драться. Бросившись к выходу, Альрик увидел сэра Реджинальда; тот растерянно озирался по сторонам и, по-видимому, не давал себе отчета в том, что происходит. Подле него стоял Зарок, державший в руке кривой меч. – Отец, мы должны спасти мою мать! Идем! Альрик схватил его за руку и увлек за собой; карлик последовал за ними. В коридоре они встретили Хильду. – Мы разбиты? – Да. Нужно спасать женщин! – крикнул Альрик. – Я их позову, а вы охраняйте коридор! Через минуту она вернулась с леди Эдвиной и служанками. Открыв потайную дверь, они выбежали в сад; Альрик шел впереди, сэр Реджинальд и Зарок замыкали шествие. Пробираясь в густом тумане, они отыскали калитку в частоколе и благополучно спустились к реке. – Хильда, – сказал Альрик, – усади всех в лодки. Если через десять минут я не вернусь – переправьте на другой берег и спрячьтесь в лесу. Бегом бросился он назад, к дому, надеясь, что в последний момент ему удастся увести деда. Крыша дома была охвачена пламенем. В большой зале огненные языки лизали дубовые балки потолка, жара стояла невыносимая, дым слепил глаза. В дальнем конце залы бой все еще продолжался. Торед, раненый и истекающий кровью, стоял над телом убитого Гурта и отражал нападение четырех воинов; Маленький Джон и Стифен дрались подле него. Альрик подбежал к ним как раз в тот момент, когда один из воинов вонзил меч в грудь Тореда; старик, смертельно раненый, упал. С помощью Маленького Джона оттащил Тореда в сторону; вдруг с оглушительным треском рухнули балки, и огненная завеса разделили нападающих и защищающихся. – Спасайтесь! – крикнул Стифен. – Битва кончена! Сейчас рухнет крыша. Положив на пол безжизненное тело Тореда, Альрик и Маленький Джон бросились к выходу; за ними последовали человек шесть – это были все, оставшиеся в живых. Когда они выбежали в сад, крыша провалилась, и столб пламени взметнулся к небу. Они спустились к реке. – Где мой отец? – закричала леди Эдвина, когда Альрик, шатаясь от усталости, подошел к лодкам. – Умер. До последней минуты он сражался. Леди Эдвина закрыла лицо руками. Маленький Джон и Стифен взялись за весла; под покровом тумана они переправились на другой берег и, высадившись, пошли на юг, избегая приближаться к Карлтону, где де Молак мог оставить своих людей. Шли они около часу. Занялась заря, и туман стал рассеиваться, когда они вступили в лес. Выйдя на маленькую лужайку, они решили сделать привал и улеглись на мокрой траве. (обратно)ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ В КОЛЬЦЕ
Альрика разбудил Стифен. – Проснись, проснись, – говорил он. – Помощь не за горами! Сам Робин Гуд со своим отрядом идет к Коллингхэму. Альрик сел, протер глаза и сразу вспомнил о происшествиях прошлой ночи. – Поздно, Стифен! – сказал он. – Слишком поздно. – Никогда не поздно отомстить. Или ты забыл о своем деле и отце? – Да, ты прав. Сколько крови было пролито из-за этого негодяя де Молака! Я не успокоюсь, пока он жив. Весть о приближении Робин Гуда принес стрелок, которого Робин послал вперед предупредить франклина. На беглецов, скрывавшихся в лесу, он наткнулся случайно. Маленький Джон, как ребенок, радовался возвращению Робина. – С ним нам никто не страшен, – говорил он. Альрик старался утешить отца и мать. Через час Робин был уже с ними. Когда он узнал о гибели Коллингхэма, лицо его потемнело от гнева. – Альрик, – сказал он, обнимая юношу, – я глубоко сочувствую твоему горю. Старый франклин был честным, благородным человеком. Я никогда не прощу себе того, что мы опоздали. Но и у нас не все шло гладко: меня преследует шериф ноттингхэмский с большим отрядом. Чтобы избежать столкновения, мы должны были идти окольным путем. – Не вини себя, Робин, ты ни в чем не виноват. Но с де Молаком нужно покончить. Отец Тук, прислушивавшийся к их разговору, сердито сжал кулаки и воскликнул: – Все знают, что я – человек миролюбивый и никому не желаю смерти! Но клянусь, я не возьму в рот вина, пока де Молак не будет убит. – Ты бы уже заодно отказался и от эля, – усмехнулся Маленький Джон. – Ну, Робин, что же нам теперь делать? – Раз Коллингхэм сожжен, придется изменить все наши планы, – отозвался Робин Гуд. – Мешкать здесь нечего. У нас на руках женщины и дети; нужно их отвести в безопасное место, а в Шервудском лесу рыщут люди шерифа. После долгих разговоров решено было отступить на север, к Йоркширу, и там в лесном лагере оставить женщин, детей и раненых. Затем стрелки могли вернуться назад и свести счеты с де Молаком. Когда решение было принято, пришлось подумать и о еде, так как бежавшие из Коллингхэма со вчерашнего дня ничего не ели. К счастью, стрелки Робина привезли с собой съестных припасов, и все могли утолить голод. Известие о гибели Коллингхэма так сильно подействовало на Робина, что он забыл принять необходимые меры предосторожности, не разослав разведчиков и поставил только двух караульных на расстоянии двухсот шагов от лагеря. Когда все сидели за едой, громко прозвучал рог, и Робин тотчас же вскочил. – Это сигнал Тома! – крикнул он. – К оружию! Снова раздался звук рога, и на лужайку выбежал Том; на бегу он кричал: – Враги приближаются! Несколько сот человек! Стрелки схватили оружие и, окружив женщин, выстроились в два ряда. Через несколько минут засвистели пущенные из арбалетов стрелы, и неприятельский отряд вышел на лужайку. Воинов вел человек в шлеме и латах. Когда завязался бой, он с обнаженным мечом бросился на Робина и крикнул: – На этот раз ты не уйдешь, негодяй! – Ба, да ведь это шериф! – насмешливо откликнулся Робин. – В Шервудском лесу ты меня одурачил и не вышел на поединок, ну, а сегодня мы с тобой посчитаемся! И они скрестили оружие. – Ты будешь повешен в Ноттингхэме! – заревел Рэно. Дрался он ожесточенно, надеясь, что ни один меч не пробьет его стальных доспехов. Однако эта надежда не оправдалась. Робин рассек мечом стальные звенья кольчуги и пронзил насквозь своего смертельного врага. – Уж ты-то во всяком случае не увидишь, как меня будут вешать, – прошептал он, когда шериф упал на землю. Узнав о гибели вождя, солдаты растерялись и отступили. Спрятавшись за деревьями, они стали обстреливать людей Робина из арбалетов, а те в свою очередь взялись за луки. Обе стороны понесли потери. Так продолжалось около часу. Вдруг неподалеку раздались громкие крики, и резко прозвучала труба. Воины прекратили стрельбу, и стрелки последовали их примеру. Робин нахмурился. – Как ты думаешь, что это значит? – спросил он Маленького Джона. – Не знаю, – отозвался тот, – но боюсь, что эти негодяи получили подкрепление. – Да, да! – воскликнул Альрик. – Наверное, им на помощь подоспели люди де Молака! Действительно, через несколько минут снова прозвучала труба, и на поляну выехал рыцарь в боевых доспехах; он держал в руке копье, к которому был привязан белый платок. Робин сделал несколько шагов ему навстречу и спросил, о чем хочет он говорить. Всадник – это был де Молак – злорадно усмехнулся. – Знай, что вы окружены со всех сторон и никому из вас не удастся спастись. Мне сказали, что вами убит Роберт Рэно, ноттингхэмский шериф. За это преступление вы все заслуживаете смерти, но с вами есть женщины, их я бы не хотел убивать. К тому же несколько человек я должен захватить живыми. Мне нужен прежде всего ты сам, а кроме тебя – этот великан, которого вы зовете Маленьким Джоном, сэр Реджинальд де Траси, черномазая мартышка Зарок, мои слуги Стифен и Диккон и еще кое-кто. Во избежание кровопролития выдайте мне этих людей. Если же ты откажешься, я никого не пощажу! Даю тебе десять минут на размышление. – Не нужно мне и десяти секунд! Живыми ты нас не возьмешь! Ступай к своим головорезам! Де Молак хотел что-то возразить, но Робин натянул тетиву и прицелился. О ловкости Робина-стрелка де Молак имел представление; он испугался и, пустив лошадь галопом, скрылся за деревьями. – Друзья, – сказал Робин, обращаясь к стрелкам, – враг превосходит нас численностью, мы окружены, и нет у нас надежны на победу. Но драться мы будем до последней минуты. Те, кому удастся спастись, должны увести женщин и искать пристанища у одного из наших друзей. – Мы победим или умрем! – закричали стрелки. – Да здравствует Робин Гуд и Шервудский лес! Робин Гуд пожимал руки товарищам, словно прощаясь перед смертью. Маленький Джон, отец Тук, Вилль и Нэд Локсли крепко его обняли. Тук давно уже снял рясу и, засучив рукава рук, вооружился топором. – Ну, сынок, – сказал он Маленькому Джону, – в последний раз сражаемся мы бок о бок. Если тебя убьют, я последую за тобой. Боюсь, что без меня тебе скучно будет лежать в могиле. – Верно, Тук, – отозвался Маленький Джон, обнимая толстяка. – Но еще неизвестно, чем кончится дело. Может быть мы с тобой доживем до глубокой старости. Не успел он договорить эту фразу, как враги бросились в атаку. За конным отрядом шли пешие, и стрелки очутились как бы в стальном кольце. Много человек полегло на лесной лужайке, и лес огласился воплями раненых и умирающих. Несмотря на геройское сопротивление стрелков, круг сужался. Поистине, положение было отчаянное, еще несколько минут – и де Молак готов был торжествовать победу, как вдруг из чащи леса донесся боевой клич, и в ряды неприятеля врезался с тыла, неведомо откуда появившийся конный отряд. Новоприбывшие дрались с такой яростью, что люди де Молака не выдержали неожиданного натиска и бросились врассыпную. Всадники их преследовали и избивали беспощадно. Робин и его друзья, измученные, обессиленные, бросили оружие на землю и с недоумением смотрели на своих спасителей. Три рыцаря в кольчугах и шлемах спрыгнули с седел и бросились к Робин Гуду. Это были тан Эдуард, граф Нортумберлендский и Гуго де Биго. – Дорогой друг, – говорил граф Нортумберлендский, пожимая руку Робина, – какое счастье, что мы явились во время! Альрик, Тук, Маленький Джон, я уже не чаял вас увидеть. – Здравствуйте, ребята! – крикнул де Биго. – Мы с вами еще потолкуем, а сейчас я хочу поймать де Молака. Я видел, как он удирал вместе со своими людьми. Через минуту де Биго со своими воинами уже мчался в погоню за де Молаком, но стрелки были слишком измучены, чтобы думать о преследовании. (обратно)ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ ОТВЕТ ДЕ МОЛАКА
Робин мог себе позволить лишь несколько минут передышки. Нужно было позаботиться о раненых, похоронить убитых и, наконец, раздобыть съестных припасов. Узнав, что сэр Реджинальд де Траси находится в лагере, граф Нортумберлендский поспешил его отыскать. Когда-то они сражались бок о бок, но сейчас в этом сгорбленном преждевременно состарившемся человеке рыцарь Черного Ворона едва ли мог узнать своего боевого товарища. Любопытно, что тан Эдуард приветствовал Реджинальда сдержанно и сухо; по-видимому, он не забыл, что рыцарь был женат на женщине, которую он сам когда-то любил. Когда стемнело, стрелки разложили костры и приготовили ужин. Греясь у костра, граф Нортумберлендский рассказал о том, как попал он в окрестности Коллингхэма. В своем замке он задержался дольше, чем предполагал. Покончив со всеми делами, он и де Биго собрали отряд в пятьдесят человек и, помня слово, данное Робину, отправились в Шервудский лес, где надеялись встретить Робин Гуда или узнать, где он находится. К ним присоединился тан Эдуард со своим отрядом. Сегодня утром, выехав на дорогу, ведущую в Карлтон, они увидели всадника, скакавшего во весь опор. Левая рука его была на перевязи, шлем помят, лошадь взмылена. Рыцарь Черного Ворона остановил всадника, и спросил, куда он скачет, тот, не зная, что имеет дело с друзьями Робин Гуда, охотно отвечал на вопросы. Этот человек оказался слугой шерифа ноттингхэмского. От него они узнали, что король приказал шерифу отыскать Робина и убить его или взять в плен. Шериф с большим войском вступил в лес и напал на стрелков, но был убит в начале боя. Затем слуга Рэно рассказал, как несколько дней назад Робин Гуд освободил узников, находящихся в Конистонском замке, и вместе с ними нашел приют в Коллингхэме, но де Молак сжег Коллингхэм, убил франклина Тореда и, преследуя беглецов, явился в критический момент на помощь людям шерифа. Сейчас стрелки окружены со всех сторон, и гибель их неизбежна. Слуга Рэно добавил, что де Молак послал его в Ноттингхэм известить о смерти шерифа. Сообщив эти новости, всадник хотел ехать дальше, но так Эдуард, взбешенный известием о гибели Коллингхэма, приставил ему кинжал к горлу и крикнул: – Веди нас к тому месту, где идет бой! Парень заупрямился, но когда Эдуард пригрозил его повесить, он уступил и согласился показать дорогу. Галопом поскакали они по направлению к лесу и, к счастью, явились вовремя. Между тем стрелки построили несколько шалашей для женщин и раненых, а к ночи вернулся де Биго со своими воинами. Преследуя врага, они убили человек двадцать, но многим – в том числе и де Молаку – удалось уйти. – Будет и на нашей улице праздник, – сказал рыцарь Черного Ворона. – Ко мне должны присоединиться еще пятьдесят воинов, да и де Биго ждет подкрепления. Я предлагаю отправиться в Коллингхэм и там раскинуть лагерь. Коллингхэм с трех сторон окружен рекой, а теперь де Молак не посмеет нас тревожить. Женщины и раненые будут в полной безопасности, а стрелки отдохнут. Когда подоспеет подкрепление, мы все вместе нападем на Конистон и покончим с де Молаком. Предложение рыцаря было принято единогласно, и на следующий день Робин со своими друзьями отправился в путь. Впереди ехал отряд графа Нортумберлендского, за ним следовали стрелки, взявшие на себя охрану женщин, а воины тана Эдуарда и де Биго составляли арьергард. К вечеру добрались они до Коллингхэма. Альрик чуть не заплакал, когда увидел развалины дома, где он родился и вырос. Вместе с Маленьким Джоном и Стифеном они стали отыскивать среди тлеющих обломков тела убитых. Старого Тана узнали по браслету, который он всегда носил на руке; подле него лежал его оруженосец Гурт. Всех убитых похоронили на следующий день, а гроб с телом Тореда торжественно опустили в склеп. В роще около сгоревшего дома построили хижины и шалаши для женщин и раненых, а воины и стрелки разместились в палатках. Быстро летело время. Прошло несколько недель. Рыцарь Черного Ворона несколько раз посылал гонцов поторопить людей, которые должны были присоединиться к отряду. Шли приготовления а атаке Конистона. Стрелки пополняли запасы стрел, делали лестницы, чтобы по ним взбираться на крепостные стены, сколачивали плоты для переправы через ров, наполненный водой. Несколько раз Робин, Альрик и тан Эдуард ездили к Конистону на рекогносцировку. Они узнали, что де Молак со своими людьми благополучно вернулись в замок и жил в Конистоне, словно в осажденной крепости. Часто делал он налеты на окрестные деревни, безжалостно грабил и убивал жителей. Крестьяне говорили о нем затаенной ненавистью и умоляли Робина защитить их от жестокого рыцаря. Между тем король Иоанн сам подавал пример своему любимцу. Не помышляя о соблюдении хартии, он грабил и опустошал страну, а на вмешательство графа Сюррэй не обращал ни малейшего внимания. Приготовления приближались к концу. В коллингхэмский лагерь стекались крестьяне, бежавшие от преследований; их нужно было приютить и накормить, а Робин для каждого нашел работу; они охотно помогали делать лестницы, плоты и заготовлять стрелы. Наконец в ясное октябрьское утро маленькое войско вышло из Коллингхэма и двинулось на Конистон. Впереди шли стрелки под предводительством Робина и его помощников – Маленького Джона, Вилля, Локсли и отца Тука, который снял свою рясу и надел зеленую куртку стрелков; толстяк нес на плече огромный бердыш. За стрелками шел отряд тана Эдуарда; впереди выступал Вульфлак, белокурый, голубоглазый парень; он был знаменосцем отряда. Далее следовали воины рыцаря Черного Ворона и де Биго, а шествие замыкали крестьяне, тащившие лестницы, колья, доски и плоты. На нескольких телегах везли съестные припасы, одеяла и самую необходимую утварь. Было уже после полудня, когда вдали показался Конистонский замок. Войско разбилось на маленькие отряды, которые заняли заранее намеченные позиции. Жители окрестных деревень высыпали на дорогу, им любопытно было посмотреть, что будет дальше, но опасаясь де Молака, они держались на почтительном расстоянии. Робин Гуд хотел немедленно атаковать замок, но де Биго и граф Нортумберлендский воспротивились, заявив, что это противоречие правилам рыцарства. Следуя их примеру, Робин, Альрик и Реджинальд де Траси подъехали к краю рва и остановили коней против ворот замка. Робин затрубил в рог – тот самый рог, который он выиграл на состязании в Ноттингхэме. На первый призыв никакого ответа не последовало, но когда Робин затрубил вторично, де Молак с несколькими воинами показался на одной из башен, защищавших ворота. – Что за шум? Зачем вы сюда явились? – сердито крикнул он. – Слушай, сэр Питер де Молак! Я, Роберт Нортумберлендский, приказываю тебе отдать этот замок законному владельцу, Реджинальду де Траси, и предстать перед судом пэров. Я обвиняю тебя в том, что Реджинальда де Траси ты держал пленником в его же собственном замке; ты сжег Коллингхэм и убил франклина Тореда и его вассалов. За это ты ответишь перед судом. Или, быть может, ты предпочтешь встретиться со мной в поединке. Я бросаю тебе вызов! Граф снял латную рукавицу и бросил ее на землю. – Недурно сказано! – захохотал де Молак, уверенный в том, что Конистонский замок неприступен. – Недурно сказано! – Я жду ответа! – крикнул граф. – Вот мой ответ! Де Молак дал знак, и два воина, выступив вперед, выстрелили из арбалетов. Одна стрела убила лошадь Реджинальда де Траси; другая с такой силой ударилась в грудь графа, что он слетел с седла; только панцирь спас ему жизнь. – Убирайтесь, пока не поздно! – закричал де Молак. – А не то, я вас всех искрошу! Робин соскочил с седла и помог графу Нортумберлендскому подняться на ноги, а сэру Реджинальду высвободиться из-под убитой лошади. – Вот вам и правила рыцарства! – усмехаясь воскликнул он. – Ведь я вам говорил, что с этим негодяем церемониться нечего! (обратно)ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ШТУРМ КОНИСТОНА
Вожди обдумали план атаки. Пятьдесят стрелков под командой Вилля Рыжего и Нэда Локсли, разбившись на маленькие группы, ходили дозором вокруг замка. Им дан был приказ стрелять в каждого, кто покажется на крепостных стенах. Человек сто воинов под предводительством Стифена и Зарока скрылись в лесу. Им велено было подойти к замку с тыла и отыскать в стене потайную дверь, которая вела к туннелю. Стифену было известно о существовании этого подземного выхода из крепости; им пользовались только в минуты крайней опасности. Туннель вел в часовню, соединенную подземным ходом с замком. Робин Гуд рассчитывал, что в разгар битвы воины под командой Стифена неожиданно ворвутся в замок и внесут смятение в неприятельские ряды. Успех дела зависел от того, удастся ли им пробиться через туннель. Граф и де Биго должны были наступать со стороны крепостных ворот; они командовали сотней воинов, а их помощниками вызывались быть Тук и Маленький Джон. Робин, Альрик и тан Эдуард взяли на себя другие обязанности. Штурм начался. Человек пятьдесят – в том числе и присоединившиеся к войску крестьяне – вышли из-за деревьев и направились к наполненному водой рву, чтобы опустить на воду плоты. Каждый плот был сколочен из трех досок, державшихся на двух бочках. Когда люди приблизились ко рву, в воздухе зажужжали стрелы, пущенные из арбалетов. Тогда Робин и его стрелки натянули тетиву своих луков. Стреляли они метко. На сторожевой вышке стоял де Молак и с ним еще несколько человек в боевых доспехах. Видно было, как они жестикулируют, отдавая распоряжения, но на таком расстоянии стрелы не могли пробить их стальных лат и шлемов. Послышался скрип колес, и большой камень, выброшенный метательным орудием, взлетел надо рвом и, описав дугу, упал неподалеку от того места, где стояли де Биго и другие вожди. Люди, приводившие в действие эту машину, находились под прикрытием, и стрелы не могли причинить им никакого вреда. За первым камнем полетел второй, третий... Осаждающим замок приходилось перебегать с места на место. На стенах снова показались арбалетчики и открыли стрельбу. Каждый удачный выстрел осажденные встречали радостными криками. Так прошло около часу. Между тем на воду спустили шесть плотов, но один из них был разбит попавшим в него камнем. В течение нескольких минут Робин Гуд совещался с де Биго, а затем вместе с Альриком и горсточкой воинов вошел в лес. Там, на некотором расстоянии от крепостных стен, ждали крестьяне, разбившиеся на двенадцать групп. Каждая группа взяла себе по одной переносной лестнице вышиной в двадцать пять футов. Шесть групп расположились слева от крепостных ворот, а остальные – справа. По приказанию Робина к каждой кучке присоединились по два стрелка и по три воина. Затем все стали ждать сигнала. После ухода Робина, де Биго и граф Нортумберлендский с пятьюдесятью воинами в кольчугах и шлемах бросились к плотам, вскарабкались на них и, отталкиваясь длинными шестами, подплыли к площадке подъемного моста. Здесь они высадились и тяжелыми бердышами стали рубить массивные ворота. Но осажденные успели к этому приготовиться. Из бойницы над воротами полетели тяжелые камни, полился кипяток и горячая смола. Когда де Биго пошел в атаку, Робин затрубил в рог. Повинуясь сигналу, крестьяне, крестьяне со своими лестницами выбежали из леса. Лестницы они перебросили через ров так, что один конец был укреплен у края рва, а другой упирался в крепостные стены, доходя почти до самых бойниц. Как только лестницы коснулись стены, стрелки и воины стали по ним взбираться. Один из караульных их заметил и поднял тревогу; на помощь ему подоспели слуги де Молака, выстроившиеся в наружном дворе. Альрик, первым вскарабкавшийся по своей лестнице, не успел вылезти из бойницы, как на него налетел рослый воин, вооруженный коротким копьем. Альрик выбил у него из рук оружие и мечом рассек ему голову. Между тем подоспели стрелки, и на крепостной стене завязался бой. Несколько воинов де Молака им удалось сбросить в ров, остальные обратились в бегство. Альрик, тан Эдуард и с ними человек двадцать воинов и стрелков спустились в первый двор, где их окружили слуги де Молака. Положение было отчаянное, пока на помощь не явился Робин Гуд со своими людьми. Вместе пробились они к туннелю, ведущему к воротам, и Робин снова затрубил в рог. – Сюда, молодцы! – крикнул он. – Откроем ворота, впустим наших друзей, и победа за нами! Человек шесть – в том числе Робин и Альрик – взбежали по узкой лестнице в комнату, где находился ворот, посредством которого поднималась решетка у ворот и опускался подъемный мост. Им удалось поднять решетку на три-четыре фута, когда люди, находившиеся на сторожевой вышке, услышали шум и, спустившись вниз, попытались ворваться в комнату. Но Робин с Альриком охранял узкий проход, пока четверо стрелков поворачивали ворот. Наконец решетка была поднята, распахнулись тяжелые ворота, и в туннель вбежали те, что стояли на площадке подъемного моста. С ними были Маленький Джон, Тук, а также де Биго, сэр Реджинальд и граф Нортумберлендский. Как только распахнулись ворота, де Молак дал сигнал и вместе со своими людьми отступил к замку. Между тем Маленький Джон с де Биго вбежали в башню, где встретили Альрика и Робина. – Скорей, скорей! – кричал де Биго. – Нужно опустить подъемный мост! Через несколько минут мост был опущен. Стрелки и воины, оставшиеся на другой стороне рва, ворвались в крепость. Робин быстро восстановил порядок. Осаждающие выстроились в ряды и двинулись к замку, не встречая на своем пути почти никакого сопротивления, так как де Молак и его люди уже укрылись в замке. Граф, де Биго и тан Эдуард взбежали по каменным ступеням и начали разбивать бердышами крепкую дубовую дверь замка. Сверху бросали на них камни и лили кипяток. Из-под топоров летели щепки, но дверь не поддавалась В графа Нортумберлендского попал большой камень и нанес ему тяжелые ушибы, а де Биго получил ожог. Их места тотчас же заняли Альрик и сэр Реджинальд, как вдруг Робин скомандовал: – Назад! Топоры нам не помогут. Я видел во дворе огромную дубовую балку. Мы воспользуемся ею как тараном. Двенадцать человек притащили балку и, поднявшись по ступеням, стали разбивать ею дверь. Вскоре была пробита огромная дыра, дверь затрещала, и болты сорвались с крючьев. Как раз в эту минуту сверху был сброшен огромный камень, расплющивший четырех солдат и одного стрелка. Люди, видевшие гибель своих товарищей, заревели от бешенства и, распахнув двери, ворвались в замок. В течение нескольких минут де Молак защищал лестницу, но затем, не выдержав натиска, отступил в зал, ярко освещенный факелами. У него осталось еще около сотни воинов, тогда как ряда нападающих значительно поредели. Де Молак, видя, что перевес на его стороне, скомандовал: – Вперед! Никого не щадить! В конце концов победа останется за нами! Он бросился в атаку, и неизвестно, кто вышел бы победителем, если бы в зал не ворвался Стифен со своим отрядом, пробравшийся в замок через подземный ход. Положение дел резко изменилось. Кое-кто из слуг де Молака бросил оружие и просил пощады. Де Молак и Арнульф, окруженные горсточкой верных людей, ждали последней схватки. Тогда вперед выступил Реджинальд де Траси и, обращаясь к де Молаку, сказал: – Рыцарь, признай себя побежденным и сдай оружие, а я обещаю тебя пощадить при одном условии: ты должен навсегда покинуть Англию. – Убирайся к черту! – заревел де Молак, замахиваясь мечом на Реджинальда. Альрик пытался парировать удар, но меч опустился и сэр Реджинальд, раненый в плечо, зашатался и упал на руки тана Эдуарда. – Негодяй! – крикнул тот де Молаку. – Это был нечестный удар! Де Молак хрипло захохотал. – Вот тебе! Получай! – заревел он. И раньше, чем кто-либо успел опомниться, он вонзил меч в горло тана. Тан и Реджинальд упали вместе. Маленький Джон и Робин рванулись вперед: своим бердышом Маленький Джон пробил стальной шлем и расколол череп де Молаку, а Робин покончил с Арнульфом. Те, что еще уцелели, побросали оружие и сдались в плен. Окинув взглядом залу, где происходило побоище, Робин задумчиво сказал: – Друзья, замок в наших руках, но боюсь, что мы дорого заплатили за победу. (обратно)ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СМЕРТЬ ИОАННА
Конистонский замок перешел к прежнему своему владельцу, но Реджинальд де Траси не знал о происшедших переменах. Тяжело раненый, он лежал в одной из комнат замка, а соседнюю комнату занимал граф Нортумберлендский, находившийся не в лучшем состоянии. За обоими ухаживал карлик Зарок, и более заботливую сиделку было бы трудно найти. Между тем в замке кипела работа. Сдавшихся в плен слуг де Молака посадили под замок, раненых поручили заботам женщин, пришедших из ближней деревушки, убитых похоронили на соседнем кладбище, а останки тана Эдуарда его вассалы увезли в Боддингтон. Через несколько дней Робин освободил пленников и выпроводил их из замка, строго наказав никогда не показываться в этих краях. Когда был закончен ремонт крепостных стен, пострадавших во время штурма, Робин Гуд послал Нэда Локсли и Вилля Рыжего в коллингхэмский лагерь за оставшимися там женщинами и стрелками, выздоравливавшими после ранений. Наступала холодная, сырая погода, и Робин со своими молодцами решил провести зиму в замке. В Англии положение было очень серьезное. Король Иоанн издевался над восставшими против него баронами, отказывался соблюдать Великую Хартию Вольностей и, стоя во главе армии головорезов, грабил и разорял страну. Верными его приспешниками были Буш Убийца, Соттим Безжалостный и Фалько Кровавый. Подошло рождество. Реджинальд де Траси и граф Нортумберлендский к тому времени оправились, приехал де Биго и попал как раз на рождественский обед. В большом зале были расставлены длинные столы, трещавшие под тяжестью блюд и кувшинов с вином. Элен-э-Дэл играл на арфе, Маленький Джон осушал кружку за кружкой, а Тук от него не отставал. В это время король Иоанн находился в своем Ноттингхэмском замке. В сумерки засыпанный снегом всадник подскакал к воротам Конистона и передал Стифену письмо для Гуго де Биго. Рыцарь прочел записку, спрятал ее в карман камзола и объявил, что один старый друг поздравляет его с праздником. Когда пир окончился и все стали клевать носом, де Биго отозвал Робина и Альрика в сторону: – Мы должны быть начеку, – сказал он. – Я только что получил предостережение от де Вира, который находится сейчас с королем. Иоанн поклялся отомстить за смерть Рэно и де Молака. Завтра он хочет напасть на замок. – Ну, что ж! – отозвался Робин – Пусть приходит! Мы ему устроим встречу! Послали за Стифеном и отдали ему приказ расставить караульных. Ночью Робин и Альрик несколько раз обходили сторожевые посты. На следующее утро Иоанн с большим войском подошел к стенам Конистона. Грозно потребовал он сдать замок, а отряд арбалетчиков стал обстреливать крепостные стены. Стрелки в долгу не остались и послали несколько десятков стрел, а король, не надеясь на свою кольчугу, поспешил ускакать. Он осадил замок, но на третий день должен был снять осаду, так как получил известие о мятеже, вспыхнувшем на севере. Однако перед уходом он объявил через герольда, что очень скоро вернется, и тогда от Конистона не останется камня на камне. На севере Иоанн одержал победу над молодым шотландским королем, присоединившимся к восставшим баронам, и сжег несколько городов. Испуганные успехами короля, бароны забили тревогу, и многие явились к Иоанну с повинной. Получив, таким образом, подкрепление, Иоанн воспрянул духом, и для Англии настали тяжелые времена. С первыми теплыми днями Робин и его стрелки вернулись в Шервудский лес и повели ожесточенную борьбу с наемниками Иоанна, грабившими окрестные деревни. Бедняки бежали в лесной лагерь, зная, что Робин Гуд никому не откажет в защите. Робин организовал крестьянские отряды и кончилось тем, что Иоанн послав в Шервудский лес войско, возглавляемое Бушем и Фалько. Когда Робин и его стрелки бежали в Конистон, войско окружило замок, и осажденные оказались отрезанными от всего мира. Чтобы взять Конистон, Фалько и Буш использовали все известные в то время осадные машины, тараны, штурмовые лестницы, метательные снаряды, несколько раз они пытались взять замок штурмом, но все попытки оканчивались неудачей. Тогда Уолтер Буш поклялся овладеть замком, хотя бы ждать ему пришлось целый год, и решил взять осажденных измором. Стрелки часто делали вылазки, стараясь завязать сношения с жителями окрестных деревень, но ни разу не удалось им прорваться сквозь железное кольцо, сомкнувшееся вокруг замка. Проходили недели. Истощились запасы съестных припасов, съедены были все лошади, обитателям замка приходилось довольствоваться горстью муки в день. К счастью, они не терпели недостатка в воде, так как во дворе замка был колодезь. Стрелки и воины, охранявшие крепостные стены, исхудали и походили на призраков. От слабости они едва могли держать в руках оружие. Но никто даже ни заикался о том, чтобы сдать замок. Прошел сентябрь, и Робин решился на отчаянный шаг. Вместе со Стифеном он задумал выйти через потайной туннель из замка, прорваться ночью сквозь линию неприятеля и, отыскав де Биго или графа Нортумберлендского, соединиться с ними и снять осаду. Проводив их до потайной двери, Альрик долго смотрел им вслед и видел, как они бросились в воду и доплыли до противоположного берега. Потом тьма поглотила обоих. Тяжело было на сердце у Альрика; ему казалось, что он навсегда распрощался со своими друзьями. Октябрь кончался, а от Робин Гуда все еще не было никаких сведений. Казалось, гарнизон крепости доживает последние дни; еще одна атака – и замок был бы сдан неприятелю. Но Уолтер Буш предпочитал морить осажденных голодом. Кроме того, он знал, что король Иоанн находится на пути к Конистону и, быть может, пожелает присутствовать при казни мятежников. Король собирал в Линне войско, намереваясь нанести решительный удар баронам. По дороге на юг он хотел пройти мимо Конистона, и Буш ждал его прибытия. Осажденным это было известно, и они твердо решили умереть, сражаясь. Как-то вечером Альрик, от слабости едва державшийся на ногах, стоял вместе с Зароком на сторожевой вышке. Вдруг из леса выехали два всадника и галопом поскакали к стенам Конистона; шагах в двадцати от сторожевой вышки они осадили коней; один из всадников поднял лук, прицелился в вышку и, пустив стрелу, ускакал; спутник его последовал за ним, и раньше, чем воины Уолтера Буша успели поднять тревогу, оба всадника скрылись из виду. Стрела упала в нескольких шагах от Альрика, который рассеянно взглянул на нее, недоумевая, кому пришло в голову делать этот бесцельный выстрел. Зарок поднял стрелу и, осмотрев ее, бросился к Альрику. – Господин, – крикнул он, – смотри, к ней что-то привязано! Может быть, это письмо... Дрожащей рукой Альрик разорвал шелковинку и развернул письмо. На пергаменте крупными буквами было написано:Молодцы, потерпите еще немного. Иоанн умер; армия его тает. Де Биго и граф спешат вам на помощь; с ними пятьсот человек. Завтра осада будет снята.Альрик радостно обнял Зарока и побежал отыскивать Тука, которому показал письмо. Толстяк прочел его очень внимательно. – Да, я готов поклясться, что это почерк Робина! – воскликнул толстяк. – Мне кажется, он писал острием стрелы. Кончились наши невзгоды! Завтра я наемся досыта. Иди сюда, Маленький Джон! Обними меня крепче! Завтра мы с тобой поедим! Радостная весть быстро распространилась среди обитателей замка. Люди, несколько минут назад призывавшие смерть, обнимались и поздравляли друг друга. На следующее утро все поднялись на крепостные стены и напряженно всматривались вдаль. Вдруг на дорогу, ведущую из леса, выехал конный отряд. Четыреста воинов в блестящих кольчугах налетели на караульные посты Буша, и через минуту завязался ожесточенный бой. – Поднимите решетку! Опустите подъемный мост! – закричал Альрик. – Вперед, на помощь друзьям! Но друзья в помощи не нуждались. Воины Буша, а с ними и их предводитель, вскочили на коней и ускакали куда глаза глядят. Де Биго и граф Нортумберлендский их преследовали, а Робин и Стифен обнимали товарищей и осыпали их вопросами. Весь провиант, находившийся в лагере Буша, достался осажденным, и изголодавшиеся люди вознаградили себя за долгий пост. Робин рассказал, как Иоанн со своей армией был застигнут наводнением в Фоссдайке. Промокнув насквозь, он добрался до ближайшего аббатства, где ему приготовили сытный ужин и угостили персиками, которые он запивал сидром. На следующий день у него началась лихорадка, но он настоял на том, чтобы продолжать путь. До Ньюарка его несли на носилках, а к вечеру он умер. На престол вступил малолетний Генрих III. Иоанна никто не помянул добрым словом. Этого человека ненавидели все и радовались его смерти. В течение целой недели в Конистоне шли празднества. Де Биго и граф Нортумберлендский уговаривали Альрика присоединиться к ним и изгнать из Англии наемные войска Иоанна. Звали они и Робина, но тот отказался. – Случайно дороги наши скрестились, –сказал он рыцарям, – но теперь пусть каждый из нас идет своим путем. Через неделю Робин Гуд со своими стрелками вернулся в Шервудский лес. (обратно)Робин Гуд.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СНОВА В ШЕРВУДСКОМ ЛЕСУ
Снова Шервудский лес. Стрелки собрались на той самой просеке, где познакомился с ними Альрик. Маленький Джон и толстяк Тук, по обыкновению поддразнивающие друг друга, Вилль Рыжий, Нэд Локсли, Элен-э-Дэл – все здесь налицо. У большого костра женщины занимались стряпней, за ними надзирал Тук, уже выкативший на просеку несколько бочек с элем. Стрелки расставляли длинные столы. Робин Гуд то и дело посматривал на солнце. – Пора бы уже им быть здесь, – обратился он к Маленькому Джону. – Кажется, они опаздывают. Из леса донеслись мелодичные звуки рога. – Это он! – воскликнул Робин. – Я сам научил его этому сигналу. Через несколько минут на просеке показались всадники. Впереди ехал Альрик, надевший в честь Робин Гуда зеленую куртку стрелков. Голову его покрывала малиновая шапочка, украшенная павлиньим пером; на шелковом шнуре висел серебряный рог. На спутниках Альрика – сэре Реджинальде, де Биго, Зароке и Стифене – также были зеленые куртки. Человек шесть легко вооруженных солдат ехали сзади. Стифен получил от Робина обещанную награду, что дало ему возможность осуществить давнишнюю мечту: вместе со своей женой Хильдой он открыл харчевню и теперь жил припеваючи, твердо надеясь, что до конца жизни ему не придется брать в руки оружия. Альрик соскочил с седла и бросился на шею Робина. Потом Маленький Джон смял его в своих железных объятиях. – Здравствуйте, здравствуйте, друзья! – говорил толстяк Тук, пожимая руки гостям. – А мы боялись, как бы вы не опоздали к обеду. Все уселись за длинные столы и отдали честь сытному обеду, а затем начались состязания в стрельбе, борьбе и метании копей. Когда стемнело, гости и стрелки собрались вокруг костров. – Робин, – воскликнул де Биго, – у меня есть новость! Я назначен шерифом ноттингхэмским. Теперь вместо заклятого врага при дворе я могу добиться того, чтобы тебе пожаловали замок или поместье. Ты оказал нам большую услугу в борьбе с Иоанном, и мы решили тебя наградить. Робин усмехнулся. – Нет, рыцарь, не нужно мне награды. С вами против короля я шел, чтобы добиться хартии, в которой нуждался народ. Помогал я вам, когда бесчинствовали приспешники Иоанна, но главная забота была у меня другая. Король попирал хартию, и как бы мало она нам, простолюдинам, не давала, нужно мне было наказать кровожадных королевских слуг. Теперь дороги наши расходятся. Я со своими молодцами останусь в лесу. Как и в былые времена, все обиженные бегут в Шервудский лес и у нас ищут защиты. А замки мне не нужны. Я люблю лес, люблю свободу. В ваших каменных мешках мне душно и тесно. Лучше быть человеком, объявленным вне закона, чем жить в четырех стенах, пресмыкаться перед знатью и вымаливать милости у короля! – Верно, Робин! – подхватил Маленький Джон. – Мы никогда и никому не служили по принуждению, Не было и не будет над нами господина! Де Биго улыбнулся. – Ну, будь по-вашему! – воскликнул он. – Но с сегодняшнего дня вы перестаете быть людьми, объявленными вне закона. Я привез скрепленный подписью указ, которым вы восстанавливаетесь во всех правах. – Вот за это спасибо, – отозвался Робин. – До сих пор нас травили, как диких зверей, и, признаюсь, эта травля нам надоела. Но свободными лесными бродягами мы останемся до конца нашей жизни А ну-ка, Элен-э-Дэл, сыграй на арфе, а ты, Маленький Джон, спой нам старую песню стрелков! Мы все будем тебе подтягивать. – Начинай, Маленький Джон! – крикнул Элен-э-Дэл, перебирая струны арфы. Густым басом великан запел:Рассветает в лесу И десятки ног
Замелькали среди дерев
По Шервудскому лесу трубит рог,
Мы-то знаем этот напев!
Не прожить нигде веселей и вольней,
Наша доля нам дорога
Поклялись мы в Шервуде – до заката дней
Никогда не щадить врага
Берегитесь бароны, веселых ребят!
Эти стрелы без промаха бьют
Нам не страшен король и наемный солдат,
И да здравствует Робин Гуд!
Роберт Лоу Лев пробуждается
© Филонов А.В., перевод на русский язык, 2017 © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021* * *
(обратно) Будучи летописцем Королевства в Годы смуты, писано в приорате Грейфрайерс в неделю по Семидесятнице, в лето Господа Нашего одна тысяча триста двадцать девятое, на 23-м году правления короля Роберта I, спаси и сохрани его Бог.В лето Господа Нашего одна тысяча двести девяносто шестое скотты порешили, что довольно с них господства короля Эдуарда над ними чрез назначенного оным короля Баллиола, и о том возгласили. Англичане явились на север в Берик с огнем и мечом, а равно и Законом Дейтерономии, сиречь Второзакония, и вослед за резней с той поры название сего града стало девизом и боевым кличем во веки веков. Разгромленного короля Иоанна Баллиола повергли к стопам Эдуардовым, дабы лишить оного венца и регалий, гордые знаки ранга сорвали с его мантии, и посему сказанного с тех пор и впредь прозывают Тум Табард — Пустой Камзол. Коронационные регалии Шотландии — Крест Господень и Скунский Камень — были захвачены, а Большая Печать церемониально преломлена надвое. Посему король Эдуард поехал на юг, передав правление землями, кои считал ныне своими, наместнику, дабы держать скоттов под своим ярмом. «Сие есть доброе дело, — провозгласил он, отрясая с ног прах того места, — избавление от подобного дерьма». Но скотты не преклонили колен… воспоследовала крамола на севере под началом Мори, на востоке под началом Фрейзера, на западе под началом разбойника по имени Уоллес. Шотландские епископы остались непокорны. Сэр Уильям Дуглас, за отвагу прозванный Смелым, оборонявший Берик против короля Эдуарда, был пленен, а после прощен милостью короля под обещание служить в английской армии во Франции. Немного времени спустя оный расторг узы своей клятвы и примкнул к смутьянам. Король же Эдуард, до живого уязвленный действиями сего сказанного, повелел своим верноподданным в Шотландии противостоять оным смутьянам, и Роберт Брюс Младший, граф Каррикский, был отряжен в замок Дуглас, дабы попрать твердыню и захватить жену со чады сэра Уильяма в заложники. Но коли лев пробуждается, всякому надлежит стеречься его клыков… (обратно)
Пролог
Дуглас, Ланарк Праздник Святого Дростана Скитника, 11 июля 1296 года Хуже всего была темнота. Ни луны, ни звезд, лишь шепот потерянных душ, ищущих либо попутного ветра к дому, либо тела, дабы проскользнуть в него ради воспоминаний о теплой крови и жизни. Да еще совы — а сов он ненавидел за вопли, подобные крику Сихайрет, богини лесных ручьев, извивающейся во тьме и кричащей на тех, кого поджидает скорая смерть. Гозело знал, что не должен позволять себе верить в подобное, будучи добрым христианином, но его бабка — старая фризка — забила ему голову подобными россказнями, когда он еще был малым дитятей. Это всплывало, лишь когда ему было боязно и жутко, и даже Бог должен признать, что сей покинутый им край навевает страх и ужас. И не столько сам край, сколько Плащеносец. Охваченный дрожью Гозело запахнул собственный плащ поплотнее, держа путь к забрезжившей деннице и радуясь, что видит свет. Он направлялся в Карнуэт, находящийся во владении государя[549] Сомервилла — англичанин ли он, нет ли, но там хотя бы светло, тепло и, превыше всего, безопасно, — но темень поставила на этом крест, и теперь Гозело не сомневался, что прозевал это место и направляется в Дуглас. Он тревожился, что человека, хромающего пешком, прогонят прочь с бранью, да еще и пригрозят копьем. Всадник обладает положением, а путник, влачащийся мокрым летом по грязи в драных башмаках, в плаще и кафтане, замызганных в трудном пути, — полнейшее ничтожество, даже если он фламандский мастер-каменщик из Скуна. Кабы только это… Гозело знал, что Дуглас — гнездо бывших бунтовщиков и там вряд ли его оградят от тех, кто сейчас за ним наверняка охотится. Что-то застрекотало, и Гозело, вздрогнув, заполошенно огляделся и прибавил шагу. Ему бы ни в коем случае не браться за это дело, но старый брылястый, как мастиф, епископ Уишарт обморочил его лестью и посулами толстой мошны. Не то чтобы сработать эту штуковину было трудно, а резьбой занимался Манон; теперь Гозело не сомневался, что бедолага камнетес — покойник. Потом явился Плащеносец с повозкой и потрепанной лошаденкой при ней, и фламандец понял, что они забирают оригинал, оставляя вместо него «липу». Манон, поведали ему, уже получил плату и удалился; вот тут-то мороз холоднее алтарного камня и проник в самую его душу. «Мы берем его в Рослин, — сказал Плащеносец по-французски. — Там тебе будет уплачено и за твое ремесло, и за умение держать рот на замке об этом деле». Замышляй это один лишь Плащеносец, Гозело вообще ни за что не пошел бы на это, но тему поднял сам епископ, не кто иной. Тогда Гозело считал епископа Уишарта выдающимся клириком, нежась в ласковой лести и посулах богатства, пока терзания с повозкой, неотступная волглость — Христе Небесный, да неужто иной погоды в этой Шотландии не бывает? — и лепет собственных страхов не растопили его решимость, как золото в тигле. Плащеносец, угрюмый, как мокрый утес, с каждой милей становился все грознее и грознее, пока не далее доброго пешего перехода от Рослина остатки отваги Гозело не развеялись как дым, и он удрал.* * *
Плащеносец крепко над этим призадумался. Скрылся без толстой мошны, в панике, страшась за собственную жизнь, наконец-то сопоставив все возможности. Ах, что ж, будучи смышленым человечишкой, он домыслит остальное, когда даст роздых ногам достаточно долго, чтобы его рассудок пустился вскачь. Например, как восполнить утрату толстой мошны. Он направится в Ланарк, к английскому шерифу Гезльригу, где и выложит все, что ведает. Все в точности так, отметил про себя Плащеносец, как и сказывал Уишарт, отозвавши его в сторонку и проговорив: «Коли поверишь os vulvae[550], то ты дурень. Ступай с Богом, сын мой». Плащеносец не мог не признать, что епископ был прав — и на предмет характера фламандца, и на предмет того, что его рот с мокрыми губенками и дурацкой бахромой бородки и усов напоминают женскую часть тела, коли поглядеть, склонив голову к плечу. На латыни это — os vulvae — звучит лучше, чем по-английски: вагинолицый, заключил Плащеносец. Разумеется, рассуждал Плащеносец, понукая изнеможенного пони к Рослинскому замку, сей фламандец может попросту направиться к Дамфрису и английской границе. Как-никак он мастер-каменщик и долго без работы не просидит. Сэр Уильям Сьентклер, Древлий Храмовник Рослинский, дал ему доброго, быстрого скакового конька и одарил пристальным, многозначительным взглядом, когда услыхал обо всем. — Порадей, абы твердо, — изрек он, и Плащеносец кивнул. Он уж непременно обеспечит твердое ручательство.* * *
Узрев блеклые огоньки во мраке, Гозело чуть не разрыдался от облегчения, что Дуглас уже недалече и там можно найти убежище, прежде чем выступать в Ланарк. Он выложит все, что ведает, ожесточенно размышлял фламандец, за все, на что обрек его Плащеносец. Он убедил себя, что был прав, удрав, пока его не порешили под сенью тьмы. Он больше никогда не вернется в этот край и поведает англичанам все-все, даже после того, что они содеяли фламандцам — и его родне среди прочих — в Берике. Они ведь еще и заплатят, возместив утрату обещанной мошны. Да и что ему какой-то дурацкий камень, в конце-то концов? Из-за последней рощицы, ведущей к заливному лугу, протянувшемуся до окутанной тенью громады крепости, появилась фигура. Гозело заверещал — тонко, как сова, но слишком поздно. — Ты удалился, не получив должного, — вкрадчиво произнес Плащеносец, и Гозело отпрянул, бессвязно лепеча по-французски, по-английски — на всех подворачивавшихся языках. Он лишь смутно сознавал, что содержимое его недр стекает по ногам; в голове бешеной круговертью проносились мольбы, выговорить которые его язык попросту не поспевал. — Ничего не скажешь? — повторил Плащеносец, ухватив одну из них, и фламандец закивал головой столь истово, что того и гляди оторвется. Плащеносец одобрительно кивнул, а потом поднял обе руки, чтобы откинуть капюшон и открыть лицо свету луны. В бледном зареве черты его остались незримы, но блеснул четырехгранный стальной клинок; Гозело заверещал так тоненько, что лишь псы могли расслышать его. — Порадею, абы твердо, — возгласил Плащеносец, к вящему замешательству фламандца, ступив вперед и нанеся единственный удар; Гозело привалился к нему, как выдохшийся любовник, а потом тихонько сполз на дерн подлеска. Вытерев кинжал о плащ фламандца, Плащеносец взял с податливого трупа что требовалось и удалился, ведя коня в поводу, пока не уверился, что ушел достаточно далеко. И вдруг сообразил, что все это разыгралось на следующий день после того, как Длинноногий повелел всей знати королевства Шотландского явиться в Брихин, дабы лицезреть, что сталось с королем, воспротивившимся Эдуарду Английскому. Несомненно, ради поношений, лжи и злопыхательства. Эдуард уже отъял Крест, Печать и Камень, как и грозил, лишив власти и короля Иоанна Баллиола, и королевство. Но Длинноногий захапал не всю Шотландию — малую толику королевства вырвали из его кулака. Плащеносец улыбнулся, согретый этой мыслью, несмотря на студеную летнюю мгу. (обратно)Глава 1
Замок Дуглас, почти год спустя Канун праздника Святого Брендана Путешественника, май 1297 года Борзые разбудили Псаренка, как всегда затеяв вокруг него возню и сопя носами. Жаркое тепло вдруг сменил холод, все ужесточавшийся, пока не вырвал его, дрожащего, из лона сна. Едва он шевельнулся, как псы окружили его, болтая языками, пыхтя смрадным дыханием прямо в лицо, поскуливая и устремляя на него раболепные взоры в уповании кормежки. Они знают распорядок дня ничуть не хуже Псаренка, а то и лучше, коли верить Малку — правой руке берне́. Псаренок забарахтался, поднимаясь. Студеный воздух подирал по коже, подгоняя его. Вытряхнул солому из волос и одежды, нашарил свои деревянные башмаки и заковылял в полутьме псарни — длинной приземистой постройки с плетенными из лозы стенами, промазанными саманной штукатуркой, и деревянными колоннами. Огня внутри не держали из страха пожара, а задняя стена из прочного холодного камня принадлежала пивоварне; единственный свет сочился через дыры, где штукатурка отвалилась, ложась пестрым покрывалом на устланный соломой пол, зловонный, как каждое утро. Найдя свою власяницу, висевшую на крюке обок поводков, натянул ее через голову, просунул руки через дыры и принялся согревать их дыханием в предрассветном холоде. Кто-то закашлял; появились головы, вынырнув темными кочками среди соломы, и остальные выжлятники выбрались навстречу новому дню. Собаки скулили и повизгивали, извивались и без конца кружились, яростно работая хвостами, выпрашивая корм. — Легше, легше, — унимал их Псаренок. — Тише. Уже скоро. Конечно, если не будет охоты, потому что тогда собак кормить не будут, ибо с полным брюхом не разбежишься, а борзые, за которых отвечают он и группа других парней, — бегуны. Раши и лимье, общим счетом около тридцати голов, кружили и скулили, пока остальные гончие за загородками, не дающими им перегрызть друг другу глотки, начали хрипло, с подвывом лаять. — Swef, swef![551] — прикрикнул Пряженик, козыряя французским, которому выучился у берне Филиппа. Собаки и ухом не повели, и Псаренок ухмыльнулся себе под нос: лимье — английские талботы, белые ищейки, сплошной нос и никакой выносливости; Псаренок сомневался, что они знают хоть слово по-французски. Раши есть всех мастей; эти выведенные в Силезии гончие составляют основную часть своры и сотворены для долгого бега. Как только лимье вытропят след, раши будут неустанно следовать по нему, пока не загонят или не завалят жертву. Навряд ли хоть единая из них разумеет по-французски — ежели собаки вообще понимают хоть какой язык, но Францию считают родиной охоты, так что всем гончим дают французские клички, а доезжачий, сиречь старший псарь, — француз, и титулуют его по-французски — berner. Но дичь, на которую они охотятся здесь, все та же — олени, лани и вепри, все в угодьях Дейла, Уотера и далее — в землях, отданных Богом и Королем в руки Дугласов. За тонкой перегородкой залаяли и завыли аланы и леврие, и принялись хлопотать другие отроки. Псаренок поежился, но не от холода; там целых два десятка леврие — серых драчливых борзых с холодными глазами и оскалами. Но даже те сторонились, поджимая хвосты, стоило чужакам — двум громадным косматым дирхаундам — вздернуть свои жесткие губы. Леврие способны загнать и сбить с ног юную лань или олениху с бархатными рожками, аланы могут завалить доброго рогача, коли загонят его в угол, но только дирхаундам под силу загнать превосходного красного зверя до полного изнеможения и сохранить довольно духу, чтобы свалить его на землю. У Дугласа дирхаундов не было, так что для него было настоящим потрясением узреть эту пару, прибывшую вместе с сэром Хэлом Хердманстонским и его всадниками. Псаренку показалось, что вершников многовато для простого охотничьего отряда, но его тут же просветили Джейми с остальными: сэр Хэл прибыл под видом охотничьего отряда, посланный отцом, дабы сдержать обещание оборонить фортецию Дуглас в грозный час. И представлялось, что нет большей угрозы, что государь Брюс Каррикский и его люди придут наказать государыню[552] и ее сыновей за мятеж ее мужа против короля Эдуарда Английского. Псаренок был потрясен, увидев, как все эти люди — больше народу он еще в жизни не видел — растекаются вокруг замка, будто пролитое масло. Но еще бо́льшим потрясением было видеть, как необузданны хердманстонские псы, так что их волчий вой взбеленил каждую гончую в Дугласдейле. Берне Филипп был в ярости, но, ко всеобщему изумлению, облик и запах Псаренка угомонил двух здоровенных бестий едва ли не тотчас же. — Это Микел, — поведал ему господин Хэл, а пес поглядел на Псаренка большими ясными глазами. — Сие значит «крупный», старое лотийское слово. Второго кличут Велди, сиречь «мощь» на том же языке. Псаренок кивнул. Дух у него сперло от внимания высоченного улыбающегося Хэла и его высоченной улыбающейся свиты с прозвищами вроде Куцехвостый Хоб и Джок Недоделанный. Велди, свесив розовый язык между белыми грядами зубов, глядел на Псаренка своими сине-карими очами не мигая, и сердце у мальчика вдруг занялось от ощущения, что эти псы — ангелы в чужом обличье. Он попытался высказать это, но выдавил лишь «ангелы», отчего великаны расхохотались. Один крепко хлопнул его по плечу, едва не вогнав в землю. — Ангелы, ась? Еси здешний дурачок, нет ли? — сказал он — Псаренок слышал, как другие кличут его Лисовином Уотти. — Раз лише реки не то имя, и сии пекельные выжлецы мигом втопчут тебя в слякоть. По горечи его тона Псаренок понял, что псы хоть раз, да опрокинули Лисовина Уотти в грязь; он мог бы поклясться, что при этом Микел подмигнул ему и рассмеялся, отчего Лисовин Уотти насупился, зато остальные принялись хлопать себя по ляжкам, потешаясь над ним. Сэр Хэл, ухмыляясь, велел ему усердно заботиться о его питомцах, и Псаренок, поглядев снизу вверх на старо-юный бородатый лик с глазами цвета морской хмари, полюбил этого человека сей же миг; Микел, ткнув колючую морду мальцу под мышку, поглядел на него огромными сине-карими глазами. Однажды, едва прибыв в Дуглас, Псаренок видел гончую, размером не уступавшую Микелу. Он узнал, что это волкодав — жесткошерстный и ростом вроде бы не уступавший пони, но Псаренок понимал, что тогда был мельче ростом, и вполне может статься, что у дирхаундов ноги еще того длиннее. Это животное издохло, когда Псаренку было восемь, два года спустя с той поры, когда его мать, преисполненная гордости и отчаяния, ввела его через проездную башню в замок, тогда еще деревянный. На ней висел щит Дугласа с тремя серебряными звездами, именуемыми муллетами, как поведали Псаренку, хоть он и не видел в них никакого сходства с рыбой, прозываемой также кефалью. Теперь-то он знал — потому что Джейми Дуглас открыл ему, — что это слово произошло от старофранцузского molette, сиречь звезда с шестью лучами. Несмотря на разницу в сословиях, Джейми дружит с ним, умеет читать и знает, где находится Франция. Псаренок же не умеет читать вовсе, не представляет, где Англия, и лишь смутно догадывается, что Шотландия — это довольно близко от Дугласдейла. Он знал, что англичане из Англии все равно пришли в Дугласдейл, потому что Джейми в эти дни почти ни о чем больше не говорил, сетуя, что его мать сдалась без боя; а теперь люди Каррика так и роились внутри и снаружи замка Дуглас, а государь Брюс, юный и самоуверенный до кичливости, вежливо взял все в свои руки от имени англичан — хоть сам таковым и не был. Единственное, в чем Псаренок был уверен в своей жизни, вещь, за которую цеплялся, когда вокруг все кружилось, как желтая листва на свежем ветру, — это его возраст, одиннадцать лет. Он знал это, потому что слыхал, как мать это говорит, и помнил ее голос лучше, чем лицо. Своего отца Псаренок не помнил, хоть и хранил лохмотья воспоминаний о том, как ковыляет по вспаханной борозде за человеком, причмокивающим губами двум собственным волам, глядя, как лемех плуга вздымает землю волной. И до сих пор чувствовал рыхлую почву между пальцами босых ног, видел кружение птиц, с криком бросавшихся на вскрытых букашек и червей. Его заботой было поспеть к червям первым, чтобы безопасно прикопать их землей, ибо они такие же землепашцы, как и человек. Слышал голос, говоривший это, и думал, что это мог быть его отец, но все это скрылось, кроме момента, когда большущее тятино лицо опустилось до его роста, а ладони с растрескавшейся кожей сжали с обеих сторон его узенькие плечики. Это произошло через миг после того, как Псаренок прибежал через поля, стиснув в руках котомку из дерюги со шматом вчерашней каши и двумя лепешками. Бежал, как лань, туда, где стоял тятя с волами, гордый их обладанием. Больше ни у кого не было столь ценного достояния. Батюшка поглядел на него долгим взором, а потом присел на корточки, оказавшись с ним лицом к лицу. — Бежавши прытко, аки малый выжлец, — печально проговорил он. — Прытко, аки малый выжлец. А на следующий день матушка отвела его в замок и предстала перед берне. Теперь Псаренок стыдился, что не может толком вспомнить матушкин лик, зато помнил ее голос и ощущение ее ладони, лежавшей на макушке его причесанной головы. — Вот, привела его, — поведала она. — Как государь и сказывал, будет бегать прытко, аки выжлецы. Ему шесть. С той поры были лишь эти камни да псы. Малк, подручный берне, подсчитывал возраст Псаренка, отмечая его в Свитках вкупе с датами рождения всех борзых и их родословными. Псаренка это не волновало, ибо он даже и не ведал, что Малк может отследить предков каждой борзой на несколько поколений, а Псаренка записал лишь как отпрыска «вилланов» из скопища утлых домишек в двадцати милях от замка. И уж совсем Псаренок удивился бы, кабы узнал, что у него еще и имя есть — Алейсандир, аки у короля, что свалился с Файфского утеса, низринув всю Шотландию в хаос, в тот самый год, когда родился Псаренок, но тот ни о чем таком и ведать не ведал, будучи Псаренком настолько долго, что другое имя запамятовал напрочь. — Изыдите, кули дерьма! Этот голос заставил Псаренка виновато метнуться обратно к конурам; Пряженик отпихивал псов прочь, а позади него потягивался и шумно зевал Червец; из его всклокоченных волос торчала солома. Псаренок почесал место укуса блохи и полуприсел, как обычно при резких шумах и неожиданностях, потому что тяжелая дверь с грохотом распахнулась, впустив холодный свет и студеный воздух. — Прочь, щенки! Ненадолго обрисовавшись силуэтом на фоне светлого квадрата двери, пришедший чуть помедлил и ступил внутрь, щелкая собачьим хлыстом; прекрасно знающие его борзые подались назад, но тут же начали тесниться вперед, поджав хвосты, ласкаясь и поскуливая. Берне Филиппу пришлось сгорбиться, чтобы не задеть низкую кровлю, хоть он и был невысок ростом. Он надел кожаный жилет, чтобы защитить простой перепачканный балахон, тоже надетый дабы псы не замарали его светло-серый полукафтан. На губах у него играла обыкновенная кислая ухмылка, щетинившая его подстриженную черную бородку. — Ну же, ну же, пошевеливайтесь, — проворчал он. — Надо дело сделать. Где Пряженик? Пряженик пробрался вперед, обирая с себя солому и протирая слипающиеся со сна глаза. И отвесил поклон, чуть ли не с насмешкой продемонстрировав свои скудные познания французского: — A votre service, berner Philippe[553]. Филипп поглядел на него, сдвинув брови чуть строже. Сорванец становится дерзким не по чину. Спускать такое нельзя. Он пощупал языком обломок зуба, а потом, выдавив улыбку, потрепал мальчонку по щеке. — Ах, барчонок, — беспечно вымолвил он. — Какие манеры, а? Остальные глядели, как он ласкает Пряженика, будто пса, ущипнув за подбородок и почесывая за ухом; это стало такой же частью утреннего ритуала, как побудка, ибо Пряженик был любимчиком берне. Под началом берне Филиппа шестеро выжлятников. Вкупе с шестью пикерами — охотниками — они считали, что именно они истинные Апостолы Дугласа, а вовсе не напыщенные воины таким же числом. Коли это так, то берне Филипп — Святой Петр, Сивый Тэм[554], головной piqueur, — Иаков, брат Иисусов, государыня Элинор — сама Непорочная Дева, а Смелый — Христос во плоти. Такова жизнь, устроенная Законом и Обычаем, сиречь Богом. — Возьми пятерых парней и очисти эту выгребную яму, — велел Филипп и оглядел всех, от Псаренка до Пряженика и обратно. Потом кивнул Пряженику и смотрел, как отрок послушно ковыляет прочь. Он становится больше… слишком большим, Раны Господни. Плоть, некогда мягкая, наливается соком и становится тверже, и даже для носа, привычного к смраду, Пряженик с каждым днем все более и более разит псиной. Псаренок стоял, глядя на зловонную солому, словно узрев в ней изящную картину, и Филипп, как всегда, задумался, отчего у него душа не лежит к этому парню. Наверное, слишком костляв. Есть новый малец — голова Филиппа повернулась в ту сторону, будто голова борзой, учуявшей запах. Как там его… Хью, вот как. Так его нарекли родители, но в Свитках он записан под легко запоминающимся прозвищем — собачьей кличкой Фало, сиречь «желтый», и Филипп выделил его среди остальных по копне золотистых волос. Вот досада. Чересчур юн — однако же эти белокурые волосы, говорящие о достойном происхождении полукровок-скоттов, упали на лицо мальчика, когда он собрал охапку вонючей соломы, отчего у Филиппа в паху томно засосало. Стоит подождать… Ему попался на глаза Псаренок, как всегда пробирающийся в тени. Скорее ощутив, чем увидев устремленный на него взгляд, Псаренок остановился, оцепенев от безысходности. — Ты, — коротко бросил Филипп, взирая на мосластого темноглазого отрока с такой же неприязнью, как на всех заморышей. — На сокольню. Тебя ждет Гуттерблюйд. На улице мороз тут же впился в Псаренка, и тот весь скукожился, бредя к сокольне через простор замкового двора, навстречу пронизывающему ветру с угольно-черных небес. Псаренок воззрился на рдеющие угли там, где кузнецова жена Уинни раздувала горн; искры опасно взлетали до залубеневшей камышовой крыши каретного сарая и протяженной конюшни. Дальше шли частокол и ров, проездная башня, только-только перестроенная из камня, и деревянная голубятня, четко прорисовавшаяся на фоне медленно скисающего молока занимающегося рассвета. А еще дальше высились башни и каменные стены Цитадели, грозно нависая над ним. Пламя горна вздувалось, затевая пляску жутковатых теней на стене одной из башен, подпрыгивающих вплоть до окон-бойниц часовни, где теплился медово-желтый свет сальных свечей; капеллан брат Бенедикт уже завел свои молебствия, бормоча так, что Псаренок буквально слышал хорошо знакомые слова: Domine labia mea aperies. Et os meum annunciabit laudem tuam. Deus in adiutorium meum intende[555]. Спеша мимо пекарни, уже источающей ароматы и дымок, от которых аж живот подводило, Псаренок пробормотал ожидаемый ответ, даже не задумываясь: «Ave Maria gracia plena»[556]. Остальное привязалось к нему, тихонько кружа, как зябкий ветер с реки: «Gloria patri et filio et spiritui sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Allelyia»[557]. Прошел мимо голубятни с островерхой крышей, увенчанной диковинной птицей, клевавшей собственную грудь, и увидел кухарчонка Ферга, тащившего свежеиспеченные караваи и ухмыльнувшегося ему, потому что тоже знал латинские слова. Оба очень смутно представляли, что они означают, просто вызубрив их. Кухонные хибары рядом с пекарней хранили тишину, холодно прорисовываясь в бледном свете, как и большинство построек в окружении грубого частокола, отделяющего замковый двор от Цитадели, где расположились Большая Зала, конюшни, бараки и несколько небольших огородиков. Где-то высоко на hourds[558] караульные притопывали и дышали на руки. Скоро эти деревянные заграждения будут разобраны, ибо нужда в них теперь отпала, раз государыня вверилась людям из Каррика. Пару дней спустя, когда прибыла новая дружина — числом поменее, но не менее лютая, — последовал момент замешательства. Псаренок слыхал, что предводителя ее кличут графом Бьюкенским, и Джейми проворчал, что никто не ведает, на чьей стороне выступает сей Комин — за короля Эдуарда али супротив. Псаренок смотрел, как они прибыли со знаменами и воплями; на время возник переполох, и он уж гадал, не станет ли свидетелем схватки, но потом все закончилось как ни в чем не бывало. Осталось загадкой, почему государыня Дуглас теперь встречает Посягателей как Друзей и они так и роятся в замке, а еще больше ютятся во времянках по всему замковому двору и за его пределами. — Псаренок! — послышался оклик, и, обернувшись, он узрел Джейми, выступившего из тени. Псаренок поклонился, и Джейми принял причитающиеся почести, ведь он первенец Смелого, в черных брака и шапероне с фестонами, с чудесным ножом в ножнах на поясе, добрых кожаных сапогах и теплом камзоле. Они с Псаренком погодки, но Джейми крупнее и сильнее, ибо обучен обращаться с оружием, и когда-нибудь, принеся три присяги, станет рыцарем. Однажды он тоже станет Иисусом Христом, подумал Псаренок, когда его отец, Смелый, умрет, оставив ему поместье и титул государя Дугласского. Даже теперь он может выпускать tiercel gentle — самца сапсана, буде захочет, — и воспоминание о том, где находится насест этой птицы, снова навалилось на плечи Псаренка бременем страдания. — Холодно, — с улыбкой начал Джейми. — Холодно, как у ведьмы под титькой. Псаренок ухмыльнулся ему в ответ. Они были приятелями, хоть Псаренок и ходил в поношенном вретище землистого цвета и не представлял вообще никакой важности, потому что Джейми любил собак и не имел матери, как и Псаренок. Тот спросил об этом однажды, потому что считал государыню Элинор матерью Джейми, но приятель тотчас наставил его на путь истинный. — Мою настоящую мать отослали прочь, — напрямик выложил он. — В монастырь. А эта — новая женщина моего отца, и сыновья, коих она ему наплодила, — мои сводные братья. Потом Джейми обернулся, устремив на Псаренка взгляд свирепый, как у его сокола. — Но наследник я, и однажды это будет моим, — добавил он, и Псаренок ничуть в этом не усомнился. Это их и объединяло, это и перебрасывало мостик через разделявшую их пропасть. Одинаковый возраст, одинаковая масть, одинаково покинуты матушкой и тятей. Одинаково одиноки. Это и свело их вместе с минуты, когда они научились ходить, и с тех пор везде болтались вместе, будто два камешка в кошеле. Оба понимали, что перемены происходят все равно — и в их ранге, и в их телах, — и это невидимое давление отстраняло их друг от друга все дальше и дальше. Псаренку никогда не подняться выше нынешнего положения, а Джейми станет рыцарем, как и его отец. Никаких других рыцарей, кроме Смелого, в Дугласе отродясь не было, хотя некогда были два десятка воинов в крепких кожаных доспехах, с мечами и алебардами. Теперь их осталось лишь шестеро, ибо остальные полегли, и Псаренок чуял закрадывающееся в душу холодное беспокойство, как за год до того, как четверо уцелевших внесли сквозь ворота пятого. А еще они принесли вести, что Смелый пленен, а все остальные люди Дугласа сложили головы вкупе с тысячами душ прочего народу, жившего в Берике, когда Эдуард Английский взял оный. — Кровь лилась через верх моих башмаков, — поведал Томас Сержант, а уж он-то знает, ибо там была и частица его крови, и на одной стороне лица у него остался шрам, саднящий, как воспоминания. Томас был пятым, и поначалу казалось, что он умрет, но этот человек крепок, сказывают люди, и несгибаем, как сам сэр Уильям Дуглас. Джейми любил и страшился отца в равной мере, и весть, что сэр Уильям пережил осаду и резню в Берике и еще бьется, озарила его мир светом, хотя Псаренок и не вполне все это понимал, так что Джейми растолковал ему, как будто натаскивал борзую. Походило на то, что граф Каррикский — юный темноволосый Брюс по имени Роберт — прибыл по приказу Англичанина наказать государыню, поелику ее супруг взял сторону мятежных шотландцев. А лотианский государь — человек с суровым взором и большими борзыми — прибыл перед самым угасанием огарка, дабы помочь государыне отстоять это графство. Потом они с государыней по неким резонам, не вполне постижимым для Псаренка, сложили оружие перед графом Робертом, но безо всяких пагубных последствий, каковые неизбежны, по словам всякого, ежели сдаешься Посягателям. Не случилось вообще больше ничего, разве что в Замке народ кишмя закишел. Недолго спустя к вратам прибыл еще один граф, сей именем Бьюкен. По виду они с графом Робертом были невысокого мнения друг о друге, но вроде бы выступали на одной стороне. И вовсе не на той, где стоял сэр Уильям Дуглас. Псаренок толком не понимал, зачем этот граф Бьюкенский вообще прибыл, но удивился, узнав, что графиня с волосами, как у лисы, прибывшая с графом Робертом, на самом деле жена графа, прозываемого Бьюкеном. Для Псаренка все это было кружением листвы в сильном вихре, и в конце концов Джейми понял, что теряет внимание слушателя. И скомкал все с детской раздражительностью. — С твоей точки зрения, наверное, эта война — лишь досадная докука, как натирать бочку кольчугой с песком, чтобы почистить ее, или упражняться в стрельбе из лука. Псаренок промолчал, понимая, что его друг осерчал, но толком не разумея почему. Да и вину почувствовал: ему следовало посещать упражнения в стрельбе, как и всем прочим простолюдинам, но он редко это делал, и никому не было дела, коли мелкотравчатый Псаренок не являлся. Да и не тревожился он, что мажет по мишеням, — ведь тут никогда не было врагов до Посягателей, а те в конце концов оказались друзьями. И все же Псаренок мало-помалу начал ощущать трепет ткани бытия, слыша треск раскалывающихся камней Цитадели Дуглас. — Фу, ну и смердит от тебя нынче, — вдруг сказал Джейми, наморщив нос, когда ветер переменился. — Когда ты в последний раз мылся? — В ярмарочный день, — с негодованием ответил Псаренок. — Как и все, с настоящим мылом и розовыми лепестками в воде. — В ярмарочный день?! — вспылил Джейми. — Да уже прошли целые месяцы! Я мылся только на прошлой неделе, в бадье с обжигающе горячей водой с сарацинским ароматным мылом. — И подмигнул, как ему казалось, с многоопытным, распутным видом. — А спину мне терла бабенка, а? — Чаю, ваша государыня мать такого не потерпит, — ответил Псаренок с сомнением, ведая о таинстве кобеля и суки, но еще толком не понимая, как оно соотносится с бормотанием и стонами, слышащимися порой по ночам. А еще ведал, что есть Правило насчет женщин. В Дугласе есть Правила почитай на любой предмет. — Государыня Элинор не моя мать, — сурово и надменно отрезал Джейми. — Она — жена моего отца. И все равно насупился, ибо Псаренок был прав. Однако Джейми видел и слышал всякое, что повергало его в еще большее недоумение касательно того, что позволительно, а что нет. В замке есть женщины — в первую голову Агнес в замковой кухне и еще камеристки его мачехи, а теперь еще и графиня Бьюкенская, много смеющаяся, с буйными кудрями, которые никакой чепец не удержит. Однако она оставалась в своих покоях в башне, пока ее муж ютился в своем горделивом полосатом шатре в замковом дворе, и это было странно. — Пойду раздобуду хлеба, — решил Джейми, поворачиваясь к этому вопросу спиной. — Хочешь тоже? У Псаренка слюнки потекли. Птицы могут и обождать; от аромата свежеиспеченного хлеба, только что вынутого из печи, у обоих кружились головы, раздувались ноздри и текли слюнки. — Псаренок! Голос рассек воздух, отшвырнув их друг от друга, негромко проскрежетав, как клинок, скользнувший по грубой стене. Оба отрока тотчас съежились и обернулись туда, где как из-под земли вырос Сокольничий. Он запахнул свою кунью шубу поплотнее; на голове у него была кунья же шапка с единственным орлиным пером. Сказывали, более ценных вещей для Сокольничего на всем белом свете нет. Говорившие это не звали его Гуттерблюйдом там, где он мог это услышать, ибо сие означает «низкорожденный пащенок». Некоторые утверждают, что по-настоящему его зовут Сибом, а Гуттерблюйдом его прозвали, потому что так кличут родившихся в Пибле, коли хотят им досадить. Сибу досаждать не хотел никто, так что все звали его просто Сокольничим, и никто его не любил; Псаренку он нравился меньше всех. — Ты шалопайничаешь, отрок, — просипел Сокольничий. Джейми, оправившись, напустил на себя безмятежный вид, понимая, что должен постараться совладать с робостью, коли хочет стать рыцарем. — Это я обратился к нему, Сокольничий, — провозгласил он и тут же увял под взором черных глаз, пылавших на худощавом смуглом лице. Неудивительно, очумело подумал Джейми, что его считают сарацином. Сокольничий смерил отрока взглядом с головы до ног. Шепелявый щенок, подумал он. У Сокольничего больше умений, больше ума и больше прав на высокое положение — и все же этот мелкий выскочка рожден в благородном звании, а Сокольничему остается лишь уповать присматривать за убогими птицами, которых они могут себе позволить. Ему хотелось влепить мальцу затрещину, но он знал свое место и цену, которую заплатит, хоть на миг забыв о нем. Так что вместо того он поклонился. — Приношу извинения, юный господин. Я получу свою приманку, когда вы закончите. Псаренок спас Джейми от дальнейшей пытки, отвесив ему поклон и проскочив мимо Сокольничего к сокольне, где натянул рукавицы из барсучьей шкуры и съежился в ожидании. Джейми и Сокольничий глазели друг на друга еще момент-другой, пока наконец отвага Джейми не растаяла, как топленое сало. Удовлетворенный Сокольничий изогнул в усмешке одну губу, снова отвесил поклон и зашагал за Псаренком. В сумрачной сокольне царили зловоние от помета и хлопанье, словно громадные хоругви, висящие в большой зале, тихонько полоскались на ветру; птицы — с дюжину или около того — ерзали по своим насестам, скребя когтями. Каждая птица сидела в собственной нише или на насесте недвижно, как резьба на карнизе, этаким слепым рыцарем в своих колпачках с плюмажами. Псаренок ступил внутрь, держа корзину на сгибе локтя одной руки, а в другой — окровавленный пернатый трупик. Втянул носом воздух, разящий затхлым птичьим амбре, а птицы учуяли его, тотчас впав в голодное неистовство, пища и вереща. Воздух наполнился отчаянным хлопаньем крыльев и метелью перьев. Они верещали, подскакивая на всю длину опутинок, в безрассудной алчности кидаясь на Псаренка, дико тараща красные глаза и нещадного его лупя. Кривясь и распихивая им пищу, Псаренок ковылял по проходу между ними, не имея возможности дать отпор из страха перед Сокольничим, пытаясь защититься от ветра и бури гнева. Кречет Джейми сковырнулся со своего насеста и не мог найти дорогу обратно. Одна взбешенная птица полоснула когтем, дотянувшись до тыльной стороны запястья Псаренка, потому что рукавица съехала. Ладонь обрушилась на ослепленного пургой мальчонку, схватив за плечо и выдернув из круговерти перьев, когтей и нескончаемых, нескончаемых криков. Отлетев к двери, он рухнул всхлипывающим калачиком. Через некоторое время, отдышавшись настолько, чтобы сесть, принялся утирать с лица слезы и перья. На тыльной стороне одной руки красовалась длинная алая царапина, и он пососал ее, а потом, стащив рукавицы, увидел на них новые опушенные мехом прорехи. Услышал голос Сокольничего. «Тише, тише, — приговаривал тот. — Мои красавцы, все закончилось. Тише, тише, дети мои». На Псаренка упала тень, и он, вздрогнув, пополз прочь. Сокольничий… Но это оказался Джейми, поджавший губы в ниточку. Ни слова не говоря, протянул краюху хлеба, и Псаренок взял ее. Свежеиспеченный хлеб исходил паром, обжигая Псаренку рот. — Закончил? Псаренок кивнул, не в состоянии говорить, и Джейми, протянув руку, схватил его за запястье и вздернул его на ноги. Вместе они во весь дух припустили к кузне, где прильнули к стене горна, выбирая из-под себя металлические обрезки и гнутые гвозди. Кузнецова Уинни — низкорослая, коренастая и темная, как северный гном, — повернула к их углу свое раскрасневшееся от пламени лицо, обрамленное волосами, заплетенными в толстые косы от летящих искр, и улыбнулась. Без единого слова она протянула им маленькую кружку пива, потому что любила, когда они ютились здесь, как мышки, пока она ковала металл, придавая ему форму. Согретый едой и огнем Псаренок почувствовал себя получше. — Да ничего, — сказал Джейми, разглядывая новую рану Псаренка. И, помолчав, присовокупил: — Когда я буду здесьгосударем, с этим будет покончено. После этого ни один из них не обмолвился ни словом, ибо и говорить было не о чем. Это была вторая задача Псаренка в жизни — птиц морили голодом, а потом их кормил он, и только он. Если на охоте одна из птиц заблудится, искать ее отправляют Псаренка. Как бы много та ни съела, как бы ни пьянила ее ликующая радость освобождения, вид и запах Псаренка, вертящего приманкой на конце бечевки, заставят птицу слететь с небес и снова попасть в плен.* * *
Хэл проводил взглядом бегущих сорванцов, безмолвно и бесшумно шагая в поисках хердманстонцев с целью порадеть, чтобы те прикусили языки и даже пикнуть не смели о том, что видали или слыхали о графине Изабелле Бьюкенской и юном Брюсе. Ему был не по душе ни сам Гуттерблюйд, ни то, что он превратил собачьего парнишку в приманку, понимая, что это наказание, по-видимому, по приказанию государыни Элинор. Он подозревал, что знает, за что, но так уж заведено, заповедано Законом и Обычаем, а значит, самим Богом. И ничуть не легче оттого, что нынче мир отплясывает даже более диковинную джигу; ничуть не страннее, чем его отряжение защищать права Дугласа лишь затем, чтобы узнать, что его рослинский родственник — и сеньор — Древлий Храмовник сэр Уильям Сьентклер выступает с Брюсом. Хэл знал это еще прежде чем выступить, когда наскреб рать, собрав едва ли не всех подначальных Хердманстонов по приказу его отца и невзирая на протесты. Охранять брану их собственной крохотной башенной фортеции не осталось почитай ни человека, но когда он огласил свои опасения, отец со слезящимися глазами и скрипучим голосом ахнул его по плечу. — Аз держу обещание, что Сьентклеры Хердманстонские будут стоять за права Дугласа. И в нем ни единого писарского каракуля касательно охраны врат али причастности нашей родни, юнец. А после на душе стало куда легче, когда государыня Элинор вняла совету Хэла и сдалась Брюсу и его людям из Каррика без церемоний, хоть и насупясь и виня его в измене, ибо Древлий Храмовник стоял по другую сторону. Проглотив сие, Хэл убедил ее, вздохнув с облегчением, когда врата отверзлись, и юный Брюс, граф Каррикский, въехал в них, даже бровью не поведя из-за поносных слов государыни. — Я послан моим отцом, — поведал он, выпятив нижнюю губу, будто свою обиду, — каковому велел сам король Эдуард наказать Дугласа за крамолу сэра Уильяма. Он опирался о круп рослого коня. В замковом дворе люди кишмя кишели; некоторые почти не замечали открытого неповиновения государыни Элинор и старания юного Брюса хранить вежливость и рассудительность. — Ваш муж покинул армию Эдуарда без дозволения при первой же возможности, — откровенно заявил Хэл. — Теперь один лишь Бог ведает, где он, но в качестве вероятного места назначения можно указать северную крамолу сэра Эндрю Мори. Я прибыл из Аннандейла, дабы захватить сие владение и попрать его, государыня, в качестве наказания. И то, что я не слишком его порушил, беря под свою протекцию, означает, что долг мой выполнен, а вы и ваши чада в безопасности. Мятежные шотландцы могут честить Брюса англичанином, думал Хэл, но истинный англичанин не церемонился бы с государыней Элинор Дуглас, каковая не женщина, а сущий пламенный светоч, и все же не спалена дотла сим отпрыском Брюсовым. — Вы содеяли сие из страха, что гнев моего мужа загонит вас в Пекло, поступи вы иначе, да и родня юного Хэла Сьентклера была с вами, государь мой граф. Гарантия Храмовников. Мои мальчики и я благодарим вас за сие. Древлий Храмовник с белой, будто овечье руно, бородой, лишь кивнул, но миловидное лицо юного Брюса исказил изгиб губ при упоминании, что слова одного лишь Брюса подозрительны; узрев его насупленные брови, государыня Дуглас впервые благосклонно улыбнулась. И все едино, вид был нерадостный. У государыни Элинор, помыслил Хэл, лицо, как у мастифа, жующего осу, — недобрый облик для того, чью любовную жизнь восхваляют в песнях и поэмах. Она была непорочна — Хэл знал это, потому что ведунья клялась, что она чиста, аки снега на Грампианах. Он не спорил, ибо карга была безумна, как корзина скачущих лягушек, но если б сам Господь Бог повелел ему выбрать одну деву из шеренги женщин, он бы ни за что, ни за что на свете не избрал бы Элинор Дуглас, жену сэра Уильяма Смелого. Ее истовые притязания должны были сделать ее чад законнорожденными. А заодно, подумал Хэл, это должно сделать обоих сыновей, Хью и Арчи, порождениями чуда и волшебства, ибо она и Смелый были любовниками задолго до того, как их узы были освящены Церковью. Потом Смелый похитил ее, отослал свою имевшуюся жену в монастырь и женился на Элинор, рискуя тем самым накликать всеобщий гнев. И не в последнюю очередь гнев сына, думал тогда Хэл, глядя на юного Джейми, стоявшего за спиной мачехи, вздернув подбородок и выпятив грудь. Он заметил, как тот изо всех сил сдерживает дрожь, и вдруг сердце защемило. Вылитый Джон, подумал Хэл обреченно. Будь Джонни жив, он был бы ровесником этому пареньку… Память вернула его обратно к виду замкового двора, Джейми и собачьего парнишки, шмыгнувших к кузне, и он снова ощутил знакомую боль.* * *
Сим Вран, следуя за Хэлом в заголубевшее утро, тоже видел, как через замковый двор прыснули отроки — и туман во взгляде Хэла, будто мга, клубящаяся над серо-синим морем. И тотчас уразумел, что это такое, потому что каждый отрок, на которого падал взгляд Хэла, напоминал ему о мертвом сыне. Эхма, а каждая темноволосая женщина со смеющимся взором напоминает ему Джин… Куда как плохо потерять сына из-за лихоманки, но еще и его мать — сущее наказание Божие для любого, и прошедшие два года почти не уврачевали раны. Времени на мальчишек у Сима почти не было. Но Джейми Дуглас все равно был ему по душе; он восхищался полыхающим в пареньке пламенем, как в добрых борзых щенках. В ночь рождения Джеймса Дугласа в небесах не было никаких знаков и предзнаменований, подумал он, просто его мать внезапно отослали прочь, и его жизнь оказалась в руках Смелого с его каменным лицом, каменными ладонями и каменным сердцем. В отличие от своих сводных братцев — тихих мелких чад, — Джеймс унаследовал шепелявость от матушки и сумрачную гневливость батюшки, выказывая ее внезапными вспышками ярости. Симу припомнился день накануне, когда прибыл Бьюкен и все в панике разбежались, ибо он главный соперник из Коминов Брюсам, стоявшим на вратах, и никто толком не знал, не смутьян ли он, поелику ему тут быть вообще не следовало. Что еще хуже, здесь была и его жена, считая, что ее муженек в паре сотен, а то и поболее шотландских миль вместе с армией Эдуарда Английского направляется на французские войны, развязав ей руки для заигрываний с юным Брюсом. Так что последовала долгая минута-другая, когда казалось, что события могут забурлить, и Сим взвел свой чудовищный самострел. Юный Джейми, захваченный происходящим, приподнялся на носочки и напрочь лишился своеобычной шепелявости, когда взревел, трясясь от ярости, с раскрасневшимся детским лицом: — Вы не войдете! Вас всех повесят. Мы вас повесим, всенепременно! — Цыц, — осадил его Сим, хлопнув отрока по плечу, но тот лишь опалил его взором. — Как смеешь ты разговаривать со мной подобным образом! — огрызнулся он. — Однажды я буду посвящен в рыцари! Последовала резкая затрещина, и отрок, вскрикнув, зажал ухо. Сим же натянул рукавицу обратно и положил ладонь на приклад самострела, нимало не смутясь. — Ныне я посвятил тебя в рыцари. Ежели будешь еще дерзить старшим, Джейми Дуглас, будешь посвящен в рыцари дважды. Теперь он упомянул о сей оказии Хэлу — просто чтобы тот оторвал взгляд от отроков. Встрепенувшись от нелепости происшествия, Хэл сумел выдавить блеклую улыбку. — Ей-богу, уповаю, что он запамятует сие, когда войдет в силу, — поведал он Симу. — А то тебе понадобится сей дюже большой самострел, дабы помешать ему дать твердый ответ на сию оплеуху. Внезапно разразившиеся сиплые вопли заставили обоих резко повернуть головы, и здоровенное лицо Сима Врана сбежалось хмурыми морщинами. — Чего еще занадобилось сему? — спросил он, и Хэлу не требовалось уточнять, кого он имеет в виду, ибо изрядная часть переполоха происходила внутри и окрест величественного полосатого шатра графа Бьюкенского. — Его жена, никак иначе, — сухо ответил Хэл, и Сим рассмеялся — тихонько, как пересыпающаяся зола. Где-то наверху, подумал Хэл, бросив взгляд на темную башню, сидит графиня Бьюкенская, дерзкая и красивая Изабелла Макдафф, упорствуя во лжи, что наведалась в гости к Элинор Дуглас лишь по случаю. Похоже, Бьюкен один во всей Шотландии не знает наверняка, что юный Брюс и Изабелла барахтаются друг с другом и стали любовниками, как выразился Сим, с той поры, как голыши юного Брюса опустились куда надо. Несмотря на весь юмор, смеяться тут нечего. Граф Бьюкенский — Комин, друг Баллиолов Галлоуэйских, архиврагов Брюса. Король Баллиол был назначен четыре года назад Эдуардом Английским, а после лишен регалий только в прошлом году, едва выказал строптивость. Теперь в королевстве, якобы управляемом из Вестминстера, воцарилась смута. Но все старые междоусобицы так и бурлят в котле королевства, и довольно будет сущего пустяка, чтобы варево убежало. Скажем, найти неверную жену, задравшую ноги к небесам, подумал Хэл. Отделившийся от тьмы клок заставил обоих вздрогнуть, но при звуке сдавленного смешка тут же чуточку пристыженно снять руки с эфесов. — Истинно, реку вам, тешится человек доброй воли, коли его еще стращаются два столь бравых молодца. Во мраке прорисовалась облаченная в темные одеяния фигура Древлего Храмовника. Он захихикал, и его белая борода затряслась. Хэл кивнул — и из вежливости, и из осторожности, ибо Древлий Храмовник представляет Рослин, коему Сьентклеры Хердманстонские приходятся ленниками. — Сэр Уильям… Хвала Господу. — Во веки веков, — откликнулся Храмовник. — Коли имеете минутку, есте нужны оба. — Истинно? И кому же? Голос Сима был достаточно сдержан, но без признаков почтения к титулу. Древлий Храмовник и бровью не повел. — Графу Каррикскому, — провозгласил он, закруглив дело довольно гладко, и они кротко последовали за Древлим Храмовником навстречу тусклым угасающим огням зала и башни. Мужчины прибыли в хорошо обставленный покой с сундуком, лавкой и креслом, а равно и свежими циновками, благоухающий рассыпанными по ним летними цветами. Тонкие восковые свечи медово рдели во мраке, отбрасывая высокие, угрожающие тени — вполне под стать здешнему настроению, подумал Хэл. — Ты его видел? — с напором вопросил Брюс, выхаживая вперед-назад, выпятив нижнюю губу и дико помавая руками. — Видал ты его? Раны Господни, мне пришлось собрать все терпение, чтобы не разбить костяшки об его окаянную ухмылку. — Весьма достохвально, государь, — отозвался сумрачный силуэт, разбирая платье со сноровкой знатока. Хэл уже видел этого типа — темную тень за спиной Брюса. Ах да, Киркпатрик, припомнил он. Брюс пнул циновки. Фиалки взмыли кверху и осыпались дождем. — Оный был со своим серебряным nef[559] и своим змеиным языком, — бросил он. — Ужели он думает, будто соль отравлена, коли вынул сей зуб? Сие есть оскорбление государыни Дуглас, но выход есть, уж будьте покойны. Бьюкен — ходячее оскорбление. Он и его свойственник, сам король Пустой Камзол. Leam-leat[560]. Слыхал ты, как он говорит мне, что никто из нас не управился бы лучше Иоанна Баллиола? Бьюкен, tha thu cho duaichnidh ri е́arr а́irde де a’ coisich deas damh[561]. — Я слышал, мой государь, — негромко отвечал Киркпатрик. — Позволительно ли мне набраться дерзости, дабы отметить, что и вы сами располагаете nef чудесной работы из серебра с гранатом и сердоликом, с уложенным внутрь ножом для еды и ложкой? Равно как и называть графа Бьюкенского двуличным или — если я правильно понял — «уродливым, как северный конец вола, обращенного мордой к югу» отнюдь не способствует дипломатии. Ну, хотя бы вы не сделали сего ему в лицо, даже по-гэльски. Как я заключаю по сему тонкому постельному белью, крашенному орселем, ваша светлость планирует ночные бдения… — Что? Брюс резко обернулся, уцепившись за небрежно оброненную последнюю реплику в сухом, бесстрастном глаголании Киркпатрика. Встретился с ним взглядом, но тут же отвел глаза и снова замахал руками. — Так. Нет. Случаем… ах, человече, разве я тыкал ему в лицо своим nef с гранатом и сердоликом? Равно же не располагаю и змееязыким отведывателем, каковой есть бесчестье. — Я плохо разумею по-французски, — прошипел Сим Хэлу на ухо. — Во имя всех святых, что за окаянный nef? — Затейливая безделица, чтобы держать столовую утварь, — прошептал в ответ Хэл уголком рта, пока Брюс метался туда-сюда. — В форме ладьи, дабы высокородные nobiles[562] выказывали свою знатность. Было очевидно, что Брюс припоминает давешний ужин, когда они с Бьюкеном и своими свитами вежливо улыбались друг другу, а тем временем подспудные страсти толще морских канатов бушевали вовсю вокруг да около, связывая их всех. — И нате пожалуйста, он еще разглагольствовал о возвращении Баллиола, — неистовствовал Брюс, с недоумением простирая и воздевая руки горе. — Баллиола, Боже ты мой! Его, каковой отрекся. Прилюдно лишен регалий и чести. — Поносный день для всего света державы, — буркнул Древлий Храмовник из сумрака, выступая меж них и являя жутковато освещенный лик. Он, этот лик, был угрюм и изнеможен, изваян виденным и содеянным, источен утратами до подобия рунического камня, припорошенного снегом. — Из мелких баронов в короли шотландцев за единый день, — обобщенно добавил сэр Уильям Сьентклер, поглаживая свою белую, как руно, бороду. — Мняше о себе боле, нежели епископ имеет крестиков, — иже низведен до десятка выжлецов, егеря да поместья в Хитчине. Оный не воротится, коли разценяти, аки он рва и мета, уходивши. Иоанн Баллиол полагает себя напрочь отвещавшимся с Шотландией, попомните мои слова. — Я уж поднаторел, — заметил Брюс с блеклой усмешкой. — Понял почти все. — Что ж, добро, — беспечно ответствовал сэр Уильям. — Рассуди тако: коли не хочеши того же кляпа в своем горле, разумей же — не кто иной, как Макдафф да его кичливость, сгубили стуть короля Иоанна Баллиола с его воззванием к Эдуарду даровати оному права, егда король Иоанн напрочь отказа. Брюс взмахнул одной рукой. Рукав его белой bliaut[563] порхнул в опасной близости от свечи, заставив тени заплясать. — Право, суть я уловил прекрасно, но Макдафф Файфский — не единственный, кто попользовался Эдуардом, как сюзереном, подрыв устои трона Шотландии. Остальные шли с жалобами к нему, будто королем был он, а не Баллиол. Сэр Уильям кивнул с суровым выражением своего белобородого лика. — Что ж, добро — Брюсы никогда не приносиху присяги Иоанну Баллиолу, коли припоминаю, а Макдаффа аз помянух не столь поелику оный вздел крамолу в Файфе, сколь поколику ты трясеши гузкой с его дщершей и того и гляди уползеши во тьму, абы насесть на нея, егда ее собственный муж столь близко, же можно на него плюнути. И встретил обжигающий взор Брюса своим сумрачным. — Сия стезя кончается пеньковой взенью, государь. Молчание затянулось тяжкой сумрачной громадой. Потом Брюс прикусил нижнюю губу, вздохнул и поинтересовался: — Что значит трясти гузкой? — Преблуждати… — начал сэр Уильям, и Киркпатрик деликатно кашлянул. — Потакать незаконной связи, — бесстрастно доложил он, и сэр Уильям развел руками. Брюс кивнул, а затем склонил голову к плечу. — А пеньковая взень? — Петля палача, — провозгласил сэр Уильям погребальным тоном. — А змеиный язык? — спросил Сим, едва не лопавшийся от любопытства с той самой поры, как услыхал о нем раньше; ошарашенный Хэл зажмурился, чувствуя, как все взоры обращаются к нему, обжигая огнем. Спустя мгновение Брюс угрюмо уселся на лавку, и напряжение развеялось в клочья. — Зуб для проверки соли на яд, — наконец ответил Киркпатрик. Тьма его лицо не жаловала — длинное и тощее, как клинок, с прямыми черными волосами по обе стороны от ушей и глазами, будто буравчики. Лицо — землисто-серое, с резкими чертами, как искромсанная ножом глина, — служило ему оружием. — Змеиный? — не унимался Сим. — Обычно акулий, — горестно усмехнулся Брюс, — но люд вроде Бьюкена платит за него целое состояние, веря, что он взят у гада Эдемского. — Не тем мы делом заняты, это уж точно, — заявил Сим, и Хэл положил ладонь ему на запястье, чтобы заставить умолкнуть. Заметив это, Киркпатрик вгляделся в хердманстонца, оценив ширину его плеч и груди, широкое, чуть плосковатое лицо, опрятную бородку и коротко стриженные волосы. И все же от уголков этих серо-голубых глаз змеились морщины, говорившие о том, что они многое повидали и виденное состарило его. Сколько ему — лет двадцать пять? Или двадцать девять? С мозолями на ладонях отнюдь не от плуга или лопаты. Киркпатрик знал, что он — единственный сын обедневшего мелкопоместного рыцаря, отпрыска окрестного Рослина, потому-то сэр Уильям и поручился за него. И сына, и внука Древлий Храмовник Рослинский лишился в прошлом году в сражении под Данбаром. Обоих пленили и оставили в залог. Им повезло куда больше, чем остальным, представшим перед англичанами, еще опьяненными кровопролитием в Берике и не склонными сдерживаться. Ни того, ни другого Сьентклера еще не выкупили, так что Древлий Храмовник получил дозволение оставить свою аскетическую, почти монашескую жизнь, дабы взять Рослин в свои руки, пока один или оба не вернутся. — Сэр Уильям говорит мне, что вы ему как сын, последний Сьентклер, наделенный молодостью, свободой, крепкой рукой и рассудительной головой, — сказал Брюс по-французски. Поглядев на сэра Уильяма, Хэл кивнул в знак благодарности, хотя, правду сказать, вовсе не был уверен, что должен испытывать за это благодарность. В Рослине еще есть дети — двое отроков и отроковица, ни одному не больше восьми, но все они отпрыски древа Сьентклеров. Как бы там Древлий Храмовник ни относился к Хэлу Хердманстонскому, но только не как к наследнику, способному потеснить его правнуков в Рослине. — Это из-за него я ввел вас в этот круг, — продолжал Брюс. — Он говорит, что вы и ваш отец питаете почтение ко мне, хоть вы и люди Патрика Данбарского. Хэл бросил на сэра Уильяма испепеляющий взгляд, ибо ему пришлось совсем не по душе, как это прозвучало. Сьентклеры связаны вассальной присягой Патрику Данбарскому, графу Марчу и твердому стороннику короля Эдуарда, — и все же, хотя рослинская ветвь взбунтовалась, Хэл убедил отца поддержать ее на словах, но не шевельнуть и перстом. Он не раз и не два слыхал от отца, что сидящий на заборе кончит щелью поперек задницы; но Брюс и Баллиолы — искусные заборные седоки и только и ждут, когда все остальные спрыгнут на ту или другую сторону. — Мой отец… — начал Хэл и тут же перешел на французский: — Мой отец был вместе с сэром Уильямом и вашим дедом в крестовом походе, когда король Эдуард был юным принцем. — Истинно, — отвечал Брюс, — я припоминаю сэра Джона. Полагаю, ныне его кличут Древлим Государем Хердманстонским, и он еще не совсем утратил львиный рык, коим славился, когда был моложе. Он остановился, обирая болтающиеся ниточки на своем облегающем рукаве, и с горечью добавил: — Мой дед отправился в крестовый поход лишь потому, что у моего собственного отца хребет оказался слабоват. — Чти отца своего, — угрюмо вставил сэр Уильям. — Ваш дед любише добрую сечу, потому-то его и кликаху Поединщиком. Пленен сим мятежным государем Монфортом в Льюисе. Просто поталанило, же Монфорт закончил в Ившеме, иначе выкуп, за каковой торговашеся ваш отец, был бы губителен. Не заслуживши почти никакой благодарности за труды, сколько припоминаю. Брюс извинился утомленным взмахом ладони; Хэлу это показалось отголоском весьма застарелого спора. — Вы прибыли сюда с двумя замечательными борзыми, — внезапно заявил Брюс. — Охотиться, государь, — выдавил Хэл, и ложь на миг сковала язык, прежде чем вырваться наружу. И Брюс, и сэр Уильям рассмеялись, а Киркпатрик по-прежнему просто смотрел, как затаившийся горностай. — Два псы и тридцать вершников с бердышами, мечами и самострелами, — с усмешкой отвечал сэр Уильям. — На кого охотишеся, юный Хэл, на толстокожих из поганских краев? — Это была достаточно хорошая уловка, чтобы привести вас в Дуглас на день раньше меня, — перебил Брюс, — и я рад, что вам достало разумения подчиниться своему ленному государю, так что нам не пришлось обмениваться ударами. Теперь же мне нужны ваши псы. Поглядев на сэра Уильяма, Хэл хотел высказать вслух — просто потому что видел в этом смысл и верил обещаниям Древлего Храмовника, — что не последует за сэром Уильямом в свите Роберта Брюса. Хотел высказать это, да не мог набраться храбрости выказать непокорность одновременно и Древлему Храмовнику, и графу Каррикскому. — Выжлецы… борзые, государь? — в конце концов пролепетал он, обращая взгляд на Сима за помощью, но увидел лишь бочонок его физиономии с недоуменным взором, не потревоженной мыслью. — Для охоты, — кивнул Брюс и с улыбкой добавил: — Завтра. — Чего ради? — требовательно вопросил сэр Уильям, и Брюс, устремив на него холодный рыбий взор, отчеканил на чистом английском: — Королевство в огне, сэр Уильям, и я получил весть, что епископ Уишарт намерен прийти в Эрвин. Сей старый мастиф жаждет раздуть пламя в этой части державы, чтобы уж наверняка. Смелый улизнул из армии Эдуарда, а теперь я прознал, что и Бьюкен поступил так же. — Он получил предписание от короля Эдуарда быть здесь, — напомнил Брюсу Киркпатрик, но тот лишь отмахнулся. — Он здесь. Комин Бьюкенский вернулся. Разве вы не чуете жаркое дуновение ветра? Все меняется. От этого у Хэла засосало под ложечкой. Мятеж. Опять. Очередной Берик. Хэл встретился взглядом с Симом, и оба вспомнили окаянные минуты, когда убеждали Эдуардовых фуражиров не занимать фортецию Хердманстона после поражения шотландцев под Данбаром. — Итак, мы охотимся? — фыркнув, вопросил сэр Уильям, приподнимая рубаху, чтобы усесться поудобнее; при этом Хэл углядел красный крестик на груди, говоривший о принадлежности старого воина к ордену тамплиеров. — Да, — ответил Брюс. — Улыбчивость и вежливость во плоти, а коли Бьюкен попытается выяснить, куда я спрыгну, я постараюсь не выказать. Я знаю, что он вообще не спрыгнет, коли сможет это устроить, но если и спрыгнет, то подгадает самый подходящий момент, чтобы наделать бед Брюсам. — Что ж, ваш собственный скачок размечен скверно, но вы можете прыгнуть куда ране, нежели полагаете, — резко указал сэр Уильям, а Брюс выпятил губу и набычился. — Это мы увидим. Мой отец имеет право на трон, хотя Длинноногий и счел уместным назначить другого. Важно, как прыгнет мой отец, а он не желает даже седалищем поерзать в Карлайле. — Что дает вам изрядную свободу напрашиваться на неприятности, — подкинул Хэл, запоздало сообразив, что произнес это вслух. И сглотнул, когда Брюс обратил на него холодный взор; хорошо известно, что обожающий турниры расточительный граф Каррикский задолжал королю Эдуарду, который настолько откровенно проникся привязанностью к юному Брюсу, что готов осы́пать его щедрыми ссудами. Мгновение взгляд был ледяным, а затем темные глаза заискрились теплом, когда Брюс улыбнулся. — Истинно. Попасть в беду, как блудный юный сын, что позволит мне снова выкрутиться так же легко. Больше свободы, нежели у присутствующего здесь сэра Уильяма, несущего на плечах бремя всего ордена, а орден получает указания из Англии. — Клифтон — праведный капеллан в Баллантродохе, — проворчал Древлий Храмовник. — Он дал мне дозволение вернуться в Рослин до поры освобождения моих чад, понеже новый шотландский магистр Джон де Соутри будет выполнять то, что повелит ему английский магистр де Джей. В сей паре англичане первые, а храмовники вторые. Се де Джей ввергши моего мальчика в Тауэр. — Это я понимаю достаточно хорошо, — произнес Брюс, кладя ладонь на плечо старого храмовника. Как и все присутствующие, он знал, что попавшие в Тауэр редко выходят оттуда живыми. — Если Господь на стороне правды, то вы будете вознаграждены… как бы вы сказали? Тосетьне? — Недурно, государь, — отозвался сэр Уильям. — Мы еще соделаем из вас шотландца. На миг воздух сгустился, а Брюс застыл, не издавая ни звука. — Я шотландец, сэр Уильям, — в конце концов проронил он сдавленным голосом. Момент раскорячился, как ворона на суку, но это был сэр Уильям, учивший Брюса ратному делу с мгновения, когда его крохотная ручонка смогла как следует обхватить рукоять меча, и Брюс знал, что старика не устрашит насупленный юнец, граф он или нет. Он питал симпатию к Древлему Храмовнику. С момента утраты Святой Земли орден мыкается по миру, и хотя присягал на верность только Папе, сэр Брайан де Джей — tulchan[564] в руках короля Эдуарда. В конце концов Брюс чуть обмяк и улыбнулся невозмутимому, бесстрашному лику старца. — В общем, завтра мы поохотимся и узнаем, охотятся ли за нами в свою очередь, — сказал он. — Право, это вы толковито, — восхищенно выпалил Сим. — Ох, аки вы наостривши смышление, слухая вашу светлость, будьте уверены. И все едино, есть на той примке пятель. Оный Бьюкен может попытаться пересолить ваше хлебово, и охота есть самое подходящее для того место. — Что он сказал? Примка? Пятель? — вопросил Брюс. — Он приветствует ваш разум, острый, как клинок, государь, — саркастически перевел Киркпатрик на французский, — но объявляет о загвоздке. Бьюкен может попытаться испортить дело — пересолить вашу похлебку. Брюс проигнорировал тон Киркпатрика, и Хэл понял, что этому человеку — уже не слуге, но еще не равному — такие вольности дозволительны. Этот Роджер Киркпатрик — сумрачный, нелюдимый от века — кузен юного Брюса, безземельный рыцарь из Клоузберна, где господствует его тезка. У сего же за душой ровным счетом ничего, и он привязан к состоянию графа Каррикского, аки вол к плугу. И так же уродлив, отметил про себя Хэл, — человек с вечно бегающими глазами, вынашивающий в темных глубинах потаенные мысли. — Пересолить мое хлебово, — повторил Брюс и рассмеялся, добавив по-английски: — Право, Бьюкен может устроить это на охоте — щепотка стрел, чуток просыпавшихся арбалетных болтов… Вот потому-то мне и нужна горстка ваших всадников, Хэл Хердманстонский. — У вас и своих есть толика, — указал Хэл, и Брюс улыбнулся, ощерив передние зубы, как хорек. — Имеется. Аннандейлские, принадлежащие моему отцу и не вполне следующие за мной. Мои собственные люди из Каррика — добрые пехотинцы, горстка лучников и малость верных латников. Ни один не обладает умениями ваших плутов, и, что важнее, всех их тотчас распознают как моих собственных. Я хочу, чтобы Комины обеспокоились тем, кто есть кто, — особенно человек Бьюкена, некий Мализ. — Сказанный с лицом как у горностая, — подсказал Киркпатрик. — Мализ, — отозвался сэр Уильям, — Белльжамб. Брат Фаркуара, коего Эдуард Английский в этом году соделал архидиаконом Кейтнесса. — Мерзопакостная свинья, — проговорил Киркпатрик. Лицо его напоминало маску ярмарочного фигляра, и Хэл едва не расхохотался, но благоразумно прикусил язык. Мысли у него в голове закружились круговертью. — Убийства в секрете, — сказал он вслух, внезапно подумав, что не знает, спрыгнул бы его отец к Брюсу или к Баллиолу. Возможно, он взял бы сторону короля Иоанна Баллиола, Тум Табарда — Пустого Камзола, как по-прежнему законного короля шотландцев, оказавшись в лагере Баллиолов и Коминов. Хэл же, судя по всему, угодил к Брюсу — хотя каким образом, все равно загадка. Сэр Уильям увидел уязвленное выражение лица Хэла. Он благоволил этому парню, родственнику и тезке его томящегося в оковах внука, и возлагал на него чаяния. При мысли о внуке в груди его всколыхнулась волна гнева на сэра Брайана де Джея, послужившего орудием отправки его сына в Тауэр. Он и внука Генри туда запроторил бы, подумал Древлий Храмовник, да не тут-то было; он ненавидит Сьентклеров за их влияние в ордене. Хвала Всевышнему, вознес сэр Уильям, что внука Генри держат в пристойном английском поместье, дожидаясь дня, когда Рослин заплатит за его освобождение. В глубине души, заметенной холодными снегами зимы, он знал, что живым его сын из Тауэра уже не вернется. И все же самым тяжким бременем у него на сердце лежало иное: судьба ордена, который — да возбранит сие Христос — де Джей может поставить на службу Длинноногому. День, когда Бедные Рыцари выступят против собратьев-христиан, будет днем их погибели — эта мысль заставила его тряхнуть убеленной сединами головой. — Брань и в лучшем-то случае дело худое, — рек он, ни к кому в частности не обращаясь, — но усобица меж народом одной державы куда хуже. Брюс, взиравший долгим взглядом на лиловую рубаху, встрепенулся и кивнул Киркпатрику. Сумрачно вздохнув, тот отдал ее. «Подобающее одеяние, чтоб трясти гузкой, — свирепо подумал Хэл. — Я связал себя путами с человеком, думающим чреслами». В день, когда Бьюкен и Брюс пришли в Дуглас, припомнил он, было празднество Святой Димфны. Святой покровительницы безумцев. (обратно)Глава 2
Замок Дуглас, позже в тот же день Канун праздника Святого Брендана Путешественника, май 1297 года Они ждали государыню, рыцарей, слуг, борзых, охотников и всех прочих, бестолково толпясь и обходя стороной уже разгорячившихся коней. Собаки скакали и вертелись, натягивая поводки, так что выжлятникам приходилось, ругаясь, распутывать сворки, дабы посадить их в деревянные клетки на подводах. Пряженик с двумя громадными дирхаундами, высившимися по обе стороны от него, как статуи, обернулся, чтобы свысока ухмыльнуться Псаренку. Берне — доезжачий — вверил псов чужака под опеку Пряженика, потому что Псаренок — меньше чем ничто, и теперь Пряженик считал себя выше всей суеты и замешательства, сжимая в каждом кулаке по поводку больших гончих, благодаря ему недвижных, как камень. Псаренок знал, что Пряженик-то тут вовсе ни при чем, все дело в толкущемся поблизости великане Лисовине Уотти. Хэл хмурился, потому что дирхаунды могут ввязаться в бешеную драку, когда им вздумается, а если запахнет кровью, их не удержать и четверым мужчинам, не говоря уж о высоком насупленном отроке с зачатками мускулов и круглым личиком в обрамлении соломенных волос. Светлые ресницы и брови и курносый нос придавали ему сходство с недовольным поросенком; на дирхаундов его чары не действуют, и Хэл понимал, что доезжачий устроил это намеренно, ради издевки или помавания своей властью. А вот паренек, сноровистый с борзыми, — Хэл поискал его взглядом, и дыхание у него перехватило при виде его недвижности, ярости, сцепившей уголки его губ, лиловых теней под глубоко посаженными глазами и всклокоченных темных волос. Темнее, чем Джонни, подумал он… как думал вчера ночью, цветом волос и кожи напоминает Джейми и вполне может быть одним из побочных сыновей Смелого, отданным в попечение французского псаря Дугласа. Хэл перевел взгляд, вперив его в берне Филиппа, стоящего на окраине круговерти и раздающего распоряжения своим подначальным, коротко рявкая по-французски. Тяжесть этого взгляда заставила доезжачего поднять голову, и, наткнувшись на сероглазый взор лотийца, он побледнел, покраснел и отвел глаза, чувствуя гнев и… да, страх. Он знал, что Псаренка этому Сьентклеру отдала государыня, не потрудившись даже обмолвиться «с вашего позволения, берне», и это его уязвило. Когда ему сказали — ему сказали, о, Раны Господни! — что Псаренок будет приглядывать за дирхаундами, он строптиво решил отдать их Пряженику. Понимал, что это не более как задранная задняя лапа, помечающая собственную территорию, — на нем лежит ответственность за всех собак в Дугласе, хоть господских, хоть нет, — и ему не по нраву получать указания от какого-то ничтожного господинчика из Сьентклеров, считающего себя чересчур утонченным, чтобы равняться с простым людом. Но еще менее ему пришлось по нраву ощущение этого пронзительного взора, так что он принялся хлопотать со сворами и приказаниями, все время чувствуя вперенные в него серые глаза, как зуд, который и почесать-то нельзя. Искусно оседлав Брадакуса, Бьюкен изобразил фальшивую улыбку. Идею поохотиться высказал Брюс вчера вечером за столом, и Бьюкен всю ночь ворочался, обсасывая ее так и эдак в попытке понять, какую в том Брюс видит выгоду. Не считая комплота убить его из засады, так ничего и не измыслил, но поскольку занять себя больше нечем, потраченное время не в счет. Горечь подкатила под горло вкупе со съеденной на ужин кабанятиной с горчицей, тошнотворными газами, на вкус не менее погаными, чем его женитьба на этой сучке Макдафф. Брак представлялся выгодным и ему, и Макдаффу Файфскому. Однако же собственный родственник Изабеллы, олицетворение алчности и порочности, предал ее отца смерти, что не очень-то прельщало стать членом этой семейки. Даже при подношении свадебных даров Рыжий Джон Комин Баденохский склонил голову к плечу, искривив губы в усмешке. — Чаю, земли того стоят, кузен, — беспощадно заявил он Бьюкену, — ибо будешь почивать с волчицей, коей сказанные принадлежат. Бьюкен задрожал от когтящего душу воспоминания о брачной ночи, когда он вломился в Изабеллу Макдафф. Он делал это с той поры всякий раз, когда она возвращалась из своих блужданий, и теперь это стало частью обычая, как и замо́к, ключ и отказы исполнить свой супружеский долг, вполне приставшие титулу графини Бьюкенской. Это, да еще рождение наследника, в каковом она покуда не преуспела; Бьюкен до сих пор толком не знал, прибегает ли она к ухищрениям, чтобы избежать этого, или попросту бесплодна. А теперь она здесь, приехала в Дуглас якобы с невинным визитом, взяв для этого коня из одной конюшни с Брадакусом — Балиуса. О, Раны Христовы, и без того скверно, что она без женского пригляда, — хоть и твердит, что за ней ходят женщины Дугласа, но ведь даже без слуги, да верхом на превосходном андалузском боевом коне, в краю, где разбойники кишмя кишат… Она могла отправиться на тот свет, а от коня могла остаться лишь груда обглоданных костей… Бьюкен даже не знал, что сильнее — желание первого или страх второго, но вот она здесь, уютно устроилась в башне и отказывает ему в законных правах, а он тем временем чахнет в своем полосатом шатре в наружном дворе, и обостренное чувство собственного достоинства не позволяет ему затеять скандал. Это сильно сократило расстояние, отделяющее ее от женского монастыря, о котором он подумывал. А заодно заронило подозрение, не может ли она с Брюсом… Он отогнал эту мысль. Навряд ли она осмелится, но пусть все же Мализ разведает. А теперь он сидел как на иголках, дожидаясь ее появления, чтобы можно было начать эту треклятую охоту, хотя, если дела пойдут гладко, как запланировано, гордиев узел Брюсов будет разрублен. Предпочтительно, подумал он угрюмо, прежде чем блеснет секретный клинок Брюса. Потому-то, разумеется, он и его люди, выбранные на охоту, снарядились как на войну, облачившись в кольчуги и сюркоты с гербами; Бьюкен заметил, что Брюс блистает в расшитой гербовой накидке, с непокрытой головой, с улыбкой наблюдая за щебечущим Джейми Дугласом, пытающимся петь и играть, одновременно держа в узде норовистого коня. Однако же он взял с собой людей, не щеголяющих ливреями Каррика, так что никто толком не знает, кому они принадлежат. Бьюкен оглядел их с головы до пят: хорошо вооружены и сидят на приличных гарронах — шотландских пони. Вид у них такой, будто они откусили в жизни добрый фунт лиха, но зубы не обломали, особливо их предводитель, юный господин из Хердманстона. Ощутив на себе взгляд, Хэл обернулся к графу, сидевшему на своем крупном взмокшем дестриэ — боевом коне, укутавшись в черный плащ с куньей оторочкой, под которым поблескивала кольчуга. Широкое, чисто выбритое лицо, обрамленное стеганой шапочкой с тесемками, прежде красивое, пока жир не колонизировал лишние подбородки, зарозовелось и вспотело, как попка младенца. Граф Бьюкенский на дюжину лет старше Брюса, но преимущество в силе, даваемое молодостью, подумал Хэл, уравновешено коварством, таящимся в этих глазах Комина под нависшими бровями. Бьюкен признал вежливый поклон головы Хердманстона, кивнув в ответ. Брадакус бил траву копытом и фыркал, заставив Бьюкена небрежно похлопать его по шее, даже сквозь кожаную перчатку ощутив, как лоснится потная кожа коня. Надо было попросить иноходца вместо того, чтобы ехать на охоту верхом на дестриэ, угрюмо подумал он, но не мог себя заставить просить хоть что-то ни у Дугласов, ни у Брюсов. А теперь превосходный боевой конь, тянущий на добрых 25 мерков[565], охромеет, не говоря уж о присвоенном его женой, и Бьюкен даже не знал, что взвинчивает его больше — что она взяла на увеселительную прогулку боевого коня или то, как откровенно строила глазки Брюсу за столом вчера вечером. Кабанятина в горчице и запеканка из цельной пшеницы с голубями, грибами, морковью, луком и зеленью — листьями фиалок и цветами сирени, гордо объявила государыня Дуглас. С лепестками роз. Бьюкен до сих пор чувствовал, как они распирают кишки, и пускал ветры не менее усердно, чем потел его конь. Странное блюдо — это еще слабо сказано. Старый брат Бенедикт благословил трапезу, и это были его последние слова, прежде чем он уснул, уронив голову на розовые лепестки в подливке. Достопочтенное собрание за высоким столом[566] — он сам, Брюс, дамы, малыш Джейми Дуглас, Инчмартины, Дэйви Сивард и прочие — хранило оцепенелую осмотрительность. То бишь все, кроме Изабеллы. Мелкие дворяне чирикали между собой достаточно дружелюбно, не считая тех, кто сидел поближе к соли, где начались угрюмые переглядки по поводу того, кого посадили выше, а кого ниже ее. Беседу вели вполголоса, будто под сенью грозовой тучей нависшего над ней короля Эдуарда, — Длинноногий отбрасывает длинную тень, мрачно думал Бьюкен, даже из Франции. Он несколько раз осадил Брюса, чем был очень доволен, в то же время не проговорившись ни словом в ответ на неуклюжие попытки прощупать его намерения в отношении мятежного Мори. — Exitus acta probat[567], — невнятно пролепетал он, поперхнувшись при виде улыбок и укромной беседы Изабеллы с государыней, — прямо напротив него, нарочито его игнорируя. — Уповаю, результат подтвердит деяния, — по-французски ответил Брюс с холодным взором, — но тут вы помаваете дивно широким и обоюдоострым клинком. Хэл удивился бы, узнав, что они с Бьюкеном думают об одном и том же, хотя его подтолкнул к этим мыслям вид Псаренка, чью жизнь исковеркали и перекроили за вчерашним пиршеством — небрежно, будто швырнули собаке кость. — Ваши борзые пристроены? — окликнула Элинор Дуглас Хэла, которого усадили — к его немалому изумлению — во главе возвышения поменьше, на расстоянии вытянутой руки от высокого стола. Подумав, что государыня пытается разрядить напряжение вокруг себя, он охотно отозвался и лишь тогда обнаружил, что только усугубил дело. — Ваш отрок их успокаивает, госпожа, — отвечал он, вполуха прислушиваясь к угрюмой, отрывистой пикировке между Бьюкеном и Брюсом. — Мне в утеху отдать мальчишку вам, — с улыбкой проговорила государыня. Хэл увидел внезапно потрясенный взгляд Джейми, не донесшего ложку до рта, и сообразил, что Элинор тоже заметила это. — Джейми почтет меня за злобную мачеху из сказок, — продолжала она, не глядя на пасынка, — но он проводит не в меру много времени с этим безродным чадом, так что настал час разделить их, дабы он постиг поведение, приставшее его положению. Хэл ощутил глубинный водоворот, и тут же вспышкой пришло беспощадное осознание: мальчишка-псарь — побочный отпрыск Смелого, подумал он про себя, и эта баба хватается за любой шанс отомстить блудному супругу и все более докучающему пасынку. «Гуттерблюйд был первым, я следующий — опасная игра, госпожа…» Бросив взгляд на Джейми, Хэл увидел вытянувшееся в струнку тело, окаменевшее лицо. — Я буду заботливо опекать паренька, — произнес он, подчеркнуто глядя на Джейми, а не на нее, — ибо коли утихомиривает моих чертей, он просто на вес золота. Ценность этого дара Хэл осознал лишь позже и, глядя на щуплого сорванца, дивился спокойствию, которое тот навевает на этих здоровенных бестий; вспомнив мерзкий нрав доезжачего, он насупился еще больше и тут вдруг сообразил, что делает это, таращась на графа Бьюкенского. Поспешно изобразив извиняющуюся улыбку, Хэл отвернулся и лишь позже понял, что Бьюкен его даже не видел, вперившись взглядом, как змея в полевку, в появившуюся жену. Она явилась пятном крови на прозелени дня, светозарно улыбаясь и приветствуя милостивым наклоном головы своего хмурого мужа, охотников и малолетних выжлятников. Изабелла сидела верхом по-мужски на покрытом попоной иноходце — ну, хотя бы на сей раз не на боевом коне, свирепо подумал Бьюкен, — а государыня Дугласская, нарочито скромная и сознающая свой титул, ехала боком на женском седле вслед за Гуттерблюйдом, державшим на запястье ее сокола. Изабелла была облачена в красно-коричневое одеяние из домотканой шерсти, расшитое золотом, обувшись — по мнению Хэла, совершенно неуместно — в изношенные, замызганные полусапожки, более приставшие простолюдину, нежели графине; зато ее плащ с капюшоном был ярче ягод остролиста. Хэл сообразил, что все это позаимствовано у государыни Дуглас, — кроме сапожек, ее собственных, а прибыла она лишь в зеленом платье, старом дорожном плаще и с парой туфелек тонкой работы. Джейми, ехавший рядом с ней, держа в одной руке лютню, подмигнул Псаренку, и тот выдавил блеклую улыбку. Оба разделили общую печаль самых последних минут совместного пребывания за всю свою жизнь до этого момента. — Жена, — проворчал Бьюкен, скупо кивнув, и удостоился в ответ холодной улыбки. — Ба! — вслед за тем воскликнула она, перекрыв шум, поднятый собаками, лошадьми и людьми. — Государь Роберт, зяблики! Бьюкен раздумчиво взирал из-под низко нависших бровей на Брюса и свою жену, играющих в ту же дурацкую игру, что и весь вечер вчера застолом. И ощутил в груди раздражение, всплывающее, как дерьмо в сточной канаве. — Запросто. Мороз, — отозвался Брюс. — А вот теперь для вас цапли. Хэл заметил, как просияла Изабелла — глаза горят сапфировым пламенем, волосы переливаются всеми оттенками меди, — ощутил, как во рту пересохло, и уставился на нее во все глаза. Бьюкен тоже это заметил, и это только раззудило его, как докучный летний свербеж в паху, от почесывания только распаляющийся. — Престол, — ответила она после кратчайшей паузы. — Мой ход — мальчики. Сдвинув брови, Брюс уставился в одну точку, а охота кружилась вокруг них, как листва, не касаясь этой пары, будто они находились в центре вихря, не трогавшего даже волоска на их головах. Но Хэл наблюдал за Бьюкеном, наблюдавшим за ними, и увидел ненависть, так что, когда Брюс сдался, а Изабелла восторженно захлопала в ладоши, Хэл заметил, как государь Комин едва не взвился из седла от гнева. — Ха! — триумфально провозгласила она. — Снова мой верх! А затем, когда в лицо Брюсу бросилась кровь, добавила: — Мальчишеский румянец. — Коли вы покончили со своими потехами, — проворчал Сивый Тэм, ликом смахивающий на старую корягу, — дык мы можем начать охоту. — Мой государь, — добавил он, увидев насупленные брови Брюса и ухитрившись уязвить этим титулом больнее, нежели бранным словцом. А раз Сивый Тэм был старшим охотником Дугласа, даже более ценным, чем сокольничий Гуттерблюйд, Брюсу оставалось лишь улыбнуться и выказать тому внимание вежливым кивком. — Теперича начнем, — провозгласил Сивый Тэм, хлопнув ладонью; кавалькада тяжеловесно тронулась, расшвыривая комья грязи по траве вдоль тропы, ведущей к лесу у Дугласовых вод. Псаренок проводил взглядом Пряженика, чуть не волоком увлекаемого дирхаундами вслед за телегой гончих. — Мир, о моя сладкозвучная лютня, — испустил Джейми чуть дрожащую трель, тронув струну-другую, но эффект был испорчен необходимостью прерваться, чтобы править конем. — Чертовски странная сие battue[568], — проворчал Сим Вран у локтя Хэла, и тот не возразил ни словом. Бьюкен и Брюс вооружены и облачены в кольчуги, хоть и не взяли шлемов, — и в липовой претензии на дружбу, и потому что и без того успели взопреть в доспехах в волглом майском тепле. Бьюкен даже оседлал своего дорогущего боевого коня, отметил Сим, словно чуял беду, а тень Мализа Белльжамба тряслась у него за спиной на обычной лошаденке, завьюченной толстыми седельными сумками. — Али зреет беда, — ответил Хэл, и Сим, погладив подбородок, заросший седеющей щетиной, коснулся рукоятки большого лука, подвешенного у бока его кудлатого конька, следя за бегающими глазами Белльжамба. Киркпатрика, заметил он, нигде не видать, и все это грязное дело заставило его гневно дернуть поводья Гриффа — шотландского пони с бочкообразной грудью и дурным нравом, малорослого, косматого и сильного. Все его люди ехали на таких же лошадях — мелких, идеально подходящих для трудных троп и долгих поездок в темноте и слякоти всего с горсткой овса и дождевой водой в конце пути. Они могут бежать часами и спать посреди вьюги, но не устоят перед массой всадников на конях вроде Брадакуса Бьюкена; однако будь Хэл проклят, если позволит себе оказаться в бою на каком-то выхолощенном иноходце. Сим и всадники счетом перстов на двух руках, облаченные во все доспехи, какие только могли надеть, следовали за ним и толком не знали, идут ли на охоту или на луп[569], поскольку вооружились длинными ножами и бердышами. Поглядев на них, Брюс криво усмехнулся. Охотничьим оружием джеддарт не назовешь — восьмифутовый шест, окованный на треть железом, снабженный наконечником пики, узкой полоской лезвия с одной стороны и крюком вроде загогулины пастушьего посоха с другой. Искусно владеющие им воины могут метнуть его, не покидая седла, а могут спешиться и образовать небольшие ощетинившиеся остриями группы, способные стащить всадника с лошади или искромсать его дорогого коня в крошево. Хоть Брюс и считал, что они похожи на конных разбойников, зато видел их силу и сноровку. — Будь ты апрельскою ле-э-эди, был бы я майским владыкой, — чирикал Джейми, пока они хмуро следовали по дороге вдоль реки, а солнце сияло, словно в насмешку над их нелепостью. Свернули с дороги. Телеги раскачивались, и собаки в клетках нетерпеливо скулили. Псаренок увидел лес, темный и духовитый, усыпанный жемчугами рассветного дождика. Деревья, настолько темно-зеленые, что казались черными, раскорячились по холмам, бурлящим потаенной жизнью под сенью папоротников и кустарников. Самое место для гоблинов, троллей и гномов, подумал про себя Сим Вран, поежившись при мысли об этих фейри. Ему нравились плоские, пологие холмы Мерса[570] и Марча, унылые, как сердце старой блудницы; леса заставляли его сутулиться и втягивать голову в плечи. Деревья смыкали ряды, и дорога скрылась за ними, и солнце едва пробивалось сквозь листву, бросая на деревья пестрядь лучей; налетели мухи, жужжа и жалясь, отчего лошади забеспокоились и задергались. — А чего они жрут, когда нас тут нет? — заныл Куцехвостый, хлопнув себя по шее, но никому не хотелось даже раскрывать рта для ответа, а то, чего доброго, овод влетит. Государыня улыбнулась Хэлу, и он припомнил, как она обернулась к нему в замковом дворе, когда Бьюкен и Брюс удалились рука об руку, будто воссоединившиеся братья. Это ему особенно запомнилось из-за изумления, написанного на ее курносом, толстощеком поросячьем личике, смягченном озабоченностью. — Я знаю, чего стоил этот день, — пробормотала она на благородном, утонченном французском, и этот язык, и эти чувства потрясли его еще более. А потом добавила на грубом гортанном шотландском: — Но ни я, ни сей отрок не будем забыты. Вы будете sae cantie as a sou among glaur всякий раз, как приедете в Дуглас опосля сего. Sae cantie as a sou in glaur — счастливы, как свинья в грязи, — отнюдь не лучшее предложение из поступавших Хэлу; ибо, несмотря на свой изысканный французский и де-лувеновскую родословную, когда государыне Дугласской вздумается, у нее язычок почище, чем у гулящей прачки. Но Хэл все равно поблагодарил ее, не сводя глаз с Бьюкена, не сводившего глаз с Брюса и отрывавшегося, лишь чтобы бросить взгляд на Изабеллу Макдафф. Государыня Дугласская обернулась, чтобы заговорить с Сивым Тэмом, отмахиваясь от кружащих у лица мух. Старый охотник похож на какую-то корягу, подумал Бьюкен, зато дело знает. Сивый Тэм подал сигнал, и вся кавалькада остановилась; борзые затолклись в своих клетках, тявкая и скуля. Стоило охотнику кивнуть Малку, и выжлятники убрались с дороги под деревья вместе с телегами, налегая на них, чтобы протолкнуть сквозь кусты и бездорожье; остальные последовали за ним, и через пару шагов всем показалось, будто лес пришел в движение, подступая ближе и грозно нависая над ними, гася всякий шум, пока даже Джейми не оборвал свои любовные причитания. Сивый Тэм привстал в стременах — массивный, краснолицый, с непокорной гривой волос цвета грязного снега, заслуживших ему это прозвище, с бородкой, как у старого козла, и одним глазом; второй, как слыхал Хэл в разное время, тот потерял в бою с людьми из Галлоуэя, в схватке с медведем и в кабацкой драке. Какое объяснение ни возьми, подумал он, любое возможно. В седле главный охотник сидел, как полупустой мешок зерна. В последнее время спина у него болела, а суставы ломило так, что даже солнце не могло ничем помочь. Любой, считающий, что знает старого охотника, был бы изумлен, проведав, что он не любит этот лес, и чем больше о нем узнает, тем меньше тот ему по душе. И меньше всего лес ему нравится в эту пору года, а уж в сей момент он просто-таки ненавидит его, потому что красный зверь в самом расцвете сил, и охота будет долгой, жаркой и изнурительной. Охотник считал, что хуже всего этот фарса и придумать нельзя, ибо battue обычно почти ничего не дает, распугивает всю дичь на мили округ на многие месяцы и калечит добрых коней и собак. Он потуже запахнул драный меховой воротник своего замызганного плаща — второй был завьючен на спину лошади, ибо опыт подсказывал ему, что на охоте нипочем не знаешь, где устроишь себе постель, — и помолился Пречистой Деве, чтобы не пришлось оставаться здесь во мраке ночи. Издали до его слуха донеслись улюлюканье и тарарам, поднятый выгонщиками. Сивый Тэм искоса бросил взгляд на Сьентклеров — Древлего Храмовника Рослинского и Сьентклера еще откуда-то, о таком месте он даже не слыхал. А вот его выжлецы, поимейте в виду, чудная пара; любопытно, так ли они хороши и в охоте, как выглядят. Посмотрел, как государыня Элинор воркует со своим соколом в колпачке и обменивается любезностями с Бьюкеном, и увидел — потому что теперь прекрасно ее знал, — что она так же фальшива, как сусальное золото. Оный есть олух, подумал Сивый Тэм, который выступает на охоту на знатном коне и будет раскаиваться об том, когда его мускулистый жеребец обратится в дорогостоящую хромоногую клячу. Помесь андалузца с фризийцем, подметил он наметанным оком, сто́ит в семь раз дороже его собственной лошади. Гузно окаянное. Окинул взором юного Брюса, накоротке пересмеивающегося с женой Бьюкена. Будь она моя, подумал Сивый Тэм, я б их выпотрошил за изображение твари с двумя задницами. Смахивает на то, что Бьюкен к тому слеп, думал про себя Сивый Тэм, искушенный годами наблюдений, ведет себя как большинство нобилей — поджидает своего часа, прикидываясь, будто ничего не случилось с его благородством и честью, а потом нанесет из тьмы удар в спину. Сивый Тэм знал, что вылазка на battue, вооружившись как на войну, отнюдь не в диковину, ибо подобный манер охоты как раз и придуман, чтобы приучить юных рыцарей и оруженосцев к сражениям. И все же старый охотник чуял поганый душок от всей этой затеи. И молодой Сьентклер подтвердил это, подойдя к Тэму, чтобы расспросить об обстоятельствах охоты и хмуро раздумывая над ними. — Значит, мы растеряем друг друга, — произнес он почти устало. — Промеж деревьев. Народ разлетится, будто мякина на ветру. — Истинно так, — согласился Сивый Тэм, видя тревогу собеседника и испытывая сходную озабоченность; ему не хотелось, чтобы соперничающие господа подкрадывались друг к другу в лесах Дугласа. Так что он выложил свои страхи государю Хердманстону, поведав тому, что на охоте непременно что-нибудь да пойдет вкривь и вкось, коли люди не внимают ее Закону. Охромевшие лошади, беспечно пущенные стрелы — ранения уже случались, особливо во время battue. А сверх того из-за скверного прицела, брошенного наудачу дротика али невезения зверь слишком уж часто получает несмертельную рану и убегает, и дело чести причинившего ее пуститься за ним в погоню, дабы животное не страдало более необходимого. Если потребуется, так и в одиночку, будь ты королевский вельможа или ничтожный лотианский государь. — Разумеется, коли то олень али вепрь, — добавил Сивый Тэм, утирая пот, капающий с носа. — Олень, поелику он благороднейшее творение Божие опосля человека, а вепрь — поелику он свирепейшее творение Божие опосля человека, а то и похуже, коли больно ранен. Всех прочих тварей, подчеркнул он Хэлу, можно бросить помирать. Теперь же Тэм приподнялся в стременах и поднял руку, напоминающую корявое красное корневище дрока и крапчатую, будто брюхо форели. А потом обернулся к Малку, назначенному нынче valet de limier[571]. — Роланд, — сказал он негромко, и пса выволокли из подводы. Неуклюже спешившись, Сивый Тэм с кряхтением опустился на колени рядом с ищейкой; оба мрачно поглядели друг на друга, и Сивый Тэм погладил серую морду с нежностью, изумившей Хэла. — Старичок, — сказал охотник. — Beau chien[572], ступай с Богом. Ищи. Ищи. Он отдал сворку угрюмому Малку, и Роланд стрелой бросился вперед, болтая языком и быстро переходя от точки к точке, от куста к коряге, опустив голову, нетерпеливо принюхиваясь и волоча Малка за собой. Помедлил, оцепенев, перескочил пару футов, а затем целеустремленно протиснулся сквозь кусты в лес стремительной, тяжеловесной рысью. Выжлятники и псарята последовали за ним, борясь с телегами. Хэл обернулся к Лисовину Уотти, а тот лишь ухмыльнулся и дернул головой: Пряженик шел пешком, а двое дирхаундов упорно скакали вперед, волоча его, будто повозку. Хэл ответил ухмылкой, зная, что Лисовин Уотти будет смотреть за отроком в оба глаза. А потом вдруг увидел темноволосого Псаренка, бредущего сквозь папоротник, и сердце защемило. У Сима Врана, тоже увидевшего его, дух перехватило — прямо маленькая копия Джейми, как Хэл и говорил. Вот так загадка… — Следуйте за сэром Волли[573] и держитесь купно, — громко сказал Хэл, чтобы слышали его люди. — Разнесите весть: оставаться вместе. Коли что случится, следуйте за мной или Симом. Я не хочу, чтобы народ тихо-мирно рассеялся. Только напортачьте — и срам на ваши головы. Люди бурчанием выразили свое согласие, и Сим подогнал коня поближе к Хэлу. — А как тогда быть с женами? — по-детски невинно поинтересовался он. — Может статься, вы предпочтете следовать за ягодицами графини Бьюкенской? Хэл опалил его взглядом, чувствуя, как кровь бросилась в лицо. Проклятье Господне, ужели он столь очевидно сражен чарами Изабеллы Макдафф? — Пусть сия блоха сидит на стене, — предостерег он, и Сим примирительно поднял ладонь. — Я лишь спрашиваю, что делать, — сказал он с легкой улыбкой и насмешкой во взгляде. — Оставьте графиню ейному мужу — али Брюсу, ухлестывающему за ней, аки зрит всякий, окромя женатого на ней слепца. Хэл бросил взгляд на графиню, пламеневшую в сумрачном свете под черно-зелеными деревьями, вспомнив, как она сияла и во мраке. Он ощупью отыскивал путь к отхожему месту после несуразного пира, пробираясь тихо, как мышка, по холодному, серому, сумрачному замку к дыре нужника. На полпути вверх к повороту лестницы услышал голоса и остановился, сообразив, что один принадлежит ей, чуть ли не до того, как звук коснулся слуха. И двинулся вперед, дабы выглянуть над верхней ступенькой вдоль полутемного коридора. Изабелла стояла у двери своей комнаты босиком, кутаясь в большое одеяло из медвежьих шкур и явно обнаженная под ним. Ее волосы медно сияли в тени, ниспадая завитками на белые плечи. Обок ее двери висел небольшой щит, сиявший в сером сумраке неестественной белизной, с голубой полосой поверху и сверкающими муллетами Дугласов. Поверх него висела латная рукавица. — Щит юного Джейми, — объясняла она обнимавшему ее темному силуэту. — Он повесил его туда вместе с железной перчаткой, глянь туда. Он поклялся стать моим рыцарем и предстателем и повесил их там, чтобы доказать это. Если кто откажется признать, что я самая распрекрасная девица на свете, то должен ударить по щиту с перчаткой и готовиться к схватке. Сдвинувшись, силуэт негромко рассмеялся над этим вздором, а Изабелла жарко впилась в его уста. На миг дыхание у Хэла перехватило, и ему захотелось, чтобы это он смотрел сверху вниз, ощущая это тепло на своих губах. — Ударить по нему вместо тебя? — спросила она игриво, поднимая свои длинные белые персты, отчего мех с ее плеча соскользнул, открыв одну невозможно белую персь с рубиново-красным сосцом, будто пламя в полумраке; у Хэла занялось дыхание. — Скажем, просто стукнуть, чтобы поглядеть, примчится ли он вихрем по коридору. — Нет нужды, — провозгласил силуэт, придвигаясь поближе к ее жару. — Я ничуть не спорю против того, что он отстаивает. Изабелла протянула руки, и он заворчал. Она улыбнулась ему в глаза, поводя ладонью. — И тем не менее, сэр рыцарь, — произнесла она чуточку бездыханно, — похоже, ваше копье поднято. — Поднято, — согласился силуэт, направляя ее в дверной проем, так что свет факела упал на его лицо. — Но еще не взято наперевес, — добавил Брюс, и дверь за парой закрылась… Низкий, подымающий волосы дыбом лай вырвал Хэла из грез, а борзых в клетках поверг в неистовство. — След, след! — хрипло выкрикнул Сивый Тэм без нужды, потому что все уже повернули на звук; Хэл увидел, что Изабелла отдала своего сокола бегущему вприпрыжку, сгорбившись, Сокольничему и пришпорила коня. Брюс, любовавшийся соколом Элинор, теперь сунул его обратно Сокольничему и последовал за ней. Оба вырвались вперед. Хэл услышал ее смех, а Брюс, поднеся к губам рог, издал длинный, сипящий, неблагозвучный сигнал. Лимье прямо рвались со свор, волоча следом несчастных пыхтящих отроков-псарей, устремляясь вперед в жутковатом молчании, к которому их приучили, втягивая ноздрями запах, вытропленный для них Роландом. Появился Малк с Роландом. Тяжело дыша, борзые трепетали от возбуждения. Изо всех сил удерживая сворку, Малк испустил длинный переливчатый крик своим сдавленным горлом, перехваченным из-за того, что приходилось отчаянно тянуть за поводок. — Довольно! — рявкнул Сивый Тэм, устремляя на Филиппа суровый взор, напоенный в равной мере и порицанием, и ядом. Увидел, как доезжачий стиснул губы, а потом заорал благим матом на несчастного Малка. — Отдай его, — потребовал Сивый Тэм, и тот, насупясь, потащил извивающегося Роланда со следа, поставив перед седлом старого охотника. — Тихо, тихо, мой красавчик… Молодец. Сивый Тэм вытерпел неистовое облизывание лица и ласки пса, потом сунул его под мышку и с кривой усмешкой обернулся к Хэлу: — Какая жалость, коли нос безупречный, а ноги оставляют желать лучшего, а? Роланда вернули Малку, принявшему его, будто золото, и бережно понесшему обратно к клетке. Сивый Тэм, нахмурившись, поглядел на доезжачего. — Возьмем Белль, Крокара, Санспер и Мальфозина, — объявил он. — Выпускайте rapprocheurs[574]. Гончих вытащили и отпустили, и они понеслись во весь дух, шныряя влево-вправо. На глазах у Псаренка Пряженик пошатнулся, потому что два дирхаунда чуть натянули поводки, но одно лишь слово Лисовина Уотти заставило их с укором обернуться и заскулить. Псаренок увидел, как Фало припустил за набирающими скорость собаками, сжимая вспотевшими ладонями хлещущие своры, и припомнил бесчисленные разы, когда сам исполнял эту неблагодарную, изнурительную работу. Теперь его отдали этому новому господину, и она больше не будет частью его жизни. И с внезапно всколыхнувшейся радостью — сильной до головокружения — вдруг понял, что заодно распростился и с Гуттерблюйдом и его птицами. Позади Фало крестьяне-выгонщики тужились поспевать следом. Окрестные пахари, согнанные сюда для этой цели, посреди летней бескормицы между урожаями, ослабели от голода и держались на ногах с трудом. Внезапно донесшийся издали лай rapprocheurs прозвучал прямо по-волчьи. Чертыхнувшись, Хэл увидел, как вся охота разваливается на глазах, и перешел к плану держаться за Древлим Храмовником, зная, что сэр Уильям не отстанет от Брюса, а Изабелла будет, в свою очередь, прикована к графу. Если Бьюкен и подстроит какую-то каверзу, она обрушится на это трио, и Хэл твердо вознамерился спасти хотя бы Древлего Храмовника. Он продрался сквозь сплетения ветвей, глядя направо и налево, чтобы проверить, поступают ли его люди точно так же. Пришпорил Гриффа, когда круп кобылы Брюса скрылся из виду, и раздраженно заворчал, когда впереди замаячил один из Инчмартинов. Его жеребец обезумел, принявшись метаться и взбрыкивать. Сивый Тэм протрубил в рог, но остальные орали, мешая понять, где проходит истинная линия охоты; Хэл услышал, как охотник костерит всех и каждого, кто слышал, «трепливыми дураками», и заподозрил, что проштрафился Брюс. Взмыленная лошадь проломилась сквозь куст лещины рядом с Псаренком, едва не отбив Пряженика от дирхаундов, прыгавших и рычавших. Встревоженный Джейми Дуглас, едва удерживаясь в седле, успел помахать, прежде чем лошадь понесла его дальше между деревьев. Через несколько хаотических, изнурительных ярдов Хэл прорвался сквозь подлесок, чтобы увидеть, как Джейми соскальзывает со спины взмыленной верховой лошади, с тяжело вздувающимися боками стоявшей на месте. Отрок быстро осмотрел ее и обернулся к Хэлу и подъехавшим всадникам. — Хромая, — горестно объявил он, а потом тронул морду животного, и его потное лицо озарила светлая улыбка. — Было хорошо, пока не кончилось, — крикнул он и медленно повел лошадь из лесу. Хэл тронулся дальше; тонкая ветка, хлестнув по щеке, рассекла ее до крови, а от вереницы коротких сигналов рогов голова шла кругом, потому что он знал, что это сигнал vue[575], означающий, что основной корпус охоты завидел добычу, а он направляется не в ту сторону. Отчего осерчал, потому что следовал за дальним алым проблеском. — Ах ты, окаянная, похотливая, ненасытная, раздолбанная сучка! — рявкнул Хэл, и люди рассмеялись. — Девке сие будет не по нраву, — заметил Сим Вран, но взор Хэла под сдвинутыми бровями опалял огнем, так что он благоразумно прикусил язык и последовал за господином. Через два-три скачка Хэл придержал коня и послал Куцехвостого Хоба и Тома Пузыря за графиней, чтобы она вернулась целой и невредимой и присоединилась к охоте. Они устремились вперед, уклоняясь от веток. Что-то крепко врезало Хэлу в лоб, вывернув его голову назад; в глазах закружились звезды, и он покачнулся в седле, а когда пришел в себя, Сим Вран широко ухмылялся. — Вы закончили драблять дерева? — вопросил он и критически поглядел на Хэла. — Целехонек. Вы все так же блистательны, аки солнце на гладких водах. Подъехал Лисовин Уотти, подгоняя пыхтящего Пряженика и бегущих дирхаундов, даже не запыхавшихся, но теперь они были на длинных поводках, которые держал Лисовин Уотти, сидя верхом, и начали приплясывать и скулить, почуяв запах крови и умоляя спустить их с поводков. Трусцой прибежал Псаренок, и Хэл увидел, что дышит он ровно и не перепачкан, потому что ему не приходилось поспевать за головоломным собачьим аллюром; они улыбнулись друг другу. Лисовин Уотти швырнул поводки Пряженику, и тот решительно намотал их на кулаки, свирепый, как хряк. Всадники толклись потной группой; несколько крестьян дотащились до древесных комлей и, привалившись к ним, сползли вниз, буквально источая марево усталости. Конская слюна пузырилась и лопалась от невидимого ветерка. — Bien aller[576], — гаркнул Сивый Тэм, поднося рог к своим синюшным мясистым губам, и раздавшееся «тру-ру, тру-ру» заставило всю толпу снова лихорадочно устремиться вперед. Берне Филипп, тяжело дыша, просипел отчаянную мольбу расступиться перед его борзыми, и рог Сивого Тэма вострубил в очередной раз. — Держаться в ряд! — крикнул он. — Слуша́й! Осторожно, борзые! Осторожно, борзые! Из подлеска выскочил олень, и мгновение спустя спутанная вереница лающих борзых последовала за ним, в замешательстве оскальзываясь, когда зверь изменил направление и заскакал прочь. Он разил мускусом и исходил паром, играя мускулами и блестя, будто бронзовая статуэтка; его большие ветвистые рога воспарили среди деревьев, когда он прыгнул, расшвыряв борзых, и величественно понесся прочь, оставив спотыкающихся собак позади. Мощных аланов выпустили слишком рано, увидел Сивый Тэм, и они уже отстали, потому что выносливости у них ни на грош, лишь изрядная сила. — Il est hault![577] — с побагровевшим лицом рявкнул он. — Il est hault-il est hault-il est hault. — И тебе ату, — пробормотал Хэл, после чего кивнул Лисовину Уотти, а тот ухмыльнулся и подтолкнул Пряженика. Сивый Тэм изрыгнул проклятье и яростно хряснул рогом о заднюю луку, видя, как рогатый мчится прочь, — и тут по обе стороны от него промелькнули две серые полоски, бесшумные, как погребальные пелены. Нагнав бегущего оленя, они врезались в него сбоку, заставив остановиться, обернувшись к нападающим. Дирхаунды… Сивый Тэм чуть не вскрикнул от восторга. Псаренок уставился, разинув рот. Он еще ни разу не видел ни такой резвости, ни такой свирепой отваги. Микел зашел сзади; олень развернулся на месте. Велди ринулся вперед — секач развернулся; борзая впилась ему в нос, и олень стряхнул ее, яростно брызжа кровью. Но Микел уже впился ему в ляжку, и задние ноги зверя подломились под тяжестью остальной своры, подоспевшей и тут же навалившейся на него. Но даже тогда с оленем не было покончено. Он взревел — страшно и отчаянно, взмахнул своей тяжелой рогатой главой, и собака с визжанием отлетела прочь, будто черно-бурый мяч, так что Псаренок почувствовал потрясший ее удар, не сомневаясь, что это была Санспер. Лисовин Уотти крикнул раз, другой, третий, но серые дирхаунды держались, и олень ринулся в лес, спотыкаясь, пошатываясь, волоча на себе дирхаундов и остальную копошащуюся комом свору. Хэл испустил огорченный вопль, увидев, как Микела сорвало с крупа зверя: поводок, который надо было снять, прежде чем отпускать его, зацепился за что-то в подлеске. Хрипя от удушья, гончая забарахталась, пытаясь вернуться в гущу потасовки, хватая воздух ртом и лишь усугубляя собственные страдания отчаянными потугами вырваться. Лисовин Уотти набросился на Пряженика, понимавшего свою оплошность, однако слишком боявшегося борзых, чтобы броситься вперед, но мимо него пронеслась небольшая фигурка — прямо туда, где извивался и рычал полузадушенный дирхаунд. Не обращая внимания на оскаленные клыки, Псаренок выхватил свой столовый нож и принялся пилить бечевку, стягивающую шею пса, хотя острые зубы лязгали у самого его лица и запястий. Ощутив свободу, Микел тотчас устремился вперед с хриплым тонким воем, а Псаренок, одной рукой запутавшийся в его всклокоченных космах, потянулся следом, угрюмо стараясь поспевать. Приметив кровь на морде собаки, Хэл подивился отваге и острому глазу отрока. Тут Микел спохватился и обратился на Псаренка. Тот узрел разверстую собачью пасть, ощутил зловонный жар от морды. А затем дирхаунд встревожено заскулил и лизнул его, измазав лицо Псаренка оленьей кровью. Подоспевший с Хэлом и остальными Лисовин Уотти с улыбкой обернулся к Хэлу, одобрительно кивнув, потому что мальчонка, перепачканный слюнями и кровью, невзирая на зубы, осматривал рот Микела, чтобы убедиться, что кровь принадлежала только оленю. Привязав новый поводок, Лисовин Уотти сердито воззрился на Пряженика. Хэл склонился к Псаренку, и Сим Вран заметил написанную на его лице заботу. — Маленько окровился, мальчик, — неловко проговорил Хэл, и тот поднял на него глаза, а здоровенный дирхаунд, тяжело дыша, ластился к нему. Псаренок блаженно улыбнулся, чувствуя в груди что-то огромное, ликующее, и неудержимая мощь этого чувства была как-то неразделима с его новым господином, словно делая их двоих единым целым. — Вы тоже, господин. Сим Вран разразился хохотом, зычностью не уступавшим пенью рога, и Хэл, уныло потрогав щеку и лоб, увидел на облаченных в перчатку пальцах кровь, помахал отроку и устремился за охотой. Свора бурлила, рычала и металась вперед-назад — кроме могучих аланов, наконец настигших жертву и бросившихся в атаку. Один впился оленю в глотку, другой — в тонкую изящную ногу, а третий — в пах красного зверя, дергая туда-сюда. В помутившемся взоре оленя застыло безнадежное отчаяние. Слишком истерзанный, чтобы сражаться, он сносил муку в молчании, прерываемом лишь шумным хрипом его дыхания, вырывающегося из раздутых ноздрей с облачками кровавого тумана. Сивый Тэм, опасно раскачиваясь в седле, рявкал приказания; псари и охотники приближались с хлыстами и клинками, чтобы взять собак на своры и окончить страдания зверя. — Добрый зверь, — сияя, сказал он Хэлу. — Поне оно и рановато в сю пору года, в июле будут куда лучше. Что хотите за своих выжлецов? Тот лишь глянул на него, приподняв брови, и улыбнулся. Хлопнув ладонью по колену, Сивый Тэм утробно захохотал. — Истинно так, истинно так, я б тоже с ними не расстался. Псаренок слышал все это будто издали, ибо его мир сузился до страдания на лице берне Филиппа и горестных темных глаз Санспер. Скуля, раш пыталась лизнуть руку Псаренка, и на минутку они преклонили колени, плечом к плечу — доезжачий и Псаренок. — Swef, swef, ma belle[578], — проговорил Филипп, видя, что лапа раздроблена непоправимо. Тогда-то он и осознал присутствие мальчика и поглядел на него. Мысль о том, что предстоит, отразилась в его взгляде жгучей мукой, и Псаренок узрел ее. Доезжачий чувствовал сладостно-жгучую боль, запиравшую дыхание в груди, глядя в глаза собаки, которую должен убить. Он любил эту суку. Нож сверкнул на солнце, как стрекозиное крыло. — Принеси мотыгу, — буркнул Филипп, и когда ничего не произошло, резко обернул голову к мальчику. Но увидел выражение лица Псаренка, глядевшего в стекленеющие глаза умирающей собаки, и бранные слова застряли в горле. И вдруг поймал себя на том, что устыдился тому, как очерствел и загрубел за годы, истекшие с той поры, когда сам был в тех же летах, что Псаренок ныне. — Будь любезен, — добавил он, но все же не мог не подпустить в эти слова едва уловимую насмешку. Заморгав, Псаренок кивнул и принес мотыгу и лопату, пока растаскивали собак и добивали оленя. Они вдвоем вырыли яму под деревом, где поросшая мхом земля была еще податливой, уложили в нее собаку, а потом завалили землей вперемешку с почерневшей листвой. Санспер, подумал Филипп. Сиречь Бесстрашная. Она и в самом деле не знала страха, и в том таилась ее погибель. Уж лучше бояться, думал он про себя, и остаться в живых. Отрок, Псаренок, знал это… Тут Филипп обернулся и обнаружил, что остался один. Отрок шагал прочь, обратно к дюжим дирхаундам и суровым, вооруженным людям, к которым теперь принадлежал. И отнюдь не выглядел напуганным. Сбоку поднялась суматоха, мелькнул ягодно-алый просверк, и появилась Изабелла — щеки зарделись, капюшон откинут, пряди волос лисьего окраса выбились из-под затейливого зелено-золотого стеганого головного убора, нос брезгливо сморщен при виде крови, кишок и мух. За ней подъехал безмятежный Брюс, а следом — Куцехвостый Хоб и Том Пузырь, оба мрачнее тучи, блестящие от пота, на который мошка слеталась, как на мед. — Вон она, ваша женка, — сказал Сим у локтя Хэла. — Довольно невредимая. Как вы там ее нарекли — похотливая… кто? Хмыкнув, он пришпорил коня, прежде чем Хэл успел огрызнуться, чтобы не совал нос не в свое дело. — Куницы, — весело воскликнула Изабелла, и Брюс со смехом почти сразу выдал: richesse[579]. Хэл заметил, как набычился Бьюкен, и мимоходом заинтересовался, куда подевался Киркпатрик. Из подлеска почти под копыта Брадакуса выскочил рыжевато-коричневый зверек с куцым белым хвостиком, заставив громадного боевого коня взвиться на дыбы. Бьюкен, взревев, с побагровевшим лицом натянул поводья, сдерживая заплясавшего полукругом коня, а затем тот лягнул обоими задними копытами, вскользь задев лошадь Брюса. Та, запаниковав сверх всякой меры, взвизгнула и понесла. Всадник, пойманный врасплох, покачнулся, а собаки взбесились, и даже большие дирхаунды рванулись вперед, но их тут же осадили окрики Псаренка и Лисовина Уотти. Изабелла, запрокинув голову, смеялась, пока совсем не обессилела. — Зайцы, — крикнула она в спину отчаянно раскачивающемуся Брюсу, и Хэл, помимо воли ощутив, как в паху что-то трепыхнулось, поерзал в седле. А потом вдруг сообразил, что доезжачий орет, и, полуобернувшись, увидел, что самая крупная зверюга из аланов, непривычная к охоте и рвущаяся на волю, выдернула свою цепь из кулака проводника и с рычанием устремилась за Брюсом. Последовал момент оцепенения, когда Хэл посмотрел на Сима, и оба устремили взгляд на спешившегося Мализа, взиравшего вослед удравшей борзой, выражение лица которого переходило от свирепого рыка к триумфальному ликованию. Настолько мимолетно, что Хэл чуть не прозевал его. А потом Мализ обернулся к проводнику алана, и тот ответил ему взглядом. Нутро Хэла прямо заледенело. Борзую выпустили намеренно — и потом, чтобы вышколенный боевой конь испугался зайца из-под кустика? — Сим… — бросил он, одновременно давая Гриффу шенкеля, но тот, уже углядев то же самое, припустил за Хэлом, криком призывая Лисовина Уотти и Куцехвостого Хоба. Бьюкен, чудом снова обуздав Брадакуса и изо всех сил сдерживая улыбку, смотрел, как они ломятся через подлесок в погоне за Брюсом. Сивый Тэм, сгорбившись на кобыле, неуклонно продвигался вперед, среди вертящейся и бурлящей вокруг охоты, понимая самую суть: что теперь он чересчур стар и медлителен, так что добрался до охоты, когда все было кончено, кроме свежевания. Тэм понял, что свежевание идет полным ходом, потому что все чаще поминались тук и нутряное сало, потроха и ливер, помет и фекалии. Исчезновение Брюса и остальных он воспринял лишь как досадную помеху со стороны благородных олухов, гоняющихся за зайцами. — Ступайте за графом Каррикским, — приказал Сивый Тэм тем, кто поближе. — Порадейте, чтобы он не плюхнулся на свою высокородную задницу.* * *
Брюс, державшийся изо всех сил, наконец совладал с обезумевшей верховой лошадью — и вдруг осознал, что остался один-одинешенек, и горло у него перехватило от страха. Поворачивал туда-сюда, слыша крики, но не в состоянии определить направление, а потом из страха, что его беспокойство заставит дрожащую лошадь снова понести, он спешился и принялся оглаживать шею и морду животного, чтобы успокоить его. Зайчонка давно и след простыл, и Брюс тряхнул головой от огорчения, что позволил своей лошади понести, хоть ее и спровоцировал лягнувшийся боевой конь. Зайцы, подумал он, свирепея. «Заячий помет» — вот что он с наслаждением ей скажет. Огляделся на дубы и грабы, сквозь листву которых едва пробивались лучи солнца, касаясь лица деликатно, как теплые кошачьи лапки. Папоротник здесь был весь потоптан, в воздухе завис запах смятой травы, взрыхленной почвы и железистый привкус крови, вселивший в Брюса беспокойство. Загадка, откуда здесь взялся заяц, зверь отнюдь не лесной, грызла его; как привкус блевотины, всплыла мысль о заговоре. Потом он сообразил, что как раз здесь дирхаунды и завалили оленя, и малость расслабился, отчего и верховая лошадь, в свою очередь, задышала ровнее. Но, несмотря на это, сильный запах мускуса по-прежнему озадачивал его, тем более что исходил он от взмыленных боков и седла верховой лошади, щекоча ему ноздри весь день. И тут из подлеска вылетел алан, будто распрямившаяся в броске черная змея, — встрепанный, с клокочущим в горле рычанием. С разгону чуть проскользил, остановился и начал подкрадываться, медленно и целенаправленно, припадая на напряженных передних лапах к земле, с капающей из пасти слюной. Брюс прищурился и тут ощутил первый укол страха: пес подкрадывался к нему. А затем в глубочайшей панике, сдержать которую смог, лишь скрутив себя узлом, постиг, что и мускус, и запах того зайца, крови и внутренностей специально втерли в седло и бока лошади. А теперь малость заячьего запаха перешла и на него. Последовала пауза, и Брюс лихорадочно ухватился за кинжал на поясе, видя неминуемое в нарастающем напряженном подрагивании ляжек бестии. Откуда-то донеслись крики и клич охотничьего рожка — слишком далеко, заполошно подумал он. Слишком далеко… Черная тень метнулась вперед — низко и быстро, изготовившись выпустить кишки этой странной, крупной, двуногой дичи с правильным запахом и неправильным видом. Верховая лошадь, взвизгнув, взмыла на дыбы и заплясала прочь, запутавшись поводьями в папоротнике, а алан, сбитый с толку запахом сразу двух жертв, замешкался, выбрал ту, что помельче, и с рыком ринулся вперед. Что-то метнулось сквозь траву пегой стрелой с жесткой всклокоченной шерстью. Врезалось в бок алана на лету, и Брюс, выставивший предплечье, чтобы защитить горло, отшатываясь и уже мысленно ощущая вес и зубы зверя, увидел взорвавшийся рыком и сверкающий клыками шерстяной клубок, покатившийся по траве и сразу распавшийся. Последовала кратчайшая пауза, а затем алан и Микел снова ринулись друг на друга, как тараны. Их тела извивались и кружились, расходились и сцеплялись. Зубы лязгали, глотки рычали; один пес вдруг заскулил, брызнула кровавая слюна. Ошарашенный Брюс мог лишь стоять и смотреть, пока верховая лошадь плясала и визжала на конце своей привязи, — а потом подлетел второй серый силуэт, и ком сцепившихся гончих с рычанием покатился. Драка продолжалась еще какое-то время, а потом алан, не выстоявший против двух противников, вырвался из зубов дирхаундов и припустил прочь. Тут появились Хэл и Сим, за ними Лисовин Уотти и Псаренок с зажатыми в кулаке поводками и едва угнавшийся за всем Куцехвостый Хоб. Они подоспели как раз вовремя, чтобы увидеть, как у алана, преследуемого по пятам призрачно-серыми силуэтами, передние лапы вдруг подогнулись, и он упал, покатившись кубарем, пока не распластался обмякшей недвижной грудой. Дирхаунды с разгону проскочили мимо, так что им пришлось, оскользнувшись, остановиться и вернуться, но жертва оказалась мертвее мертвой, так что им оставалось лишь попирать ее лапами, рыча и поскуливая от неутоленного кровожадного упоения, недоумевая, что это за сучок с кожаным оперением вдруг вырос у собаки из шеи. Неподалеку от трупа из-за деревьев вышел Киркпатрик, небрежно закинув самострел на плечо. Отличный выстрел, отвлеченно отметил Сим. Что это ему вздумалось хорониться за деревьями с самострелом? Сим не набрался духу высказать это вслух — да ему и не потребовалось, потому что, пока Псаренок побежал взять гончих на своры, Хэл и Брюс переглянулись. — Коли будет позволительно обыскать седельные сумы оного Мализа, — сказал Киркпатрик небрежным тоном, будто они обсуждали лошадей за столом, — то, вернее верного, в них найдется пригоршня заячьего дерьма. Жутковато для махонького зайчишки сидеть во тьме да тряске, покудова не занадобится. А заодно выяснится, что проводника алана уже умыкнули прочь, хотя бьюсь об заклад, что недолго он будет наслаждаться платой за то, что отпустил чудище по указке. Подозреваю, вы его вовсе не найдете. Никто не обмолвился ни словом, пока Брюс не обернулся к храпящей, тяжело дышащей, очумелой верховой лошади и не взялся за поводья. Трепещущий в нем страх обратился в гнев из-за услышанного, из-за хитроумных козней и, правду говоря, из-за его собственного тайного умышления против Бьюкена. Мысленным взором он мимолетным, выкручивающим кишки проблеском увидел громадные челюсти пса и его длинный, распластавшийся в прыжке силуэт. Дернул поводья, выпутывая из зарослей, почувствовал, как они подались, потом снова зацепились, и в раздражении рванул изо всех сил. И смерть, выдранная из земли, осклабилась ему.Замок Дуглас Назавтра Охота окончилась, шлейфом сырого дыма почти в полном безмолвии потянувшись обратно к замку. Брюс, оживленный и взвинченный сверх всякой меры, флиртовал с графиней еще отчаяннее, хотя та отделывалась вымученными репликами, всей кожей ощущая сердитый взор Бьюкена. Никто не мог удержаться, чтобы не поглядывать на телегу с трупом, — впрочем, Хэл видел, что Киркпатрик ехал молча, ссутулившись по-кошачьи, с лицом незрячим и непроницаемым, будто у каменного изваяния святого. Этот человек только что лицезрел покушение на своего сеньора — ему бы трубить зубодробительную тревогу, а он таращится вперед, не видя ничего. Ему следовало, сказал Хэл после Симу, быть вроде мыши, вынюхивающей в лунном свете других сов. — Следовало бы полагать, — согласился Сим, но рассеянно, потому что пришел с темного внутреннего двора, дабы доложить, как видел Мализа и двоих других в кожаных тужурках, с сальными ухмылками подгонявших графиню, будто ослушавшегося подмастерья, к шатру графа Бьюкенского. А от донесшегося оттуда шума у всех прямо зубы заныли. Сидя в уюте кухни, укутав старые конечности, чтобы угомонить ноющие суставы, Сивый Тэм одобрительно закивал: граф Бьюкенский наконец-то надумал вразумить свою блудную женку. — Жена, да собака, да дуб завалящий, — речитативом произнес он, — чтоб были добрее, лупи их почаще. — А дуб-то пошто, господин? — вопросил один из кухарчат, и Тэм растолковал: порой такое дерево перестает приносить ценные желуди для свиней, так что крепкие мужи, включая коваля с его кузнечным молотом, ходят вкруг дерева, осыпая его крепкими ударами. От этого по дереву снова бегут соки, и оно оживает. Псаренок, несший объедки для борзых, слыша тошнотворные звуки, подумал, что графиню охаживают кузнечным молотом. Но сомневался, что соки у нее побегут быстрее. Худшее было еще впереди — во всяком случае для Хэла, когда уже подползало утро; Древлий Храмовник явился из мрака, словно призрак, и, сделав паузу, чтобы набрать в грудь воздуха, как перед нырком в холодную воду, изрек: — Нуждаюсь воззвать к твоей подмоге. Хэла будто морозом обдало. — Я, как всегда, верен Рослину, — осторожно ответил он и заметил, как голова у старика при этом дернулась. «Ага, значит, я прав, — подумал Хэл. — Он призывает меня как сеньор». — Прежде нежели мой сын вошел в лета, — медленно проговорил Древлий Храмовник, — аз бых государем Рослинским. Аз учих юного Брюса ратному делу. На это Хэл промолчал, хоть этот факт и объяснял многое по поводу присутствия Храмовника при графе Каррикском. — Егда сын мой созре, аз вверих Рослин ему, отдаше свою душу и длань Господу, — продолжал Храмовник. — И ни разу о том не пожалел — доселе. Он воззрился на Хэла, поблескивая в свете факела глазами с набрякшими под ними мешками. — Негоже, абы меня зрели сражающимся за ту али другую сторону, — повел старик дальше. — Но Рослин должен спрыгнуть. — К Брюсу, — бесцветным тоном обронил Хэл, получив в ответ кивок. — А Путь Сьентклеров? — добавил Хэл, слыша в собственном голосе отчаяние. Путь Сьентклеров заключался в том, чтобы ветви рода имелись и по ту, и по другую сторону конфликта. И чем бы дело ни кончилось — триумфом или разгромом, — Сьентклеры выживали всегда. Древлий Храмовник покачал головой. — Сей конфликт чрезчур велик, а Сьентклеры чрезчур поредели суть. На сей раз мы вынуждены спрыгнуть на одну сторону и уповать на Господа. — Вы желаете, дабы я служил Брюсу вместо вас, — без всякого выражения заявил Хэл. Храмовник кивнул. Удивляться тут нечему. Рослин связан присягой графу Марчу, Патрику Данбарскому — следовательно, и Хердманстон за ним вослед, — но граф Патрик стакнулся с Длинноногим, а поскольку его сына и внука пленили англичане, ДревлийХрамовник склоняется в пользу тех, кто им противостоит. — Мой отец… — начал было Хэл, но Древлий Храмовник перебил его: — Дома. Он прислал весточку, иже граф Марч отказывается поспособствовать возвращению мне моих мальчиков. Просто в наказание за мятеж, сказывает он. Граф Каррикский обещал помочь с выкупом. Ну вот, получай — продан по цене двух человек из Рослина. У Хэла во рту пересохло. Хердманстон поставлен под удар, и отец вместе с ним — однако же Хэл понимал, что Древлий Храмовник положил это на чашу весов — и все равно счел цену приемлемой. — Значит, мы выступаем — куда? — спросил Хэл, скрепив дело столь же прочно, как отпечатав перстень в воске. Мгновение Древлий Храмовник казался совершенно раздавленным, и Хэл, уразумев, какое бремя обрушилось на его костлявые плечи, вдруг захотел хоть чем-то его поддержать. Но ложь застряла у него в горле — да и следующие слова Древлего Храмовника все равно обратили бы все в насмешку. — Эрвин, — произнес тот, и вымученная усмешка раздвинула его белоснежную бороду. — Уж Брюс-то пускается договоритися с мятежниками. Хэл еще долго глазел в пространство, где был Древлий Храмовник, когда тьма уже поглотила того, пока его не разыскал Сим, хмуро поинтересовавшись, с какой стати он буровит дыры во тьме. Хэл поведал, и Сим надул щеки. — Сиречь мы мятежники? — провозгласил он, разводя руками. — Ей-богу, сие посеет раздор меж нами и вьюношей, который тоже только что просил нашей помощи. Не стану о том поминать.
* * *
Граф Бьюкенский находился в сводчатом подвале — самой холодной дыре в Дугласе, ставшей местом упокоения таинственного трупа. В мягком рассеянном свете раннего утра было видно, отчего Брюс побелел, как плат, когда тело от его рывка выскочило из перегноя чуть ли не ему в лицо. Киркпатрик тоже выглядел оглоушенным, — впрочем, никто не напевает славословия маю при виде полусожранной гнили, несомненно бывшей человеком, да притом явно состоятельным, судя по качеству остатков одеяний и перстням, до сих пор украшающим его полуобглоданные пальцы. Значит, не грабеж, потому что разбойник снял бы кольца и обшарил бы подмышки и муди, где разумные люди держат бо́льшую часть своей крупной монеты. У покойника был кошелек с мелочью в заплечной суме вкупе с чем-то вроде запасной брака, но никакого оружия. Поначалу никто не хотел даже близко подойти к трупу, кроме Киркпатрика, а когда тот его покинул, то заперся с Брюсом. Брезгливо морщась, Бьюкен принял бремя ответственности на себя и теперь поманил Хэла и Сима Врана к тому месту, где на плитах пола лежали смердящие останки. И медленно проговорил на безупречном английском, дабы понял Сим Вран, скверно разумеющий по-французски: — Сивый Тэм поглядел, но почти ничего, кроме того, что тот мертв не меньше года, не сказал. Говорит, он всего лишь охотник, но вы сами и Сим Вран — те самые, кто ведает о телах, убиенных насильственно. Я склонен согласиться. Хэлу пришлось не по душе нежелательное умение, коим пожаловал его Сивый Тэм, равно как не хотелось ему сидеть взаперти с Бьюкеном после событий на охоте и беседы с Древлим Храмовником; но, судя по всему, граф был не настроен, чтобы его планы порушились из-за какого-то мелкопоместного дворянчика из Лотиана и пары великолепных псов. Хэл не мог не восхититься, как тот походя отмахнулся от несостоявшегося кровавого убийства, но не хотел быть накоротке с этим человеком, имеющим предписание охотиться на мятежников на севере, изданное отдаленной грозой в лице короля Эдуарда. Думал было отказать графу под тем предлогом, что не хочет даже близко подходить к гнойным останкам, но видел лицо Киркпатрика в тот миг, когда поводья Брюса выдрали пугало из земли, а потом во время долгой обратной поездки. Да к тому же любопытство подпортило бы отказ, и без того представляющий собой наглую ложь. Сглотнув, движимый желанием знать, Хэл поглядел на Сима Врана. Тот в ответ лишь пожал плечами. — Мудрец колеблется, дурак решителен, — со значением проворчал он, а потом, видя, что слова не произвели ни малейшего влияния, последовал за Хэлом к мертвечине, стараясь дышать ртом, чтобы приглушить обоняние. — Хвала Христу, — проговорил Бьюкен, закрывая нижнюю часть лица ладонью. — Во веки веков, — в один голос откликнулись оба. Потом Сим потыкал своей облаченной в латную рукавицу рукой в останки, приподнял что-то — то ли ткань, то ли гнилую плоть — и указал на небольшую отметку на иссиня-черном лоскуте. — Заколот, — объявил он. — Снизу вверх. Кинжал с узким клинком — поглядите на края вот тут. Судя по виду, махонький, с желобками. Прямо в сердце, порешил насмерть. Хэл и Сим переглянулись. Удар мастера, нанесенный особенным оружием, и держать при себе подобный кинжал будет только человек, использующий его для убийства регулярно. Сгоряча Хэл чуть не спросил Бьюкена, не охотились ли они с Брюсом в этих лесах прежде и не лишились ли при этом пажа. Подумал о двух дирхаундах, умасливаемых елеем и похвалами, и о мертвом алане, похороненном горюющим доезжачим. — Итак, — провозгласил Сим. — Душегубство особенное, аки помышляете, Хэл? Когда убивец его бросил, как мыслите? Это был клочок ткани — несколько нитей и лоскуток не более ногтя, застрявший в пряжке ремня заплечной сумы покойника. Он мог принадлежать и плащу самого убитого, и другому предмету его одежды, потому что вся ткань сгнила и выцвела, но Хэл так не думал, о чем и сказал. Сим задумался, почесывая седую щетину на подбородке, спугнул вошь и гонялся за ней, пока не изловил двумя пальцами и небрежным щелчком отшвырнул прочь. Обернулся к Хэлу и Бьюкену, жаждавшему оказаться подальше от гнилостных останков, но намеренному оставаться здесь столько же, сколько и остальные, дабы поддержать честь и долг графа сих пределов. — Вот оно как было, я думаю, — сказал Сим. — Человек, коего знает оная несчастная душа, подходит к нему достаточно близко, дабы нанести удар. Они во тьме, знаете, нос к носу, что мне невдомек. Потом вьюнош с кинжалом бьет… Он изобразил удар, потом сграбастал Хэла за грудки и толкнул его, будто швыряя оземь. Он был силен, и Хэл, пойманный врасплох, запнулся, но Сим его поддержал, торжествующе ухмыльнувшись и кивком указав на место, где они сцепились пряжка к пряжке, причем нога Сима оказалась между ногами Хэла. Тот, оступаясь, выпрямился, и Сим отпустил его, а затем растолковал только что случившееся озадаченному Бьюкену, понимавшему объяснения Сима на говоре лотийских низменностей с пятого на десятое. Будто треск поленьев в камине, подумал граф. — Истинно, — сказал Хэл в заключение, — все так и получилось, верное дело. Отличная работа, Сим Вран. — Что отнюдь не объясняет, — подал голос Бьюкен, — кем был сей человек. В таких одеждах он не крестьянин; Киркпатрик только это и сказал, когда был здесь. — Так и сказал? — задумчиво проронил Сим, а потом внимательно пригляделся к покойнику: наполовину пожелтевший скелет, наполовину черные ошметки гнили — отчасти тканей, отчасти плоти. Какое-то насекомое выбежало из рукава, пробежало по костяшкам пальцев и заползло под рябой кожаный кошель. Сим потеребил кошель, чтобы снять его, стараясь не обращать внимания на треск мелких косточек и дуновение гнилостной вони от потревоженной плоти. Открыл его, вытряхнул содержимое на ладонь и поглядел. Серебряные монеты, кусок металла на шнурке из конского волоса, медальон с отчеканенной Пречистой Девой с Младенцем. — Значит, не грабеж, — заявил Хэл, а потом, нахмурившись, указал на бурый костяк руки: — Однако же палец отрезан. — Абы снять туго сидящий перстень, — прояснил Сим с уверенностью человека, не чуждого подобному, и это откровение заставило Бьюкена приподнять бровь. — Однако же другие перстни не взяли, — указал он, и Хэл вздохнул. — Сызнова кружево подсказок, — произнес он, разглядывая содержимое кошеля. Медальон — предмет достаточно заурядный, из припаса торговца индульгенциями, дабы оградить от зла, но каплевидный слиток и шнурок оказались загадкой. — Для рыбалки? — неуверенно предположил Бьюкен. Хэл сдвинул брови, не зная, что это такое, но вряд ли сия штуковина предназначалась для рыбной ловли. Кроме того, снурок с узелками через равные интервалы тянулся почитай в человеческий рост. — Сие отвес, — изрек Сим. — Коим пользуется каменщик, дабы отметить, где хочет отсечь камень, — видите, натираешь снурок мелом, держишь свободный конец и даешь грузу повиснуть, потом дергаешь его, аки струну арфы, дабы оставить меловую черту на камне. — А узлы? — Мерка, — ответил Сим. — Каменщик? — повторил Бьюкен, уразумевший лишь это. — Это непогрешимо? Хэл поглядел на Сима, вопросительно подняв брови. — Непогрешим ли я? Набросится ли собачонка на кровяную колбасу? — вознегодовал Сим. — Я рожден в Лидхаусе, близ крохотного монастыря Святого Макловия, в коем обретаются тиронезийцы[580]. Моего отца возвысили до работы с монахами, каковые имеют дар Божий к строительству. — Тиронезийцы? Знаю сей орден, — встрепенулся Бьюкен, разобравший в сумбуре шотландской речи это слово. — Они строгие бенедиктинцы, обретающие славу в ручном труде. Они искусны; не они ли исполнили работы в аббатствах Селкерка, Арброта и Келсо? Считаете, этот каменщик был тамошним бенедиктинцем? — Может статься, поне таких одежд не носит ни единый монах, поколь мне ведомо, — провозгласил Сим. — Но мой тятя возвысился от гужа до трудов с ними в камнеломнях, а опосля прибыл в Хердманстон, дабы вырыть колодезь. Доколь я не пришел в возраст, дабы уйти с сим юным Хэлом, я труждался на рытье и сухой кладке. Мне ведомо пользоваться отвесом; сии узлы отмерены в римских футах. Он прикрыл глаза, припоминая. — Святой Августин сказывает, что шесть есть идеальная цифирь, поелику сумма и произведение его составляющих — один, два и три — есть одинаково. Сиречь, квадрат в тридесять шесть футов есть божественный идеал, премного излюбленный каменщиками, строящими церквы. Хвала Христу. Открыв глаза, он наткнулся на потрясенные взоры Хэла и графа Бьюкенского и заморгал от смущения, пока они с запинкой разбирались в затверженном наизусть ответе, чуть не онемев от искушенности Сима в счислении. — Так, добро — в подсчетах я не силен, поне ведаю цену вечернего пития. Но батюшка вколотил в меня отвесы, поелику без оных несть лезно ни рыть, ни построить даже кособокого домишки. — Думаешь, то был каменщик из Святого Макловия? — требовательно вопросил граф, щуря глаза и вытягивая шею, тщась понять. Сим тряхнул головой. — Сие есть каменщик, непогрешимо. Да к тому ж мастер, коли сии тонкие сукна о чем-то говорят. — Истинно, — с кривой усмешкой обронил Хэл. — С той поры, как Эдуард Английский порушил прошлым годом добрые крепости, осмелюсь сказать, что для мастеров-каменщиков в Шотландии несть числа работы. — Не наша проблема, — вдруг отрезал Бьюкен, жаждавший вырваться из этого места. Сгреб с ладони Сима грузик, шнурок и медальон и небрежно швырнул в кучу на столе, провозгласив: — Улики. Упакуем сие и доставим английскому юстициару в Скун. Пусть с этим разбирается Ормсби. Мне же надо подавить мятеж.Эрвин Праздник Святого Венанция Камеринского, май 1297 года Свет канделябров заставлял тени плясать и изгибаться, обращая епископа в чудище. Не то чтобы Уишарт и так-то выглядел наипервейшим прелатом Шотландии, сидя, будто здоровенный медведь, в нижней сорочке, с седыми волосами, завивающимися колечками ниже перепачканной шеи, над которой красовалось лицо, смахивающее на морду мастифа, припечатанную лопатой. — Не на такую охоту ты подряжался, а, Роб? — проклокотал он, и Брюс выдавил чахлую улыбку. — Абы найти труп… ведаем ли, кто се? Последние слова сопровождал проницательный взгляд, но Брюс не пожелал встретиться с ним глазами, решительно тряхнув головой. — Бьюкен отправил останки на телеге к Ормсби в Скун. Я говорил, что надо обратиться к шерифу Гезльригу в Ланарке, но он настоял на обращении к юстициару. — Резко оборвав, он бросил взгляд на людей, столпившихся в главной зале поместья Буртрихилл. — Он знал? Знал ли Бьюкен, что Гезльриг уже мертв, а Ланарк спалили дотла? — прошептал Брюс, и Уишарт встревоженно взметнул ладонь, словно отмахиваясь от докучной мухи. — Вздор и галиматья, — произнес он своим жирным голосом. — Не знал. Никто не знал, пока дело не было сделано. — Теперь все государство ведает, — пророкотал голос, и Смелый выставил свой угловатый лик на свет, насупив брови на Брюса; Хэл тотчас заметил, что это огрубленная, мясистая версия личика Джейми. — Пока вы занимали мой дом, Уоллес тут избавлял страну от нечисти. — Правду говоря, вы с ним палили наши земли в окрестностях Тернберри, — парировал Брюс по-французски, стремительно и злобно, как пикирующий ястреб. — Вот почему моему отцу было поручено прижать вас к ногтю, отрядив меня в Дуглас, — и учтите, мой государь, что я не так пыжился в этом деле, как вы, иначе ваша жена со чады не пребывала бы на расстоянии недолгой пешей прогулки отсюда. — Вас считали англичанином, — проворчал Смелый, но при этом неуютно заерзал; оба прекрасно понимали, что Дуглас просто воспользовался возможностью пограбить земли Брюсов. — Не потому ли Бьюкен пытался меня убить? — огрызнулся Брюс, и Смелый развел руками. — Это скорее касается его жены, я бы полагал, — многозначительно произнес он, и Брюс залился краской. Хэл видел графиню, уезжавшую из Дугласа назавтра поутру верхом на иноходце под дамским седлом, под предводительством Мализа в сопровождении четверых крупных мужчин, с боевым конем графа Бьюкенского в поводу. Направилась обратно в Балмулло, услыхал он от Агнес, служившей графине камеристкой во время постоя в Дугласе. Отделанная до синяков, добавила та. — Он покушался убить меня! — упорствовал Брюс, и Хэл прикусил язык по поводу рысканья Киркпатрика по лесу с арбалетом, но тошнотворное понимание с привкусом безысходности все равно вздымалось в груди; могущественнейшие государи в Шотландии травят друг друга заговорами и контрзаговорами, а королевство тем временем повержено в хаос. — Так, воистину, — проговорил Уишарт, словно прочтя мысли Хэла, — и к добру, значит, что присутствующий здесь Уоллес положил конец набегам Дугласа на Брюсов ради неудобства англичан в Ланарке. Надлежащий удар. Истинный мятеж. Подтекст заставил Дугласа насупиться, но упомянутый чуть сдвинулся, и свет, упавший на его бороду, заставил ее вспыхнуть проблеском алого пламени. Часть лица его отсек мрак, но даже сидя он производил впечатление силы, очевидное и Хэлу, и всем остальным. Глаза под нависшими бровями были темными, нос торчал клинком. — Гезльриг — какашка, — проворчал Уоллес. — Миздрюшка, сношенный тапок, заслужил погибель и сожжение своей английской крепости. Измыслил судить меня и моих, и уж тут посвирепствовал бы. — Воистину, воистину, — проворковал Уишарт, будто утешая разбуянившееся чадо. — А теперь я приватно поговорил бы с графом Каррикским, каковой прибыл, кажется, дабы оказать свою поддержку свету державы. — В самом деле, — ответил Уоллес без всякого выражения, вставая, так что Хэл увидел его во весь рост — настолько исполинский, что заставил его отступить на шаг. Уоллес, явно привычный к подобному, лишь усмехнулся. Смелый последовал за ним, рассуждая, где нанести следующий удар, когда тот пригнулся, чтобы пройти в дверь. Уишарт устремил выжидательный взор на Киркпатрика и Хэла, но Брюс, принявшийся выхаживать туда-сюда, поглядел на него сердито. — Они мои, — бросил он, словно это все объясняло. Хэл держал рот на замке, хоть и понимал, что надо было убраться подальше от этой нечистоплотной кутерьмы, пока тугие цепи вассальной преданности рослинским Сьентклерам не приковали его к безнадежному делу. Он оглянулся на Киркпатрика и встретил взгляд исподлобья. Высокородный, подумал Хэл, ходит с мечом, хотя вряд ли искушен в его употреблении. Не посвящен в рыцари, не имеет собственных земель, но хитер и умен. Значит, осведомитель Брюса, хорек, вынюхивающий секреты, — и человек, которого тот мог бы отправить угробить соперника. — Итак, вы с Бьюкеном блуждаете в лесу, аки чада, в чаянии порешить один другого? — гневно обрушился Уишарт. — Едва ли политично. Вряд ли так себя ведут gentilhommes[581] света державы, не говоря уж о жалованных в графья. Опять же, сия прочая материя — сиречь ты и не видал трупа? Брюс набросился на него, как свирепый пес, брызжа французскими словами, как не в меру трескучий костер — искрами. — Труп?! Да забудьте вы о нем, Господи Боже; куда вы теперь-то целите, Уишарт? Он же обагренный кровью тать! Ох уж, благородный, как моя задница, тоже мне, свет державы… Уишарт отхлебнул из кубка синего стекла. Удивительно изящный жест для человека с колбасами вместо пальцев, отметил про себя Хэл. Уставившись на выпяченную губу Брюса, епископ вздохнул. — Уоллес, — веско сказал он, — человек благородный, но вряд ли так, как ты рек. Сей человек тать, тут спору нет. — И это новый избранник на трон Шотландии, так ли? — сардонически вопросил Брюс. — Это уж определенно решение жгучей проблемы: Брюс или Баллиол. Но, думается мне, ваш «свет державы» навряд ли примет его с распростертыми объятьями. Младший сын рода, едва возвысившегося до уровня? Мощи Христовы, да не пристало ли ему податься в фарисействующие священники, последнее прибежище бедных нобилей? — Что ж, воистину, некоторые становятся епископами, — кротко ответствовал Уишарт, промокая губы салфеткой, хотя пятна спереди на его рубахе свидетельствовали о прежней неряшливости, и Брюсу хватило такта зардеться, пустившись в заверения, что о присутствующих речь не шла. Уишарт замахал рукой, чтобы он умолк. — Уоллес не священник, — сообщил он. — Не дарован красными шпорами, да и не помазан, но отец его владеет клочком земли, а мать его Кроуферд, дщерь шерифа Эрского; сиречь он не парень с голой задницей. В придачу он добрый боец — более доброго мне видеть не доводилось. А в качестве решения жгучей проблемы — Брюс или Баллиол — это предпочтительнее убийственных козней на chasse[582], мой государь. — Только-то и всего? — глухо бросил Брюс. — Вы ставите «доброго бойца» превыше притязаний Брюса?! — Притязаниям Брюса ничто не угрожает, — внезапно непреререкаемо изрек Уишарт. — Уоллес — вовсе не кандидат на трон, да сверх того король у нас есть. Иоанн Баллиол — король, а Уоллес сражается во имя его. — Баллиол отрекся! — взревел Брюс, и Киркпатрик положил ладонь ему на запястье. Граф сердито сбросил ее, но голос убавил до хриплого шепота, брызнувшего слюной Уишарту в лицо. — Он отрекся. Христе Боже и все Святые Его, Эдуард сорвал с него регалии, так что отныне и до поры, когда Пекло заледенеет, он — Тум Табард, Пустой Камзол. В Шотландии нет короля. — Сего, — отвечал Уишарт, медленно отстраняя Брюса от своего лица, твердо глядя в вытаращенные глаза графа, — мы никогда не признаем. Вовеки. Королевство должно иметь короля, явного и несовместного с англичанами, и мы сражаемся во имя Баллиола. Одно лишь сие имя и Уоллес склоняют на нашу сторону воинов — покамест довольно, дабы покончить с шерифом Ланарка и сжечь его имение вместе с ним самим. А теперь восстание не только на севере и востоке, но и на юге. — Глупо, — разглагольствовал Брюс, расхаживая и помавая руками. — Они тати, головорезы и мародеры, а не обученные воины; они не устоят на поле и уж наверняка не под предводительством подобных Уоллесу. Ваше отчаянное желание заполучить явного и безраздельного короля ослепляет вас. Он подался вперед, и голос его стал вкрадчивым, угрожающим, а тени вытворяли с его глазами нечто такое, что пришлось Хэлу не по душе. — Только нобили могут вести людей на сражение с Эдуардом, — провозгласил Брюс. — Не мелкота вроде Уоллеса. В конце концов, gentilhommes — ваш драгоценный «свет державы» — вот что избавляет вашу Церковь от вмешательства Эдуарда, к чему вы на самом деле и клоните. Отвечать только перед Папой, не так ли, епископ? — Сэр Эндрю Мори — аристократ, — указал Уишарт, кроткий, как улыбка монахини, заставив Брюса прикусить язык. «Ага, — подумал Хэл, — мысль о Мори отважному Брюсу не по нраву. Мори и Уоллес в роли Хранителей Государства куда как привлекательней для знати, чурающейся мысли об Уоллесе в одиночку». Тогда Брюс окажется побоку: покамест он еще не сыграл никакой роли во всем этом, да и не сыграл бы, кабы не выдвинулся сам, цепляясь за семейство Смелого в качестве страховки своих намерений и ища одобрения других представителей голубой крови, занятых в затее Уишарта. Хэл, увлекаемый вослед за Древлим Храмовником, всю дорогу гадал, что подтолкнуло Брюса столь внезапно проникнуться мятежным пылом, а Сим заметил, что папаше Брюсу от того ни холодно ни жарко. Сыну же Брюсу это почти ничего не дало. Смелый проявлял сдержанную вежливость, братья Стюарты и сэр Александр Линдси были в лучшем случае холодны, а уж сам Уоллес — дружелюбный и с виду добродушный великан — смерил графа Каррикского с головы до ног проницательным взглядом, вслух поинтересовавшись, с какой это радости «англичанин Брюс» надумал спрыгнуть с забора. Теперь же все они дулись за дверью, по-прежнему ломая головы над тем же вопросом. И как раз его-то Уишарт теперь и задал. — Коли ты столь противен сему предприятию и моему выбору полководца, — проворчал он, проливая вино себе на костяшки, — так почему же ты здесь, когда твой батюшка в Карлайле, несомненно, излагает Перси и Клиффорду свои объяснения касательно того, с какой стати его сын отправился к недругам Эдуардовым? Я-то полагал, мой государь, что ты бросишь все силы против Бьюкена и трупа, найденного в лесах. Хэл подался вперед, ибо отчаянно хотел знать именно это: Брюс еще молод и до сей поры был копией отца во всех отношениях, а его род изгоняла с шотландских земель дюжина предшествующих Хранителей и вернула их только власть Эдуарда. Так почему здесь? Почему сейчас? Хэл не сомневался, что обнаруженный труп каким-то образом причастен к этому, и был почти уверен, что Уишарт и Брюс причастны к его тайне. И еще был уверен, как никогда, что уж он-то не должен здесь быть, мараясь в этой помойке; Господь Всемогущий и все Святые Его, да как его угораздило обратиться в мятежника в одночасье, внезапно и запросто, как накинуть плащ? Вдруг ощутив напор бездонно-черных глаз, он сцепился взглядом с Киркпатриком и какое-то время удерживал его, прежде чем отвести глаза. Брюс нахмурился, выпятив нижнюю губу и подбородок, так что тени на миг обратили его лицо с широкой челюстью в пляшущую дьявольскую маску, но тут же сдвинулся, и иллюзия растаяла; он улыбнулся. — Я шотландец в конечном итоге. Gentilhomme вашего света державы, епископ, — ответил как по писаному, выхватил бокал прелата из его жирных, унизанных перстнями пальцев и осушил его с кривой ухмылкой. — А сверх того у вас есть ваш боевой медведь. Вероятно, вам нужен кто-то способный направить его в нужную сторону. Направить вас всех в нужную сторону. Раздумчиво прикрыв один глаз, Уишарт протянул руку, чтобы отобрать у Брюса бокал раздраженным жестом. — И в какую же сие, юный Каррик? — Скун, — провозгласил Брюс. — Напинаем по заднице юстициару Англии, Ормсби, как мы уже задали Гезльригу. Услышав это «мы», Хэл заметил, что Уишарт тоже не пропустил его мимо ушей, но даже не попытался поправить Брюса, вместо того улыбнувшись. Хэл не усомнился, что оба они обменялись каким-то деликатным сообщением. — Воистину, — произнес Уишарт рассудительно. — Выбор недурен. Дабы позаботиться о… делах. Я донесу сие до Уоллеса. Он приподнял пустой бокал в тосте Брюсу. Кивком выразив признательность, тот одарил Хэла блестящей акульей улыбкой. (обратно)
Глава 3
Скунский приорат Праздник Святых мучеников Каста и Эмилия, май 1297 года Сумерки поспешали во весь опор, а мрак наступал им на пятки, так что головы и плечи казались черными пятнами на фоне пламени. Хэл слышал, как люди гортанно ворчат и отплевываются, разгоряченные не меньше разлетающихся искр; давненько уж ему не доводилось слышать, чтобы такая большая толпа говорила на лоулендском наречье, и эта мысль навела на дурные прошлогодние воспоминания, когда он с остальными по-кошачьи осторожно, борясь с тошнотой, пробирался через гноевище, в которое обратился Берик после ухода англичан. И запах жареного мяса только усугублял дело, потому что Хэл знал, что к пище сочный сладковатый запах отношения не имеет. Они прошли через скопище плетней и мазанок, лепившихся вокруг монастыря, будто моллюски к скале, ломясь через задворки и усадьбы, в щепу разнося кособокие сортиры, швыряя факелы, почти не слыша собственных криков, тонувших в воплях убегающих. Никаких грабежей и изнасилований, пока не кончится схватка, провозгласил Уоллес перед выступлением, и Брюс, насупившись из-за его дерзости, вынужден был согласиться, поскольку толпа явно признавала командиром только его. Ну, хотя бы присутствие Бьюкена не сыпало соль на эту рану — тот отправился в собственные края якобы затем, чтобы помешать Мори примкнуть к Уоллесу, исхитрившись в критический момент устремить взгляд не туда, куда следовало бы. Хэл брел рядом с объявленными вне закона головорезами со всего Эршира, кернами и катеранами[583] с северных нагорий; все они явились сюда из любви к великану по прозванию Уоллес и его деяниям. Хэл видел, как тот размашисто шагает по разбитой колее между убогими домишками, кроваво-красный в отблесках пламени, в вихре мечущихся искр. Одет он был в длинную рубаху под сюркотом, стянутым ремнем, без шлема, босой, с голыми руками и ногами, почти не отличаясь от дикой толпы, коей предводительствовал, не считая того, что его голова и плечи возвышались над самыми рослыми из них, а свой полуторный меч, который большинству пришлось бы стискивать обеими руками, без труда нес одной рукой. Хэл, Сим и хердманстонцы шли пешком, ибо блуждать сквозь пламя и задворки верхом было мало проку, но Брюс и его каррикцы не спешились, пытаясь пробиться сквозь толпу по главному тракту к Скунскому приорату. Хэл слышал, как он кричит: «Брюс, Брюс!» — в попытке не дать своим людям рассеяться с дороги в бестолковое копошение по обе стороны от нее. — Спаси нас, Христе! — пропыхтел Сим Вран, с проклятьем оттолкнув плечом какую-то темную фигуру. — Ну и сброд… И это армия, божечки ж ты мой? Плачевное отребье — англичане разгонят их, аки курей по двору, дай им только шанс… Это правда, но армии тут у англичан нет — лишь улепетывающие писари, монахи, раскаивающиеся, что польстились на предложенные Эдуардом шотландские пребенды, да горстка солдат. Впереди послышались крики, и Хэл увидел, как Уоллес поднял голову, будто борзая, идущая верхним чутьем. Рычащий мародер, намотавший шерстяной плащ на шею на манер брыжей, перескочил через хлипкий заборчик; убегавшая от него женщина с визгом запиналась о собственные юбки, а он хохотал в безумном упоении. Уоллес, даже не сбившись с шага, выбросил свободную руку, ухватил того за толстый шерстяной плед и поднял в воздух, будто кота за шкирку. Тот болтался, чиркая по дороге носками в такт широким шагам Уоллеса. — Я те упреждал, — пророкотал Уоллес в лицо пойманного на горячем, и в свете пожаров Хэл увидел, как в глазах нарушителя полыхнул беспредельный ужас. Потом Уоллес отшвырнул его, будто яблочный огрызок, шагая дальше как ни в чем не бывало. — Смахивает на то, что его маленько душит черная желчь, — заметил Сим Вран. Но ответить Хэлу не довелось, потому что тут же они напоролись на первое серьезное сопротивление. Из темной громады каменного монастыря с ревом бросилась в отчаянную атаку горстка солдат-отставников, нанимаемых для сбора податей или доставки обвиняемых. Облаченные в стеганые одежки, вооруженные клиновидными щитами и копьями вояки выказывали не больше боевой сноровки, чем однорукие калеки. Они были местными жителями, вовсе не желавшими сражаться и не бывшими англичанами, не считая предводителя, размахивавшего мечом и кричавшего; слов его Хэл разобрать не мог. И все же внезапность сыграла им на руку; они налетели на головную кучку людей Уоллеса, бросившихся от них врассыпную, но слишком поздно. Одного, повернувшегося бежать, проткнули копьем, и он с криком рухнул. Вооруженный мечом предводитель замахнулся на другого, и тот с проклятьем отскочил. Уоллес врезался в них, как железный плуг, разя огромным мечом налево и направо почти беспрерывно. Отразил удар копья; его люди, снова сплотившись, устремились вперед с хриплыми криками, выставив свои кинжалы и копья. Настала очередь солдат броситься врассыпную, и одна группка, спотыкаясь, направилась к Хэлу, угрюмо ковылявшему посреди помойных куч заднего двора, увлекая горстку своих людей за собой. Чертыхнувшись, тот увидел, как Куцехвостый Хоб и Джок Недоделанный скачут, будто пустившись в пляс, с тремя противниками, а Сим Вран, изрыгая угрозы и насмешки, ринулся еще на двоих. Откуда-то донесся вопль Мэггиного Дэйви. Увидев на своем пути единственный темный силуэт, Хэл заметил удар пики и с воплем отбил его, отступил, пригнулся, развернулся и ощутил, как его второй удар увяз, будто в тряпку. Раздался скулящий вскрик, и Хэл увидел, как темный силуэт шатко попятился, пробежал пару шагов и упал. Он бросился следом, чувствуя, как комковатая черная гниль помоек чавкает под подошвами. Силуэт, запищав, пополз прочь, загребая пальцами рыбьи головы и потроха. Хэл нанес удар ему по затылку. Череп хрустнул, как яичная скорлупа, послышался резкий крик. Противник обмяк и затих; Хэл перекатил его на спину, чтобы убедиться, что тот мертв. Невзрачное лицо, безбородое, вымазанное помойной дрянью, с приметным родимым пятном на одной щеке. Отрок, не боле. Жив, но едва-едва. — Матушка, — выговорил он, и Хэл сглотнул подкатившую под горло желчь, зная, что его меч сотворил с затылком мальчонки и что мать он уже не увидит. — Хорош пялиться на него, аки на свежевылупившегося воробышка, — прорычал Сим у него над ухом. — Кончайте сие… И осекся, увидев возраст мальчишки, утер рот тыльной стороной ладони, поглядел на лицо Хэла и понял, что голова у того полна малышом Джонни. Опустившись на колени, Сим выхватил свой захалявный нож, быстро и сноровисто перерезал горло, одновременно закрыв глаза отрока, и выпрямился, заступив его собой, чтобы прервать взгляд Хэла на лицо мальчишки. — Что сделано, то сделано, из памяти долой, — проворчал он, и Хэл, заморгав, кивком указал в сторону криков и пожаров. Подоспели Куцехвостый Хоб и Недоделанный, поддерживая с обеих сторон третьего. — Воистину есмы доблестные повстанцы, коли взаправду дали сему местечку волю, — жизнерадостно возгласил Куцехвостый, и обвисший посередке чертыхнулся. Хэл увидел, что это Мэггин Дэйви, а потом учуял вонь от него и сдал на шаг назад. — Верно, — с горечью возгласил Джок Недоделанный, — вольно же вам чураться, вам-то не приходится его тягать повсюду. — Свалился в нужник, — простонал Дэйви. — И сломал себе нос, это уж наверняка. — Господи, жаль, что и я его себе не сломал, — злобно огрызнулся Сим, — а то не пришлось бы обонять твой смрад… Надо быть, ты ахнулся в сортир самого Лукавого. — Ждите здесь, — велел Хэл троим, а потом свирепо дернул головой, чтобы Сим Вран следовал за ним. Ему хотелось убраться от запаха и воспоминания о лице убитого мальчика с родимым пятном как можно дальше. Сим поглядел на мертвого отрока. Ничего общего с малышом Джоном, подумал он отстраненно, но каждый малолетний пацан взирает на Хэла ликом его собственного умершего сына, знал Сим. А будет все больше и больше маленьких убиенных мальчиков, когда этот мятеж разгорится, добавил он про себя, уклоняясь от глаз отрока, казалось укоризненно глядевших на него даже сквозь закрытые веки. Они двинулись вперед сквозь вопли и отблески пожаров, шарахаясь от зловещих теней, которые могли принадлежать и друзьям, и врагам, хотя в конце концов Хэл и Сим поняли, что врагов не осталось, — лишь безумцы армии Уоллеса, распаленные кровью и разбегающимися жертвами. Хэл переступил труп, приметный во тьме только благодаря седым волосам, — монаха-августинца в темной рясе, с нарамником, залитым его собственной кровью. Сим, поморщившись, оглянулся на пламя, тени и вопли. Прямо Геенна Огненная, подумал он, точь-в-точь как в росписях на стенах каждой церкви, которую ему довелось посетить. — Еще священники, — произнес Хэл, оставив остальное недосказанным. Мальчишки и священники — славное начало сопротивления, и вид Брюса, сидящего в огороде на своем приплясывающем боевом коне с крутой выей, расшвыривая зелень и свеклу, размахивая мечом, в сверкающей от света гербовой накидке так, что шеврон на ней зияет прорехой тьмы, только все усугубляет. «Мощи Христовы, — подумал он свирепо, — брошу я это безумие при первом же удобном случае…» — Зрите, — вдруг сказал Сим. — Он-де Киркпатрик. Хэл увидел, как тот соскользнул с доброго коня, швырнув поводья Брюсу, что было диковинно уже само по себе — чтобы граф держал лошадь собственного слуги? Хэл и Сим переглянулись, а затем последний увязался следом в нагромождение расколотого в щепу дерева и битого стекла, в которое превратился монастырь. Промешкав лишь кратчайшее неуютное мгновение, Хэл побрел за ним. Они настороженно огляделись, держа сверкающие мечи наголо; пробиравшийся мимо силуэт с охапкой медной утвари увидел их и свернул столь поспешно, что один кубок с лязгом упал на плиты двора. Откуда-то доносилось пение, и Хэл понял, что они потеряли след Киркпатрика в тени. Двинулись на звук, нашли дверь, открыли ее осторожно, как мыши, выглядывающие из норки, и ощутили движение тел во мраке, как только находившиеся внутри монахи заметили колебание огоньков своих скудных свечей в сквозняке от открытой двери. Кто-то хныкнул. — Счастливая кончина есть величайшее и последнее благословение Господа в сей жизни, — возгласил звучный голос, и Хэл увидел, как настоятель в черной рясе ступил в свет одной из свечей, воздев руки, будто в знак капитуляции, и обратив лик ко мраку под стропилами. — Посвящаем сие бдение Святому Иосифу, Названому Отцу нашего Судии и Спасителя. Силы Его страшится Дьявол. Смерть его особливо благостна и счастлива из всех ведомых, ибо он почил в присутствии и под опекой Иисуса и Блаженной Марии. Святой Иосиф выхлопочет нам ту же привилегию при нашем переходе от сей жизни к вечной. — Экое веселье, — пробормотал Сим, а кто-то, зайдя к Хэлу сзади, высунул лицо над одним его плечом, так что Хэл увидел сальный пот на щеках и учуял луковый дух. Скотоложеское блядское отродье, свирепо подумал он. — Стало быть, это тута англичане и богатеи, — выплюнул тот из недр бороды, оборачиваясь, чтобы позвать остальных. Но рукоятка меча Сима загнала ему слова обратно в глотку, сломав кости носа и повергнув на плиты пола, будто зарезанного вола. — Да помилует меня Святая Бега Килбучская, — изрек Сим, благочестиво осеняя себя крестом над оглушенным, хрюкающим сквозь кровь. Хэл закрыл дверь убежища монотонно распевающих монахов и поглядел на поверженного катерана; его дружки наверняка подоспеют с минуты на минуту, так что они дали клирикам лишь краткую передышку. — Киркпатрик, — произнес Хэл, отодвигая участь монахов в сторону. Сим кивнул, и они тронулись. — Кто эта Святая Бега и что за чертова дыра этот Килбучо? — спросил Хэл, пробираясь по большому темному залу, где лишь движение воздуха создавало ощущение высокого свода. — Близ Биггара, — ухмыльнувшись, кротко пояснил Сим, на ходу поглядывая налево и направо. — Тамочки очень почитают Святую Би, вот оно как. Я подумал, что ейные чары тут не помешали бы, единственное ее чудо. — Вот как? Уж такое славное? — Кабы вы его зрели, — прошептал Сим, не шевеля губами, — то молили бы о благословении. Смахивает на то, что некий дворянин даровал монастырю толику земель, да после посетовал об ихней протяженности… Он двигался полукругами на согнутых ногах, ступая осторожно и говоря хриплым шепотом чуть ли не себе под нос. — Монахи страшились, что их обчистят. Настал день, назначенный для межевания, — и прошел густой снегопад на окрестных землях, но ни снежинки не пало на земли приората, так что было видать, где проходит межа. Монахи скалились, аки маринованные селедки. — Ее морозец бы не помешал тут, — отозвался Хэл, утирая раскрасневшееся лицо. — Хвала Христу, — провозгласил Сим, хмыкнув. — Во веки веков, — набожно отозвался Хэл, а затем поднял руку в знак предупреждения, огибая темный угол и выходя в открытое пространство с алтарем в одном конце и рядом ужасающе дорогих витражных окон, раскрасивших плиты пола радужными цветами от пылающих снаружи пожаров. Слева виднелась чуть приоткрытая дверь, где огонь мерцал и вспыхивал, бросая зловещие отсветы на выцветшие, лупящиеся росписи, украшающие одну из стен. Даниил в логове львов, отметил про себя Хэл. Вполне уместно… Стукнув его по плечу, Сим кивком указал туда, где ярко освещенный Киркпатрик с налитыми кровью от пламени глазами методично бросал бумаги в костер, который развел посреди комнаты. Его тень подпрыгивала и вытягивалась, как сумасшедший гоблин. Хэл двинулся было, когда одно из стеклянных окон над алтарем взорвалось осколками и обрывками свинца, зазвеневшими и заскакавшими по камням. Последовал взрыв смеха издали, а за ним ряд злобных выкриков. Оглянувшись на комнату, Хэл выругался: Киркпатрик скрылся. Они с Симом двинулись дальше. Под подошвами захрустели осколки скудельной посуды и стекла; Сим пошел кругом, пока Хэл затаптывал пламя, грозившее распространиться по тонкой камышовой подстилке, покрывавшей камни. В конце концов Сим вдруг выплеснул на огонь содержимое горшка, и тот утих, шипя и разя не только дымом. — Что там было? — спросил Хэл, и Сим, бросив взгляд на горшок, скроил физиономию. — Ссаки Ормсби, или я не я, — ответил он, и Хэл, оглядевшись, понял, что это спальня юстициара со столом, стулом и набитой соломой коробчатой кроватью; драпировка колебалась от ночного ветерка, врывающегося через выбитое окно. Поглядев на драпировку, Сим увидел, что это знамя с красным щитом и крестиками, разделенными по диагонали золотой полосой. Хэл, недовольно покряхтывая от отвращения, копался среди сырых углей, выискивая документы, с прищуром вглядываясь в них в полусвете и сунув один-другой за отворот куртки. У одной стены высилась горка для подобных свитков, полуразбросанных по соломе, но Сим стащил со стены затейливый гобелен, восхитившись вплетенными в него позолоченными нитями. — Герб Ормсби, — пророкотал чей-то голос, заставив обоих развернуться к порогу, где высился Уоллес, застя свет по ту сторону двери. В руках он держал меч и кинжал, а на его измаранном кровью лице зияла широченная ухмылка. — Герб Ормсби, — кивнув на свисающую из кулака Сима тряпку, повторил он. — Украсим его вскорости его собственной башкой и сделаем из него человека. Никто не отозвался ни словом, когда Уоллес осторожно ступил босой ногой в комнату. Казалось, голова его вот-вот проломит потолок. — Добрая мысль прийти сюда, вьюноши, да только Ормсби сбежал из своей спальни. Через оную отдушину без ставень в одной ночной сорочке, аки мне сказывали. То-то было зрелище… Что у вас там? — Бумаги, — объявил Хэл, чувствуя, как спрятанные обжигают бок, будто до сих пор не погасли. — Тут был огонь. Поглядев, Уоллес кивнул, а потом бросил взгляд на ячейки библиотеки на стене. — Государственные бумаги, без сомнений, — провозгласил он, — коли юстициар Шотландии счел потребным попытаться спалить их. Сиречь могут быть полезны, коли я сыщу молодца, умеющего читать по-латыни лучше моего. — Будет трудновато, — заметил Хэл, не став поправлять Уоллеса по поводу того, кто устроил поджог. — Сим загасил пламя пинтой вельможной мочи. — Да неужто? — Уоллес со смехом тряхнул головой. — Что ж, сыщу для их чтения какого-никакого умного человечишку со скверным чутьем. Хэл, чувствовавший себя неуютно от осознания собственного умения читать, издал нервный смешок, а Уоллес, направившийся было к двери, вдруг обернулся на пороге. — Кстати, — произнес он, невинный, будто кальсоны священника, — я вот все гадаю, что за оный Брюсов малый — Киркпатрик, что ли? Хэл кивнул, чувствуя резь в глазах. Свет факела в канделябре вытворял с лицом Уоллеса черт-те что. — Истинно, — раздумчиво проронил тот. — Он самый. Дык отчего он вынес свою задницу из оного окна без ставень не столь давно, аки сам Нечистый кусал его за жопу? Он перевел взгляд с Хэла на Сима и обратно. На улице что-то с грохотом раскололось, и послышались вопли. Уоллес переступил с ноги на ногу. — Лучше хоть попытаюсь навести порядок, — улыбнулся он, — хоть сие аки пасти кошек. Сыщу вас позже, вьюноши. Удалившись, он будто оставил в комнате прореху, в которую хлынуло молчание. Потом Сим перевел дух, и Хэл сообразил, что и сам затаил дыхание. — Не ведаю насчет англичан, — негромко промолвил Сим, — но он пугает меня до усрачки. Да и не такой уж он зеленый, хоть и прикидывается капустой, подумал Хэл, решив, что пора им двоим убираться отсюда подобру-поздорову.* * *
Тишину убежища в часовне торжественно озарял свет дорогих восковых свечей и негромкий шелест молитв, заставлявших огоньки колебаться, когда сгрудившиеся каноники единодушно набирали в грудь воздух. Несмотря на тесноту, там было свободное местечко, где преклонил колени Брюс, хоть и не склонивший головы. Его снедало пламя, сияющим потоком прошивавшее все тело, настолько яростное, что порой он трепетал и вздрагивал. Брюс смотрел на расписные стены часовни. В яслях Мария кормила новорожденного Младенца обнаженной грудью, а Иосиф взирал на них из деревянного кресла одесную. Они улыбались Брюсу. На переднем плане головы вола и осла обернулись и разглядывали его сверкающими скорбными глазами. Стоявший на заднем плане ангел зрил на него холодно, а выписанные сверху на латыни слова «Благовестие пастухам» словно сияли, как огонь в его теле. Брюс преклонил голову, не в силах видеть ни улыбающееся лицо Пречистой Девы, ни укоризну ангела. Дело сделано, секрет в безопасности,как благовестил Киркпатрик, тяжело дыша после того, как ему пришлось удирать с места сожжения улик. Грехом больше на его запятнанной душе. Брюс подумал о бежавшем человеке, которого убил, безупречно срубив на скаку; лишь после он увидал, что это был старый священник. Длинноногий заменил многие здешние души собственными прелатами, и простой люд, знал Брюс, ненавидел их лютой ненавистью, считая честной добычей, — но смерть священника, будь он англичанин или нет, ложится тяжким бременем на душу дворянина, пусть даже графа. Проклятие Малахии[584] — руки его задрожали, и сжатая в них свеча пролила на поросшую черными волосами тыльную сторону ладони воск, застывший идеальными шариками, будто жемчугами. Проклятие Малахии. Его отец пожертвовал храму в Клерво, где погребен святой, надел в Аннандейле в обмен за неугасимые свечи, и Брюс, сколько б ни твердил насмешливо, что отец напрочь лишился хребта, понимал, что все это из-за Проклятия Малахии. Каждый Брюс страшился его более всего на свете. Каноники вели свой речитатив, и он старался вымарать Проклятие и мысль, что именно оно понудило его порешить одного из их собратьев на святой земле. Невинные, подумал он. Невинные всегда умирают. Брюс видел плитку перед собой — серую потрескавшуюся плоскость. В верхнем уголке одной из них колебались буковки, мелкие и чуть заметные, и он ощутил отчаянную потребность ясно разглядеть их. Прищурившись, прочел: «d i us Me Fecit». Клеймо создателя, подумал Брюс. Альфредиус? Годфриус? А потом до него вдруг дошло. Dominus Me Fecit. «Господь сотворил меня». И рука вдруг задрожала так неистово, что свеча выпала, облив воском костяшки пальцев. Клеймо создателя. «Господь сотворил меня. Я тот, кто я есть». — Государь мой Каррик! Голос заставил его обернуться, и в глазах, ослепленных пристальным взглядом на свет свечи и плитки, все поплыло. — Господь сотворил меня, — пробормотал Брюс. — Как и всех нас, — отозвался голос, хриплый и сочный от сытой жизни. Уишарт, узнал он. Песнопения смокли, все головы обернулись; настоятель, проковыляв вперед, преклонил колени, и Уишарт протянул руку, дабы тот облобызал перстень. Перстня не было видно из-под латной рукавицы, и настоятель замешкался, но потом приложил губы к холодным шарнирным железным сегментам. Уишарт едва удостоил его взглядом, глядя, как поднимается Брюс. Несомненно, Проклятие Малахии, подумал он про себя, видя угрюмый лик юного государя Каррика. Оно терзало его отца всю жизнь, но Уишарт уповал, что юношу чаша сия минует. Он знал предание с пятого на десятое: что-то о том, как предыдущий Брюс Аннандейлский посулил священнику отпустить приговоренного татя, а потом тайком повесил его. Сказанный священник, осерчав, проклял Брюсов — что представлялось Уишарту не очень-то вяжущимся со святостью, но пути Господни неисповедимы, а им-то Малахия в конце концов и стал: святым. С той поры Брюсы и жили под сенью этого проклятия, и суждение юного Роберта, признался себе Уишарт, что оно совершенно подорвало мужество его отца, не так уж далеко от истины. Вряд ли удивительно, подумал Уишарт, когда ханжествующий попик, докучный обеденный гость, испортивший тебе аппетит, вдруг оказывается Малахией, помазанником Божьим, оделенным властью ангельской. Тут самое меньшее усомнишься в собственном везении. Что хуже, каждую больную корову, паршивую овцу и полегший хлеб относили на счет Проклятия, так что Брюсам то и дело приходилось усмирять угрюмых ропщущих простолюдинов. — Я молился, — с укором провозгласил Роберт, и епископ, заморгав, потупил взор и взмахом длани велел настоятелю встать. — Разумеется, — отвечал он, собрав всю свою жизнерадостность, — и вскорости я к тебе присоединюсь, попомни мои слова. Приор, ваша ризница прекрасно подойдет для тихой беседы. Настоятель кивнул. Он не собирался молить о том, чего, как он понимал, желал весь клир — чтобы грабежам и мародерству положили конец, пообещав, что больше не будут убивать облаченных прелатов, — ибо когда епископ Глазго стоит в кольчужных рубахе, штанах и капюшоне, время для этого неподходящее. Палица, болтавшаяся на темляке у одного из бронированных кулаков, была единственным ироничным напоминанием, что он епископ Шотландской церкви и не смеет обращать клинок против кого бы то ни было — впрочем, похоже, ему отнюдь не возбраняется забить человека до смерти. Поглядев на воинствующего епископа, Брюс подумал, что старика может хватить удар от такой уймы стеганых одеяний и металла в оную жару. А еще отметил про себя, что у Уишарта вымученный вид человека, неспособного справиться то ли с дурным запором, то ли с дурными новостями. Последовав за едва волочащим ноги епископом в тесную жаркую ризницу, он с удивлением обнаружил там Уоллеса, сидевшего на единственной лавке, опершись на свой полуторный меч. Он даже не изобразил попытки встать с должным почтением, раздосадовав Брюса, о чем тот, впрочем, забыл, едва Уишарт раскрыл рот. — Государи Перси и Клиффорд созвали силы и выступили через Дамфрис, — объявил Уишарт без предисловий. — Пятьдесят тысяч человек, или так мне поведали. Уоллес даже не моргнул, но его кулаки крепче стиснулись на рукояти меча, и Брюс услышал, как кончик клинка вгрызся в каменный пол. Увидел сокрушенное лицо Уишарта и тотчас постиг суть дела. — Вы рассчитывали, что времени будет больше, — обвиняющим тоном заявил он, и Уишарт угрюмо кивнул. — До следующей весны, — проворчал епископ. — Эдуард далеко на юге с армией, которую хочет переправить во Фландрию, дабы сразиться с французами, к тому же он и подобные графьям Норфолку и Херефорду не в ладу из-за прав баронов и мыта на шерсть. Я и не помышлял, что войско будет готово до конца года, так что им придется переждать зиму и выступить весной. Я… — Вы забыли про английских пограничных государей, — перебил Уоллес, устремив ледяной взор на раскрасневшееся, лоснящееся от пота лицо Уишарта. — Вы позабыли, что тень Длинноногого длинна, епископ, и подступает все ближе. И как такое допустил человек, слывущий, сказывал мне народ, архиплутом? Уишарт с лязгом отмахнулся. — Я не ожидал, что Перси или Клиффорд созовут войска, — проворчал он. — Думал, они поскаредничают, раз подымали столько шума из-за денег на французскую затею Эдуарда. Кроме того, Перси — внук де Варенна и не захочет, чтобы старый граф Суррейский выглядел дураком, правя Шотландией в звании вице-короля из своих владений в Англии. Брюс с издевкой, грубо рассмеялся. — Ну, добро, — тряхнул он головой. — В этом вы весь — строите козни и возглашаете с каждой кафедры, что сие есть королевство, государство, отдельное от Англии, со своим собственным королем — да настолько, сдается мне, что напрочь потеряли представление, как мыслят англичане. — Что ж, вам ли не ведать, — ответил Уоллес подавленно, да и в улыбке Брюса не было ни намека на веселье. — Перси и Клиффорду не по нраву заморские войны Эдуарда, — с горечью сказал Брюс. — Но это война не заморская. Эдуард считает эти земли не другим государством, а частью своего собственного, так что Перси и Клиффорду не отвертеться от сбора войск для подавления внутреннего мятежа, кем бы ни выглядел при этом дедуля де Варенн. Поступить супротив — измена. Кроме того, Эдуард придет, и никто из его государей на севере не пожелает предстать перед ним, не предприняв что-нибудь. Даже графу Суррейскому придется оторвать от места свою де-варенскую задницу и заплатить солдатам снова. Уишарт скорбно потупился к полу, потом выпрямился, шумно выпустил воздух между мясистых губ и кивнул: — Истинно, достаточно верно. Сие было недооценкой. Теперь придется с этим разбираться. — Разбираться с этим?! — взревел Брюс. — И как же с этим управиться, по-вашему? Пусть даже у ваших шпионов в глазах троилось, смахивает на то, что англичан слишком уж много. Пятой части от пятидесяти тысяч будет довольно, ибо все, что я видел, ничуть не убеждает меня, что сей сброд под предводительством Уоллеса выстоит против них в чистом поле. Он оборвал речь, тяжело дыша, а потом мрачно кивнул Уоллесу: — Без обид. — Какие обиды, — неожиданно весело откликнулся тот. — На сей счет вы правы, это уж наверняка — мои люди лучше бьются средь холмов и лесов, государи мои. Туда-то мы и отправимся. На лице Уишарта было написано желание запротестовать, и Брюс ощутил острый приступ гнева на самонадеянность Уоллеса, готового вскочить и выйти, даже не раскланявшись, но, сглотнув желчь, угрюмо кивнул: — Быть посему, но вы должны уйти с теми людьми, что у вас есть, и теми, кто свободен от обязательств передо мной и прочими дворянами. Уоллес с прищуром уставился на Брюса из-под насупленных бровей. — А вы, государь Каррик? — Я подниму Дуглас, епископа и остальных, и мы окажем сопротивление, как сможем, из наших крепостей. Англичанам придется иметь дело с нами, и это выиграет для вас время, дабы учинить разгром. Уоллес посмотрел на Брюса долгим-долгим взглядом, а после неспешно кивнул. — Длинноногий идет. Это вам дорого обойдется, — произнес он, переводя взгляд с Уишарта на Брюса и обратно. — За благородное дело, — провозгласил Уишарт, и Уоллес, пожав обоим руки запястье к запястью, вышел бесшумно, как призрак, несмотря на свои внушительные габариты. Оставшимся вдруг показалось, что комната стала вдвое просторнее. С минуту они хранили молчание, а потом Уишарт деликатно кашлянул. — А истина? — требовательно вопросил он. Брюс окинул его холодным взором. — Цель моего присоединения к сему провалившемуся предприятию уже достигнута, — с напором отчеканил он. — Каменщик похоронен сызнова. Уишарт утомленно понимающе кивнул. — Так что мы направимся в Эрвин с теми людьми, что у нас есть, и приготовимся к переговорам, — добавил Брюс. Епископ с кряхтением надменно распрямился, заколыхав брюхом под доспехами. — Сдаешься? Без боя? Нижняя губа Роберта выдвинулась лопатой, и Уишарт, хорошо знавший этот признак, насторожился. — Король явится на север самолично, — сердито пророкотал Брюс. — Как черный ветер. Уоллес будет сражаться — ему придется, ибо у него нет земель на его собственное имя, и он преступник, не более. Вы не теряете ничего, кроме толики достоинства, коли преклоните колени, дабы облобызать перстень Эдуарда, ибо земли Церкви неприкосновенны. Он придвинул булаву своего лица к лицу Уишарта. — Но мы, — хлопок по гербовой накидке, — рискуем лишиться всего. Мы, тот самый свет державы, силами коего вы полагаете его освободить. Эдуард явится на север, насупив брови над своими злыми глазенками. Я могу лишиться Каррика, а мой отец — Аннандейла. Раны Господни, Уишарт, да я тут ставлю под удар свои права на корону. Дуглас лишится своих земель в Ланарке. Вы хотите, чтобы всех нас заточили в Берике или в Тауэре? А главное, с горечью подумал Уишарт, что Бьюкен и остальные Комины, якобы поддерживающие Эдуарда, но украдкой отпускающие вожжи бунтарей Мори, выйдут из этого дела благоухающими, будто из ванны с лепестками роз. Они играют в эти королевские игры куда искуснее юного Брюса, заметил он, нуждающегося в окружении ухищренных голов. — Разумеется, — вымолвил епископ, склоняясь перед неизбежным, — переговоры — дело хитрое. Запутанное, а порой и затяжное. А что с Уоллесом? Брюс скривился, как от оскомины. — Уоллес ничем не связан, кроме присяги свергнутому королю, не желающему даже слышать о собственном королевстве, — проворчал он. — У него нет земель, ему не докучают арендаторы, и он смотрит на каждого встречного поверх меча, вопрошая, за Уоллеса тот или нет. Если нет, значит, против. — Оно и недурно в такие-то времена, — с вызовом парировал Уишарт. — Упрощенчество, — небрежно бросил Брюс через плечо, направляясь к двери. — Да и мимолетно все это. Долго ли пойдут переговоры, коротко ли, а кончится как всегда: мы преклоним колени. Помедлив, он обернулся. — Кроме Уоллеса. Он почти не в счет. Длинноногий ни за что его не простит. «Я не в счет, — думал Роберт, говоря это. — Господь сотворил меня — и сотворил, чтобы я стал королем».* * *
Освободители Скуна пили за здоровье друг друга, своего героя Уоллеса и даже Брюса с епископами. Пивная была единственным строением, не подвергшимся разграблению и поджогу, более священным для жаждущих, нежели любая церковь. Пивная, погруженная во мрак, едва разгоняемый несколькими факелами в канделябрах, едва дышавших в тяжком воздухе заведения, забитого телами, разящего блевотиной, мочой и перепревшим потом. Сим насилу отыскал уголок и две побитые чары из рога, чтобы осушить их единым духом, но Хэл потягивал свое пиво без спешки, разглядывая пожелтевшие обугленные обрывки, выуженные из-под куртки. — Так чего ж там говорится? — спросил не знающий грамоте Сим, распуская завязки собственной усеянной заклепками стеганой кожаной куртки и пытаясь выпутаться из нее в знойной духоте пивной. — Будь посветлее, я бы тебе сказал, — пробормотал Хэл. Во мраке можно было разобрать лишь то, что написано очень убористо и по-латыни. И все же он был практически уверен, что речь идет о смерти каменщика и обследовании его одежды, включавшей бобровую шапку, заткнутую за пояс, скроенную во фламандском стиле. Больше ничего, кроме этого и подписи «Бартоломью Биссет», Хэл разобрать не мог; придется обождать с этим до света денницы. — Киркпатрик палил сие? — поинтересовался Сим, но тут же смолк, пережидая вспышку громогласных насмешек и улюлюканья. В пивную вошла женщина. — Да, смахивает на то, — ответил Хэл. Причина ускользала от него, о чем он и упомянул, потягивая пиво и морщась, потому что оно было теплым, как похлебка. Он чувствовал, как по телу стекает пот: летняя ночь выдалась душная, и грубые стены заведения сочились гнилостной влагой. — Христе, я не в состоянии тут думать. — Хэл начал было подниматься, но тут же узрел выросшую перед ним женщину — настолько внезапно, что отшатнулся. — Мой сын, — проговорила она с осунувшимся, искаженным от горя лицом. — Вы его не видали? Совсем мальчонка. Я искала повсюду. Его легко признать, у него родимое пятно на лице… Она примолкла, сумев выдавить изнуренную улыбку, но было видно, что долгие, бесплодные ночные поиски еще не иссушили ее слезы до дна. — Земляничкой, — добавила она. — Допрежь его рождения мне земляники страсть как хотелось. Прямо не могла удержаться… Лицо мальчишки, измазанное навозом и помоями, яркое земляничное пятно в свете пожаров… — Нет, — безнадежно выговорил Хэл. — Нет. Поперхнувшись ложью, он очертя голову ринулся в гнев, внезапно узрев лицо собственного мертвого сына с кинжальной четкостью, ослепившей его. — Проваливай прочь, баба! — вскипел он, протискиваясь мимо ее горя и надежды, стремясь из ватной духоты к дымному дыханию улицы. — Нежли ж я кладезь знания? Что мне знать про вашего сына, сударыня… Протопав мимо нее на изрезанную колеями улицу, он встал, трепеща, как побитый пес, взахлеб втягивая воздух, смердящий чадом и паленым мясом; после спертой пивной даже он казался амброзией. Переведя дух, тряхнул головой. Джонни… боль утраты только усугубила страдания всей этой ночи, всего этого предприятия. Мощи Христовы, да может ли быть что-то хуже? — Уоллес прислал за нами, — пророкотал голос Сима, темной громадой вырастая у плеча Хэла с лоснящимся бледным лицом, указывая взглядом направление. У него за спиной беспокойно дожидался темный человек, чтобы отвести их к Уоллесу. — Хочет расспросить нас про покойного каменщика, — скорбно добавил Сим. Уоллес находился в покоях Ормсби, разгребая полусгоревшие бумаги на полу кончиком дирка, пока босоногие керны свирепо склабились над дрожащим каноником. Остатки войска Уоллеса на улице потихли до рева. — Мне выдался шансик рассудить дело, — проговорил Уоллес. Медленно и на хорошем английском, отметил про себя Хэл, чтобы священник поспевал за ним без особого труда. Уоллес дернул головой в сторону священника, однако не сводя глаз с Хэла и Сима. — Сие брат Грегор. Хэл чувствовал себя этаким шестилеткой, провинившимся перед тятей. — Брата Грегора… убедили… помочь. Он читает на латыни, каковую вдолбили в него в Хексемском приорате. — Отвернувшись, Уоллес ухмыльнулся трясущемуся английскому монаху, не без симпатии заметив: — Знаю, каково оно, хоть и не учился, сколько следовало бы, ибо учителя были не склонны пороть меня более разу кряду. Хэл бросил взгляд на брата Грегора, стоявшего, потупив очи, с дрожащими руками; он догадывался, какого рода убеждения пустили в ход, но к чему грозить священнику ради прочтения каких-то документов? И вообще, с какой стати священнику отказываться? — Зело лепо, — восхитился Уоллес, когда Хэл пробормотал вопрос вслух. — Ваш ум столь остер, что гляди, сам порежешься. Есте как раз тот человек, каковой мне потребен. — То есть? — отважился осведомиться Хэл. Обернувшись к кернам, Уоллес проделал глазами и кивками нечто заставившее тех увлечь брата Грегора прочь, оставив Уоллеса с Хэлом и Симом наедине; ночной ветер дохнул через выбитое окно, потеребив гобелен Ормсби, который Сим повесил на место. — Я тут взерцался в сие крошево, — Уоллес указал на обугленное сырое месиво бумаг, которые Хэл не осмелился взять, когда их углядел Уоллес, — и выудил смачные кусочки, но здешние каноники отказались их прочесть. Помолчав, он воззрился на них. — Лишь единый человек мог поселить в них страх Господень на сей счет, и сказанный — ничтожный английский приор. Но где он набрался отваги для того? Епископ Уишарт, подумал Хэл, и тотчас это выложил. Уоллес неспешно кивнул. — Истинно. Обещания промеж христианами, надо быть. Что ж, тогда я сыскал брата Грегора и чуть ли не сунул его пятки в огонь, дабы убедить взяться за работу, — продолжал он. — В конце концов тот раскопал смертоубийство скунского каменщика под Дугласом и рапорт мелкими каракулями рукой некоего писца по прозванию Бартоломью Биссет. Сей человек — письмоводитель оного Ормсби. Тоже дал деру через окно, но я его захвачу и приведу к допросу. Оборвав, он в упор смотрел на Хэла, буквально прожигая взглядом насквозь; Хэл изо всех сил старался не отвести глаза, и в конце концов Уоллес кивнул. — Вы присоединились к Брюсу, — изрек он, а потом ухмыльнулся, от нечего делать ковыряя полированный стол острием кинжала. — Но не по собственной воле. Да и от меня не в восторге. — Я думал, мы все на одной стороне, — солгал Хэл, тут же устыдившись от презрительного взора, послужившего ответом на его фальшивую наивность, и признав это с пожатием плеч. — Брюс, епископы и прочие направляются в Эрвин, — объявил Уоллес, приподняв одну бровь, чтобы показать, что думает об этом. — Перси и Клиффорд наступают с английской армией, и Уишарт учинил из дела настоящую хмарь, так что gentilhommes Шотландии размахивают ручонками и трубят на манер органчика. Я убираюсь к холмам и деревьям, и большинство бойцов со мной — сожалею, но среди них изрядно ваших. Хэл уже знал это; присягнувшие Хердманстону, все пятеро, остались с ним, равно как один-два сокмена — свободных землепашца, владеющих землями под юрисдикцией Хердманстонов, но изрядная часть всадников Хэла, прельщенных грабежами, присоединилась к Уоллесу. — Желанное пополнение, — с улыбкой признался тот. — Ближайшее к тяжелой кавалерии, что у меня есть. — При виде оной они накивают пятками, — проворчал Сим, и Уоллес кивнул. — Как и я, — пылко заявил он и рассмеялся вместе с Симом. — А теперь по делу, — это уже без улыбки. — Можете пойти со мной или пойти с Брюсом. Тот говорит, что он и остальной доблестный свет державы удаляются наводить порядок в своих крепостях. — И лукаво посмотрел искоса воплощенным хитроумием. — Может, оно и так. Поглядев на него, Хэл узрел правду, ощутил правду всем трепыхнувшимся нутром — они откупятся перемирием, — и облегчение омыло его лицо. Уоллес увидел, что Хэл сообразил, что к чему, — а заодно и его реакцию, — и медленно кивнул. — Истинно, — проронил он с кривой усмешкой. — У вас есть земли, которых вы можете лишиться, как и они. А вот у меня — нет. Не думаю, что для меня сыщется лобызание мира, а? Хэл признал это с застывшим, как маска, лицом и дурнотой стыда, подкатившей желчью под горло. Сим, будучи реалистом, только хмыкнул в знак согласия; это самый безопасный путь из трясины, в которую они забрели, — пойти с королем на мировую, получив прощение за все грехи под обещание больше так не делать. — Что ж, — подытожил Уоллес. — Тогда идите с Брюсом и ступайте с Богом. И все же мне потребна ваша подмога. Я хотел бы раскопать, с чего это Киркпатрик пытался спалить сии бумаги, почему Уишарт понудил оных попиков прикусить языки и что интересует бравого Брюса. — Вы хотите моей помощи? — спросил Хэл. — Хоть я и в лагере Брюса? — «В», — подчеркнул Уоллес, — но не «из». — Для человека, который видит, что все не столько за него, сколько против, это разница лишь на лобковый волосок, чтобы доверять человеку, — ответил Хэл, и Уоллес с ухмылкой приподнял кинжал, так что свет факела неспешно скользнул вдоль бритвенноострого лезвия. — Столь тонкой грани, — признался он, — я доверяю свою жизнь уже не первый день. — Впрочем, — внезапно встал, засовывая кинжал обратно в поясные ножны, — вы свое дело сделали. Ступайте с Богом, сэр Хэл, — однако прежде признайтесь мне, что питаете любопытство к сей материи. Хэл неохотно кивнул в знак согласия. — Я не буду шпионить ни против Брюса, — твердо добавил он, — ни для него против вас. Уоллес навис над ним, положив грязную лапищу ему на плечо, и один лишь ее вес тяготил, как кольчужный панцирь. — Истинно, я предполагал сие и просить не буду. Но попомните меня, сэр Хэл, скоро вам понадобится решить, какой камзол носить. И чем дольше будете решать, тем хуже он будет сидеть. Хэл и Сим побрели обратно в пожарища и закоулки монастырской усадьбы, где свет сочился в кислую помарку горизонта: рассвет уже сражался с тьмой за владычество над холмами. Прямо не верилось, что он вляпался в крамолу настолько легко, и Хэл вознес Господу благодарственную молитву за выход из нее; надо лишь пересидеть в Эрвине с Брюсом и остальными, позаботившись, чтобы мелких владык при переговорах не обошли стороной. «А потом домой, где можно запереться со своим старым батюшкой, и надо выезжать с этим же новым рассветом, — неслись галопом мысли, — и будь проклят Рослин». Но притом Хэл гадал, выдержат ли натиск толстые стены Хердманстона; втуне и надеяться. Высказал это в двух словах Симу; тот развел руками, поглядел вверх, а потом отхаркнулся и выплюнул свое прорицание оборота событий. — Скоро польет, аки господни ссаки, — угрюмо буркнул он, а потом замолк, оцепенев. Проследив за его взглядом, Хэл увидел, как мать мальчонки перебегает от керна к катерану, от матерого горлопана к угрюмому ворчуну, терпеливая, как камень, и неотступная, как лавина. — Вы не видали моего мальчика? У него родимое пятнышко… (обратно)Глава 4
Замок Дуглас Праздник Посещения Пресвятой Девой Марией Блаженной Святой Елизаветы, июль 1297 года Псаренок смотрел, как туфелька подпрыгивает с каждым рывком ноги, едва удерживаясь на ней. Нога, облаченная в красный чулок, сгибалась и спазматически распрямлялась с каждым кряхтящим толчком невидимой силы, гвоздившей между ней и ее двойняшкой сбоку, за пределами видимости Псаренка. О Боже, причитала Агнес. Обожеобожеобожеобоже — литания взмывала все выше и все истовее с каждой секундой. Псаренок видел, как собаки от этого слепнут и впадают в исступление настолько, что ему приходилось браться за их тычущуюся твердость, чтобы направить в нужное отверстие, когда их случали. Он знал механику дела, но ее безумие едва коснулось его, так что он лишь отчасти понимал, что чувствует. Он сидел в масляно-желтом полумраке, охваченный жаром, пристыженный и взбудораженный, тиская собственные тугие чресла, уставившись в скорбные карие глаза Микела, положившего голову на лапы и ничуть не смущенного тем, что колени Агнес сплетены позади колонн рук Лисовина Уотти. С каждым толчком Уотти издавал кряхтение, а Агнес взвизгивала в ответ, и мало-помалу визг становился все тоньше и тоньше. Велди в надежде сопел носом, но Псаренку нечем было их покормить, и он не собирался отправляться на поиски, пока Лисовин Уотти не закончит. Так что он сидел в соломенном сумраке конюшни, прямо у задней стены, почти под огромными тележными колесами с железными ободьями, вместе с сероватыми, как призраки, дирхаундами на поводках, терпеливо дожидающимися, положив головы на огромные лапы с длинными когтями. Он, Лисовин Уотти и гончие провели там уже два месяца. Сэр Хэл и остальные не взяли их с собой, и Псаренок гадал почему. Однако мысль покинуть Дуглас была настолько диковинной и пугающей, что у него занимался дух. Ничего другого, кроме замка Дуглас, он не знал, и его обитатели были единственными знакомыми ему людьми, не считая захожих коробейников да торговцев индульгенциями, пока не прибыли Хэл и все прочие чужаки. И теперь ему предстояло вот-вот уйти с этим чужаком, этим Лисовином Уотти. Визги становились все громче и чаще. Псаренок, чувствуя неуютную тяжесть в паху, водил по железному ободу тележного колеса грязным указательным пальцем быстрее и быстрее, с разинутым ртом таращился, не в силах оторвать взгляд от ноги и лихорадочно подпрыгивающей туфельки. Витражные туфельки, назвала их Агнес, потому что в них есть элегантные прорези, показывающие красные чулки, будто цветные окошки большого собора. Агнес так сказала графиня Бьюкенская, отдавшая их ей перед отъездом — дар своей камеристке за помощь; с той поры она и носила красные чулки и туфельки не снимая — до сих пор, подумал Псаренок, потому что подвязки чулок лежали рядом, будто ручейки крови, а туфелька, с которой он не сводил глаз, соскользнула с пятки и отчаянно раскачивалась на пальцах ноги. Последний писк был настолько пронзительным, что его услышали только псы, а сама Агнес задергалась так спазматически, что туфелька слетела. Лисовин Уотти курьезно, по-детски хныкнул несколько раз, замедляя свои бешеные пульсации, а там и вовсе остановился. Солома перестала хрустеть, как в грозу, а Псаренок, с лязгом захлопнув рот, услышал их дыхание — тяжелое и порывистое. — Истинно, — вымолвила Агнес таким тягучим, сонным голосом, какого Псаренок еще ни разу от нее не слыхал. — Ты вытряхнул меня из туфли напрочь. Они рассмеялись, и солома снова захрустела, пока они устраивались поудобнее. Лисовин Уотти выбрался наружу, весь осыпанный соломой, поглядел в сторону псов, увидел Псаренка и заморгал. — А, вот ты где, — пролепетал он, и паренек понял, что Уотти гадает, давно ли он тут сидит. Но в конце концов пожал плечами, провел пятерней по волосам, вычесывая солому, и ухмыльнулся. — Ступай на кухню, погляди, не сыщешь ли каких обрезков для собак, — сказал он, и Псаренок побежал прочь. — Другая туфелька еще у меня на ноге, — произнес гортанный голос позади, и Лисовин Уотти, поморгав, тряхнул головой. Он знал, что застрял с Псаренком и дирхаундами в Дугласе, потому что Хэл счел за лучшее оставить своих дорогих псов подальше от лагеря шотландцев в Аннике, где Брюс и иже с ним сидели в настороженном противостоянии с Перси и Клиффордом и обеими армиями, изо всех сил стараясь не схлестнуться в жаркой битве. А еще хуже было пытаться путешествовать по опасным дорогам обратно в Лотиан в одиночку. «Но, добавил он про себя, — если сэр Хэл промешкает отправить за нами еще дольше, — эта блудливая метелка истреплет меня в хлам». В кухне царил изнуряющий зной. За большим столом куховар господин Фергюс и его помощники резали боковину соленого быка для кипящего котла, нанизывали гусей на вертелы, месили хлеб; Псаренок увидел, что в рожь замешивают молотые опилки — значит, зерна в обрез. Кухарчонок протиснулся мимо Псаренка, неся воду, налитую по трубам из каменной систерны, хитроумно устроенной где-то наверху; другой тащил охапку дров для печи, полыхавшей выше — да и жарче, — чем в кузнечном горне. Рядом с ней юные прислужники извивались, стараясь помешать угли, не поджарившись заодно, сгрудившись за старым намоченным турнирным щитом. В самый разгар лета случается, что иной сомлеет от жара, и только проворные руки других могут спасти такого от верной смерти; почти каждый из них щеголял стеклянисто поблескивающими рубцами прежних ожогов. — Ну, чего тебе надобно, отроче? — вопросил Фергюс, поднимая глаза. По нему и не догадаешься о его ремесле — худой, остролицый уроженец Галлоуэя, с бритой наголо головой и подбородком, чтобы легче было избавляться от паразитов и сносить жару. — Прошу вашего благоволения, сэр, — проговорил Псаренок. — Лисовин Уотти вопрошает, не могли бы вы уделить толику мяса и требухи для его собак. — Мощи Христовы, — оборвал его Фергюс своим по-гэльски певучим английским. — Требухи? Еще и обрезки для собак? А сахарной головы не надо, отчего нет? Весь припас на исходе, и что-то я не вижу шансов его пополнить. Рад, что почитай все гости удалились, ибо еще день, и мы жевали бы собственные сапоги. Подразумевалось, что кое-кто из нежеланных гостей еще остался, и Псаренок с внезапно пронзившей болью вдруг понял, что он — один из них. В мгновение ока вереница слов из уст государыни обратила его из замковой компании в чужака. — Да это для него, господин! — добавил один из подручных, с ухмылкой складывая и подсчитывая пирамиду медовых коврижек, усердно стараясь не ломать их. — Вид у него такой, что и сырое мясо умнет. — Может, кабы та охота недели тому принесла что-нибудь стоящее, — проворчал Фергюс, — да мясо добытого оленя жесткое, а связка добрых кроликов и на вкус лучше, и готовить их легче. А нынче дичь распуганная и сторожкая, и доброй охоты не жди много недель. А все, что мы получили, — лишь мертвое тело да загадку. Оборвав, куховар сунул Псаренку круглый горшок, блестящий и воняющий от окровавленных ошметков, крови и сала, размазанных по ней снаружи. — Вот, — буркнул он. — И ну-тко, живо принеси горшок назад. Расплывшись в улыбке, Псаренок кивнул — а потом резко выбросил одну руку, схватив коврижку, и удрал от вызванных этим улюлюканья и урагана свирепых проклятий. И был уже у порога, когда врезался в какой-то темный твердый предмет, ударивший его прямо в висок. Ошарашенно запнулся, обнаружил, что его держит крепкая рука, болезненно стиснувшая его тонкое предплечье, и поднял глаза мимо ударившей его рукояти кинжала к кляксе ухмылки. Острое лисье лицо с холодными темными глазами и носом, испещренным старыми оспинами. Подбородок хоть и имелся, но почти не в счет, отчего зубы его обладателя торчали на крысиный манер между влажными тонкими губами, очерченными жиденькой бороденкой и усами. — Воришка, — изрек он с сальным самодовольством, торжествующе воззрившись на Фергюса. — Похоже, я прибыл как нельзя вовремя. Утирая руки о фартук, Фергюс уставился на пришедшего, невзлюбив его с первого взгляда. И нарочито поглядел на кулак, сдавивший руку Псаренка, как турникет, на что тот, приподняв бровь, разжал пальцы умышленно резким жестом. Псаренок с горшком в одной руке и коврижкой в другой хотел бы потереть саднящее место, но смог лишь покрутить локтем, настороженно переводя взгляд с незнакомца на Фергюса. Тот молча дернул головой, веля ему уходить. Не обращая внимания на замаравшую руки кровь, Псаренок запихнул медовую коврижку в рот и стрелой бросился к конюшне, держась за свой квелый бицепс. — Вы будете?.. — произнес Фергюс, и новоприбывший надменно вздернул подбородок. — Мализ Белльжамб, — возвестил он. — Сэр Мализ Белльжамб, — подчеркнул он. — А вы лишитесь целой кухни медовых коврижек, коли будете и впредь потакать воришкам. — Сэр, — провозгласил Фергюс тоном, дававшим ясно понять, что он не уверовал в титул ни на миг. — Я помню вас с прошлого раза. Вы приезжали с графом Бьюкеном. Теперь вернулись. С чем? Мализу хотелось поставить этого человечишку в подобающе почтительное положение на коленях, но вместо того он сумел выдавить лишь хлипкую улыбку. — Оказалось, графиня отбилась от своей свиты. Граф боится, что она могла заблудиться, а она верхом на здоровенной бестии, боевом коне, на коем не пристало ездить женщине. Дороги — не место для одинокой женщины. Он помолчал и улыбнулся, будто чуточку стыдясь попустительства своего владыки, позволяющего жене разъезжать по стране на боевом коне, сидя по-мужски, раздвинув ноги, без эскорта и даже без компаньонки. Мысль о ее побеге жгла его огнем. Мощи Христовы, да она пущелукавое шельмовское отродье самого Сатаны! Улизнула, пока все спали, исхитрившись забрать с собой треклятого боевого коня. С той поры Мализ пребывал в панике, понимая: Бьюкен тут же заподозрит, что сон на них навеяла выпивка и они были далеки от бдительности. Это правда, но не это хотелось Мализу поведать своему господину. — Граф отрядил меня сопроводить ее обратно. Я думал, она могла вернуться сюда. На минутку воцарилось молчание, ибо все вспомнили, как было слышно за милю, когда граф наказывал жену, и Фергюс с негодованием подумал, что вряд ли после этого стоит удивляться бегству графини. Мудрый поступок, но вслух говорить он этого не стал. — Так на сей счет мне сказать нечего, — заявил вместо того куховар, поворачиваясь к примолкшим кухарчатам, застывшим с разинутыми ртами, приструнив их одним взором, и в кухне вновь воцарилась лихорадочная деятельность. — Такой государыни тут нет, — добавил он. — Государь и государыня Дуглас, их чада и домочадцы куда-то отбыли. Распорядителем оставлен Томас Сержант, так что вам разумнее осведомиться у него. Мализ погладил подбородок, словно обдумывая слова. — Была еще потаскушка. Агнес, помнится, по имени. Служила камеристкой графини, когда та была здесь. Я хотел бы поговорить с ней. Неуверенность его была сугубо напускной, ибо он знал шлюху настолько хорошо, что помнил сладострастный посул покачивания ее бедер. Искать ее в уповании, что она знает, куда могла отправиться графиня, было жестом отчаяния, но Мализ уже метался как уж на сковородке. — Надо быть, здесь где-то, — поднял брови Фергюс. — Как я сказывал, лучше потолковать с Томасом и дать ему знать, что вы обнюхиваете его подначальных, аки ищейка. Предупреждение прозвучало резко, уязвив Мализа острым жалом. Тот склонил голову — милосердный, вежливый, невинный, как сорочка монахини. — Премного благодарен, — проговорил он, вперившись Фергюсу глаза в глаза. — Ввек вам сего не забуду. Выйдя из мрака на свет, Мализ прищурился от его яркости, а потом углядел тощего малорослого вора, бегущего через двор, как крыса, к постройкам конюшен. «Ага, — подумал, — мышонок держит ушки на макушке. Будь я он, я побежал бы предупредить эту Агнес, каковая, несомненно, ведает…»* * *
Полуобернувшись, Псаренок увидел, что чужак с хорьей рожей посмотрел прямо на него, а потом целеустремленно двинулся вперед, и испуганно залепетал, ощутив полоски боли, обжигающей руку, как пальцы незнакомца. Он вспомнил крепкий удар в висок рукояткой кинжала и от паники растерялся. Полуобернувшись, споткнулся, выронил горшок, бросился подбирать, потом сообразил, насколько близко незнакомец, и, покинув горшок, опрометью побежал. Еще более утвердившись в намерениях Псаренка, Мализ последовал за ним. Агнес, оправляя сорочку и выбирая солому из волос, как раз выходила из конюшни, покинув ее первой в попытке хоть как-то умерить неизбежные сплетни. Она была полна сонной истомы, солнце растекалось по коже, как мед, и Агнес уже начала поправлять чепец, когда выбежавший из-за угла Псаренок застыл как вкопанный. — Человек, — выдавил он. — Что ты так встревожен, мой цыпленочек? — проворковала Агнес с улыбкой, тут же оцепенев при виде Мализа, вышедшего из-за угла. Взвизгнув, Псаренок развернулся и прыснул прочь. Мализ улыбнулся, отчего у Агнес под ложечкой засосало. — Ты Агнес, — сказал он отнюдь не вопросительным тоном. Вздрогнув, та опамятовалась и немного взяла себя в руки. — Истинно. А вы человек графа Бьюкенского. Мализ. Я вас припоминаю. А еще она помнила его сальный взгляд, лапавший ее тогда и нравившийся ей сейчас ничуть не больше. — В самом деле? — Мализ смерил ее взглядом с головы до ног, так что у Агнес мороз подрал по коже; она вдруг ощутила липкость Лисовина Уотти на внутренней стороне бедер с внезапным стыдом, столь же внезапно перешедшим в гнев против этого Мализа, прогнавшего сладостные мгновения прочь. — Я полагала, вы удалились с графинею, — надменно произнесла Агнес, заставив ноги прийти в движение, чтобы обойти его и убраться прочь. Шагнув вперед, Мализ заступил ей дорогу. — Так и было, — ответил он, и Агнес ощутила кожей его взгляд, будто испражнения запаршивевшей овцы. — Славные у вас туфельки, госпожа. Опустив голову, чтобы поглядеть, Агнес почувствовала, что его пальцы ухватили ее за подбородок, будто твердый роговой птичий клюв, и ошеломленно застыла, не в силах ни шелохнуться, ни пискнуть. — Слишком уж славные для вас, — проговорил Мализ ей на ухо, вкрадчиво и ядовито, щекоча дыханием отбившиеся пряди ее влажных от пота волос. — Они принадлежат графине, если не ошибаюсь. Пальцы, впившиеся ей в подбородок, вдруг разжались. Запнувшись на подкосившихся ногах, она упала бы, но Мализ резко выбросил руку, поддержав ее под локоть и заставив выпрямиться. — Ты знаешь, куда она отправилась, — сказал Мализ, и Агнес увидела его вторую руку, покоящуюся на рукоятке дирка в виде двух яичек, давшего оружию его название — мудовый кинжал. Ей стало дурно. — Она отдала мне туфельки, — словно со стороны услышала женщина собственный голос. — Прежде чем уехать… — Она вернулась, не так ли, — настаивал Мализ, приблизив губы к самому ее уху; дыхание его воняло скисшим молоком. — Сбежала сюда: кто ж лучше укроет похотливую Брюсову подстилку, чем похотливая шлюшка Дугласова замка, ась? Каковая была ее камеристкой, когда она приехала сюда в первый раз… — Никогда, — пролепетала Агнес, чувствуя обжигающие пальцы. Голова пошла кругом. Послышалось змеиное шуршание кинжала, покидающего ножны, — не возвращалась. — Ты мне скажешь… — начал было Мализ, но тут что-то хватило его по загривку, отдернув назад. Освободившись, Агнес грудой рухнула на землю. Поначалу Мализу показалось, что его укусила лошадь, и он забарахтался, ругаясь, в попытке освободиться. Потом в поле зрения показалась вторая рука — громадная грязная лапища с потрескавшимися ногтями, выплывшая из солнечного сияния и сомкнувшаяся на его горле, мгновенно лишив воздуха. Задыхаясь, лягаясь, Мализ уставился на большое круглое лицо Лисовина Уотти с глазами, налитыми кровью от ярости. — Ах ты, морокун! — взревел тот. — Я ж поалифлю тобой камени, тщий присаде. Вмозжу в тебя лепые манеры… Мализ в отчаянии нашаривал кинжал, и заметивший это Уотти, взревев еще громче, затряс того влево-вправо, как терьер крысу. Мализ ощутил, как мир закружился, подернувшись по краям алым. Кинжал с лязгом выпал из пальцев, взор его помрачился и сузился. — Подымать на меня дирк, ась? — крикнул Лисовин Уотти, отшвыривая Мализа прочь. — Да я ж тебе башку оторву и в глотку насру, ты, яремник! — Эй, эй, довольно уж! Новый голос заставил Лисовина Уотти стремительно обернуться — как раз вовремя, чтобы увидеть, как один из воинов гарнизона замка с пыхтением спешит к ним, потея в шлеме и кожаной куртке. Запинаясь, остановился и тяжело оперся на копье, переводя взгляд с одного на другого. — Это еще что? Лисовин Уотти повернулся, чтобы помочь Агнес подняться на трясущиеся ноги, почувствовав, что она повисла на нем, как мокрая тряпка, отчего осерчал еще больше. Махнул свободной рукой в сторону Мализа, давившегося на четвереньках рвотными спазмами и хватавшего воздух ртом. — Оный попирал сию Агнес, — провозгласил Лисовин Уотти. Зная, что этот стражник по имени Андру неравнодушен к ней, он ничуть не удивился, когда тот уставился на Мализа с прищуром. — Он посмел? — сказал Андру, переводя взгляд на Агнес. — Правда? Агнес кивнула, и стражник, сощурив один глаз, свирепо поглядел вторым на Мализа, встававшего, пошатываясь, на ноги. — Ты, стало быть, — заявил он, поднимая упавший кинжал. — Мы с тобой поглядим, что Тэм… Сержант… думает о сем. — Ошибка, — ухитрился проскрежетать Мализ, ужаснувшись, что лишился голоса. «Он мне горло порвал, — в замешательстве подумал он. — Я онемею». — Истинно, — свирепо подхватил Лисовин Уотти. — Ошибка дальше некуда. В ближний раз она будет для тебя последней. Утихомирив его, Андру подтолкнул Мализа тупым концом копья, вынудив двинуться вперед на заплетающихся ногах. Лисовин Уотти повел Агнес, тяжело опирающуюся на его руку, обратно к кухне. — Псаренок! — окликнул он, но того и след простыл.* * *
День у Псаренка явно не задался. Он понял это, улепетывая в слепой панике от пришельца и не сомневаясь, что слышит шарканье подошв преследователя. Перебежав весь замковый двор, обнаружил, что направляется к единственному знакомому укрытию — псарне. И понял, что совершил оплошность, когда, выскочив из-за угла мазанки, увидел поднятые любопытные лица псарных отроков, выносивших грязную солому во двор. Остановившись, Пряженик и Червяк выпрямились. — Кровь Христова, — воскликнул Червяк, смачно высморкавшись, — да никак то соколий докучала, чересчур благородный для нашего брата. Псаренок увидел надутые губы на поросячьем лице Пряженика. Того раздражало все подряд, и Псаренок знал, что это распространяется и на него — сугубо после того, что он учинил на охоте, и за то, что Псаренка забрали из замковых псарен служить лотианскому владыке, и теперь тот валандался, присматривая всего за двумя псами, что вовсе и не за труд. Пряженик уверовал, что выбрать-то должны были его, но Псаренок каким-то образом подстроил его низвержение. — Чего тебе надобно? — спросил он с любопытством, чуть пересилившим злость, но все равно не забыв подпустить насмешку. В последнее время он только и делал, что насмехался. Псаренок прикусил язык. Их вид остудил его панику, как ушат воды, и он вдруг сообразил, что чужак пропал из виду и уж наверняка не гонится за ним. — Н… н… ничего, — впав взамешательство и смутившись, в конце концов пролепетал он. — Н… н… ничего, — передразнил Пряженик писклявым голоском и недобро хихикнул. — Небось соколов ищешь. Червяк при этом загоготал; к ним подоспели несколько других, и насмешливая ухмылка Пряженика отразилась на лицах зрителей. Псаренок помалкивал, зная характер Пряженика, и ждал с тяжестью предчувствия неминуемого, желая убраться отсюда и не в силах шелохнуться. — Ну? Отвечать будешь, какашка? «Что отвечать-то? Я тебе дал ответ», — хотелось сказать Псаренку, но он лишь поджал губы в ниточку и промолчал в тошнотворном предвосхищении предстоящего. — Говно блядское, — сплюнул Пряженик. Выражение ему понравилось, и он повторил его, смакуя звучание. Червяк засмеялся. Засмеялись все. Псаренок попытался поддержать, и Пряженик, набычившись, подступил ближе. — Думаешь, смешно, да? — прорычал он, давая Псаренку крепкую затрещину. Удар был болезненный, но Псаренок даже не пискнул, только полупригнулся. Пряженик, взбудораженный первым разом, замахнулся снова, разыгрывая действо, знакомое до тютельки, с шагами, расписанными, как в любом танце, и Псаренок знал их назубок. Он даст еще пару плюх, не получив отпора, потом прыгнет на него, пригнет его к земле, саданет под дых, а потом будет топтать, пока наглядно не докажет свое превосходство среди псарей. Так было всегда. Только не на этот раз. Второй удар Пряженика угодил в пустоту, а живот наткнулся на твердый орех кулака, выбивший из него дух. Потом босая нога Псаренка двинула ему в пах, прошив жгучей болью. Псаренок почти не сознавал, что творит. Ему хотелось прыгнуть на Пряженика и измолотить его в кровавое месиво, но когда тот с воем повалился на перепачканную собачьими испражнениями солому и забился, сжимая мошонку руками, нервы у Псаренка сдали. Он повернулся бежать, и остальная шайка налетела на него, повалив наземь. Воцарилась неразбериха. В клубах пыли замельтешили кулаки и рычащие лица, зазвенели проклятья и ругань. Потом последовала серия резких хлопков и воплей, и рев более низкого голоса, пока Псаренок, свернувшийся истерзанным, окровавленным клубком, не почувствовал, как его вздергивают на ноги пред нахмуренные очи Малка, пока остальные потирали следы кнута, которым он их охаживал. Псаренок утер кровоточащий нос. Скверный день. Навряд ли будет другой день хуже этого, и так уже хуже некуда. Но он решил пересмотреть это мнение во мраке арки проездной башни, где факел бросал алые отсветы на лицо берне Филиппа. И когда тот изобразил на нем улыбку, Псаренку она показалась такой же, как у одного из чертей, куролесящих на стенах церкви в ближнем городке. Рядом Пряженик застонал. — Забирайтесь, — приказал берке, и Псаренок сглотнул. Черный квадрат, из которого легонько тянуло могильной сыростью, вел в колодец подъемного моста — черное устье, где находился противовес и гигантские вертлюги, дожидающиеся смазки. Ощутив дрожь Пряженика, Псаренок и сам затрясся; им надо спуститься в колодец с горшком вонючего сала и факелом и там, в могильном мраке, усердно размазать сало по вертлюгам. Такое хитроумное наказание измыслил берне Филипп, а Псаренок ввек не осмелился бы указать, что сюда полномочия доезжачего не простираются. — Огня факела хватит на час, — поведал Филипп все с той же ехидной ухмылкой. — За это время я и вернусь — минута туда-сюда. Пекитесь о сказанном светоче, либо останетесь в темноте. Они уставились в колодец; его сырые, холодные миазмы тянулись к ним, будто ведьмины космы, лестница из дерева и вервия покачивалась, спускаясь во мрак; сев на край, Псаренок осторожно развернулся и скользнул вниз. Ему дали горшок с салом, а потом дрожащий, всхлипывающий Пряженик ахнулся рядом с ним, и им бросили факел. Люк захлопнулся, отрезав последний свет солнца, призрачной пестрядью просачивающийся в арку проездной башни. И они остались одни с факелом, пляшущими тенями и громадным барабаном противовеса моста, удерживаемого на месте деревянными опорами, просунутыми сквозь стены с обеих сторон. — Йсусе, Йсусе, Йсусе… — бормотал Пряженик. Псаренок поглядел на свою немезиду, на сморщенное лицо и грязные дорожки слез на щеках, а потом вручил ему одну из двух плоских деревяшек. Ни слова не говоря, с сухими глазами, дрожа, направился к ступеням, вскарабкался к одному из двух громадных вертлюгов и принялся нашлепывать на него сало. И сам не верил, что боялся покинуть Дуглас; теперь ему не терпелось поскорее распроститься и с этим местом, и со всеми его обитателями.* * *
Потирая горло, Мализ молча ярился. Томас Сержант — всего-навсего старый, покрытый шрамами воин, ничуть не выше рангом, чем сам Мализ, однако же вышагивал перед ним, как какой-нибудь титулованный граф, читая нотации, и в конце концов выставил Мализа за ворота замка. Насупившись мрачнее тучи, тот забрал своего коня, стараясь не тревожиться о возможности встречи с Лисовином Уотти, хоть и видел неясные серые силуэты дирхаундов в глубине конюшни. И тут его осенило. Выйдя, он немного поискал и нашел то, что хотел, — горшок с потрохами, брошенный удравшим крысенышем. Мухи отыскали его содержимое, но больше никто, и Мализ сгреб все это обратно в горшок, надев рукавицы, потом выудил стеклянный пузырек, откупорил его, вылил половину содержимого внутрь и потряс горшок, чтобы все перемешалось. Вернувшись обратно в конюшню, он осторожно подошел поближе к собакам, чмокая губами. Положил горшок, попятился и смотрел, как ближняя легавая, учуяв запах, встала, потянула передние ноги, потом задние и затрусила в направлении соблазнительного запаха, цокая по камням. Вторая увязалась следом. Усмехнувшись, Мализ забрал коня. Стоя у окна в эркере наверху, сержант Томас смотрел, как эта бьюкенская тварь крадется со своим конем к проездной башне. Вот Бог, а вот порог, подумал он про себя, покачивая головой. И как это он пробрался? Пристыженный Андру думал, что, наверное, потому, что притворник Крозье признал в нем одного из людей графа Бьюкенского и не видел резона не пущать. — Раны Христовы, — изрек Томас, провожая Мализа взглядом. — А уж казалось, что год сулит добрые урожаи и мир… А наш государь снова с англичанами на ножах, и его враги повсюду. Когда государыня впустила Брюса в святая святых Смелого Дугласа, это стало для Томаса моментом сокрушительного отчаяния, но чего ж еще ждать от женщины, даже не догадывающейся, что это означает… Да ей и дела не было, подумал он. Коли уж на то пошло, Томас ожидал лучшего от государя Сьентклера из Лотиана с суровым взором, благословенного добрыми людьми, но потом другой Сьентклер, Храмовник, никак не менее, встал на сторону Брюса, и, разумеется, тогда сей высокий и могучий род и не подумал о Дугласе, только о себе. И будто в довершение издевательства граф Бьюкенский прибыл к вратам недолго спустя, дабы обнаружить Брюса на зубчатых стенах каменной проездной башни, расстаравшегося, чтобы его сюркот с красными шевронами бросался в глаза. Это было еще хуже, потому что Комин и Брюс ненавидят друг друга, да притом ни тот, ни другой, насколько известно Томасу, не поддерживают дело его господина — сэра Уильяма. Он стоял рядом с графом Каррикским и владыкой Хердманстонским сэром Хэлом, глядя на спокойных всадников на забрызганных грязью лошадях, вооруженных, добродетельных и желающих войти. Брюс, припомнил Томас, выглядел юным и избалованным — будто ему года два, а не двадцать два, — и Томаса на минутку скрутила озабоченность, как это граф Каррикский справится с сим делом. На деревянных стенах было еще двое других — зловещая тень Брюса, именем Киркпатрик, кивнувший великану по прозванию Сим. Сказанному довольно было лишь вдеть носок стоптанного сапога в стремя своего громадного арбалета и, не трудясь упирать приклад в живот, грубой силой оттянуть толстую тетиву, со щелчком вставшую на место. Томас подивился сему свершению, но до смерти боялся того, что могло воспоследовать. Он помнил бледность обращенных кверху лиц всадников, обрамленных бацинетами, кольчужными капюшонами и шишаками, их большие шлемы с прорезями, засунутые под мышки, и щиты, нарочито выставленные вперед. — Откройте именем короля! — крикнул один, чуть подтолкнув свою забрызганную грязью лошадь вперед. Дэйви Сивард, припомнил Томас, и Джон Инчмартинский позади него — вообще-то целый выводок Инчмартинов. — И какого же это будет короля? — спросил Брюс. — Иоанна Баллиола, именем коего вы напали на меня и моего отца в Карлайле в прошлом году? Или Эдуарда Английского, в армии коего вы должны пребывать? Должен указать, что я здесь потому, что сэр Уильям Дуглас также уклоняется от сей армии, и король Эдуард более чем недоволен. Что предрешало участь Дугласа, по мнению Томаса, воспылавшего негодованием. Но прежде чем он успел хоть слово молвить в защиту своего господина, легкий, беззаботный голос разнесся, будто дым благовоний. — Да не дрожащий ли крест я зрю? Не юный ли сие Хэл Сьентклер Хердманстонский? — вопросил граф Бьюкенский. Томас вспомнил, как лотианский владыка бессознательно коснулся этого иззубренного креста на груди — высокомерного символа, знаменующего связь с тамплиерами и аллюзию на Святой Грааль, будто только Сьентклерам ведом его секрет, кроме самого Иисуса. — Сэр Уильям Рослинский тоже здесь, — ответствовал лотианский владыка, и Томас понял, что сделал он это намеренно, в чаянии, что упоминание о Древлем Храмовнике может чуток разрядить ситуацию. Тихонько вздохнув, Бьюкен тряхнул головой, так что свежий ветер всколыхнул мокрые от пота волосы. — Что ж, вот оно как, — ответил он. — Сами богоизбранные Сьентклеры вкупе с самим юным Карриком — все слетелись сюда, дабы наказать ничтожную женщину и ея ничтожных детей. Вот во что мы втянуты, Брюс. Последовал лаконичный холодный обмен репликами, помнилось Томасу, но более для поддержания реноме, нежели подвергая обоюдные намерения сомнению. Бьюкен представил свою грамоту от короля Эдуарда, дозволяющую ему отправиться домой, дабы сдержать смутьянов сэра Эндрю Мори. Брюс крайне неспешно изучил сказанную, дозволив Бьюкену обсосать тот факт, что у него не более шестидесяти кавалеристов — слишком мало, дабы взять замок, по самые крепостные зубцы набитый каррикскими людьми. Некоторые стали терять терпение, и Сим углядел сие, за что Томас был оному благодарен, осерчав на себя за утрату бдительности. — Да никак сие ты, Джиннетов Дэйви? — окликнул Сим дружелюбным голосом, и воин с арбалетом в одной руке и поводьями в другой виновато задрал голову. — Твой папаша в Биггаре был бы вкрай посрамлен, узрев тебя в подобной компании, — укорил Сим, — да еще метящим исподтишка другому в спину. Коли ты поревнуеши, я пригвозжу твои пехи к вые и свержу тебя с комоня, коего ты оседлал. Эти слова особенно запомнились Томасу из-за подслушанной реплики Брюса, шепотом высказанной лотианскому владыке. — Я лишь смутно догадываюсь, что он сказал, но сантименты вроде бы правильные. Томас снова подивился этому. Великий граф Каррикский, наследник Брюсов Аннандейлских, говорящий на придворном французском, южноанглийском и гэльском — благодаря своей матушке, — едва разумеет английскому, произнесенному добрым скоттом. Однако же врата Дугласа отверзли, и Томас, чувствуя тлеющее негодование оттого, что командование отобрали у него вот так запросто, будто он и не в счет, вынужден был смотреть на суматоху в замковом дворе, зазвеневшем от криков, фырканья и ржания лошадей. Брюс выступил вперед, пламенея алым шевроном на сюркоте, словно кровавым мазком, широко распахнув объятья неуклюже спешившемуся Бьюкену, чтобы обняться с ним, будто со старым другом. Что ж, теперь они все удалились, и государыня со чады при Брюсе, подумал Томас. Бедные души, да попещися Господь, чтобы они попали, куда обещал Брюс, — к Смелому в Эрвин. Попали они туда, нет ли, оказались ли во власти Брюса, примкнул ли граф к патриотам или англичанам, выиграл сэр Уильям Смелый или проиграл — Томас поклялся, что больше крепость Дуглас не падет столь легко. Обернувшись к Андру, он укоризненно нацелил на оного указующий перст и провозгласил: — С сего момента Дуглас в состоянии войны, человече. Я желаю, дабы оный лотианец с его псы удалились отсель нимало не медля; мне дела несть, подвергнет ли сие их опасности. Я не верю челяди ни единого лотианского владыки и не желаю, абы какие-либо лотианцы дожидались возвращения сюда Сьентклеров, выплутовавших английский мир в Эрвине и ищущих себе выгоды. Андру, не считавший, что Сьентклеры переменили камзол, хотел было вступиться за них, указав, что изначально они не побоялись изрядного риска, придя оборонить замок. Он открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег, но слова как-то не складывались. Томас хмуро поглядел в спину ретирующегося Мализа Белльжамба, а после развернулся к Андру, как спущенный с поводка терьер. — И едва сия мерзостная свинья будет по ту сторону рва, врата замкнуть, мост поднять и опускать только по моему слову. Обернулся, чтобы поглядеть сквозь прорезь окна высоко в квадратной громаде цитадели. — Когда Смелый воротится, — пробормотал он под нос, — то найдет сей замок готовым к войне. Андру, видя, что Тэм принял решение, поспешил исполнить приказ.* * *
Когда мост задрожал, Псаренок замер, а потом поглядел на догорающий факел. Пряженик захныкал, и только тогда Псаренок понял, что означает эта дрожь. Оба услышали скрежещущий удар, а потом не столько увидели, сколько ощутили, как лебедки вытягивают опоры. Потом массивный противовес качнулся, и Пряженик, испустив стон, бросил свой горшок и устремился к веревочной лестнице, локтем пихнув Псаренка в слякоть на дне колодца. Наверху Пряженик толкнул не шелохнувшийся люк, а потом с криком замолотил по нему кулаками. Противовес — громадный барабан на манер скатанного великанского одеяла — медленно качнулся вниз, увлекая тяги, невидимые балки, прикрепленные цепями к мосту через ров, поднимающие его. Заверещав, Пряженик сверзился с лестницы с руками, окровавленными от ударов по дереву. — Ложись! — заорал Псаренок. — Брюхом наземь! Обтесанный гранит прошел над Псаренком — исполинский круглый груз, движущийся с тяжеловесной неспешностью, в то же время куда стремительнее, нежели прежде, благодаря свежей смазке. Псаренок ощутил, как груз задел его, будто великан ущипнул пальцами за спину. И вцепился в Пряженика. Перед Псаренком промелькнуло перекошенное лицо, красный зев рта, вытаращенные глаза, исказившиеся, когда до него вдруг дошло, что он чересчур крупный, что костлявый недомерок, которого он всегда презирал за худосочность, может проскользнуть под катящимся грузом, а он — нет. Подхватив Пряженика, груз понес его назад, к дальней стене, и Псаренок, прикрывший голову руками, услышал хруст ломающихся костей и последний, отчаянный вопль в холодной тьме.Храмовый мост, Анник Уотер Отряд Апостолов на земле, июль 1297 года Дождь с шелестением капал с колокола над их головами в арке мокро поблескивающего деревянного моста. Хэл знал, что колокол наречен «Глория», сиречь «слава», потому что Куцехвостый Хоб всем об этом возгласил, с прищуром вглядевшись сквозь сеющуюся мгу, чтобы прочесть выгравированное на колоколе имя, и гордясь своим умением узнавать буквы, хотя ему и пришлось немало потрудиться, складывая из них слово. Чтобы позвонить в колокол, надо было дернуть за белую веревку, сейчас усыпанную бусинками сбегающих дождевых капель, предупреждая Бедных Рыцарей Храма Тон, что путники пришли с миром, ища помощи или убежища. Хэлу отчаянно хотелось оказаться в крохотном храме, подальше от мороси, мелкой, как мука ручного помола, до нитки промочившей людей, сгрудившихся на мосту, в ожидании наблюдающих за всадниками на дальней стороне. Его собственные люди сняли свои стеганые поддоспешники, отказавшись от защиты ради подвижности; промокшие одеяния стали тяжелее доспехов. Правый башмак они засунули за пояс либо повязали на шею, ибо правая стопа упорная и должна цепляться за вымешенную в слякоть землю изо всех сил. Левой же, продвигаемой вперед, нужна толика защиты, и хотя кожа башмака не спасет от пореза или мозжащего копыта, она все равно обеспечивает хоть какой-то комфорт. Копыт Хэл не ожидал. Его промокшие люди сплотились, ощетинившись пиками, клинками и жуткими крючьями, и он предполагал, что английские кавалеристы — serjeants[585] в пристойных доспехах — спешатся и будут атаковать по мосту пешком. Ему хотелось, чтобы они не стали этого делать, чтобы попытались взять с наскока и потерпели поражение. Еще больше ему хотелось, чтобы они просто уехали, рассуждая, как разумные люди, что в любой день — в любой момент — они все станут друзьями, скотты снова заживут в мире с королем и все будет ладно. Более того, ему хотелось, чтобы Джону Агнцу, где бы он ни был, хватило ума не пытаться вывести угнанный скот из мокрого леса и повести через мост, дабы примкнуть к ним. Это стало бы как раз той провокацией, которой англичанам и недостает. Но отдаленное мычание несчастной коровы поставило крест на его последнем уповании. Сим подобрался к нему, роняя ржавые капли с полей своего железного шлема, с арбалетом, завернутым в плащ в попытке не дать тетиве отсыреть и ослабнуть. — Джон Агнец, — проговорил он, и Хэл кивнул. Он видел, как английский капитан встрепенулся, вытянув шею и насторожив уши при том самом тоскливом мычании, и понял с бесповоротной уверенностью, что теперь их обоих закружит эта свистопляска, неизбежно влекущая кровь и резню во имя чести, из чувства долга, ради доблести и от отчаяния. И все из-за горстки угнанных говяд для голодного воинства, дожидающегося, когда его начальноводители скрепят свои договоры. Хэл поглядел на его щит с шестью безногими птичками — три поверх диагонального штриха, три под ним. «Сребро, перевязь межи шестью мартлетами, червлень», — автоматически отметил он про себя и улыбнулся. Столько дней саднящих костяшек, сердито сдвинутых бровей, когда отец вколачивал в него геральдику, — «нет-нет, дуралей, птица, обращенная к тебе, есть полный аспект; любая другая тварь, расположенная подобным образом, — это анфас. Повтори, анфас»… Впрочем, никакого проку, ибо он по-прежнему не представлял, кто этот человек по ту сторону и англичанин ли он вообще. Ясно только одно: ласточки говорят, что он четвертый сын, а еще то, что через минуту они будут пытаться расчленить друг друга острыми железными полосами.
* * *
Ферневаль сидел, изображая надменную осанку, как мог, а дождь сбегал с его бацинета вниз под кольчугу; стеганый ватный поддоспешник напитался влагой и весил раза в четыре больше, чем обычно. Та же беда и у его людей: они ощутят тяжесть, сковывающую по рукам и ногам, когда придется спешиться и сражаться в них, не считая кольчуг, тяжелых щитов и пик — слишком уж длинных, чтобы сыграть роль удобных копий. Пока же он следил за внезапно оживившейся, будто потревоженный муравейник, группкой под аркой колокола на мосту. Ряды воинов у него за спиной зашевелились, ссутулившись так, что над длинными щитами виднелись только их железные шлемы с полями. Да еще пики. А дальше за ними, знал Ферневаль, на опушке находится Уильям де Ридр с еще бо́льшим числом воинов, внимательно следящий за тем, что здесь творится. Ферневаль ощутил всколыхнувшееся в груди пламя гордости и ликования оттого, что именно его избрали продемонстрировать мощь рода Перси на глазах у его собственного государя — де Ридра. Они долго гнались за этими фуражирами по полям, и Ферневаль даже питал некоторое сочувствие к их отчаянным воровским вылазкам — как ни малы силы скоттов в Аннике, они все равно нуждаются в фураже и мясе — и некоторое восхищение перед их сноровкой. Быстрые ездоки, поднаторевшие в гуртовке малорослых коров, думал он про себя, значит, не новички в подобных кражах, так что во имя справедливости, несмотря на перемирие, не следует дозволять им чинить подобные грабежи как вздумается. В конце концов, пока не провозглашено обратное, они мятежники и просто шайка разбойников. Теперь, узрев их собственными глазами, Ферневаль укрепился во мнении по поводу второго и усомнился по поводу первого. Они ждали в дальнем конце узкого моста через задушенную растительностью речушку с крутыми берегами под названием Анникуотер, понимая, что это их лучший шанс удержать оборону. Умный и решительный шаг; оружие у них вроде алебард, только опаснее, так что Ферневаль ощутил укол сомнения — острую стрелку, вонзившуюся в сердце осколком льда. Разумный человек отпустил бы их вместе с подводой краденой ржи и пшеницы и горсткой скота, но де Ридр не намерен возвращаться к Перси с признанием, что шесть десятков конных сержантов спасовали перед кучкой обтерханных шотландских пехотинцев. Разумный человек не стал бы пытаться выступать верхом против частокола пик, а спешился бы и двинулся пешим строем, и хотя бы это Ферневаль все же сделает; в Данбаре он видел, на что способна ощетинившаяся пиками пехота. Ему сюда хоть бы несколько арбалетов, пробивших бреши в кольцах скоттов под Данбаром… Вот де Ридр прислал бы ему весточку, приказывающую отойти без боя… Он понимал, что ни то, ни другое не сбудется, но все ждал под шелестящим дождем, не теряя надежды. Потом на опушке показалась первая корова, остальные за ней, а за ними — люди на своих изнуренных лошадках, бредущих враскорячку, как медведи, и это предрешило всеобщую участь. На глазах у Хэла всадник поднял руку и опустил поверх бацинета большой горшковый шлем, в мгновение ока став безличным металлическим существом. Ферневаль поправил хватку своего щита с птицами, дунул, чтобы убедиться, что крестообразные дыхательные отверстия не забились, и пожалел, что нос у него великоват, потому что лицевой щиток шлема буквально расквасил его. Хэл увидел, как он похлопал по шлему, чтобы лучше сел, и вытащил свой длинный меч; потом рявкнул что-то, и люди позади него принялись слезать с лошадей. — Ах ты, стропотный окаянный лотыга, — услышал Хэл собственный усталый голос. Уповать, что они будут достаточно глупы, чтобы атаковать верхом, было чересчур. — Здыньте говядо, дураки окаянные! — прошипел Сим, ни к кому в частности не обращаясь, но даже если б он проорал это во всю глотку, ни Джон Агнец, ни Денд не услыхали бы. И даже если б услыхали, то не послушались бы, ибо подгоняли и гуртовали эту скудную горстку черных коров уже много миль и, глядя на замызганную зеленью задницу скотины, видели жареную говядину, смачно истекающую жиром. И все же это погибель для них, и всем это известно. Всадник с шестью алыми ласточками взмахнул мечом, будто полосой света, резко опустил — и орда позади него, исторгнув из глоток хриплый рев, хлынула на мост. — Держитесь, робяты! — гаркнул Сим, сдергивая плащ и ставя ногу в стремя арбалета. Взвел ее, не прибегая к поясному крюку, и поднял его к груди. — Dirige, Domine, Deus meus in conspecto tuo viam meam… Хэл уставился на перекрестившегося Куцехвостого Хоба. «Направи путь мой, Господи, пред взор Свой», — он и не знал, что Хоб и ему подобные знают английский, не то что латынь. Жизнь полна сюрпризов, даже сейчас. — Хвала Христу! — взревел Сим. — Во веки веков, — проревели ему в ответ. — Матерь Божья, — выдохнул Уилл Эллиот, и Хэл увидел колышущуюся стену щитов, копий и шлемов, несущуюся по деревянному мосту, а Джон Агнец и Денд свернули, направляясь к берегу и соскакивая с коней; скотина бросилась врассыпную, жалобно мыча. А еще в этот миг, отпечатавшийся в памяти пламенным тавром, увидел, как всадник в своем громадном шлеме и со щитом с птичками отворачивается от моста и спин своих людей, увидел напружиненные боковые мышцы могучей бестии, когда тот пришпорил коня в сторону Джона и Денда. — Сим! — крикнул Хэл, указав направление. Чертыхнувшись, Сим нацелил арбалет и выстрелил; болт просвистел мимо крупа лошади, и стрелок недовольно взвыл, лихорадочно взводя оружие снова. Ферневаль настиг удирающего Денда, продиравшегося сквозь путаницу кустов и подлеска. Тот услышал, как сырой топот позади приближается, и его ной взмыл до крика. — Прыгай, Денд, прыгай! Услышав это, Денд краем глаза углядел, что Джон Агнец скачет, как тварь, в честь коей прозван, кувыркаясь в воздухе в мельтешении мокрых рук и ног, ударившихся о черную рябь воды, вздымая ее брызгами. Ему оставался всего шаг. Еще шаг, прыжок — и пылающие легкие… Чуть извернув меч легким движением запястья, Ферневаль отвел его назад и выбросил вперед-вверх. Последняя треть клинка врезалась в затылок Денда, взорвавшийся черной кровью и осколками. Тело сделало еще два-три неверных шага, а потом упало, покатившись кубарем, свалилось на берег и наконец плавно сползло в воду. Ферневаль взял коня под уздцы, зная, что удар был безупречным, и уповая, что де Ридр глядел. Подняв руку, он стащил шлем. Ощутил потным лицом прохладное дуновение сырого ветра, а затем полуобернулся в седле, с трудом вертя шеей из-за кольчуги, чтобы посмотреть, как дела у его людей. Он услышал рев, будто среди коров затесался бык, — а затем второй болт громогласного воплощения ярости по имени Сим угодил прямо в центр его обрамленного бацинетом лица, свистнув черной громадой, в мгновение ока выпустившей ему дух и сбив с коня через грандиозную круговерть жемчужного неба и мокрых папоротников во тьму. Победный рев Сима потонул в бряцании людской волны шириной в четыре человека и будто бы бесконечной длины, докатившейся до частокола бердышей и с грохотом врезавшейся в него, так что тот покачнулся и немного отъехал, прежде чем его остановила опора множества босых правых стоп. Ряды наступающих бездумно, будто неразумная тварь, все громоздились, напирая, и передние, не в силах шелохнуться, могли лишь помавать своими слишком длинными пиками. Куцехвостый Хоб и Хэл кололи и рубили. Уилл Эллиот и Том Красный Плащ полосовали и рвали крючьями, а Сим натягивал свой арбалет, стреляя у них между головами в стиснутые ряды, не рискуя промахнуться. Люди кричали; накал проклятий взмывал, и четверо передних, стиснутых до потери сознания, утратив власть над собственными конечностями, вдруг скрылись, будто утопнув в трясине. Вперед прогромыхали еще четверо; деревянная арка треснула и покачнулась. Древко у Тома Красного Плаща переломилось, и он, с проклятьем отшвырнув его, выхватил дирк. Парировал удар, грозивший пронзить его, но прозевал следующий, пришедшийся ему в горло, и повалился, булькая и давясь собственной кровью. Хэл с воплем метнулся к извивающемуся в корчах захлебывающемуся телу Тома, не обращая внимания на вслепую тычущие наконечники пик. Громадная фигура двинулась вперед, словно бредя через быстрый поток глубиной по пояс, и один из наступающих отлетел назад с арбалетным болтом в лице. Хэл ощутил, как могучая рука увлекает его прочь, и вдруг увидел насупленные брови Сима. — Досыть того, жопа стебелья, — прорычал тот. — Ваш отец осерчает, коли я дам вам быть убиту тут досмерти. — Не треперти, — выдавил Хэл и ухмыльнулся, устыдившись собственной глупости и осознав, что Красный Плащ скончался, как только ему пропороли горло. — Есмь ведец, и подобная доблесть для нашего брата — лапь и напрость. Арка накренилась, и колокол звякнул. Их беседу прервали возгласы, крики и рычание, и Сим, бросив арбалет, выхватил меч с побуревшим от времени клинком, иззубренным, как волчья пасть, с острием, отточенным настолько, чтобы пройти сквозь прорези большого бочкообразного шлема. — Сьентклер! — взревел он и сделал выпад достаточно длинный, чтобы уколоть и рубануть, прежде чем потерять равновесие в слякоти и снова отступить. — Колокол, — сказал Хэл, услышав его звяканье от раскачивания арки. Англичане своей массой потеснили шотландцев, босые ноги которых пропахивали в грязи глубокие борозды; они оказались уже у самой обозной телеги, почти за пределами узкой части моста. Как только этот рубеж будет пройден, англичане развернутся вправо и влево, одолев числом. Те уже чуяли победу, и воины в задних рядах, неустанно напирая, запели, а передние, в давке неспособные даже вздохнуть, потеряли сознание и свалились под ноги следующего ряда. Хэл воспринимал море шлемов и рыков, циклопическую щетку пик как колоссального свирепого ежа, пытающегося втиснуться под арку, — а потом ощутил жгучую боль в икре, припал на колено и почувствовал, что валится навзничь от шального удара пики. Лежа на мокрой, пахнущей свежей пахотой земле, как поля окрест Хердманстона, увидел лес напружиненных ног и медленно отскакивающие щепки кренящейся арки. Потом колокол упал, сокрушив передние ряды наступающих английских пикинеров, своим зычным, гулким звоном поглотив их вопли. Последовала пауза, заполненная угасающими в коловращении мыслей и дождя отголосками звона. Хэл, оглохший и оглушенный, как остальные, почувствовал, как его влекут назад и вверх. Поглядел, разинув рот, в попытке разобраться в свистопляске криков и гибели людей, пока все хлынули прочь от места, где рухнул колокол. «Gloria», — увидел Хэл и рассмеялся, как угрюмый волк, ибо понял, что увидел Куцехвостый Хоб: «Gloria In Excelsis Deo»[586]. Теперь слова, любовно выведенные вдоль края медленно покачивающегося колокола, были подчеркнуты финифтью ручейков крови и размозженных костей. — Deus lo vult! Это услышали все и обернулись, страшась худшего. Позади них объявился всадник в кольчуге от макушки до пят, с ярким, как кровь, остроконечным крестом тамплиеров на развевающейся белой хламиде, струящейся за ним, как снежный ветер, столь же грациозно, как холщовая чистота конского барда. За ним следовала горстка пеших воинов — мрачными тенями в своих черных рубахах и штанах и тронутых ржавчиной поддоспешниках цвета каши. Их железные шлемы с полями были покрашены в черный цвет, с белым венцом и черным крестом Христовым спереди. — Deus lo vult! — прокричал рыцарь. Слова сдавленно, глухо забились внутри большущего бочкообразного шлема с плоским верхом. Он прогрохотал мимо Хэла и его столпа Сима среди бросившихся врассыпную людей, стремительно вращая запястьем, так что зажатый в бронированной рукавице элегантный молот из блестящей стали с рифленой головкой и острием на другом конце сверкал, как лед. Скалящиеся щепой обломки и колокол почти не задержали исполинского боевого коня, грациозно перескочившего первые и обогнувшего второй; раненый вскрикнул, когда железное копыто размозжило его голени, остальные старались расползтись с пути деликатно ступающего зверя. Ряды на мосту раскололись, как упавшее зеркало. Они повернулись и бросились бежать, и рыцарь налетел на них, а горстка приведенных им людей бросилась в атаку с разинутыми алыми ртами и лицами, искаженными в свирепом ликовании. Тела полетели через перила моста в речку, другие рухнули на расколотые доски и были сокрушены железными копытами, и все это время дуга молота просверкивала справа налево и обратно, и с каждым взмахом голова лопалась, как яйцо. Deus lo vult — «Бог желает сего». Крик со времен падения Иерусалима, мешанина из вульгарной латыни, французского и итальянского, лингва-франка, языка, на котором изъяснялись те, кто хотел быть понятым во время крестового похода. — Сэр Уильям, — изумленно проронил Хэл. — Будь благословенна его кудрявая древняя храмовникова башка, — пробормотал Сим, и они переглянулись, понурив головы и опустив ладони на колени. Уилл Эллиот блевал, а Том был мертв; Денд перевернулся и всплыл в реке, как раздувшаяся овца, а Джон Агнец, мокрый до нитки, выбирался на берег с другой стороны. Жалобно мычала корова. — В теле доселе, стало быть, — вымолвил Сим, а Хэл смог лишь кивнуть. Все еще живы. Бог пожелал сего. Они чуть не рассмеялись, но громадный белый рыцарь появился вновь на коне, деликатно перескочившем через обломки и кровь, сунув большой шлем под мышку закованной в доспехи руки, и отдал им салют окровавленным серебристым молотом. Его белоснежные одежды и бард коня были забрызганы алым, так что даже маленький крест у него на сердце казался кровавой кляксой; лицо, обрамленное кольчужным чепцом и стальным бацинетом, яркое от крови, как его крест, и блестящее от пота. — Разумею, — заметил он небрежно, будто говорил о погоде, — что коли поторопитесь, то возмощете сгуртовать толику их говяда и перегнать через мост. Разумею, храмовники Тона заслужили для себя целую краву. И его алое, исходящее паром седобородое лицо расплылось в улыбке. — Уне не стояти, аки вода в гати, — добавил сэр Уильям Сьентклер, — ибо, по моему разумению, сии лавы боле не удержать. — Тут я на вашей стороне, сэр Уилл, — провозгласил Сим и отправился за обозной лошадью. Хэл стоял на подкашивающихся ногах, глядя снизу вверх на рыцаря-храмовника. — Ко времени, — объявил он и осел. — Более чем ко времени… — Ах, — отозвался сэр Уильям, и в его голосе явственно прозвучала тревога, что Хэл вот-вот падет духом, — я бы отведал говядины. Говядина, думал Хэл, глядя, как люди наводят порядок, пробираясь через наваленные трупы по залитым кровью бревнам, выуживая в склизкой грязи чем можно поживиться. А им-то всего лишь нужно было чего-нибудь поесть, что он и сказал вслух. — Ave Maria, gratia plena[587], — радостно возгласил Сим, заводя пятящуюся лошадь между оглоблями телеги. — И да поможет нам Господь Бог, когда дело обернется всерьез. Они оставили залитое кровью тело Тома Красного Плаща, дабы его погребли в храме Тон, чьи тихие воины-монахи с мрачными лицами занялись благородным делом, набожно собирая, обмывая и погребая англичан, с коими столь недавно воевали. Все, особливо Джон Агнец, с болью сознавали, что Денда унесло далеко вниз по течению Анника, но немного утешились уверениями, что его разыщут и похоронят как надлежит. — Вас ждет уйма бедствий за то, что повели Храм против короля Эдуарда, — сказал Хэл сэру Уильяму и магистру — человеку в черной сутане и мягкой шапочке монаха, с суровым взглядом, намекавшим на то, что совсем недавно он орал благим матом, помавая копьем. — Мы обороняли наш Храм, — изрек магистр. — Перейдя мост, вы ступили на землю прецептории, вверившись нашему гостеприимству, так что никто не посмеет винить кого бы то ни было, кроме себя, за нападение на пребывающих под защитой ордена. Магистр с кротким голосом и серо-стальной мягкой бородой преклонил голову перед сэром Уильямом. — По счастью, сие было в присутствии Гонфалоньера, — произнес он, и Хэл услышал в его голосе благоговение перед присутствием одного из хоругвеносцев ордена. — Я пришлю деньги за спасение души Тома, — неловко вымолвил он, но магистр покачал головой. — Нет нужды. Мы правомочны изымать имущество убиенных, хотя и ограничиваем сие оружием и направой, так что личные вещи сих бедных душ могут быть возвращены. Равно как и тело их предводителя — сэра Джона Ферневаля, не так ли? Он будет возвращен со всем своим имуществом, кроме боевого коня. Магистр улыбнулся — непростое упражнение для непривычных мускулов; глаз его улыбка не коснулась. — Чтобы могли ездить двое Бедных Рыцарей[588], — добавил он, и Хэл, подумав, что это шутка, чуть не рассмеялся, но тут увидел мрачный лик сэра Уильяма с длинными усами и проглотил смешок. — Ave Maria gratia plena, — рек сэр Уильям. — Хвала Христу, — отозвался магистр, благословив обоих, когда они в один голос произнесли: «Во веки веков». — К месту сказать, — объявил Древлий Храмовник, когда они с Хэлом снова нырнули в мгу, — все сие недоразумение — аз направлялся сыскать вас, абы дать знать, же условия согласованы. — Условия? — пробормотал Хэл, слушавший лишь вполуха, глядя, как тело английского рыцаря выволакивают четыре человека, взопрев от тяжести трупа в намокшей одежде и доспехах. Лицо его превратилось в сплетение осколков кости и плоти, изящное, как кружева духовенства. — Истинно, — жизнерадостно продолжал сэр Уильям. — Брюс и остальные снова допущены в свет державы, земли не тронуты, хотя Брюсу и велено явиться в Берик, и Уишарт поручился за сказанного. Дуглас заточен, абы его жену и чад не взяше в заложники, хотя Брюс еще ретится, дозволит ли удержать свою дочурку Марджори ко ублажению короля и в залог его добронравия в грядущем. — Нахмурившись, он покачал головой. — Вполне может статься. Малица веле юна, абы впутываться в сие, так что в оспаривании сего есть толк. Хэл моргнул. Условия. — Когда? — спросил он. — Три… нет, лгу, четыре дни как, — сказал старый тамплиер, хмуро разглядывая кровавые кляксы на своих белых одеждах. Три или четыре дня назад. Эта кровавая баня была бессмысленна; война окончена. — Истинно, что ж, — проговорил сэр Уильям, когда Хэл сплюнул это, как желчь, — не вполне, юный Хэл. Уоллес не предвчинен и опаляет слух англичан от Брихина до Данди и дале. Шайки всадников учиняют поскоки из холмов и лесов, по две-три долгих сотни[589] враз. Слезают со своих кляч и с радением берутся за луп. Луп Хэлу был известен достаточно хорошо: он и сам не раз принимал участие в этих стремительных, горячечных набегах ради грабежей и добычи, но теперь, похоже, армия, вставшая за благое дело, чинит урон как раз тем людям, которых должна оборонять. — Сие есть истинная война, — сказал Древлий Храмовник, ухватив Хэла за локоть и развернув, чтобы заглянуть ему в лицо своими водянисто-голубыми глазами, и подергивая седой бородой, как белка хвостом. — Кровавая война, Хэл. Забудь свои представления о рыцарстве — Уоллес творит то, что мы творихом в Святой Земли супротив язычников; их испепеляеши, Хэл. Не оставляеши им ничего, а после, когда они тяжко дышат, свесяше языки, аки распаленные волки, затянувши пояса до самого хребта, налетаеши и втаптываеши их во прах. — Вы проиграли, — свирепо отрезал Хэл, и сэр Уильям заморгал. — К нашему стыду и вечному поношению. Лучшие средь заморского воинства быша не в меру высоки и благородны, а сарацины полны коварства, — скорбно отвечал он. — Однако еще будет другой крестовый поход, попомни меня. — Но до той поры есть здесь — и есть Уоллес. — Хэл сказал это вслух, и сэр Уильям стрельнул глазами из-под заснеженной стрехи бровей. — Аз есмь Храмовник, — благочестиво ответствовал он с кривой ханжеской усмешкой, — и посему не могу вмешиватися. — Помоги нам Боже, коли он всерьез, — заметил Сим. Хэл покачал головой. Дело зашло уже слишком далеко, и хотя выторговать обратно земли и благодать удалось, он отнюдь не испытывал уверенности, что камни осыпи уже утвердились на своих местах.Анникуотер Праздник Святого Свитуна, июль 1297 года Костры были невелики, но несли желанное тепло долгим сотням шотландцев, сгрудившихся в примитивных шалашах, мокро поблескивавших в косом дожде. В угасающем свете летнего дня, почти не побалованного солнцем, сумерки несли холод, и люди жались вместе, скорбно и долготерпеливо дожидаясь времени, когда можно будет разойтись по домам следом за владыками, наконец-то договорившимися о мире. Куцехвостый Хоб был более взбешен, нежели скорбен, ибо трупы, обобранные им позавчера, обвели его вокруг пальца. — Окаянные блядские отродья, все как один, — в который раз пробормотал он литанию, теперь заставлявшую окружающих еще больше ссутулиться, будто дождь усилился. — Окаянные крокарды да полларды. Хэл и Сим переглянулись с кривыми усмешками. Скоро Симу придется перекинуться парой ласковых слов с Куцехвостым, пока тот не допек кого-нибудь до живого, но трудно было не испытывать толику сочувствия к человеку, заполучившему лишь крокарды да полларды, — обесценившиеся иностранные монеты, наводнившие теперь страну благодаря английским реформам десятилетие назад. Серебристые, они выглядели как английские деньги из стерлингового серебра, пока не глянешь на них поближе. Это было лишней щепоткой соли на рану мук из-за позавчерашней гибели Денда и Тома Красного Плаща, и благодарность изголодавшихся людей за говядину служила лишь слабым утешением. Армия, если можно ее так назвать, теперь состояла только из людей Каррика, потому что остальные дворяне собрали свои войска и разошлись разными дорожками, пообещав наведаться в то или иное место, находящееся во власти англичан, и привести своих сыновей, дочерей или жен в качестве залога своего благочинного поведения в будущем. Дугласовы люди потянулись домой, раздосадованные и взбешенные, когда Смелого забрали у них на глазах. Это было скверно уже само по себе, подумал Хэл, но лицезревшие это поведали, что Перси настоял на кандалах и Смелого, пинавшегося и рычавшего, заковали в железы; зрелище было не из приятных. Даже Уишарт удалился, оставив Брюса препираться по поводу последних тягостных деталей с Перси, уже отославшим на юг — королю Эдуарду и своему деду де Варенну — триумфальные реляции, что с крамолой покончено. Однако войска Клиффорда ощупью продвигались на север в безуспешных попытках прижать Уоллеса к ногтю. Хэл решил, что тоже уйдет. «Завтра, — сказал он себе. — Довольно с меня света державы — пусть себе лягают друг друга шпорами, как кочеты, дерущиеся за навозную кучу…» — Сорок окаянных ден, — горестно возгласил Куцехвостый, наконец внеся в свои причитания новую нотку, заставившую некоторые головы подняться. — Сорок ден? — переспросил Джон Агнец. — Это столько продержатся оные крокарды и полларды, прежде чем обратиться в пыльцу фей? Окружающие, чаявшие больше не слышать о содержимом глухо позвякивающего кошеля Хоба ни слова, испустили единодушный стон. — Дождь, — едко огрызнулся Куцехвостый. — Коль на Святого Свитуна польет, то сорок ден еще дождливых ждет, — нараспев процитировал он. — Мощи Христовы, — Красный Рябинник поскреб голову цвета осенних папоротников, — да ты полна чаша скисшей каши, человече. — Ну, не без того, — кисло отозвался Куцехвостый. — Я думал про Лисовина Уотти, в тепле, сытости и сухости пялящего жаркую гузку малышки Агнес до отвала. Я питал некие упования на эту мокрощелку, ежели нас безвременно не порвут на части. — Человече, человече, — восхитился Уилл Эллиот. — Безвременно… это точь-в-точь как в оном предании об Рыцаре и Фее. Знаете, где Рыцарь… — О Боже, кто украсил драгоценную смерть моего святейшегоОтца, Святого Бенедикта, премногими и превеликими привилегиями, — возгласил зычный голос на добром английском, заставив все головы повернуться в сторону, где двигалась серебристо-серая фигура. — Даруй, молим мы Тебя, дабы при нашем отбытии из сих мест могли мы оборониться от силок вражеских благословенным присутствием Того, Чью память мы почитаем. Чрез Господа нашего Христа. Аминь. — Аминь, — пробормотали все, осеняя себя крестным знамением. — Хвала Христу, — подал реплику Сим. — Во веки веков, — откликнулись все. Присев у костра на корточки, монах вынул руки из рукавов своей грубой серо-белой рясы. Свет костра обратил его мертвенно-бледное лицо в изрезанную тенями маску смерти. — У нас есть мясо, — предложил Хэл, и монах раздвинул бороду улыбкой, продемонстрировав зубы. — Нынче постный день, сын мой. Я пришел предложить благословение и наставление. — Благословение будет желанным, — настороженно ответил Хэл, опасаясь проповеди за осквернение постного дня; роскошный аромат жареной говядины предательски разносился окрест. Монах тихонько рассмеялся из недр своего капюшона. — Наставление таково: стражу в дозоре несет Фергюс Жук, — произнес он. — Не острейшее из орудий Божиих, но честный и усердный. Однако боюсь, что с посетителями, прибывшими на его пост, он как рыба на берегу. Способен понять лишь то, что упомянуто ваше имя. Снова спрятав руки в рукава, он двинулся прочь, будто проплыв между людьми, смиренно крестившимися и пытавшимися спрятать мозговые косточки. Вздохнув, Хэл встал, поглядел на Сима, и они вдвоем направились искать Фергюса, стоящего в сторожевом дозоре. Тот внимательно смотрел на стоящую перед ним компанию, особенно на всадника с лицом, как полная луна, и повадками семени неких маститых чресел. Фергюс, как и любой выходец с севера, недолюбливал всех рожденных к югу от Нагорий, одевавшихся чудно́ и говоривших так, что честному человеку и не понять. А еще дальше к югу, знал он, есть люди, едва ли заслуживающие сего звания, мягкотелый надушенный народ, завивающий волосы и лопочущий на сущей тарабарщине. Хэл и Сим, подъехавшие к дозору сзади, увидели кучку кернов и низкорослого темного человечка, выглядевшего еще темнее от черной волчьей шапки и шкуры, накинутой поверх доспехов, слаженных из обрывков кольчуги и кожи, украденных у мертвых врагов. Черная дубленая кожаная куртка придавала ему сходство с каким-то жуком, только-только выбравшимся из лесного перегноя, но никто не высказал бы этого вслух; всем была известна убийственная репутация Фергюса и его людей, пришедших с северных Нагорий со всеми вытекающими отсюда причудами. — Благоже, — твердил Фергюс надменному всаднику, — сие иде отлико. Абы се глаголал на людстем языце с самого покона, обы отпровадил нас обох от сего сорома. Да уж вразуми тосетьне, тироватиши там, доколе аз не пущу тебе. Всадник в кольчужной рубахе и чепце взметнул руки, так что капли влаги разлетелись от пальцев в зеленых перчатках во все стороны, и смачно выругался по-французски. — Я сэр Жервез де ля Мар. Ты что, вообще не понимаешь по-человечески? — И тебе оратую благословение тагошовых небеси, — насупился Фергюс в ответ. — Вколо блудит много проходней, так будь безволненен либо, врекаюсь струпами Божиими, аз… — Фергюс, — окликнул Хэл, и темный человек, отпрянув, обернулся, и его загорелое дочерна лицо расплылось в настороженной улыбке. — Вашество, — поприветствовал он; большего почтения с его стороны и вообразить было нельзя, а потом презрительно дернул головой в сторону всадника. — Сей оный со несведа други всхопивши нос, иноплошь багрец и порфир. Бажают взыскати вас где ни то. — Вы в состоянии понять сего болвана? — требовательно вопросил всадник. — Слава Богу! Я ищу некоего Хэла Хердманстонского и буду премного обязан, если вы… он… кто-нибудь сыщет оного. — Я сэр Генри Сьентклер Хердманстонский, — объявил Хэл. Жервез моргнул раз-другой из-под капюшона своего дорожного плаща. — Вы… — начал было он. В этот момент из тени позади выехал другой всадник, заставивший его умолкнуть, положив ладонь ему на руку. Хэл поглядел на новоприбывшего, скромно облаченного в коричневые и зеленые одежды, но из качественной материи. У того было длинное лицо с большими, кроткими тюленьими глазами, казавшееся еще длиннее из-за длинных обвисших усов, а подшлемник придавал ему сходство с прачкой. — Я сэр Мармадьюк Твенг, — объявил он, и Хэл ощутил, как брови его полезли на лоб. Этот человек, сказал он себе, совсем не похож на наипервейшего из рыцарей христианского света. Пожалуй, скорбящий морж, но никак не сэр Галахад. — Мне надобно было благополучно доставить двух человек, — продолжал сэр Мармадьюк с тусклой улыбкой; дождевые капли сбегали по его усам, капая с кончиков. — Сэр Жервез гордится своим владением иностранными языками, но здесь он, похоже, встретил достойного противника. — Сиречь не есте шотландские робяты, — насмешливо бросил Сим, что было с его стороны уже перебором, потому что даже он едва понимал, что говорит Фергюс, а уж Хэл частенько и вовсе терял нить. Жервез, мокрый и нахохлившийся, горделиво выпрямился и задрал нос еще выше, чтобы свысока поглядеть на Сима, не выказавшего дворянину должного уважения присовокуплением «мой государь» и почтительного поклона. — Я говорю по-испански со своей женой, по-латыни со своим Богом, по-французски со своим королем, по-английски со своей любовницей и по-немецки со своим конем, — провозгласил Жервез, а потом чуть подался вперед и изобразил на лице скверную ухмылку. — По-шотландски я говорю, только когда мне надо накричать на свою собаку. — Доставьте своих посетителей, сэр Мармадьюк, — перебил Хэл, чувствуя, что Сим рвется вперед, с трудом удерживаемый дланью и повелением Хэла. — Христом Богом! — рявкнул Сим. — Только пустите меня к сему криволапому жалкому… — Стоять! — хрипло осадил его Хэл, и тот уступил, дыша, как бык во время гона. Хэл обернулся к Твенгу, скорбный лик коего не изменился ни на миг. — Заберите своего ничтожного пситакоса, прежде чем его ощиплют. — К вам только один посетитель, — кротко отозвался сэр Мармадьюк, и по взмаху его руки вперед выехал иноходец с коротышкой на спине, сгорбившимся и мокрым до нитки. — Сие есть таковой Бартоломью Биссет, — поведал сэр Мармадьюк. — Прибыл без предупреждения и без грамоты английского письма; твердит, что направляется к вам, и никому более. Даже не к графу Каррикскому, речет, к каковому следует другое лицо под моей опекой. Биссет? Хэлу это имя показалось знакомым, но он не мог припомнить ни его, ни мокрого, жалкого, безмолвного толстячка на коне. А потом из тени выступил могучий жеребец, знакомый Хэлу довольно хорошо, и сердце у него подскочило при виде второго лица, опекаемого сэром Мармадьюком. На Балиусе, укутавшись в темный плащ, сидела Изабелла, графиня Бьюкенская, одарившая Хэла изнуренной улыбкой.
* * *
Брюс находился вместе с Киркпатриком в его пышном шатре. Красно-белая мокрая парусина разила старой плесенью, мокрой шерстью и перепревшим по́том. Повсюду были разбросаны штаны, сапоги, кольчужные chausse[590], и оруженосец лихорадочно надраивал хорошие кожаные сапоги, чтобы не осталось пятен от воды. — Комин выступил, — сказал Брюс Киркпатрику, и больше ничего добавлять не требовалось. Государя Баденохского, родственника Бьюкена, явно отрядили на север от фландрской армии Эдуарда для помощи в подавлении восстания Мори. Хотя всю эту ветвь рода прозвали Красными Коминами за цвета их герба, государя Баденохского окрестили Джоном Черным в качестве угрюмой насмешки и над его нравом, и над его безжалостностью. Его возвращение в Шотландию означало, что все впавшие в немилость и лишенные собственности враги Брюсов восстановлены в правах, и Киркпатрик буквально слышал скрежет зубовный Роберта. Хорошо, думал он, что все мы направляемся в Лочмабен, иначе Брюс спотыкался бы о свою нижнюю губу на каждом шагу. Снаружи послышался шум, и стражник сунул свою мокрую голову внутрь. — Рыцарь, мой государь. Сэр Мармадьюк Твенг… Брюс подскочил на ноги, прежде чем тот успел ступить сквозь полог на мокрые доски. — Сэр Эмм! — гаркнул. — Сэр Р! — с ухмылкой откликнулся Твенг. Это прозвучало почти как sirra, то бишь «братец», что было шуткой уже само по себе, и оба зарычали, как радостные пляшущие медведи, пустившись обниматься и хлопать друг друга по спинам. — Боже мой, как славно вас видеть! — воскликнул Брюс. — Когда ж это мы виделись в последний раз? — На празднике эпинет[591], — ответил Твенг. — На турнире в Лилле четыре года назад. Вы устроили фокус, представ перед рыцарем при полном вооружении верхом на иноходце и подзадоривая его достать вас. Чудесная демонстрация искусства конной езды, но тогда вы были юны и безрассудны. Кроме того, в тот год в Лилле они только и знали, что французский метод. — Ха! — расхохотался Брюс в ответ. — Германский метод завсегда его побьет. Киркпатрик сидел тихо, и если полнейшее игнорирование его и задело, то не выдал этого ни черточкой. На самом деле он настолько привык к тому, что его не замечают, что пытался припомнить суть французского и германского методов, — и улыбнулся, когда вспомнил. Турнирный стиль боя французским методом требует обучения боевого коня двигаться на полном скаку, чтобы повергнуть противника наземь чистой мощью разгона коня и всадника. Германский же подразумевает использование проворства куда более легкого коня, чтобы уклониться от такого наскока, развернуться и добраться до противника, прежде чем тот успеет собраться для новой атаки. Приняв вино, поднесенное ему оруженосцем, Твенг сел, отодвинув груду одежды. Нарочито поглядел на улыбающегося Киркпатрика, и Брюс взмахнул рукой. — Мой человек, Киркпатрик Клоузбернский, — провозгласил он. — Киркпатрик, сие есть сэр Мармадьюк Твенг Килтонский. Родственник… двоюродный свояк, так, что ли? Более того, друг по ристалищу. — Мой государь, — мягко, с коротким поклоном произнес Киркпатрик, — ваша репутация вас опережает. Кивнув, Твенг пригубил вина, а на лице Киркпатрика не отразилось ровным счетом ничего. Он не просто безземельный рыцарь-бакалавр и домочадец, подумал Твенг, разглядывая его. Но меньше, чем друг. — Что привело вас из Йоркшира, сэр Эмм? — поинтересовался Брюс. — Я доставил вам поклон от вашего отца из Карлайла, — сообщил сэр Мармадьюк. Лицо у Брюса вытянулось, но он сумел холодно кивнуть в знак признательности. Твенг отхлебнул вина, больше не обмолвившись ни словом на эту тему, хотя мог бы сказать еще многое: Брюс-отец плевался и взрыкивал, как мокрый кот, и суть сводилась к тому, что его сын натворил такое, на что он сам ввек не осмелился бы. Юный Брюс впервые действовал в делах королевства по собственному почину, но, понимал Твенг, отнюдь не в последний. — Отсель я направляюсь в Берик, — сообщил Мармадьюк, искоса поглядев на Брюса. — Эдуард не дурак. Он ни в коей мере не верит заверениям Перси, что на севере все благополучно, хотя для виду представляет, будто поверил, чтобы иметь возможность повести свое войско во Фландрию для войны с французами. Однако он в тычки погнал графа Суррейского из его поместья, дабы тот с другой армией отправился добить этого Уоллеса. Осмелюсь сказать, что шотландцы не в восторге от старика, жалующегося на ломоту в костях, когда он отправляется на север, но теперь идти ему все-таки придется, и казначей Крессингем с нетерпением дожидается его в Роксбурге. Ормсби находится в Берике, расписывая всем, кто слушает, как он сражался подобно льву, дабы вырваться из тисков мерзопакостного Уоллеса в Скуне. — Несомненно, рассказ полон чудес, — иронично заметил Киркпатрик. — Я слыхал, он удрал через окно, — улыбнулся сэр Мармадьюк, и тот утвердительно кивнул. Твенг рассмеялся, покачивая своей длинной головой. — Значит, волки собираются в стаю, — сумрачно проговорил Брюс. Нет твари более ненасытной, нежели сам Эдуард, и его колдовское хмарево неуклонно, безжалостно тянется на север, окутывая его мрачной пеленой. Длинноногого, подумал Брюс, не порадует, что эти шотландцы торчат чирьем на шее его королевства и никто его не вскроет. Его истинные интересы простираются во Францию — а если правду сказать, то куда дальше, в Святую Землю. И все же он стар, а подобный норов пагубен для старика… — А как английский Юстиниан в последнее время? Все так же холеричен? Сэр Мармадьюк улыбнулся над новым прозвищем короля Эдуарда, язвительно шуточным лишь отчасти, ведь он попирает законы страны, создавая и перекраивая их на свой лад. Да только, не сомневался Твенг, он и в подметки не годится римскому императору, сотворившему легендарный кодекс. — Желчен, — дипломатично ответил рыцарь. — Как легко догадаться, история с шерстью наделала ему проблем, но он хоть не обесценил серебряную монету до всех этих иноземных крокардов и поллардов. Хотя бы сие решение было добрым. Погладив бороду, нуждающуюся в стрижке, заметил Твенг, Брюс в раздумьях надул губы. История с шерстью — конфискация всей шерсти, произведенной страной, под обещание заплатить за нее впоследствии — посеяла в Шотландии крайний раздор, главным образом потому, что именно Крессингем в качестве казначея повелел шотландцам подчиниться, и никто не верил его посулам грядущих платежей, а уж тем паче ручательствам Эдуарда. Прибыль от нее пожрали войска для бесчисленных войн, в которые впутал Англию король Эдуард, и его собственные бароны уже подустали от этого. Уишарт подгадал момент почти правильно, сообразил Брюс. — Иудейские деньги на исходе, — задумчиво произнес он, и Твенг кивнул. Не так давно английских евреев всем скопом выдворили из страны, и Корона изъяла все их имущество — опять-таки пожранное армиями. — Ну, хотя бы вы вернули себе любящую милость английского Юстиниана, — заявил Твенг, — тем подтвердив, что уж не столь безрассудны, как юноша, с коим я обменялся ударами копья в Лилле. — Именно так, — ответил Брюс, и Киркпатрик заметил, как он чуть прищурился, ощутив повеявший от сэра Мармадьюка холодок. Докатившись, тот обдал леденящим морозом. — Я также доставил с визитом некое лицо, — продолжал Твенг, смакуя вино, — спрашивавшее именно о вас. И прежде чем оно навестит вас, позвольте еще раз поздравить вас с достижением зрелости мужа, оставившего неукротимого, бесшабашного отрока позади. Теперь у Киркпатрика даже волоски на руках зашевелились, а на нижнюю губу Брюса можно было чашу ставить. — Обеспечьте же этому лицу правильное обхождение, — провозгласил Твенг, подаваясь вперед и понижая голос. — Разумный курс. Вы поймете, каков он. Рыцарь встал, небрежно швырнув опустевшую чару заполошно подхватившемуся сквайру, и высунул голову из шатра. А когда втянул ее обратно, вошла Изабелла. Она вошла, откинув капюшон, явивший взору медную канитель ее волос, от влаги завившихся еще более тугими колечками, с глазами яркими и круглыми, синими, как небо, и горящими, подумал Брюс с лихорадкой вожделения. И, как всегда, ошибся. Хоть она и промокла до нитки, а долгая поездка на Балиусе измотала ее до мозга костей, все это ничуть не поколебало надежду, сиявшую в ее взоре. Зато его лицо сокрушило вдребезги. Изабелла увидела, как он моргнул, и за миг перед тем, как Брюс расплылся в широкой доброжелательной улыбке, по лицу его промелькнули досада и раздражение, преследуя друг друга, как сокол и цапля. Конечно, надежда была тщетной, как она и ведала в глубине души. Любовь их не была глубока, и все же Изабелла рассчитывала на более теплую встречу. Он не защитит ее в своих объятьях, в своем замке вдали от Бьюкена, и бремя этого сознания обрушилось на нее. Она попытала судьбу по пути обратно домой, понимая, что об убежище в Балмулло, вероятно, можно забыть, что ее заточат в какой-нибудь уединенной цитадели до поры, когда будут сделаны приуготовления, дабы заточить ее в более святом и менее комфортабельном месте. Мучительные воспоминания об ушибах и злобной похоти Бьюкена лишь подстегнули побег; а уж возможность улизнуть от наводящего ужас склизкого Мализа сделала затею более сладостной. И все это вотще: Брюс не поможет. И, сокрушенная этим сознанием, Изабелла кляла себя за то, что поддалась на эту глупость. Было ведь в ее жизни подобное — пожилой рыцарь, а за ним юный конюх; теперь она не помнила даже их имен. Помнила лишь сладостную муку, старательные ухищрения оказаться в том же уголке мира в то же время, что они. Чудо улыбки, прикосновение кончиков пальцев, вселявшее трепет, липкая мазь в горшке, драгоценная уж тем, что к ней прикасались его пальцы… Изабелла помнила, что считала подобные нежные секреты своими собственными, хранимыми только для себя из-за одного лишь факта — когда отец убит, а остальной родне до нее и дела нет, это было узенькой тропочкой сквозь тернии к смутному обещанию отдаленного сада. Только ее старая нянька подмечала все это, и правда всплыла позже — слишком поздно, когда Тротти лежала, медленно испуская дух вместе с ее последними секретами. А потом был дружный смех над тем, что удивляло и повергало ее няньку в недоумение, что у ее подопечной, должно быть, очень скверные надкопытья, коли ей надобен такой здоровенный горшок вонючего притирания. Причиненная себе этим боль, неразделимая с удовольствием, была игрой. Нужно страдать ровно настолько, сколько требуется, а обещание чего-то реального, до чего пальцем подать, по мере приближения становилось все менее невинным. И когда дошло до утраты невинности, Изабелла знала, что к чему, и распростилась, думала она, с любовными глупостями. До Брюса. Пока не осмелилась понадеяться на отдаленное обещание цветущего сада. Но едва ступила под солнце этой улыбки, как ощутила, что надежда развеялась, как туман на холодном ветру, и привалилась к нему всем телом, так что ему это показалось флиртом… Поверх ее головы Брюс поглядел на длинное скорбное лицо Твенга и сразу понял, что имел в виду рыцарь: Изабеллу надо вернуть мужу, без шума и суматохи. Было время, когда Изабелла помогла ему исцелиться после утраты жены, матери Марджори, и восторг оттого, что удалось завалить ее в постель и наставить рога врагу, кружил голову. Теперь же первое пресытило, а второе, как намекнул Мармадьюк, слишком рискованно в трудные времена. Он кивнул, и Твенг ответил тем же. Изабелла почувствовала движение его подбородка у нее над головой — и чуть не разрыдалась.* * *
— То была она самая, никак иначе? — проворчал Сим, скукожившись под уголком плаща над головой, с которого капли сбегали, как яркие бусины. Рядом с ним храпел изнемогший Бартоломью Биссет, и было яснее ясного, что, пока он не выспится, проку от него никакого. Теперь Хэл и Сим знали, кто он такой, потому что это Биссет сумел выложить заплетающимся от усталости языком: писец и письмоводитель Ормсби, тот самый, кого Уоллес поклялся сыскать, кто скрепил своей подписью документы касательно смерти каменщика. Хэл почти забыл об этом деле, и прибытие Биссета немало изумило его по целому ряду причин: взять хотя бы то, что он был отправлен в путь с грамотой от Уоллеса, обещав в обмен на жизнь предоставить свой рассказ в распоряжение сэра Генри Сьентклера Хердманстонского. Когда же сказанный сэр Генри будет удовлетворен и разрешит его от обязательств, письмоводитель Биссет волен идти, куда ему вздумается. — Мне велено говорить только с вами, и ни с кем более, даже с Брюсом, — поведал мокрый до нитки толстый коротышка, покачиваясь от усталости. — Молю вас, дайте мне поспать, прежде чем приступать с расспросами. Сим был поражен, но Хэл проникся немалым восхищением — и перед неколебимой верой Уоллеса в некоторых людей, и перед тем, что похожий на бочонок с салом писаришка, который мог попросту удрать, выказал более рыцарской чести, чем любой из аристократов, неделями лаявшихся здесь, как барышники на ярмарке. — То была она самая, никак иначе, — повторил Сим, таща прочь Хэла, разглядывавшего спящего Биссета. Хэл промолчал. Это была она. Снова сбежала и явилась прямехонько к Брюсу. Эта мысль отозвалась резкой болью, и он яростно отогнал ее. Глупо, думал Хэл, воздыхать по любодейке графа. Это лишь то, что предрекал местный священник, старик Барнабус: время залечило рану супружеской утраты и разбудило его чресла. Сгодилась бы любая девка в рубахе наизнанку, как повелевает закон блудницам, свирепо думал он, в то время как занозой застрявшая мысль об Изабелле, графине Бьюкен, с мокрыми волосами цвета осеннего папоротника, закрученными, как его усики, с усталыми голубыми глазами и теплой улыбкой на лице делает это промозглое место еще более несносным. Она да тихонько похрапывающий Биссет — еще заноза в сердце Хэла, потому что точь-в-точь такие же звуки издавал во сне малыш Джон. Что ж, теперь его сын спит, не издавая ни звука. Вечным сном… «Господи, — свирепо подумал он, — да что же может быть хуже?» — Сэр Хэл, сэр Хэл! Оклик заставил их повернуть головы, и оба в изумлении воззрились на пару, подталкиваемую из тьмы чопорно напыжившимся сэром Жервезом. — Еще тявкающие собачонки, — изрек рыцарь, разворачивая коня и направляясь прочь. Хэл воззрился на Лисовина Уотти. Псаренок жался к нему в тени, как щепка, скукожившись от дождя. — Мощи Христовы! — гаркнул Уотти. — Аки же десно вас зреть! Нипочем не домекнете, что содеялось… (обратно)Глава 5
Роксбургский замок Праздник Преображения Господня, август 1297 года Стон; покрывало зашевелилось. Ральф де Одингеззелес настороженно ждал с рубахой в руках, оценивая настрой и расположение, прежде чем ступить вперед к полусонному господину, под хруст соломы и перьевого матраса перекатившемуся, чтобы сесть, моргая, на край коробчатой кровати с пологом. Ральф переместился к накрытому кувшину с теплой водой, налил ее в таз и поднес его вперед. Деликатно протянул хозяину золоченый горшок, скрывшийся под ночной рубашкой; послышалось журчание. Ральф терпеливо стоял, держа таз, полотенце на одном предплечье и чистую рубаху на другом; хозяин покряхтел, испустил стон и приподнял одну ягодицу, чтобы пискляво пустить ветры. Зевнув, Хью Крессингем вернул ночной горшок Ральфу, смочил водой из таза лицо и коротко стриженную голову, а потом утер брылястые щеки протянутым полотенцем. Медленно встал и заморгал навстречу новому дню. Ральф де Одингеззелес наблюдал за ним — бесстрастно, но осторожно: Крессингем невысок, заплыл жиром, глаза выпучены, как у рыбы, а щеки покрыты щетиной, потому что из-за чувствительной кожи стирать бороду пемзой слишком болезненно, а отращивать бороду — чересчур колко. Да и модной прически он избегал — длиной до шеи, подвитой, как у Ральфа; для поддержания видимости, что получает жалованье пребендария не зря, Крессингем напускал на себя вид монаха, хоть и без тонзуры, в результате чего прическа смахивала на перевернутое птичье гнездо. В своей помятой белой ночной сорочке он казался сущей размазней, каша кашей, но Ральф де Одингеззелес знал, какой крутой норов тлеет в груди этого человека, снедаемого гордыней и завистью. К моменту, когда Крессингем облачился в рубаху, штаны и камзол, расшитый лебедями — пока не зарегистрированными, — якобы его герба, вся прискорбная неразбериха жизни снова обрушилась на него, и Ральф де Одингеззелес, подошедший с gardecorps[592], стал еще осторожнее. Опыт научил его, что гро́зы, сбегающиеся на челе Крессингема, обычно кончаются саднящим ухом — таков удел оруженосца, как он открыл для себя. С другой стороны, это лучше, чем другая альтернатива для сына бедного дворянина. Единственный предмет гордости Ральфа де Одингеззелеса заключался в том, что он состоит в родстве с архидиаконом, а его дед был известным рыцарем ристалищ, однажды побитым до измятого металла сводным братом французского короля сэром Уильямом де Валенсом. Со временем Ральфа произведут в рыцари, и ему больше не придется сносить побои, не смея дать сдачи. Эта мысль заставила его забыться и улыбнуться. Крессингем кисло поглядел на ухмыляющегося оруженосца, держащего gardecorps. Элегантное одеяние было окрашено в новый оттенок синего, так восхитивший французского короля, что тот сделал его своим цветом. Недипломатично, подумал Крессингем, делая мысленную пометку ни в коем случае не надевать его в присутствии Длинноногого. Ему не очень-то хотелось надевать gardecorps, и, правду сказать, он вообще ненавидел это одеяние как раз по причине, вынуждавшей его носить: он толст и скрывает это. Крессингем понимал, что в том отнюдь не его вина, ведь он более распорядитель, нежели воин, но за расчеты да подсчеты в рыцари не посвящают, с горечью подумал он, несмотря на восторги короля и любовь людей, знающих дело. Как всегда, был момент дикого торжества по поводу достигнутого, хоть он и не один из этих безмозглых головорезов с копьями: казначей Шотландии, пусть даже эта проклятая Богом страна, сущий сосуд для мочи, — пост, приносящий не только могущество, но и несметную прибыль. Неизменно за этим ликованием последовала вспышка безмерного ужаса, что король может проведать, какую именно прибыль; Крессингем зажмурился при воспоминании о высоченном, как башня, Эдуарде Плантагенете, об обвисших веках, придающих ему зловещий вид, о его негромком шепелявом голосе и громадных, длиннющих ручищах. Он содрогнулся. Будто гротескная обезьяноподобная химера, изваянная высоко под соборным карнизом, но столь же непредсказуемо лют, как настоящие обезьяны. И отвесил Ральфу де Одингеззелесу оплеуху за это — за ухмылку, за приспущенные веки Эдуарда и за этого инфернального разбойника Уоллеса, а еще за то, что придется дожидаться в этом тлетворном местечке прибытия де Варенна, графа Суррейского. И еще оплеуху с другой стороны за само прибытие де Варенна — хромого старого козла, сетующего на холод, ломоту и на то, что пытался удалиться в свои поместья, ибо слишком стар для походов. Последнее Крессингем не оспаривал и снова стукнул Ральфа за то, что де Варенну не хватило приличия помереть по пути с армией на север, оставив Крессингему лучшую комнату в Роксбурге, с камином и клересторием. Но хуже всего, конечно, неразбериха, которую сие посеет, и издержки. Боже, издержки… Эдуард взовьется, увидев цифры, это уж наверняка, и пожелает, чтобы его собственные клерки-борзописцы с перепачканными чернилами пальцами покорпели над свитками. И уж Бог ведает, что они могут раскопать, а при мысли о том, что после предпримет король, Крессингем едва не опростался в штаны. Ральф де Одингеззелес, сдерживаясь, чтобы не потереть уши, подошел к сундуку в углу и достал пояс с кинжалом, кошель и ключи — символ пожалованного Крессингему звания казначея, призванный мгновенно понуждать к почтению. Подобно большинству таких установлений, сие прячет истину за пеленами, будто статуи Царицы Небесной в Богородичные праздники; всякому известно, что скотты кличут Крессингема не иначе как «Козночей», и вовсе не надобно знать сей варварский диалект, чтобы понять, что «Козночей» — поносный обыгрыш его титула. И все же он самый могущественный человек в Шотландии — просто потому, что держит в руках тесемки кошеля, протянутого ему сейчас Ральфом. Тот помог застегнуть пояс, потом поправил руки господина в рукавах длинного свободного gardecorps; Крессингем утешал себя фактом, что хотя бы его gardecorps выглядит изысканно. Ни крикливых цветов, ни золотых фестонов по краю, ни длинных прорезей по бокам, ни трехфутовых стол. Простой черный, с рыжей оторочкой из vair[593] вокруг рукавов и шеи, как причитается лицу неподкупному и достойному. — Ныне разговеюсь, — сказал Крессингем, и Ральф де Одингеззелес, кивнув, отступил на шаг и поклонился. — Сенешаль здесь. Брат Якобус також. Насупившись, Крессингем проглотил богохульство: да неужто нельзя встать и немножко поесть? Он взмахом отослал пажа за едой, велев ему впустить сенешаля, после чего в задумчивости остановился у закрытого ставнями окна, глядя через щелки вместо того, чтобы впустить сквозняк: холод стоит даже в августе. За окном текла река, сверкая, как ртуть, и Крессингем полюбовался Тевиотом с одной стороны и Твидом с другой, благодаря чему замок будто плыл по морю этаким каменным пряником в виде ладьи. Роксбург — могучая крепость с толстыми стенами, четырьмя башнями и церковью за стенами. Комната Крессингема находится в углу главной цитадели с видом на внутренний двор замка, благодаря чему снабжена пристойным витражным окном, а не бойницами со ставнями, выходящими наружу. Другие стороны его комнаты прилегают к коридору, так что в них вообще никаких окон, отчего в ней все время царит сумрак. Уже не в первый раз Крессингем вспомнил о залитой светом верхней комнате башни и ее великолепных плиточных полах, где расквартировался де Варенн. Деликатный кашель заставил его обернуться. Сенешаль Фрикско де Фьенн, облаченный в сдержанные коричнево-зеленые одеяния, стоял перед ним в терпеливом ожидании. — Хвала Христу, — произнес он, и Крессингем, крякнув, автоматически отозвался: — Во веки веков. Какие важности всплыли в столь ранний час? Фрикско провел на ногах уже несколько часов, а более простой люд замка — еще часы сверх того. Для Фрикско пролетело полдня, и он уже разобрался с большинством проблем замка: куховару нужны были соль и специи на день, сытник предупреждал, что запасы эля на исходе, а легкого пива и того меньше. Другие проблемы, решения которых он не имел, были куда хуже: припасы для 10 тысяч человек, уже цедящихся через Берик, направляясь сюда, строевой лес для работников, возводящих леса у Тевиотовой стены для мелкого ремонта, люди для изготовления копий, арбалетных болтов и луков. Где взять зерно для хлеба, фураж для животных и подстилки для лошадей и борзых? — Мир не стоит на месте, казначей, — отвечал он. По праву ему следовало бы именовать Крессингема «государем», но это было бы уж чересчур для высокородного Фрикско де Фьенна, приходящегося братом здешнему хранителю. Однако Фрикско не отличался ни храбростью, ни умом. Ему следовало бы податься в духовенство, но он слишком уж любил женщин, чтобы снести хоть малейшие ущемления его распутства, налагаемые саном, — при одной лишь мысли о роскошной Мэтти из таверны Мердоха в городке у него так набрякло в паху, что он чуть не перегнулся пополам в полной уверенности, что это бросается в глаза. Сенешальство же прямо-таки скроено под него, дозволяя пустить в ход умение считать, читать и писать по-английски, по-французски и по-латыни, а после пахать любые борозды, какие вздумается. Пока он излагал свои проблемы, Ральф де Одингеззелес вернулся с хлебом и блюдами баранины, свинины и рыбы. Оруженосец наливал разбавленное водой вино, а Фрикско стоял обок, пока Крессингем жевал и глотал, рассеянно балуясь хлебом; потом прошел к закрытому окну и наконец распахнул ставни навстречу дню. У него за спиной Ральф, пронырливый, как мышка, украдкой хватал ломтики мяса и рыбы, тотчас запихивая их за щеки, не обращая внимания на укоризненно сдвинутые брови Фрикско. Возьмем Стерлинг, одну из главных крепостей, еще удерживаемых Англией. Фрикско дотошно перечислил тамошние замковые припасы: 400 бочек пива, четыре меда, 300 сала, 200 говяжьих полутуш, свинина и языки, единственная бочка сливочного масла, по 10 бочонков солонины и селедки, 7 — трески, 24 связки колбас, два бочонка соли и 4000 сыров. — Достанет на шесть-восемь месяцев, — заключил Фрикско де Фьенн, — при условии, что гарнизон невелик. Я принял допущение, что городской люд найдет убежище внутри. — А коли не воспомоществовать городу? — осведомился Крессингем, ужаснув сенешаля одной лишь мыслью отказать страждущим Стерлинга. Таково назначение замка, одно из трех назначений, ради которых возводятся крепости. Первое — служить оплотом истребления врага, второе — воспомоществовать гостям, странникам и их предстателям, а третье — запечатлевать власть короля над окрестностями. Но Фрикско де Фьенн все равно не обмолвился о том ни словом, зная, что Стерлингу надлежало иметь припасы на два года, но попустительство и алчность подточили таковые. В конце концов, не дождавшись ответа, Крессингем махнул рукой. — Жители Стерлинга должны трудиться, коли желают защиты от крепости, — провозгласил он. — Дайте им понять, что провизией будут наделять тех, кто вызовется на службу. Фрикско усердно записал распоряжение, высунув кончик языка между зубами и жонглируя пергаментом, пером и чернильницей, висящей на шее, хоть и знал, что Крессингем поступает так лишь потому, что начальник гарнизона Стерлинга — Фитцварин, родственник графа Суррейского. Фрикско уже доставил Крессингему описи касательно самого Роксбурга, из которых следовало бы уж понять, насколько маловероятно, чтобы хоть какой-то замок в Шотландии смог полностью снарядить горожан — в Роксбурге имелось 100 железных шлемов, 17 кольчужных рубах, скроенных для верховой езды, семь пар металлических рукавиц, две пары наручей и единственный набедренник. «Какой прок от единственного доспеха для бедра? — гадал Фрикско. — И какой прок от одноногого рыцаря, коли такой и сыщется?» — Мой государь! Вернулся Ральф, объявивший, что граф Суррейский и сэр Мармадьюк Твенг пребывают в главной зале, ожидая соизволения Крессингема. К оным присоединился брат Якобус. Подспудная суть жгуче хлестнула Крессингема, и он насупился. Соизволения, где уж там! Его подмывало заставить их ждать — два охромевших боевых одра, свирепо подумал он, хоть в отношении сэра Мармадьюка это и не совсем верно, ведь он моложе де Варенна не меньше чем на десяток лет и все еще пользуется репутацией грозного воинствующего рыцаря. Ворча под нос, казначей выскочил из комнаты. Все трое сидели на скамьях высокого стола в огромном зале, затянутом голубоватой пеленой дыма от скверно разожженных каминов и пустом, не считая де Варенна, сэра Мармадьюка и брата Якобуса — капеллана Крессингема из ордена доминиканцев. Не успев еще зашаркать по каменным плитам пола вместе с семенящим следом Фрикско, Крессингем уже услышал сетования де Варенна, увидел устремленный вперед взор Твенга, положившего руки на стол с видом человека, пробивающегося сквозь снежный буран, пока брат Якобус, набожно перебирающий свои четки, слушал, будто и не слыша. — Тошнотворная страна… — говорил граф Суррейский, оборвавший на полуслове и поднявший на Крессингема свои водянистые глаза с набрякшими под ними лиловыми мешками. — А вот и вы наконец, казначей! — вскинулся он. — Вы что, намеревались весь день проспать? — Я был занят, — огрызнулся Крессингем, уязвленный его тоном. — Радел разобраться с пропитанием и снаряжением того сброда, что вы привели под видом армии. — Сброда, любезный?! Сброда… — ощетинился де Варенн. Его аккуратно подстриженная белая бородка загибалась вперед острым клином; в своем круглом подшлемнике он похож на какого-то старого сарацина, подумал Крессингем. — Добрые нобили, — увещевающим тоном вступил брат Якобус, и негромкий голос всех утихомирил. Де Варенн забормотал себе под нос, сэр Мармадьюк снова воззрился в пространство, а Крессингем чуть не улыбнулся, однако сдержал ликование из страха, что заметит священник. Народ называет орден проповедников Domini canes — Псами Господними, но лишь заглазно, ибо им даровано папское позволение проповедовать Слово Божие и искоренять ересь — полномочия весьма широкие и зловещие. Теперь этот человечек с невыразительным лицом сидел в своей снежно-белой рясе и угольно-черном cappa — плаще, заслужившем им второе прозвище — черные братья. Полированные четки из палисандрового дерева проскальзывали у него между пальцев с шелестом, подобным шепоту. Крессингем знал: Якобус, выбритый и вымытый настолько чисто, что его лицо сияло, как лепестки белой розы, использует четки в качестве нарочитого напоминания, что нынче Четверг Преображения Господня — один из дней Лучезарного Таинства. А еще знал, что те же четки так же запросто используются для подсчета и учета на службе казначея. «Коли Якобус — борзая Господа, — подумал Крессингем, — то его конура в моем ведомстве». Хотя осмотрительность и требует проверять его цепь время от времени. Бусины, с перестуком проскальзывающие сквозь гладкие пальцы монаха, внезапно напомнили Крессингему об учете. — Гасконцы, — провозгласил он с озлоблением, заставившим осевшего было де Варенна встрепенуться столь внезапно, что он не нашел слов для ответа; со свистом выдыхая воздух, граф лишь квохтал, как курица. — Три сотни арбалетов из Гаскони, — с укором повел Крессингем. — Ныне же более чем у половины арбалетов нет. — А, — отозвался де Варенн. — Телеги. Потерялись. Заблудились. Сбились с пути. — Граф Суррейский принял вполне уместное военное решение, — внезапно вступил в беседу сэр Мармадьюк, полоснув голосом обоих, — дабы облегчить тяготы марша гасконцев, погрузив их снаряжение на повозки. Как ни крути, самое малое до Берика в них нет нужды, коли только не лгут ваши донесения касательно размаха проблемы мятежа и имеется возможность напороться на этого исполинского огра Уоллеса где-нибудь под Йорком. Крессингем открыл и закрыл рот. Де Варенн каркнул короткий смешок. — Огр, — повторил он. — Мне сказывали, что ростом и ста́тью он не уступает Длинноногому, — что скажете на это вы, а, Крессингем? Велик, как король? Крессингем не отводил глаз от длиннолицего Твенга. Будто миля скверной дороги в Англии или две мили доброй в Шотландии, подумал он. — Что я скажу, государь мой граф, — отчеканил он слова, будто истекающие соком алоэ[594], — так то, что в ваших свитках значится восемь сотен конных и десять тысяч пеших. Если они так же хороши, как ваши гасконцы, мы можем уже уносить ноги из этой страны. — Снарядите их сызнова, — отрубил де Варенн, махнув рукой. — Сработайте, коли у вас в арсенале их нет. — У нас есть шестьдесят арбалетчиков только здесь, — пробормотал Фрикско. — Тогда переведите их в лучники — одни не хуже других. — У нас около пятнадцати тысяч стрел, мой государь, — смиренно доложил Фрикско, — но только сотня луков. — Так сделайте же треклятые арбалеты! — рявкнул де Варенн. — У вас есть дерево и тетивы али нет? Люди, знающие дело? Брыли Крессингема заколыхались, но Якобус деликатно кашлянул, и он захлопнул рот так, что зубы лязгнули. — С вашего дозволения, государь мой граф, — подал голос брат, — у нас маловато осетровых голов, льняной кудели и лосиных костей. Де Варенн заморгал. Он знал, что лен используется для изготовления тетивы, но не представлял, зачем в арбалете лосиные кости или, Раны Господни, осетровые головы. Об арбалетах граф ведал лишь то, что низшие сословия могут пользоваться ими без особой выучки. О чем он и проорал, к вящему удовольствию ухмыляющегося Крессингема. — Это для гнезда, — спокойно растолковал графу брат Якобус. — Осетровая голова обеспечивает некую эластичность, не присущую другим заменителям. — Да тебе-то откуда ведать, священник? — презрительно отмахнулся де Варенн. — Помимо того, что один из ваших давних Соборов его запретил. — Канон двадцать девятый Второго Латеранского собора, — надменно подсказал Крессингем. — Я понял так, — сэр Мармадьюк изогнул губы в подобии кривой усмешки, — что то был запрет токмо на глупые упражнения в стрельбе. Сбивание яблок с голов и все такое прочее. Запрет на таковое выглядит довольно разумным. — Даже будь сие полным запретом, — святошески кивнул брат Якобус, — таковой не распространялся бы на использование против неверующих — мавров или сарацинов и им подобных. К счастью, английские епископы предали шотландских крамольников отлучению, откуда следует, что мы можем употреблять сие анафемское оружие беспрепятственно. — К несчастью, — сухо откликнулся Твенг, — я уверен, что шотландские епископы отлучили нас, откуда следует, что крамольники тоже могут целить из него в нас. Папа же хранит молчание по сему поводу. Якобус поглядел на Твенга. Не спасовать перед этим взглядом, сочетающим в себе укор с фарисейским состраданием, под силу было немногим. Сэр Мармадьюк же просто поглядел на него в ответ глазами невозмутимыми и блестящими, как четки черного брата. Осетровые кости, ошарашенно подумал де Варенн. Раны Господни, вся эта затея провалится, потому что у нас недостаточно рыбьих голов. Люди и пропитание — нескончаемые проблемы, осаждающие армию с самого ее выступления. На де Варенна навалилась сокрушительная усталость; все сие безобразие с этой мерзопакостной страной — явное знамение, что Длинноногий прогневал Бога и Он обратил Свой Гнев против них. «Что важнее, — уныло подумал де Варенн, — Длинноногий прогневал подобных мне, и вскорости я в одночасье обращу свой гнев против него вкупе с другими государями, изнывающими под гнетом помазанника». И все же король — это еще не престол, каковой де Варенн, граф Суррейский, будет оборонять ценой жизни. Его дед приходился дядей самому Львиному Сердцу, его отец был Хранителем Пяти Портов, и каждый де Варенн был оплотом против врагов Господа, ибо покусившийся на престол Англии покушается на Самого Господа. Джон де Варенн, граф Суррейский, Хранитель Шотландии, будет отстаивать Его Твердыню против всего крамольного отребья на свете. Эта мысль заставила его несколько выправить осанку, несмотря на холодный сквозняк, тянувший по залу, заставляя дым клубиться и закручиваться вихрями. «Ударь на север. Найди этого Уоллеса и укороти, чтобы не высился вровень с Длинноногим, дабы король был доволен своим графом». Эта мысль заставила де Варенна хохотнуть. — Опять же, взять валлийцев, — изрек Крессингем, и де Варенн поглядел на него, вздернув губу. Будто муха, подумал, жужжит, жужжит на ухо… Разок крепко хлопнуть… — А что валлийцы? — осведомился сэр Мармадьюк, наблюдая, как Крессингем хлопотливо оправляет свое голубое одеяние — скверный выбор цвета для тучного, подумал Твенг — и августейше машет какому-то слуге в дальнем конце. Мгновение спустя через дальнюю дверь из кухни проскользнул человек, сутуло зашаркавший через зал под пристальными взглядами знати. Его черные глазавызывающе взирали в ответ с лица, темного, как у подземного гнома. Лицо как кулак, борода подстрижена до щетины, зато с большущими усищами, будто под нос заползла громадная черная гусеница. Скулы, как шишки, хмуро сросшиеся брови — типичный валлиец, подумал сэр Мармадьюк, с юга, где лучники, потому что на севере в основном пикинеры. Сказал об этом вслух, и де Варенн кивнул. Крессингем надул губы и насупился. — Поглядите на него, — трепеща, проговорил он. — Поглядите, во что он одет. Скромненько, подумал сэр Мармадьюк, — потрепанная холщовая рубаха, хранящая смутную память о красном цвете; громадная копна темных волос, будто куст, укоренившийся на камнях; ноги совершенно босы, хотя башмаки висят на шее. На одной руке кожаный наруч, лук длиной с него самого в сумке из какой-то странной кожи и мягкая сумка из нее же, висящая сбоку на поясе, а с другого бока — длинный, устрашающий нож в ножнах. В колчане на бедре у него были стрелы, аккуратно разделенные кожей, чтобы не портить оперение, и провис колчана поведал сэру Мармадьюку, что дно его выстелено сырой глиной, дабы наконечники не прошли насквозь. На могучих плечах — одно из них чуть сутулилось, словно он был горбат, — висела длинная скатка из грубой шерстяной материи, некогда рыжевато-коричневой, но теперь просто темной. — Валлийский лучник, — прокомментировал сэр Мармадьюк, — с луком, дюжиной добрых стрел и ножом. Вещь у него на плечах называется brychan, коли не заблуждаюсь. Служит и плащом, и постелью. — Что ж, вам ли не знать, само собою, — с насмешливой усмешкой промолвил Крессингем, — поскольку вы изрядную часть жизни сражались против подобных. В нынешних обстоятельствах помощи никакой, попомните меня. — Не лишено резона, казначей, — вздохнул де Варенн. Крессингем демонстративно выхватил бумагу из пальцев Фрикско. — Пункт, — изрек он, — валлийский лучник, cap-a-pied[595], с боевым луком из тиса, одной дюжиной стрел с гусиным оперением, мечом и кинжалом. И сунул бумагу обратно Фрикско. — За сие было уплачено казначейством, — триумфально провозгласил он. — И именно сего я ожидал за означенную цену. Cap-a-pied. Сиречь один железный шлем, один доспех — либо кольчуга, либо кожаная куртка, предпочтительно с заклепками. Один меч. Один тисовый лук и дюжина наилучших снарядов. Вот за что было уплачено и чего не имеется. Сей человек — голоштанный крестьянин с палкой и бечевкой, не боле того. Аддаф уразумел изрядную часть сказанного, хоть они и англичане, ибо сей язык нынче звучит в Уэльсе все чаще и чаще и благоразумие повелевает изучить его и хорошо изъясняться на нем. Потом, подумал он, они развернутся и заговорят на еще более диковинном языке — французском, а ведь тот даже не их собственный и принадлежит людям, с которыми они воюют. В числе прочих. И слушал он тихо, ибо благоразумен и понимает, что сражения с этим народом прошли и забыты, хотя поражение в сказанных — до сих пор саднящая рана, ведь прошла лишь горстка лет. Однако принять от них деньги, чтобы сражаться за них, почти так же славно, как отомстить за Билт и утрату Лливелина, и уж куда лучше, нежели голодать в разоренных войной долинах. Но чтобы уроженца тех же долин называли крестьянином? Этого он снести не мог. — Я Аддаф ап Дафидд ап Мат и Маб Ллоит Ирбенгам, — прорычал он по-английски, — а не крестьянин с голыми штанами! Аддаф увидел на их лицах такое же выражение, как на лицах людей, видевших двуглавого теленка на ярмарке в год его отправления. Жирный был просто потрясен. — Ты. Говоришь. По. Английски? — вопросил он, подавшись вперед и говоря с Аддафом, как с дитятей. Высокий с длинным лицом, о коем помянули как о некогда сражавшемся с валлийцами, изогнул губы под скорбными усами в мимолетной усмешке. — Вы уязвляете валлийца, казначей, — вступил он, — ибо как раз по-английски он только что и говорил. Аддаф увидел, что жирный ощетинился, как старый боров. — Его имя, — растолковал сэр Мармадьюк, говоря по-английски отчетливо и медленно, заметил Аддаф, чтобы каждый понял, — означает Аддаф, сын Давида, сына Мадога, хоть последняя часть и несколько озадачила меня: Бурый Парень с Неправильной Головой? Он знает валлийский — Аддафу этот сэр Мармадьюк понравился сразу, ибо тот был некогда доблестным противником, немного знает и валлийский, и английский, коим говорит Истинный Народ; Аддаф испустил вздох облегчения. — Темный и упрямый, буду я думать это на вашем собственном языке, — сказал он и добавил: — Государь, — ибо не повредит прокладывать тропу дела с учтивостью. — Я из gwely[596] Силибебилл, — вдумчиво растолковал он, дабы эти люди знали, с кем имеют дело. — У меня есть корова и довольно пажитей, дабы кормить восемь коз целый год. Я свободный человек Истинного Народа, милостью Божией, совместно владеющий волом, стрекалом, упряжью и плужным лемехом с тремя другими. Я не смерд с голыми штанами. — Вы хоть что-нибудь поняли? — язвительно осведомился Крессингем. Сэр Мармадьюк неспешно обернулся к нему. — Похоже, вы его оскорбили. Опыт мне подсказывает, Крессингем, что обижать валлийца не к добру. Особливо лучников — видите его плечо? Этот горб — тяговый мускул, казначей. Сей Аддаф лет двадцати семи от роду, и я ручаюсь, что не менее семнадцати из них тренировался с этим луком, пока не научился натягивать тетиву оружия, более высокого, чем хорошо сложенный мужчина, толщиной с запястье отрока, вплоть до самого уха. Стрелы же, готов присягнуть, не менее эля[597] длиной и оперены вовсе не гусиными перьями, а павлиньими, откуда следует, что это наилучшие его стрелы. Этот человек способен пробить подобным снарядом дубовую церковную дверь с сотни шагов, а после выпустить за минуту еще с десяток его собратьев. Коли он сработает сие правильно, ему не потребуется ни железный шлем, ни куртка с заклепками, ни кольчуга — все враги перед ним будут мертвы. Оборвав речь, он в упор уставился на Крессингема, почувствовавшего себя неуютно от его взгляда и от взгляда хмурого чернолицего валлийца. — Хвала Христу, — пробормотал брат Якобус и перекрестился, обратясь к кривой улыбке Аддафа. — Во веки веков, — отозвались остальные — и Аддаф громче всех, просто чтобы ворон-священник уразумел. — Я принял бы нашего валлийца как есть, казначей, — мягко добавил сэр Мармадьюк, — и радовался бы тому. — Именно так, — подхватил де Варенн, стукнув кулаком по столу. — А теперь, казначей, можете приступать к тому, что умеете лучше всего, — марать пергамент и подсчитывать, как довести мою армию в сытости и добром духе туда, где я могу повстречать этого Уоллеса Огра и одолеть его. Сэр Мармадьюк проводил взглядом Аддафа Валлийца, босиком зашлепавшего по плитам. Крессингем отпустил его, едва сдерживая ярость, и теперь шептался голова к голове с черным братом и своим клерком, крючкотвором и бумагомаракой. Де Варенн, укутавшись в плащ, снова пустился в сетования. И без того скверно, устало подумал сэр Мармадьюк, что во главе сей battue[598] стоит эта пара, даже не будь на другом конце Уоллеса.Таверна Слепого Тэма, близ Ботвелла Праздник Преображения Господня, август 1297 года Он выехал на дорогу на усталой лошади, накинув капюшон на голову и кутаясь в плащ. Лошаденка вся извелась и была не очень-то этим довольна, то и дело взбрыкивая, дергая Мализа за руку и спотыкаясь. Даже в лучшие времена разъезжать по дорогам в одиночку — мысль не самая умная, а уж тем паче теперь. И все равно Мализ в полудреме мечтал, видя себя на одном из могучих боевых коней Бьюкена или на захваченном жеребце Брюса, вздыбленном и пышущем жаром, гвоздящем железными подковами. Он нагонял удирающих мужчин и преследовал женщину, с криком бежавшую прочь, пока не настиг, вдруг обнаружив, что стоит в стороне от могучего коня, глядя на нее. Она беспомощно лежала с грудью, вздымающейся после бега, но одарила его понимающей улыбкой и взглядом, потом вложила палец между своих невероятно алых губ и пососала его. Она была Изабеллой, и он положил ладони ей на бедра… Внезапный грохот разбудил его, заставив вздрогнуть, — как раз вовремя, чтобы увидеть человека, выскочившего из завешанного мешковиной дверного проема, расшнуровывая штаны спереди. Запнувшись о ведро, он выругался, едва задев Мализа невидящим взглядом, направил парную струю облегчения в кучу навоза, громко пукнул и уставился затуманенным взором на стену мазанки — как догадался Мализ, не конюшни при таверне, а дома этого человека. Моргнув раз-другой, Мализ понудил усталое животное двинуться вдоль дороги к скучившимся постройкам, разделенным пьяными изгородями и полосками голых вскопанных делянок. Впереди виднелась ветхая громада таверны высотой в два этажа, выстроенной из камня с деревянной рамой; на Мализа накатил аромат пищи. Из одного из домов вышла женщина, подгоняя корову, чтобы привязать к колышку для выпаса на клочке общинной травы. Та уронила громко шлепнувшуюся лепешку навоза, и женщина, не сбившись с шага, подобрала ее в корзину, мельком бросив взгляд на Мализа, волком глядевшего на нее из-под капюшона, пока она не опустила глаза. Возможно, прежде она была мила — ее платье еще где-то хранило память о ярких цветах, — но давным-давно забыла о чистоте и хороших манерах, а лицо под чепцом, хоть и огрубевшее от ветров и ненастий, было бледным и осунувшимся. Мализ сполз с лошади у коновязи, слыша движение внутри таверны и взрыв смеха; обмякнув, лошадь с облегчением скособочилась. В таверне царила темень, и вошедший со света Мализ, на миг потеряв ориентацию, запаниковал и принялся нашаривать рукоять кинжала. А затем его захлестнул запах — духота, несвежая пища, пролитые напитки, кишечные газы, дерьмо, блевотина и — такая возбуждающая, что Мализ аж крякнул — тонкая едкая вонь давних соитий. Здесь еще и бордель. Когда глаза приспособились, он обнаружил, что стоит в большой комнате с утрамбованным земляным полом и грубо оштукатуренными стенами, прошитыми деревянными балками. По полу между столами и лавками были разбросаны камыши, но было ясно, что их давненько не меняли. Два больших металлических фонаря с панелями из рога свисали на цепях со стропил, вкупе с подносами на блоках, чтобы поднимать еду и выпивку на галерею, окружающую квадрат комнаты со всех сторон. Там, прикинул Мализ, расположены спальни, а лестница к ним находится за землебитной печью и толстой доской, служащей рабочим столом. В целом вполне чудесная таверна. Девушка, устало плескавшая воду на доску и драившая ее тряпкой, подняла голову, пока Мализ стоял на пороге, моргая и еще не сняв капюшон. Она была грязна — грязь глубоко въелась от долгого небрежения, — с тусклым взором, жидкими волосами, лишенными лоска; и все же где-то в глубинах этого таились золотистые проблески, а мертвые глаза некогда сверкали синевой. — Мы не открыты, — сказала девица, и, не услышав ответа, подняла глаза и повторила то же самое. — Как вам будет угодно, — добавила она с пожатием плеч, пока он стоял с разинутым ртом. Мализ чуть было не двинулся к ней, сжав кулак, но тут вспомнил, зачем приехал, и с улыбкой остановился. За медом, а не Адом. — Ну, что тут у нас? — вопросил громкий голос, и в проеме двери в дальнем конце комнаты обозначился массивный силуэт. Голый по пояс мужчина с громадным животом был волосат, как хряк, с сальными кончиками усов, протянувшимися через множество подбородков, однако волосы на голове были подстрижены до серо-стальной щетины. Он зашнуровывал брака под складкой брюха, источая то, что сам гордо считал искренним радушием. Шокированный Мализ уставился на него с отвращением. С виду сущий здоровенный тролль, хоть покачивающийся на груди крест и опровергает это. «Тэм», — объявил тот. — Что-то не похожи вы на слепого, — наконец нашелся Мализ, и тот гортанно хохотнул. — Мой старый деда, — гордо объявил он, — помер и мертвый ужо десятки годков. Сие дельце переходит от отца к сыну. Садитеся. — И шлепнул девушку с тусклыми глазами по руке. — Пошевеливайся, разведи огонь. Мализ сел. — Издалече прибыли? — пророкотал Тэм, почесывая волосатый живот. — Немногие ездют по этой дороге с поры Смуты. — Из Дугласа, — соврал Мализ, потому что на самом деле ехал из Эдинбурга, где бесплодно разыскивал графиню после событий в Дугласе. Там он ее упустил, отследил до Эрвина и понял, что она направляется к Брюсу, горячая шлюшка. Но все-таки он упустил ее и там, а деньги, выданные ему графом, почти закончились; скоро придется возвращаться на север и признаться в своем провале. Идея признаться графу Бьюкену в неудаче, а тем паче признаться, что окаянная шлюшка-графиня не только обвела его вокруг пальца, улизнув от него, но и продолжает это делать, отнюдь не тешила его. — Дальнее странствие, — жизнерадостно заявил Тэм. — Останетеся здесь на ночлег. Потом его лоб над углями глаз сморщился в единственную складку, и он добавил: — Само собой, сребрецо у вас имеется, и вас не обременит показать его цвет. Мализ выудил монету, чтобы удовлетворить его, и тихо кипел от ярости, пока трактирщик дотошно ее изучал. Наконец Тэм осклабил нечто бурое в окружении десен и встал, чтобы принести флягу и две деревянные чаши. — Доброе вино для доброго господинчика, — с чувством возгласил он, плеснув содержимое в чаши. — То бишь дорога безопасна? Народ странствует по ней? Разумеется, его интересует коммерция. — Что такое безопасность? — уныло пожал плечами Мализ, милостиво принимая чашу с вином. — Человеку надобно зарабатывать на жизнь. Кивнув, Тэм крикнул девке принести ему рубашку, и та отправилась выполнять приказ, отряхивая с рук золу. Мализ отпил, хоть ему и не понравился жиденький горьковатый вкус. — Каким ремеслом промышляете? — полюбопытствовал Тэм, облизывая губы. — Заключаю договоры, — ответил Мализ, — для графа Бьюкенского. При этом брови Тэма полезли на лоб. — Договоры, вот как? На что? — Зерно, лес, шерсть, — застенчиво пожал плечами Мализ, искоса бросив взгляд на трактирщика и глядя, как колышутся его подбородки, пока он прикидывает, сколько можно содрать и большой ли барыш сулит эта встреча. И Мализ подкинул ему возможность. — А еще я разыскиваю его жену, — осторожно проговорил он. — Когда она разъезжает по дорогам вверх и вниз, как бы по делам Бьюкена. Тэм промолчал. — Я думал, не слыхали ли вы случаем, коли она проезжала этой дорогой, — не уступал Мализ. — Графиня. Ее можно признать враз: ездит на боевом коне. Тэм поворачивал дешевую глиняную флягу раз за разом, делая вид, что размышляет, тем временем разглядывая Мализа. Тхор, решил он, с примесью терьера. Это не писец договоров, а ищейка, вынюхивающая след какой-то бедной души. Графиня, присовокупил он про себя, ни говна себе… Одна? На боевом коне? Ну ни говна ж себе! В конце концов, устав от молчания, Мализ развел руками, тщательно подбирая слова. — Если дорога останется чиста и гарнизон в Ботвелле прогонит неприятеля, к вам может наведаться посетитель-другой. — Боже, храни короля, — проговорил Тэм почти механически, оставив Мализу гадать, о каком из королей идет речь. Тот уже хотел было начать выкладывать монеты на стол, когда во главе лестницы появилось пугающее марево. Некогда красивое лицо опухло и покраснело от бессонных ночей и неумеренного пьянства. Мализ увидел тело, бесформенное под просторной сорочкой, но одна грудь, лиловая от синяка, болталась снаружи. — Что за гомон, — заныла она, отводя космы спутанных волос с лица. — Нешто девке несть лезно тут поспать? Увидев Мализа, женщина попыталась изобразить обворожительную улыбку, но потом спасовала и на заплетающихся ногах кое-как добрела и плюхнулась на лавку. — И где же твой свет очей? — саркастически поинтересовался Тэм. — Храпит во всю мерзкую глотку… Тэм, чашечку? Хмыкнув, тот налил. — Только одну, Лиззи, моя сладкая. Я хочу, чтобы ты днем поработала. — А что не так с этой сукой наверху? — заныла Лиззи, и Тэм кривобоко, распутно осклабился. — Сама ведаешь, как оно водится. Твое дело, ежели задираешь ноги, когда должна спать, но днесь твоя работа. Стуча зубами о край чаши, Лиззи отпила, поперхнулась, утерла рот и снова отпила. — Надобно блюсти правила, — величаво изрек Тэм Мализу, — дабы вести дела в эти времена. К ночи тут будет натканно жолмырей, алчущих поманить пальцем и отведать чуток доброй девки. Он подтолкнул Лиззи, выдавившую обаятельную улыбку и поглядевшую на Мализа; наполнившее ее вино распалило любопытство. — Чем торгуете — румянами и маслами? — с надеждой поинтересовалась она. — Разыскиваю, а не торгую, — отрезал Мализ, и блудница, надув губы, утратила интерес к нему. — Итак, — с чувством возгласил Тэм, натягивая наконец принесенную рубаху. — Вы сказывали про графиню… — Дорога чиста, — ответил Мализ, — хотя проезжих немного. Чересчур много английских жолмырей, каковые ничуть не лучше мятежников Уоллеса. — Не будем говорить об нем, — сплюнул Тэм, мрачно думая о возницах, доставляющих камень для окончания постройки замка, их жаждущих помощниках, торговцах шерстью, гуртовщиках, продавцах индульгенций и жестянщиках — всех ремеслах, минующих его стороной. — Дорога была б чиста, кабы не сии ублюдки, порази их Господь, — присовокупил он. — Впрочем, сюда они не придут, столь близко от замка. — Я слыхал, он еще не завершен, — задумчиво заметил Мализ. — Стены достаточно велики, — парировал Тэм, гадая, не лазутчик ли этот чужак, и уже раскаиваясь, что высказался об Уоллесе подобным образом. Потом чужак принялся вслух размышлять, не отправилась ли графиня туда. — Графиня? — встряла Лиззи, прежде чем Тэм успел рот раскрыть. — Не отдыхали здесь никакие графини. Ни единой пристойной женщины с самого Потопа. Она жалобно взглянула на Тэма, и тот в ответ воззрился на нее волком, видя, как шанс подзаработать ускользает из рук. Но если он и намеревался заставить ее поплатиться, намерение потонуло в грохоте и проклятьях с верхнего этажа. — Знать, он встал, — пробормотала блудница, поглядев наверх. — Анафема на его хер. — Не поминай черта к ночи, — хмыкнул Тэм. Тут наверху лестницы появился новый персонаж. Одолев две ступени, он споткнулся, проехал еще четыре, но потом исхитрился добраться до стола. Его красивое, дородное лицо было иссиня-серым, как пахта, борода уже начала терять аккуратно подстриженный вид, темные волосы поредели до пушка, завиваясь сальными колечками вокруг ушей. Коренастое тело было облачено лишь в рубаху и сапоги, но Мализ углядел костяную рукоять ножа, выглядывающую из-за голенища. Лица он не видел, пока тот не сверзился по ступенькам в кислый, рябой свет, устало пробивающийся сквозь ставни. Сердце Мализа трепыхнулось: этот человек знаком ему. То ли Хоб, то ли Роб — человек из Дугласа, прибывший со Сьентклером из Лотиана. Во рту сразу пересохло; раз он здесь, может быть и другой, по прозвищу Лисовин Уотти. Поднеся ладонь к горлу, Мализ массировал воспоминание о железной хватке, пока не спохватился и не перестал. — Лиззи, моя королевочка, — невнятно проговорил Куцехвостый Хоб, — плесни и мне того же. — Коли можете заплатить, есть еще фляга, — объявил Тэм. Нетвердо кивнув, тот выудил из-под мышки кошель и отсчитал монеты. Мализ изо всех сил сдерживался, чтобы не трястись и перестать оглядываться, будто Лисовин Уотти притаился у него за спиной. — Ах, Боже, утоли мою боль, — молвил Куцехвостый, держась за голову. Принесли вино, он налил, проглотил, засопел, выдохнул и содрогнулся, потом выпил еще. И наконец уставился на Мализа. — Я тебя знаю, нешто нет? Голос у Мализа пропал напрочь. Он лихорадочно гадал, сможет ли нашарить кинжал сквозь путаницу одежды, да еще под столом. Куцехвостый снова хорошенько приложился, утер рот тыльной стороной ладони, и только тут его мозги угнались за языком. Он тут же пожалел, что признался в знакомстве с этим человеком. Опыт Хоба говорил, что почти все полузабытые знакомые мужчины — мужья или возлюбленные мокрощелок, которых он у них увел; ему вовсе не хотелось углубляться в это на случай, если память вернется к обоим. — Видал людей? — спросил он, хлебнув еще винца. — Телеги. Лошадей. Людей на дороге, по какой ехал… Сглотнув, Мализ нашел слова и проскрежетал их, кивая. — Свернули на Элдерсли, — соврал он, и Куцехвостый вскинул голову. — Ах, нет. Где там. Ты шутишь, всеконечно. Мализ тряхнул головой, а потом не без труда заставил ее перестать дергаться. Выругавшись, Куцехвостый Хоб с хлопком оттолкнулся от стола, направляясь к лестнице. — Ты говорил, что они будут здесь через день, — свирепо крикнул Тэм в спину удаляющемуся Хобу. — Изрядно жолмырей и лыцарь, сказывал ты, нуждаются в ночлеге. Я немало порадел, абы их разместить. — Где уж, — насмешливо протянула Лиззи с расслабленной улыбкой, уносимая теплыми волнами выпивки. — У тебя вообще никаких постояльцев не было, ведаешь ли. Ладонь Тэма шлепнула ее по губам как раз в тот момент, когда чаша поднималась туда же. Чаша и вино полетели в одну сторону, Лиззи — в другую. Мгновение она лежала, оцепенев, потом медленно поднялась на четвереньки, а там и на ноги. — Еще раз дашь языку волю, голубушка… — предостерег Тэм. Мализ сидел недвижно, как камень. Он не смог бы шелохнуться, даже если б хотел, и все время ему до боли хотелось обернуться, но он не осмеливался из страха узреть Лисовина Уотти и получить полный расчет за содеянное с собаками. Неприятно, признал Мализ. Белена, реальгар и гермадоталис, более известный как ирис Змеиная Голова, — отрава лютая что для человека, что для зверя, и упокоится он отнюдь не с миром… Хоб снова протопал вниз по лестнице, на сей раз одетый в сапоги, брака и рубаху, с кожаной курткой с заклепками, длинным ножом и мечом на поясе и железным шлемом с круглым ободом под мышкой. Крикнул, чтобы седлали его коня, и Тэм сердито дернул головой в сторону Лиззи, чтобы она сказала конюху. Приостановившись у стола, Хоб прихватил бутылку, за которую заплатил, ухмыльнувшись во все свое лицо с мощным подбородком. — Элдерсли, стало быть, — нахмурившись, он покачал головой. — Ублюдки. Должны были ехать сюда. Никто мне ничего не сказывает. Мализ нервно улыбнулся ему в ответ и вышел прочь. Через некоторое время послышался удаляющийся стук копыт. Мализ заставил себя подняться на подгибающиеся ноги — и едва удалось встать. Паника погнала его прочь отсюда. Трактирщик угрюмо поглядел на него, кисло проронив: — С Богом, ибо что-то не несете вы удачи в делах. В иной день Мализ зарезал бы его за подобное отношение, но сегодня ему хотелось лишь оказаться как можно дальше от Сьентклеров из Лотиана. Он был так одержим и ослеплен этим стремлением, что даже не заметил перебегающие между деревьями силуэты, нахлестывая изнуренную, пошатывающуюся лошадь на слякотной дороге. Мализ и не знал, что его пропустили лишь потому, что он слишком мелкий трофей, когда можно разграбить целую таверну.
* * *
Куцехвостый Хоб был крайне раздосадован, о чем и твердил всем и каждому, сердито супя брови. И то, что по пути из теплой, уютной таверны, где он забыл свой плащ, лил дождь, отнюдь не способствовало его ублаговолению. — Егда сыщу ту жопу, что сказала мне, же он приехал по этой дороге и видал, как вы свернули на Элдерсли, — ворчал он Бог весть в который уж раз, — то уж так ему наваляю, что вколочу башку в плечи. — Значит, она была смачная штучка, та девка, с коей ты слезши? — настойчиво спрашивал Уилл Эллиот, облизывавший губы в предвкушении восторгов описываемой Куцехвостым таверны. — Что ни на есть, — с энтузиазмом отозвался Хоб, но его лицо тут же снова омрачилось. — Теперича нам повезет, коли хоть запашок почуем, когда эти парни туда доберутся. Дорога на Элдерсли… ах ты, змееязыкий блядий сын… — Полно вам, куча навозная, — проворчал Сим, кивая в сторону лошади, приближавшейся ровной иноходью, неся графиню, державшуюся легко, насколько это возможно в женском седле. Хэл и Сим Вран переглянулись, хоть и почти без интереса ко всей этой затее, представлявшей собой, как выразился Сим, когда они трогались в путь, кособродие к худу. — Господин Хоб, — позвала графиня, и Куцехвостый послушно обернулся с самой что ни на есть обаятельной улыбкой. — Вы уверены в описании этого человека? Что это был Мализ Белльжамб? — Уверен, государыня, — твердо ответствовал Куцехвостый. — Я знамши евойное лицо, но он обморочил меня своими плутнями, и, только добравшись сюда, я его припомнил. Мализ, верное дело. Это лицо я уж боле не забуду, попомните меня. — Он ищет меня, — промолвила Изабелла, и Хэл уловил в ее голосе подвох. — С нами вы в безопасности, — твердо заявил он, и графиня встряхнулась, будто гусыня, прошедшая по могиле. — Он опасности не представляет, — ответила она. — Мой муж у него кожу со спины сдерет, если он хоть синяк мне оставит. Эта привилегия принадлежит Бьюкену. Хэл аж поморщился, настолько уныло прозвучали последние слова. Выехав из глубокой тени, Изабелла заморгала и снова выдавила улыбку. — Но он не… любезен, — добавила она. — И может причинить вред другим. — Будь я он, я бы тревожился из-за Лисовина Уотти, госпожа, — пискнул новый голос, и все поглядели на Псаренка, маячащего у стремени Изабеллы. — Лисовин Уотти любил оных животин, а сей человек сгубил их дурным зельем. Сим разглядывал Псаренка, видя осунувшееся личико, синяки под глазами. Видя то же, что видел Хэл, — колеблющийся призрачный образ покойного малыша Джонни. Одному Богу ведомо, что обрушилось на голову этому пареньку, пока он был в колодце моста через ров, и лишь милостью Пресвятой Богородицы это был не сам противовес моста. И все же ему пришлось выслушать хруст окровавленных ошметков Пряженика, и единый Господь ведает, как это сказалось на нем. Ощутив взгляд, Псаренок улыбнулся Симу, прежде чем снова обратиться к нежному взору Изабеллы. Он толком не понимал, что чувствует по отношению к этой высокородной даме, но ему в одно и то же время хотелось и положить голову ей на грудь, чтобы она погладила ему лоб, и положить ладони на те же груди. Хитросплетение этих чувств частенько конфузило его, отзываясь тяжестью в груди и в паху. Встретившись взглядом с Куцехвостым, Хэл отослал его в конец колонны. Три дня назад из Анникуотер выступили два десятка всадников и четыре повозки, вслед за прибытием Лисовина Уотти как раз после объявления мира, и все разошлись восвояси. Хэл и его небольшой mesnie[599] направились на север — сперва в Стерлинг, а потом на земли Бьюкенов. «Будто негоцианты, — подумал Хэл, — доставляем товар». Но по домам побрели отнюдь не все находившиеся в Аннике, и на дорогах так и кишели субъекты, вернувшиеся к разбою, — кто именем Уоллеса, кто именем короля Иоанна, а кто и просто сам по себе. Теперь же обоз разросся до доброй дюжины телег и фургонов и не менее семи десятков человек, пристроившихся под защиту вооруженного отряда, вопреки протестам, уговорам и даже угрозам Хэла. Все путники жались друг к другу ради безопасности, хоть и пустились в странствие по собственным резонам; один даже ковылял на костыле, отвергая все приглашения сесть в повозку, поскольку поклялся совершить пешее паломничество в Скунский приорат для покаяния в чаянии чудесного исцеления. Каждый день он отставал и каждый вечер болезненно прихрамывал к ближайшему костру, а Хэл гадал, достаточно ли оправился приорат после трепки каких-то несколько недель назад, чтобы оказать ему воспомоществование. А еще графиня… Хэл вздохнул. Брюс чуть ли не стелился перед ним, но только сэр Уильям сумел окончательно убедить Хэла сопроводить графиню обратно к мужу. — Сие надлежит свершить, и лучше, ежели сие свершит тот, кого навряд ли узрят склабящимся над рогоносцем, — рек Древлий Храмовник, после чего вручил Хэлу сложенный белый квадрат тонкого полотна с широкой черной полосой поверху. — Сие есть gonfanon[600] тамплиеров, — поведал он. — Хоть и не еси вполне Бедным Рыцарем, ты прошен послужить таковым, а именно мною, посему таковая хоругвь охранит тебя от обеих сторон. Никто в здравом рассудке не пожелает огневать храмовников, даже граф, коему сказанные вернуша его заблудшую жену. Хэл не мог найти веской причины отказать человеку, пришедшему ему на выручку на мосту; кроме того, он получил другую просьбу, отправлявшую его в том же самом направлении, и ирония, заключавшаяся в том, от кого именно она исходила, не избегла его внимания. Похоже, сэру Уильяму тоже было кое-что об этом известно, поскольку он поинтересовался — вежливо и невинно — толстячком Биссетом, прибывшим в поисках Генри Сьентклера, и никого иного. — Подарочек из Дугласа, сэр Уильям, — изрек Хэл, чуть пожав плечами. — Уоллес обещал разыскать этого человека — тот был писцом, или нечто подобное, у Ормсби в Скуне, — и полагали, что оному может быть ведомо нечто об убийстве того каменщика. Погладив свою седую бороду, Древлий Храмовник кивнул, слушая лишь вполуха. — Право? И ведомо ли? — Ничего путного, — развел руками Хэл, сам недоумевая, с какой стати солгал. Хмыкнув, сэр Уильям похлопал Хэла по плечу, пробудив этим жестом настолько отчетливо воспоминание об отце, что тот чуть не застонал. Ему хотелось вернуться обратно в Хердманстон, оставив эту невнятицу Брюса, Уоллеса, Бьюкена и англичан как можно дальше за спиной, о чем он и высказался вслух. — Так есть, добро, — промолвил сэр Уильям задумчиво. — Доставь графиню, и с Брюсом для тебя покончено, одначе я бы всерьез призадумался, что сулит тебе грядущее. Уоллес отправился в Данкелд, слыхах аз. Либо осаждать Данди. Али Стерлинг. Зришь, яко сие складывается — его сброд летает, аки навозные мухи и слепни тут, там и повсюду. Он не из таковых, кто выйдет против англичан во поле, что бы там Уишарту ни мнилось. Он снова похлопал Хэла по плечу. — Как бы то ни было, сие не твоя печаль. Пускай сия блоха сидит на стене. Отвези сию заблудшую женщину домой, и делу конец, доколе Брюс или я не пришлем весточку. Отошли и сего писаришку Биссета прочь и запамятуй покойных каменщиков — Мощи Христовы, Хэл, ныне трупов в достатке в каждом рву отсель до Берика. Совет дельный, и Хэл вознамерился последовать ему, возблагодарив Бога за то, что ускользнул от угрозы Длинноногого настолько легко. И все же тайна продолжала то и дело досаждать, будто камешек в башмаке, — когда «оная заблудшая жена» давала шанс. Графиня Бьюкенская, удрученно думал Хэл, воплощает и досаду, и восторг одновременно. Одета в свое единственное платье — зеленое, подогнанное по фигуре, с болтающимися рукавами, потому что при ней нет камеристки, чтобы зашивать их на ней. Обута во все те же поношенные сапожки для верховой езды, которые Хэл видел в Дугласе. И все же сейчас она блистала барбеттом под подбородком, опрятной шапочкой ему под стать и улыбкой, ни разу не коснувшейся ее глаз, сидя на женском седле на иноходце, потому что горячего Балиуса вверила Хэлу. — Не пристало мне, — обаятельно провозгласила Изабелла, — возвращаться, раздвинув ноги, на боевом коне, по мнению графа Каррикского и сэра Уильяма Сьентклера, а равно и всякого прочего члена света державы, каковой может встретиться по пути и будет иметь мнение на сей счет. — Она с лязгом сомкнула зубы, чтобы не сказать больше, и улыбнулась еще шире. — Посему, будучи рыцарем, вам надлежит доставить животное домой, в конюшню графа Бьюкенского. Хэл пролепетал какую-то банальность, что будет печься о животном пуще шелка и злата, но на самом деле после Гриффа он почувствовал себя ужасно далеко от земли, ощущая неудержимую мощь коня на каждом шагу. Ему вообще не следовало бы садиться на него — ни один здравомыслящий рыцарь не оседлает боевого коня, если только не снаряжается на битву, а кроме того, это еще и чужой конь. Как отметила Изабелла — бодро, весело, будто поющий крапивник, — она уже, наверное, сгубила животное, используя его вместо заурядного иноходца, но поскольку он стоял в конюшне в Балмулло, принадлежавшей ей по праву, могла дать соизволение и дала его. На последнее Хэл смотрел искоса, но устоять перед такой возможностью не мог. Сама же государыня, при всей своей веселости, выглядела зажатой, как туго скрученный завиток папоротника, лучащейся хрупким смехом и чересчур ярким взором, смягчавшимся только при взгляде на Псаренка, — и эта нежность их объединяла. Он напоминал Хэлу умершего сына сильнее прежнего — и все же с каждым разом воспоминания становились все менее мучительными только потому, что Псаренок был рядом. Хэл дивился разительности перемен в пареньке за столь короткое время и мог лишь гадать, что закалило сталь в его душе в той темной дыре при звуке хруста костей Пряженика. Вряд ли того можно было назвать его другом, но даже вопль смертельного врага на пути в мир иной способен преобразить человека вовеки. — Сие да выжлецы, — подвел черту Лисовин Уотти под мрачным повествованием при свете костра в вечер прибытия. — Издыхали в корчах и муках, сии выжлецы, и одно лишь благословение, что парень был в колодце, откель его выволокли без чувств, и не видал их. По затуманенному взору и суровым чертам Хэл понял, что псы умирали на глазах у Лисовина Уотти и его это тоже преобразило. Одно лишь упоминание о Мализе Белльжамбе повергало его в холодную убийственную ярость, и сейчас Хэл видел, как он сидит, сгорбившись, на своем гарроне, с глубокими морщинами мрачных раздумий, залегшими на его челе. Какая прискорбная кавалькада, подумал Хэл. Он отрядил Куцехвостого вперед — занять места в таверне и предупредить, что по дороге приближается кавалькада, потому что у Куцехвостого есть голова на плечах и он бы уж поладил с подозрительными англичанами из Ботвеллского гарнизона, буде столкнись с ними. Вообще-то Хэл сомневался, чтобы многие из них рискнули настолько далеко отойти от безопасных стен недостроенного замка, но осмотрительность лишней не бывает; да вдобавок Куцехвостый клялся, будто владеет французским, хоть Хэл и был уверен, что лишь в таком объеме, чтобы заказать еще кружку эля или получить пощечину от любой учтивой дамы. Опять же этот Биссет. Он трясся в телеге, как полупустой мешок зерна, потому что стер внутренние поверхности ляжек в кровь во время странствия до Анника и сесть верхом уже не мог. Он доедет до Линлитгоу, а потом свернет на юг в Эдинбург, а Хэл поворотит на север. Привереда, буквоед и нытик, Биссет вдобавок еще и отважен, понял Хэл, и человек слова. Он обещал Уоллесу доставить сведения — и доставил. Обещал доставить просьбу Уоллеса заняться этим делом — и доставил, хотя Хэл предпочел бы, чтобы на сей счет он прикусил язык. — Покойного звали Гозело де Грод, — поведал Биссет Хэлу и Симу, тихонько и нос к носу. — Почитай наверняка. Он исчез из Скуна летом прошлого года. Заколот насмерть с одного удара, весьма искусного. Не ограблен. — Помимо его имени, — проворчал Сим, — ничего нового мы не выведали. Биссет ответил острозубой мышиной улыбкой. — Ах, но у него был близкий друг, тоже числящийся в нетях, — объявил он и, к великому своему восторгу, узрел поднятые брови. Сей секретарь Бартоломью обожает секреты, а пуще того обожает выкладывать их тем, кто подивится. — Манон де Фосиньи, — провозгласил Биссет, будто фигляр, достающий из рукава цветные квадратики. — Савояр, резчик по камню. Да притом добрый, призванный Гозело для затейливой работы. — Где же он? — спросил Хэл, и Биссет с улыбкой кивнул. — В точности то же вопросил господин Уоллес, — объявил он, надувая губы. — Отправился либо на полудень, либо на полночь через две недели после того, как Гозело де Грод покинул Скун. — Ценно, — проворчал Сим, но Биссет, не обратив внимания, подался вперед, к свету сального светильника. — По моему разумению, — негромко произнес он, — сказанный Манон бежал, когда стало ясно, что Гозело не вернулся в назначенный срок. Уходя, тот сказал савояру, что не более чем на неделю, а после не вернулся, потому что был убит, как нам ведомо. Сей Манон бежал — сие я знаю, потому что он забрал лишь свои легкие орудия, а остальной инструмент ни один ремесленник не бросит без крайней нужды. Сказал людям, что идет в Эдинбург повидаться с Гозело, но я полагаю, что сие было фиглярством… — И он пытался направить кого-то не в ту сторону, куда направился сам, — досказал за него Хэл. — Кого? — Второй вопрос Уоллеса, — с восторгом провозгласил Биссет. — Он говорил, что ум ваш остер, сэр Хэл. Я даю вам тот же ответ, что и ему: не ведаю. Но Манон де Фосиньи ожидал, что некое лицо или лица будут его разыскивать, и не ждал от сего ничего доброго. И посему бежал. В Стерлинг либо в Данди. Уверен, он надумал спрятаться и старается не бросаться в глаза: побежит во фламандские Красные Палаты в Берике, чтобы его переправили в безопасное место. Зная, что Красные Палаты — собрание фламандской гильдии в Берике, Хэл сомневался, что от сего будет прок, поскольку фламандцы отстаивали их до последнего человека, когда англичане грабили город в прошлом году и около тридцати человек сгорели в них живьем. Теперь от палат остались лишь обугленные бревна — однако фламандцы в Берике еще есть. — С какой стати некоему лицу или лицам желать смерти сего человека? — требовательно спросил Сим. — По тем же резонам, по коим они желали смерти каменщика, — чопорно ответствовал Биссет. — Дабы замкнуть его уста. Они оба хранили секрет, добрые сэры, но ныне открыть его может лишь де Фосиньи — и господин Уоллес предлагает вам сие, как обещал. Он поведал, вы будете знать, как с сим поступить. Забыть напрочь. Это был бы разумный выбор, но, еще вертя его монету в голове, Хэл уже понимал, что такая возможность даже не существовала. Поллард, подумал он с кривой усмешкой. Как и отказ Брюсу был крокардом. Призванный на службу к оному, он ни за что ни про что вдруг стал радетелем за дело державы. Теперь же, опять же ни за что ни про что, вдруг оказался на стороне сил, призванных сокрушить это дело, — и, понял он, теперь обязанный противостоять Уоллесу, буде доведется с ним столкнуться. И все же питал уважение к Уоллесу, продолжающему сражаться, когда все остальные поспешили бухнуться на колени. «Потому что терять ему нечего, — подумал Хэл, — в отличие от меня и остальных». Он чувствовал себя спутанным по рукам и ногам, аки оный троянец, удавленный кольцами морского змея, подумал Хэл, пожалев, что не посвящал больше времени, по-настоящему слушая dominie[601], нанятого отцом, чтобы «навесть на мальца лоску». Оставшиеся с ним люди были последними из сохранивших верность — все остальные ушли с Уоллесом ради мародерства. Сим, Куцехвостый, Лисовин Уотти и Уилл Эллиот были хердманстонцами; Красный Плащ был пятым, и его гибель легла на всех них тяжким бременем. Прочие, человек пятнадцать, являлись местными горцами, доверявшими Хэлу больше, нежели кому бы то ни было еще, и знавшими или двоюродного братца, или иного родственника, ходившего с ним в поход с выгодой для себя. Двое-трое — и даже такое число поразило Хэла — пришли с верой во благо державы, навоображав себе, что, когда час пробьет, уж господин-то отыщет путь истинный. — Фартинг за ваши мысли. Голос вкрадчиво обвился вокруг него, будто троянский змей, вернув к действительности, — к слякотной дороге, к августовской мороси, сеющейся за шиворот. Хэл подумал о каменном кресте в Хердманстоне, женщине и дитяти, погребенных под ним, — и насколько все это кажется далеким… Обернулся к улыбающемуся лицу. Волосы выбились из-под ее шапочки и барбетта; похоже, ничто не способно надолго удержать в узде дикую свободу в душе этой женщины. — Не стоят они энтова, — отозвался Хэл. — Вам причитается обрезь[602] на сдачу даже с такой мелочишки, аки новехонький сребряный фартинг. — Вы даже вполовину не такой деревенский простачок, каким уповаете казаться, сэр Генри, — певучие переливы голоса Изабеллы скрадывали язвительность, — и посему я желала бы, чтоб вы не говорили так, будто идете за плугом. Хэл поднял на нее глаза. Они провели вместе достаточно много времени, чтобы он научился различать ее настроения по осанке — от гнева ее тело цепенело, что на самом деле соблазняло Хэла, хоть он и знал, каким бичеванием это сопровождается. — Я ходил за плугом, — сообщил он, вспомнив дни, когда отроком семенил за парой волов, погоняемых Быком Дэйви, шагавшим по-пахарски враскорячку: одна нога на траве, другая на почве, а между ними борозда глубиной в ладонь. Дэйви был тятей Красного Плаща, вдруг вспомнилось ему. Сам Сим — постарше и посильнее, каким и оставался на протяжении всей жизни Хэла, — показал ему, что делать с червями. Они аккуратно собирали извивающихся тварей, выцарапанных на свет Божий сохой, и возглашали, будто ритуал: «Тута будеши, комахо. Трудися». Изабеллу это заявление не удивило; она уже пришла к тому, что от этого человека можно ожидать чего угодно. — Вы уже давненько не следовали за плугом, — ответила она с улыбкой, и Хэл посмотрел на нее сурово, как старый священник, что было ему совсем не к лицу и чуть не вызвало у нее смех. — Став мужчиной, я оставил детские пустяки, — изрек он, а поскольку сидел верхом на Балиусе, смог поглядеть на нее сверху вниз. — И похоже, набрались напыщенности, — ехидно заметила графиня. — Воспринимаю сие как намек, чтобы я тоже отбросила детские пустяки. Но не страшитесь: полагаю, муженек припас для меня урок-другой, а уж Дьявол, как вам всякий скажет, приготовил к моему скорому прибытию специальный покой. Изабелла резко натянула поводья, выворачивая иноходцу голову, и тот протестуще взвизгнул. — Трудно решить, что хуже, — бросила она, отворачивая прочь от Хэла, — хотя Дьявол, думается мне, будет менее ужасен, нежели граф Бьюкенский, и менее скучен, нежели пахарь Хердманстонский. Чертыхнувшись, Хэл полуобернулся, подыскивая слова извинения и костеря себя за глупость, — Господи Боже, да с какой стати он взял такой тон, будто какая-то сварливая старая карга? Всхрапнув, могучий боевой конь натянул поводья, испытывая ездока на крепость. Хэл, хоть еще и не обвыкся с такой высотой над землей, уже ездил на боевом коне вроде этого — Великом Леки, отцовском дестриэ, учась владеть пикой и мечом. Леки не так лучился великолепием, как Балиус, но егосодержание обходилось ничуть не дешевле. Хэл увидел Пекса — конюха, отправленного Брюсом позаботиться, чтобы Балиус добрался до Бьюкена, — угрюмо сидевшего в телеге, отведенной исключительно под овес, горох и бобы, предназначенные животному в фураж. Еще вопрос, мрачно подумал Хэл, что заботило Брюса больше: возвращение графу Бьюкену лоснящегося Балиуса или лоснящейся жены. Поворотил обратно вперед — и оцепенел. Черный, жирный, зловещий, как вороново крыло дым устало уплывал в свинцовое небо. Хэл осадил Балиуса, чувствуя скопившуюся мощь животного, всегда казавшуюся готовой к взрыву. Пекс, раскачиваясь в телеге, подскакивающей на ухабах, встал и вытянул шею, чтобы разглядеть. — Мы тама остановимся? — радостно спросил он. — Глянь-кось, они уж и огонь развели. Жаркие мирянки и теплые постели в ночь, такось, ваша честь? Хэл лишь зарычал и сплюнул, и Пекс, привыкший к более ласковому обхождению, чем то, которым отпущенный паладин его хозяина и якобы рыцарь удостаивает собак, поглядел на Хэла с этаким отвращением; эти лотианцы грязны, как свиньи, с манерами под стать, и самое лучшее в их вожаке, этом так называемом сэре Хердманстонском, — его конь, который вовсе и не его и на которого ему и садиться-то не пристало. Удар в грудь качнул его назад, и он уставился на стрелу. Потом мир устремился прямо на него, большой и черный, и он инстинктивно отдернулся, но что-то ударило его в лицо. Всполошившись, он тут же ощутил сокрушительный удар в плечо и висок, сообразил наконец, что их атакуют, и попытался выбраться из повозки. К моменту, когда он обнаружил, что удар по голове и плечу вышиб его из телеги на дорогу, стрела, вошедшая через глаз прямо в мозг, наконец убила его. Хэл увидел попадание в конюха, заметил промельк изумления, а затем вторая стрела угодила тому в глаз, и он рухнул. Хэлу в грудь тоже вонзилась стрела, но на нем была боевая куртка с пластинчатыми доспехами и плащ, все мокрое до нитки, так что снаряд отскочил, зацепился и жалко повис, прильнув к мокрой ткани. От крепкого удара, пусть и смягченного стеганой подкладкой, его качнуло назад, аж зубы клацнули. Затем Хэл увидел людей, посыпавшихся из-за деревьев и из дверей таверны, издавая тонкие выкрики на манер птичьих. Сзади тоже послышались тонкое верещание и крики атакованных. Развернувшись в седле, Хэл криком призвал Сима Врана и рявкнул только одно слово: — Графиня! Пришпорив коня, тот устремился вперед и ухватил впавшую в замешательство женщину, сдернув ее с женского седла и чуть ли не швырнув в телегу, пока разбегающиеся несчастные попутчики пытались шарахаться от стрел, путаясь под ногами у людей и коней Хэла. Матерясь и крича, всадники отбивались древками бердышей, а Джок Недоделанный, оказавшийся на пути обезумевшей вьючной лошади, отлетел на землю с резким вскриком. Чертыхнувшись, Хэл снова повернулся вперед. Появились всадники, вооруженные пиками и одетые в кожаные доспехи, — трое; они выкрикивали приказания пешим, толпившимся и кружившим, явно преграждая путь голове колонны, пока другие сзади отреза́ли путь к отступлению. Богомерзкие керны и катераны с севера Нагорий, верещащие и мельтешащие, как черти, очумевшие и все же устроившие засаду, классическую, прямо по Вегецию[603], отметил он про себя частью рассудка, не занятой лихорадочными попытками сообразить, что же теперь делать. Все решил Балиус. Отец дал Хэлу гаррона Гриффа, утверждая, что это отпрыск Великого Леки, и присовокупив: «Грифон уж тебя вывезет, коли не вытворишь чего-нито замысловатого». Будь он верхом на Гриффе, Хэлу бы и в голову не пришло вытворить чего-нибудь замысловатого, а уж тем паче того, что Балиус явно считал неизбежным. Именно ради этого он был выведен и выучен — и теперь топнул своими копытами размером с тарелку, со стальными подковами, напружинивая могучие мышцы на боках. Ощутив это, Хэл сглотнул и выхватил меч, затем осадил бацинет покрепче на голову ударом яблока рукояти и рывком перекинул щит из-за спины на левую руку. Ему никогда не нравилась комбинация кольчужного чепца, металлического бацинета и большого забрала во все лицо — как и многие другие, он предпочитал обходиться без последнего, а турнирные рыцари щеголяют шрамами, будто знаками отличия. Теперь же, в окружении визга и посвиста стрел, болезненно чувствовал свое незащищенное лицо. Ощутив удар щита по ноге Хэла и изменение натяжения поводьев, Балиус начал изготавливаться, тяжко топая на месте огромными копытами; из его раздутых ноздрей вырвались две жаркие струи серого пара. Сделав вздох, Хэл выпустил поводья и занес меч, взмахнув им вперед-назад движением кисти. Яркий проблеск клинка сбоку был единственным сигналом, которого ждал боевой конь; со взвизгом фыркнув, он устремился вперед, взбивая могучими ногами дорожную грязь и слякоть фонтанами. Кучка кричащих всадников, размахивающих пиками, начала приближаться, и мимо уха Хэла прожужжала стрела, будто разъяренная оса. Чуть позже всадники сообразили, что этот громадный зверь не собирается ни останавливаться, ни отворачивать в сторону. Балиус устремился прямо в гущу, лязгая направо и налево своими большими желтыми зубами. Хэл, опустив руку с мечом почти к боку коня, вскинул ее круговращательным ударом, исторгшим из всадника вопль, но толчок был едва заметным, и Хэл продолжал нестись вперед, занося меч вдоль головы животного на другую сторону. Потом рубанул в обратном направлении, и кто-то еще заорал. Дестриэ, понукаемый яркими проблесками клинка, следя за ними краешком глаза, врезался в одного из вражеских пони, и тот отлетел, вскинув в воздух все четыре копыта; тяжело рухнул, визжа от ужаса, сбросив всадника в грязь и накатившись на него, отчаянно молотя по воздуху копытами. А потом враг остался позади, и Балиус, знавший дело ничуть не хуже Хэла — пожалуй, лучше, решил он, — проехался с разгону, подсев задом, обдирая стальными подковами корни и одновременно разворачиваясь. Они ринулись обратно так же внезапно, как налетели, и Хэлу едва хватило времени увидеть трех человек в грязи и лошадь, барахтающуюся на спине, прежде чем снова врезаться в гущу противника, хрипло дыша и занося руку в кольчужной рукавице, чувствуя в ней тяжесть окровавленного клинка. Балиус ударил грудью пони, отскочившего назад, но громадный конь потерял разгон из-за помехи и потому взвился на дыбы и выбросил ноги, чудовищными копытами раздробив плечо пони и колено всадника. Другой конник выхватил страшный меч и хлестнул несчастную лошаденку, чтобы подъехать сбоку и нанести удар. С другой стороны от Хэла еще один всадник размахивал секирой, почти полностью развернувшись назад на скачущей прочь лошадке; оружие с лязгом отскочило от щита Хэла. Тот принял сокрушительный удар меча, загородившись железной полосой поручи на правом предплечье — самодельной железной клеткой от запястья до локтя, — и оказался лицом к лицу с нападавшим, разинувшим в крике алый рот, в кожаном шлеме, со спутанной бородой цвета старой кости и злобно сощуренными глазами. Врезал толстым яблоком рукояти меча между щелками глаз, а потом свирепо нанес удар назад, когда Балиус совершил мощный скачок, вырываясь из скопления. Почувствовал, как клинок дернулся, но не знал, куда попал. Потом они оказались у передней повозки и снова развернулись. Балиус шумно выдувал воздух, фыркая и топая копытами. Сим Вран в телеге нацелил арбалет и выстрелил, но Хэл не видел, в кого он попал. А затем всадников не стало. Суматоха, крики и замешательство кавалькады продолжались, и женщины не прекращали визжать, но атакующие вдруг исчезли так же стремительно, как и появились. Впереди хромала лошадь, волоча поводья. Три трупа валялись, как груды старого тряпья. Спрыгнув из телеги, Сим направился к Джоку Недоделанному, сидевшему в грязи с мокрой задницей и вывернутой рукой. — Зело больно зашиблена, но не сломана, — заметил он уродливому низкорослому бойцу. — Урон получила лишь твоя гордыня, плюхнувшаяся с осла на задницу. — Мулова задница вислоспиного мерина, — кисло согласился Недоделанный, растирая руку. Сим хлопнул его по плечу, отчего Джок скривился, а Сим рассмеялся. Из-под повозки выполз человек, блекло улыбнувшись Симу и закивав головой, и поспешил прочь, будто крыса, ищущая нору, прижимая к груди кожаный мешок. Спешившись, Хэл погладил мягкую морду Балиуса с жесткими волосками, сверкающими росой, как бриллианты, от собственного жаркого дыхания коня, и повел к трупам. Сим увязался по другую сторону коня. — Сущие черти из сатанинских чресел… Кто они, как помышляете? — спросил он, пошевелив одно тело ногой. Грязные, чумазые трупы, увешанные разношерстными предметами краденых доспехов, скалили желто-коричневые зубы. — Неприятели, — лаконично отозвался Хэл, и Сим согласился. В конце концов оба решили, что они из числа мародеров Уоллеса, выбравшиеся на луп и узревшие добычу, показавшуюся легкой и прибыльной. В кавалькаде оказалось четверо убитых — три женщины и конюх Пекс. С одной из покойниц только-только поладил Джок Недоделанный, так что день у него явно не задался, на что друзья не замедлили ему указать. Кто-то еще спросил о человеке с костылем, но никто уже не рассчитывал увидеть его вновь. Хэл подъехал к Изабелле, выпутывавшей свои юбки из телеги, а Псаренок, ее преданный слуга, дожидался рядом, чтобы помочь ей снова сесть верхом. — Все ли с вами благополучно? — спросил Хэл, внезапно встревожившись из-за ее хромоты. Изабелла обернулась; ядовитый ответ уже вертелся у нее на кончике языка, но, увидев его озабоченное выражение, она проглотила желчь и тут же растерялась, ощутив внутри толчок, — именно так должен толкаться в утробе ребенок, как ей всегда казалось. — В синяках, — ответила она, — но лишь верховой езды, сэр Хэл. Кто они? Он восхитился тем, как графиня приняла события, чуть ли не позавидовав близости к ней Псаренка, когда она забиралась обратно в свое дамское седло. — Люди Уоллеса, — сказал Хэл, — худшие из их числа — если они еще люди Уоллеса, а не просто дорожные тати, душегубы и разбойники сами по себе. Отныне таких будет в достатке. — Как и думал Брюс, отправляя меня с вами, — заметила Изабелла. — Похоже, для пахаря вы недурно владеете боевым конем. Оценив комплимент и подразумеваемое перемирие, Хэл внимательно осмотрел Балиуса, с облегчением не обнаружив на нем ни царапинки. Передав его в попечение Уилла Эллиота, оседлал Гриффа, тут же найдя гаррона слишком низкорослым и медлительным и пожалев, что вообще садился на могучего боевого коня. Собравшись, они погрузили погибшего конюха в телегу, усадили Недоделанного обратно на лошадь и осторожно поплелись по грязной дороге к таверне. Как Хэл и опасался, она горела, хотя сырые бревна и соломенная крыша усмирили пожар до медленного, угрюмого тления. У входа валялся толстяк с перерезанным горлом. Чуть дальше лежала женщина, утыканная стрелами столь основательно, что с первого же взгляда было ясно: ее использовали вместо мишени. — Ах, вот дерьмо-то! — провозгласил Куцехвостый Хоб, стаскивая свой кожаный подшлемник и огорченно чеша голову. — Что? — вскинулся Уилл Эллиот, но Хоб просто отвернулся, прямо онемев от утраты Лиззи. Всего несколько часов назад он валял ее до бесчувствия, и было как-то не по себе видеть ее ощетинившейся стрелами, как еж, с каплями дождя, сбегающими из незрячих глазниц, будто слезы. Оставшийся на дороге Хэл был того же мнения. — Что ж, — мрачно проронил он, — тут мы убежища не найдем, это уж ясно. Перейдем через мост в город и вежливо уведомим здешнего английского командира о шотландских налетчиках на дороге. Кивнув, Сим постоял еще немного, глядя на караван повозок, лошадей и напуганных людей, тянущийся мимо таверны дальше по дороге вслед за Хэлом и развернутой хоругвью храмовников — Босеаном, высоко вздетым Лисовином Уотти, сжавшим древко в одном массивном кулаке. Несмотря на этот затейливый флаг, Сим не сомневался, что они все глубже суют головы в петлю по мере мыканья дальше на север. Он гадал лишь, насколько тяжкой окажется их планида. (обратно)Глава 6
Эдинбург Праздник Святого Эгидия, август 1297 года Спертый воздух храма Святого Эгидия дышал жаром от горящих свечей и пыла верующих. Горячее дыхание незримо возносилось в воздух, столь напоенный ладаном, что даже благовест колокола и песнопения казались приглушенными, словно доносящимися из-под воды. Причитающее, отчаявшееся население Эдинбурга так набилось в храм на мессу в честь своего покровителя, что огонь трепетал в одном ударе сердца от угасания — от их придыхательных молитв о заступничестве, о помощи, о надежде. Явились даже некоторые англичане из гарнизона, хотя в замке и имелась собственная часовня. Человек в плаще проскользнул в храм с рыночной площади, протискиваясь между телами и время от времени работая локтями. В нефе с высоченным сводчатым потолком, тонущим во тьме, задыхающиеся лампады бросали громадные тени на камни, не видевшие солнечного света со времени постройки, и неосвещенные места казались черными, как никогда. В их тени люди раболепствовали перед Богом и заключали во тьме сделки, остролицые, как лисы, а другие, распаленные, как просоленные волки, выискивали потаскух, готовых раздвинуть тощие ляжки за мелкую монету, рискуя собственными душами, в отчаянии и безмолвии потея в темнейших закоулках. — О, Господи, — разносился зычный, уверенный голос, раскатывающийся угасающими отголосками, — заклинаем Тебя явить нам милосердие Твое через предстательство Твоего благословенного исповедника Святого Эгидия. При каждом движении священников в торжественных облачениях фимиам вырывался серо-голубыми клубами из посеребренных кадил, облезающих от жары струпьями. Человек в плаще углядел впереди Биссета. — Да будет то, чего мы не можем удостоиться чрез наши добродетели, будет даровано нам через его заступничество. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Святой Эгидий, молись за нас. Хвала Христу! — Во веки веков! Жужжание голосов, будто пчелиный рой, округло прокатилось по камням. Человек в плаще увидел, как Биссет перекрестился и начал протискиваться сквозь толпу, — значит, дождаться дароносницы и благословений не суждено. Неважно… человек в плаще двинулся за ним, потому что потратил уйму сил, чтобы подобраться к нему настолько близко, и не хотел потерять его теперь. Ему только-то и требовалось узнать у толстячка, что ему известно и кому он это поведал. Бартоломью был отнюдь не дурак и знал, что за ним следят, знал уже какое-то время. Это ощущение сидело, как зудящее местечко чуть ниже затылка, которое не почешешь. Наверное, печально подумал писец, с того самого времени, когда он покинул Хэла Сьентклера и остальных в Линлитгоу долгие дни назад. «Берегите себя, господин Биссет», — сказал Хэл напоследок, и Биссет отметил про себя это предостережение, хоть и отмахнулся от него; в конце концов, кто такой Бартоломью Биссет в великом замысле мироздания? Он намеревался отправиться в дом сестры в Эдинбурге, а оттуда в Берик, где, как слыхал, устроил свою резиденцию юстициар. Биссет не сомневался, что Ормсби, расправив перышки, потрепанные в Скуне, примет человека его дарований с распростертыми объятьями. Заодно он был уверен, что кто-то уже расчел это, а после принял к сведению, что Бартоломью Биссет может поведать Ормсби, хоть и трудновато поверить, чтобы сэр Хэл Хердманстонский был причастен к этому, — иначе к чему бы вообще отпустил его в первую голову? И все же вот он, пробивается сквозь толпу верующих в храме Святого Эгидия, будто удирающая лисица в лесу, потому-то и свернул на Эдинбургскую Высокую улицу и направился к собору в уповании затеряться в сгущающихся толпах. Он не знал, кто его преследует, но одна лишь мысль, что кому-то вообще это надо, наполняла его ужасом и тошнотворным пониманием, что он стал частью неких козней, где заявление о полнейшем неведении не может послужить оберегом. Биссет протиснулся мимо парочки, спорившей о том, кто из них лжет больше, потом увидел просвет в давке, устремился к нему, внезапно вильнул в сторону и свернул обратно, вознося молитву святому. Покровитель лесов, прокаженных, нищих, калек и постигнутых внезапным бедствием, душевнобольных, страдающих падучей, ночными страхами и желающих совершить добрую исповедь — уж непременно, пронеслось в голове у Биссета, в этих широких полномочиях Святого Эгидия есть оговорка, покрывающая бегство от преследователя… Человек в плаще выбранился. Только что жирный говнюк был у него на глазах — и тут же испарился. Принялся лихорадочно озирать толпу, решил, что заметил преследуемого, и двинулся к нему. Бартоломью Биссет направлялся вверх по Высокой улице к замку, оступаясь на булыжной мостовой. Он уже запыхался и взмок, усердно взбираясь в гору. На улице царило оживление; англичане ввели комендантский час, но отменили его на эту особую ночь, в праздник Святого Эгидия, и этим поспешил воспользоваться, казалось, весь Эдинбург. В полутьме, подсвеченной рдяно мерцающим светом факелов, люди суетились и смеялись; нищий ухватился за случай полапать обнаженные грязные груди шлюхи, склабясь в ответ на ее проклятья. Биссет, двигавшийся стремительно, пригнув голову и пыхтя, как бык при случке — Раны Христовы, ну и нагрузился же он говядиной в последнее время, — вдруг полуобернулся и приостановился в полной уверенности, что заметил промелькнувший силуэт, непоколебимый и неотступный, как катящийся валун; чуть не споткнувшись о рычащего пса, рвущего раздутый кошачий труп, тот пнул его, давая выход бешеному испугу. Это вкупе с откровенной цепкостью преследователя повергло Биссета в панику, и он вильнул в сторону, в таверну Лаклана, в духоту и гомон хохота и перебранок. Деликатно протиснулся в толпу, где кучка гуртовщиков, только-только прибывших с севера, начала распевать песни фальшиво и не в лад. От этих здоровяков пахло по́том, землей и мокрыми коровами. Человек в плаще заскочил следом, быстро заморгав от перехода из темноты на свет; чад канделябров и смрад заведения саданули по ноздрям и глазам — в равных долях пот, эль, ветры и блевотина. Толстячка он не видел, но не сомневался, что тот зашел сюда, а еще не сомневался, что теперь толстяк знает о преследовании, что усугубляет ситуацию. Биссет увидел его — тень в по-прежнему накинутом капюшоне — не далее добрых двух вытянутых рук. Заныв, он толкнул ближайшего гуртовщика, качнувшегося вперед, прямо на приказчика суконщика, пролившего эль на свою роскошную темно-синюю рубаху, не удержавшегося на ногах и врезавшегося в полупьяного наемного резчика, а тот сердито ткнул кулаком мимо цели и попал другому гуртовщику по плечу. Человек в плаще увидел кавардак, разбегающийся, как круги от камня, брошенного в пруд. И выругался в голос, когда великан с сияющим от радости сальным лицом шагнул к нему, занося кулачище. Уклонившись, он двинул нападающему в пах, сдал назад, ощутил сокрушительный удар сзади и рухнул на колени. Биссет же тем временем уже ковылял на задворках мимо нужника, слыша доносящиеся из заведения Лаклана вопли, грохот и треск. Скоро подоспеет стража, так что он спешил прочь, пока не уверился в собственной безопасности, и лишь тогда остановился, опершись ладонями о колени, сотрясаемый наполовину рвотными спазмами, наполовину смехом. Через считаные минуты добравшись до безопасности дома сестры, писарь обнаружил, что дверь не заперта, и осторожно закрыл ее за собой, привалившись спиной и пытаясь утихомирить грохот сердца — и все же улыбаясь неразберихе, оставленной позади. Будет урок этой свинье, подумал он со свирепой радостью. Биссет еще тихонько посмеивался под нос, когда рука, появившаяся из тьмы, ухватила его за горло — так крепко и так внезапно, что он не успел даже пискнуть, мигом осознав, что вовсе не так сметлив, как думал. Незапертая дверь. Это в доме-то серебряных дел мастера? Надо было сообразить… — Мы счастливы, а? — произнес голос над самым ухом — настолько близко, что Биссет почуял гнилостное дыхание. Уголком глаза заметил блеск стали, и ноги у него подкосились. — Добро, — продолжал голос вкрадчиво и дружелюбно и оттого еще более устрашающе. — Счастливый человечишко куда скорее даст мне то, что нужно.* * *
Укутанный тенью человек вошел через задний двор, едва не задохнувшись от запаха из выгребной ямы. Окна из вощеной бумаги за деревянными ставнями не могли устоять перед тонким клинком его желобчатого кинжала, но за ставнями оказались прутья, установленные дотошным владельцем, пекшимся о сбережении имущества. Он перешел к задней двери, сработанной из крепких досок и обитой гвоздями, дабы противостоять ударам топоров, но оказавшейся незапертой, так что через пару секунд он уже ступил в темную тихую комнату. Постоял там минутку, прислушиваясь, тужась расслышать что-нибудь сквозь грохот биения пульса в ушах и ощущая пульсацию в такт в щеке и костяшках одной руки; для гуртовщика, учинившего первое и получившего второе, дело кончилось переломами костей лица, но человека в плаще это как-то слабо утешало. Он пришел сюда, потому что здесь живет сестра Биссета. Здесь-то он и взял эдинбургский след толстяка, сумевшего — вынужден был он признать — весьма остроумно отделаться от него в таверне. Теперь же он вслушивался и вглядывался в серый сумрак. Потом сделал шаг, другой и остановился, когда под ногой что-то хрустнуло. Стекло или керамика, подумал он. Осколки. Услышав шорох, оцепенел, потом услышал снова и медленно опустил руку к поясу, нащупывая огниво и свечной огарок. Набрал в грудь побольше воздуха и ударил кресалом. Искры ослепительно полыхнули во тьме, даже сквозь прищуренные веки. После первого удара он замер в ожидании, бдительно и наготове. Никто не появился; что-то прошмыгнуло на уровне пола. Он высекал искры, пока трут не затлел, потом поднес фитилек к углям и раздувал их. Наконец тот занялся, зардев, как маков цвет. Подняв огарок повыше, он увидел опрокинутый стул, разбитую глиняную посуду, пролитую кашу и мышь, удирающую от нее. Поднял упавший подсвечник, отыскал принадлежавшую к нему толстую сальную свечу, установил ее на место и зажег от своего огарочка. Более яркая свеча, поднятая высоко, озарила помещение масляно-желтым светом, сумрачно отразившись в шахматной доске и фигурах из горного хрусталя. Он медленно повернулся; грифон и пегас недвижно глазели на него, отражая своим серебром мерцающий свет, обративший лужу крови в темное озерцо. Женщина — надо полагать, сестра. Бледное лицо окровавлено, глаза широко распахнуты, на щеке ее же собственной кровью приклеена камышинка с пола. Обнаженная и избитая. И заколотая, заметил человек в плаще, искуснейшим ударом из всех, какие он видел — или наносил сам. Она сама без страха впустила убийцу под сенью ночи, и смерть ее была отнюдь не легкой, заметил человек в плаще. Значит, не любовник, а хитрый человек, сумевший подделаться под голос брата этой женщины. «Впусти же меня, быстрее, ради Бога», — он будто расслышал собственными ушами слова, хрипло, с поспешной настойчивостью произнесенные во тьме. Она впустила его, и темно-лиловые следы пальцев на ее лице показывали, что ей зажали рот, заставив стащить с себя тонкую ночную сорочку. Употребили, а потом убили, не дав ей даже слова молвить, подумал он. Но все равно не бесшумно. Следующий труп был не так уж далеко. Мужчина в ночной сорочке — муж сестры, вооруженный кочергой, поднятый с постели стонами и возней жестокого мужчины и напуганной женщины. Серебряных дел мастер, вообразивший, что его грифону и пегасу угрожает какой-то ничтожный воришка, обнаружил, что его жену насилуют, — а может, уже убили, потому что красная полоска на горле ремесленника показывала, что его застали врасплох. Оцепенев от ужаса при виде убитой и обнаженной жены, подумал человек в плаще, он был легкой добычей для такого безжалостного убийцы, как тот. Во рту у пришельца пересохло, его прошибло испариной. Он осторожно двинулся вперед, мягко перекатывая ступню по длине, хоть и был уверен, что убийцы давным-давно и след простыл, кляня потасовку в таверне. Ему еще повезло улизнуть, когда туда ворвались английские солдаты гарнизона, с криками лупя по головам направо и налево. Ловкий трюк, Бартоломью Биссет, подумал он… ты задержал меня надолго. Толстяка он нашел у двери — настолько близко, что сразу понял: Биссет едва успел переступить порог, когда подвергся нападению. Он был раздет и лежал с руками над головой, до сих пор связанными за иссиня-черные большие пальцы; подняв голову, человек в плаще увидел фонарный крюк и болтающуюся на нем веревку. Его связал и пытал человек, угрюмо подумал он, не только знающий дело, но и обожающий его, не спешивший, чтобы ублажить себя, потому что знал, что больше в доме ни одной живой души, одни трупы. «Кабы Биссет, бедная обреченная душа, не исхитрился задержать меня дракой гуртовщиков и погоней решительно настроенных стражников по задворкам, я мог бы подоспеть вовремя, чтобы спасти его», — подумал человек в плаще. Приглядевшись повнимательнее, он увидел одну-единственную рану — безгубые уста, ведущие прямиком в сердце, — убившую толстячка настолько стремительно и бесповоротно, что он почти не пролил крови. Итак, смертельный удар человека с плоским обоюдоострым дирком, узнавшего все, что требуется, потешившегося, сколько осмелился, и больше не нуждавшегося в Бартоломью Биссете. Человек в плаще услышал шум на улице, людей, перекликавшихся при встрече — гортанно, как вороны, — задул свечу и замер в задумчивости. Значит, здесь больше ничего. Вернемся к лотианцу Хэлу Сьентклеру, хоть человек в плаще и был уверен, что сей господинчик никакого касательства к этому не имеет. Пробираясь обратно мимо удушающей выгребной ямы, человек в плаще гадал, кто же тут причастен.Абби Крейг[604], Стерлинг Праздник Святого Лаврентия, 10 августа 1297 года Уже две ночи воинство графа Суррейского видело тусклое рдение, отмечавшее лагерные костры скоттов по ту сторону долины и вверх по благочестиво нареченному холму. Будто дыхание дракона, сказал Кевенард, отчего остальные рассмеялись — мысль о добром валлийском драконе была для лучников утешительной. Аддафу при их виде никакие драконы даже в голову не пришли; он подумал о Геенне Огненной и что сам Дьявол может там находиться; когда ветер переменился, все они услышали безумные визги и вопли, будто там отплясывали бесы. — Пекло не там, гляди, — проворчал Хейден Капитан, обсасывая похлебку с кончика уса. — Пекло будет в долине, каковая исполосована озерцами, болотами, ручьями и речками. Вот там нам придется стоять и зазывать этот народец вниз, и когда оно начнется, они не будут петь, попомните меня. В цитадели Стерлинга сэр Мармадьюк Твенг смотрел, как рдеют угли, думая обо всех других временах, когда видел их — слишком уж много раз, стоя в одной массе людей, собиравшейся изрубить другую массу людей во прах. Будь он вообще знаком с Хейденом Капитаном, смог бы кивнуть в знак согласия с командиром валлийской фаланги; карс — низменные заливные луга по ту сторону моста Стерлинг — изрезаны тем, что местные называют «бочагами»; как раз то место, где встанут лучники, дабы расстрелять пехоту мятежников. — У них вообще нет коней, — сообщили де Варенну, и уж не поведавшим ли сие господам, бросавшим тревожные взгляды на Крессингема, Твенга и Фитцварина, знать о том. Джон Стюард и граф Леннокский, только-только снова выторговавшие себе милость Эдуарда, теперь предлагали попытаться проделать то же самое с сэром Эндрю Мори и Уоллесом. — Сомневаюсь, что от сего будет прок, — объявил де Варенн, — поелику Мори еще мог бы пресмыканием вернуть свои земли и титулы, но Уоллесу не будет пожаловано ровным счетом ничего, добрые государи мои. Даже быстрой кончины. — При всем при том, — сердито промолвил Леннокс, — стоило бы попытаться, и вы ничего при том не теряете, вы ведь ждете Клиффорда. — Ха, — фыркнул Крессингем, и де Варенн посмотрел на него волком. Твенг промолчал, но увидел, как двое шотландских государей озирают их всех по очереди, а потом переглядываются между собой. До объяснения ни один не снизошел, но когда они удалились, Твенг понял, что довольно скоро они выяснят: Роберт де Клиффорд, лорд-хранитель английских рубежей, усердно собиравший войска для армии графа Суррейского, был отослан Крессингемом. Отвергнут как «непотребный». Крессингем сетовал на издержки по оплате расходов Клиффорда, когда армия и так уже довольно велика, чтобы справиться со смутьянами под началом какого-то ничтожного разбойника. Так было еще до выступления, конечно, а между Роксбургом и Стерлингом громадная армия растаяла, как топленое сало, и на мили в округе, широкой полосой вдоль дороги, край наполнился дезертирами и отставшими солдатами, занявшимися грабежами. Теперь Клиффорд им понадобился — но этот возмущенный государь не выйдет даже помочиться на охваченного огнем Крессингема. Покинув де Варенна и Крессингема спорящими о диспозиции, Твенг вышел в дышащую ветром ночь высоко на зубчатую стену замка, где часовые неизменно вышагивали между мерцающими факелами. Его терзал вопрос, не придется ли завтра биться с кем-то из знакомых.
* * *
На дороге к Камбаскеннетскому аббатству, достаточно далеко от Крейга, чтобы тамошние костры выглядели во тьме бледными цветками, Куцехвостый Хоб завернулся в свой плащ поплотнее и погрузился в полудрему, думая о дочери мельника Джинни, одни лишь руки и губы которой могут довести до косоглазия. Путь до нее в Уайткерк неблизкий, все подметки стопчешь, но оно того стоит… Услышав топот копыт на дороге, он приподнял голову над кочкой, за которой прятался. Ветер вздохнул, донося сырость с карса; черная лента излучины широкой реки поблескивала в угасающем свете дня. Всадник, ссутулившийся на спине устало трусящей лошади, обрисовался на фоне неба силуэтом, направляясь к гигантской башне звонницы, служащей вехой аббатства. Поскольку единственная дорога вела от Абби Крейг, это означало, что посетитель прибыл либо из лагеря шотландцев, либо через мост, вверх по гати и вдоль Абби Крейг. Раньше здесь проходили несколько отчаявшихся беженцев, толкавшие тачки с поклажей и спешившие во весь дух, но новые не показывались уже давненько. Проводив удаляющегося всадника взглядом, Куцехвостый снова погрузился в полудрему. Останавливай тех, кто будет направляться из аббатства, велели ему, так что направляющийся туда — не проблема. Хоб бросил взгляд на отдаленные сигнальные огни на галереях Стерлинга, а затем на темное пространство, расцвеченное огоньками костров на холме, гадая, каково оно, ждать там завтрашнего дня. Он не сомневался, сэр Хэл знает, что затеял, пытаясь уклониться от грандиозного бича солдатни, идущей на Стерлинг, преисполнившись мстительностью ко всему шотландскому без исключения. И тем не менее направляться к биваку все едино что плясать на краю пропасти — с одной стороны, Хэла будут воспринимать как человека Брюса, держащего сторону англичан; с другой — при нем графиня Бьюкенская, а она жена графа, хоть и не поддерживающего Уоллеса и Мори делом, но ухитрившегося смотреть на их деяния сквозь пальцы и позволившего им пойти здесь на смычку. Есть и другие резоны, не сомневался Куцехвостый Хоб, иначе с какой бы стати им сидеть здесь, заботясь, чтобы ни один камнерезишка не ускользнул из Камбаскеннета под покровом тьмы? И все же он не вполне их понимал — да и не нуждался в том. Ему сказали, что от него требуется, и он занялся этим, закутавшись в плащ от холода. Выше на холме сидел Псаренок, укрывшись от ветра за полосатым шатром и глядя на ближайшие костры, а за ними — на маленькие красные глазки вроде притаившихся в лесу хорьков, указывающие, где англичане подступили к стенам замка Стерлинг. Слушал перебранку людей поблизости, споривших о том и сем, чиня кожаные ремни и оттачивая оселками острия больших длинных пик. Он уже не первый день зачарованно наблюдал за пикинерами; они проходили муштру совместных действий многосотенными баталиями. Опустить пики. Положить пики. Поднять пики. Упереть пики. Изготовить пики. Псаренок смотрел, как они оступаются, сталкиваясь друг с другом, ругаясь, плюясь и путаясь. Некоторые, видел он, куда искуснее других — люди из армии Мори; и сущее удовольствие смотреть, как они движутся и поворачивают, будто хитроумная игрушка. Кернам Уоллеса это дело не по нраву, но их подстегивали к тому его зычный раскатистый голос и опытный присмотр командиров Мори. Сидевший рядом Хэл наблюдал, как Псаренок смотрит на огонь кухонных костров, льнущий к земле и мерцающий от ветра, стелющегося вверх по Абби Крейг. Он ожидал возможности переговорить с Уоллесом, и любопытство — Боже, да это его проклятье — погнало его поближе к шатру, где можно было расслышать, как прибывшие государи пытаются убедить Уоллеса и Мори сдаться. — Сиречь вы на стороне англичан, — сказал Уоллес, и Хэл сквозь холстину услышал, как Леннокс и Джон Стюард лепечут отрицания. — Сиречь вы на нашей стороне. На сей раз последовало молчание, настолько неуютное, что даже Хэл почувствовал его со своего места, пока его в конце концов не нарушил мягкий, успокоительный голос Мори: — Приношу вам свою благодарность, государи мои, — произнес он по-французски. — Передайте Суррею наше пламенное пожелание, дабы он отступил отсюда и из державы. — Суррей тут не властен, — ответствовал Джон Стюард. — Крессингем возглавит армию поутру. Уоллес испустил горький каркающий смешок. — Он не вождь. Он ничтожный щелкопер, чернильная душонка, он и со вши шкуру сдерет, дабы продать с выгодой, — проворчал он. — Поведайте ему сие, коли хотите, — но попомните меня, нобили, здесь Эрвин не повторится. — Те переговоры вели англичане. Они выиграли вам время на все сие, — угрюмо проговорил Леннокс по-французски, и Хэл услышал, как Уоллес откашливается, буквально видя нахмуренные брови, ясно дающие понять, что он более не желает здесь французской речи, которую понимает куда хуже английской. Мори спокойно перевел. — Вы выкупили свои земли, — напрямик отрезал Уоллес. — Лживым поцелуем и предательством. Вскорости, государи мои, вам придется выбирать; вы уж порадейте — пришедшим на пиршество последними достанутся только кости. — Мы не будем биться с вами, Уоллес, — с вызовом парировал Стюард, предпочтя пропустить оскорбления мимо ушей. — Свет державы полагает за лучшее уладить дело миром, какими бы соображениями сие ни диктовалось. — Из моих рук вы его не получите, — ответствовал Уоллес голосом обыденным, как толокно, тщательно выговаривая слова по-английски. — Желаю вам добра от вашей капитуляции. Да будут ваши кандалы легки, государи мои, когда вы преклоните колени, дабы лизать длань. И да забудут потомки, что некогда вы заявляли о нашем родстве. Последовало молчание, вязкое, как каша, а потом раздался голос, еще более вязкий от гнева, — Стюард, узнал Хэл, едва сдерживался. — Вам нечего терять, Уоллес, так что бросать кости из вашей чаши вряд ли рискованно. — А из моей? — беззаботно поинтересовался Мори. Молчание. — Мы не встанем против вас, — упорствовал Леннокс. — То же провозглашал и другой из вашего племени, сэр Ричард Лунди, доколь не перепрыгнул через ограду к англичанам, — горько проронил Уоллес. — Теперь же оный считает Эдуарда добрым парнем, который навел порядок в своем королевстве, и присоединился к нему, дабы биться против нас. Вот что воспоследовало из вашего фиглярства в Эрвине. Коли ваша знать будет упорствовать в раболепии, подобных ему будет толико поболе. — Клянусь Богом, я не стану выслушивать нотации от вам подобных! — взорвался Стюард. — Вы выскочка, безземельный челядинец с крепкой десницей, понятия не имеющий, куда ее приложить, пока господа не скажут… — Довольно! Голос Мори полоснул, как клинок, и тишина воцарилась столь внезапно, что Хэл расслышал сквозь холстину яростное бычье пыхтение. — Ступайте обратно и реките графу Суррейскому, Крессингему и всем остальным, что мы дожидаемся удовольствия встречи, государи мои, — присовокупил Мори вежливо, но угрюмо. — Если он желает, дабы мы ушли отсюда, пусть поднатужится и добьется этого. Движение и шелест поведали Хэлу, что Леннокс и Стюард удалились. Наступило молчание, а затем Уоллес харкнул мокротой. — Зрите, яко оно? — горько изрек он. — Опричь вас, весь свет державы плюет на меня. Нам нипочем не осуществить планы Уишарта, коли их плуг будем толкать только мы. — Не изводите себя, — отозвался Мори. — Что бы они там ни думали, будет биться не свет державы, а чернь державы, а вы — их человек. Помимо того, нобили сей державы последуют за нами, потому что ни Брюс, ни Комин не смогут пойти за одним и тем же плугом. В конце концов, у нас только и есть что король, ибо Длинноногий разбил Печать Шотландии, похитил Крест Господень и украл самое Камень королей. Проложить сию борозду больше некому, и посему это должны сделать мы. Псаренок слышал это лишь вполуха, почти ничего не понимая, глядя на приходящие и уходящие ноги. По части ног он был дока, потому что обычно именно их видел первым делом из своей по-заячьи скорченной позы, которую всегда принимал, — отчасти готовность бежать, отчасти попытка стать незаметным. Он видел босые ноги людей с северных нагорий с ногтями как рог, не ставивших обувь ни во что и надевавших разве что сабо или паттены в самый разгар зимы. Эти люди с буйными космами, жуткими ножами, круглыми щитами и секирами на длинных топорищах говорили либо на языке, непонятном Псаренку напрочь, либо на другом, который он едва-едва разбирал. Они говорили с переливчатым присвистом и отплясывали под дикую музыку. Были еще кожаные башмаки и полусапожки, порой истрепанные и просящие каши, принадлежавшие людям из Кайла, Файфа и Марча, — бюргерам и вольноотпущенным, которые могли позволить себе железные каски и толстые стеганые куртки с заклепками, вооруженным длинными копьями, пиками в маршевом строю, так чаровавшем Псаренка. Шилтрон[605]. Это новое словцо не только для Псаренка, но и для всех прочих; он перекатывал его во рту снова и снова, будто голыш от жажды. Люди из Эршира и Файфа умудрялись высмеивать друг друга за странный говор, но рядом с людьми с севера ходили на цыпочках. И все же и те и другие нынче смотрели в одну сторону, и, укладываясь навзничь в траву и устремляя взгляд на облака, Псаренок постиг ошеломительную значимость этого откровения. Какую бы неприязнь ни питали они друг к другу и к людям с северных нагорий, сколько бы ни считали Брюса, Мори, Комина и им подобных чужаками, все они оказались здесь лишь потому, что еще больше ненавидели только одно: оказаться под игом захватчиков с английского юга. Видел Псаренок и изящные кожаные сапоги, и кольчужные chausse с кожаными подметками, отмечавшие рыцаря или тяжеловооруженного всадника, но была еще и драгоценная горстка облаченных в железные поножи. Тут он вспомнил о Джейми Дугласе и ходил с расспросами от костра к костру, пока не сыскал людей из Ланарка, один из которых был осведомлен о произошедшем. — Во Франции, — поведал он Псаренку у гаснущего алого костра. — В безопасности у епископа Ламбертона, поелику евойного папашу увели в кандалах. Человек, говоривший с Псаренком, глядя на лицо отрока с заострившимися чертами и ввалившимися глазами, добавил, что папашу Джейми вряд ли суждено увидеть снова — из камеры в Берике его перевезли в Тауэр, где он бесился, разглагольствовал и наконец чересчур допек своих тюремщиков. Побоями, слыхивал он, дело не кончилось. Не ожидая возвращения Смелого в ближайшее время, его женщина и братцы Джейми живут у своих родственников Ферреров где-то в Англии, а Дуглас нынче в английском замке. Псаренок очумело добрел до убежища за полосатым шатром, где Хэл его и нашел. Дугласа захватили Посягатели. Джейми во Франции. Псаренок лишь очень смутно представлял, что Франция находится где-то к югу от Англии, которая находится к югу от Берика; надо быть, далековато, пусть даже вельможные и могучие и говорят на языке того края промеж собой, и даже здесь, на Абби Крейг, есть настоящий человек из Франции. Вокруг мерцающих костров, цветущих во тьме розами, люди жались поближе друг к другу, и Псаренок почувствовал себя безмерно одиноким, ощутил грандиозные, черные раздумья окружающих деревьев, вздыхающих и поскрипывающих во тьме. Джейми, замок Дуглас — все, что он знал, скрылось без следа, даже чудесные псы лотианского владыки. И сейчас большинство знакомых ему людей — Лисовин Уотти, Куцехвостый и прочие — далеко за ночью, за петляющими излучинами реки, там, где бледные искорки огоньков отмечают аббатство Камбаскеннет. И обрадовался приходу Сима и государя Хэла. — Дуй к Симу, — велел Хэл съежившемуся Псаренку; от его уничиженно согбенной позы сердце у него прямо кровью обливалось. — Он сидит у огня, и в котелке у него кое-что есть. Псаренок нырнул в ночь. Хэл снова услышал шелест шатра — это вышел Мори, — а затем сквозь холстину пробились раскаты баса Уоллеса: — Довольно вам таиться под свесами полога, Хэл Сьентклер; заходите, поведайте мне о камнерезе. Устало поднявшись, Хэл вошел в шатер, разивший перепревшим по́том и волглой шерстью. Расположившись в курульном кресле, с полуторным мечом не далее локтя от десницы, Уоллес выслушал рассказ Хэла о савояре-камнерезе. — Сорок дней, вот как?.. Нет у нас сорока дней, Хэл. У нас есть ночь да утро, а коли Бог даст и сеча пойдет по нашему чаянию, то вдобавок утро дня после завтрашнего. Переступив с ноги на ногу, Хэл мысленно выругал вальяжно развалившегося напротив великана. Одет он теперь получше — даже штаны и башмаки, как причитается одному из избавителей державы, — но это все тот же разбойник Уоллес. — Не могу я идти на штурм Камбаскеннета, — заявил Хэл. — Этому человеку предоставлено убежище на сорок дней. И у него осталось еще тридцать семь из них. Он не может выскользнуть незамеченным, ибо я расставил людей следить за каждым путем оттуда. Испустив вздох, Уоллес тряхнул косматой головой. — Армия здесь уже неделю, ждет, чтобы англичане избавили Стерлинг от угрозы. Не могу поверить, что этот человек все это время был у меня подносом, — проронил он, горько усмехнувшись. — Вы потрудились на славу, выслеживая его, хвала вам за то. Хэла это ничуть не утешило; было не так уж трудно сообразить, что Манон де Фосиньи направится в аббатство в Стерлинге — Камбаскеннет есть идеальное место для человека его качеств, обладающего умениями и инструментами, причитающимися резьбе по камню для церквей, и немало поработавшего в Скуне. Поскольку де Фосиньи — савояр, узнать о том, что он здесь остановился, было нетрудно, но расспросами они выдали свое присутствие, и аббат, поначалу улыбающийся и предупредительный, вернулся с мрачным видом, дабы поведать Хэлу, что искомое ими лицо ныне на святой земле. Через сорок дней ему придется удалиться, но до той поры он неприкосновенен. Он не хочет ни видеть, ни быть увиденным ни Хэлом, ни кем бы то ни было еще. — Добро, — ответил Уоллес. — Завтра ране все решится, все али ничего. И аббатство тож. В этом Хэл не сомневался; этот человек разграбил Скун, спалил дом епископа Уишарта — говорили, в приступе гнева, услыхав, что его наставник спасовал в Эрвине. Подобный человек не станет чувствовать угрызений совести из-за аббатства, но Хэлу идея грабежа не понравилась, о чем он и сказал. — Малость чересчур разбоя для вас, сэр Хэл? — скорбно скривил губы Уоллес. — Нежли клирики досель чинили вам вред? — парировал Хэл, уязвленный до бесстрашия. — Когда вы притязали на сан? Чуть развеселившись, Уоллес вяло от усталости ухмыльнулся. — Нет-нет, я всегда был дурным клириком, хотя добрый человек Джон Блэр и пытался наставить меня на путь истинный. Но моя блудная юная натура была боле сродственна натуре Мэтти. — Подняв глаза, он криво усмехнулся, пояснив: — Сына моего дяди-священника. Аки все подобные, оный был ни овцой, ни волком и оттого страдал. Не желая сана, все же принял постриг, как и я. Какими же послушными долгу сыновьями мы были… Порой я уверен, что чада плачут, рождаясь на свет, поелику ведают, в какой вотчине родились. Хэл вспомнил нескольких знакомых сыновей священников — отроков с ввалившимися щеками, живущих в преисподней, где остаются непризнанными, но пользуются преимуществами положения, будто законные сыновья. Даже у епископа Уишарта есть сыновья, хотя никто не зовет их иначе как «племянниками». — Мэтти, — задумчиво продолжал Уоллес, погрузившись в воспоминания, — научил меня выживать вне закона, поимейте в виду, так что жизнь церковная не пропала втуне. Хэл слыхал смутные байки о блудном Уоллесе, о грабеже женщины в Перте. И упомянул об этом, трепеща в готовности бежать при первых признаках грозы на челе Уоллеса. — Она была шлюхой, — печально признал тот. — Она ограбила нас, но дело выглядело скверно, в первую голову потому, что ее посетили вполне оперившийся член клира и едва принявший постриг мальчонка. Так что мы взяли что могли и удрали. Недостаточно проворно, сочтите сие, но поелику Мэтти был священником, а я был так юн, нас отпустили. — Значит, посему вы задали трепку Гезльригу? — спросил Хэл. — Я слыхал, что из-за женщины. — Слыхал я сие, — медленно отвечал Уоллес. — Не из-за женщины и не пустяшной мести за суд, освободивший нас. Я выступил против Гезльрига, потому что он выступил против меня: у меня вышла распря с парнем, вообразившим, что я не имею права носить кинжал, и вознамерившимся меня от оного избавить. Умолкнув, он покачал головой — с искренней печалью, как заметил Хэл. — Толды аз бых взметчивым парнем, блудливым задирой в облачении, сознавшим, что ряса мне не к лицу. Я не желал Церкви, сэр Хэл, да и ей не было до меня дела, но для ничтожного младшего сына ничтожного землевладельца иной стези почитай и не было… — Уоллес снова помолчал, огорченно хмурясь. — Подобным поведением я не учинил чести отцу и отнюдь не горжусь им. — Что же случилось? — спросил Хэл. — С парнем, с коим вы побранились? Уоллес поглядел из-под сдвинутых бровей и снова уставился на сучковатые доски пола. — Он был оруженосцем некоего сержанта в месни Гезльрига, умыслившим затеять ссору, дабы попрать мизерного заносчивого шотландского попишку. — Он заерзал от этого воспоминания, ссутулившись, будто исполинский медведь; затем бесцветным голосом продолжил: — Должно было кончиться лишь кулаками да пинками, не боле. Однако же предметом перебранки был дирк, и в конечном счете я отдал оный, да только ему было с того мало проку, ибо тот застрял у него в брюхе. Он не заслужил подобной участи, и шериф Ланарка был с тем согласен. Несмотря на свою вину — я пристыжен сей оказией, — я не собирался торчать на месте, аки жернов, и пойти под суд. Посему события пошли своим чередом. Какое-то время Уоллес хранил молчание, потом тряхнул головой и заерзал. — Подобные байки не снискали мне любовь нобилей, — угрюмо заметил он. — Без надобности им мизерный беззаконник, безземельный расстрига из Уоллесов. — Вот уж не мизерный, — с ноткой иронии возразил Хэл. — Дайте срок, у вас будет не счесть братьев — и родных, и двоюродных, сдается мне. — Особливо же, — с горечью проронил Уоллес, — сие сходится с моим возвышением до положения Роланда и Ахиллеса. До сей поры я не мог и куска хлеба выпросить в Риккартоне, Тарболтоне или любом ином из домов Уоллесов. Кров и стол мне давал лишь Тэм Халлидей из Коурхеда, а ведь оный мне родня лишь чрез женитьбу на моей сестре. Он зевнул, и веки его полузакрылись, и Хэл увидел на точеных чертах этого человека отпечаток чудовищной усталости. Завтра этот великан примет на свои широкие плечи бремя всего королевства и поведет шотландскую армию против врага. «Завтра меня здесь не будет, — подумал Хэл. — Я могу оставить графиню здесь, сказав, что доставил ее живой и невредимой, доколе было безопасно, и это не будет ложью, — пытался он убедить себя. — Если б я отвез ее к англичанам в Стерлинг лишь затем, дабы выяснить, что ее муж ныне деятельный мятежник, я попросту отдал бы ее в руки врага. Привезя ее к мятежникам на Абби Крейг, напротив, передал ее в те руки, которые хотя бы не используют ее для получения выкупа. Покамест…» Уже не в первый раз Хэл проклял все это мутное дело, как делал сие молча, желчно, под нос всю дорогу через город, под хмурым взором удерживаемого англичанами замка и по пути через мост к Абби Крейг. И все же длинные дни пути до Стерлинга помнились ему славными. Как сказал Сим, когда они громыхали по Кривой улице, и в голову не придет, что мир того и гляди ринется навстречу крови и погибели. — Вы еще пожалеете, что не вернулись за плуг, государь Хэл, — сказала ему Изабелла вежливо и с улыбкой. Он порадовался этой улыбке, ведь она все более увядала по мере приближения к северным землям Бьюкена. В Хердманстоне, поведал Хэл, настала пора урожая ячменя, а в этом году он должен быть немалым. Ежели повезет, овец не постигнет ни парша, ни копытная гниль, у коров не потрескается вымя, а свиней не постигнет вертячка, и они не заспят ни одного поросенка. И говоря это, Хэл ощущал сокрушительное бремя понимания, что слишком уж много мужчин вдали от дома, что рук для сбора урожая не хватит и эта трагедия разыгрывается в каждой усадьбе Шотландии. Что ни день, небо было блекло-голубым, подернутым тонкими творожно-муслиновыми облаками. Ячмень и рожь наливались, дожидаясь жатвы, молотьбы и веяния без гнили и перегрева, и дождя выпало как раз в меру, чтобы вертеть мельничные колеса и наполнить бочки для сбора дождевой воды. Однако край лежит в запустении, ибо всех забрали в войска. И все же память о Хердманстоне туманила ему взор, пока он рассказывал. Чувствуется, говорил ей Хэл, первое дыхание осени — прохладное, но не зябкое. Все вокруг будто из драгоценных металлов — солнце сияет сквозь мягкое серебро, озаряя зеленовато-золотым сиянием урожай на полях. В море дымки громадные тучи, как головы железного быка, приплывут с запада, а ветерок, добавил он, будет шалить, внезапно вздымаясь, чтобы пробежаться среди деревьев. Изабелла слушала, дивясь тому, как он переменился, рассказывая о вотчине, и вновь почувствовала тот же диковинный утробный толчок. Будут закаты, начал он повествовать ей, — и вдруг осекся, вспомнив последний виденный на родине закат, четко очертивший каменный крест на фоне угасающего сияния денницы. Графиня узнала о смерти его жены и сына от других. — Что их сгубило? — спросила она, и участие в ее голосе смягчило боль. — Болотная лихорадка, — вяло ответил Хэл. — Квартана — она скончалась от той же болезни, что и королева Элеонора, а мой мальчик — через неделю после матери. Идею каменного креста подали мне те, которые король поставил в ее память. — Длинноногий любил ее, — проронила Изабелла, — при всей своей суровости. — Истинно, — согласился Хэл, отгоняя воспоминания. — Хотя бы эта боль нас роднит. — Вас роднит и другое, — лукаво заметила графиня, — это конь. Любимый королевский конь — это Байард, а Балиус, на котором вы едете, той же породы. Хэл знал, что Байардом звали волшебного гнедого из детских сказок — рыжеголового, с золотым сердцем и лисьим умом; это имя прекрасно подошло бы и самой Изабелле. Он высказал это вслух, и она, запрокинув голову, громко рассмеялась. При виде этого дивного белого горла с голубыми прожилками Хэл невольно расплылся в глупой вислогубой улыбке. — Слыхивал я, он въехал на Байарде в Берик, — проворчал Сим, подъехавший как раз вовремя, чтобы услышать последнюю реплику и накинуться на нее, как баран на новые ворота. — Перескочил крепостной вал из бревен и земли и повел своих людей чинить бойню, так сказывают… Мы почти въехали в переулок Святой Марии — мы что, переедем через мост и присоединимся к повстанцам на Абби Крейг? — Присоединимся к повстанцам, — рассмеялась Изабелла. Хэл отряхнулся от задумчивости, возвращаясь к текущему моменту. «Легко вам смеяться, государыня, — с горечью подумал он, — коли вы никогда, ни разу не восставали так или эдак. И все же мне вверено довести вас живой и невредимой, и быть посему…» Уоллес задремал, и Хэл ощутил острую симпатию к спящему великану с упавшими на лицо волосами и грязным кулаком на расстоянии перста от рукояти полуторного меча. Даже удержать всех этих людей вместе — задача не из легких, а уж тем паче обратить их из драчунов в солдат, пытаясь перехитрить неприятеля, пытаясь спланировать победное сражение против лучшей кавалерии на свете. Присоединиться к повстанцам… Господи Боже, только не это снова, подумал Хэл. Привезти графиню сюда было самым безопасным для нее, потому что ее муж — Комин и тем самым состоит в более тесном родстве с мятежниками, нежели с английским Эдуардом. А раз с этим покончено… Он ступил в ночной воздух, слыша странные, дикие звуки цистры и виелы, гикающие и зыкающие в пляске, будто завтра очередной дюжинный день и будет довольно времени справиться с больной головой. Мир стремительно мчался к рассвету, и Хэла охватило паническое желание убраться отсюда до света… — Будем уповать, они недурно спляшут и заутра, — произнес голос, и Хэл, вздрогнув, обернулся к выступившему из мрака Мори. «Молодой, с толстой шеей и грудью, как бочка, с возрастом он разжиреет, как его папаша, — подумал Хэл. — Пока же крепок и внушителен в своей изящной суконной рубахе и сюркоте с синим щитом с тремя звездами, ярко сияющими на нем даже во мраке». За ним выступал заморский рыцарь, говоривший по-французски, но бывший фламандцем с каким-то тарабарским именем, которое Хэл тужился припомнить. — Спит, — сказал он, дернув головой в сторону шатра. Кивнув, Мори развел руками. — Неважно, круг выстроился, и нам остается лишь взять своих партнеров и пуститься в пляс, — отозвался он, переходя на французский ради спутника, затем помолчал с набежавшей на губы улыбкой — отчасти нежной, отчасти исполненной горького сожаления. — Я пришел порадеть, чтобы Уоллес соблюл все фигуры танца. У него есть обычай плясать под собственный мотив. — Присоединитесь ли вы к нам завтра, государь Генри? — спросил иноземный рыцарь, и Хэл моргнул, а потом сообразил, что рыцарь — Бервальд, вдруг вспомнил он, Бервальд де Моравия, фламандский родственник Мори, — приглашает его войти в сотню или близко того всадников — всех, кем располагала шотландская армия, и притом среди них почти ни одного тяжеловооруженного конного рыцаря или сержанта. Он затряс головой столь истово, что она чуть не оторвалась. Балиус принадлежит Бьюкену, и рисковать им в подобном сражении нельзя, залепетал Хэл, а Грифф чересчур легок, и проку от него будет маловато. Выслушав сие, Эндрю Мори кивнул. — Так есть, добро, то будет болезненный ураз дня, — мрачно изрек он, а затем кивнул Бервальду, обращаясь к Хэлу. — Победа, — добавил он по-французски, — будет зависеть от пеших, а не конных, как бы сей мой кровник ни желал обратного. Бервальд промолчал, но его хмурый вид говорил, как не по нраву ему полагаться на голозадых пехотинцев, дико отплясывающих ночь напролет, перед тем как выступить против английской конницы. Тысяча копий, как слыхал Хэл. Он поежился. Тысячи копий вполне довольно — Господи, да половина этого числа просто закопает их, пронеслось у него в голове. Он подумал об Изабелле и о том, что случится с лагерем, женами и чадами в нем, если бой будет проигран, да притом воцарится паника… Его тянуло к ней, как железо к магнитному камню. Она была у серых монахов — тиронезийцев из Селкерка, сработавших доброе укрытие из ветвей деревьев и шатровой парусины и отдавших его сразу и под часовню, и под лазарет для недужных — а скоро и умирающих. Хэл застал ее спорящей с хмурым монахом в сутане с капюшоном о том, как лучше лечить больной живот. — Разжуй лавровые листья, проглоти сок и положи жвачку на пуп, — устало проговорила она. — Он жует и проглатывает листья, не вы. На вашем месте я бы держалась поближе к отхожим местам. Монах с бледным ликом под капюшоном кивнул и, пошатываясь, побрел прочь; Изабелла обернулась к Хэлу, поднимая глаза и брови навстречу тьме. Дернула головой, и он последовал за ней в занавешенную пологом комнату. Оказавшись внутри, графиня стащила головной убор и поскребла россыпь своих неубранных рыжевато-каштановых волос, упавших на плечи, будто пес, вычесывающий блох, с явным удовольствием. — Раны Господни, как же хорошо! — воскликнула она. — Сейчас мне бы только вымыться. Ощутив взгляд Хэла, Изабелла встретилась с ним глазами, держа в руке головной плат, будто обвисшую белую змеиную кожу. Смущенно зардевшись от его откровенного, изумленного взора, она с вызовом поинтересовалась: — Ну? — Мои… прошу прощения… вы застали меня врасплох, — пролепетал Хэл, поворачиваясь спиной. Она фыркнула и тут же рассмеялась. — Нынче вы мало чего обо мне не знаете, Хэл. И вавилонская блудница — самое малое из того. Несчастная жена, подлинно. Несчастная и отвергнутая возлюбленная. И показать свои неприбранные волосы мужчине, не являющемуся моим мужем или родственником, — сущий пустяк. — Графиня опустилась на длинную лавку. — Не хуже, чем упорство негодующих монахов, не дающих тебе на самом деле положить жвачку из листьев на пупок хворого. — Волос я не ожидал, — признался Хэл. — Признаю, они нуждаются в причесывании и мытье, — ответила Изабелла, — но уж наверняка они не столь же губительны для очей, как василиск? — Нет… нет, — начал Хэл и тут заметил ее кривую усмешку. — Нет. Я не ожидал такого обилия — я однажды видел их распущенными и в… Он осекся, сообразив, в какую трясину вляпался, увидев ее широко распахнувшиеся глаза. — Когда это было? Хэл ощутил, как покрылся мурашками и залился румянцем. — В Дугласе, — признался он. — Я видел вас и Брюса… щит юного Джейми и рукавицу… Настала ее очередь покраснеть. — Вы подглядывали за мной, — укорила графиня, и Хэл принялся отрицать, запинаясь; потом понял, что она над ним смеется, и замолк, уныло почесывая собственную голову. — Истинно, — сказала Изабелла, увидев это, — нам обоим придется обриться, как клирикам, дабы избавиться от всего, что там развелось. — Аки ваш лазарет, — ответил Хэл с невозмутимым видом, — они дают приют всем несчастным душам, какие могут туда втиснуться. Теперь настал ее черед улыбнуться, и это зрелище согрело его. Снаружи кто-то взвыл, и Изабелла вскинула голову. — Мэгги из Килуиннинга, — сказал она, сдвинув брови. — Ее муж был в месни Мори. Когда ее принесли, она бредила об огненных тиграх, терзающих ее плоть. Принесли еще четверых беременных, у всех выкидыши. Три из них, наверное, умрут. Плечи ее понурились, и Хэл обнаружил свою ладонь у нее на голове, прежде чем сообразил, что сделал это. Выпрямившись, Изабелла воззрилась на него — то ли в готовности к бегству, то ли в изумлении. Он отдернул руку, и тогда Изабелла шевельнулась. — Я бы ее вымыла на вашем месте, — улыбнулась она. — Есть такие, кто сказал бы, что это одержимость демонами, — осторожно заметил Хэл. — Наказание за грех мятежа. Быть может, знамение, что Бог нас покинул. — Херня, — свирепо отрезала Изабелла, и Хэл вздрогнул. Взгляды их встретились, и оба улыбнулись. — Итак, — наконец проронил он. — Недуг. Быть может, душевный? Безумие обреченных? Изабелла кивнула, признавая проницательность замечания, с одобрением глядя в эти холодные серые глаза. А потом тряхнула головой. — Есть травы, вызывающие то же, хоть и не столь истово. — Значит, яд? — предположил Хэл, и они переглянулись. Графиня поняла, что он думает о своих собаках и Мализе; на миг ее прошила дрожь, но она тут же стряхнула ее. — Нет, — ответила Изабелла, — ничего столь убийственного — Огонь Святого Антония. Хэл уже слыхал о нем, но не ведал, что это такое. — Проклятие святого, — пояснила она. — Избавиться от которого непросто. Спросите графа Каррикского… — Вздохнув, потерла усталые глаза. — Когда-нибудь мы узнаем, как святой это делает и почему всегда страдают малые и сирые. У меня нет доказательств, но я подозреваю, что дело в хлебе. Или травах, которые они кладут в похлебку. Бедным недоступна роскошь выбрасывать даже то, что выглядит напрочь скверно. — Вы изрядная дока во врачевании, — заметил Хэл, и она поглядела на него искоса. — Для графини, хотите сказать? Или для женщины? — И то, и другое. — Ну, — вздохнула Изабелла, — я еще помню, что некогда была дочерью Макдаффа. Мой отец был убит собственной родней. Истинный государь Файфский — малый отрок и узник в Англии. Я не питала великих упований даже на доброе замужество и, подлинно, уж не по собственному выбору. — В отличие от матери Брюса, — деликатно предположил Хэл и увидел, как дрогнули ее губы при упоминании достопамятного рассказа о том, как графиня Каррикская похитила молодого человека — отца Брюса, — пройдя всю дорогу из Святой Земли, дабы поведать, что ее первый муж Адам де Килконкат скончался. — Истинно, быть может, мне следовало пойти по ее пятам и держать ее сына взаперти, доколе он не согласился бы увезти меня, — вздохнула Изабелла. — Впрочем, он не собственный отец и считает сие похищение лишней приметой того, сколь бесхребетен его отец, коли позволил женщине так захомутать себя. — А стоило бы оно того, подобное похищение? — осторожно поинтересовался Хэл. — Нет, подлинно нет, — ответила Изабелла с поразившей его откровенностью. Увидев выражение его лица, она сумела угрюмо усмехнуться. — Некогда я думала, что это любовь, но всегда считала, что граф Каррикский — лучшее убежище от графа Бьюкенского, какое я могу найти, — промолвила графиня, и при упоминании Бьюкена лицо ее омрачилось. — Оный ведет себя так, словно я — курица для петуха на куче навоза; и в день, когда он поймет, что не смогу снести ему яйцо, он захочет собственным почином обречь меня на монастырь, думается мне. Как вы сами видите, государь Хэл, для церковной жизни я не гожусь. — Вы не можете иметь чад? — выпалил он, и его искренняя забота пролилась бальзамом, так что Изабелла ответила без гнева. — Похоже, нет. Я еще молода, но женщины в мои годы уже имеют целый выводок. Ответ был проникнут такой полынной горечью, что Хэл буквально ощутил ее на вкус и постарался подсластить пилюлю. — Или умирают при родах, — указал он и тут же увидел уныние, опалившее ее серые, как пепел, глаза. — Уж лучше так, — негромко обронила она, и Хэл увидел, как дрогнули ее губы. — Значит, потому-то вы и изучали врачевание? — поспешно спросил он, направляя разговор в безопасную колею. — Поначалу, — бесцветным голосом отозвалась Изабелла, — однако сие не пристало дщери, тем паче Файфа. Я исхитрилась выудить изрядную часть собственным разумом из книг и трактатов, получить которые было нелегко, и это отнюдь не помогало. Как ни странно, в роли графини Бьюкен я обрела и куда бо́льшую свободу попустительствовать сему, и собственный дом в Балмулло. Она замолчала, и Хэл увидел, как ее прекрасные глаза наполнились слезами, но Изабелла стряхнула их нетерпеливым жестом. — У меня там есть книги, и Балиуса держали в конюшне при нем, — повела она дальше. — После этого мой муж непременно спалит его дотла, коли я ему не воспрепятствую. Хэлу не хотелось знать, как она ему воспрепятствует. Ему вообще не хотелось знать, ни что графиня возвращается к Бьюкену, ни что он примет ее, как тюремщик узницу. И все же мысль о том, что будет, если в этот лагерь ворвутся англичане, преисполненные жаждой мести и торжеством победы, заставила его взять Изабеллу за руку столь внезапно, что еще вопрос, кого это изумило больше. — Мы можем уйти, — объявил он. — Нынче ночью, допрежь сечи… Она моргнула раз-другой, не веря собственным ушам, а затем услышанное накрыло ее жаркой волной; неважно, останутся они или уйдут, — важно лишь, что он предложил это. Изабелла деликатно высвободила руку. — Вы сделали довольно, государь Хэл, — с искренним чувством произнесла она. — Ступайте домой. Как надлежит и мне. Последовало молчание, долгое и мучительное. — Я даже умудрилась однажды залучить с визитом магистра из Болоньи, — вдруг провозгласила графиня, лихорадочно просияв. — Граф обрадовался, что я больше не буду бесчестить его в родных стенах. — Из Болоньи? — Бьюкен, несомненно, чаял, что я обрету смирение, но я водила его за нос. Сказала, что это священник из Рима. Оборвав себя, Изабелла вздохнула и покачала головой. — Я скверно обращалась с Бьюкеном и сочувствую ему, — уныло добавила она, — но лишь до поры, когда кровь бросится ему в лицо и он накажет меня, так или иначе. И все же, на свой лад, я относилась к нему как к больному. — Разве это оправдывает побои? — проворчал Хэл. — Рыцарь должен защищать даму. Изабелла печально улыбнулась. — Ах, было бы славно, кабы мир был подобен Камелоту… Конечно, он не таков, так что я обманула его и залучила сего магистра Скьятти из Болоньи, ибо в тамошнем университете наилучшие учителя искусства врачевания. Бог весть со всеми своими святыми, что я собиралась делать с его учением, но, помимо прочего, я узнала, что даже самых непреклонных можно убедить — за вознаграждение — поделиться своим искусством с женщиной. Что-то из этого было ценным, что-то не очень. В астрологии я поднаторела, а вот со свиньями была в лучшем случае посредственна. — Со свиньями? — переспросил Хэл. Говорить с этой женщиной — все равно что учиться кататься на коньках по тонкому льду. — Они ближе всех к человеку по анатомии, коже и костям, — растолковала Изабелла. — В Болонье настоящие трупы держат для исследований, а изрядную часть повседневной работы делают на свиньях. Душат, сжигают, травят и хоронят на день, неделю и более того. Быть свиньей в Болонье опасно, сэр Хэл. — Буду иметь в виду, ежели когда возьму Сима Врана в Италию, — лаконично откликнулся Хэл, — поелику своими манерами он откровенно напрашивается на вивисекцию. И заметьте, Балмулло тоже как-то не похоже на место, плодовитое желудями. Изабелла чуть скосила на него взгляд. — Вы не в восторге от лекарей? Хэл начал было возражать, не желая досадить этой женщине, но истина душила его. Моровая лихорадка начиналась невинно, как дрожь в теплый день, будто внезапный невидимый ветерок ласково пробежался вдоль хребта. Не более чем через три дня дрожавшие уже лязгали зубами, мечась в мокрой от пота постели; воздух свистал в их груди, как худые кузнечные мехи. Жаловались на холод, сгорая до сального остова прямо на глазах. Другие тоже ее подхватили — от миазмов зловонных теплых болот, по словам лекарей и врачующих священников, — и некоторые умерли быстро, а некоторых бросили даже их перепуганные пастыри, и они скончались от небрежения. Одна — очаровательная юная Мэри с Салтоновской Мельницы — сползла с одра болезни и скользнула в реку, схоронившись под холодной водой, будто под покрывалом, утоляющим боль. Когда же ее нашли, те же салтоновские священники, покинувшие ее, отказали ей в погребении на освященной земле, поелику сказанная наложила на себя руки. Впрочем, и когда им доставало отваги остаться при подопечных, проку от них тоже не было никакого. Розмарин и лук, полынь и гвоздику, уксус и лимоны — все это смешивали с куриным пометом, будто некий мерзостный пудинг или начинку для каплуна, и мазали на лоб и под мышками. Живая жаба, привязанная к голове. Живая курица, разрубленная надвое, истекающая кровью и верещащая, прикладываемая к каждой болячке, — да только не было болячек при лихорадке, отнявшей жену и сына Хэла, лишь трясучая немочь, сжигавшая их, выжимавшая влагу скудной испариной досуха, когда смерть приходила милосердным избавлением. Изабелла слушала его в молчании, ощущая желчь, ядовитый гной его слов. Когда Хэл закончил, она положила ладонь ему на руку, и он почувствовал головокружение. Раздался новый крик, и она подскочила, потом неуверенно покачнулась, прежде чем опамятоваться. — Вы ели? — спросил Хэл, и графиня смотрела на него добрую минуту, прежде чем покачать головой. — Что ж, коли вы обеспечите вино, я обеспечу овсяные лепешки и толику сыра, — с натужной веселостью проговорил он. Изабелла не стала спорить, так что они уселись в импровизированном Храме Господнем и поели. — Лебеди, — сказал Хэл, глотком вина смывая облепившее небо овсяное тесто. — Что? — Лебеди, — повторил он. — Лебединая песня. Игра, в которую вы любите играть. Увидел, как кровь бросилась Изабелле в лицо, и она понурила в голову. Лепешка во рту вдруг показалась золой. — Простите, — запинаясь, пробормотал Хэл, — я думал… Голос его спал до шепота и смолк, и он сидел с лепешкой во рту, не в силах ни выплюнуть ее, ни проглотить. — Это была глупая игра для влюбленных, — наконец промолвила Изабелла, с вызовом поднимая голову и глядя ему в лицо. — Чтобы решить, кто будет лошадью, а кто всадником. Хэл с трудом проглотил ком. Давясь, он припомнил высокий стол в Дугласе и ее триумфальный возглас, когда графиня побила Брюса своим мальчишеским румянцем. «Ха! — возгласила она. — Снова мой верх». Тут он обнаружил, что она протягивает ему руку с чашкой. — Вы подавитесь, — сказала Изабелла, и он натужно улыбнулся. — В воде, — непререкаемо заявил Хэл, — рыбье дерьмо. — После чего приветственно приподнял чашку и отпил. — И это веское основание избегать ее и придерживаться вина. — Это причастное вино, — с иронией заметила Изабелла. Поперхнувшись, Хэл поставил чашку осторожно, словно та могла его укусить. Графиня хихикнула. — Вы уже проглотили довольно, чтобы быть допущенным к стопам Самого Христа, — заметила она, и Хэл поневоле расплылся в улыбке. На них обоих могут наложить епитимью и даже сжечь на костре за то, что они здесь натворили, распивая святое вино и богохульственно смеясь с глазу на глаз, без сопровождения Изабеллы женской особой. — Бе́лки, — внезапно сказала она, и Хэл недоуменно моргнул. Молчание затянулось, а затем Изабелла подняла голову и поглядела в его серые глаза. — Бунт белки, — объявила она и тихонько добавила: — Я победила. Трубный звон крови в ушах заглушил для него звук внезапного прибытия, так что лишь порыв ветра разомкнул сретенье их взоров. Будто открылась дверь в студеный погреб. Вошедший тотчас накинулся на них. — Аз ведох, иже сыщу тебя в приютнейшем закутке, — пророкотал голос. — Зелие и женщина — похоже, аз добро учих тебя. Хэл вскинулся, будто его застали ублажающим себя в конюшне, поглядев в свирепое седобородое лицо, будто вырубленное топором. — Отец, — чуть слышно выговорил он.Абби Крейг, Стерлинг Девятое воскресенье по Пятидесятнице, Дне Святой Троицы, 11 августа 1297 года Они пришли перед самым рассветом, когда на небе вызрела полоска цвета кислого молока, — двое серьезных мужей, уже снарядившихся на войну и лязгавших на каждом шагу. Твенг смотрел на них, видя мрачный пыл в юных глазах, сверкавших над гербами, давшими ему знать, кто они такие. Посреди их разной геральдики был общий значок — святой Михаил с пламенным мечом. — Мудрые Ангелы взыскуют милости, — с поклоном возвестил один из них, и Твенг перевел дыхание, стараясь не испустить тяжкий усталый вздох. Фиглярство. Рыцарская бравада юнцов, одержимых Артуром и Круглым Столом — и все же за ней таятся самая настоящая отвага и мастерство, которые могут принести победу. Так что он заставил себя поднатужиться. — Реки, Ангел. — Мудрые Ангелы взыскуют милости быть нынче вашими спутниками в Авангарде, государь. — Сколько Ангелов выступает за моей спиной? — Двадцать, государь. Принесших присягу Христу. — Добро пожаловать, Ангелы. Он проводил взглядом обоих, радостно залязгавших прочь. Мудрые Ангелы — лишь один из множества мелких рыцарских отрядов, накануне битвы принесших клятвы свершить великие доблестные деяния, хотя Твенг и знал, что этот — один из лучших, составлен из рыцарей, закаленных турнирами. Они пришли к нему, одному из первейших воинов и командиру конного авангарда. Свое название они взяли из упрека Христа Павлу, когда Его пришли брать под стражу, а Павел пожелал драться. «Или думаешь, — сказал ему Христос, — что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне легион мудрых ангелов, против коих не выстоит ни один человек?»[606] Ныне же легион из двадцати Мудрых Ангелов, против коих не выстоит ни один человек, будет ехать у Твенга за спиной, приумножив число тяжеловооруженных конников под его началом. Передовая дружина — авангард — под предводительством Крессингема, насчитывающая около 2 тысяч пехотинцев и 150 тяжелых кавалеристов Твенга, должна твердо встать на дальнем конце моста, позволив головной и задней дружинам, включающим еще 200 рыцарей и сержантов и 4500 пикинеров и лучников, выстроиться за баронами Латимером и Хантеркомбом. После этого останется просто расстрелять скоттов и втоптать копытами их останки в грязь. Было б еще проще, кабы половина армии не растаяла по пути из Роксбурга, а остальных не отослал бы по домам казначей, сетуя на затраты. Теперь же противостоящие силы примерно равны, хотя Твенг и понимал, что решающим фактором станут тяжеловооруженные кавалеристы и их копья. И все равно их куда меньше, чем ему хотелось бы, и повинен в том Крессингем. Твенг услышал низкий, по-звериному ворчливый рокот войска, восстающего навстречу дню, увидел искры наспех разведенных костров и попытки некоторых согреть свои утробы. Откуда-то из неспешных, величавых извивов реки докатился перезвон колоколов. Нынче День Отдохновенья, вдруг вспомнил он. По ту сторону петляющей реки ветер пробегал среди коленопреклоненных шотландцев, будто по лесу. Аббат из Камбаскеннета со своим причтом сумрачных священников прошли вдоль смиренного воинства пикейных баталий по сотне человек в ширину и по шестеро в глубину, ожидающих благословения. Люди, напропалую сквернословившие и беззаботно гикавшие в ночи, искавшие забвенья в женщинах и выпивке в обозном лагере, теперь зрели серебро занимающегося дня, дрожа, крестясь и моля о прощении, понимая, что нынче нет времени, дабы каждый причастился Святых Тайн в дароносице аббата. Аббатишка не распоряжался бы облатками столь беспристрастно, думал Хэл, кабы знал, что Уоллес спалит его, глазом не моргнув, только бы добраться до нашедшей у него убежище пташки, как только это кровавое дело завершится благополучно. Воспрянув от подобной победы, он пожелает докопаться до истины, почему убит мастер-каменщик и не совершил ли сие Брюс или Комин. Такое знание станет весьма острым оружием. Последнее кадило качнулось прочь, оставляя за собой рассеивающийся дымок, и Хэл поднялся на ноги, обернувшись к отцу. — Тебе здесь не место, — сказал он с укором, раздувая угли спора, полыхавшего между ними вчера ночью. — Я оставил тебя в безопасности убирать урожай в Хердманстоне. Отец с прищуром устремил на него сердитый взгляд. Ветерок теребил его серые, как сталь, волосы. Сэр Джон Сьентклер — Древлий Владыка Хердманстонский, как его кличут, — был краеугольным камнем этого места дольше, чем стоит свет; во всяком случае, так казалось Хэлу. — Пропахахова сию межу вчера ночью, — огрызнулся он. — Со своей стороны, аз думах, ты воротишься давным-давно. Послахом тебя в Дуглас три месяца тому, ныне же нахожу тебя шляющимся с крамольниками и женой иного мужа. — Ты… я… Хмыкнув, отец положил железную ладонь Хэлу на предплечье. — Не таращись, аки сырое яйцо, — мягко укорил он. — Покричахова друг на друга, и на том покончено, обратно не воротишь. Правда правдой, но она была Хэлу не по нутру, потому что ввергла его вместе с отцом и подначальными в кольца того самого троянского змея. Древлий Храмовник, возвращаясь в Рослин позаботиться о своих правнуках, рассказал отцу Хэла, что затеял его сын. Хуже того, не в силах удержаться от участия в любых нападках на англичан он отрядил рослинских людей на подмогу Уоллесу, а сам остался дома. Последнее палило Хэла подспудным огнем гнева. Сам остался в Рослине, отправив своего распорядителя — и Древлего Владыку Хердманстонского. А он ведь не моложе, свирепо думал Хэл, но выглядит куда достойнее, так что не будет открещиваться, ссылаясь на преклонный возраст или на то, что боле некому озаботиться безопасностью Хердманстона. — Не имам доброго ратного комоня, и посему ныне не могу ездить, аки нобиль, — внезапно заявил отец с видом невинным, как монашка. — Балиус не мой. Он принадлежит графу Бьюкену, и мне поручено доставить его обратно целым и невредимым, — парировал Хэл, заметив хитрый взгляд старика. Погладив растрепанную бороду, тот кивнул. — Истинно так, добро, так и слыхом. Жеребец да кобылка обратно к Комину — юный Брюс настроен щедро. За сим жаль, ибо мне хотелось бы выступить на великую сечу, как пристало рыцарю, единый токмо раз. — Сие занятие молодых, — отрезал Хэл, игнорируя тоскливое вожделение во взоре отца. Забота ожесточила его. — Потому-то Древлий Храмовник и отсиживается дома, послав вместо себя распорядителя. Рассудок поведает тебе, где надлежит быть. Заметь также, что здесь ни единого челядинца графа Бьюкенского, до сей поры сидящего на своем заборе, — равно же и Брюса, каковому причитается быть на стороне англичан. Кроме нас, оказавшихся не в том Богом проклятом месте. — Цыц, — тоном мягкого увещевания произнес отец. — Древлий Храмовник пребывает в Рослине, поелику нельзя, дабы он вовлек орден в сию распрю. Ты же волен идти — лишь я послан сражаться в сей стычке. И поглядел на лицо сына, задыхающегося от негодования, твердя, что не может покинуть родного батюшку на верную смерть. — Верную смерть, ой ли? — приподнял бровь отец. — Ей-богу, ты зело уж принижаешь то, что есть у меня в закромах в сии дни. Паче того, ты даже не помышлял о своем старом отце, егда бряцал про графиню и тайну. Ты исхитрися запутаться в деяниях Брюса, Баллиола, Комина и сего Уоллеса. Зажь дома у тебя не полишися ничего, кроме каменного крестика. Тут напряжение покинуло его, и отец немного походил туда-сюда. — Разумею, почто ты делаешь сие, мальчик, — помягче сказал он, покачивая головой. — Мне тоже их недостает. Тужить правильно и прилично, но то, что творишь ты… пагубно. Он замолчал. Что бы Хэл ни сказал, это привело бы только к спорам и озлоблению, и он промолчал — в глубине души чувствуя стыд за то, ради чего забыл горе, и ощущение, что оно покидает его, рассеиваясь, будто зябкая туча. Отец махнул на его молчание рукой в железной рукавице. — В безмолвии есть толк. Нет смысла пущать пар, аки кипящий котел. Облачихся во все сие железо по приказу нашего сеньора, каковой еко вознамерился ставить Сьентклеров под удар, благослови Господь неразумного ветхого дурня. Посему я прибыл сюда сплясать на сем поле, а не держать обок тростниковый пламенник. Не имам ратного комоня, зато буду имати под началом малую толику рослинских пик, иже горе не беда. А обсуждать нам надлежит сию тайну савояра и кому ты должен сказанную распутать. — Уоллес… — неопределенно промолвил Хэл, и его отец кивнул, поджав губы так, что кончики усов оттопырились, как сосульки. — Он просит тебя рассмотреть сие, подлинно. Но Брюс али Комин в оную вовлечен, вернее верного… сиречь не верь никому. — Он обратил на сына долгий немигающий взор припухших глаз. — Бди: не йми веры никому. Даже Древлему Храмовнику. — Что это значит? — требовательно спросил Хэл, и отец, закатив глаза, воздел руки горе. — Яйца Христовы — да простит меня Господь — внимаешь али нет? Не йми веры никому — сэр Уильям порядком расспрашивает меня о сей оказии аки ненароком. Человек предан кровавому смертоубийству, и сверши сие отнюдь не благородный рыцарь. Мне ведомо, же сэр Уильям наш кровник в Рослине, но уж дюже он верток, засим не йми веры никому. Он поглядел на сына, и его суровый взор был преисполнен таким отчаянием, что Хэл проглотил возражения, вертевшиеся на языке. — Свершивший подобное убийство заходит сбоку, аки кочет, дерущийся на куче навоза, — уныло продолжал отец. — Даже из мрака. Сграбастав сына за оба запястья, он внезапно привлек его для поспешного объятья. Хэл ощутил холод кольчуги на его плечах, и наплечник с дрожащим крестом оцарапал ему щеку. Потом столь же внезапно отец отступил, чуть ли не оттолкнув Хэла прочь. — Вот, — хрипло изрек. — Узрю тебя по ту сторону сей затеи. Хэл только смотрел, не находя слов, онемев и оцепенев. Проводил взглядом закованную в броню фигуру отца, затопавшего в толпу, ощутил тяжесть на плече и, обернувшись, увидел прищур Сима. — Сиречь сэр Джон ратует? — вопросил он, и Хэл смог лишь кивнуть. — Неразумный ветхий дурень, — покачав головой, ляпнул Сим и тут же поспешно добавил: — Не в обиду будь сказано. — Без обид, — отозвался Хэл, к которому наконец вернулся голос. И более твердо добавил: — С ним ничего не стрясется, ибо мы будем прикрывать ему спину. Сыщи юного Джона Фентона, рослинского распорядителя, — отец там, значит, будем и мы. — Годится, — провозгласил Сим, радуясь, что планы на день хоть как-то определились. Потом ткнул грязным большим пальцем на притаившихся у него за спиной; тут до Хэла постепенно дошло, что это Лисовин Уотти, Куцехвостый Хоб и остальные, сконфуженно прячущие глаза. Сердце у него упало. — Вы упустили савояра, — негромко проронил он. — И да, и нет, — начал было Лисовин Уотти, но Куцехвостый заставил его смолкнуть, выступив вперед. — Нынче ране вышел аббат, — возгласил он, — дабы поведать нам, что в ночи прибыл человек, повергший савояра во страх и пред Богом, и пред Дьяволом разом. Оный чужак даже близко к нему не подходил, поведал аббат, одначе савояр, перепугавшись, вышел чрез сток лазарета. — Через что? Лисовин Уотти кивнул с блестящими от ужаса глазами. — Так есть. Соднова видать, аки его допекло. Больничный сток, Боже… Недосказанное на добрую минуту повергло всех в безмолвный ужас. Ибо сток лазарета — то самое место, где таятся все моровые язвы, все гнусности недужных. Дабы человек добровольно подверг себя подобному риску, бултыхаясь, аки горбатый пасюк, в чумной, холерной, заразной жиже, а то и похуже… — Кто прибыл в ночи? — повелительным тоном вопросил Хэл, вдруг припомнив слова Куцехвостого. Хоб чертыхнулся, заламывая руки. — Я его видал, — с мукой в голосе выговорил он. — Но вы велели не выпускать, а не препятствовать входу. Кабы я знал, кто сие был… — Мализ, — проскрежетал Лисовин Уотти, как жернова, трущиеся друг о друга. — Мализ Белльжамб, окормивший выжлецов. Ноне он испрошает там того же убежища от нас, что и савояр дотоль, ибо ведает, что будет, коли я смогу дотянуться до него кулаком. — Я отрядил людей вызнать, каким путем пошел савояр, — добавил Сим, и Хэл неспешно кивнул. На след савояра вышел Мализ, откуда следует, что к делу причастны Бьюкен и Комин. Тут уж больше ничего не поделаешь, да еще в такой день. С другой стороны, Бог даст, можно обдумать все сызнова.
* * *
Крессингем разглагольствовал с побуревшим лицом, чем отнюдь не способствовал своему достоинству перед войсками, коими предводительствует, думал Аддаф. Да притом не без резона. Резон тащился за ним, возвращаясь по мосту, через который они только что переправились, возглавляемый толстяком, вовсю трясшимся на своем скакуне, колыхая телесами своего объемистого брюха. — Мыслю, люд сам не ведает, что творится у них в головах, сочтите, — провозгласил Хейден Капитан, сумев донести это по-валлийски громко и с озлоблением, пока они толпой валили через мост и разбирались по боевым порядкам. Аддаф увидел, как длиннолицый владыка — Твенг — обратил свой скорбный, аки у борзой, взор туда, где разбрелась передовая дружина. Крессингем съерзнул с коня и, уже чувствуя онемение и боль во всем теле, яростно затопал к кучке людей, обступивших блистательно экипированного графа Суррейского, целиком поглощенного беседой с двумя людьми. Одним из них был шотландский владыка Лунди, а вторым — брат Якобус с искривленным от гнева ликом, белым как плат на фоне его черной рясы. — Он отослал нас, мой государь. Аки чад. Рек, иже пришел сюда не затем, чтобы сдаться, и вталдычит сие нам в бороды. Люди зароптали, а Лунди пренебрежительно махнул рукой. — Истинно, Уоллес умеет выразиться, нет ли? — с издевкой заметил он. — Но прислушиваться-то надо к голосу Мори, государи мои, и у него будет некий план, дабы воспользоваться преимуществом пересечения сего узкого моста. Вы сами видели, каково оно — два всадника бок о бок не разъедутся. Выше потечению есть брод. Дайте мне людей, и я зайду ему во фланг — у меня на сие уйдет изрядная часть нынешнего дня, а вы можете переправиться завтра в полнейшей безопасности. — Завтра?! — взревел Крессингем, заставив всех обернуться и уставиться на него. Увидев его побагровевшее хмурое свиное рыло, граф Суррейский лишь вздохнул. — Казначей, — кротко выговорил он, — у вас есть что добавить? — Добавить? Добавить?! — пролопотал Крессингем, шлепая мокрыми губами. А потом втянул вдох. — Истинно, мне есть что добавить, — прорычал он, указуя трясущейся рукой в латной рукавице на де Варенна. — С какой стати, ради Бога и всех Его Святых, я выхаживаю туда и обратно по этому треклятому мосту? Ответьте мне на это, а? Граф Суррейский почувствовал, как люди пришли в волнение от оскорбительного тона Крессингема, но укротил собственный гнев; кроме того, он чувствовал усталость, а живот крутило. «Deus juva me»[607], — подумал он, ощутив укол боли; даже порошок из лютика больше не помогает. — Потому, казначей, — медленно проговорил он, — что я не отдавал приказа ни о каких передвижениях. Крессингем заморгал, и лицо его приобрело нездоровый лиловый оттенок. Да он взорвется, как айва в железном кулаке, подумал де Варенн. — Я отдал такой приказ! — воскликнул казначей тонким, чуть ли не писклявым голосом. — Я приказал! — А разве вы здесь командуете? — кротко возразил де Варенн. — Командовал, когда вы еще спали, попусту растрачивая полдня сражения! — взревел Крессингем, и люди протестующе зароптали. — Поосторожнее, — пробормотал кто-то. — В самом деле, — сурово согласился де Варенн. — Я жду от вас должного почтения, казначей. Помните свое место. Крессингем сунул свой крупный широкий лик чуть ли не в негодующе дрогнувшую бороду графа Суррейского. Трясущиеся щеки казначея лоснились от пота, ручейками сбегавшего вдоль брылей сливового цвета. — Мое место, — буркнул он, — позаботиться, дабы вы исполнили требование короля. Мое место — заставить сие войско, собранное громадной ценой, исполнить положенную работу, уничтожив мятежное шотландское отребье. Мое место — растолковать королю, отчего это граф Суррейский вроде бы вознамерился не свершать сего, не потратив всю казну. Коли вы желаете занять мое место пред ликом самого короля, государь мой граф, — пожалуйста, милости прошу. Он умолк, пыхтя, как случающийся бык; окружающие ждали, наблюдая за графом Суррейским, на миг прикрывшим глаза от жаркого дуновения дыхания Крессингема. Ему хотелось осадить этого жирного выскочку резкой отповедью, но он понимал, что казначей прав; король желает, чтобы дело было сделано как можно быстрее и дешевле, и меньше всего на свете де Варенну хотелось оказаться лицом к лицу с грозным исполином Эдуардом Плантагенетом, держа в одной руке чудовищный счет, а в другой — поражение. Собрав себя по кусочку из лохмотьев, де Варенн повернулся к шотландцам. — Как видите, сэр Ричард, — елейным тоном провозгласил он, — клерк-крючкотворец не разрешает промедления. Боюсь, вашу победоносную стратегию придется отринуть в пользу сокрушительного разноса Крессингема. Потом обернулся к казначею, широко распахнув водянистые глаза и приподняв белые брови, будто в изумлении, что тот еще присутствует, и вяло махнул ладонью: — Можете выступать через реку.* * *
Хэл стоял слева от небольшой пикейной баталии. Передние ряды занимали воины в толстых стеганых поддоспешниках с заклепками и в железных шлемах, а задние пестрели непокрытыми головами и босыми ногами дрожащих, угрюмых людей в бурых и серых одеждах. В сотне шагов перед ним вытянулась длинная, рассеянная цепочка лучников прямо по фронту влево и вправо. Насколько Хэл знал, их всего-то сотни четыре, так что выглядела она как длинная, бесплотная нить. Послышались крики; мимо пронесся всадник. От копыт коня во все стороны летели комья земли, так что все принялись осыпать его проклятьями. Он весело помахал, крича что-то в ответ, но ветер унес слова, и всадник скрылся, размахивая мечом. — Быкорогая, полобрюхая задница, — рыкнул Сим. Но конник был просто глашатаем Уоллеса и Мори. Хэл увидел кавалькаду, синие стяги с белыми крестами, а потом большого красно-золотого вздыбленного льва в окружении белых звезд Мори по синему полю. Уоллес, увидел Хэл, облачился в рыцарское платье и гербовую накидку, красную с белым львом. Он тоже ехал на боевом коне, прекрасно знакомом Хэлу. Тот только рот разинул, а Сим расхохотался. — Святый Христе на небеси, графиня одолжила Уоллесу вашего здоровенного мерина. Балиус, лоснящийся и выгнувший шею дугой, скакал с курбетами перед ревущими баталиями, неся что-то кричащего Уоллеса. Когда он поравнялся с Хэлом, тот четко расслышал его слова — мимолетное замечание, брошенное могучим исполином с высоко воздетым мечом, едущим вдоль рядов с ухмыляющимся Мори и рассеянной группкой хоругвеносцев следом. «Хвостатые псы». В качестве вдохновляющей речи, подумал Хэл, это, пожалуй, не дотягивает до упований летописцев, и позже они что-нибудь приврут. Ободрения ждут шесть тысяч человек. Какую-нибудь воодушевляющую речь о свободе услышат не больше сотни, а повторять ее ad infinitum[608] попросту нет времени. На сей раз сойдут и «хвостатые псы», повторяемые вдоль рядов всю дорогу. Косматая, скверно вооруженная орда, половина которой дрожит от страха и лихорадки, большинство босиком и с голыми задницами, потому что недуг испражняет их внутренности по ляжкам, вскидывала руки в воздух и ревела ему в ответ. «Хвостатые псы», — с восторгом орали они в ответ общепринятое оскорбление англичан, и простой люд верит, что сие — справедливое наказание Божие этой расе за их участие в убийстве святого Томаса Бекета; издевки шотландцев безотказно доводят англичан до белого каления. Хэл подался вперед, чтобы сквозь частокол приветственно раскачивающихся пик поглядеть туда, где нога за ногу стоял отец, опершись на бердыш с развевающимся вымпелом, украшенным иззубренным синим крестом. Свой старый побитый щит со вздыбленным петухом Сьентклеров — даже более старый, чем дрожащий крест, — он наполовину закинул за спину. Рядом с ним стоял Лисовин Уотти, предложенный Хэлом на роль знаменосца в хитроумном умышлении поставить его как можно ближе, так что теперь тот изо всех сил сдерживал обеими руками трепещущий на ветру большущий квадрат, перечеркнутый белым крестом Святого Андрея. Ему поручили и это, и скрытную защиту Древлего Владыки, и он еще не понял, что из двух доставляет ему больше хлопот. Большой крест напомнил Хэлу о собственном, и он опустил глаза на две белые полоски, наспех приметанные поверх его сердца в виде креста Святого Андрея. Это сделала женщина с алыми щеками и натруженными перстами, когда он повел Уилла Эллиота к Изабелле в обозный лагерь, найдя ее вместе с этой женщиной и Псаренком, где они переходили от больного к больному. — Сие Рыжая Джинни, — объявила Изабелла, и босоногая женщина, чуть присев в знак приветствия, нахмурилась. — Не имате благословения, — сказала она, принимаясь нашивать полоски на поддоспешник Хэла, пока тот объяснял Изабелле, что Уилл Эллиот здесь затем, чтобы охранять ее и Псаренка, коли день не задастся. — Он устережет вас, — добавил Хэл. — Памятуйте также, что у вас есть флаг храмовников, так что, ежели припрет, помашите им. Изабелла кивнула, не имея возможности заговорить из-за женщины, которая, высунув кончик языка между зубами, шила быстрыми, искусными стежками, пока Хэл поверх ее головы смотрел графине в глаза. Ей хотелось поведать, как она сожалеет, что именно по ее вине они застряли здесь, посреди сражения, которого он не желал, но слова не шли на язык. — Я… — начал Хэл, и тут протрубил рог. — Вам лучше ступать, — неловко проронила Изабелла, а Рыжая Джинни, закончив шитье, воткнула иглу в воротник своего платья и просияла во все обветренное лицо. — Стало быть, конец — делу венец, — заявила она. — Коли узрите большого рыжевласого человека с Селкерка с луком, кличут Эрчи из Лоджи, передайте ему сие. Ухватив Хэла за бороду, она потянула его вниз, к своим губам, так крепко, что зубы их цокнули, столкнувшись. Он ощутил вкус лука, а затем Джинни отпустила его так же внезапно, как и сграбастала. — Храни его Господь, — добавила она и заплакала. — Славен будь Христос. — Во веки веков, — ошарашенно отозвался Хэл, потом ощутил рядом с собой Изабеллу, почуял мускусный запах ее пота, всколыхнувший страсть и вожделение, и буквально покачнулся. — Ступайте с Богом, Хэл Хердманстонский, — произнесла она и поцеловала его в губы теплыми, мягкими губами. Потом отступила назад, обняв одной рукой плачущую Джинни, и повела ее к телегам, фургонам и причитанию женщин. Поцелуй чувствовался на губах по сю пору, и Хэл поднес рукавицу ко рту. — Вот, опять грядут, — объявил Сим, и Хэл поглядел вниз, вдоль длинного склона, рассеченного гатью, ведущей к мосту. На нем толклись крохотные фигурки, медленно продвигаясь вперед, изливаясь с этой стороны, будто вода из трубы, и рассыпаясь веером. — То же, что допрежь, — заметил Сим. — Сдается, им ужасно по нраву расхаживать по мосту взад и вперед. — Очень любезно с их стороны, что показали нам, как все пойдет, прежде чем сверили сие на деле, — произнес новый голос, и они, обернувшись, увидели круглое багровое лицо Джона Фентона, распорядителя Древлего Храмовника. Хэл, Сим и остальные, в давние деньки ходившие вместе охотиться на кроликов и зайцев, прозвали его Солнцем Рослинским. Добрая шутка для юных отроков, поскольку щеки Джона всегда были жаркими, как солнце в летний полдень; и теперь они пламенели, сдавленные бацинетом, а темно-каштановая борода торчала поверх края кольчужного чепца, как конский волос из продранного седла. Его вид навеял Хэлу теплые воспоминания о них с Джоном Фентоном, юным Генри Сьентклером и его малым братцем Уильямом, подавшимся в Церковь в Англии. Сьентклеры, все Генри, Джоны и Уильямы, болтались по землям Рослина и Хердманстона в компании более старшего Сима Врана и прочих светил поменьше, сыновей скотника, пахаря и мельника, чиня проказы по юности лет. Это воспоминание вызвало у Хэла улыбку. — Как ваша сестра? — спросил Сим, и Джон кивнул в знак благодарности за вопрос. — Справляется. Дети не дают ей скучать, одна Маргарет — сущее наказание. Сестра Фентона Алиса вышла замуж за содержащегося в заточении Генри Сьентклера. Она сейчас сидит в Рослине, сдерживая слезы, понимал Хэл, пытаясь подыскать утешительное объяснение для едва научившейся ходить девочки и двух отроков — Джона и Уильяма. Раны Христовы, подумал он: Джон, Уильям и Генри — неужели для Сьентклеров больше нет лучших имен? «А как назвать всех Сьентклеров скопом? — задумался он. — Стая? Гурт? Выводок?» С прищуром поглядев в небо, Джон Фентон улыбнулся. — Добрая погода для оказии, — заметил он. — Чуток дождика ране, дабы намочить землю и затруднить путь всадникам на тяжелых лошадях, но достаточно сухо, чтобы скакать пешему, когда до этого дойдет. — Так мы будем скакать, юный Джон Фентон? — лаконично осведомился Сим. — Вскорости, Сим Вран, — мягко отвечал Джон Фентон. — Ты услышишь глас рога, когда мой государь Мори решит, что на завтрак подано довольно англичан. Тогда мы низринемся на них, аки волк на отару. — Даруй Христе, — изрек Сим с кривой усмешкой, — вы стали куда более искушенным воителем с поры, когда Толстяк Дэйви боролся с вами в грязи. Последовала минутка общих воспоминаний о здоровенном забияке, сыне церковного старосты, — более рослом, чем даже Сим, терзавшем их годами, пока остальные парни не сплотились под началом Хэла и Генри Сьентклеров, чтобы подстеречь его. Они привязали его на бычьем выпасе с развевающимся на ветру длинным алым вымпелом, и когда взбешенный отец наконец освободил его, Толстяк Дэйви Старостин поумнел не в пример прежнему. Сделав вдох-другой, Джон Фентон нахлобучил бацинет покрепче на голову, переводя взгляд с Хэла на Сима и обратно. — Толстяк Дэйви, — с ухмылкой выложил он, — в паре десятков шагов от вас держит бычий рог, дожидаясь моего веления вострубить. И зашагал прочь, на ходу что-то крича своим людям. (обратно)Глава 7
Камбаскеннетский мост, Стерлинг Девятое воскресенье по Пятидесятнице, Дне Святой Троицы, 11 августа 1297 года Здесь лучнику было не место, и Аддаф, получая толчки и тычки локтей со всех сторон, был не единственным, кто так думал. Прижимая к груди колчан, чтобы уберечь оперение и древки от давки, будто младенца, он слышал другие голоса, ругающиеся по-валлийски. — Дайте нам место! — с побагровевшим лицом ревел Хейден Капитан. — Дайте место! Места не было; конница переправилась, а за ней пехота, но линия врага была лишь далекой щеточкой наконечников пик — раз в десять дальше нашей убойной дальности, прикинул Аддаф, измеряя расстояние, зажмурив один глаз и продолжая топтаться неверными шажочками в давке. Конница была уже ближе, нетерпеливо дожидаясь, когда сутолока пехоты отсортируется от массы железных шлемов и шишаков, копий, круглых щитов, баклеров — ни один из них, отметил Аддаф про себя, не вооружен так же, как сосед. Только валлийцы, поправил он себя, когда мимо с пыхтением пробралась группка в стеганых куртках, держа копья и щиты наготове, с красно-зелеными плетеными лентами вокруг круглых шлемов с широкими полями, отмечающими, кто они. Он увидел, как последние из них сходят с моста, косолапо, как медведи на задних лапах. Вдали взревел рог.* * *
Мализ скакал по гати из Камбаскеннета быстрым аллюром, страшась, что лотианцы таятся за каждой кочкой, хоть и рискнул бросить этот жребий, поставив на то, что все они не захотят упустить схватку. Для него оказалось полнейшим шоком, когда выяснилось, что аббатство окружено затаившимися людьми; при мысли, что он проезжал на волосок от подобных Лисовину Уотти, его дыру так пучило, что он поневоле ерзал в седле. Прибыв, Мализ оказался ничуть не ближе к савояру, о котором ему поведал Биссет, но камнерез запаниковал от такой близости врага и улизнул. Как он скрылся, осталось для Мализа загадкой, но, свирепо думал он, теперь я вынужден искать убежища. Справа от него высился Абби Крейг, будто плечо горбуна. Бросив взгляд налево, он увидел развевающиеся вымпелы и хоругви. Широкие белые полотнища с красными крестами хлопали на ветру, а флаги с крестом Святого Андрея упорно лопотали в ответ. Ни следа охотников… Пусть себе дерутся, глумился про себя Мализ. Коли дела пойдут, как он замыслил, получится обойти бунтарей Уоллеса слева и въехать в лагерь. Там он сыщет графиню — наконец-то — и заберет ее. Там он может сыскать и савояра — или хотя бы подсказку на предмет, с какой стати за тем охотился лотианский государь Хэл и, что важнее, для кого; тут замешан Брюс, не сомневался Мализ, но хотел добиться полной уверенности в том для своего владыки графа Бьюкенского. Оскользнувшись на слякотной дороге, лошадь едва не сбросила его, и Мализ, изрыгнув проклятье, выровнялся в седле и малость попридержал животное — паниковать сейчас нет смысла. Осторожно и непоколебимо… Вдали взревел рог.* * *
Казалось, рог взревел у него прямо над ухом. Поехали, спаси нас Бог. Хэл услышал, как кто-то прокричал эти слова, а потом вся линия пикейных баталий ринулась вперед, будто камни, рушащиеся с замковой стены. Хэл ощутил, что тоже пришел в движение, будто коза на привязи, спотыкаясь по кочковатой, болотистой земле, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом от циклопического звериного рычания, сперва негромкого, но вздымающегося все грознее.* * *
— Идут! — крикнул голос, высокий и тонкий от изумления, и Твенг обернулся туда, куда указывал кричащий. «Боже милостивый, упаси нас, — с упавшим сердцем подумал он, — Мори таки одурачил нас». — Где это слыхано, чтобы пехота атаковала конницу? — вопросил чей-то голос, и, обернувшись, Твенг наткнулся на ошеломленный взгляд Мудрого Ангела, жаждавшего быть обок него. Ну, хотя бы мелкотравчатые чернявые валлийские бесы, хотел было сказать он, и уж англичанам ли, участвовавшим в этих войнах, этого не знать, но их тут было раз, два и обчелся. Он промолчал, потому что это не составит никакой разницы: если скотты продолжат продвижение, то накатят, поймав передовую дружину в ловушку в излучине реки. Вода с трех сторон, места для внятного построения попросту нет, и невозможно безопасно переправиться обратно через мост по двое за раз. Единственный выход — вперед, прямо на воронье гнездо наконечников пик. — Крессингем! — рявкнул Мармадьюк, и жирный казначей, узрев это, разевал и захлопывал рот, словно не издавая ни звука: рев, крик и ветер глушили и уносили слова прочь. — …атакуем их, мой государь! В атаку! Твенг увидел, как казначей воздел меч и рыцари авангарда зашевелились, будто свора, учуявшая запах. Меч опустился, и конница неспешно тронулась, набирая ход с каждым шагом. Иного способа выиграть время для пехоты, особенно лучников, попросту нет, понял Твенг. Все они валлийцы; ирония ситуации не ускользнула от его внимания, и он на миг озадачился вопросом, будут ли Аддаф и ему подобные сражаться. Надев громаду шлема и поправив щит, он двинулся следом за Крессингемом, услышав песнопение, внезапно взмывшее высоко и твердо. Сладостные голоса юных Ангелов, еще не заглушенные сталью их больших шлемов.Глупые люди, погрязшие во зле, внимайте.
Всемогущий проливает в ваши сердца всю Свою мощь радостной веры,
Да не низвергнет вас змей обратно к прежней погибели.
Наш лучший истинный Искупитель вернет вас в Свое царствие,
И Его мудрые ангелы сразятся под знаком Креста…
* * *
Крессингем натянул поводья перед последним рывком в атаку, но обезумевший боевой конь уже вошел в раж и все равно рвался вперед, понукаемый засевшей глубоко в мозгу выучкой. Вскинувшись на дыбы, он замолотил громадными копытами, подкованными сталью, и толстый казначей, скверный наездник даже в лучшие времена, не удержался в седле и свалился в грязь, брякнувшись так, что перед глазами полыхнули звезды. Что-то громадное и тяжелое наступило ему на бедро — его собственный конь, — и послышался хруст ломающейся кости. Чудовищный удар саданул его по спине, пока он тужился встать на карачки, ткнув лицом в мягкую землю, и он затрепыхался, как жук на булавке, чувствуя на языке мускусный вкус раздавленного дождевого червя, задыхаясь и ослепнув, потому что грязь забила отверстия для дыхания и смотровую щель. Лихорадочно завозился с завязками шлема, потерявшись в темной, безвоздушной пещере большого шлема; наконец сорвал его с безумным яростным воплем, всем ртом хватая воздух взахлеб. Помутненным взором увидел приближающегося человека и выставил перед собой уцелевшую руку без оружия, всхлипывая от облегчения и боли. Откупился. Толстяк Дэйви увидел человека, куда более толстого, чем сам он в эти дни, хнычущего от страха и тянущего руку, умоляя о милосердии. Дэйви даже не догадывался, кто он, зато знал, какой породы. Никой пощады ни единому человечишке, проворчал он под нос, вгоняя пику глубоко в трех голубей на пухлом брюхе лежащего и наступая босой ногой с ороговевшими, потрескавшимися ногтями на искаженное ужасом лицо в железном обрамлении, чтобы выдернуть оружие. — Да памятуй Берик, — буркнул он и двинулся дальше.* * *
Никакой пощады днесь, думал Аддаф, видя, как лошади натыкаются на преграду и валятся как подкошенные. Значит, нам тут не место. Он обернулся к Хейдену Капитану и увидел на его лице угрюмую решимость. — Прочь, робяты, — услышал он слова Хейдена. — Прочь, коли дорожите своими жизнями. Аддаф поглядел на лук и наложенную стрелу. Не сделал ни единого выстрела, подумал он с отвращением, оттягивая тетиву до самого уха внезапным молниеносным движением и стремительно выпуская снаряд в воздух, слыша, как она устремляется прочь с визгливым посвистом воздуха в изъяне наконечника. Сдвинув колчан набок, закинул оружие за спину, не спуская тетивы, морщась от мысли о том, что будет с древком. И устремился за остальными, на ходу сбрасывая с шеи путающиеся башмаки, шлем с железным ободом и расшнуровывая поддоспешник. У реки, чувствуя звень в босых пятках, он отбросил драгоценный поддоспешник, ломая голову, сможет ли плыть по-собачьи достаточно ловко с луком в одной руке, ибо от него не откажется до последнего.* * *
Их разгромили, и Твенга это не удивило. Французский метод, пав духом, думал он, сиречь гибель от стены наконечников. Его собственный конь дергался и стенал от боли из-за большой рваной раны в плече, где пика пропорола толстую простилку, выпустив шерсть порозовевшими куделями. Ангелы, остановленные остриями пик, числом уже не более дюжины, бестолково кружили на месте, не находя ничего иного, кроме как швырять оскорбления, копья, палицы и даже большие шлемы; Твенг услышал, как один завел песнопение, словно преклонив колени в прохладном покое часовни: «Благословен будь, Господь, сила моя, направляющий руку мою в войне и персты мои в схватке». Твенг видел, как пехота вокруг колеблется, пятясь от слюнявых оскалов по ту сторону частокола неуклонно надвигающихся пик. Кто-то отшвырнул клинок; кто-то выронил щит. А потом все пустились наутек, будто куры от лисицы. — Мост! — крикнул Мармадьюк, указывая направление. Ангелы развернули коней. Мост. Единственный путь к безопасности, да и тот закупорен ощетинившейся остриями баталий, будто чертополохом в бутылочном горлышке.* * *
Стрела прилетела словно ниоткуда, кружась и трепеща. Вес бронебойного конического наконечника увлекал ее вниз, будто пикирующего ястреба, и ветер выл, продираясь сквозь оставленный мастером изъян. Мори, пытавшийся направить лучников из Селкерка направо, вниз по реке, дабы разубедить две другие английские дружины переправляться через реку, только что с улыбкой обернулся к Бервальду. — Et fuga verterunt angli! — крикнул он, и Бервальд, знавший, что последние слова вышиты на ковре, повествующем о победе норманнов в Байе[609], махнул рукой. «И англичане бежали». — Он еще посмеивался над этим, когда увидел, как Мори поднял голову, ища взглядом источник тонкого свиста, держа свой куполообразный шлем с плюмажем под мышкой, чтобы голос его был ясно слышен. Он улыбался, понимая, что они победили. Стрела вошла чуть ниже его правого глаза, устремляясь вниз, выбила зубы справа и вышла под краем бацинета, пронзив кольчугу и вклинившись в стык между шеей и плечом, отыскав тонкий предательский зазор между плотью и защитой подклада, железа и кольчуги. Немного времени спустя всадник пробирался через груды тел, крови и ошметков, раньше бывших людьми, пока не отыскал нужного человека. Тяжело дышавший, отдуваясь, забрызганный запекшейся кровью до локтей, с залубеневшими от нее волосами, Уоллес рычал, как бешеный пес, отплясывая собственную кровавую джигу в центре кружка воинов с топорами. Его новая гербовая накидка, украшенная львом, была изодрана в клочья, и он давным-давно соскочил с незнакомого коня, чтобы воевать в пешем строю. На всадника чуть не набросились, но кто-то углядел, что это фламандский рыцарь, родственник Мори. Уоллес выслушал принесенную новость, и воины, пыхтевшие и нетерпеливо прыгавшие на сворах в ожидании, когда их снова поведут на безумную бойню, отшатнулись от чудовищного, переливчатого, собачьего воя боли и отчаяния, вырвавшегося из глотки их запрокинувшего голову героя.* * *
Хэл увидел, как группка всадников отделилась от общей массы. Отбросив пики в сторону, баталии уже расползались мстительными сворами людей с длинными кинжалами, мечами и фальшионами. Керны и катераны, улюлюкая, сняли закинутые за спины топоры и, будто радостно скачущие агнцы, устремились в гущу кровопролития. Но группка всадников направлялась к мосту под предводительством человека с красной полосой на серебряном щите и птицами на нем. «Серебро, пояс меж тремя попугаями, зелень», — перевел Хэл и ухмыльнулся под нос, гадая, где сейчас пребывает Древлий Владыка. Герб сэра Мармадьюка Твенга, внезапно вспомнил он, рыцаря, доставившего Изабеллу и Биссета в лагерь в Эрвине. Направляясь — с внезапно всколыхнувшимся ужасом осознал он — прямо к растрепанной кучке, преграждавшей, размахивая пиками, путь к отступлению, уже осаждаемой удирающими ордами. И посреди этого кустика как попало торчащих пик, будто валун в реке, высилась знакомая фигура. Отец. — Сим! — рявкнул Хэл, срываясь на бег, не глядя, следует за ним тот или нет. Кто-то врезался в него всем телом, сообразил, что он враг, и в панике дунул прочь без оружия. Другой пошел на него, размахивая мечом; Хэл принял удар щитом, рубанул слева, потом справа — и снова рванул вперед сквозь кровь, которую умирающий изрыгнул себе на грудь.* * *
Конь терял силы, чем, как позже сообразил Твенг, наверное, спас ему жизнь, потому что это позволило Ангелам обогнать его и врезаться в пикейный заслон с жутким треском и грохотом металла и ломающейся древесины. Французский метод, снова подумал он, видя, как боевой конь целиком отрывается от земли, будто пытаясь перескочить барьер. И почти тотчас рухнул, мгновенно сдохнув, но учиненное его падением побоище пробило брешь в частоколе пик. Твенг погнал по останкам, разя налево и направо, проехав насквозь почти без сопротивления с горсткой рыцарей следом. Седовласый человек без шлема вывернулся из давки чуть ли не прямо перед ним; шедший за ним по пятам рычащий коренастый здоровяк ткнул спутанным синим флагом с белым крестом в ноги спотыкающегося коня сэра Мармадьюка, заставив его споткнуться и рухнуть. Спасла Твенга турнирная закалка, отработанный до бессознательности перекат из седла падающего коня, не раз спасавший его на ристалищах. Упав на потрескавшиеся доски моста, он ощутил боль, копьем впившуюся в плечо, — вывих, подумал Мармадьюк, а то и перелом. А в следующий момент он уже стоял на ногах лицом к лицу с седовласым, устремившимся на него, подняв щит и держа меч наготове, разинув рот и ловя воздух от слабости. Позади него человек с флагом тужился удержать его ровно одной рукой, пока другой отбивался от Ангелов, проезжающих мимо. Сьентклер, увидел Твенг, когда его меч отскочил от вздыбившегося петуха на щите, однако не Древлий Храмовник Рослинский. Отразив слабый ответный удар, он отступил, полуобернулся и, несмотря на прошившую тело боль, мощно двинул щитом. Увидел, как старик упал, выронив меч. — Мой государь… Ангел соскочил с коня с видом искренней заботы на своем разрумянившемся лице в обрамлении бацинета и нарочито протянул поводья Твенгу. Ощутив, как защемило сердце при виде его юношеской беззаветной отваги, ставящей рыцарское благородство превыше жизни, Твенг задумался, где же по пути потерял это в себе, — и тут старик у его ног кашлянул и зашевелился. — Вставайте, — сказал Твенг, поднимая того на ноги. — Сэр Мармадьюк Твенг. — Сэр Джон, — пропыхтел тот. — Хердманстон. — Сдаетесь? — Мой государь… — предостерег Ангел, увидев людей, бросившихся к ним по мосту. И, бросив поводья сэру Мармадьюку, пошел им навстречу, поднимая щит и меч. — Сдаюсь, — провозгласил старик. — Ну и добро, — ответил Твенг, бросая меч и обхватывая его за плечи, чтобы поддержать. Потом отбросил поводья и, поддерживая старика, заковылял за пустившимся иноходью конем. — Для нас двоих все закончено.* * *
Увидев, как отец упал, Хэл взревел. Врезался в толковище у входа на мост, застрял и увяз в нем, как муха в янтаре, дерясь, ругаясь и беснуясь в стремлении освободиться. Работая локтями и коленями, рыча, пробиваясь, вдруг споткнулся и упал, обнаружив, что смотрит прямо в мертвое, залитое кровью лицо Джона Фентона. Заставив себя подняться, вдруг ощутил удар в спину, швырнувший его вперед, освободивший от толпы и снова повергший на четвереньки; потом Лисовин Уотти вздернул его на ноги одной рукой, второй по-прежнему стискивая древко запутавшегося стяга. — Ваш батюшка, — гаркнул он с мукой в голосе, и Хэл, проследив за его взглядом, оцепенел. Сэр Мармадьюк Твенг поднял его отца на ноги, и они побрели прочь нога за ногу, как парочка подгулявших друзей из пивной. Хэл вскрикнул в отчаянии, уразумев, что отец сдался. Дорогу ему преградил рыцарь. Он спешился, и его конь рассеянно бродил позади него, а группа его друзей остановилась посреди моста, не зная, то ли поспешить ему на помощь, то ли продолжать защищать спину сэра Мармадьюка и его пленника. С упавшим сердцем Хэл понял, что освобождать отца слишком поздно, а потом увидел перед собой рыцаря в желтом сюркоте, запятнанном и порванном, со щитом, побитым и потрепанным, но изготовленным к бою. Or, three chevrons gules, avec a fleur-de-lis[610] — Хэл понятия не имел, кто он, зато знал, какой породы. — Сим, Уотти — взять живым. Живым, слышите? Выкуп! Услышав, Сим понял его тотчас же. Этот рыцарь послужит выкупом за Древлего Владыку. Рыцарь сделал широкий замах, Лисовин Уотти, проклиная спутанный синий флаг, прянул прочь. Подлетел Хэл с криком: — Мой! Сим ругнулся. Абы свершить сие рыцарское дело надлежащим манером, его должен сделать Хэл, ибо он рыцарь, а Сим — простолюдин, сдаться коему достойно не может ни один рыцарь. Они сошлись, и рыцарь пригнулся к самой земле, отступая боком; вокруг них свистели и звенели стрелы — выстрелы свечой на короткую дистанцию, понял Хэл, сделанные английскими лучниками с той стороны, стреляющими поверх голов в своих шотландских сотоварищей. Рыцарь оказался проворным и искусным. Турнирный боец, подумал Хэл, привычный к дракам без правил, но не к тому, что творилось среди мочижин и бочажков, где керны и катераны с боевым кличем «Берик!» чинили безжалостную расправу, даже не помышляя о выкупе. Зарычав, Хэл нанес низкий подкашивающий удар сбоку, пришедшийся по мечу рыцаря, заставив его вскрикнуть с утробно отозвавшимся в голосе лязгом удара. Отпрянув, он приподнял щит и ринулся в атаку. Сверкнуло острие, и Хэл извернулся в сторону, охнув, когда холодная сталь проскрежетала у самой щеки по кольчужному чепцу в опасной близости от глаз. Ощущение отсутствия какого бы то ни было шлема продрало морозом по коже, и Хэл, обратив страх в гнев, взмахнул мечом; почувствовал удар, услышал лязг и вышел из сшибки. Рубящий удар слева, потом справа; рыцарь затейливо закрутил мечом, с фасоном демонстрируя ловкость и силу запястья, снова пошел на сближение, ударив своим щитом в щит Хэла, заставив его покачнуться, отвел его в сторону и свирепо нанес удар, так что его клинок снова скользнул по кольчуге сбоку со змеиным шипением. Рыцарь прекрасно владел мечом и щитом, неуклонно тесня Хэла, а Сим лишь рычал, следя за людьми на той стороне и одновременно пытаясь не упускать из виду Хэла, чтобы подскочить на помощь, если дело обернется худо. Следующий удар вырвал из щита Хэла щепки и куски кожи, подскочил кверху и чиркнул по шлему. Жгучий пот заливал глаза, застя взор, хриплое дыхание шумно отдавалось у Хэла в ушах. Конечности превратились в тающий воск, а меч стал втрое тяжелей, чем раньше. Он понял, что с ним покончено. Следующий удар вышиб меч из его руки. Услышал триумфальный крик рыцаря, подумал об отце и с ревом ринулся на противника, как таран. Угодил головой в прикрытую сталью щеку, и перед глазами заплясали звезды, но зато рыцарь тонко, пискляво от потрясения вскрикнул. Они рухнули с грохотом металла и кряхтением. Извернувшись в обход рыцарского щита, Хэл осы́пал открытое лицо противника быстрыми, жестокими ударами лба, одновременно молотя его обеими руками его же собственным щитом. Обрушив острый конец щита чуть ниже ключицы противника, услышал, как воздух с присвистом исторгся из груди рыцаря, будто у издыхающей больной коровы. Услышал собственный вопль; рот был полон солоноватого металлического привкуса собственной крови, грохот сердца отдавался в голове болезненными толчками. Бросив щит, схватил окровавленную голову рыцаря, снова и снова долбя ею по доскам моста, так что бацинет стал скользким от крови. А потом внезапно оказался на ногах, покачиваясь и спотыкаясь. Простертый рыцарь лишь хватал ртом воздух — полуослепший, ошеломленный, едва в сознании. Это совсем не турнир. Даже в худших рукопашных не было ничего подобного… — Сэр Генри Сьентклер, — крикнул Хэл по-французски. — Вы сдаетесь? Поверженный рыцарь отреагировал вялым взмахом руки в латной рукавице. — Сэр Ричард Фицральф, — ответил он слабым голосом, невнятным от булькающей во рту крови и потери нескольких зубов. — Я Ангел. — Коли не сдаетесь, — рявкнул Хэл, позабыв куртуазный французский, — то будете распевать вместе с ними, подлинно. — Сдаюсь. Благодарение Христу, подумал Хэл и повалился, тяжело дыша, на склизкие доски моста.* * *
— Мой государь, где Крессингем? Твенг обернулся к подъехавшему всаднику с лицом, окаменевшим от потрясения и замешательства. Сомкнув ряды, головная и задняя дружины дожидались переправы, но доброй трети войска как не бывало, и Мармадьюк устало поглядел сперва на него, потом оглянулся на кровавую бойню. — Почти наверняка погиб, — промолвил он, и лицо рыцаря побледнело, отчего его черная, аккуратно подстриженная бородка обрисовалась четче. — Уж наверняка пленен, мой государь. Твенг обернулся, чтобы взглянуть на мост, где все копошилось, будто личинки мясных мух в открытой ране, на воющее, верещащее кровопролитие, потом снова поглядел в ошеломленно распахнутые глаза рыцаря, не обмолвившись ни словом, и это молчание было настолько красноречивее слов, что тот побледнел еще более. — Что мне делать? — неуверенно спросил рыцарь, и Твенг усталым взмахом руки указал на орлиное гнездо замка Стерлинг, зная, что де Варенн наверняка наблюдал за происходящим. — Вы кто? — спросил он, и рыцарь, несмотря на все свое потрясение, малость приосанился. Горделив, утомленно отметил Твенг, коли пред лицом всего этого не растерял тщеславия. — Сэр Роберт Маленфонт, — представился рыцарь. Его угрюмое, лоснящееся от пота лицо стало уже белее мела. Твенг даже подумал, что он может в любой момент сомлеть. Один из людей государя Агтреда из Скарборо, припомнил Мармадьюк, входивший в эскорт из Бамбурга. — Соберите масло и все, что может гореть, — распорядился он. — Вскорости подоспеет гонец с приказанием сжечь мост и отступить. Маленфонт молча кивнул с явным облегчением, что появился хоть какой-то план действий. Твенг знал, что никакого плана нет, но сам он именно так и поступил бы. В конце концов это придется сделать — хотя упаси нас Господь, когда Длинноногий услышит об этом.* * *
Была минутка, когда Мализ ощутил жар, забурливший в крови, узрев столкновение баталий и услышав отдаленный раскатистый рев и странное жуткое верещание погибающих лошадей, донесенные дуновением ветерка. О, Раны Господни, возликовал он, да мы побеждаем! Шотландцы побеждают. Но тут же рассудок взял верх, угасив пламя торжествующей страсти. Побеждают крамольники, а значит, делу Бьюкена и Комина в том никакого проку, какой бы притягательно радостной ни была мысль о подобной победе. Он снова сгорбился на лошади, подгоняя ее вверх по склону Абби Крейг. Не его это дело, резонерствовал он. Его дело — графиня и тайна савояра. Солнце уже спускалось за горизонт, когда он добрался до обозного лагеря, суматошного, как стая ворон на свежевспаханном поле, и Мализа даже толком не окликнули, потому что единственные, кого он видел, либо тащились в лагерь сами, либо их тащили туда друзья. Ручейки крови змеились там и тут, будто следы исполинской склизкой улитки, отмечая путь раненых и умирающих, вынесенных из боя; здесь никто не знал, на чьей стороне победа. Он онемел, почти оцепенел от окружающего ужаса воплей, стонов, смертей, но все же догадался ухватить крадущегося мимо субъекта в бурых одеждах. — Графиня Бьюкенская, — рыкнул он, и священник с тревожным взором и подолом рясы, пропитанным кровью, мигнул раз-другой, а потом указал на беседку с пьяно покосившимся крестом обок. — Держите его, — услышал Мализ, подходя ближе. — Держите его. Джинни, режь там. Вот, готов… Теперь сшей это обратно. Когда он подошел, Изабелла обернулась, и глаза ее чуть расширились, но тут же утратили выражение, похолодев. Она была в крови по локоть, платье замызгано, щеки измазаны, волосы выбились из-под измятых останков платка. — Пришли помочь? Отлично, Мализ… возьмите этого за ноги. Очумевший Мализ понял, что делает, только когда поднял человека. Псаренок с другой стороны держал его за плечи, стараясь не глядеть Мализу в глаза. — Туда, — распорядилась Изабелла, изумившись,когда Мализ подчинился, как вьючная лошадь узде. И только тогда до него дошло, что человек мертв и он тащит его к остальным, как бревно. Тут Мализ остановился и уставился на Псаренка. — Я тебя знаю, — провозгласил он, осклабив зубы и бросив ноги. — Воришка из Дугласа. Вес отпущенного трупа потянул плечи из хватки Псаренка, и голова трупа закачалась из стороны в сторону. — Нынче не вор, — огрызнулся Псаренок, хотя сердце трепыхалось в клетке груди, как всполошенная птаха. — Вы его сронили, не донесши. Подыймете али мне одному тужиться? Мализ с потемневшим лицом было сделал шаг, двигая сжатыми губами, но обнаружил, что Псаренок пригнулся, как рычащий терьер, и отступать не желает. Это ошеломило его ничуть не меньше, чем самого Псаренка, но тут ситуацию разрешил голос Изабеллы: — Господи, Мализ, неужто вы не в состоянии исполнить даже такую простую вещь, как донести усопшего до места его последнего упокоения? Мализ повернулся к ней всем телом. — Вы пойдете со мной, — непререкаемо заявил он, а Изабелла рассмеялась и откинула волосы со лба, оставив на нем и на платке очередной мазок. — Я занята, как видите, — и снова повернулась туда, куда принесли следующего раненого, держа располосованную половину его лица обеими руками, пока он исходил криком, пуская кровавые пузыри. — Сию минуту, государыня! — взревел Мализ, теряя голову. Ухватил ее за руку выше локтя, злобно стиснув так, что она взвизгнула, и обернул ее к себе, придвинув свое искаженное лицо вплотную к ее лицу. Люди, принесшие своего кричащего друга, заорали на него. — Довольно этого, шлюшка, — прошипел он. — Твой муж граф послал меня доставить тебя домой, и Богом клянусь, баба, ты пойдешь сама или в путах, но пойдешь. И тут же полетел лицом в грязь, смешанную с кровью и внутренностями. Подняв перемазанное лицо, отплевываясь, увидел горящие глаза Псаренка, торжествующего, что толкнул его. Не находя слов и испуская только бессвязные, визгливые звуки ярости, Мализ выхватил длинный кинжал и устремился к Псаренку, лихорадочно озиравшемуся по сторонам. Увидев горящую во взгляде Мализа жажду крови, Изабелла попыталась встать между ним и жертвой, но Мализ лишь отбросил ее прочь, с маху влепив затрещину свободной рукой. Крепкий удар пришелся ей по голове сбоку. Перед глазами вспыхнули звезды, взор застлало алой пеленой, и — впервые — ее охватил настоящий страх. Прежде Мализ не смел ее даже пальцем тронуть… Люди негодующе закричали, а Мализ, ринувшись к мальчишке, поскользнулся, проехался, но кое-как удержался на ногах — и тут краем глаза увидел летящую на него громаду. И мир взорвался прямо ему в лицо под гнусный хруст. Мужчины ликующими криками приветствовали Рыжую Джинни, опустившую сковороду и плюнувшую на барахтающегося на четвереньках мужчину. Нос его был расплющен, и каждый всхлипывающий вздох гонял кровь туда-сюда. Он нетвердо встал на ноги, по-прежнему сжимая кинжал в побелевшем кулаке. Перед глазами у Мализа все плыло — Рыжая Джинни, державшая сковороду, как лохаберский топор, какие-то другие лица, бледными мерзкими кляксами то проступали четко, то снова расплывались, рыча и плюясь. Они увидели, как он пятится, сжимая в подрагивающем кулаке кинжал. Псаренок отчаянно озирался в поисках графини, но та скрылась.* * *
Мализ обнаружил, что стоит, привалившись к дереву, не имея понятия, как сюда добрался. Мох на грубой мокрой коре своей холодил лицо, преисполненное сокрушительной мукой. Он понимал, что его ударили чем-то, и страшился этого, страшился того, что это учинило с ним. Выплюнул два зуба, гадая, скольких еще недосчитается, и захромал прочь — туда, где мерцание костров сулило уют; понял, что уже сумерки и из жизни бесследно выпал час или два. Где-то у него есть лошадь, но найти ее в обозримом будущем он не рассчитывал. Небось сожрали эти звери с севера… Опустился на землю в стороне от огня, задрожав от всего случившегося с ним, кляня боль, графа, графиню и Бога, покинувшего его. А потом обнаружил, что хотя бы Дьявол ему не изменил. У костра, к которому он подползал, настороженный, как лис у псарни, находились два человека — один лежал в шалаше, а второй помешивал что-то в котелке. — Уж скоро, ваша светлость, — весело объявил костровой. — Доброе капустное хлебово с малой толикой черного хлебушка вернут вас к жизни, ась? — Приношу благодарность, — ответил второй устало, и Мализ разглядел порванный желтый сюркот с гербом спереди. Пленник, подумал он, а потом увидел лицо кострового, озаренное алыми отблесками огня, когда тот наклонился попробовать похлебку в ложке из рога. Лисовин Уотти. Живот скрутило так, что Мализ заскулил и прикусил губу, усугубив боль в лице. Начал было отползать, но остановился. Лотианец захватил государя ради выкупа; мысль о таких богатствах для этого Хэла Хердманстонского и его шайки мигом выжгла из Мализа и боль, и страх. А Лисовин Уотти сидит к нему спиной… — Не помешало бы чутка мяса, сочтите, — говорил Лисовин. — Но, слово чести али нет, мой государь, покинуть вас я не смею. Простертый тихонько застонал, и Лисовин наклонился покопаться в котомке, уповая, что пленник государя Хэла не помрет; его палил стыд, что он не сумел уберечь Древлего Владыку Хердманстонского, промешкав, будто разбитый параличом, не в силах выбросить из головы безумие пикейной стычки и воплей, смертоубийств и этого треклятого треножащего синего флага. Джон Фентон погиб, упав под подкованные сталью копыта тех английских рыцарей, удиравших через мост, и Лисовину Уотти до сих пор было трудно поверить, что рослинского распорядителя больше нет. Он знал Фентона всю жизнь, а теперь его не стало, словно он никогда и не ходил, и не дышал вовсе… Лисовин встряхнулся; наверняка еще есть добрая мера овса, чтобы загустить похлебку, влить малость жизни в английского государя, которого обменяют на Древлего Владыку… Удар снизу-сбоку спины был достаточно силен, чтобы заставить его крякнуть, повалившись на колени. Рассвирепев, Уотти в замешательстве кое-как поднялся на ноги и, обернувшись, увидел Мализа с окровавленным, изувеченным лицом. — Ах ты, мокрота, — рыкнул он, бросаясь на мерзавца, но вдруг обнаружил, что падает. Подумал, что споткнулся, и попытался вскочить и только тут почувствовал, как саднит удар в спину. — Что, теперь не такой радышной, выжлятник, — прошипел Мализ, кривясь от боли, и теперь Лисовин, увидев тусклый блеск стали в его руке, понял, что его ударило и что рана скверная. Он все никак не мог подняться, как ни старался, видя, как сапоги Мализа шаркают к стонущему обессиленному рыцарю. Мализ кончиками пальцев нащупал пульс на шее стонущего. Рыцарь зашевелился, полуоткрыв глаза, страдальчески блеснувшие влагой из недр лиловых кровоподтеков. — Кто здесь? — спросил он по-французски, а Мализ полоснул ему по горлу, выпуская из него кровь и жизнь одним стремительным, небрежным движением острия и зубчатого лезвия. И обернулся к Лисовину Уотти, загребавшему грязь одной рукой, второй пытаясь дотянуться до засевшей в спине боли. Зубы Мализа сверкнули в жестоком оскале.* * *
Ведущая к мосту гать — скользкая, как лампадное масло, липкая от телесных жидкостей, усеянная трупами, как кожаная куртка заклепками, — была сущим Адом на земле, и Изабелла ковыляла по ней, полуослепнув от страха и слез, то и дело падая и даже не представляя, где находится или куда идет. Прочь. Только бы подальше от сорвавшегося с цепи монстра в облике Мализа. Фигуры двигались в сумерках угасающего дня, перебегая, как припадающие к земле демоны, изрыгая бессвязные проклятья, когда сталкивались с себе подобными, шакалящими среди трупов. Воздух был напитан зловонием и шумом — негромким ропотом, будто от ветра, врывающегося в плохо прикрытую дверь, — это еще живые в стенаниях испускали дух, взывая к Богу, к матерям, к кому-нибудь. Они пролежали здесь целый день, умирая мучительно и медленно, покинутые всеми, кроме птиц и мародеров. Споткнувшись, Изабелла упала, поднялась на ноги и побрела дальше; безмолвный ужас позади толкал ее вперед, будто ладонь в спину. Он ни разу не бил ее. Ни разу. Его спустили с поводка, а Изабелла знала Мализа слишком уж хорошо, знала, на что он способен. Покачиваясь, будто пьяная тень, она обнаружила, что глазеет, разинув рот, на группку скорчившихся фигур, рычащих звериных силуэтов, смутно обрисованных на фоне серого света умирающего дня, чуть позолоченных желтым светом чадящего рогового фонаря. Один обернулся, и Изабелла увидела липкий от крови нож в перепачканной руке. В другом кулаке он сжимал длинную, влажную полоску плоти, и в глазах его змеей извивалось безумие; остальные даже не подняли голов, просто продолжали с рычанием резать, словно разделывая свежезабитую овцу. — Ступай отсель прочь, женщина, — сказал тот и, проводив ее взглядом, снова занялся прежним делом. Лишь позже, когда рассказы закружили по стране, как черный ветер, Изабелла поняла, что они свежевали английского казначея Крессингема. Но не тогда. Тогда она не осознавала ничего, кроме силуэтов и ужаса. Когда же наконец рухнула на колени, на нее упала тень, и она захныкала; Мализ настиг ее. Подняла глаза, щурясь в сумраке, и частью мозга, еще не вопившей от ужаса, поняла, что в колене у нее сидит щепка и она на полпути через мост. — Ведьма, — сказал голос большого черного силуэта, пыхтящего Вельзевула, притопывающего раздвоенными копытами по расщепленным доскам. — По сю сторону моста нет добычи, лишь смерть. У него за спиной она увидела взметнувшееся адское пламя. Вовсе не Мализ, а Дьявол… — Смилуйтесь, — всхлипнула Изабелла. — Изъявите милосердие бедной грешнице. Она произнесла это по-французски, и черный силуэт помешкал, а потом наклонился. Крепкая ладонь взяла ее за руку, поднимая на ноги. Лицо — острое, чернобородое и сосредоточенное — возникло перед ее помутненным взором, добрую минуту с интересом разглядывало ее, а затем незнакомец повернул коня, железной хваткой увлекая ее за собой. — Пошевеливайся, коли хочешь жить, — ответил демон, и она припустила следом, прикованная его ладонью, как кандалами, в окружении лепета пляшущего пламени, смутно гадая мизерными остатками здравого разума, почему Дьявол говорит по-французски. (обратно)Глава 8
Белантродич, прецептория тамплиеров Праздник Святого Андрея Первозванного, ноябрь 1297 года Смерть пришла вкрадчиво и мягко, но сурово, как стылый морской туман вослед за снегом. Вести о ней просачивались, как сеющиеся хлопья, сокрушая каждого леденящим морозом. Смелый скончался в Тауэре. Сын Древлего Храмовника умер. Было ясно, что руки у английского Юстиниана, пусть и находящегося ныне во Фландрии, длинные и мстительные. Что еще хуже, Древлий Владыка Хердманстонский скончался в Хексемском приорате. От ран, донес гонец из Рослина, но Хэл понимал, что дело обстоит иначе — отец, не сомневался он, скончался от сознания, что его взяли ради выкупа, что он сражался доблестно, но с невеликой сноровкой и вовсе без сил, ибо лета отняли у него и то, и другое. Его убила мысль, что он погубил и Хердманстон, ибо выкуп разорит имение, и именно это более всего прочего, понимал Хэл, вытянуло жизнь из Древлего Владыки, будто мозг из сломленной кости. Последнее, что мог сделать сэр Джон, дабы спасти ситуацию и всех находящихся в его попечении, — это умереть. И все потому, что он спрыгнул с забора прямо в трясину войны, где никто не мог положиться даже на собственного соседа. А паче по наущению Древлего Храмовника, что еще хуже, ибо у Хэла дважды похитили людей, пред коими он преклонялся. А теперь и Хердманстон под ударом, потому что Хэл остался и сражался вместе с отцом, став мятежником от Королевства. Единственная спасительная милость в том, что крепкий ветер победы сдул с забора всех прочих. Брюс и Бьюкен, Баденох и все остальные — даже шотландские владыки, спорившие с Уоллесом и Мори в ночь перед битвой, — все теперь встали на сторону Королевства. «Ну, хотя бы лица Уоллеса, Брюса и мое теперь обращены в одну сторону, к одному неприятелю», — подумал Хэл. Псаренок видел страдание, отпечатавшееся на лице сэра Хэла столь глубоко, что даже радость при виде тявкающих, копошащихся терьеров из Хердманстоновой псарни не прогнала его. — Мощи Христовы, — слышал он ворчание Сима, когда тот думал, что никто не слышит. — Господь и все Его ангелы в этом королевстве поснули. Да и само королевство будто уснуло, настолько ошеломленное победой у моста Стерлинг, что никому не верилось. И все же нобили державы ворочались и строили планы, пока весь мир закоченел в морозной скорби. Хэл выехал из Хердманстона в черный путь, чтобы забрать тело отца, доставленное из Хексема Древлим Храмовником в прецепторию храмовников в Белантродиче в выстеленной свинцом домовине с охранной грамотой храмовников, спорить с коей ни один человек в здравом уме — ни шотландец, ни англичанин — не посмел бы. Скорбную кавалькаду из Хердманстона составляли Хэл, Сим, Куцехвостый Хоб, Джок Недоделанный, Уилл Эллиот и Долговязый Тэм Лоудон — все мужчины, кроме двоих из квадратной фортеции. Псаренок правил тряской двуколкой, которая повезет гроб в Хердманстон, следуя за Хэлом по пятам, как терьер. Сим знал, что, вопреки всему напускному безразличию, Хэл ни на минуту не забывает о мальчонке, явно выдав это улыбкой, подсмотренной Симом, чуть тронувшей его уста при виде Псаренка по пути в прецепторию в Белантродиче. Псаренок, посетивший ставку храмовников в Шотландии впервые, прямо рот разинул. Даже госпиталь был дивом. Кровля в форме перевернутого корпуса корабля символизировала благостыню, плывущую по миру, как корабль по морям. Маковка крыши возносилась над плитами пола на такую высоту, что не достали бы шесть человек, встав друг другу на плечи, а окошки из цветных стекол проливали повсюду радужный свет. Подивился даже Хэл, впервые оказавшийся в госпитале, где было довольно света, чтобы все видеть. В ширину госпиталь не уступал троим мужчинам, положенным бок о бок, с резными стропилами, изображающими горгулий, и ярко раскрашенными балками, через регулярные промежутки увешанные Босеанами — белыми хоругвями с черным верхом, знаменующими присутствие ордена. Над каждой дверью была вырезана надпись «Non nobis, Domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam» — начало первого стиха псалма 115: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу»[611]. Каждое спальное место в темно-красных и золотых тонах представляло собой альков с отодвигающимися занавесами для уединения и столиком с собственной оловянной чашей, кубком и медным сосудом. В одном конце была крохотная, но чу́дно обставленная часовня, устроенная так, чтобы при открытых дверях и отодвинутых крестных перегородках недужные могли присутствовать на мессе и слушать службу, не покидая постелей. Доброе место, чтобы занедужить, этот госпиталь прецептории Белантродич, думал Хэл. Под началом капеллана целых шесть человек, обученных врачевать раненых или занемогших Бедных Рыцарей, — но только не дрожащие массы по ту сторону ограды. Будто укоризненный взор, съежившиеся и изнуренные, больные и здоровые бок о бок, и нипочем не отличишь одних от других. Руки и глаза молили о пище, воде или надежде, а голоса сливались в тягучий, негромкий гул отчаяния. Но это рыцари-храмовники, а не рыцари-госпитальеры; благотворительность — не их смысл существования, и чудесный госпиталь предназначен исключительно для заботы храмовников токмо о своих. Однако в ставке госпитальеров в Торфичене сущее столпотворение, а положение в Белантродиче по-настоящему отчаянное и безысходное. Во дворе прецептории царили безмолвие и недвижность заиндевевшей пустыни, окутавшая мир зимняя дымка обратила солнце в серебряную монетку. Беднейшие, первые жертвы несжатых, спаленных урожаев и ранней зимы, пришли в поисках надежды и добычи от английского марша, но ее едва хватало воинам, не говоря уж о чадах, женщинах и стариках. Они уже начали умирать. Рассудительные люди остались по домам, законопатив все щели; и несмотря на это, их находили закоченевшими до смерти, с пальцами, ссаженными до крови о железную землю огородов в чаянии выскрести жалкие остатки. Мир отощал и оголодал, исчерченный темными рунами женщин, чад и мужчин, обносившихся и грязных, кативших в такую даль повозки, нагруженные бесполезными причиндалами прежней жизни — деревянными табуретами, жестяными котелками, плужными лемехами, сельскохозяйственными орудиями, кузнечным и столярным инструментом. По большей части повозки, замотанные тряпками в качестве сработанных на скорую руку укрытий, служили вместилищем бедствий, и приютившиеся в них люди марали земли вокруг храма своими отбросами, своими мольбами, запахом своих мрачных угроз и страхов. Горели костры, и люди дрались, дабы уберечь дерево своих старых столов, повозок и стульев. Не было ни лошадей, ни пони — если они вообще когда-нибудь были хоть у одного из них, а мясо либо дотошно прятали, либо выменивали на другие продукты и топливо. Такова цена кровавой войны для обеих сторон — победоносные шотландцы голодали, потому что их неубранный урожай сгнил на корню. Разбитые англичане голодали, потому что шотландцы разоряли их кровожадными лупами не только ради богатств, но и ради пропитания, опустошавшими Нортумберленд от Кокермута до Ньюкасла. Они разоряли земли, пребывающие под защитой громады замка Барнард, а если кто и замечал, что это английская крепость Баллиола, то держал рот на замке, продолжая кровопролитие, усугубляемое мстительным боевым кличем «Берик!». Всего этого едва-едва хватало, чтобы поддержать жизнь армии, хоть от нее и немного осталось; люди брали, что могли, и расходились по домам в уповании прокормить свою родню зимой. Отчаявшиеся шли за армией, как вороны за плугом, пренебрегая опасностью ради шанса поесть. Хэл смотрел, как вооруженные до зубов люди прибыли с повозкой и начали раздавать хлеб из суржи — кормовой смеси пшеницы с рожью и опилками, видел цепкие руки и проворные ноги счастливчиков, прижимавших драгоценный трофей к груди и сторожившихся других, подстерегающих на окраинах, чтобы отобрать его. Хэл, Сим и остальные хердманстонцы были ошеломлены, обнаружив, что едут в гуще медленно разваливающейся шотландской армии и полных надежды горемык, бредущих за ней, как чайки за рыбацкой лодкой. Псаренок первым упомянул отсутствие детей, и все остальные, осознав это, стали смотреть внимательней, но не высмотрели ни одного ребенка; как и родители, дети слишком замерзли, слишком устали от недоедания и искали не игр, а только пропитания. Дитя, глодавшее камни часовни в Белантродиче, отвели к самому капеллану Уолтеру де Клифтону, и перед смертью девочка твердила, что стены были сделаны из пряника, а она попала в страну Кокейн, где заборы сделаны из колбас, а жареные гуси сами летят тебе в рот. Она говорила это, улыбаясь окровавленными губами, и безнадежность всего этого надорвала душу даже суровому сэру Уолтеру, хотя сам магистр ордена храмовников в Шотландии остался ничуть не тронут и более озаботился нарушением заведенного распорядка ордена. Называет себя братом Джоном де Соутри, но при всей своей набожной благочестивости, думал Клифтон, чванлив и напрочь лишен христианского милосердия. — Мощи Христовы, Хэл, что за жалкое зрелище, — ворчал Сим, покачивая головой. — А ведь зима еще толком и не прихватила… Хэл отчасти ожидал чего-то подобного и не так уж удивился, хотя от окружающего запустения у него сердце обливалось кровью. Он и остальные хердманстонцы бросили лупы в середине октября, отправившись домой. Уоллес дозволил это, потому что видел надрыв в душе Хэла из-за пленения отца, смерти Лисовина Уотти и рыцаря Фицральфа — а еще утраты Изабеллы, попросту пропавшей без вести. Даже Уоллес не знал, жива она или мертва, но принес утешительную весть, что в последний раз ее видели в компании рыцаря, бежавшего из Стерлинга, откуда следовало, что рано или поздно за нее потребуют выкуп. Ценой за графиню не пренебрежет никто. Армия блуждала — вроде бы бесцельно, почти без дисциплины и с одной только целью: не давать англичанам скучать зимой. Когда пара недель бездумных поджогов и грабежей выжгла гнев из души Хэла, он запросился прочь, и Уоллес согласился. Глаза его на длинном худощавом лице тоже были полны могильным мраком, как полночный погост. Хэл с остальными уехал домой со своей долей добычи, к холодным утешениям и слезам тех, кого оставили печься о прочной квадратной башне и крепостной стене Хердманстона. Лисовина Уотти, обернутого в пелены и уложенного во гроб, доставили неделями раньше и достойно похоронили в Салтоне, так что хердманстонцы, получив увольнение, отправились воздать дань уважения, а затем взвалили на плечи свои котомки и ноши, кивнули друг другу и разошлись по своим мазанкам, к своим малым чадам с осунувшимися лицами. Древлий Храмовник, изнуренный холодом и стараниями закутаться, приехал из Рослина, понимая, какая палящая забота поселилась в душе Хэла, понимая и то, что в пленении отца молодой владыка винит его. Он пытался хоть как-то поправить дело вестями, которых Хэл так ждал, и, правду говоря, пустил в ход свои связи среди храмовников, прося их о любезности расспрашивать повсюду, подстегиваемый осознанием собственной вины и мыслью, что Хэл прав, что он просил от других слишком многого, утоляя собственные амбиции. Гордыня, гнев и хуже того, думал Древлий Храмовник, преклонив колени в холодной крохотной церквушке Хердманстона, не в силах отвести взгляд от выписанного яркими красками дерева, каждой ветвью изображающего один из семи смертных грехов. «Спаси меня, Боже», — молился он, не находя утешения в молитве, а паче того в лице Хэла, когда они в конце концов встретились в зале Хердманстона. — Отвезли на полудень, слыхах аз, — сказал он навстречу бесстрастно-холодному взору Хэла. — И ея, и вашего отца. Мы осадили замок Стерлинг, и коли малость повезет, он падет скорее ране, нежели позже, и тогда у нас будут сэр Мармадьюк Твенг, Фитцварин и толика знати пошибом помельче в обмен. Не дождавшись от Хэла никакого ответа, Древлий Храмовник понурил голову. — Мы вернем Древлего Владыку, не страшитесь, и, может статься, графиню Бьюкенскую тож — пленивший ея запросит выкуп достаточно скоро. И встал, ибо ничто не могло заставить его долго глазеть в пол. — Одначе питаю сомнения, что вы найдете много счастия, возвращая ея мужу. А затем пришла литания смертей, ввергшая Хэла в громадную серую пустоту, в которую обратился теперь Хердманстон, и отправившая Древлего Храмовника, бичуемого чувством вины, в паломничество на юг за телом. Он сделал остановку в Хердманстоне, чтобы сообщить Хэлу о своих планах, и, переговорив лишь с Симом, уехал прочь с двумя слугами и повозкой, исчезающими темными силуэтами на фоне заиндевевшего пейзажа. В тот же день, пронизанный шелестом ветра и кружением снега в полузамерзшей грязи, Хэл стоял у серого каменного креста, глядя, как весело распевает малиновка, надувая пламенеющую грудку, будто пришла весна. Маленькая недостроенная каменная часовня поблизости, возвести которую отец упросил францисканцев из Салтона, совсем заиндевела, превратившись всего-навсего в холодную катакомбу для мощей его матери и погребальную урну с ее сердцем. Теперь ее муж ляжет рядом, и Уилл Эллиот терпеливо, с любовной тщательностью вырезал знаки, которые отец Томас, францисканец из Салтона, входивший в цену часовни, начертал в качестве руководства на домовине.Hic est sepultus Sir John de Sientcler, miles militis[612].Со временем в часовню перенесут и мощи жены и сына Хэла. Со временем он увеличит ее во славу Сьентклеров Хердманстонских и со временем упокоится в ней сам. И все же, несмотря на зеленую тоску, Хэл не мог всей душой отдаться мыслям ни об этом выстуженном месте, ни о самом кресте, ибо гадал, где Изабелла и как идут дела у нее. Сима никто не ждал, не считая пары-тройки женщин, которые с радостью заключат его в объятья, и иного дома, кроме башни в Хердманстоне, у него не было. К собственному изумлению, он обнаружил, что его и остальных приветствуют как львов и героев, что все, кто бился в Камбаскеннете на стороне Уоллеса, удостоены уважения и чествования. Псаренка ждали восторг соломенного матраса у огня и две горячие трапезы в день, пусть и скудных. И все же тоска по Лисовину Уотти бередила душу, будто Хэл потерял что-то ценное. Прикатив в Белантродич, они застали Древлего Храмовника стоящим над заключенными во гроб останками отца Хэла. Крышка была снята, открывая взорам его спеленутое тело, подернутое инеем обнаженное лицо, осунувшееся и голубоватое… царил такой мороз, что в свинцовой подкладке гроба не было нужды, но Древлий Храмовник все равно позаботился о ней, и ходили слухи, что ради этого свинца он ободрал сточные желоба и кровлю Хексемского приората. Его собственное лицо ошеломляло всех, кто его видел, ибо смерть сына, тяжким ударом обрушившаяся на него после утраты Джона Фентона, свирепо грызла его своей собачьей пастью. Его бледные щеки ввалились, под глазами обозначились синие круги, и сутулость его костлявых плеч пугала всех, кто всегда считал Древлего Храмовника несокрушимым. Хэл вспомнил, как всего лишь пару месяцев назад тот возглавлял атаку по мосту, разя своим молотом направо и налево, и на миг ощутил давнюю любовь к этому человеку. Хэлу подумалось, что если Хердманстон черным саваном окутало горе, то оно просто душит Рослин, где сейчас женщина оплакивает своего мертвого брата, пропавшего мужа и умершего отца мужа, а ее малые дети стоят рядом в растерянности. «Древлий Храмовник, — думал Хэл, — служит раствором, скрепляющим камни Рослина, не давая им осыпаться слезами, и сколько б я ни винил его за то, что он толкнул моего батюшку навстречу гибели, ненавидеть его я не могу». А все это выпало на долю победителей. Древлий Храмовник поприветствовал Хэла кивком, изумившись краткому мгновению объединившего их теплого чувства, продлившемуся не долее взмаха птичьего крыла. — Хвала Христу, — сумел прошелестеть он. — Во веки веков, — прозвучал напевный ответ, и оба осенили себя знаком креста. Больше в Белантродиче поделиться было почти нечем — у входа в забитые народом ворота территории храма их поджидала угрюмая толпа — отчасти попрошайничающая, отчасти негодующая, — буквально пожиравшая взглядами их самих и их лошадей. — Будь здесь, — велел Хэл Куцехвостому Хобу, озираясь. — Мы с Симом выясним, есть ли возможность найти здесь постой. Если оставить лошадей без присмотра, к нашему приходу их уже съедят. Кивнув, Куцехвостый поглядел на Джока Недоделанного, Псаренка, Уилла Эллиота и горстку прочих членов отряда, пожалев, что перед выходом они не вооружились получше. Едва переступив порог каменного храма, где царил такой холод, что дыхание вырывалось изо рта облачками пара, Хэл вдруг застыл в полушаге, так что Симу пришлось извернуться в танцевальном па, чтобы не наступить ему на пятки. Он было бросил на Хэла сердитый взгляд, но тут увидел, что его остановило. — Хердманстон, — мрачно кивнул Брюс. Он выглядел сытым и ухоженным, здоровым и молодым, кутаясь в отороченный мехом плащ. Киркпатрик тенью маячил у него за спиной, а позади него стояли угрюмые рыцари с окладистыми бородами, в одеждах черных, как вороново крыло, с белыми крестами ордена Святого Иоанна. — Вы живо поспели, мой государь, — сумел найтись Хэл, — ведь отец мой умер не более пяти дней назад. Брюс хмыкнул, задумчиво выпятив губу, хотел было солгать, но решил, что Хэл заслуживает лучшего. — Я пришел не ради вашего отца, — объявил он, — хотя тем не менее сие и есть горькая утрата. Погиб славный человек, и сражался он за доброе дело. — С полуулыбкой склонив голову к плечу, присовокупил: — Вы тоже за него сражались, слыхал я. Сдается, шотландцы — прирожденные бунтари, сэр Хэл; в оное время вы ухитрились бунтовать даже супротив меня. — Удачное предчувствие, — бесстрастно ответил Хэл, согнав улыбку с лица Брюса. — Что ж, славно, что вы победили, — парировал он, — иначе более не пребывали бы в лоне моего попечения. Хэл промолчал, понимая, что по-прежнему прикован к Брюсу благодаря своей вассальной верности Рослину. При всем своем пылком стремлении выступить против пленителей потомков Древлий Храмовник был не настолько глуп, чтобы связать себя с Уоллесом, пусть даже победителем. После всего случившегося, с горечью подумал Хэл, хорошо, что государь Рослинский попридержал свою натуру, хоть и поздновато. Приняв молчание Хэла за пассивное признание его упрека, Брюс смягчился и улыбнулся ему, кивком головы указав туда, где знакомая фигура, укутанная в шерстяной плащ, шествовала сквозь толпу, тянущую руки в мольбе, игнорируя всех с мягкой, застывшей улыбкой. — Я прибыл сюда с парламента в Торфичене вместе с оным Джоном Стюардом, — изрек Брюс с лицом, подобным ледяной стене, — поведать Уоллесу, что Мори скончался. Поелику, похоже, он чересчур занят, дабы прибыть самолично. — Скончался в день святого Малахии, — пророкотал Стюард, подоспевший к последним словам; Хэл увидел, как Брюс поморщился, и это его озадачило, но лишь на миг. Еще одна смерть; но теперь его чувства настолько занемели, что утрата сэра Эндрю Мори, балансировавшего на грани смерти с самой битвы при Камбаскеннете, едва затронула их. — Это проклятье, павшее на него, если ни на кого больше, — многозначительно произнес Стюард, и Брюс сумел изобразить улыбку, внутренне присовокупив к груде проклятий еще одно в адрес всех, кто с постоянным занудством поминал всуе святого Малахию. — Проклятье для всех, — пробормотал Киркпатрик, — поскольку теперь Уоллес остается единственным героем державы и командующим армии. Бросив на него испепеляющий взгляд, Стюард с дрожанием завернулся в плащ поплотнее. — Именно так. Теперь мы утвердим его как единственного Хранителя, как согласились в Торфичене. — Именем короля Иоанна Баллиола, — с изрядной долей желчи добавил Брюс. — Действительно, — любезно отозвался Стюард. — Епископ Уишарт сказал бы то же самое, не постись он в Роксбурге в плену у англичан — сколь болезненная утрата для королевства… И улыбнулся в лицо Брюса, искаженное бурей чувств. — Ну, хотя бы все нобили королевства наконец снова вместе. Вы и граф Бьюкенский, Комин Баденохский и все мы, остальные gentilhommes, будем стоять плечо к плечу, как стояли в Торфиченском парламенте, улыбаясь и соглашаясь. Раны Господни, коли я могу снести сие, так и вы сможете. И смогут, поскольку альтернативой на роль Хранителя, видел Хэл, выступает либо Рыжий Комин Баденохский, либо Брюс, а ни та, ни другая клика на это не согласится. Стоит ли удивляться, что парламент учинили в Торфичене, в прецептории рыцарей Святого Иоанна, давно славящейся как убежище, которое вряд ли осквернят убийством. Занимаясь вопросом, что мог бы на это сказать Уоллес, Хэл жалел, что вообще оказался здесь, снова угодив в самую трясину. Хотя бы Хердманстон послужил передышкой от всего этого… Для приличия поучаствовав в светской беседе достаточно долго, он удалился, до зуда в пояснице чувствуя неотступный буравящий взгляд Киркпатрика. Того Хэл и знать не желал, считая его не лучше Бьюкенова цепного пса Мализа. Смерти Фицральфа и Лисовина Уотти терзали его, не оставляя в покое, ибо он знал, кто в них повинен — Раны Христовы, да всем им известно, кто в них повинен, — но не мог предъявить доказательств, дабы привлечь его к ответу. День был такой, что и черный пес взвоет. Промозглый, вымороженный мир переполняли страдания — от мук голода живых до потаенной скорби по мертвым. В вихре событий погрузка отца в повозку прошла чуть ли не между прочим, ибо истинным делом для Белантродича было обеспечить, чтобы великие и достославные согласились сделать Уоллеса единственным Хранителем, раз Мори скончался. Дело было непростое для каждого, особенно для Хэла и хердманстонцев, потому что графа Бьюкенского отделяло не более двух десятков шагов от его родственника — низкорослого Рыжего Джона Комина с чопорно застывшим лицом, выступавшего от имени своего отца — больного Черного Джона, государя Баденохского. И хотя Бьюкен был графом, значение имел только коротышка Рыжий Джон, поскольку именно он — после самого Баллиола — был облечен первостепенным правом притязать на шотландский престол в противовес Брюсам. Бьюкены и Комины волками смотрели то на Брюса, то на Хэла, пока тот и остальные стояли, ощетинившись, как сторожевые псы на тонких поводках, не сводя глаз с Бьюкена и крадуна у него за спиной — Мализа Белльжамба. Их отнюдь не утешил вид его побитого лица со сломанным носом, хоть ему и хватало ума помалкивать и держаться вне поля зрения людей, готовых, как он знал, ринуться на него, обнажив клинки. Они пришли скрепить печатями предыдущие соглашения, ныне записанные затейливыми каракулями множеством писарей-бумагомарак. Все дело прошло почти без сюрпризов, кроме одного, и было ясно, что таковой был отнюдь не сюрпризом для свиты Стюарда или Брюса, хоть и ошеломил всех остальных, даже Уоллеса. Оглушенный искренним горем из-за смерти Мори, он шагал, будто под водой, а во время споров почти не высказывался, если только не требовалось его непосредственное вмешательство, чтобы поддержать того или другого, обращая лик то к Брюсу, то к Комину. В конце концов дошло до вялой отговорки Комина, что Уоллес не рыцарь, так что вряд ли его можно избрать в качестве единоличного Хранителя, повелевающего gentilhommes света державы. — Дельное замечание, — признал Стюард, поглаживая свою опрятную бородку; в выстуженной часовне храма его свежевыбритые щеки смахивали на несвежую баранину. Бьюкен поглядел на Рыжего Комина, и оба набычились, с подозрением уставившись на дворянина; согласия с его стороны они явно не ожидали. — Посему пора посвятить его в рыцари, — провозгласил Стюард, и Брюс, только и ждавший этого, с ухмылкой выступил вперед, принимая обнаженный меч, извлеченный Киркпатриком из ножен с протяжным звенящим звуком, заставившим всех вокруг чуть попятиться, ухватившись за эфесы. — Преклони колени, Уильям Уоллес, — повелел Брюс, и тот подчинился, как оглушенный бык на бойне. Хэл увидел, как лицо Комина вспыхнуло от гнева, что его так обошли и унизили — да еще заставили проглотить это, хоть подавись. Церемония завершилась в мгновение ока. Ни всенощного бдения, ни последнего удара — даже Брюс не мог набраться смелости ударить Уоллеса. А ведь следовало бы кому-нибудь, подумал Хэл, хотя бы затем, чтобы привести его в чувство; он отвернулся — вся эта затея претила ему, как вода кошке. Хэл планировал найти ночлег в храме, но это представлялось маловероятным, а дело уже шло к вечеру; предстоит долгая ночная поездка до ближайшего укрытия, усадьбы с приличным — и пустым, как голодная утроба, — сводчатым амбаром на дороге обратно к Хердманстону. Хэл как раз раздавал распоряжения, когда вошел капеллан, белея в полумраке одеждами. — Сэр Уильям потребовал постоя для вас и вашей свиты, — поведал он. — И сочтет чрезвычайно любезным с вашей стороны, коли вы останетесь на ночлег и позже наведаетесь к нему. К обоюдной выгоде, сказывает оный. На миг Хэл растерялся, не сразу сообразив, что «сэр Уильям» — это Уоллес. Титул как-то не вязался с этим человеком, вместе с тремя другими находившимся в тесной комнатке гостевых квартир. Одним из них был Брюс, вторым — угрюмый Киркпатрик, а третьим… Хэл не без удивления распознал мрачный лик Древлего Храмовника. — Добро, — говорил Уоллес, когда суровый керн ввел Хэла, — вы получили свою толику забав, и отныне вам придется с этим жить. Брюс лишь отмахнулся. — Это Бьюкен и Баденох, — лаконично ответил он. — Они скажут «черное», коли я скажу «белое». Я бы не придавал особого значения тому, что они думают о вашем посвящении в рыцари. — Овца в шкуре ягненка, — фыркнул в ответ Уоллес. — В лучшем случае. Золотите, как хотите, вяжите ленты, какие заблагорассудится, — аз досель тот же разбойник Уоллес, безземельный мирянин, не имеющий значения. Тут он помолчал, скривив свое изможденное лицо в усмешке. — Кроме того, что я король от имени и по праву Иоанна Баллиола, — вкрадчиво добавил он. — И чернь сей державы чтит меня, хоть свет и не чтит. Хэл увидел прищур Брюса при этих словах; мысль об Уоллесе в роли короля от чьего бы то ни было имени была ему не по нутру, хоть он и видел, что Уоллес явно его поддразнивает. Древлий Храмовник, тоже заметивший это, попытался излить бальзам на рану. — Вам туго придется с коронованием, сэр Уилл, — беззаботно вставил он. — Ни Креста, ни Коронователя, ни Скунского Камня. Уловив намек, Уоллес тускло улыбнулся в ответ. — Последнее — особливая утрата для королевства. Хоть и служит ручательством уверенности любого Хранителя — без Камня никогда не будет нового короля, лишь уже имеющийся. Хэл внутренне подобрался, ожидая бури негодования со стороны Брюса, всегда ревностно отстаивавшего свои притязания на корону Баллиола, и даже откачнулся на пятках, когда граф вместо того мило улыбнулся. — Действительно. — И обернулся к Древлему Храмовнику: — Как вы говорите, сэр Уильям, — такая утрата ущербного королевского достоинства… — В точности так, — пробормотал Древлий Храмовник с настолько странным лицом, что Хэл попытался взглянуть поближе, но следующие слова старика развеяли его любопытство напрочь. — Юный Хэл, — сказал тот с поклоном, на который Хэл ответил взаимностью. — Искренне горюю о вашем отце. Я слыхал, он доблестно сражался. — Он старик… был… стариком, — резко ответил Хэл, дошедший до предела в готовности даровать прощение. Древлий Храмовник подтвердил это кивком и кривой улыбкой, впрочем, ни на миг не отрывая взора от лица Хэла. — День выдался тяжкий. — Некоторым более, нежели остальным, — ответил Хэл, насупившись при воспоминании о Лисовине Уотти и Джоне Фентоне. — Утрата Фицральфа також тяжкое бремя, — нарочито указал Древлий Храмовник, увидел, как Хэл ощетинился, и мысленно обругал себя, ибо ни в коей мере не хотел настраивать сего вьюноша против себя. — Полноте, полноте, — хмыкнул Брюс. — Кровь пускали по обе стороны, и никто не возводит на вас вину за смерть Фицральфа. — Мы все знаем, кто убил Фицральфа, — огрызнулся Хэл. — И Лисовина Уотти. И моих собак в Дугласе. — Истинно, истинно, в точности так, — перебил Брюс. — И оного писаришку Биссета в Эдинбурге, как я узнал. И его сестру с мужем. И несомненно, других. Помолчав, он устремил кулак своего взора в лицо Хэлу, похолодевшему и раздавленному новостью о Биссете. Еще камень в пирамиду, горько подумал тот. Бедолага Биссет пришелся ему по душе. — Коли у вас нет доказательств или свидетелей, можете также повесить на него распятие святого Андрея, предательство Господа Нашего и чеканку всех крокардов в нашей стране, — заметил Уоллес. — С него все как с гуся вода. Хэл замигал, едва сдерживаясь, но потом реальность иглой кольнула его, и он сдулся. Увидев это, Брюс покровительственно-успокоительно похлопал его по плечу. — Истинно, утрата Фицральфа прискорбна, — оживленно проговорил он, — но я здесь, дабы кое-что поправить: мы взяли Стерлинг и можем предложить Фитцварина в качестве выкупа за Генри Сьентклера Рослинского. Вот так новости — падение Стерлинга было неизбежно уже в течение какого-то времени, но внезапная капитуляция все равно оказалась потрясением. И, подумал Хэл с холодной иронией, объявляет о ней Брюс, тем самым причащаясь к славе. Добрую минуту никто не проронил ни слова, потом Древлий Храмовник зашевелился. — Еще живы его мать и братья, — проронил он. Брюс выглядел озадаченным, и Древлий Храмовник обратил к нему свой скорбный лик с длинными усами, будто черный свет. — Фицральфа, — добавил Хэл, и Брюс, видя, что его осадили, выпятил нижнюю губу; он-то ждал ликующего одобрения и безмерной благодарности, а вместо того получил по пальцам, но все-таки нашел силы улыбнуться. — Вы не в меру печетесь о кончине ничтожного рыцаря, — возразил он, — как ни доблестен был сказанный. На кону нечто куда большее — ваш собственный внук. — Бог милосерд и сострадателен, — проворчал Древлий Храмовник. — И Он блюдет. Брюс признал этот факт, нарочито перекрестившись, хотя и с каменным выражением лица. — Обмен состоится в Хексеме. Я возьму людей из Каррика и Фитцварина, — продолжал Брюс, — как только мы получим все грамоты, потребные, дабы мирно пересечь страну. Сэр Хэл, было бы славно, кабы вы к нам присоединились… Я уверен, что молодой Генри будет рад свидеться с родственником. Хэл поглядел на безучастного Киркпатрика, потом на Древлего Храмовника и, наконец, на Брюса. Было очевидно, что Древлий Храмовник не выдержит путешествия и что Брюс понимает это. Приглашение Хэла в свиту для сей оказии — немалая честь, хотя он и обошелся бы без нее. Ему удалось пролепетать достаточно благодарностей, чтобы Каррик втянул выпяченную губу и, запахнувшись в свое достоинство, будто в плащ, удалился вместе с неотвязно следующим по пятам Киркпатриком. Последовала долгая пауза. Древлий Храмовник скорбно взирал на Хэла, словно желая заговорить. Открыв и закрыв рот раз-другой, как рыба, он вдруг захлопнул его, коротко кивнул в знак благодарности и удалился. Воцарилось молчание. Наконец Уоллес вздохнул и потер подбородок. — Юный Брюс желает добра, — проговорил он, искоса глянув на Хэла, — хотя и не может удержаться, дабы не извлечь из того некую выгоду. — Сиречь? — спросил Хэл, продолжая раздумывать о Мализе Белльжамбе и его кажущейся недосягаемости. — Завоевать ваше благорасположение, — ответил Уоллес, и Хэл удивленно заморгал. Чего это ради? На прямо высказанный вопрос Уоллес развел руками. — Мало-помалу прознаете. Он не промешкает с этим поспешить. Найдет что-нито в обмен за использование Фитцварина для выкупа вашего кровника. Паче того, он казнится за своего отца, какового отстранили от власти в Карлайле из-за выходок сына. Похоже, оный лишился доверия. Посему Брюс-старший уронил лицо, и юный Брюс узрел перспективу триумфа его соперников Коминов, каковая ему не по нраву… — Замолчав, он покачал головой с усталым, вымученным, ироничным восхищением. —Мощи Христовы, у Брюсов в распоряжении целые горы чванливой напыщенности али нет? — Я думал, Фитцварин в вашем распоряжении, — отозвался Хэл. — Поскольку Хранитель как раз вы. А он вкупе с сэром Мармадьюком Твенгом принадлежат королевству, сиречь и вам. Уоллес испустил угрюмый смешок, и Хэл был уверен, что ощутил его рокот даже стопами. — Брюс испытывает наслаждение, устраняя сэра Мармадьюка, дабы справить Мессу Христову самолично; указать мне мое место, знаете ли. Напомнить, что я, несмотря на новый лоск, в подметки не гожусь нобилям, аже gentilhomme с землями на полуночи и полудне. Вроде сэра Мармадьюка, коему Брюс родня по жене. Так что я понужден вверить оного в попечение Брюса, что бесит Комина. Оборвав, он потеребил бороду одной рукой, скорее размышляя вслух, нежели обращаясь непосредственно к Хэлу. — В свой черед, заметьте, я приказал, дабы сэра Мармадьюка отдали в выкуп за кузена Комина сэра Джона де Моубрейя заместо передачи без выкупа, как того желает Брюс, — и сие лишь затем, дабы поставить графа Каррикского на место, ибо я питаю сильное уважение к сказанному сэру Мармадьюку. Он скрутил бороду, сопроводив это кривой усмешкой. — Видите, через какое багно мне приходится ступать? Так что обмен Фитцварина меня вполне устраивает, хоть и на почести за него претендует дерзостный Брюс. — Вы есте Хранитель Шотландии, — ответил пораженный Хэл, и Уоллес ответил горькой усмешкой. — Истинно. Как я указал, когда вы входили, вельми немногим нобилям эта мысль по нраву. Раны Христовы, да волом в этой повозке выступает Стюард, а вы ведь слыхали его в Камбаскеннете, в ночь перед сечей? Как там было? «Выскочка, безземельный челядинец с крепкой десницей, понятия не имеющий, куда ее приложить, пока господа не скажут», — коли припоминаю… Выплюнул в лицо, как кровавый сгусток. Остановившись, он вздохнул. — Мне надобен и Брюс, надобен и Комин. Было славно, когда Мори стоял плечом к плечу со мной. Сэр Эндрю был для них наилучшим выбором, и, клянусь Ранами Христовыми, как бы я хотел, чтобы он был жив, ибо предпочел, чтобы это он был здесь, а я в могиле… Его горячность и нескрываемая боль от утраты Мори ошеломили Хэла до онемения, и молчание тянулось, как закатные тени, становясь мучительным. Наконец Уоллес нарушил его, с клекотом прочистив горло. — Ступайте в Хексем, заберите своего кровника в отчизну и запамятуйте об этом деле напрочь, — сказал он внезапно со свирепым шипением. — Савояр… — начал было Хэл. — Мертв или за морем, сдается мне. Однако же бедолага Биссет, да упокоит Бог его душу, предан злодейскому душегубству, но прежде жестоко допрошен. Коли сие содеял Мализ Белльжамб, как все мы подозреваем, значит, Бьюкен ведает ход событий. — Итак, все эти хлопоты из-за савояра пропали вотще, — с горечью заметил Хэл. — Это могло быть всего-навсего очередным душегубством ради барыша, содеянным давным-давно скрывшимся трейлбастоном[613]. А может, людьми Брюса. Или Рыжего Джона, или графа Бьюкенского, а то и сэра Уильяма Смелого, прежде чем его укатали в Тауэр, — мрачно ответил Уоллес. — Свет державы — гадючье кодло козней, как я погляжу, — и даже епископы не чужды сунуть в них нос. Я бы поставил на Брюса, хотя и не ухвачу почему — и, наверное, уж вовеки не узнаю. Лучше вам держаться от того подальше, как и мне. Замолчав, он уставился в пространство. — Как бы то ни было, Длинноногий грядет, и как бы дело ни обернулось, сей вихрь взметнет на воздух все. Казалось, сам воздух заледенел от этого имени. Длинноногий идет, и когда он доберется на север, то наверняка подымет Драконово Знамя и прикажет не давать пощады. Как сказал Уоллес, все взметнется в воздух вихрем. Включая и графиню. — Изабелла, — пробормотал Хэл и вдруг обнаружил длинное лицо Уоллеса, окутанное могильной тенью, у самого своего. — А сие вам надо забыть наипаче, — твердо возгласил Хранитель. — И без того скверно, коли вы будете таскаться за женой другого мужа, аки малый терьер, сношающий ногу; а уж жена графа Бьюкенского — верный приговор. Да и не понадобится ему натравливать на вас душегубца Мализа Белльжамба, ибо имеется довольно законов и прав, каковые раздавят вас столь же борзо. — Да и он тоже, — промолвил Хэл, приходя в себя и чувствуя холод внутри, словно вонзившуюся в живот сталь. — Кабы мне пришлось печься обо всем, что вы поведали, я бы не забывал на предмет Мализа Белльжамба. Вздохнув, Уоллес пренебрежительно взмахнул рукой. — Что ж, я исполнил свой долг, предупредив вас — и как закон королевства, и как друг. — Закон? — повторил Хэл, бросая взгляд в сторону, на большой меч в ножнах рядом с креслом Уоллеса. Хранитель покраснел; рассказ о свежевании Крессингема, вспыхнувший искрой, затлевший углем, а затем разгоревшийся огнем, утверждал, что Уоллес теперь использует полоску кожи покойного казначея вместо перевязи, а остальные полоски распространили по всей Шотландии. Тот факт, что Уоллес ни разу не опроверг этого, красноречиво говорил, как королевство изменило его — точно так же, как он изменил королевство. Помешкав, Хранитель наконец размазал по бородатому лицу утомленную, вялую улыбку. — Ступайте. Делайте, что должно, и аз тож. Лучше б вы забыли дело савояра, обаче заключаю, что ваш нос длиннее, нежели рассудок. Посему, коли сыщете бедолагу савояра и вызнаете хранимый им секрет, полагаю, дадите мне о том знать. И примите в расчет: коли вы наденете себе на шею петлю, нарушив закон державы, я затяну ее собственными руками. При этом на дне его глаз застыл мрак боли, и Хэл кивнул, а потом, уже поворачиваясь уйти, сумел улыбнуться. — Однако же славный оборот, — невесело ухмыльнулся он через плечо, — когда разбойник вроде вас становится шерифом королевства.
Госпиталь Святого Варфоломея, Берик Праздник Святого Атернеза Молчальника Файфского, декабрь 1297 года Ветер колотил по стенам, как сердитое дитя по запертой двери, и ледяное дыхание тумана с моря старалось задуть свечи, пуская тени в пляс. Двое мужчин, стоявшие у дощатой кровати, слушали, как мечется и стонет лежащий. — Камень, — сказал он. — Камень. — Он твердит сие с той самой поры, как вы его привезли, — чуть ли не с укором произнес священник с квадратным лицом, воинственно выпяченным подбородком, поросшим щетиной, и глазами, черными и глубокими, как катакомбы. Торговцу шерстью не хотелось заглядывать в них, но он все равно устремил на него голубоглазый и, насколько удалось, улыбчивый взгляд, потому что нуждался в этом священнике и в этом месте. — Он резчик по камню, — без обиняков ответил купец, — из церкви в Скуне. Художник. Стоит ли удивляться, что это малость засело в его горячечном уме. — Малость? Он твердит сие куда усерднее, нежели любой катехизис. — Грань его недуга, — успокоил купец, а потом нахмурился. — Что именно с ним неладно? Священник вздохнул, приподняв светильник повыше, так что пламя яростно заплясало. — Лучше спросите, что ладно, — ответил он, глядя на купца в упор. — Я не спрашиваю, как вы на него наткнулись, господин Симон. Я ведаю, что вы привезли его сюда по природе его состояния, но есть вещи и похуже проказы, и я просил бы вас забрать его. Симон погладил свою аккуратную бородку, старясь скрыть тревогу. Само прибытие ополоумевшего Манона де Фосиньи, лепечущего бессвязный вздор, смердящего, как собачья задница, и явно больного, было изрядным потрясением — уже изрядно, но вот это… настораживает. — Хуже проказы? — спросил он, и священник про себя рассмеялся, увидев, как негоциант прикрыл рот ладонью и попятился на шаг. За годы служения в госпитале Святого Варфоломея он навидался всякого, чего чурались даже бесчинствующие англичане; безгубые, безносые, гниющие, гноящиеся души, поступающие в госпиталь для прокаженных, для брата Джона и ему подобных — лишь старое тряпье да каша. Однако этот савояр подцепил все, что только можно. Кровь у него стала вязкой, горячей, жирной и слишком соленой. Его покрывали раны, язвы, нарывы, короста, разбил частичный паралич, не меньше загноившихся укусов паразитов, а жар почти наверняка от одной или нескольких лихорадок, каждая из которых способна прикончить сама по себе. — И кишечные черви, — закончил брат Джон, видя, как брови торговца шерстью мало-помалу лезут на лоб чуть ли не до самой линии волос. — Черви, — повторил Симон, слыша, как это слово глухо дребезжит в голове, словно надтреснутый колокол. — Кишечные. Манон — его племянник… он возлагал надежды на этого отрока. — Я почти ничего не могу поделать, — сообщил брат Джон. — Разве что утирать лоб да подбирать то, что отваливается. Симон воззрился на священника, растянувшего губы в улыбке. — Шутка, — растолковал тот, но увидел, что господин Симон не смеется. И все же сей человек — важный попечитель госпиталя Святого Варфоломея, так что брат Джон продолжал делать то, что должен, — предлагал всяческую помощь. — Я сделаю, что могу, — медленно проговорил священник. — Но он словно открыл врата Адовы и пошарил там. На нем отпечатался каждый грех. Торговец шерстью кивнул, облизывая губы и дыша сквозь пальцы, пока осунувшееся, лоснящееся лицо Манона яростно моталось на пожелтевшей подушке. — О, Свет Дневной, Сияние Света вечного и Солнце Правосудия; приди и просвети тех, кто пребывает во тьме и тени смертной, — повел речитативом брат Джон, и господин Симон, впавший в оцепенение, опустился на колени и сложил ладони перед грудью, радуясь, что не придется смотреть на искаженное муками лицо племянника. — О, Царь Царств и их Желание; Краеугольный камень, соединяющий обоих воедино; приди и спаси человечество, сотворенное Тобою из глины. Приди, о Эммануил, Царь наш и Законодатель, Желание всех царств и их Спасение; приди и спаси нас, о Господь наш Бог. — Камень, — лепетал Манон. — Камень.
Обитель Святого Леонарда, Берик Канун праздника Рождества, 24 декабря 1297 года Женщина с крестом сидела во главе стола, где обычно сидит главный мужчина; вокруг нее сидело много других женщин в таких же серых одеждах. Изабелле уже доводилось видеть невест Христовых, хоть и не в их собственных стенах, и ее шокировали сброшенные головные покрывала, визгливый смех, брызжущее вино. При виде ее лица женщина, которая привела Изабеллу, засмеялась, а женщина с крестом встала и подошла к ней, за локоть увлекая из комнаты. Гомон за закрывшейся дверью напоминал крики чаек. — Тебе было велено отвести ее в мои покои, — окрикнула женщина с крестом стражницу Изабеллы, сердито надувшую губы. Треск пощечины заставил Изабеллу подскочить, а ее серую стражницу — шарахнуться и упасть со сбившимся на сторону покрывалом. Скорчившись на плитах пола, она заныла, пряча лицо. — Повинуйся, — негромко, со змеиным присвистом сказала женщина с крестом и обернулась к Изабелле. «Если она ударит меня, — подумала та, — я ей физиономию раздеру». Увидев пламя в ее глазах, женщина улыбнулась. «Недолго уже тебе, государынька, осталось», — ядовито подумала она. — Я Анна, настоятельница обители Святого Леонарда, — представилась она. — Вас отведут в мои покои и устроят с удобством. Монашка кое-как встала, баюкая щеку ладонью. — Сюда, госпожа, — одеревенело проговорила она. — Графиня! — плетью хлестнул ее голос Анны. — Она графиня, дурища! Съежившись, монашка принялась кланяться, извиняясь, а потом юркнула прочь так быстро, что Изабелла едва поспевала за ней через путаницу едва освещенных каменных коридоров, холодно поблескивающих инеем. Наконец монашка распахнула дверь, и графиня в крайнем изумлении воззрилась на тонкие занавесы, чистые циновки, скамьи, кресла, сундуки — и камин. Это были теплые покои знатной дамы, а не монахини, пусть даже настоятельницы. — Графиня, — неживым голосом обронила монашка, и тогда Изабелла сжалилась. — Крепкий был удар, — сказала она. Монашка поглядела на нее, как пришибленная крыса, потом налево и направо. И наконец перешла к стене, высоко подняв светильник и удовлетворившись, снова обернулась к Изабелле. — Это место, — прошептала она настолько тихо, что Изабелла едва расслышала, — проклято. Есть скрытый способ следить, — указала на стену, в которую только что вглядывалась, и тени от светильника бешено заплясали у нее на лице. — Ему это нравится. Все женщины его. Изабелла ощутила внезапную убийственную дурноту, ибо знала упомянутого монахиней «его» и терпела его компанию с той самой поры, когда он увлек ее с пылающего моста в Стерлинге. Тогда он показался ей демоном, и хотя здравый смысл и более яркий свет показали, что он просто темнолицый мрачный человек, первое впечатление было не так уж далеко от истины. — Сэр Роберт Маленфонт, — произнесла она, и монашка затрепетала так, что свечное сало пролилось ей на тыльную сторону кисти, но девушка даже не поморщилась. — Все женщины к его утехам, — неожиданно провозгласила она и полувсхлипнула. — Их доставляют сюда и больше не выпускают. Изабелла вспомнила марающий взгляд глаз Маленфонта, когда тот разглядывал ее уже при свете. Они вспыхнули, как погребальные костры, как только он прознал, кто она такая, и Изабелла невзлюбила его с этого же момента, хотя он и не подавал ей повода, обращаясь с ней безупречно вежливо. Глядя, как монашка суетится во тьме, Изабелла присела на лавку. Сальная свеча потрескивала. Графиня старалась не дать раздавить себя одиночеству, сознанию, что отсюда она сможет выйти лишь для возвращения к Бьюкену. Пыталась не думать о Брюсе, но тщетно, и это лишь усугубило гнетущее бремя, пригнувшее голову к груди. Пыталась не расплакаться, не сумела. Потом, к собственному изумлению, подумала о Хэле Хердманстонском. А в главной трапезной настоятельница слушала, как визгливо смеются ее подначальные, разгорячившись от вина, принесенного их благодетелем, стоявшим наполовину в тени, наполовину в кровавом свете канделябров. — Обеспечьте ей пищу, вино и безопасность, — повелел сэр Роберт Маленфонт. — И держите подальше от этих гарпий. — Она что, особая? — поддела настоятельница, и Маленфонт улыбнулся. — Графиня. Признаю, из Шотландии, зато важная. Могущественного рода сама по себе, да еще породнилась с другим. Подавшись вперед, он чуть ли не уткнулся клинком своего острого, укутанного тенью лица в ее лицо. — Особая, как ты говоришь. Стоит своего веса в шиллингах, так что содержи ее в холе и неприкосновенности. И тут же взял ее жесткими пальцами за подбородок. — В неприкосновенности, — повторил. — Я не хочу, чтобы хоть одна из твоих подопечных коснулась грязными пальцами этого лона. Настоятельница отпрянула от него, хотя сердце ее загрохотало, когда он сдернул с нее покрывало и провел пальцами по ее покрытому щетиной скальпу; такая стрижка возбуждала его, и потому она не давала волосам отрастать. От страха и вожделения ее дыхание вырывалось короткими полувздохами; она знала, что он перегнет ее через единственное кресло в комнате, закинет серую рясу ей на голову и возьмет, ворча и пыхтя, как пес. Он поступал так каждую Мессу Христову со столькими монахинями, сколько позволят силы и крепленое вино. Это и отталкивало, и яростно притягивало ее.
Хердманстон, Восточный Лотиан Пепельная среда, март 1298 года Хэл следил за плугом с крыши квадратной постройки Хердманстона, чувствуя, как зудит измазанный золой лоб. Его согревало не только солнце, но и счастье, ведомое всякому в первый день Великого поста при виде полей, выворачиваемых наизнанку, как постель. За плугом шагал тятя Уилла Эллиота, а двое его братьев метались туда-сюда, прикапывая вытащенных червей обратно в землю и следя за дерганьем хвоста вола, сообщающим, что навоз на подходе, чтобы остановить упряжку и вывалить драгоценный груз в борозду. Земля была, как свежеиспеченный хлеб: потрескавшаяся от мороза корка, напоенная водой таяния и дождей, согретая солнечной неделей конца февраля и рассыпающаяся крошками, дышащая лихорадочно копошащимися дождевыми червями, — крохотными плугами, взбивающими ее в мягкую постель для овса и ячменя. Чайки верещали, нож плуга толкал комья на отвал, свежевывернутая земля вздымалась большой волной, переворачиваясь и падая в борозду. Внизу Псаренок пытался научить послушанию терьеров — тявкающих егозистых вертихвостов — и, судя по смеху окружающих, не очень-то в этом преуспевая. Доносился смех и из каменной часовни, где отец Томас испытывал свое искусство владения кистью в попытке написать пламенного святого Михаила, покровителя церкви в Салтоне, на внутренних оштукатуренных стенах — и вышел перемазанным с головы до ног красной охрой, будто человек, выбравшийся из сточного колодца бойни. В такой день нехитро забыть о зиме, о войне, о смертях. Об Изабелле. И все же свет не сдержать, и глашатай этого в лице Сима уже вскарабкался на последние ступени, запыхавшись от трудного подъема по винтовой лестнице на крышу. — Всадник приближается, — проворчал он. — Надо быть, гонец от Брюса насчет выкупа за сэра Генри. На окаянный конец, прокляни Бог всех нотариусов и бумагомарак-крючкотворцев. С англичанами заключили шаткое перемирие, но набеги продолжались — больше с шотландской стороны, чем с английской, и конец им положила только зимняя погода. Чтобы прийти к соглашению о выкупе, а затем получить охранные грамоты для поездки на юг, потребовалась уйма времени, а погода, державшая север взаперти, уступила каких-нибудь пару недель назад. Промедление просто-таки изводит Древлего Храмовника, думал Хэл. Не говоря уж о жене и чадах сэра Генри, справивших Мессу Христову без мужа и отца. Он смотрел, как всадник на лошади одолевает широкий простор, пестрящий рощицами, окружающими Хердманстон, поднимаясь на холмы и съезжая в лощинки, так что порой совсем скрывался из виду. И только когда тот подъехал ближе, Хэла начала охватывать тревога — лошадь была в мыле, и гнал он куда спешнее, чем того требовала доставка простой вести о том, что обмен подтвержден. Гонец был из Рослина — широколицый мужчина, смутно знакомый Хэлу, скорее работник, нежели солдат. Большой палец на его деснице, отметил про себя Хэл, от холода и трудов лопнул чуть не до кости — должно быть, ужасно больно… Весточка пришла от Толстяка Дэйви, принявшего на себя в Рослине обязанности Джона Фентона. Древлий Храмовник повернулся лицом к стене. Окутанные кручиной, они поехали в Рослин, где государыня с чадами, цеплявшимися ей за юбки, ждала с трясущимися губами, едва удерживаясь от слез. — Сожалею о вашей утрате, госпожа, — поведал Хэл, слыша жестяной дребезг пустопорожних слов. — Истинно, — присовокупил Сим, тут же попытавшись повернуть разговор на более радостный лад: — Мы поедем на полудень и привезем вашего мужа домой, поимейте в виду, так что найдите в том утешение. Это и в самом деле принесло утешение, увидел Хэл, хоть и слабое. Он встретился с Толстяком Дэйви в главной зале каменной цитадели, вознесенной на скальном уступе в окружении рва и деревянных и землебитных строений двора. Рослин уже начали перестраивать из камня, но когда Сьентклеров захватили в плен, работы прекратили, чтобы скопить денег на предполагаемый выкуп. Ну, хотя бы они могут начать это заново, уныло подумал Хэл. Двое мертвы, а одного вот-вот освободят, а притом без каких бы то ни было затрат. Толстяк Дэйви был благодарен за предложение Хэла доставить Древлего Храмовника в Белантродич, как надлежит. Он сам и его одежды, его кольчуга, его экипировка и боевой конь принадлежат Храму в целом; они достанутся другому рыцарю. Но, похоже, сие не всё. Лицо Толстяка Дэйви, уставившееся на Хэла, было подобно унылой вересковой пустоши, высасывающей жизнь из соболезнующих речей. — Утрата Джона Фентона, а вслед за тем и сына была свыше его сил, — покачивая головой, поведал Толстяк Дэйви. — Просто слег в кровать и глазел в стену… — Примолк, стараясь совладать с собой, и наконец взял себя в руки. — Кроме одного раза. — Пошарив в своем кошеле, выудил оттуда холщовый мешочек и вручил его Хэлу. — Сказал, уж перед самым концом, что сие должно достаться вам, — сообщил он, подергивая щеками, превратившимися в огрызки былых румяных яблок. — По разным причинам, сказал. И не в последнюю очередь оттого, что вы — единственный взрослый Сьентклер, пребывающий на свободе и в миру. Хэл подумал о сыне Древлего Храмовника, умершем в Тауэре, почти наверняка удавленном тетивой или уморенном голодом, как Смелый. Внука Генри, отца троих чад, остающихся в Рослине, держат в одном из собственных замков Эдуарда — Бревеле в Глостере, и если повезет, скоро он будет дома — если только Эдуард и дальше будет считать, что выгоды от обретения Фитцварина перевешивают ущерб от утраты пленного Сьентклера. Или просто не будет слишком сатанеть из-за шотландских дел. Тень его длинна, темна и непредсказуема, подумал Хэл, и скоро Эдуард Плантагенет вернется — и тогда все понесется, как в паводок. Когда Длинноногий обрушит на шотландцев всю свою мощь, обменов не будет; Хэла вдруг охватило паническое желание тронуться в путь, доставить Генри Сьентклера обратно к жене и отпрыскам, прежде чем на мир обрушится свирепый мстительный ураган королевской мести. Хэл понял, что Дэйви прав: теперь, когда его отец умер, да и сам Древлий Храмовник недвижно простерся в опочивальне по соседству, он — единственный взрослый Сьентклер на свете. Холщовый мешочек вдруг начал жечь ему ладонь. Перевернув его, Хэл вытряхнул на ладонь перстень, и несколько секунд в ушах у него грохотало, пока он не сообразил, что это вовсе не рослинская печать. — Истинно, — с ухмылкой подтвердил Дэйви, — признаюсь, я чуток очумел, как увидел его впервой. Думал, Древлий Храмовник предлагает вам ключи от Рослина. Услыхав, что Джон Фентон погиб в Камбаскеннете, он стал чрез меру тихим и богомольным, а весть о смерти сына разбила ему сердце. — Смилуйся, Христе, над нами всеми, — изрек пораженный Хэл. — Рослин принадлежит его внуку Генри, какового мы доставим обратно живым и невредимым. А после него — его сыновьям. И принялся разглядывать перстень. Сим глазел ему через плечо. — Серебро, халцедон, — важно объявил он, а потом без смущения поглядел в вытаращенные глаза остальных. — Чего? Мудрый человек мигом распознает побрякушки. Избавляет, чтоб не копаться у покойника в подмышках наобум, коли можешь взять настоящую блестяшку. — А что тогда за знаки? — подкинул Хэл задачку потруднее. С прищуром поглядев на перстень, Сим пожал плечами. — Рыбешка. В ответ на безмолвный вопрос во взгляде Хэла Дэйви тоже пожал плечами: — Я не более сведом. Древлий Храмовник просто отдал его мне, велев передать вам. Только и сказал на сей предмет, что то был стародавний грех. Хэл внимательно разглядывал перстень. Ряд линий, сливающихся в форме рыбы. Старый христианский символ с римских времен, смутно припомнил он, хотя латинские слова от него и ускользали. Примерил, но на его костяшки перстень не налез. Стародавний грех… Хэл поежился. (обратно)
Глава 9
Нортумберленд, на дороге к Хексемскому приорату Канун праздника Святой Эббы Младшей, апрель 1298 года Дубы уже разворачивали первые листочки, и мир изливал ликование радугами. Прибыли грамоты, и Хэл выехал со своими людьми, чтобы присоединиться к кавалькаде Брюса; по пути на юг они видели, как коровы обвивают языками свежую зелень, срывают и умиротворенно пережевывают ее; овцы щипали траву за изгородями, почва под плугом становилась коричневой. — Я думал, Уоллес опустошил этот край основательно, — заметил Брюс отчасти с насмешкой, отчасти с иронией. Казалось, эти свидетельства жизни огорчили его, хотя люди разбегались прочь, в спешке теряя паттены, только бы убраться подальше от кавалькады. — Люд ведает, где упрятать пару говядок, абы даже луп не настиг, — проворчал Сим в ответ со своеобычным недостатком почтения. Хэл промолчал, хоть и дивился людям, встречавшимся по пути, занятым пахотой и земледелием в отчаянном уповании успеть выжать из земли хоть скудный урожай, прежде чем летом придет война, даже зная, насколько велик шанс, что все их усилия пропадут вотще. И все же предпочтут сжечь поля и собственной рукой забить скот, только б не отдавать их в руки захватчиков, — как и шотландцы со своей стороны. Как и Святая Эбба, подумал он, собственной рукой отсекшая себе нос и изувечившая лицо, дабы захватчики-викинги сочли ее слишком уродливой для изнасилования. Больше всех страдают невинные. Для некоторых лето так и осталось несбыточной мечтой, и они наткнулись на свидетельства этого днем позже, проезжая через пышные долины и низкие леса, чувствуя щекочущий кожу пот и зуд укусов звенящей мошкары. Дым заставил путников, клевавших носами, вскинуть головы, и разведчики — люди Хэла на своих крепких гарронах — прискакали галопом с вестью, что по ту сторону моста горит хутор. — Погляжу, — объявил Брюс и унесся, прежде чем кто-либо успел ему помешать. Чертыхнувшись вполголоса, Киркпатрик устремился следом, лихорадочно озираясь и жестами призывая Хэла. Тот устало дал шенкеля спавшему на ходу гаррону, с удивлением оживившемуся, услышал, как Сим орет, чтобы Куцехвостый Хоб и Долговязый Тэм пошевеливались. Это был форпост хексемских владений; вероятно, подумал Хэл, крестьянин, трудившийся здесь, думал, что чем дальше от приоратских старост, тем счастливей будет жизнь. Что ж, он заплатил высокую цену за право рубить дрова, а не собирать хворост, или браконьерствовать ради пропитания и уклониться от нескольких дней пахоты для поместья светлости… Крестьянин с семьей лежал в овечьем выгоне у тихонько лепечущего ручейка, недалеко от обугленного костяка своего дома; плетенка из прутьев выгорела, но глиняная обмазка затвердела и потрескалась, так что крыша провалилась, а стены устояли, как оболочка гнилого зуба. Хэл обратил внимание, что все мертвые лежали поблизости друг от друга, а женщины — мать и почти взрослая дочь — остались одеты. Их вывели из дома и убили, не дав шанса бежать и не пытаясь изнасиловать. — Байстрюки, — проворчал Сим, взмахом указывая на взрытую землю. — Похватали, что нужно, впопыхах, пойдя ради того на душегубство. — Сколько, по-вашему? — вопросил Брюс, поворачивая коня. — Двадцать, — объявил Киркпатрик после паузы для изучения изрытой копытами земли, и Сим кивнул в знак согласия. — А зачем было их убивать? Вопрос явно пискнул недоумевающий голос Псаренка, и Хэл увидел выражение его лица — озадаченное, но не настолько шокированное, как следовало бы для парня лет дюжины или около того, наткнувшегося на смерть теплым апрельским днем. Он быстро взрослеет, подумал Хэл. И жестко. — Ради забавы, — с горечью заявил Сим. — Ради устрашения, — поправил Брюс. — Дабы другие узрели это и боялись тех, кто свершил сие. — Значит, полагаете, шотландцы? — Истинно, — ответил Роберт, — хотя и не состоящие в армии. Отставшие и пустившиеся в лупы ради прибыли. — Мы должны вернуться к главным силам, — тревожно предложил Киркпатрик, пока Брюс аккуратно объезжал на коне разбросанные трупы. Мать выглядела старой, и смерть отнюдь не была к ней милосердна; и все же она была не старше его собственной жены, когда та умерла, отметил про себя Хэл. Не старше Изабеллы… — Благо, что дитя убили, — проронил Брюс с шелестом в голосе, продравшим, как кошачий язык, и Хэл моргнул, а потом до него дошло, что тот думает о собственной мертвой жене и Марджори — дочери, оставшейся на его попечении. — Отец не нянька. Юной деве нужна мать, — продолжал Брюс негромко, чуть ли не себе под нос. При этом он вспомнил собственную дочь — темные глаза, маленькие полные губки, чуть раздвинутые в улыбке, копия матери; он прикрыл глаза при этом воспоминании о пухлом личике куколки, которой так пренебрегал. Лучшее, что он сделал для нее, — это уберег от роли карапуза-заложницы после Эрвина, и это хорошо, потому что с той поры он нарушил все свои клятвы. — Всадники! — резко крикнул Куцехвостый. Их было трое — в стеганых куртках и кольчугах, верхом на добрых конях, с самострелами, болтающимися у седел. У всех были маленькие круглые щиты и железные шлемы с полями, а один нес желтое знамя с красным крестом на нем. За ними следовали другие — человек тридцать, мигом прикинул Хэл. — Герб Норфолка, — пробормотал Киркпатрик Брюсу, и тот кивнул. Роджер Биго, граф Норфолкский, вместе с равными ему Херефордом и Аранделом предоставил бо́льшую часть армии, под началом де Варенна выступившей на защиту Англии. Сии всадники, подумал Брюс, пожалуй, составляют половину конных арбалетчиков этой армии: шпионы доносили ему, что у де Варенна осталось едва ли полторы тысячи пехотинцев и сотня конных воинов. Во главе ехал высокий всадник с метелкой черной бороды и холодным кинжальным взором, который он переводил с Брюса на Хэла и обратно, озирая гербовые накидки и сюркот с геральдическими знаками. Хэл, со своей стороны, увидел белый щит с тремя зелеными птичками, сложившими крылья на спинах. «Сребро, три жаворонка, зеленые, спина к спине», — отметил он про себя и улыбнулся; Древлий Владыка всегда будет с ним, в каждом увиденном гербе. — Я думал, вы из приората, — сказал всадник с грассирующим французским акцентом. — Однако вижу, что вы издалека, — люди Каррика, не так ли? Замечу, синий зубчатый крест мне неведом. — Мы проездом, — благодушно отозвался Брюс. — В приорат. Мы люди Каррика с грамотой utbordh от де Варенна — вам ведом этот термин? — Я знаю его, — ответил тот чопорно, потом натужно улыбнулся. — Безопасный проезд. Я Фульк д’Алюэ[614]. — О, очень хорошо, — выпалил Хэл, прежде чем успел прикусить язык, и холодный взор остановился на нем. — Жаворонок, — вяло добавил он, взмахом руки указав на щит с тремя жаворонками. — Ваша эмблема. — А вы? Дернул же черт за язык, подумал Хэл, но выдавил улыбку: — Сэр Генри Сьентклер Хердманстонский. Фульк не улыбнулся в ответ. — Я думал, сие содеяли вы, — провозгласил он, охватив место трагедии широким взмахом руки. — То были скотты, разумеется. — Мы к этому непричастны, — ответил Брюс. — Хотя вы правы в том, что это были шотландцы. Возможно, не обошлось и без англичан. А то и гасконца-другого. Улыбка стала шире, и Брюс понял, что прав: д’Алюэ и всадники у него за спиной — гасконские солдаты удачи, последние остатки выехавших из Стерлинга. — Да. Сиречь разбойники, — откликнулся Фульк д’Алюэ и устало вздохнул. — Я знал этих людей довольно хорошо. Мы несколько раз заезжали к ним поить коней. — Можете напоить их теперь, не стесняясь, — отозвался Брюс, и лицо гасконца омрачилось. — Я и так не стесняюсь их поить, — огрызнулся он. Всадник со стягом — темноглазый, темнобородый, с темным нравом, негромко буркнул, проведя ладонью поперек горла. — Позаботься о лошадях, — велел ему Фульк, тяжело спешиваясь. Хэл увидел, как Брюс последовал его примеру, и, бросив взгляд на Киркпатрика, оперся о круп животного и спрыгнул на землю. Ноги затекли, отяжелев, как бревна. Последовало показное потягивание с кряхтением. Гасконцы увели коней, покинув Фулька и молодого человека, уже спешившегося и укутанного обвисшим знаменем. Расстегнув бацинет, Фульк снял его, потом стащил кольчужный чепец и стеганый подшлемник и потер ладонью коротко стриженные волосы. Без шлема он выглядел моложе, хотя в уголках его глаз залегли суровые морщины. — Что повлекло вас так далеко на юг? — Обмен, — ответил Брюс, хотя и, вспылив, испытал искушение заявить этому ничтожному дворянчику, что сие не его дело. — Мой государь, — напомнил Киркпатрик, — нам следовало бы присоединиться к остальным. Момент был подгадан с умыслом дать Фульку понять, что Брюс — человек знатный и людей у него за спиной хватает. Однако тот вскинул голову, как борзая, почуявшая красного зверя. — Вы младший Брюс, — медленно выговорил он, высказав внезапно снизошедшее осознание. — Мятежный граф Каррикский. — Имею честь, — ответствовал Брюс. — Хотя «мятежный» — это грубовато. Хэл увидел, что Киркпатрик следит за темнолицым знаменосцем и вереницей спешившихся всадников, ведущих лошадей к ручью, сверкая глазами с одного на другого. Затем обернулся к Брюсу и гасконцу, внезапно широко ухмыльнувшемуся и бросившему шлем к ногам. — Bon chance[615] вам, государь мой граф, — сказал тот, протягивая руку. Безотчетно приняв ее, Брюс ощутил, что гасконец крепко вцепился ему в запястье, и вдруг на него сошло шокирующее озарение, что Фульк бросил шлем, дабы освободить левую руку, сейчас оказавшуюся у него за спиной… В этот момент он снова ощутил себя четырнадцатилетним отроком на ристалище в Лочмабене, где Древлий Храмовник — казавшийся старым уже тогда — учил его ратному искусству, впервые дав вместо тупого меча настоящий. Из-за этого Брюс даже не пытался ударить Древлего Храмовника в схватке, и в конце концов рыцарь, прервав бой, поглядел на него. — Аки мыслишь, — тяжело вопросил он, — за какой надобностью еси здесь, отроче? — Чтобы обороняться, — без уверенности, полувопросительным тоном угрюмо ответил Брюс. — Нет, — отрезал Древлий Храмовник, — ибо лучший способ достичь сего?.. — Атаковать? — Так к бою же, детище. Брюс сглотнул. — Вы же без доспехов, сэр, — неуклюже заметил он. — Тогда как у меня есть шлем, кольчуга и подклад. Сказал это с недовольством, потому что вес доспехов навалился гнетущим бременем, а Древлий Храмовник настоял, чтобы он не снимал их, вступив на бранный двор, пока не покинет его. — Страшишься, детище? Негромкий вопрос уязвил Брюса, и Древлий Храмовник узрел выпятившуюся губу. — Я могу поранить вас, сэр. — Можешь грезить о том, — хмыкнул Древлий Храмовник, и лицо его прониклось мрачной решимостью. — Аз иду на вы, сударь, по счету три. Сей двор обагрится кровью, и коли не будешь битися со мной всерьез, твоею собственной, клянусь. Сотвори из него воина, рече твой батюшка, коли даже сие его убьет. Так к бою! Брюс ощутил укол гнева и страха. — Три! — вдруг выдохнул Древлий Храмовник и пошел на него, так что Брюс вскрикнул, едва исхитрившись отразить обрушившийся с маху удар палаша, и от колокольного звона удара вся рука онемела. Последовали минуты три-четыре его потуг справиться, мечи сверкали молниями, рассекая воздух, и в конце концов Древлий Храмовник с проклятьем отшатнулся, прижав к губам тыльную сторону ладони, задетую клинком Брюса. Тяжело дыша, Роберт вытаращенными глазами смотрел, как он сосет и сплевывает, а потом седая борода раздвинулась в улыбке. — Ныне ведаеши, каково оно, коли некий враг целит тебя убить. И сделаешь сие, абы ему воспрепятствовать… Все это пронеслось у него перед глазами за время, потребовавшееся Фульку, чтобы выхватить кинжал с поясницы и занести его в коварном змеином ударе, нацеленном на горло Брюса. Киркпатрик вскрикнул, резко и тонко, но Каррик не отшатнулся от удара; твердо усвоив уроки Древлего Храмовника, он шагнул вперед, молниеносно переходя в атаку, и ударил защищенным броней лбом Фулька в лицо. Кинжал гасконца со скрежетом отскочил от обода бацинета Брюса и безвредно с шипением скользнул по кольчужной бармице. Гасконец, не защищенный ни кольчугой, ни шлемом, опрокинулся навзничь, плюясь кровью и отборными проклятьями. Знаменосец ринулся было вперед, но тут же застыл, напоровшись на громкий окрик Сима, как на стену. Он замер, пригнувшись и насупившись при виде нацеленного на него громадного взведенного арбалета. — На этом расстоянии, парнище, он пробьет тебе новую дыру в заднице, — провозгласил Сим с дружелюбной улыбкой, хоть и знал, что тот вряд ли понял хоть слово. Забарахтавшись, как жук, Фульк в конце концов сумел подняться в сидячее положение; при виде бедственного положения предводителя его люди засуетились, с криками хватая оружие. — Хорошо сработано, — проговорил гасконец, не без труда поднимаясь на ноги с перекошенной кровавой улыбкой на лице, и развел руки в знак извинения. — Я должен был попытаться. Выкуп за вас солидный, а мы ведь солдаты удачи, как ни поверни. Упусти я этот шанс, долго в предводителях мне не ходить. Теперь, разумеется, все складывается для меня куда хуже. — Вы болван! — бросил Брюс, и Хэл заметил, что ярость заставила его перейти на французский. — У меня грамота от государя, который вам платит. Если б ваше покушение удалось, он бы вас повесил. Проливать здесь кровь резона не было. Да и сейчас еще нет; ступайте прочь. Развернув коня, Киркпатрик галопом понесся прочь. Роберт на звук не оглянулся, зато Фульк поглядел вслед, понимая, что тот приведет людей. День явно не задался. Надо же опростаться, как дитя, на глазах у собственных суровых парней. Остался только один выход… Он извлек меч, и Брюс вздохнул. — Мой государь… — выдохнул Хэл, встревоженный тем, что граф рискует жизнью в банальной драке. Сим продолжал целить из арбалета в знаменосца, а Псаренок сидел на своей лошадке, вытаращив глаза и разинув рот. Фульк ринулся вперед столь стремительно, что Брюс едва успел выхватить собственное оружие из ножен и парировать короткий шквал ударов. Это был единственный шанс наемника, хоть он еще и не ведал о том. Дальнейшее напомнило Хэлу урок боевых искусств. Сильный, искусный Фульк дрался, как наемник, — без изысков, пуская в ход любые средства, чтобы покончить с делом как можно скорее. Атака слева, атака справа, ложный выпад, рубящий удар по ногам, а Брюс, отступая, перенеся вес на заднюю ногу, отбивал каждый удар; лязгали скрещенные клинки, искры летели во все стороны. Затем гасконец помедлил, тяжело дыша, сообразив, что столкнулся с противником иного толка, нежели обычно. И все же этот человек — граф, турнирный поединщик, не привычный к реальному миру… Предприняв новую серию рубящих и колющих ударов, Фульк вдруг ошарашенно оказался нос к носу с Брюсом, ступившим под дугу удара наотмашь. Ладонь перехватила его запястье; плюнув ему в глаза, Брюс обрушил собственное оружие вниз, и отточенное острие вонзилось в подъем левой стопы Фулька. Ослепнув от мучительной боли, воем взметнувшейся через пах в живот, Фульк отшатнулся, отчаянно мечась, но не в силах ничего поделать, потому что его десница с мечом была стиснута будто в кузнечных тисках. Брюс последовал за ним, свирепым рывком выдернув меч из ладони гасконца, пока тот мучительно раздирал собственное лицо, нос и лоб тыльной стороной кольчужной рукавицы в попытке утереть с глаз застящий их плевок Брюса. Взор он прочистил, но лишь затем, чтобы увидеть возносящийся меч Брюса и шарахнуться от него. И тут же его собственный меч в шуйце Брюса вздернулся жуткой мокрой молнией под мышку, отнимая руку, половину груди и всю жизнь до капли, излившуюся кровавым потоком. Гасконцы с рычанием устремились вперед — и вдруг застыли. Киркпатрик во весь опор несся обратно, а за ним еще пара десятков всадников, с Куцехвостым и остальными во главе, размахивающими своими жуткими бердышами. — Мы уходим, — сказал Брюс знаменосцу. — Можешь забрать эти потроха, когда мы уйдем. И вытер клинок Фулька начисто о его же гербовую накидку, перечеркнув трех зеленых жаворонков жирным алым мазком. Потом воткнул его в землю, а собственный убрал в ножны, вскарабкался в седло и поехал прочь, нарочито презрительно повернувшись к гасконцам спиной. — Христом-богом, умеет же он сражаться! — с восхищением заметил Сим, когда они нагнали остальных и поехали за ним следом в теплом и безопасном окружении своих и источаемых ими запахов кожи и лошадей. Услышав это, Брюс полуобернулся с кривой усмешкой. — Немецкий метод, — пояснил он. Увидев недоумевающие взоры, рассмеялся и пришпорил коня, так что только Киркпатрик заметил дрожь рук, державших поводья легко и непринужденно, ибо он знал Брюса как свои пять пальцев, знал, что его одолевают те же страхи, что и всех остальных, и величайший из них — отнюдь не Проклятие Малахии, а хоть на волосок недотянуть до роли лучшего из лучших. Сверх того Киркпатрик знал, что Брюс, хоть и относится к своему оруженосцу как к верному псу, давным-давно безоглядно полагается на щедро расточаемые им умения, прозорливость и заботу. Брюс считает, что знает, почему клоузбернский дворянин так поступает, и был бы весьма удивлен, прознав, что Киркпатрик, хоть и некогда думал точно так же, больше не уверен, что только ради возвышения. В ту ночь, когда костры распустились во тьме алыми цветами, Роберт пришел к Хэлу, сидевшему в кругу остальных хердманстонцев. Это было странно уже само по себе, ведь у него есть шатер, чтобы укрыться, — грандиозная сине-белая штукенция с хитросплетениями веревок чуть ли не сложнее корабельной оснастки, с целой кроватью на раме внутри — он ведь титулованный граф державы и привык к роскоши. И все же Брюс пришел в гущу хердманстонского гвалта, так что болтовня тотчас угасла, как задутая свеча. — Я бы разделил с вами костер и чашу, коли она у вас есть, — сказал он на безупречном английском с кривой усмешкой, а потом взмахнул рукой с кожаной флягой, в которой что-то заплескалось. — На случай, если чаша пуста, у меня тут есть чем ее наполнить. — Милости просим и благодарствуем, — ответил Хэл, сообразив, что Брюс навеселе. Ничего не поделаешь, надо было проявить вежливость, так что он с улыбкой предложил графу собственное место у огня. Однако Куцехвостый и остальные сидели в неловком молчании, даже когда подносили свои роговые чашки к раскачивающейся фляге. — Разве Фитцварин не присоединится к нам? — вежливо поинтересовался Хэл, и Брюс, явив взор чистый, как подштанники священника, объявил, что государь Фитцварин играет в шахматы с Киркпатриком. Больше Хэл эту тему не затрагивал, уже зная — как и все остальные, — что высокомерный зануда Фитцварин, тянущий нескончаемую волынку о своем родстве с самим де Варенном, допек Брюса до печенок. Никто не пожалеет, когда его задница скроется за горизонтом. Но разговор на том и захлебнулся, и люди беспокойно ерзали, не осмеливаясь рта раскрыть. — А что такое немецкий метод? Вопрос Псаренка прозвучал звонко, как колокол, сломав лед. Люди захмыкали. — Истинно, — с энтузиазмом возгласил Долговязый Тэм Лоудон; плотина в его душе рухнула, и слова так ихлынули. — Я слыхал, ваша светлость сказывали сие про схватку с оным гасконцем. Мне взаправду жалко, же я ее пропустил, ибо сказывали мне, потасовка была славная — все одно что глядеть, как девки пляшут… Он вдруг осекся, спохватившись, что заболтался, смущенно потупился и наконец сунул нос в чашку и захлюпал. — Немецкий метод, — медленно проговорил Брюс Псаренку, — это как рыцари дерутся. Это один способ. Турнирный способ боя, хоть и не слишком широко употребимый, в противоположность французскому методу, коим в наши дни, похоже, пользуются все без изъятия. Граф замолчал при виде восторженного, озадаченного лица Псаренка, слушавшего во все уши, но ничего не понимавшего. — Есть два способа рыцарского поединка, — продолжал он, с пьяной тщательностью выговаривая слова, обращаясь только к Псаренку, хотя Хэл видел, что все смотрят только на него. — Один — научить человека и коня атаковать в лоб кого бы то ни было и валить наземь, даже если промахнулся копьем. Некоторые даже поговаривают, что подобный рыцарь на достойном коне может проломиться даже сквозь крепостную стену. Послышался ропот — отчасти устрашенный, отчасти благоговейный — со стороны тех, кому доводилось повидать подобных тяжелых коней. — Сие называют французским методом, — повел дальше Брюс. — Немецкий метод требует более легкого коня, обученного избегать контакта с противником. Отскакивать в сторону. Плясать. Как только враг миновал тебя, езжай за ним, и прежде чем он сможет поворотить свое громадное животное, бей его туда, где он меньше всего ждет. Раздалось коллективное «а-а-ах» понимания, и все закивали друг другу. — Как вы сделали с гасконцем, — добавил Псаренок. — Истинно, — ответил Брюс. — Так меня учил Древлий Храмовник. Но немецкий метод предназначен для войны, а не для турниров. Так что сейчас им не слишком-то пользуются, потому что турнирные рыцари не любят его. Неблагородно. Его и немецким-то зовут, чтобы оскорбить этот народ, потому что по-настоящему его надлежит называть сарацинским. Именно этот народ научил ему рыцарей христианского мира, и урок сей достался дорогой ценой, однако близко к сердцу его приняли немногие, и Древлий Храмовник Рослинский — один из них. Не так должны сражаться рыцари — gentilhomme предпочитают французский способ, просто потому, что он французский. L’âne du commun est toujours le plus mal bâtе́. «Осел простолюдина почти всегда оседлан скверно», — Хэл не знал, стоит ли это переводить, но выпивка помогает находить общий язык. — Уоллес дерется не как французик, — произнес голос из темноты, и остальные засмеялись. — Сэр Уильям, — выговорил Брюс, подбирая слова, словно нашаривая в кошеле среди поллардов полновесные монеты, — присоединился к нобилям совсем недавно. Остается уповать, что он усвоит обычаи рыцаря на славу, — но только не французский метод. — А трудно быть рыцарем? — спросил Псаренок, вызвав тем смешки считавших, что отрок задает слишком много вопросов. Брюс ощутил, как его затягивают эти темные, чистые глаза, будто увлекая далеко прочь от центра; его вдруг охватил страх, мешающийся с ликованием, будто едва оперившегося птенца на высоте, собирающегося впервые сорваться на крыло. — Вынашиваешь планы податься в рыцари? — вопросил Уилл Эллиот, и хотя вопрос сочился сарказмом, все изумились, когда Псаренок яростно затряс головой: — Нет. Я оставлю это Джейми. Я буду копьеносцем. Это они выигрывают сражения. — Устами младенца, — напыщенно возгласил Сим. — Какому Джейми? — поинтересовался Брюс. Хэл объяснил ему, и Роберт осовело кивнул. — Юный Джеймс Дуглас во Франции, у епископа Ламбертона. Ныне он государь Дугласский, хоть и не вошел еще в возраст, и сейчас его земли у Клиффорда. — Джейми их вернет, — непререкаемо заявил Псаренок. — Когда будет рыцарем. Трудно ли быть рыцарем, государь? — Достаточно трудно, хоть обучение этому — отнюдь не самое трудное. — Отвечая, Брюс сам подивился собственным словам. — Труднее всего соблюдать обеты. — Какие обеты, господин? Вопрос обрушился с неизбежностью камня, катящегося с горы. Хэл уже хотел было встрять, видя странное, полуошеломленное выражение лица Брюса, когда граф заговорил. — Какие же обеты ты потребовал бы от рыцаря? — вопросил он, и все примолкли, пристально глядя на Псаренка, ощутив, что что-то затевается, да не понимая, что именно. — Говори! — потребовал Брюс, пуча глаза. — Jamais chat emmitouflе́ ne prit souris[616]. Мыши в безопасности, потому что все коты закутаны. Кроме одного. — Никогда не лгать, — ответил Псаренок, наморщив свое юное лицо и вспоминая всю ложь, выслушанную прежде, — в первую голову сказанную матушкой, когда она ввела его через ворота замка Дуглас. «Лишь малую капельку, — поведала она, — и я ворочусь». Окружающие закивали с одобрительным хмыканьем, хоть и не знали, какие причины побудили отрока к такому выбору. — Не травить собак, — сказал Псаренок, и ропот стал сердитым, потому что тут причину знали все. — Николь не конфузить даму, — провозгласил Псаренок, смутно припоминая кое-что из рассказанного Джейми, и вдруг в замешательстве отчетливо вспомнил Агнес, когда Мализ пришел за ней — и графиней Изабеллой. И вспышкой мелькнувший образ подпрыгивающей ноги Агнес с туфелькой графини, колеблющейся на грани падения. — Николь не конфузить даму, — эхом повторил Куцехвостый и засмеялся. — Сие будет тож, что заставить бабу зардеть? — Даже коли ты скажешь сей обет, аки надлежит, тебе оного не сдержать, Куцехвостый, — в лад отозвался Уилл Эллиот, и все захохотали. Хэл увидел, как Псаренок насупился, не понимая, что такого он сказал, и думая, будто смеются над ним. И изумился, обнаружив, что Брюс тоже это заметил и протянул руку, чтобы положить ладонь на понурившееся плечо мальчугана. — Страшиться Бога и отстаивать Его Храм, — возгласил граф, обращаясь к Псаренку и почти в равной степени к самому себе. — Служить сеньору с доблестью и верой. Оборонять слабых и беззащитных. Оделять помощью вдов и сирот. Воздерживаться от несправедливых оскорблений. Жить с честью и славой. Презирать денежную мзду. Сражаться за общее благоденствие. Повиноваться властям предержащим. Оберегать честь сотоварищей-рыцарей. Чураться несправедливости, подлости и обмана. Хранить веру. Всегда говорить правду. Упорствовать в каждом предприятии до самого конца. Чтить честь женщин. Никогда не отвергать вызов равного. Никогда не показывать врагу спину. Он остановился; молчание окутало всех плащом. — Таковы наши обеты, — закончил Брюс почти шепотом, ибо вставший перед ним образ Древлего Храмовника и лицо родного отца растрогали его почти до слез. — Истинно, — бухнул Сим, сокрушив момент, как бык, ломящийся сквозь стадо. — Паче подобающе, нежели блюдется в наши дни, ваша светлость. — Стоит ли дивиться, что лишь Уоллес может нами предводительствовать, — резко докинул Долговязый Тэм Лоудон, — аже великие gentilhommes державы что ни день тщатся сим жонглировать. Хэл осадил его резким словом, и Долговязый Тэм прикусил язык, но Брюс расслышал, и Хэл ждал свирепо выпяченной губы. Однако вместо того граф поднял лицо, прежде потупленное к земле с выражением безысходным, как цветок, изнывающий в пустыне от жажды. — Истинно, — согласился он. — Для сей державы бесчестье, что те, в чье попечение она вверена, должны лгать и попирать свои клятвы, дабы сохранить свое положение, упорно отстаивая его. А порой жертвовать и оным. Замолчав, он ожег их внезапно сверкнувшим взором, мигом сбросив пьяную расхлябанность. — Попомните меня, придет день, когда рыцари сего королевства отыщут свои обеты. И тогда нашим врагам лучше поберечь свои жизни. Последовала пауза, а потом послышался гул одобрения, негромкий рокот, изумивший Хэла ничуть не меньше, чем пыл Брюса. Таким он Каррика еще не видел… — Лгать нельзя вовсе, — не уступал Псаренок. Это вызвало такой хохот, что он поглядел на них волчонком. — Истинно, — возгласил Куцехвостый, — еси чрезчур млад, абы зреть нужды в доброй лжи, малец. — А ты нам поведай, — пригласил Брюс, и Куцехвостый нахмурился, ломая голову, не издеваются ли над ним. Но открытое лицо Брюса светилось улыбкой, глаза сияли от вина и накала момента. — Ах, ваш-милость, нежли ни разу жена не приходила к вам с лентами, что вы ей купили, вплетенными в волоса? Али в затейливом платочке? И она спрошает, яко аз в сем выгляжу? Все закивали, даже Брюс, улыбавшийся широко, как никогда. — Ну, — продолжал Куцехвостый, — нежли тут рискнешь речь ей, что она останется жирной коровой, аже напялит мешок на свою кудрявую башку, но она единственная баба на мили округ, готовая раздвинуть ноги? Нет. Ты ей скажешь, что она выглядит чудесно, али поступишься честью и заметишь, какой дивный цвет и аки идет ей, даже коли взаправду при ейном виде даже свинья удавится. Эти слова встретили громким и долгим хохотом. — Теперича вы знаете, отчего его кличут Куцехвостым, — крикнул Джок Недоделанный, сидевший подальше от костра. — Токмо глянешь на твое лицо, — мигом свирепо парировал Хоб, — так враз уразумеешь, отчего тебя кличут Недоделанным. — Для Куцехвостого совалка дороже чести, — изрек Сим, — что ведомо кажному. Сие есть оправдание для лжи, да все одно только оправдание. — Ах, — возразил Куцехвостый, — мир не так разделен, аки граница меж сим королевством и Английским, где можно возгласить «тута мы, а вы тама, и мы суть не такие, как вы». Впрочем, аже до того дошло, английского Додда от шотландского не отличишь нипочем, али одного Керра в Хексеме от другого в Роксбурге. — Керра завсегда можно отличить, — проворчал Сим, — поелику это племя сплошь леворукое. Куцехвостый подался вперед, и отблески костра затеяли пляску теней на его лисьем лице. Хэл увидел, что Брюс зачарованно слушает, боясь упустить хоть слово. — Дозволь тебе растолковать, Сим Вран, — стоял на своем Куцехвостый. — Хорошо ли обморочить своего врага? Заставить его думать, может, аже еси слабже, нежли взаправду, абы атаковал тебя вполруки? Сим неохотно кивнул. — Сиречь лгать врагу — добро! — торжествующе провозгласил Куцехвостый, и Брюс восторженно хлопнул в ладоши при виде насупившегося Сима. — Клянусь милостью Божьей, — взревел он по-английски, — искренне сожалею, что еще ни разу не сидел с хердманстонцами досель, ибо сие повеселее, нежели представление акробатов и жонглеров. — Истинно так, ну, коли вы так говорите, ваша светлость, — отозвался Куцехвостый, приосаниваясь, и Хэл, не удержавшись, подскочил на ноги. — Благодаря его светлости нынче ночью мы немало узнали, — заявил он, почтительно поклонившись Брюсу, на что тот ответил элегантным, хоть и чуточку насмешливым поклоном. — Мы узнали, что Куцехвостый не может рассудить, какая нога у женки лучше, левая али правая. — Хэл помедлил, позволив упомянутому человеку на мгновение ока озадаченно наморщить лоб. — А истина для него, разумеется, заключается где-то промеж, — добавил он, и все засмеялись. — А наипаче изведали правду о лжи, — продолжал Хэл развивать тему, понимая, что Брюс зорко наблюдает за ним. Никогда не повредит показать, кто верховодит в Хердманстоне, будто оттиснуть в мягком воске печать, подумал Хэл. — Как я заключаю из всего сказанного его светлостью и оным Куцехвостым, похоже, если друг со свиным рылом придет изукрашенный яркими лентами, разбей ему сердце правдой. Коли же в ярких лентах явится враг со свиным рылом, скажи ему, что он выглядит расчудесно, — и ударь его исподтишка, когда он расфуфырится. А главное, подумал Сим Вран, когда хохот ветром закружил у костра, все узнали, что юный Брюс еще и человек, способный завоевать сердца суровых людей без всякого положения — черни королевства, которую до сей поры Сим считал исключительной вотчиной Уоллеса. И уж совсем внове повстречать могущественного gentilhomme королевства, вопреки тому способного по-компанейски дружно разделить чашу с отроком, не имеющим даже надлежащего имени.Хексемский приорат, Нортумберленд Праздник Святого Великомученика Доннана Эггского, апрель 1298 года Выбравшись из журчащего быстрого потока, Хэл смахнул воду с глаз и утер лицо рубахой, чувствуя спиной припекающее солнце и ветерок — еще достаточно прохладный, чтобы напомнить, что он на севере в апреле. Оглянулся на двор Хексема, на стены из камня неприятного цвета запекшейся крови, местами почерневшие от пожаров, пылавших в прошлом году — даже Уоллес был не в состоянии помешать галлоуэйцам чинить грабежи и поджоги, хоть потом и повесил нескольких. Хэл заметил булавочный укол пристального взгляда Киркпатрика, едва не заставивший его отшатнуться. И даже когда сам уставился на него в ответ, тот не отвел взгляда, и Хэл ощутил раздражение — и из-за грубости, и из-за язычка страха, шевельнувшегося от этого маркого взора. — Коли принесете ленты и толику пристойного вина, то у вас может быть какой-то шанс, — буркнул он. — Хотя на ваше предполагаемое очарование я бы не очень-то рассчитывал. Моргнув, Киркпатрик зарделся от намека до корней волос. — Оная безделушка, — пробормотал он. — Что у вас на шее? Загляденье на диво, и только. Где вы ее обрели? Сбитый с толку Хэл бросил взгляд на перстень, висящий на шнурке у него на шее. Все еще не оправившись, хмуро глянул на Киркпатрика. — Не ваше дело, откуда оно взялось, — огрызнулся он, и Киркпатрик с еще более потемневшим лицом недобро прищурился. Хэл чертыхнулся; его оружие осталось в трех шагах… Но внезапно поднявшийся крик сбросил напряжение, заставив обоих обернуться. Из странноприимного дома приората ураганом вылетел Фитцварин с побагровевшим лицом, размахивая руками и что-то невнятно вопя. За ним следовал растерянный воин, что-то мыча в возражение, а далее и сам сурово нахмуренный Брюс. — Уехал! — взревел Фитцварин и зашагал прочь, прежде чем воин успел отозваться хоть словом. Потом замер, развернувшись к человеку, трусившему следом, и заставив его с разгону остановиться столбом. — Уехал, — повторил он, яростно замахав руками. — В окаянный Берик. В своем ли ты уме? — Он отпущен под честное слово, мой государь, — проблеял воин. — Я отрядил с ним двух человек, но коли он хочет ехать в Берик, больше я ничего не могу поделать для защиты его персоны. Изрыгнув последнее смачное проклятье, Фитцварин стремительно зашагал прочь, предоставив воину спотыкаться следом, бросая на Брюса жалобные, умоляющие взоры. Граф же Каррик просто поглядел на него, пожал плечами и зашагал к Киркпатрику и Хэлу, поспешно натягивавшему свою пожелтевшую от пота рубаху, ощутив внезапное дуновение холодного ветерка. — Сэр Генри удалился в Берик, — пояснил Брюс, сопроводив апатичное сообщение скрежетом зубов. — Фитцварин более чем недоволен, что вынужден тут барабанить пальцами. — В Берик? — озадаченно переспросил Хэл. — Чего это ради? — Послание, государь, — доложил подоспевший воин с му2кой на лице. — Я пытался поведать государю Фитцварину, да тот и слушать не хотел. Судя по галуну на поясе, он был капитаном, и через секунду обмена поклонами и любезностями Хэл узнал, что он Уолтер Элтон, получивший приказ Норфолка доставить сэра Генри Сьентклера Рослинского в Хексем для обмена. — А после он получил послание, — продолжал Элтон. — От продавца индульгенций. — Какое послание? — требовательно спросил Хэл. — От продавца индульгенций? — одновременно поинтересовался Брюс, и взгляд капитана лихорадочно заметался между ними двумя, прежде чем он сообразил, что Брюс — граф и Хэлом можно пренебречь. — По имени Лампрехт, — ответил он. — Очень странно изъясняется, словно на всех языках разом. Я разобрал в нем французский и латынь. С примесью итальянского, судя по звучанию и даже незнакомым мне словам, хотя, может статься, они из Святой Земли, каковую он посещал. — Lingua Franca, — заключил Киркпатрик. — По меньшей мере доказывает, что он странствовал по землям вкруг Средиземного моря, если ничего более. «Как и ты», — внезапно понял Хэл, добавив новое измерение к фигуре клеврета Брюса. — О, он из Святой Земли, — с энтузиазмом заявил Элтон. — У него есть раковина в доказательство и уйма реликвий и диковинных предметов — вот, поглядите, благородные сэры… Вытянув висевший на шее шнурок, он показал чеканный свинцовый медальон с четырехлистником с одной стороны и рыбой с другой. — Оберег от злых духов и блуждающих демонов. Возражать никто не стал, ибо демоны существуют, это всякому известно. Только в прошлом году одного поймали в Твиде — мерзкого, черного, рычащего беса, запутавшегося в лососевых сетях, — и били палками храбрые рыбаки, пока тот наконец не вырвался и не удрал с визгливым хохотом обратно в воду. Об этом написал епископ, так что сие должно быть правдой. — Послание? — повторил Хэл, и Элтон моргнул. — Истинно так, сэр. Пришел, разыскивая сэра Генри по имени. Поведал, что несет для него послание, призывающее его в госпиталь в Берик. Вопрос жизни и смерти, поведал он. — Жизни и смерти? — медленно повторил Киркпатрик и искривил губы в жестокой ухмылке. — Смерти, подлинно. Единственный госпиталь, ведомый мне в Берике, — приют для прокаженных. — Хвала Христу, — пробормотал Брюс, осеняя себя крестом. — Во веки веков, — откликнулись остальные, последовав его примеру. — А зачем приюту для прокаженных понадобился сэр Генри? — чуть ли не себе под нос добавил Брюс. — Савояр, — провозгласил Элтон, кивая и любуясь своим свинцовым амулетом. Не сразу сообразив, что в воздухе повеяло морозом, он поднял голову и вдруг наткнулся на ледяные взоры, устремленные на него, а потом друг на друга. — Савояр, — повторил Хэл, и голос его был полон могильного праха и загробных отголосков. Элтон неуверенно кивнул; горло у него вдруг перехватило. — Вы уверены в его имени? Снова кивок. — Жизнь и смерть, — пошевелившись, проворчал Киркпатрик. Опомнившись, Хэл обжег его взглядом; все его подозрения нахлынули разом. — Истинно, в самую суть — смерть для савояра, коли вы наложите на него руку. Изрыгнув грязное проклятие, Киркпатрик ухватился за рукоять кинжала так, что костяшки побелели. Вскрикнув, Элтон отступил, нашаривая собственное оружие, — а затем Брюс крепко хлопнул Киркпатрика по плечу. — Довольно! Обернувшись к Элтону, граф поблагодарил его за сведения и застыл в ожидании, пока капитан, уразумев намек, не поспешил прочь, что-то ворча под нос. Тогда Брюс повернулся к Хэлу и Киркпатрику, испепелявшим друг друга взглядами, как два цепных пса. — Сэр Генри в опасности, — сказал он, и Хэл с рычанием ощерился на него, проникнувшись полной уверенностью в своей правоте, что в смерти мастера-каменщика повинны Брюс и Киркпатрик и что они сделали это, чтобы скрыть некий иной грех. — И не он один. Вы убьете всех нас, государь мой граф, дабы уберечь свой секрет? — Цыц! — осадил его Брюс, а затем его сердитый взор смягчился. — Время посвятить вас в кое-какие материи. — Мой государь! — предостерегающе встрял Киркпатрик, но Брюс отмахнулся от него. — Мощи Христовы, да какая теперь разница! — свирепо изрек он, перейдя на французский. Уловив намек, Киркпатрик пожал плечами и замолк. Граф Каррик огляделся; они стояли группкой вне пределов слышимости всех остальных. Солнце позлатило двор, утренний воздух был напоен пением птиц и суетой нарождающейся жизни. Неподходящее место, подумал он про себя; подобное надо излагать в закупоренной комнате среди теней и чадящих свечей. И набрал в грудь побольше воздуху. — Когда стало ясно, что Длинноногий приготовил для Иоанна Баллиола и этого королевства, — начал Брюс, — мы с епископом Уишартом решили обставить его. Эдуард планировал лишить короля Иоанна Баллиола и державу их королевского достоинства, и первое ему удалось достаточно хорошо — настолько хорошо, что король Иоанн, пристыженный человечишко, ни за что не пожелает вернуться сюда, даже завоюй мы завтра Англию. «Тебе-то только того и надобно, — подумал Хэл. — А еще лучше, кабы король Иоанн Баллиол испарился, как туман под солнцем, чем фата морганой маячить над троном, на который ты притязаешь». Но промолчал, просто стараясь не трепетать от возбуждения и предвкушения, видя, как Брюс хмурит брови, подыскивая уместные слова. — Длинноногий забрал державные регалии, — продолжал тот, — Камень, Крест и облачения для коронации. И вдребезги разбил Печать. — Мы все это видели, — вставил Хэл; взор его затуманили внезапно нахлынувшие воспоминания. — Тяжкий день для королевства. — Истинно так, верно, — заявил Брюс. — Но Камень ему не достался. Хэл заморгал. Все ведь видели, как его сковырнули с двойного постамента и взвалили на телегу, чтобы отвезти на юг, в Вестминстер. Хэл слыхал, на нем возвели трон, чтобы каждый раз, опуская свой зад на трон, Эдуард вновь посвящал себя в законные короли Шотландии. — Вы видели другой камень, — провозгласил Брюс с триумфально просиявшим лицом. Хэл ощутил жгучий взгляд Киркпатрика, устремленный на него с нескрываемой угрозой, но предпочел не глядеть ему в глаза. — Сию мысль Уишарту подал Древлий Храмовник, — повел дальше граф, — знавший этого мастера-каменщика, фламандца, надзиравшего за работами в Рослине, пока положение дел их не застопорило. Каменщик же отправился работать в Скун в ожидании, пока выяснится, останется ли после рослинского выкупа довольно средств, дабы возобновить строительство, и очень обрадовался интересу епископа, а равно и посуленной мошне — всего лишь за то, чтобы выбрать камень точь-в-точь как тот, который Длинноногий вознамерился забрать. А потом приставил своего савойского резчика сделать нужные знаки, после чего его подсунули взамен настоящего. — И это сработало?! — поразился Хэл, и Брюс воинственно вздернул подбородок. — А почему бы и нет? Очень немногие видели Камень вблизи, и уж совсем ни один из умыкнувших его англичан. Они увидели то, что и ожидали, — плиту из песчаника со странными выветрившимися и истертыми значками тут и там, покоившуюся там, где ей и полагалось. А ведь верно, подумал Хэл с нарастающим волнением. Кто же из ведавших об этом осмелился бы обмолвиться хоть словом? — Мастер-каменщик Гозело, — будто в ответ заявил Брюс и продолжал: — Он в сопровождении представленного здесь Киркпатрика доставил камень к Древлему Храмовнику в Рослин, где таковой схоронен до дня, когда он понадобится. «Дня, когда ты на него усядешься, — постиг Хэл при виде лица Брюса. — Дня, когда тебе понадобятся все регалии королевства, какие только удастся добыть, чтобы сделаться законным монархом, особенно если Иоанн Баллиол будет еще жив, скукожившись в покровительственной тени Папы…» О, Раны Господни, подивился Хэл, как тут не восхититься горой его амбиций и дальним прицелом — ведь у него даже ни малейших прав на корону, пока не умрет его отец. И тут же похолодел. Каменщик Гозело убит… Увидев выражение его лица, Брюс переадресовал его коротким взглядом к Киркпатрику, которому хватило приличия чуть покраснеть. — Каменщик удрал, — буркнул тот. — В часе-другом пути от Рослина вдруг запаниковал и убежал. Даже не дождался обещанной мошны. — Несомненно, полагал, что вы заплатите ему сталью, — отрубил Хэл, переходя на шотландский. — Подобных планов я не строил, — огрызнулся Киркпатрик. Брюс утихомирил обоих, как доезжачий борзых. — Что бы кто бы ни думал, — присовокупил он, — каменщик бежал. Киркпатрику пришлось доставить Камень в Рослин самолично, где заботу о нем приняли Древлий Храмовник и Джон Фентон: чем меньше народу замешано, тем легче уберечь секрет. — Древлий Храмовник дал мне коня, велев отправляться за Гозело, — угрюмо подхватил Киркпатрик. — Указал — разумеется, справедливо, — что как только каменщик сочтет, что избег опасности, то захочет возместить ущерб, а единственный для этого способ — получить награду от англичан, доложив им, как их надули. Так это Древлий Храмовник толкнул Киркпатрика на душегубство или Киркпатрик сам до этого додумался? Хэл узрел правду — унылую, как мокрый пес, — и вспомнил совет отца в день сражения на мосту Стерлинг: не йми веры никому, сказал тот. Даже Древлему Храмовнику, каковой дюже верток в этом деле. Заметив его уныние, Киркпатрик развел руками. — Порадей, абы твердо, велел Древлий Храмовник. Вот я и порадел. Обеспечь твердое ручательство. Хэл бросил взгляд на кинжал, висящий на поясе Киркпатрика, — желобчатый, тонкий и острый. — Оный перстень я взял у него, — продолжал Киркпатрик с побледневшим бритвенно-острым лицом. — Доставил его Древлему Храмовнику в доказательство, что дело сделано. Он просил о подобном доказательстве сугубо. Хэл проследил направление взгляда Киркпатрика. Перстень у него на шее принадлежал Гозело, был снят с пальца покойного и возвращен в Рослин. Стародавний грех… — Ныне разумеете мой интерес к оному, — с сухой иронией добавил Киркпатрик. — А не к вашим сомнительным чарам. — Каменщик достоин сожаления, — вклинился Брюс, сдвинув брови. — Да и найти его не должны были, однако же он выскочил, будто пук во время пира, в день охоты в Дугласе. «Вот оно, Проклятие святого Малахии в действии, — добавил про себя Хэл, — впутывает мой грех в мои же поводья, чтобы выволочь его всему миру на обозрение». Видя выражение лица графа, он хотел бы поверить написанным на нем стыду и раскаянию. Раскаивается лишь в том, что того не спрятали как следует, с горечью подумал Хэл, а не в душегубстве. Он вспомнил охоту, во время которой Гозело явился на свет, а заодно вспомнил, куда отвезли труп, и сызнова подивился размаху натуры Брюса. — Вы убедили Уоллеса штурмовать Скун, дабы могли войти туда и уничтожить улики, — с изумленным придыханием выговорил он. — Вот чем Киркпатрик занимался в покоях Ормсби. Но как вы убедите народ, что схороненный вами Камень — настоящий? Брюс кивнул, как будто ждал этого вопроса. — Это не имеет значения; когда час пробьет, народ поверит. Захочет поверить, — и остается лишь позаботиться, чтобы секрет не раскрылся до времени. «Пока тебе не потребуется усесться на него, — подумал Хэл. — Для коронации». — Сожжение дознания Ормсби должно было поставить на этом крест, — в сердцах добавил Брюс. — Кабы не савойский камнерез, о котором мы забыли, потому что он был не в счет. — И Уоллес, — подчеркнул Хэл, — который вам не доверял. Да и сейчас не доверяет. — Не имеет значения. — Граф пожал плечами. — Уоллес — разбойник, как бы высоко он ни вознесся. Если узнает, то в конце концов одобрит. Некогда это могло быть и так, холодно подумал Хэл, однако вместе с тем, как Уоллес преобразил королевство, оно преобразило и его. Две смерти — бедолаги Биссета и савояра — могут прийтись не по душе новому рыцарю, которым становится сэр Уильям Уоллес в своем положении Хранителя. Он высказал свои сомнения напрямую, и Брюс, погладив подбородок, неохотно признал их значимость. — Биссет — не моя работа, — проворчал Киркпатрик. — Сие оный мерзкий ублюдок Мализ, добывавший ответы для графа Бьюкенского, каковой отнюдь не дурак. Оборвавшись, он скорбно взглянул на Хэла. — Вы преследовали савояра слишком шумно, не в меру беззаботно употребляя Биссета, так что Бьюкену потребовалось не так уж много, чтобы докумекать суть дела. Вот хотя бы Биссет: Мализ тропил его, как только тот вышел из-под вашей опеки. Я подоспел слишком поздно, дабы предотвратить сие. — Помолчав с удрученным видом, добавил: — Там была сущая покойницкая. Хэл похолодел, лишь смутно догадываясь, какое зрелище могло оставить на дне глаз этого человека такое пепелище. Осознание обратило его внутренности в холодный камень — он так натоптал, что и слепой не сбился бы со следа, а уж тем паче востроглазый, злокозненный Мализ Белльжамб. С равным успехом Хэл мог убить Бартоломью Биссета собственной рукой. Отчасти прочитав это по лицу Хэла, Брюс утешительно положил ладонь ему на запястье, хотя дальше поджатых губ улыбка и не пошла. — Сие старая рознь великих родов этого королевства, — сказал он. — Всегда следует ожидать, что Комин будет дышать мне в затылок, стараясь вызнать, зачем и где, что бы я ни делал. — А теперь они заполучили савояра, — сказал Хэл, впервые узрев истинное положение дел. — Чтобы залучить вас к себе. А вы, конечно, хотите смерти савояра-камнереза ради сохранения вашего секрета. — Почти, — мрачно заявил Брюс. — Истинно, савояр у них, но смерти его я не желаю. Он нужен мне живой. Он единственный, кто может знать, где Камень лежит сейчас. Коли только сие не ведомо вам. Хэл моргнул — и вдруг все постиг, словно перед ним распахнулся занавес. В Рослине заботу о Камне приняли Древлий Храмовник и Джон Фентон, спрятав его, — а теперь оба мертвы и унесли секрет в могилу. Увидев выражение его глаз, Брюс устало вздохнул, проведя ладонью по лицу. — Я вижу, что Древлий Храмовник передал вам перстень, и ничего более, — резюмировал он. — Сиречь, если только секрет не у этого камнереза, все наши труды вотще — Камень схоронен в Рослине, и никто не ведает, где именно. Оборвав, он горько рассмеялся. — Камень, затерянный среди камней… В том есть некое послание Небес али нет? От святого Малахии, чуть не ляпнул Киркпатрик, но вовремя прикусил язык. — Надо попасть в приют прокаженных, — вместо того сказал он, и Хэла внезапно прошил трепет страха. — В западню? — возразил он. — Где граф Каррикский столкнется с врагами лицом к лицу? Вряд ли мы можем въехать в город всей свитой — замок по-прежнему удерживают англичане, сиречь мы будем одни… Брюс вдруг улыбнулся, согретый этой вспышкой озабоченности. Протянув руку, он хлопнул ладонью Хэла по плечу и провозгласил: — Ныне вам ведома истинная суть дела, однако же вы по-прежнему, похоже, питаете ко мне достаточное почтение, чтобы тревожиться о моей участи. Я рад, что обретаю в вас друга, юный Хэл. В конце концов, Сьентклеры славятся защитой королей — не один ли из них принял грудью стрелу, предназначавшуюся королю Стефану? — Сэр Хьюберт, — пробормотал Хэл, вспомнив историю рода, которую отец заставил затвердить его наизусть. «Юный Хэл» — Мощи Господни, да он лет на пять, а то и на шесть старше Брюса, а тот похлопывает его, как щеночка… И опалил взором сперва его, а после Киркпатрика. — Я не щит, а вы не король, — отрезал он, и Брюс насупился. — Я достаточно почитаю вас, как препоясанного графа королевства, государь мой. Но даже будь вы бедным батраком, я бы не хотел, чтобы вы попали в зубы своим врагам. Равным образом я не могу пожелать того же и вашему оруженосцу. Киркпатрик заворчал, но Брюс издал смешок — безрадостный, как волчий вой, так что оба других уставились на него. — Не я им нужен, — проговорил он, чуть подавшись вперед, когда Хэл недоумевающе приподнял брови. — Они залучили не того сэра Генри Сьентклера, — провозгласил Каррик и отослал Киркпатрика за лошадьми. А на душу Хэла черным вороном опустился студеный туман, и в голове набатным колоколом звенело лишь одно имя. Мализ Белльжамб. (обратно)
Глава 10
Берик Праздник Святой Оппортуны, Матери всех монахинь, апрель 1298 года Они залучили не того Генри Сьентклера. Мализ разрубил бы ничтожного продавца индульгенций надвое, кабы не думал, что вонючий кусок дерьма может еще пригодиться. Теперь же ему и нанятым головорезам приходится ютиться в лечебнице для прокаженных, удерживая в заложниках монахов, и без того уже напуганных гибелью двоих сопровождающих сэра Генри. Чтобы легче было охранять, пленника поместили в тот же покой, что и задыхающегося савояра, ухаживающего за ним священника и его ошарашенного дядю. — Это идиотизм! — пропыхтел Генри Сьентклер, когда уразумел, что к чему. — Вы навлечете на себя гнев юного Брюса, не говоря уж о Фитцварине. Мощи Христовы, человеци, коли вы меня не отпустите, за вами придут и английские, и шотландские государи. Ваши головы уже на кольях, хоть вы того еще не разумеете. Впившийся зубами в собственные костяшки Мализ вполне этому верил: Рыжий Комин, коему граф Бьюкенский вверил эту миссию, отрядил Мализа в Берик разыскать некоего Роберта де Маленфонта и вручить сказанному выкуп за графиню Изабеллу. Сам он это сделать не осмелился из страха попасть в плен к англичанам, будучи государем Баденохским во всем, кроме имени, но лишь презрительно вздернул губу, когда Мализ выразил ту же озабоченность. — Ты для них значения не имеешь, — заявил он с непререкаемой уверенностью. — Возьми грамоту храмовников, вручи ее Маленфонту, забирай графиню и возвращайся ко мне. С такой задачей справится даже дрессированный мастиф. Мализ вспомнил презрительную ухмылку Рыжего Комина, размазанную по его веснушчатому рыжебородому лицу. Подобно всем Коминам, он невысок ростом, с туловищем, как бочка, и огненно-рыжими волосами, которые со временем станут, как у его кровника графа Бьюкенского, соломенно-желтыми. И подобно всем Коминам, мнит о себе невесть что. Граф — другая проблема, угрюмо размышлял Мализ. Без ведома Рыжего Комина, который дожидался уже некоторое время и вышел бы из себя, если б пришлось ждать еще дольше, граф приватно дал Мализу дальнейшие инструкции касательно государя Хердманстонского, сопровождавшего графиню по всей Шотландии, доколе не потерял ее в Стерлинге. — Сие, конечно, немыслимо, — вкрадчиво заявил граф, — но даже слухи о порочном союзе губительны для чести Бьюкенов. И без того скверно, что ее связывают с юным Брюсом, но чтобы с ничтожным gentilhomme без роду-племени? Графиню надлежит вернуть и заставить осознать свои ошибки. Важно, дабы и государь Хердманстонский осознал свои. Насильно. И дабы юный Брюс, каковой явственно покровительствует сему государю Хердманстонскому, получил недвусмысленное послание. Берик якобы находится под властью англичан, но те забились в замок, и городок живет своей жизнью почти без помех, couvre-feu[617] и даже закона. Мализ дошел до него по следу савояра, уповая наконец-то подвергнуть дурачка резчика допросу с пристрастием, — да застал того более хворым, нежели само Моровое Поветрие верхом на Чуме. Идея устроить с его помощью западню для Хэла Хердманстонского была слишком уж хороша, чтобы упустить… кабы идиот с индульгенциями был способен отличить одного Генри Сьентклера от другого. На сиденье напротив скользнул субъект, одаривший его бурозубой улыбкой. Лампрехт. Мализ посмотрел на коротышку со смесью благоговения и недовольства, не ведая, вправду ли тот владеет могущественными христианскими реликвиями, и недолюбливая за то, что тот оставляет за собой след, как улитка. — Мой спелость, моя мышка, — прошепелявил Лампрехт, наивно веривший, что именно так принято при дворе во Франции. — Я свою сделку выполнил. D’argent, подлинно. Bezzef d’argent, tu donnara[618]. Воистину промысел Божий, думал Мализ, привел на его сторону Лампрехта — человека, которого он использовал по мелочи раз или два прежде. Тогда Белльжамб считал его полезным, но теперь смотрел на продавца индульгенций с недовольством, видя, как тот мог быть раньше хорош собой, однако годы, затеявшие друг с другом чехарду, уродливой грудой шлепались на его физиономию, одутловатую и исчерченную венозными жилками. Некогда у него были длинные чистые волосы, но слишком жидкие, чтобы удержаться, и теперь скальп украшало лишь несколько сальных кудряшек, которые он прикрывал, когда не накручивал на пальцы, мягкой широкополой шляпой, украшенной раковиной паломника. — Знаю, чего тебе надобно, — угрюмо бросил Мализ, — но ты далек от того, как никогда. Сэр Генри Сьентклер Хердманстонский, сказал я. Ты же привел ко мне сэра Генри Сьентклера РОСЛИНСКОГО. Ответная улыбка Лампрехта даже не коснулась его глаз. — Non andar bonu, — начал он, а потом усердно перетолковал это на английский с сильным акцентом: — Это не идет хорошо. Это не моя вина. Генри Сьентклер ты просишь. Генри Сьентклер ты получаешь. Пожалуйста, плати мне, как уговорено. Ответный слабительный взор поведал ему, что своих денег он не получит. Не его вина, сердито подумал Лампрехт про себя, что его отправили доставить сказанного человека из места, где всех, похоже, кличут одинаково. А теперь этот человек с рожей, как задница, получившая добрый пинок, супится на него и отказывается платить; и уже не в первый раз Лампрехт пожалел, что вообще повстречал Мализа Белльжамба. Впрочем, ему ли привыкать к помыканию; похоже, всякий считает себя вправе дурачить, водить за нос или плевать на ему подобных, несмотря на его знак паломника. Уж, казалось бы, люди должны почитать обладателя раковины, говорящей о странствии до самой Святой Земли, и, честно говоря, большинство людей и почитает. А вот те, у кого есть деньги и толика власти, вечно считают его лжецом, не видевшим Святой Земли даже издали, а знак свой попросту укравшим. Сущий поклеп, мысленно возмутился Лампрехт. Знак он честно выторговал за зуб Змея Эдемского, не за что-нибудь, — лишь малость выщербленный, но чудный образчик. Следует признать, не такой чудесный, как имевшиеся у него три других, но все равно справедливая цена за раковину паломника. И хотя в самой Святой Земле он и не был, зато добрался до самой Сицилии — где идолопоклонники сильны по сей день — и до Леона в Испании, а оттуда до язычников-мавров и вовсе рукой подать. — Dio grande, — с усталой горечью возгласил он Мализу. — Бог велик. Я выполняю мою задачу, и это мое вознаграждение. A esas palabras respondieron los ignorantos con decirle infinitas injurias como ellos acostumbran, llamândole perro, cane, judto, cornudo, y otros semejantes… — Говори по-английски, — в конце концов не выдержал Мализ, раздраженный сверх всякой меры, и Лампрехт пожал плечами: дескать, только дурак не разумеет ни лингва, ни кастильский — языки, понятные каждому путешествующему на востоке Средиземного моря. — Невежда, — свысока бросил он, — отвечает бесчисленными оскорблениями, как привык, нарекая меня собакой, псом, жидом, рогоносцем и тому подобными эпитетами. Mundo cosi — таков уж мир. — Нечего тут пыжиться, поставщик волос с яиц святого апостола Елды, — рыкнул вконец осерчавший Мализ. — Я уж давненько тебя знаю, достаточно давно, чтобы знать, что ты украдешь содержимое собачьей задницы и начинишь им пирог, коли сыщешь простофилю с солидной мошной, охочего до подобных вещей. — Глянув волком, он добавил, увидев, что задел за живое Лампрехта, не любившего, когда уничижают его товар: — Да ты продашь ворованный череп дитяти, божась, что он принадлежал Христу во младенчестве. — Questo non star vero, — запротестовал тот, потом с досадой тряхнул головой и перевел на английский: — Это неправда. Que servir tutto questo? Ненадобно такое говорить, даже во гневе, ибо Бог видит. Dio grande. Кроме того, se mi star al logo de ti, mi cunciar… bastardo. Будь я на твоем месте, я бы обождал. Другой сэр Генри придет, подлинно, искать своего amico, и тут вы его хватаете. Dunque bisogno il Henri querir pace. Se non querir morir. Так что оный Генри хочет мира, коли не хочет умереть. Capir? Мализ понял, и Лампрехт, увидев это, нарочито зевнул. — Mi tenir premura, я спешу. Дай мне окунуть клювик, и я иду. Mi andar in casa Pauperes Commilitones. Переводить последнее Лампрехту не требовалось — он по глазам видел, что Мализ прекрасно его понял. Pauperes Commilitones — Братство Бедных Рыцарей — было названо с умыслом заставить Мализа дважды подумать, прежде чем удерживать его здесь. Белльжамб понимал, куда клонит Лампрехт, как понимал и то, что торговец индульгенциями направляется в Белантродич исключительно в чаянии уговорить рыцарей ордена приложить свою печать к грамотам, подтверждающим происхождение имеющихся у него реликвий; часть своего баснословного состояния храмовники скопили на их продаже. Мализ бросил взгляд на свою заплечную суму с припрятанной внутри грамотой храмовников, небрежно стоящую на скамье, гадая, как кусок пергамента с печатями и словами может стоить ошеломительной суммы в 150 серебряных мерков. Более того, зная, что деньги отдали в Белантродич, он никак не мог уложить в голове мысль, как такое возможно, чтобы, придя с пергаментом в любую прецепторию храмовников и предъявив его, получить деньги, словно те по волшебству перенеслись туда, пока все спали. Мализ поежился; судя по тому, что он слыхал о храмовниках, подобное вполне в их власти… Неважно. Пользуйся Лампрехт даже благосклонностью и чудесами самого Папы, это помогло бы ему ничуть не больше. — Ты остаешься, — отрывисто объявил Мализ, и торговец святынями сумел заставить себя беззаботно пожать плечами и улыбнуться, хотя внутри так и кипел. В последнее время в стране, взбаламученной войной и слухами о ней, дела у него шли лучше некуда: люди так и рвали из рук четырехлистники амулетов святого Томаса и святого Антония: первый оберегает чуть ли не от всего на свете, а последний особенно силен против лихорадки и горячки. На харчи этого вполне хватало, но для роскоши маловато. У Лампрехта короб набит индульгенциями полного отпущения грехов, щепотками праха святых Мартина и Евлалии Барселонской, Емилинана Диакона и великомученика Иеремии. У него еще в запасе Зуб Змея — вообще-то даже несколько, — лоскут одеяний святого апостола Варфоломея, щепотка земли, на которой стоял сам Господь, и многое другое. А еще настоящее сокровище, которое он надеялся продать храмовникам, — три ногтя святой Елизаветы Тюрингской, причисленной к лику святых всего лет тридцать с хвостиком назад, так что ее реликвии на диво могущественны. Он отнюдь не дурак, что бы там ни заявлял Мализ, — хоть Лампрехт и признал, что попытка продать Белльжамбу и ему подобным ремешок от сандалий Моисея была грубым промахом, да только в эти дни люди со средствами ни за что не хотят ни полного отпущения грехов, ни терний из Венца Иисусова, предпочитая мирские блага вроде пищи и топлива для огня. Как водится, первыми недуг постигает беднейших, а тем вряд ли по карману свинцовые амулеты-четырехлистники. Так что он улыбнулся, хоть обещанная мошна медленно таяла вдали, и понял, что лучший способ уберечь хоть что-нибудь — тайком убраться как можно дальше от грядущего гнева друзей этого не того сэра Генри.* * *
На дворе дождь заливал темный Берик, проглядывавший из тьмы несколькими бледными огоньками, мигавшими, как рдеющие крысиные глаза взамковых жаровнях, съежившихся под дождем, как и стоящие на страже часовые гарнизона. И пугают их не столько шотландцы, сколько гнев Длинноногого, если они сдадут крепость. Несмотря на дождь и тьму, думал Хэл, Берик нехитро найти по запаху — ядреному месиву дыма, помоев и гнили, тянущемуся на многие мили, как змееволосы Медузы, едва колеблемые ветерком не сильнее влажного дыхания. Они с плеском пересекли брод правее развалин моста, высившихся во тьме тенями троллей. Никто их не окликнул, и они прошли через отремонтированные оборонительные сооружения, состоящие из деревянного частокола, рва и стены, миновали ворота, которые должны охраняться, но беспризорно стоявшие нараспашку, как и предсказывал Брюс, заслужив безмолвное восхищение остальных членов небольшой кавалькады. Спешившись, они повели своих мокрых, заляпанных грязью гарронов по скользким булыжникам мостовой, по щиколотку утопая в рыбьих костях и старых собачьих испражнениях, стиснутые подступающими все ближе покосившимися стенами домов бедноты, где застилающий полы камыш никогда не убирали, разившие телесными жидкостями, наводившими на мысли о печеночной гнили, червях, параличе, нарывах, свистящих легких и всех прочих мерзостных лихорадках без остатка. И вполне уместно, что эта улица, стиснутая покосившимися домишками, дрейфовавшими сквозь медленный ветер переулков, будто насквозь прогнившие лодчонки, выблевала их к дому призрения прокаженных Святого Варфоломея — каменному призраку, окутанному тьмой, кроме одного места, проливающего масляно-желтое сияние сквозь щели больших двустворчатых дверей, ведущих во двор, а оттуда через арку на улицу. Промокший до нитки отряд остановился, и Брюс улыбнулся Псаренку. Одетый, как и все они, в простую рубаху и грубый плащ, скрепленный железной булавкой, без гербовой накидки и крикливого геральдического щита, граф Каррикский выглядел тятей Псаренка — и откровенно наслаждался происходящим. В отличие от Киркпатрика, совершенно не одобрявшего идею наследника Аннандейла и законного претендента на трон Шотландии вырядиться крестьянином и подвергать свою жизнь такой опасности. В конце концов оруженосец не сдержался, заявив, насколько глупо со стороны графа королевства шляться где попало, рискуя головой в безрассудной авантюре в компании шайки сброда. Шайка сброда — Куцехвостый Хоб, Долговязый Тэм, Сим и Уилл Эллиот — угрюмо зарычала в ответ, и даже Хэл оскалил зубы, видя, что оскорбление распространяется и на него, пока Брюс голосом, хлестким, как удар мечом плашмя, не велел Киркпатрику держать язык за зубами. Тут они вручили поводья своих невозмутимых, насквозь мокрых гарронов Уиллу и слякотно скользнули на свои места. Сим и Хэл заняли места по обе стороны больших дверей; все хранили полнейшее молчание, а Псаренок, замотав голову мешковиной на манер клобука, сделал глубокий вдох и двинулся вперед. У Хэла перехватило горло при виде парнишки, казавшегося еще меньше прежнего на фоне громадных двустворчатых дверей из мощных брусьев, густо усаженных гвоздями. За ними находилась кухня, и ее красно-желтый свет не могли удержать даже такие двери, потому что это единственная часть госпиталя, не засыпающая ни на час. Откуда-то из города на вялых крыльях ветерка долетели смутные звуки инструментов и голосов мотета: «Ahi, amours, com dure departie»[619]. Эти звуки с мучительной отчетливостью напомнили Киркпатрику об эле, вине, тепле и духоте — и не только. Они напомнили об Окситании и о том, что он чинил там катарам — так сокрушительно, что оруженосец графа едва не застонал. И вдруг этот неведомый продавец индульгенций Лампрехт будто разом извлек на свет закопченные воспоминания, которые Киркпатрик считал давным-давно запечатанными за крепко заколоченной дверью в голове… Со времени жизни в Дугласе Псаренок знал кухни вдоль и поперек. Именно он придумал способ пробраться в госпиталь и высказал его вслух только потому, что великий граф — возносящийся над ним просто-таки в заоблачные выси, — однажды вечером разделил с ним чашу и заветнейшие мысли. С этого момента Псаренок отдался ему всей душой, а когда высказанный план заслужил кивки одобрения, сознание собственной новоприобретенной ценности нахлынуло столь внезапно, что прямо голова кругом пошла. Он заколотил по двери своим кулачком величиной с орешек, потом крепко пнул, не зная, достаточно ли шуму натворил. Работники в кухне застыли как вкопанные. Аббат Джером поглядел на помощников — прокаженных, находящихся на разных стадиях болезни, но обладающих умениями, необходимыми, чтобы печь хлебы и готовить пищу. Сбоку припекой выступал только пузатый Готер, приставленный Мализом приглядывать за этой дверью и кухонной службой. Заслышав стук, он моргнул раз-другой, но когда стук раздался во второй раз, подошел к дверце, врезанной в одну из исполинских створок, и отодвинул дощечку, позволившую выглянуть наружу. Сперва не увидел вообще ничего, потом раздался голос, заставивший его опустить глаза к потрепанному мальчонке, съежившемуся под куском насквозь мокрой мешковины. Капли дождя сбегали у него с кончика носа. Нечасто Готеру приходилось видеть более жалкое зрелище. — Пшел вон, — рыкнул он, с облегчением увидев всего-навсего отрока. — Тут не подают. — Молю лише Бога и Святых Его благословить вас, сэр, — услыхал он в ответ. — Я прибывши дать, а не взять. Добрая госпожа, чей муж недавно помре, являет шпиталю ейную милость ради вознесения души оного. Замешкавшись, Готер растерянно облизнул губы. — Пара агнцев, — не унимался отрок. Готер в замешательстве обернулся к аббату Джерому, и тот одобрительно кивнул, стараясь изобразить, что дело это заурядное, как дыхание, хотя, правду говоря, увидел подвох сразу же и сердце у него в груди екнуло. Госпиталь зависит от жертвователей, получая от гильдии негоциантов агнца и свинью каждые десять дней. Их доставляют, забивают и подвешивают, потому что ни один разумный человек не станет есть свежую убоину, а последняя доставка была всего четыре дня назад; остатки туш еще покачивались на виду у всех, и команда куховаров прямо сейчас мазала их салом с травами и мятой. Но Готер сего не ведал, и хотя оставался шанс, что на улице и вправду дожидается пара ягнят от убитой горем вдовы, Джером всей душой молился, чтобы их не было, чтобы сие оказалось подмогой, Благодатью Божией. — Добро, — проворчал Готер в тревоге и нерешительности, понимая, что отказ от щедрого дара вызовет подозрения. — Сие славно, малец, токмо не дури. Обы скоро да живо, аки сказывала моя матушка… Хэл услышал стук и лязг снимаемых замков засова, потом кряхтение Готера, поднимающего брус засова со скоб. — Веди своих агнецов, а опосля… — начал он, но тут дверь врезалась ему в лицо, толкнув назад. Проскользив по полу, он налетел на котел, выплеснув содержимое, обварившее ему ноги. Завопив, Готер отшатнулся, тщетно хлопая по обжигающей жидкости, запнулся, оборачиваясь, и перед самым носом узрел бороду на манер барсучьей задницы и раздвинувшую ее широкую ухмылку. — Бэ-э, — сказал Сим, врезав Готеру по ребрам раз, другой, третий. И только с третьего раза тот почувствовал странное ощущение, инстинктивно распознав входящий в тело острый металл; но к моменту, когда ужас происходящего подкосил его, он был уже мертв. Сим опустил его на жирную солому и плиты пола, а в дверь юркнули Хэл и Псаренок. — Хвала Христу, — возгласил аббат Джером, чуть не всхлипнув. — Во веки веков, — безотчетно ответил Хэл, озираясь в поисках прочих врагов. — Сколько и где? — Един, другой и сам главарь, — прошамкал голос, и Сим отшатнулся при виде разоренных руин лица, сумрачно скалившегося ему, размахивая черпаком, зажатым в грязном, замотанном тряпками кулаке. — Мощи Христовы, — вскрикнул Сим, — держись подальше и не дыши на меня! — Где? — требовательно повторил Хэл, игнорируя куховара. Джером опомнился достаточно, чтобы пролепетать, что второй охранник стережет главный вход в госпиталь, а главарь в палате умирающих вместе с Генри Сьентклером, бедным иноземцем, отдающим душу Богу, и фламандским дядюшкой сказанного бедолаги. — Хвала Господу, — изрек Сим и, не дожидаясь, пока отсипят дышащие гнильем отклики, пришел в движение, расплывшись в ухмылке при мысли, что наконец-то встретится с Мализом Белльжамбом нос к носу. Хэл последовал за ним: Брюс ждал у главного входа в компании своей неотступной тени — Киркпатрика, а Куцехвостый и Долговязый Тэм пошли вокруг высматривать другие двери. Осталось лишь позаботиться, чтобы сэр Генри Рослинский остался в живых.* * *
Собрав пожитки, Лампрехт закинул на плечо короб с драгоценными реликвиями и не менее драгоценным содержимым, похищенным у Мализа. Сей акт варварской мести заставил торговца индульгенциями триумфально склабиться по-крысиному, пробираясь в тенях госпиталя. А здесь их хватало, ибо даже самое дешевое свечное сало этому богоугодному заведению не по средствам, и светильники есть только там, где без них нельзя. У одной из забранных засовами дверей, ведущих на волю, развалился коротко стриженный болван с бычьими мускулами по имени Ангус, позевывая и ощупывая ноющие гнилые десны толстым грязным пальцем. При виде его торговец индульгенциями скривился. Sensal maledetto[620], должен же быть и другой путь из этого гноевища… Он осторожно двинулся прочь под покровом тьмы, кутаясь в тени, и уже был далеко от бычары, когда грохот и вопли приковали его к месту. Они наверняка доносились из кухни; он увидел, как Ангус оттолкнулся от стены, постоял, сложив брови в громадную стрелку нерешительности, — а потом покинул свет, устремившись во тьму в направлении кухни. Si estar escripto en testa forar, forar, подумал Лампрехт: коли у тебя на лбу написано, что уйдешь, то уйдешь. Не прошло и секунды, как он уже был у двери. Еще секунда — и торговец святынями обеими руками с натугой поднял засов из скоб. — Ха!.. Бычий рев над самым ухом заставил Лампрехта с верещанием упустить тяжеленный брус, опасно брякнувшийся у самых ног, и отпрыгнуть, чтобы не остаться без пальцев. Подняв глаза, он увидел черные кинжалы глаз Ангуса, устремляющегося обратно к двери… …в тот же миг с дребезжанием распахнувшейся от удара, впустив порыв свежего воздуха, напоенного дождем. Ни Брюс, ни Киркпатрик не могли поверить своей удаче, услышав, что прежде крепко запертая дверь открывается. Брюс не знал, открывает ее Хэл или кто-то еще из отряда, но грохот упавшего бруса по камням пола убедил его, что дело обстоит достаточно плохо, чтобы требовать незамедлительного и жесткого вмешательства. Ангус с разгону остановился как вкопанный, разинув слюнявый рот при виде двух ворвавшихся воинов. Киркпатрик метнулся вперед, Брюс за ним по пятам, и оба узрели человечка, смахивающего на хорька, увешанного сумами и коробом, а в паре шагов от него — гору мускулов на ногах, как бревна, с отвисшей челюстью, но выхватывающую из-за пояса длинный нож. — В сторону! — крикнул Брюс, и Киркпатрик чертыхнулся, а затем хорек юркнул к двери, решив дело; развернувшись к нему, оруженосец перехватил его за ремень короба и отдернул назад. — Цыц, малявка, — бросил он у самого уха, и длинный тонкий кинжал сверкнул в дюйме от в ужасе вытаращенного глаза. — Спустите меня, — пропыхтел, отбиваясь, Лампрехт. — Отпустите. А не то… Я все едино что священник. Я под защитой самого Папы. Bastonada, mucho, mucho[621]. При звуках знакомого суржика у Киркпатрика вдоль хребта будто льдинка прокатилась. На миг перед глазами вспыхнуло пламя, а уши забили вопли, прежде чем он сообразил, что продавец индульгенций сказал на самом деле. — Ты меня отлупишь?! Лампрехт услышал слова и сопроводивший их смешок. Потом его пленитель, теперь сжав тыльную сторону шеи дланью, твердой, как стальной обруч, проговорил ему на ухо, шевеля дыханием сальные завитки волос: — Si e vero que star inferno, securo papasos de vos autros non poter chappar de venir d’entro. «Коли пекло и вправду существует, попам не избегнуть войти туда». Эти слова скользнули Лампрехту в ухо со змеиной вкрадчивостью, и кишки скрутило в тяжелый ледяной ком осознание, что он попался, ибо человек этот бывал в местах, где он поднаторел в lingua franca, и — несомненно — вытворял дела, не обходящиеся без кинжалов, а то и чего похуже. Киркпатрик ощутил, как коротышка обмяк, услышал его горестное бормотание: — Si estar escripto in testa andar, andar. Si no, aca morir. «Коли у тебя на лбу написано, что уйдешь, то уйдешь. Коли нет, помрешь здесь». Но Киркпатрик все равно держал острие кинжала на виду у хорька, попутно пытаясь следить, что делает Брюс. Граф же тем временем обнаружил, что не может вытанцовывать, что в тесных темных коридорах от немецкого метода проку маловато. Меч слишком длинный, а противник владеет ножом искусно. Вобрав голову в плечи, тот стремительно бросился вперед, держа нож как кабаний клык, и Брюс взмахнул мечом, но зацепился клинком о незажженный канделябр, и здоровенный бык, двигаясь куда стремительней, чем можно было судить по виду, полоснул ножом, как в кабацкой драке. Вспоров домотканое полотно у самого сердца Брюса, лезвие чиркнуло по коже жгучей болью. Вскрикнув, Киркпатрик чуть не отпустил Лампрехта, но продавец индульгенций, ощутив это, забарахтался, и Киркпатрик безотчетно сжал хватку крепче; Лампрехт заверещал. Ощутив саднящий порез, Брюс увидел в щелочках глаз противника вспышку торжества и постиг, что меч только мешает. В душе графа шелохнулся страх, и тогда, понимая, что попал в беду, он поступил, как надлежит рыцарю: сделал глубокий вдох, крикнул «Брюс!» так, что горло засаднило, и ринулся вперед.* * *
От кухни поверните направо, сказал им аббат Джером, и именно так Хэл с Симом и поступили, двигаясь стремительно, насколько позволяла настороженная поза. Они миновали двери комнат — возможно, келий священников, часовен или кладовых, но из их щелей не пробивалось ни лучика света. Наконец, дойдя до конца коридора, они увидели дверь, обрамленную бледным светом, просачивающимся вдоль худо пригнанных косяков. Сим и Хэл с ухмылками переглянулись, и тут последний с упавшим сердцем вдруг осознал, что их только двое. — Где отрок? Мальчуган ушел налево, поскольку задержался, чтобы выдернуть длинный тонкий кинжал из мертвой руки Готера, трепеща при виде перевязанных людей, сгрудившихся поглазеть, будто мертвые, восставшие из могил в своем тряпье. Бросив последний отчаянный взгляд на улыбающегося аббата Джерома, Псаренок ринулся следом за Хэлом и Симом. Свернув налево, припустил по коридору, пытаясь разом смотреть и вперед, и назад. Мгновения спустя он понял, что заблудился, но тут услышал громкий рев «Брюс!», будто колокольный звон стали. Устремившись к нему, услышал натужные выдохи и оказался позади бойцов, увидев, как великан наступает на бесталанную жертву, способную лишь отмахиваться своим мечом. Увидел, что это граф, а темнолицый графский человек позади борется с другим человеком, явно не в силах прийти на помощь. И не заколебался ни на миг — ведь это великий государь, разделивший с ним вино и поведавший ему обеты рыцарства… Пятясь, Брюс отчаянно ломал голову, сумеет ли добраться до более открытого пространства, и уповая выскочить в дверь, пусть даже на улицу, видел, как бык с ножом готов ринуться на него и покончить с делом. Французский метод, мелькнула в голове унылая мысль… И тут во тьме словно взвизгнул дикий кот, приземлившийся на спину быка, так что тот, запнувшись, сделал полшага вперед, чтобы удержаться на ногах, взревев от изумления и страха. Извернувшись ужом, потянулся свободной рукой за спину, но дикий кот не отцеплялся. Псаренок. Брюс увидел искаженное гримасой, рычащее лицо отрока, и в тот самый миг, когда бык додумался ахнуться спиной о стену, чтобы стряхнуть его, крохотный орешек мальчишеского кулачка взмыл кверху, нанес удар, а потом отрок отскочил, роняя с длинного клинка кинжала жирные, тягучие капли крови. Бык взвыл, зажав ухо ладонью, и кровь брызнула у него между пальцев. Оборотился. Выражение свирепой боли и ярости на его лице вдруг стерлось, сменившись ошарашенным недоумением. А потом он рухнул, как мешок, и под головой у него начала расплываться лужа крови. Воцарилось безмолвие, нарушаемое только порывистым дыханием. Брюс смотрел на Псаренка, сгорбившегося на четвереньках, дикого, как лесной зверь, сжимающего в кулачке окровавленный кинжал. — Добрый удар, — сумел прохрипеть граф.* * *
Вломившись в дверь палаты умирающих, Хэл и Сим узрели немую сцену, нарисованную масляно-желтым светом сального светильника и тенями, бешено заплясавшими на стенах от порыва ветра их вторжения. Мелкотравчатый попик отвязывал Генри Сьентклера от кресла, а третья фигура стояла на коленях у кровати, поддерживая голову человека, булькавшего и хватавшего воздух ртом. Тот поднял к новоприбывшим лицо с недоумением и страхом. — Сэр Генри! — возгласил Хэл, и государь Рослинский, сбросив последние веревки, шатко поднялся на ноги. — Хэл, клянусь Ранами Господними, как же я рад тебя видеть! — Мализ… — пророкотал Сим, ибо было очевидно, что его здесь нет. — Удалился, и минуты не прошло, — сообщил сэр Генри, потирая запястья. Хэл чертыхнулся, и Сим уже хотел было вылететь из дверей, когда навстречу ему ступил Брюс, следом за ним Псаренок, а уж за ним Киркпатрик, железной хваткой держа какого-то человечка, как терьер крысу. — Мализ мимо вас не проходил? — Нет. Хэл поглядел на Сима, и тот, осклабившись, понесся охотиться за Белльжамбом. Подойдя к убогому одру, Брюс поглядел сверху вниз. — Савояр? — спросил он, и Хэл кивнул. — Так я и подозревал. — Мализ заколол его, — скорбно сообщил священник. — Хотя ему все едино не жить… сие его дядюшка. Человек у кровати встал, и Хэл увидел, что на нем изящная рубаха, запятнанная кровью племянника. Горе и отчаяние прочертили его лицо глубокими морщинами. — Он еще жив? — спросил Брюс, опускаясь на колени и склоняясь к самому лицу умирающего. — Он пытается говорить… Тот несколько раз открыл и закрыл рот; граф склонился ниже, едва не касаясь ухом его губ, и Хэл ощутил стыд за государя, столь одержимого желанием выведать секрет своего Камня, что отказывает умирающему в праве почить с миром. Потом того стошнило остатками крови, вынесшими облатку Последнего Причастия, будто крохотную белую лодочку. Брюс подскочил, с отвращением утирая лицо, рябое от кровавых брызг. Дядя преклонил голову и колени, а священник монотонно повел молитву. Моргнув раз-другой, Брюс устремился прочь, и Хэл последовал за ним. Киркпатрик, чувствуя, как онемела рука, сжимающая скукожившегося продавца индульгенций, решил убедиться, что это действительно савояр, которого они искали, а не какой-нибудь другой несчастный прокаженный. — Манон де Фосиньи? — прохрипел он. Выйдя из молитвенного забытья, дядя поднял голову и бережно отвел потную прядь волос, прилипшую к бледному лбу усопшего. — Малахия, — произнес он, и Киркпатрик вздрогнул. — Его звали Малахия де Фосиньи, — негромко продолжал дядя. — Он считал сие имя слишком еврейским для Англии, откуда иудеи изгнаны, и потому изменил его. Во рту у Киркпатрика пересохло. Тряхнув головой, оруженосец отогнал эту мысль. Об этом лучше не поминать, подумал он.* * *
Куцехвостый Хоб и Долговязый Тэм увязли в каком-то кошмаре. Они наткнулись на дверь, но та не поддалась, и они пахали по слякоти, пока не набрели на нужник в заднем дворе. «А где сральня, — прошипел Куцехвостый Долговязому Тэму на ухо, — там есть и дверца, абы до нее добраться». Они нашли ее — вовсе черный прямоугольник на темном фоне — и открыли без особых хлопот. Осклабившись, Куцехвостый ступил внутрь; когда паче припрет, никому не нужны преграды на пути к опорожнению кишок. Они вдвоем остановились в темноте какого-то просторного покоя — то ли залы, то ли трапезной. Воздух прямо сочился зловонием, а темнота открывала свое содержимое очень неохотно — плиты пола, смутные тени по обе стороны; устилающий пол тростник шелестел на каждом шагу. Кровать со скамьей с торца. Еще одна. И еще с другой стороны. Фигуры взмыли внезапно, люто, будто явленный кошмар. — Ах вы, байстрюки! — проскрежетал голос, и Куцехвостый ощутил удар по руке. Потом по коленям. Услышал, как выругался Долговязый Тэм. А потом увидел, что атаковало его. Безносые. Гниющие. Некоторые в намотанных на самые жуткие раны тряпках, некоторые прямиком с постелей, нагишом, с черными пятнами гнили на по-рыбьи белеющих во тьме животах. Прокаженные, чье прикосновение — проклятье, чье дыхание — погибель. Взвыв, как бешеный пес, Куцехвостый принялся отбиваться, в панике маша руками. Услышал вопли Долговязого Тэма, ощутил, как кулаки врезаются во что-то, чего он даже видеть не желал. В дальнем конце вспыхнул огонь, очертив очумелую орду прокаженных, спальню которых Куцехвостый Хоб с Долговязым Тэмом разнесли вдребезги. Узрев свет, Куцехвостый устремился к нему навстречу, и рычавшая перед ним свора, словно по чудесному предстательству самого Христа, вдруг растаяла, как снег на согретой солнцем насыпи. И тогда он увидел фигуру, несущуюся вперед с когтистым проблеском длинного стального клинка, размахивая им во тьме, как факелом. Мализ понимал, что улизнул из палаты умирающих в последний момент. Прихватив свой плащ, он закинул суму на плечи, как только разнесся боевой клич Брюса, и устремился по коридору, очень удобно соединявшему палату умирающих со спальней прокаженных, из которой, как он знал, можно улизнуть наружу. Планы его полетели в тартарары — оставалось только бежать, и трясучий страх перед тем, что преследует по пятам, гнал его вперед. Переполох внутри озадачил его, и он гвоздил скопище ножом налево и направо, пока оно не рассеялось, а затем ринулся вперед, пока противник не опомнился, чтобы наброситься с новой силой. И вдруг прямо перед собой узрел знакомое лицо одного из хердманстонцев и врезал в него другой рукой с визгом ужаса, потянувшимся за ударом, как огненный хвост. Куцехвостый увидел удар в самый последний момент, сумел уклониться от худшего, но все равно схлопотал так, что только звезды из глаз брызнули. Увидев, как его товарищ упал, Долговязый Тэм ринулся вперед, вырвавшись из хватки полудюжины рук. Перецепившись о пинающиеся ноги, с ревом приземлился на четвереньки, когда Мализ рванул вперед, свирепо лягнув его в рот, а потом принялся разить ножом вправо-влево, чтобы не подпустить прокаженных. Последний взмах наугад пришелся как раз в тот миг, когда Долговязый Тэм только-только выпрямился, успев подивиться откровенному злосчастью такого совпадения и тому, что Господь настолько обошел его своей милостью. Лезвие задело горло лишь вскользь, заставив охнуть, но журчание крови, хлынувшей на грудь, открыло ему правду. Закатив глаза, он поглядел на потрясенное, мертвенно-бледное от страха лицо Мализа и капающую с кинжала кровь. — Содомит, — с усталым присвистом выдохнул Долговязый Тэм, рухнув во весь рост так, что голова подпрыгнула. Перепрыгнув через него, Белльжамб устремился к двери сквозь ряды прокаженных, кинувшихся врассыпную, натыкаясь друг на друга, слыша несущиеся вдогонку трехэтажные проклятия. Куцехвостый Хоб, смутно вспомнил он, выскакивая под дождь.* * *
Лампрехт знал, что сведения — это жизнь. Именно их он продавал Мализу, хотя, признал торговец, лучше б приберег, чем ввязываться в эту коварную игру. Теперь же он стоял в кольце хмурых людей, горюющих из-за смерти одного из своих и готовых прикончить его, дай только повод. Понимая, как ограничен в средствах, Лампрехт решил начать с предъявления своих верительных рацей. — Kretto a in deo patrem monipotante kritour sele a dera, ki se voet te tout, a nou se voet; e a in domnis Gizoun Kriston, filiou deous in soul… — Довольно. — Киркпатрик оборвал его пощечиной. — Здесь это не пройдет — ты сыплешь враками, как барышник. — Что он говорит? — нетерпеливо поинтересовался Брюс. — Это «Верую», — ответил Киркпатрик, и аббат Джером нахмурил лоб. Сие ни капельки не походило ни на одну из знакомых ему версий «Верую», в чем он и признался. — Это по-гречески, — растолковал Киркпатрик. — Из Константинополя. — Раны Христовы! — воскликнул Сим, копаясь в коробе на глазах у Лампрехта, терпевшего адские муки. — Али косточка с пальца ноги? — Guarda per ti, — взмолился Лампрехт. — Будьте осторожны. Chouya, chouya — виноват, по-английски «бережно». Сие есть кость пальца ноги самого Моисея. — Да нешто! — изумился Сим. — Моисея, так ли? Вот так чудо — коли счесть все сии пальцы Моисеевы, выходит, что сей блаженный муж был одарен четырьмя ногами. — Questo star falso. Taybos no mafuzes ruynes. Киркпатрик с ухмылкой обернулся к нахмурившемуся Брюсу. — Говорит, это неправда. Все его товары подлинные. — Спросите его, куда отправился Мализ, — потребовал Хэл, и Лампрехт страдальчески сморщился при взгляде на него. С остальными — даже с тем, кто оказался великим государем, — вести дело проще, ибо они его поносят. Как открыл для себя Лампрехт, если человек не утруждается плюнуть на него, то в конечном итоге причиняет такой урон, какого бальзамами и пристойным корнем арники не исцелишь. Выпустив хрупкий белый осколок, забренчавший по плитам пола, Сим с ухмылкой растер его подошвой в порошок, — и хотя боль потери пронзила Лампрехта до самых пят, даже это не заставило его раскрыть рот. Владеющий языком мог бы, но великий государь дал ему окорот, так что перед ним Лампрехт настоящего страха не питал. Однако сероглазый со взором василиска — совсем другой, и когда вопрос прозвучал, Лампрехт понял, что ответит на него смиренно и правдиво, в чаянии, что удастся переступить бритвенное острие момента, не пролив ни капли крови. Выслушав, Киркпатрик нахмурился, но Хэл перехватил несколько слов, так что утаить не удастся. — Он говорит, поначалу Мализ нанял его искать графиню. Таковая находится в монастыре поблизости отсюда, находящемся во власти Роберта де Маленфонта. В него отсылают ненужных женщин — непокорных дочерей, женушек, утративших былую привлекательность, вдов, ускользающих от неких мужчин, желающих поживиться их наследием. Сей Маленфонт содержит его в качестве seraglio, сказывает продавец индульгенций. — Слыхал об этом Маленфонте, — раздумчиво произнес Брюс. — Он ничтожный владыка, не стоящий упоминания, но служит в месни Агтреда из Скарборо. Слыхал я, однажды он недурно показал себя на турнирах в Бамбурге. — Что за серальня? — спросил Сим, и Киркпатрик вздернул губу в похабной ухмылке. — Лупанарий. — И он держит Изабеллу заложницей в подобном месте?! — вознегодовал Хэл. — Сомневаюсь, чтобы ее обесчестили или причинили ей вред, — успокоил его Брюс, дивясь обороту событий: похоже, сей юный Сьентклер втрескался в его Изабеллу… больше не ЕГО Изабеллу, поспешно поправил он себя, словно даже мысль могла достичь слуха графа Бьюкенского. — Она слишком ценна, — присовокупил Каррик и хлопнул Хэла по плечу. — В свое время мы вытащим и ее. Киркпатрик вздохнул, видя, как все оборачивается: мало им напасть на приют Святого Варфоломея, так надо еще и нагрянуть в монастырь Святого Леонарда. Он высказал это вслух, заранее зная, что это ничего не изменит. — Истинно, набеги на лазареты да обители для нашего брата все едино что эль да мясо, — жизнерадостно возгласил Сим, доставая длинный свиток пергамента. — А сие есть что? Правда в том, что Лампрехт не знал сего — ибо украл его у Мализа из-за болтавшейся на нем печати храмовников: два рыцаря верхом на одном коне. Он счел ее самым ценным предметом, поскольку мог аккуратно снять ее и прикрепить к другому скрупулезно написанному документу, подтверждающему происхождение реликвий Елизаветы Тюрингской. Печать храмовников — ручательство правды, способное удвоить стоимость реликвий. Теперь же, видя, как его разворачивают, он пожалел, что не успел изучить свиток повнимательней. Брюс отобрал его у Сима, державшего грамоту правильно лишь потому, что печати снизу. — Это jetton, — сообщил Брюс, с прищуром вглядываясь в документ из-за скверного освещения. — На сто пятьдесят мерков. Лампрехт мысленно застонал, узнав, чего только что лишился. — Что за жеттон? — не унимался Сим. — Денежная расписка, скрепленная печатью храмовников и… ну и ну, знаком графа Бьюкенского, — пояснил Брюс, улыбаясь все шире и шире. — Очевидно, граф внес деньги в Белантродич, и теперь любой обладатель сего документа имеет право явиться в любую прецепторию храмовников отсюда до самого Пекла и потребовать сто пятьдесят мерков серебром. Видите? Выданную тебе сумму отмечаешь в этих окошечках, как на шахматной доске; таким способом храмовники узнают суммы. На самом деле jetton — маленькие счеты, которые они перекладывают из окошка в окошко, чтобы отследить, куда, когда и что. Все воззрились на пергамент, благоговейно забормотав. — Ростовщичество, — проговорил сэр Генри Сьентклер, словно отплевываясь от навоза. Брюс угрюмо улыбнулся. — Ростовщичество есть только у евреев, государь мой Рослинский. Храмовники сказывают, сие не одолжение денег, а собственные деньги человека, сберегаемые для него. Однако же свою выгоду они на передаче делают. — А для чего этот jetton? — пожелал узнать Хэл, начавший прозревать возможности. — В сем случае? Моргнув, Брюс взвесил пергамент на ладони, и улыбка его стала еще шире. — Наверняка на выкуп графини. — Он иронично усмехнулся. — У меня четыре добрых боевых коня столько стоят. Дешево для графини Бьюкенской. Губы Хэла изогнулись в улыбке, но граф разглядел промелькнувший в ней звериный оскал. — Выкуплена для мужа сей цедулкой, — медленно, угрюмо усмехнулся Хэл. — Человеком, коего сей Маленфонт ни разу в глаза не видел… — А как же Долговязый Тэм? — настойчиво встрял Куцехвостый, мигом всех отрезвив. — О нем мы позаботимся, коли дозволите, — объявил аббат Джером. — И за спасение, и за то, что сей люд чувствует себя отчасти повинным в его смерти. Нападая, они не знали, кто есть кто, знаете ли. — У него дома остались братья и сестра, — траурно возразил Хоб. — Мы вряд ли довезем его останки, Куцехвостый, — ласково отозвался Сим. — Его родным будет довольно знать, что он погребен по-христиански в добром Божьем доме. Куцехвостый поглядел на Сима, отвел глаза и вздрогнул при воспоминании об обитателях сего доброго Божьего дома. — Лучше нестись, аки камень из пращи, — провозгласил Сим, — нежели стоять здесь, аки жернов. — Я бы присоединился к вам в сражении, — скорбно объявил Генри Сьентклер, — но я отпущен под честное слово и не могу поднять оружие на англичан. — Если все сделать правильно, — неспешно проговорил Брюс, не сводя глаз с Хэла, — никакого сражения не будет — зато, Богом клянусь, Коминам будет не по себе. Изабелла Макдафф получит свободу, и сэр Хэл может взять ее под свою опеку. И рассмеялся, радуясь такому обороту. — И все счастливы! — просиял он. Внезапно раздавшийся колокольный трезвон заставил их оцепенеть и сморщиться. — Во имя Господа… — начал Сим. — Тревога! — вскинулся Киркпатрик, но Лампрехт, ко всеобщему изумлению, безрадостно рассмеявшись, издал еще одну шепелявую трель на своем странном языке. Хэл уловил только одно слово, повторенное несколько раз: guastamondo. Киркпатрик — побледневший, с заблестевшей в мерцающем свете испариной на лбу — повернулся и перевел. — Сей Лампрехт прибыл через Лондон из Фландрии, — проворчал он, — и поспешил на север, в Йорк, а затем сюда. Чтобы первым прибыть с товаром. Он рванул медальон, висевший на шее продавца индульгенций, достаточно свирепо, чтобы Лампрехт покачнулся, а снурок порвался. — Дабы продавать вразнос никчемное дерьмо вроде этого напуганным и отчаявшимся. — Потише, человече, — встревожился Куцехвостый, — не то Бога оскорбишь. — Сей пес — оскорбление Божие! — буркнул Киркпатрик, утирая потное лицо под неумолчный звон колоколов. — Говорит, прибыл вместе с неким Гвастомондо, опередив новости о том на неделю… Киркпатрик хотел было продолжать, но Брюс перебил его, негромко проронив: — Guastomondo. Отец поведал мне, что так его именовали за морем. Разрушитель Миров. И стоило ему договорить, как колокола тоже смолкли. Брюс обвел взглядом окружающих; лик его был мрачнее чумы. — Эдуард вернулся в Англию. На минутку воцарилось полное молчание, а затем сэр Генри, откашлявшись, коснулся руки Хэла. — Нам лучше пошевеливаться. Это может вселить в гарнизон дух, чего нам вовсе не надобно. Хэл не ответил, уставившись на свисающий из кулака Киркпатрика медальон, а потом протянул руку, чтобы сграбастать его. И пригвоздил продавца индульгенций своим каменным взором. — Вот, — сказал он, подняв болтающийся амулет, как убитую змею. — Поведай мне об этом.* * *
Грохот в дверь, как громадный глухой колокол, вырвал Изабеллу из сна, заставив сесть. Монашка, приставленная спать у ее ног — последняя в нескончаемой веренице тюремщиц, — пробудилась столь же внезапно, испуганно захныкав. Клотильда родом из Франции, дальняя родственница тамошних Маленфонтов. И от теплой мечты виноградников к холодным сырым камням Берика ее занесло стремление семьи избавиться от нежеланного дитяти. Что стало с ее матерью, Изабелла не знала, но Клотильда провела здесь почти всю жизнь, оставаясь мирянкой. Изабелла, пробывшая здесь почти полгода, трепетала при одной лишь мысли о столь длительном заточении в этой каменной скорлупе разврата. — Мужчины идут, — тоненьким голоском проговорила Клотильда. Изабелла знала, что дитя — хоть ей и исполнилось все пятнадцать, на женщину она ни капельки не похожа — страшится прихода мужчин и причины их прихода. Маленфонт, знала Изабелла, принимает деньги и одолжения за разрешение горстке избранных вкушать восторги женского монастыря, и хотя некоторые его обитательницы достаточно охочи и развращены для этого, некоторые все же нет, и Клотильда — одна из таких. — Иди ко мне, — сказала Изабелла, и девочка поспешно бросилась к ней. «Я пленница, — иронично усмехнулась про себя графиня, — однако она прячется за моей ночной сорочкой». Изабелла видела покрытые шрамами предплечья юной послушницы, знала, как девочка напевает под нос гимны и псалмы, когда думает, что ее никто не видит, полосуя собственную плоть во славу Господа и для жертвы Пречистой Девы с мольбой спасти ее. Дверь с грохотом распахнулась столь внезапно, что Клотильда взвизгнула. На пороге черной воро́ной выросла настоятельница. Потрескивающий, чадящий огонек свечи не мог разогнать окутавшие ее зловещие тени. — Вы уходите, — сказала она Изабелле, а потом нахмурилась на Клотильду. — Выходи оттуда, девчонка. — Ухожу куда? — невозмутимо справилась графиня. Настоятельница обратила грозный взгляд к ней, по пути к лицу Изабеллы растерявший всю свою суровость; долгие недели осознания, что словами пленницу не запугать, а палками не побить, подорвали самоуверенность настоятельницы напрочь. — Вас отпускают. Эти слова заставили Изабеллу поспешно одеться с отчаянно бьющимся сердцем. Голова шла кругом. Освобождена. Она последовала за настоятельницей по темным коридорам до трапезной, казавшейся забитой мужчинами. При виде высокого, сумрачного Маленфонта, небрежно облокотившегося о стол и изучающего документ, сердце Изабеллы отчаянно заколотилось. Когда она переступила порог, ее тюремщик поднял голову и улыбнулся. — Государь мой граф, ваша жена, цела и невредима. Изабелла в недоумении воззрилась на Брюса, поглядевшего на нее в ответ и изобразившего чопорный полупоклон. — Добрая жена, — обходительно произнес он. Потом Изабелла увидела Хэла, и сердце ее так подскочило, что едва не выпрыгнуло через горло, и ей пришлось зажать рот ладонью, словно в попытке удержать его. Она прочла предупреждение в прищуре его глаз, увидела громадную бородатую физиономию Сима позади и услышала колоколом раскатившееся в голове слово «спасение». — Муж, — выдавила она. — Так и есть, значит, — провозгласил Маленфонт по-французски с довольной улыбкой триумфатора. — Мы расстаемся по-дружески, так сказать. Брюс обратил к нему ледяной взор. — Покамест, — отвечал и протянул руку. Полупарализованная, чуть запинающаяся Изабелла приняла ее, позволив вывести себя. Подошедший сзади Хэл набросил ей на плечи теплый плащ и капюшон, чтобы защитить от холодного благословения дождя. В темном дворе монастыря стояли лошади и еще группа всадников. Изабелла почувствовала руку, вздергивающую ее длинные юбки выше колен, а потом Сим поднял ее, бормоча извинения. — Затейливого седла нет, графиня. Езжайте, как обычно ездите. Его ухмылка казалась ярким светом, а потом рядом с ней оказался Хэл, и Брюс повел кавалькаду прочь по булыжникам, корням и вонючему мусору улицы, к свежему ветру с моря, кружащему голову и уносящему ее замешательство прочь. — Изабелла, — сказал Хэл, и она подалась к нему, а затем встретила его лицо солеными, ищущими, омытыми дождем губами, впившимися так же яростно, и его собственные, пока лошади не разделили их. — Да уж, — иронично заметил Брюс по-французски, — не обращайте ни малейшего внимания на мое участие, право, ибо подобная галантность и отвага для подобных Брюсам — старая ветошь да гороховая похлебка. Изабелла, рассмеявшаяся от пьянящего осознания всего этого, повернулась было ответить и вдруг услышала голос из тьмы, от крохотной фигурки на большом коне поблизости. — Нельзя конфузить даму. — Псаренок! — сказала графиня и увидела его широченную улыбку, просиявшую во тьме. Потом внезапно, как удар, пришла мысль о Клотильде, томящейся в неволе, как птаха в силках. Но, поняла Изабелла, как бы ни жаждала она освободить девочку, ей нипочем не уговорить этих людей на такое — да и не следует. Она плакала так горько, мешая слезы и сопли с дождем, пока Хэл пытался подвести лошадь достаточно близко, чтобы утешить ее, что пропустила горестное ворчание Киркпатрика. Но Хэл слышал. — Доведется заплатить дьявольскую цену, когда Бьюкен прознает, что его жену умыкнули, аки говяду из загона, а его сребро кануло втуне. И уж вовсе никто не прозевал дождевые брызги ликования Брюса, обернувшегося к ним с ухмылкой до ушей. — Раны Господни, как бы мне хотелось увидеть его лицо, когда ему скажут! Смех его утонул в яростном набате. Разрушитель Миров, смятенно подумал Хэл. (обратно)Глава 11
Хердманстонская башня Праздник Святой Теневы, Матери Кентигерновой, июль 1298 года Она пробудилась под пение птиц в окружении легкого аромата свежей зелени камыша, вливающегося через высокое окно с распахнутыми из-за ночной духоты ставнями. Однако прошел дождь, жара спала, и насекомые с жужжанием мельтешили туда-сюда. Но грубая беспардонность древесного дыма попрала краткий миг небесного блаженства. Ее нога была поверх его ноги, покрывало отброшено в сторону; он пробудился, когда она смотрела на пульсацию жилки у него на шее. Ложбинка шрама от оспы поманила ее взор вниз вдоль мускулистого плеча к другому шраму — более глубокому бледному рубцу. Рана от ристалищного копья — по счастью прошедшего вскользь; ударь оно в полную силу, оторвало бы руку целиком. При мысли об этом кожа у Изабеллы похолодела, покрывшись мурашками. Даже за столь краткое время она изучила тело этого мужчины почти так же хорошо, как собственное, каждую родинку и каждый шрамик — а шрамов немало, заметила она, поддразнивая его за беспечность. — Но ни единого на моем лике, ласточка, — ответил Хэл чуть ли не с прискорбием. — У каждого, кого считают великим рыцарем, лицо вроде смятой льняной простыни, насколько я ведаю. Он зашевелился, проснувшись от ее игривых пальцев, и наконец закряхтел, когда она дошла до его ажитации. — Мощи Христовы, женщина, нежли нет церковных законов, управляющих этим? — гортанно проворчал Хэл, когда она накрыла его собой. — Коли есть, мы обречены. — Дни пиров, дни постов да регулы, — пробормотала Изабелла. — Тягость, отнятие от груди и сорок дней после родов. Прекратив лобызать его, она подняла глаза. — Я знаю их все, ибо сие дало мне возможность уклоняться от супружеских обязанностей не реже раза в неделю по каноническому праву и чаще того с помощью ухищрений. — Уже обречены, — слабо простонал Хэл, — так что грех останавливаться теперь. — Поганки, — пробормотала Изабелла, и Хэл, не без труда собравшись с мыслями, в конце концов нашел ответ. — Мухоморы, — выдохнул он и тотчас же парировал, пока не вылетело из головы. — Сучка. Изабелла тут же остановилась, игнорируя негодующие возгласы Хэла. — При подобных обстоятельствах, — чопорно заявила она, — мог бы подыскать чего получше. — Ты просто не знаешь, — уколол он, и Изабелла нахмурилась, рассеянно вернувшись к тому, чем занималась, хотя и без энтузиазма, ломая голову над загадкой. — Течка, — в конце концов проговорила она, тут же завизжав, когда Хэл перевернулся, опрокинув ее на спину. — Нет, — выдохнул он, меняя изгиб губ, пока она не начала тихонько охать. — Я победил. Вязка. Случка для сохранения породы — к месту, подумала Изабелла, порывисто вдыхая, когда он принялся вспахивать длинную глубокую борозду, отчего ее сознание надолго потонуло в ослепительно-белом сиянии. В последовавшей за этим дремоте, чувствуя кожей приятно холодящий пот, она смутно слышала топот и откашливание внизу. Господская спальня в Хердманстоне расположилась на вершине квадратной башни, и выше ее возносится только зубчатая галерея, подняться на которую можно лишь по приставной лестнице. Двери в покое государя нет, и подниматься к нему надо снизу по винтовой лестнице, выходящей к мощной резной балюстраде. В нем есть собственное отхожее место, крепкая дубовая кровать с четырьмя столбами и тяжелыми выцветшими занавесами — синими, с золотыми совами, увидела Изабелла, — столом, стулом, лавкой и двумя большими сундуками; но что лучше всего для Изабеллы — одним окном в человеческий рост с врезанными сиденьями, позволявшими усесться с шитьем на ярком солнышке. Такого могла пожелать женщина, и Хэл подтвердил это. — Моя мать, — поведалон. — Она умерла, когда я был юн, но даже тогда знал, что отец ни в чем не может ей отказать — даже в такой блажи, как это окно, проделавшее дырищу в доброй крепкой стене. Дыра и в самом деле немалая, с бархатными занавесами, выцветшими от былого малинового до пыльно-розового цвета. И снабжено прочными ставнями для таких дней, когда в Лотиане хлещет дождь, то есть, почитай, на каждый день. Ниже, в футе от верхней площадки, спал Псаренок, будто сторожевой пес, и если он и слыхал их отчаянное пыхтение и ее визги, это не имеет особого значения, ибо большей приватности Изабелла не знала за всю свою жизнь — и это больше, подумалось ей, чем она заслуживает. Ниже расположились главная зала и главный вход, укрепленный стальными вратами и толстой дверью в двадцати футах вверх по толстой стене, до которых приходится добираться по мощенной булыжником дорожке, а затем через съемную деревянную платформу. Еще глубже находятся подземные этажи — два глубоких яруса прохладных, темных подвалов, а вокруг широкого квадрата — крепостная стена высотой в четыре фута, окружающая, помимо прочего, конюшни, пивоварню, пекарню и кухни. Рядом пристроилась каменная часовня, одиночество которой делит только высокий крест поблизости. Нарочитое покашливание стало громче. — Да выходи уж, олух, — буркнул Хэл, уже натянувший рубаху и штаны, бросив предупреждающий взгляд на Изабеллу, надувшую губы и накрывшуюся покрывалом как раз в тот момент, когда здоровенная всклокоченная черная голова Сима поднялась над уровнем пола. — Истинно, государь Хэл? Сказывали, хотите выступить поране, — проворковал он, дружелюбно кивая Изабелле. — Графинюшка. Разумею, отчего он мешкотный. — Не могу же я отправить мужа на войну полувзведенным, как плохо натянутый лук, — ответила она беззаботно, насколько сумела, и была вознаграждена смехом Сима — утробным уханьем из глотки запрокинутой головы. — Славно сказано, графинюшка, — изрек тот, снова скрываясь из виду. Изабелла смотрела, как Хэл облачается в доспехи, от кольчуги до гербовой накидки, только что сшитой двумя главными женщинами хозяйства — Пивной Мэгги и Хлебной Бет, — и наконец оборачивается к ней, внезапно охваченный неловкостью и косноязычием. — Тебе надобно позавтракать, — упрекнула она, и Хэл кивнул, как дитя. — Коли придет беда… — начал он, и Изабелла прижала палец к его усатой губе. — Здесь я в безопасности, — заявила она, — будь то от англичан или шотландцев моего муженька. Ты оставил мне Уилла Эллиота, доброго человека, не говоря уж о Псаренке. При упоминании этого имени оба примолкли. Псаренок выглядел все так же, но и Хэл, и Изабелла знали, что убийство человека в лазарете что-то надломило в мальчике, и пришедший ему на смену мужчина пока с убийствами не обжился. Они слышали, как паренек вскрикивает во сне, будто встревоженный щенок; потому-то Хэл и решил оставить его в поместье. К собственному изумлению, он обнаружил, что уже давненько не вспоминал о Джоне, а о жене и того дольше; это осознание обожгло его стыдом. И все же в последние дни у него на уме были заботы посерьезнее, в качестве оправдания твердил он себе. Теперь он государь Хердманстонский, призванный на войну Брюсом для службы в войске под командованием Уоллеса. Длинноногий уже пришел, катясь на север, аки гроза, а Хэл, эгоистичный, словно неоперившийся юнец, задержался из-за Изабеллы, пропустив рандеву с рослинцами под началом сэра Генри, только-только отпущенный к любимой жене и чадам, чтобы снова выступить в поход в роли бунтовщика. Теперь Генри был с Брюсом в Аннандейле, отрезанный от главных сил под началом Уоллеса — и Сьентклеры Хердманстонские выедут на север, дабы отыскать войско под Фолкерком, пока не нахлынула волна англичан, отрезав Хэла от остальных. Первые всплески этой волны уже докатились сюда — англичане под командованием епископа Бека, посланные, как первый мстительный удар Длинноногого, бесчинствовали в Лотиане, вознамерившись взять удерживаемые мятежниками замки Дирлтон и Танталлон. Рослин для них пока слишком силен, а Хердманстон чересчур мал, чтобы утруждаться; Уилла, Псаренка и старого Вулла Бранника будет довольно, чтобы обеспечить безопасность башни. Но страшил Хэла не Бек с буйствами лупов. Бьюкена сдерживает тот факт, что Хердманстон на одной с ним стороне, но это тонкая сворка. Если она лопнет и он ринется мстить, вялым обменом болтами, стрелами и угрозами дело не ограничится. Бьюкеном будет двигать глубокая ненависть ограбленного рогоносца, неустанная месть, в первую голову и заставившая его отправить Мализа за Изабеллой. Хэл услышал голос Древлего Владыки, будто раздавшийся над самым ухом: «Он зайдет сбоку, аки кочет, дерущийся на куче навоза». Даже из мрака… А его здесь не будет, чтобы защитить ее. Эта мысль углями полыхнула в его глазах, и, увидев это, Изабелла утолила боль спокойной улыбкой. — И потом, — беззаботно добавила она, — кто же осмелится пойти на Мэгги и Бет в уповании остаться в живых? Хэл улыбнулся, вспомнив, как она сама поладила с ними. Пивная Мэгги заправляет пивоварней. Руки у нее мускулистые, как окорока, от размешивания сусла, задница как круп дестриэ, а груди такие, как выразился Сим, что с них можно разглядеть Трапрейн-Лоу[622], коли доберешься до вершины. Как только сдует пену с усов, присовокупил он, она на редкость угреет в холодную ночь. Хлебная Бет ведет пекарню, стряпая для всей цитадели. Краснощекая и грудастая, как голубь-дутыш, свои волосы она так давно скрывает под плотно намотанным головным платом, что никто не знает их цвета — даже Сим, однажды сознавшийся, что это единственная вещь, которую она никогда не снимает. Они покружились, принюхиваясь, как сучки к диковинному животному, когда Изабелла только-только прибыла, потом, дав ей день-другой передышки, испытали ее на прочность. Начала Пивная Мэгги, когда Хэл и Изабелла отправились к каменному кресту, якобы чтобы воздать дань уважения Древлему Владыке, но притом, как она догадалась, каким-то сверхъестественным образом представить ее остальным лежащим под ним. Изабелла стояла рядом с ним под сенью большой каменной колонны с гробовым колоколом[623] и его цепью — отсоединенной, как она узнала, после того, как в неистовую грозу однажды ночью тяжелый колокол начал трезвонить, подняв всех в трепете на ноги, — уповая получить какую-то весточку из могилы. Но не услышала ничего, кроме ветра и чириканья птиц, ни слова привета, ни порицания мертвых, даже недавно почившего самого Древлего Владыки, подмигивавшего и склабившегося ей в тот день во временной часовне на Абби Крейг. Потом Пивная Мэгги притопала с бурым глазированным кувшином в одной руке и в ответ на вопросительно приподнятую бровь Изабеллы сдвинула свои две. — Первую пробу нового варева, — гаркнула она, — снимает Древлий Владыка. И впала в ошарашенное недоумение, когда Изабелла, взявшись за кувшин, бережно, но твердо отобрала его и вручила Хэлу. — Первую пробу нового варева, — сказала она, когда Хэл, уловив намек, отпил и вернул сосуд ей, — снимает владыка Хердманстонский. После этого можешь поливать им все могилы, какие пожелаешь. Улыбнувшись при этом воспоминании, Хэл разжал кулак и протянул амулет на кожаном ремешке; Изабелла вопросительно выгнула бровь дугой. — Обещал ли жалкий продавец индульгенций воздаяние или только Длань Господню? — спросила Изабелла, а Хэл, подскочив к ней, взъерошил волосы и ласково поцеловал в губы. — Все мы в Длани Господней, — ответил он, и она крепко прижала его к себе. Королевство подобно свече, мерцающей на крепком ветру Эдуарда Плантагенета, и Хэл понимал, что следующие несколько дней и недель все решат. «Я не покинул бы ее здесь ради меньшего», — сказал он себе, но говорить этого вслух не требовалось. И все же даже в сию секунду, понимал Хэл, Бьюкен больше злоумышляет о том, как согнуть в бараний рог ничтожного лотианского владыку, нежели обо всех Плантагенетах в христианском мире; но отбросил эту мысль, отдавая медальон. — Сие хранит тайну помазания в короли, — с улыбкой сказал он Изабелле. — Храни его. Отдай Брюсу, если… дела обернутся скверно. Служи ему на славу, дабы разрешить его загадку, как служил я. Она не поняла, что это означает, но зажала свинцовый медальон в руке, когда Хэл повернулся и, пригнувшись, осторожно зацокал вниз по истертым ступеням в своих подбитых железными гвоздями сапогах. Изабелла услышала крики, ржание и лязг доспехов и наконец, закутавшись для благопристойности в одеяло, подошла к большому окну. Внизу Хэл и Сим уже сидели верхом в окружении пары десятков всадников — всех местных мужчин, прибывших, чтобы присоединиться к нему. «Я должен идти, — твердил себе Хэл, спиной чувствуя жар ее взгляда даже после того, как башня скрылась из виду за холмом. — Других Сьентклеров для этого не осталось». Если повезет, думал он про себя, сражения не будет и англичане, терзаемые голодом и жаждой, будут вынуждены отложить кампанию до будущего года. Уоллес не дурак и отнюдь не рвется ввязываться в сражение, которого так жаждет Длинноногий, — особенно сейчас, когда английский король наконец добрался до Шотландии с величайшей армией на свете, включающей сотни воинов тяжелой кавалерии и несметное множество пехоты, — почти сплошь валлийцев или гасконцев и даже толику немцев. Изабелла провожала взглядом удаляющуюся кавалькаду лотианцев; самые юные, впервые выступившие на столь великое начинание, прямо улюлюкали от радости. У Изабеллы же щемило сердце от скорби о жизнях, которые могут вырвать у всех них без остатка. А после… холод этого сознания, нежеланного и тягостного, закрадывался исподволь и подспудно, и закрыть на него глаза было невозможно. «После будут ласковое солнце и тихая жизнь с человеком, которого я полюбила всем сердцем, ставшего для меня таким же светом в окошке, как и я для него». Но, даже согревая себя этой мыслью, она знала, что это ложь. Чем бы дело ни кончилось, победой или поражением, после придет расплата — и ей вовсе не хотелось навлекать на Хердманстон бурю сокрушительной ненависти, на которую способен Бьюкен. И все же еще есть надежда на иной исход, какой бы жалкой и потерянной она ни была. — Истинно, — произнес голос, — тяжко глядеть, как муж уезжает на войну, государыня. Обернувшись, Изабелла увидела наверху лестницы Пивную Мэгги и Хлебную Бет; из рук первой свисала какая-то ткань. — Вам будет недоставать Сима, — нашлась она и увидела, как обе с улыбками переглянулись. — Порадовалися, углядевши евойную спину, — заявила Мэгги. — Умаял нас обеих, кобель вонючий. На взгляд Изабеллы, они вовсе не выглядели умаявшимися, а затевать с ними очередную игру в испытания ей вовсе не хотелось. К ее изумлению, Мэгги протянула к ней руки с тканью, и теперь Изабелла увидела, что это платье. — Сладили вот вам сие, — застенчиво проговорила она, — видючи, как вы приехавши без убранств и, слыхали мы, отказавшись надевать старые уборы госпожи. Изабелла невольно бросила взгляд на сундук с вещами. Отказаться от предложения было нетрудно; ей вовсе не хотелось щеголять в обносках усопшей жены Хэла. Она приняла платье, заранее зная: то придется точно впору. Сшито из доброго холста, покрашенного в небесный цвет, украшено лентами и побрякушками. Сбросив одеяло на глазах у них, Изабелла натянула платье. — Божечки, государыня, — завистливо вздохнула Мэгги, — вот бы мне быть стройной, аки вы… Была я, да уж давнешенько. Чрез меру многия чада сгубили сие. — Да отродясь ты не была стройна, — насмешливо поддела Бет. — Ты была сущая пышка, и всякий молодец в округе хотел подержаться, оттого-то и чрез меру многия чада. Мэгги засмеялась, заколыхав телесами и признав, что недостатка в ухажерах не знала. Потом, увидев скорбь во взгляде Изабеллы, вдруг поняла, что эта женщина променяла бы стройность на чад не моргнув глазом, и тотчас прикипела к ней сердцем. — Просто чудо, — медленно проговорила Изабелла, и Бет кивнула. — Надобна исподница, однако. У меня есть одна впору — да иные малые вещицы. Таперича, как ваш муж отъехавши, можете успеть в оных походить. Обе женщины захохотали, громко и пронзительно. Изабелла помедлила, но, не углядев в смехе злого умысла, присоединилась к ним. А потом задумчиво оглядела платье. — Ленты и некоторые безделушки придется убрать. Спасибо за чудесную работу и добрые слова, но я скорее ягненок, чем такая овечка. — Истинно, — на удивление серьезно согласилась Мэгги. — Я чаяла, аже вы не заноситесь, графиня там али нет. И была правая, а, Бет? Ленты убрать нехитро, ваша милость. Внезапный порыв ветра донес крепкий запах гари, заставив Изабеллу вскинуть голову, как борзую, взявшую след зайца верхним чутьем. — Что ж, — проговорила она, снимая платье и натягивая старое, в котором и приехала. — Покамест сгодится и это; ваше я приберегу до лучшего случая. Работа ждет, разве нет? Англичане совершили набег за провизией, подойдя к самому крепостному валу, окружающему замковый двор, где сгрудились скот и отчаявшийся, напуганный люд, пока мужчины осыпа́ли врага болтами и стрелами и получали их обратно вкупе с горящими факелами. В конце концов пивоварня и пара других строений загорелись, но, как зычно возгласила Мэгги: «Мои чаны не спалишь!» Еще бы, ведь они каменные, так что сгорело только окружающее их здание. Отчасти именно это и задержало здесь Хэла, хотя Изабелла улыбнулась лукавству этого заявления. Он остался, потому что хотел ее ничуть не меньше, чем она хотела его, стремясь до капли испить радость каждого мгновения, какое у них еще оставалось. И теперь она зрела оставшиеся руины — во всех смыслах. Пожарища в Хердманстоне расчистили, каменные грузы, державшие тростниковую кровлю, отыскали и вытащили. Теперь вокруг бродильных чанов будет возведено новое здание, но для этого нужны рабочие руки, а мужчины ушли на войну. — Помощи из Дирлтона или Танталлона мы не дождемся, — объявила Изабелла, — ибо епископ Бек проявил свое христианское милосердие, спалив их дотла. Мэгги и Бет переглянулись; этого они не знали, поскольку Хэл услыхал о том только вчера вечером и сказал Изабелле уже перед самым отходом ко сну. — Так что, — мрачно сказала она, — остаемся только мы. Я не дока по части построек, но осмелюсь предположить, что найдутся люди — и вы в том числе, — умеющие вить плетни. А я могу хотя бы месить в кадке грязь с навозом. И обе женщины с восхищением последовали за ней по лестнице с кротким обожанием, как пастушьи собаки.Храм Листон, прецептория рыцарей Храма Праздник Святой Теневы, Матери Кентигерновой, июль 1298 года Его армия расползалась, как топленое сало, и чудовищные убытки заставляли Эдуарда скрежетать зубами. Валлийцы — дерьмо собачье, думал он про себя, хоть и вынужден был признать, что решение привести несколько тысяч валлийцев было единственным способом устрашить скоттов, получивших в распоряжение целый год, чтобы пыжиться и похваляться своей победой. «Победа, Боже… я им покажу победу», — думал Эдуард, хоть и все добрые англичане давным-давно отбыли свои сорок дней службы и ни под каким видом не желали продлить оную. И все же скрупулезное снабжение сохранившихся остатков армии расползалось, как дурно свитая тетива. Корабли, поднимавшиеся по Форту, не прибывали к месту назначения, фуражиры наскребали сущие крохи, а этот Уоллес — умнейший из врагов, противостоявших Эдуарду, не оставляет за собой ни кочана капусты, ни колоска ржи. И драгоценные туши скота можно перечесть по пальцам — не считая гнилых свиней, брошенных в колодцы. Как можно попрятать столько коров и овец? Выйдя из своего затейливого шатра, Эдуард встал под знаменами в нарочитой позе перед собранием государей. Английские леопарды над ним утомленно поникли, запутавшись в золотом оскале знамени, известном всем как Драконово и означающем войну без пощады. Слева и справа висели хоругви святых Джона Бевелийского и Катберта Даремского — ибо в смертоубийственной войне хватить лишку со святыми заступниками невозможно. Он потер руку в месте удара отравленного кинжала гашишина[624], не прикончившего Эдуарда только милостью Божией. Шестнадцать лет назад, сообразил король, почти не было с той поры ночи, чтобы он не просыпался в холодному поту, видя перед собой безумный взор темнолицего сарацина, которого удушил голыми руками. Сам Бог простер тогда над ним свою Десницу, хотя Он мог бы и умерить месяцы ползучей хвори, последовавшей за этой единственной царапиной. Эдуард оглядел взмокшее собрание. Святая Задница Господня, как же он ненавидит большинство из них и как же они ненавидят его! Стоит ему только взглянуть на угрюмое лицо, так и подмывает унизить его, повергнуть этого государя на колени. Норфолк, Ланкастер, Суррей и все прочие, мнящие себя превыше короля, отпрыски родов, тщившихся подорвать, а там и низвергнуть правление его отца, повергнув всех в долгую кровавую усобицу. Не удовлетворившись тем, они пытались проделать то же и с ним. Особенно Перси и Клиффорд, свирепо подумал Эдуард, считающие себя помазанниками Божьими на севере вкупе со всеми государями, ищущими его благорасположения и цепляющимися за свои земли в Шотландии, однако готовые попрать свои клятвы, едва король повернется спиной. Он слишком добр — вот в чем проблема. Даже юному Брюсу нельзя было доверять, но в том почти наверняка повинны нытье его отца и влияние строптивого старого каверзника, его деда. Юный Брюс импонировал Эдуарду. «Есть в нем что-то от меня самого в возрасте графа Каррикского», — думал он. Если б только удалось его склонить забыть эти глупости насчет короны, добавил он про себя, ибо есть лишь один властелин в Шотландии. И в Англии. И в Уэльсе. И в Ирландии. Святая Задница Господня, он принудит Уоллеса отправиться на плаху для четвертования, а страну — понять, что есть только один король и это Эдуард Божьей Милостью король Английский. Ради чего? Эта мысль всегда проскальзывала тихой сапой, как Дьявол, притаившийся за плечом. Ради сына, заученно ответил он, но поморщился. Пятнадцатилетний. Еще юный, но единственный выживший из всего выводка. Слишком надолго брошенный в одиночестве после смерти матери… как всегда, воспоминание об Элеоноре встало перед ним, и длань смерти схватила за горло. Долгое одиночество странствия, дыра в его жизни на ее месте по-прежнему черна и бездонно глубока, и ее не заполнить никакими каменными крестами в память о ней, сколько б их ни было. Пусть отрок еще малость потешится, плетя лозы и копая землю, но в конце концов он взойдет к величию, постигнет, что значит быть наследником Короны, или, Святая Задница Господня, Эдуард заставит его… А истина в том, что Господь возложил на него миссию — спасти Святой Град. Когда валлийцы и скотты будут блюсти его пределы с севера и запада, он сможет отдать все силы крестовому походу; хотя реальность Паладина Божия оказалась вовсе не такой, как он думал. Собравшиеся государи увидели противоестественно высокого, чуточку сутулого тощего человека с длинными конечностями. Былая золотая шапка его волос стала белой, как лебяжий пух, тщательно уложенные кудри над ушами растрепались, а борода закручивалась от подбородка, как кривая сабля. Под припухшими глазами набрякли лиловые мешки, потому что его камер-лакеи оставили все свои мази и пудру в потерянной обозной повозке и не могут создать иллюзию его здоровья и энергии. Теперь каждый видит, как осунулось его лицо, кожа на скулах натянулась, а одно приспущенное веко придает ему лукавый вид, будто он того и гляди проведет их всех через круги Ада. Впрочем, подумал Де Ласи, это может быть не так уж и далеко от истины. — Вы желаете совета, государи мои, — бесстрастно произнес Эдуард, не скрывая неудовольствия. Де Ласи покашлял. Даже будучи чуть ли не доверенным лицом короля, граф Линкольнский не знал, далеко ли простирается эта дружба. — Армия голодает, — заявил он. — Дезертирство процветает. Валлийцы… бесятся. Кто-то хихикнул, и винить его Эдуард не мог. «Бесятся» — сильное преуменьшение того, что вытворяют эти черные горные гномы даже друг с другом. Похоже, уже некоторое время единственные сражения на шотландской почве разыгрываются между пьяными валлийцами и всеми, кто подвернется им под руку. В конце концов английские рыцари атаковали самых задиристых и перебили восемьдесят человек; теперь валлийцы ворчат о переходе на сторону скоттов. А все его собственная вина. Корабль прибыл, и ожидавшие еды обнаружили, что весь его груз составляет вино. Чтобы сдержать недовольство, Эдуард повелел выдать его войску; валлийцы насосались на пустой желудок, и руки у них зачесались. Пришлось позволить Эмеру де Валенсу возглавить кавалерийскую атаку, дабы восстановить порядок, и валлийцев проредили. Теперь остальные дуются. «Дьявол с ними со всеми, — свирепо подумал Эдуард. — Пусть валлийцы дезертируют к скоттам — хотя бы тогда я буду знать врага и смогу загнать их обратно в задницу к Сатане, откуда они и явились на свет». Первым делом найди своего врага. — Никаких вестей, граф мой Линкольн? Де Ласи расслышал не только насмешливые нотки, но и подспудное отчаяние вопроса. Если армию скоттов найти не удастся, да притом в ближайшее время, придется уходить на юг, чтобы повторить все это сызнова в будущем году. А позволить себе это английская держава и ее король не могут, понимал Де Ласи. — Сэр Брайан де Джей и его храмовники ищут их, государь мой король. Ну, хоть какое-то подспорье для Короны — горстка английских тамплиеров, ищущих королевского благорасположения, пришли, дабы присоединиться к Длинноногому под тем видом, что своими действиями шотландские крамольники исторгли себя из лона Церкви. Очень кстати, что епископ Бек охотно согласился, хотя убедить удалось немногих, и шотландские храмовники желанием вступить в его ряды отнюдь не пылают, хотя их магистр Джон де Соутри и присоединился к армии. Не имеет значения: несмотря на скудное число, тамплиеры пользуются грозной репутацией, а уж раз во главе выступают сразу двое магистров, то сам Господь на стороне английского войска, сейчас расползшегося по землям прецептории Храма в Листоне в ожидании вестей о скоттах. И все же армия, созванная ценой немалых затрат и трудов, тает с такой же скоростью, с какой растут расходы, подумал Эдуард. Раны Христовы, да он призвал людей еще в феврале, когда сам воевал во Фландрии, отрядив их на север в подкрепление де Варенну. На Рождество было 750 копий и 21 тысяча пехотинцев, а к концу марта осталось лишь пять тысяч, так что все пришлось повторить сызнова, прибегнув к валлийцам и иноземцам. Он хотел покончить с этим. Ему предстояла женитьба, за которую пришлось дорого заплатить перемирием с Филиппом Французским, получив шестнадцатилетнюю невесту по имени Маргарита. Христе, ему уже под шестьдесят, однако она досталась с настоящим сокровищем — повозкой золота и ключом от города Гиень, так что он может позволить себе пропускать смешки мимо ушей. Конечно, у него за спиной, в лицо никогда, — но он все равно их слышал. — Решу завтра, — изрек Эдуард, недовольный собственной примирительной интонацией, и отвернулся, пока кто-нибудь из государей не надумал сдуру настаивать. Вернувшись в прохладу шатра, он рухнул в курульное кресло и хлебнул вина. И до конца дня в гнетущей жаре, в пелене древесного дыма и запахов кожи, конского навоза и дерьма армия сидела, ворчала и мечтала о еде. Всадники прибывали и убывали; солнце устало клонилось к великолепной гибели, и в факелах заскворчали гибнущие насекомые. Потом, словно благословенный дождь, из тьмы появились всадники, понукая понурившихся коней к королевскому шатру. Они были шотландцами, и стража отнеслась к ним с подозрением, но в конце концов их предводители, чумазые от пота трудной поездки, предстали пред ликом короля. Хотя шотландские нобили граф Патрик Данбарский и Жильбер д’Умфравилль, граф Ангус, и претендовали на то, что они такие же англичане, как сам Эдуард, тот смотрел на них с озлоблением, не доверяя ровным счетом никому. Они увидели синеву вокруг его глаз, зловеще набрякшее веко и перешли к делу без экивоков. — В тринадцати милях, — провозгласил Данбар. — В Каллендарском лесу, — присовокупил д’Умфравилль. — Под Фолкерком. Эдуард позволил себе улыбнуться. Вероломство, как всегда, пустило свои козни в ход, и он отыскал Уоллеса. (обратно)
Глава 12
Каллендарский лес, близ Фолкерка Праздник Святой Марии Магдалины, июль 1298 года Они пели, напомнив Хэлу, как он последний раз слышал голоса, воздающие хвалу Господу, — в Стерлинге, когда они сладостно разносились в воздухе, напитанном запахами взрытой земли и свежей крови, смрадом лошадиного и человеческого дерьма и пронзительной, тонкой едкой вонью страха. — Брабантцы, — со знанием дела проворчал Сим. — Справляют мессу. Вся английская армия справляла мессу посреди красочных шатров, будто никуда и не торопилась. Она нахлынула, словно исполинская неспешная волна, излучая ощущение такого числа и мощи, что люди вокруг Хэла заерзали в седлах, обеспокоенно переглядываясь. Стратерн и Леннокс, увидел он, Ментит и Стюарды задвигали челюстями, пытаясь выдоить слюну в пересохшие рты. Были здесь и свиты Каррика и Комина, заметил Хэл, но ни единого человека графа Бьюкенского, кого-либо из Баденохов или Брюсов. Уоллес увидел, как вытянулось лицо лотианского государя при взгляде на крохотную — Гвозди Господни, да просто жалкую — месни шотландской конницы. «Истинно так, юный Хэл, у тебя есть основания для беспокойства», — с горечью подумал он. У них у всех есть веские причины не казать сюда и носу, не меньше, чем у Бьюкена, который лично привел своих людей не одну неделю назад, взгромоздившись в седло, как мешок мокрого зерна, издерганный, как мокрый кот. — Душой я с вами, сэр Уильям, — заявил он, — но я должен поддержать порядок на севере. — А надо ли его поддерживать? — возразил Уоллес, а Бьюкен лишь улыбнулся, пренебрежительно взмахнув ладонью. — Порядок нужен всегда, — вежливо ответил он. — Храни вас Господь и держи англичан в отдалении. Кстати, где они? — За пеленой поднятого ими дыма, — лаконично ответил Уоллес и проводил взглядом уезжающего Бьюкена, неустанно бросавшего взгляды то влево, то вправо. Высматривает лотианского владыку, подумал Уоллес, так что мне ведомо, какие дела влекут Бьюкена и куда. Ну, хотя бы его раздор с женой и ее новым любовничком — искренний, хоть и эгоистичный повод, а не какая-то убогая отговорка, как у других. Но их отсутствия не могли не заметить нобили, набравшиеся духу прибыть в своих изысканных убранствах верхом на облаченных в доспехи конях — в том числе нескольких устрашающих и дорогих дестриэ, — чувствуя, как их недра того и гляди дадут течь.Nun bitten wir den Heiligen Geist
Um den rechten Glauben allermeist…[625]
Dass er uns behüte an unserm Ende,
Wenn wir heimfahr’n aus diesem liende[626].
Kyrieleis![627]
* * *
От приторности причастного вина, чересчур сладкого на вкус Эдуарда, во рту все слиплось. Ребра ныли: вчера вечером из-за придурка конюха на него наступил его же собственный конь, и короля ничуть не утешало, что теперь конюх нянчится с собственными ребрами и напрочь исполосованной кнутами спиной. Правду говоря, мрачно размышлял Эдуард, ребра просто ноют сильнее, чем все остальное: спать на сырой земле, завернувшись в плащ, как простой пикинер, на диво благотворно для репутации, но отнюдь не на пользу суставам. Stabat Mater dolorosa, luxta crucem lacrimosa, dum pendébat Fílius[628]. Храмовники в день чествования их излюбленной святой — самой Пречистой Девы — пришли почти в такое же неистовство, как безумные брабантцы, подумал Эдуард с хмурой улыбкой. Добро, пусть же Матерь Скорбящая не покидает своего поста у Креста, коли сие повергает сэра Брайана де Джея и брата Джона де Соутри в воинственное исступление. У скоттов просто недра протекут, когда храмовники пойдут в атаку во всем своем бело-черно-красном великолепии со свитами — пусть и небольшими, но чернополосный Босеан, несомненно, стоит еще сотни рыцарей. Ветер донес со стороны рядов мятежников отдаленное вяканье, и Эдуарду не требовалось прислушиваться, чтобы понять, что они кричат. Берик! Будто он устроил там какую-то кровавую резню. Погибло всего-то несколько сотен. Тысяча, по крайней мере, — ничуть не больше, чем в любом взятом городе во время кровопролитной войны, и заслуженно, за сопротивление. Какие там реки крови, как расписывают эту оказию скотты… Возвышенные голоса вырвали его из раздумий, и король обнаружил, что граф-маршал пререкается с Сурреем; спор уже дошел до этапа напирания грудью и тыканья пальцами, но оба тут же притихли, сопя и зыркая друг на друга, стоило лишь Эдуарду притопнуть, шаркнув шиповыми шпорами по грязной траве. — Государь мой король, — на него устремил свои водянистые глаза Биго, граф-маршал Англии. У него за спиной, надутые, как получившие нагоняй малолетки, Херефорд и Линкольн в красочных нарядах источали ядовитые взоры. — Что? — свирепо вопросил Эдуард, испытав удовольствие, когда те скривились и зашаркали ногами, как нашкодившие мальчишки. — Я думал дозволить людям малость подкрепиться перед атакой, — проворчал Биго, и при виде насупленных бровей над полуопущенными веками живот у него скрутило. — Глупо, — перебил де Варенн, собрав все свое достоинство графа Суррейского, дергая белой стрелкой бороды над стальным латным воротником. — Нас отделяет от мятежников узенький ручеек. Что, коли они ринутся на нас, пока мы будем сидеть на задницах и чавкать? Эдуард ощутил давление в висках, словно золотой венец впился в кольчужный чепец. Святая Задница Христова, неужто у него одного тут сохранился здравый смысл? — Нынче Святой День, — сказал он Биго мягко, как шелк, и знающие его нрав внутренне напружинились. — Так что, может статься, Пречистая Дева явит чудо с хлебами и рыбой — иначе, государь мой маршал, какое богопомазанное подкрепление можете вы предложить людям? Граф-маршал несколько раз открыл и закрыл рот, но Эдуард уже обрушился на торжествующе улыбнувшегося де Варенна. — Что же до вас, то нечего склабиться, как писающая мулова мокрощелка в зной, — рыкнул он. — Весьма прискорбно, что вы не были столь осмотрительны при первой встрече с сим Уоллесом, иначе мы не угодили бы в эту передрягу. Граф Суррейский насупился, лицо его потемнело от прилива крови, отчего сердце Эдуарда подпрыгнуло в свирепом ликовании, и он вогнал нож поглубже. — Конечно же, он не набросится на нас здесь, ибо мы не зажаты с трех сторон, как вы исхитрились в Стерлинге. — Мы атакуем тотчас же, — поспешно заявил граф Линкольнский, отвесив головой аккуратный поклон. Углядев во взоре де Ласи вкрадчиво переданное предупреждение, Эдуард взял себя под уздцы; негоже настраивать против себя каждого великого государя сей державы в утро сражения. — Конечно, атакуете как миленькие, — проворчал он, взмахом руки приказывая оруженосцу подвести Байарда. — Вон там огр, на поиски которого мы потратили на пустой желудок не одну неделю. Так убейте чудовище, во имя Господа и всех его святых, и покончим с этим делом раз и навсегда. — Аминь, — с этими словами Линкольн развернул коня.* * *
Армия зашевелилась, как гигантский валун, покачивающийся на вершине горы. Аддаф ощутил это даже своим подтянутым брюхом, чувствуя, как поясная пряжка тарахтит о хребет. Истекающие жиром каплуны и пироги с золотистой корочкой, щедро начиненные грибами с луком, супы, заправленные молоком и яйцами, — уж коли мечтаешь о еде, так уж лучше мечтай по-крупному, а не о ржаном хлебе и гороховой похлебке. — Капитан Хейден! Зычный окрик исходил от блистательной фигуры — сплошь багрец и золото — на коне в доспехах. Все его знамена и снаряжение были украшены золотым цветком и усеяны крохотными золотыми кинжалами на ярко-алом фоне; как сказал Хейден Капитан, не прозеваешь и с тысячи шагов — надо быть, сие государь Фиц-Алан Бедейлский. В свите епископа Бека он назначен millinar — командиром пехоты — и относится к этому поручению всерьез. — Капитан Хейден, — тщательно выговорил он по-английски, держа шлем под мышкой одной рукой, а второй сдерживая боевого коня, рвущегося следом за остальными, уехавшими вперед. — Держите свои позиции и вставайте между лошадьми и врагом. Исполняйте, живо! — Ваша честь. — Хейден Капитан приложил кулак к груди в знак приветствия и, когда рыцарь поехал прочь, с кривой ухмылкой обернулся к остальным валлийским лучникам: — Сей человечишко хочет, чтобы мы не путались под ногами у этих плясунов на жирных пони, — зычно возгласил он по-валлийски. — Пусть же гордецы позабавятся, а после мывыиграем для них сечу. Nyd hyder ond bwa. Нельзя положиться ни на что, кроме лука. Все валлийцы с ухмылками зашумели, а Аддаф проверил свои снаряды. Ему потребовалось немало времени, чтобы изготовить новые стрелы с чудесным павлиньим оперением взамен брошенных при Стерлинге; при воспоминании о безоглядной панике того дня, когда он выбрался на берег безопасной стороны реки, как полузахлебнувшийся пес, Аддаф невольно поежился. В тот день он лишился своего колчана и стрел, башмаков и доброго поддоспешника — тяжкая утрата для человека почти без средств. Потрогал новые кожаные башмаки, висящие на шее как амулет, ведь не стоит рисковать потерять их на поле, изрезанном топкими ручьями, в чавкающей грязи. На сей раз он не прогадает. На сей раз его ждет прибыток. Рыцарь Бедейл пробирался сквозь толчею пикинеров и лучников, повторяя свое послание, когда отыскивал разумеющих по-английски, хоть и подозревал, что некоторые из них только делают вид, что понимают, дабы ублажить его. Валлийцы салютовали и провожали его взглядами; он недурной командир для англичанина, но все едино англичанин, спросивший Хейдена Капитана, почему его имя идет задом наперед. Вовсе нет, поведали ему. Ибо вон там Хейден ап Даффид, а вон там Хейден, прозванный Гвернетом Эргидлимом, сиречь Могучим Стрелометом, за то, что он наихудший лучник из всех: едва положит шесть из десяти на расстоянии ладони со ста шагов. Потом ему пришлось разъяснять озадаченному владыке, что это шутка, вроде как Родри прозвали Гам — Косоглазый, потому что он наилучший стрелок из всех, даже, поговаривают, может выстрелить за угол и убить медведя соломенной стрелой. В конце концов, когда Хейден Капитан терпеливо втолковывал, что Гвиннеда ап Мидра прозвали Одноглазым, хоть у него и оба глаза, потому что он не может закрыть глаз для прицеливания и вынужден при стрельбе закрывать глаз повязкой — государь Бедейлский поднял ладонь. — Он наилучший стрелок из всех, поглядите, мой государь, — попытался присовокупить Хейден Капитан вдогонку тронувшемуся прочь рыцарю, так и не убежденному, что его не дурачат. — Он может прострелить врану коготь из Кинога, что в Доле Кливд, аж в Эсгейр Вервел в Ирландии… Теперь государь Бедейлский пристроил свой большой ведерный шлем на луке седла и оперся на него, завистливо глядя вслед рыцарям под началом епископа Бека. Вся вторая дружина поехала вперед, чтобы присоединиться к тяжелой коннице самого короля, и объединенные вружины образуют крепкое правое крыло армии. Ему хотелось быть среди них, а не millinar пехоты, пытающимся гуртовать громадный корпус пикинеров и лучников, лопочущих на своих тарабарских наречиях и пропахивающих грубые борозды через Реддинг-Мюир до Уэстквотер-Берн. Чувства государя Бедейлского не волновали Аддафа — его волновала лишь собственная утроба. Далеко слева он увидел величественного наездника, сверкавшего горизонтальными полосами, с плюмажем, развевающимся с его большого шлема в форме сахарной головы; при виде него Аддаф и остальные лучники издавали горловое рычание, потому что это был де Валенс, недавно напавший на добрых валлийцев, положив восемьдесят человек. Один-два лучника нацелили на него свои ненатянутые луки посулом на будущее, а потом поспешили вперед, когда мимо целеустремленно пронеслась группа блистательных всадников с лесом знамен. Сам король… Одна стрела, подумал Аддаф. Одна стрела с павлиньим оперением и бронебойным наконечником в спину этой красной гербовой накидки с тремя золотыми леопардами — и Лливелин отмщен, призраки Ильфронского моста смогут упокоиться с миром, за Майс Мойдог и Мэдога ап Лливелина будет уплачено. Однако никто не метнул ничего более опасного, чем угрюмый взгляд, понурив головы и шаркая дальше. Но Эдуард все равно их заметил, и обе стороны подумали о Майс Мойдог, хоть и по разным поводам. «Как и валлийцы тогда, — думал Эдуард, — скотты пытаются противопоставить рыцарям большие пикейные отряды. Что ж, мы расстреляли их из гасконских арбалетов в Майс Мойдог, проделаем это и здесь, не валяя дурака, как в Стерлинге». Эта идея развеселила его — хоть победа в Майс Мойдог и принадлежала графу Уорику, и он поднял руку, чтобы помахать восторженным юнцам, еще ни разу не испытавшим себя на бранном поле и трепетавшим в предвкушении. — Dieu vous garde! — Felicitas! — Dieu vivas![629] Они швыряли приветствия, как цветастые памятные безделицы возлюбленным, и Эдуард, взирая на них, гадал, куда подевался его собственный пламень, и злобно думал, что они изведают истинную суть, когда наконечники пик повергнут их самих и их дорогих коней в грязь и говно беспрепятственно потечет из них, когда они на четвереньках припустят прочь. В конце концов, понимал он, дело решат гасконские арбалеты. И валлийские лучники, коли не сплохуют. Майс Мойдог… Король увидел подъезжающего сэра Жиля д’Аржантана, великолепного и сумрачного, и обрадовался при виде второго из всех рыцарей христианского мира, в душе признав, что, поскольку наипервейшим рыцарем был он сам в лучшие дни, лавры перешли к куда более юному. Рядом с д’Аржантаном легко и изящно ехал еще более юный оруженосец — блестящий вьюнош с вьющимися по ветру золотистыми прядями, выбивающимися из-под чепца, сунувший шлем под мышку, дабы впивать взором все происходящее вокруг. Потрясенный Эдуард увидел, что это всего лишь отрок, не старше его собственного сына. Сдержав коня, д’Аржантан склонил свою нечеловеческую главу в большом бочкообразном шлеме, потом снял его, явив свое сияющее, изрезанное шрамами лицо. Увидев, что взгляд короля устремлен мимо, он обернулся к оруженосцу. — Нежли ты не знаешь своего короля, мальчишка? Оруженосец тотчас поклонился. Ни обиды, ни негодования, подумал Эдуард; этому отроку ведомы рыцарское достоинство и поведение, каковые начинаются с послушания. «Мой сын так же высок и силен и тоже выезжает на ристалища, но сей владеет стилем своего ремесла столь же уверенно, как меньшой Эдуард все не уразумеет достоинство Короны, каковую ему однажды придется возложить на свою главу». Плетение корзин и рытье канав; эта мысль заставила его нахмуриться. — С позволения Вашего Величества, — провозгласил д’Аржантан, — посмею представить Пирса Гавестона, эсквайра. Оный дан мне в обучение. — Гавестон, — медленно повторил Эдуард. «Сын сэра Арно, — вдруг вспомнил он гасконца, — дважды служившего мне заложником у французов». И вспомнил, как радушно принял Арно ко двору, когда тот бежал из Франции. Гладкое безбородое лицо отрока, невинное, как молитва, обрамляли ангельские золотые волосы. «Как у меня когда-то», — с сожалением подумал король. — Сколько тебе лет, отроче? — строго спросил он. — Четырнадцать лет и два месяца, с позволения Вашего Величества. Ответ прозвучал твердо, без тени благоговейного трепета перед суровым старым огром-королем, отметил Эдуард. «Этот парень — добрый материал и ровесник моему сыну». — Берегите его, — велел он улыбающемуся д’Аржантану. — Этот парень может мне пригодиться. Засим проводил их взглядом, с удовольствием наблюдая ровную осанку отрока и легкость, с которой он правит своим дестриэ. Пожалуй, подобный пример обратит Эдуарда к королевским материям, подумал он. Корзины и канавы, Задница Господня… Мимы, лицедеи и плавание в реках нагишом… — Quod non vertat iniquita dies, — возгласил зычный голос, и Эдуард, даже не оборачиваясь, понял, что это епископ Даремский. «Не отвратить сего гибельного дня», — чего ж еще ждать от круглолицего ханжи, мысленно скривился король. Однако Бек — еще одно из неизбежных зол правления, могущественный церковник, вооруженный, облаченный в доспехи и великолепные алые одеяния с горностаевым крестом и тонзурой с миску для пудинга. — Regis regum rectissimi prope est Dies Domini, — проскрежетал он в ответ. Грядет День Господа, Царя Царей по праву. «Пусть-ка обсосет вот это, — со злобным весельем подумал Эдуард. — Virtutis fortuna comes». Народ считает, что сие значит «Фортуна покровительствует отважным», однако comes изначально подразумевало элитных римских кавалеристов, и Бек понял, что король искусно обыграл словами рыцарей собственного войска. А поскольку шутки из уст короля в диковинку, Бек ни на миг не смутился и не набычился, вместо того явив восторженную полуулыбку. — Очень хорошо, мой ленник, — сказал он, а потом поглядел вдоль длинных перекатов холмиков и ложбинок туда, где смутно обозначились ряды врагов. — Полагаете, они уже устрашились нас, сир?* * *
Уоллес ощутил, что страх остался позади, смытый, будто смрад из бойни, как только через луг потянулась красочная пряжа вооруженных всадников, беззаботных и ярких, как развевающиеся ленты. От трепещущих вымпелов и знамен баталии, образующей левую часть английского построения, прямо рябило в глазах, и Уоллес, прекрасно с ними знакомый, мрачно улыбнулся под нос. Снова де Варенн… Авангард, продвигавшийся вперед справа от оного, пел, и переменчивый ветерок смутно доносил жутковатый речитатив: Quant Rollant veit que la bataille serat, plus se fait fiers que leon ne leupart. «Когда Роланд зрит, что ныне грядет сеча, свирепей он льва и леопарда»; зная эту chanson de geste[630] о Роланде достаточно хорошо, Уоллес полуобернулся в седле лицом к землистому, осунувшемуся олицетворению уныния у себя за спиной. — Неужели мы лишились голосов, государи мои? — с запинкой, но непререкаемо спросил он по-французски. Первым повел высокий, чистый голос, и Уоллес возблагодарил Бога за своего родственника — кузена Саймона. Двое других — Адам и Ричард — присоединились к нему почти тотчас же; в свое время их прозвали Нечестивой Троицей, как только они начали куролесить вместе, чиня проказы. По их ангельским голосам сейчас о том и невдомек, и эта мысль заставила его улыбнуться, когда другие глотки — огрубевшие, не в лад, дрожащие, — подхватили песнь. Hostem repе́llas longius, pacе́mque dones protinus; Ductore sic te praе́vio, Vitе́mus omne noxium. «Отведи лукавого врага от нас и ниспошли нам свой покой. Если будеши нашим Проводником, никакое зло нас не постигнет». В тесном кольце пикинеров с пересохшими ртами люди снимали ладони с древков, дабы перекреститься. Даже не зная ни слова по-латыни, они понимали, что это призыв к Богу, дабы простер Он над ними свою Длань, пока протянувшиеся к ним красочные когти помешкали и начали собираться в плотно сбитые порядки, слепящие серебристыми остриями. Глубоко в лесу пик кого-то затошнило. Вглядываясь сквозь листву, как зверь, Хэл видел конников авангарда, собирающихся, аки волки, видел громадные простыни знамен Линкольна и Херефорда, затмевающие сонм мелких вымпелов их свит. Они планировали напасть на центр, и Хэл улыбнулся, слизывая пот, увидев в их рядах внезапный трепет — селкеркские лучники дали залп. Всадники сбились в кучу; командиры галопом носились взад-вперед, а в застойной, звенящей мошкарой духоте леса люди, понимавшие явные признаки происходящего, выжидательно закряхтели, когда громадные порядки двинулись вперед решительным шагом колено к колену. — Уж вмале узнают! — радостно выкрикнул Хоб Куцехвостый; его тотчас зашикали за несдержанность. И все же сдержать бурлящую радость трудновато, подумал Хэл и чуть не испустил пронзительный крик торжества, когда блистательные, неумолимые всадники перевалили через небольшой уступ — и вдруг наткнулись на топкое заболоченное озерко, не замеченное прежде, протянувшееся перед первыми двумя кольцами шилтронов, будто крепостной ров. Замешательство. Топтание на месте. Селкеркцы снова дали залп, вынуждая коней метаться и взбрыкивать, сбрасывая седоков на землю с грохотом и лязгом рассыпанной кухонной утвари. До ушей Хэла докатились слабые ликующие крики, а за ними чудовищный приливной рев… Хвостатые псы. Медленно, мучительно, понукаемая надрывными криками командиров, галопом носившихся туда-сюда и даже стучавших по щитам, увидел Хэл, — вся разрозненная масса начала поворачивать налево, к баталии де Варенна, огибавшей вставшую на пути длинную топкую полосу и подставившей не защищенный щитами бок под стрелы. Многие даже не надели большие шлемы, защищающие лицо, и теперь горбились и отворачивались от стрел, как от снежного бурана. Этот момент можно было бы посмаковать, однако Хэл увидел, что это привело лишь к тому, что все силы из центра сосредоточились правее рубежа шотландцев, где затаился в лесной засаде он сам вместе с остальными хердманстонскими всадниками. — Стерегите правый бок, робяты, — рыкнул Сим, и люди пригнулись на терпеливых гарронах при приближении рыцарей де Варенна, перестроившихся в боевые порядки и двинувшихся к громадному кольцу щитов — и шотландским рыцарям, преградившим проход между ним и лесом. Хэл увидел, что они пройдут у него прямо под носом, стиснутые лесом и пиками шилтрона в плотную массу, справиться с которой шотландским рыцарям при лобовом столкновении нечего и думать, — и Хэл подведет два десятка своих всадников им во фланг в уповании, что этот блошиный укус достаточно досадит английским рыцарям, чтобы сокрушить их. — Храни нас Бог, — пробормотал Джок Недоделанный. — Во веки веков, — вполголоса заученно отозвались другие. — Lente aleure![631] — донесся слабый, как последняя надежда, крик английских командиров echelles[632], и эти подразделения — одно за другим, справа налево — тронулись шагом, подняв копья. — Paulatim![633] Понемногу набирая ход, грандиозная масса людей в кольчугах покатилась вперед под храпение и тонкое, пронзительное ржание взбудораженных коней. Грифф под Хэлом шелохнулся, учуяв едкий смрад сечи, ощутил дрожь — едва они поравнялись, грандиозное трясение земли дошло сквозь седло до самого живота Хэла. Листва затрепетала, упала ветка. — Во имя всех Святых Божиих… — заскулил кто-то. — Pongniе́! Одно за другим подразделения повиновались, пришпоривая лошадей. Громадные боевые кони взрывали землю, всадники ревели. Однако они были так стеснены, что не могли двигаться быстрее неуклюжего полугалопа-полурысцы, оставаясь колено к колену. — Сейчас, — прошипел Хэл, следя за отдаленным порядком кавалеристов с фигурой Уоллеса, возвышающегося над остальными на целую голову и плечи, видя, как тот возносит полуторный меч над головой… Кто-то вырвался из последних рядов, припустив в лес, как лиса от своры собак. К нему присоединился другой. И третий. Опустив меч, Уоллес устремился вперед, увлекая за собой группку людей, — а вдвое больше того развернули своих коней и дунули прочь. Нобили Шотландии все-таки бежали. Схватка и победа стали мечтой. Хэл понял это, увидев, как Уоллес с жалкой горсткой оставшихся рыцарей врезается в громадный короб английских копий. Единственным разумным образом действий было бегство — внезапный порыв заставил его дернуть голову Гриффа назад, — но в тот же миг он увидел падение коня, увидел, как красно-золотой великан исчезает в массе. Подняв меч, Хэл пришпорил Гриффа настолько жестко, что гаррон взвизгнул, и все люди у него за спиной ринулись из леса с воплем «Сьентклер!». Они врезались во фланг сражающимся рыцарям как раз в том месте, где те скопились, как вода у плотины. Хэл рубил и колол, слыша, как меч звенит, будто молот о наковальню, чувствовал отдающиеся в руку удары. Вот над ним нависла полосатая фигура. Хэл рубанул, и человек откинул голову, как кукла, — сбоку в шлеме его зияла глубокая вмятина. Вот удар сотряс щит Хэла, едва не выбив из седла и заставив вцепиться изо всех сил в Гриффа, развернувшегося полукругом. Он увидел, как Безносый Клемми, зацепив бердышом затейливую гербовую накидку рыцаря, разворачивает коня и рвется прочь, таща рыцаря за собой. Тот с лязгом рухнул на землю, где Джок Недоделанный, работая локтем, как безумный скрипач, осы́пал его градом ударов, пока битва не увлекла его гаррона прочь. Дамба дала брешь; грандиозная масса закованной в броню конницы накатила на остатки шотландских рыцарей — либо спешенных и умирающих, либо спешно удирающих в лес. Хэл понял, что его собственная атака ошарашила противника лишь на минутку, и теперь англичане с проклятьями разворачиваются для боя. Увидел, как гаррон Джока Недоделанного по кличке Малый Дан, получив удар в грудь чудовищными копытами боевого коня, с визгом валится — и Недоделанный скрылся из виду в круговерти копыт, ног и брызжущей крови. Ворон Денд, оставшийся на ногах, с залитым кровью лицом с криком размахивал остатками своего расщепленного бердыша, превратившегося в топор на короткой ручке; удар рыцаря в сине-золотой накидке сокрушил его голову вместе с шишаком. — Уоллес!.. — крикнул голос, и Хэл обернулся на крик, уклонившись от направленного в голову яростного удара топором, отразил булаву щитом и нанес ответный удар. Мельком заметил пешего Сима, указывавшего куда-то, разинув рот; Хэл развернул Гриффа, ощутил, как животное спотыкается, чертыхнулся и поддал ему острыми шпорами. Уоллес, лишившийся коня, стоял, как дерево среди паводка, держа меч уже обеими руками, с большей мощью обрушивая Ад на врагов. Всадники силились пробиться к нему, видя пламенеющего у него на груди красного вздыбленного льва и понимая, кто он, чувствуя вкус славы, но он все стоял — ревущий великан, более огр, нежели человек. Хранитель мельком обернулся, когда Хэл подлетел к нему сбоку на Гриффе, сам не зная, что творит и зачем, — и узрел неподдельное ликование Уоллеса, широкую блаженную ухмылку. Он готов к смерти, вдруг пронзила Хэла изумленная мысль. Не страшится ни капельки… Сим выбрался из кучи малой, рубя налево и направо, и встал с одной стороны Уоллеса; Хэл обнаружил себя с другой, чувствуя, как Грифф спотыкается на подкашивающихся ногах. — К кольцу! — крикнул Уоллес, и они подчинились, двигаясь проворно, насколько могли. Вдруг ощутив, как Грифф оседает, Хэл ухитрился, дрыгнув ногами, соскочить на землю; из груди животного торчал обломок глубоко вошедшего копья, и, костеря себя, что не заметил — когда это стряслось, во имя Христа?! — он услышал, как животное выдыхает последнюю кровавую пену и умирает. — Кольцо! — крикнул Сим, хватаясь за локоть. В них врезалась лошадь, разделив их и закружив Хэла волчком, так что перед глазами все поплыло, промелькнули мозолистые, облепленные грязью ноги; он перекатился, пытаясь сфокусировать взгляд, и увидел над собой лес древков. Затем рука сграбастала его за сюркот, потащив назад; затрещала рвущаяся ткань, и в голове безумным лепетом пронеслась мысль, что Хлебная Бет впадет в бешенство из-за погубленного шитья. Перед ним замаячила фигура, вперед метнулась рука, и он смутно ощутил пощечину, потом вторую — жгучую, как укус пчелы. Вскинув руку, чтобы заслониться от третьей, увидел улыбающееся лицо Уоллеса, измазанное кровью. — Пришли в чувство?.. Хорошо, нас еще ждет работа. Меч и шлем Хэл потерял, да и с чепцом, расхлябанно болтавшимся с одной стороны, было что-то не то. Субъект с очумелым взором, с торчащими из-под кожаного шлема космами и безумной ухмылкой сунул ему длинный нож. Взяв оружие, Хэл поглядел вверх и вокруг, чувствуя дрожь ближайших плеч и спин под напором английских рыцарей, пытавшихся прорваться сквозь ощетиненное кольцо угрюмых людей, стоявших как единый зверь, припертый к стенке. Всадники кружили, раздосадованно швыряясь проклятьями, булавами, топорами, обломками своих копий и — теперь, когда селкеркские лучники рассеялись, — своими громадными бочкообразными шлемами. Пикинеры кололи и били с плеча, пыхтя и рыча, и исполинские кони гибли, роняя гордые гербы своих наездников в истоптанную траву и кровавую грязь, где люди в грязных власяницах выскакивали из задних рядов кольца пик, ужом проскальзывая между ног, чтобы обратить их в бегство или наброситься на застрявших или чересчур медлительных, чтобы успеть удрать. — Что, боле не до песен, жопа свинская? — взвыл один, пауком прыгая на черно-серебристую фигуру рыцаря, с трудом отползавшего на четвереньках от истошного визга и лягающихся ног своего издыхающего коня. Узкое лезвие ножа скользнуло в щель забрала, и кровь хлынула через дыхательные отверстия. В следующий момент паук уже скрылся под защиту пик, тяжело дыша и ухмыляясь Хэлу, как лис, только что задушивший курицу. Он вытер кинжал о свою грязную, подранную брака, и Хэл увидел, что это Фергюс Жук в своем черном панцире из вываренной кожи, скалящий окровавленные зубы. Он подмигнул, будто только что углядел Хэла в сутолоке пивной. — В теле доселе, мой государь. Хэл моргнул. Еще жив. За пределами защитного кольца пик шотландских лучников преследовала и истребляла катящаяся убийственная волна, и оставалось лишь гадать, что стало с Симом.* * *
Конь епископа охромел, его сюркот на одном боку был напрочь распорот, хлопая, как раненое крыло алого коршуна. За ним следом ковылял пеший рыцарь, оставшийся без шлема и бацинета, в изодранном в клочья кольчужном чепце; кровь заливала его лицо и расползалась большой кляксой по некогда кремовому сюркоту, почти скрыв двух вышитых на нем воронов. Аддафу не требовалось слышать Бека, дабы понять, что тот в бешенстве, — уж так яростно, с побагровевшим лицом махал епископ руками на рыцаря в красных и золотых полосках, угрюмо сидевшего на дорогом боевом коне, облаченном в девственно-белый бард с россыпью маленьких красно-золотых полосатых щитов, каждый с горностаевым мехом в левой верхней четверти; сие Бассет из Дрейтона, сказали Аддафу после первой злобной стычки между рыцарем и епископом. Случилась она, когда Бек попытался сдержать рыцарей под своим началом, чтобы дождаться короля перед атакой, но сей Бассет из Дрейтона, надменно устремив на Бека свой меч, велел тому пойти и справить мессу, буде охота, ибо рыцарям надлежит сражаться. Услыхав сие, свита Бека унеслась бешеным галопом, будто громадный железный цеп, вдребезги разбившийся о ближайшее кольцо шотландских пик, пока епископ в напрасном гневе лупил собственное седло. Теперь же уцелевшие, лишившись коней, плелись прочь, и Аддаф понял, что Бек распекает Бассета, потому что ни сам он, ни двое его рыцарей-бакалавров, ни девятеро сержантов к скоттам даже не приближались. — Сей конь сто́ит пятьдесят марок, — доказывал Бассет, насупившись, когда Аддаф и остальные лучники поравнялись с препирающейся парочкой. — Так нацельте его и пришпорьте — уж он сумеет атаковать, — огрызнулся Бек, — даже коли его всадник и не сподобится. — О, Раны Христовы! — взревел Бассет, ощетинив бороду. — Я не намерен сносить подобное от каких-то незаконнорожденных с тонзурами… — Никто не будет атаковать! — гаркнул новый голос, и все как один обернулись к подскакавшему легким галопом Эдуарду со свитой. Взоры потупились; никому не хотелось глядеть в лютое воплощение гнева на лице короля с набрякшими веками. Особенно Бассету, побелевшему, как бард его лошади, и начавшему заикаться. — Тихо! — приказал Эдуард, озирая жалкие остатки спотыкающихся спешенных рыцарей, влекущихся обратно, как пьяные из пивной. Стонущего рыцаря в зеленом, истерзанного и забрызганного грязью и кровью, поддерживали двое других; его левая кисть болталась на тянущихся из кровавого месива остатках сухожилий и кожи, и кто-то перетянул предплечье его же перевязью, чтобы он не истек кровью до смерти. — Государь мой Отли, — произнес Эдуард, кивнув зеленому рыцарю, будто они повстречались в уединении двора. Зеленый рыцарь застонал, и у него из-за спины вышел другой, прихрамывая, с непокрытой головой, истекающий кровью; помешкав, он поднял глаза на своего короля и поклонился. Эдуард ответил ему поклоном. — Мой добрый государь, — любезно промолвил он, — вы потеряли своего коня. Несмотря на соболезнующий тон, в словах его таилась злобная издевка: в свое время Юстас де Хачче отказался продать своего великолепного жеребца королю, и теперь прекрасный гнедой в одном белом чулке с верещанием издыхает, валяясь в месиве собственных внутренностей. Де Хачче отвернулся, поглаживая ребра, более сетуя на гибель коня, нежели на вспоровшее его копье; он не хотел снимать кольчугу и поддоспешник из страха перед тем, что может вывалиться на землю. «Я буду выглядеть как мой собственный конь», — подумал он. С искаженным от гнева лицом Эдуард проводил взглядом заковылявшего прочь рыцаря, а потом обратил ярость, пылающую из-под приспущенных век, на Бека и Бассета. — У вас обоих не больше рассудка, чем у яйца! — рыкнул он и, видя, как оба ощетинились, с праздным любопытством гадал, достанет ли их сказать поперек хоть слово. Покачавшись на грани, оба с пыхтением сдулись, и король устроился в седле поудобнее, слегка разочарованный, но не удивленный. «Ослепи меня Христос, — думал он, — добрые люди погибли из-за того, что у этого дурака Бассета голова годится только для надевания железного шлема и такая же пустая. И он в этом не одинок, — сердито добавил Эдуард, — иначе мне не пришлось бы торчать здесь, самому доделывая дело, возложенное на графа Суррейского и остальных». — Коли вы закончили транжирить английское рыцарство, — зарычал он на обоих, — не вернуться ли нам к завершению сей потасовки? Король дал сигнал; рог протрубил, и Аддаф услышал крик государя Бедейлского Хейдену Капитану, в свою очередь проревевшему приказ на своем зычном валлийском, дабы победители вступили на эти кровавые подмостки. С предвкушением размяв плечи, Аддаф ошарашенно поглядел налево и направо. Вокруг него валлийские лучники таращились, как нанятые задорого гасконские арбалетчики трусцой бегут вперед, тарахтя болтами, с губами, искривленными в презрительных улыбках. Уткнув свое оружие в землю, валлийские лучники с пренебрежением оперлись о него. Сердце у Аддафа упало; угрюмая ненависть к англичанам для валлийцев была превыше чести, и хотя они и не переметнулись на другую сторону, но в дальнейшем участвовать не желали, платя непокорностью за бойню, учиненную над ними недавно. Лучники стояли с непроницаемым видом, уперев одну роговую законцовку ненатянутых луков на подъем обутой ноги, стоящей в грязи, а вторую сжав в обеих руках и чуть наклонившись, нарочито не собираясь трогаться с места. Как и остальные millinars, Бедейл орал и разъезжал взад-вперед, но именно Хейден Капитан и все остальные капитаны сотни убедили упрямившихся валлийцев под его командованием вступить в бой, пустив в ход комбинацию проклятий, едких насмешек над их отвагой и льстивых посулов первыми получить трофеи. Это подстегнуло их к действию, и они двинулись вперед, зная, что каждый шаг приближает их к самому главному — ограблению трупов, когда сеча будет выиграна. И все же Аддаф слышал негромкое ворчание остальных валлийцев, чувствуя, как их взгляды прямо-таки прожигают ему спину. Но главное дело для него и его товарищей сделал не Бедейл и даже не Хейден Капитан — сколько б они ни кричали и ни махали руками, — а Рис, Господин. Мид ап Мидвидд, как его прозвали — Прицел Прицелов, — и не без причины. Он подвел их на сотню шагов, пока оставшиеся рыцари бесцельно маялись у частокола пик, размахивая оружием да время от времени пытаясь совершить выпад или ткнуть копьем — хотя большинство свои копья уже побросали. Завидев приближение валлийских лучников, они лихорадочно пришпорили коней или заковыляли прочь от шилтронов, словно от чумных, спеша оказаться подальше от тучи стрел, когда она упадет, ибо знали, что валлийцы с таким же наслаждением прикончат английского конника, как и врага. Вражеских лучников больше не осталось, увидел Аддаф, выглядывая через плечи двух передних шеренг, — все рассеяны и порублены. Однако в кольцо пик все же проскользнул кто-то с арбалетом и сейчас обстреливал как раз тот участок строя, где стоял Аддаф, и злобный выхлест болтов очень ему не нравился. Прицел Прицелов обращал на них внимание не более чем на грибной дождик, вышагивая вдоль рядов с поднятым луком, оценивая ветер и расстояние по зеленой и красной лентам, развевавшимся на конце лука. Гасконские арбалетчики, взопревшие и сердитые из-за того, что приходится трудиться самим, взводили свое оружие, упирая его в живот, и давали редкие, разрозненные залпы, а валлийцы презрительно скалились над ними. — Наложи! Шелест длинных стрел, надвигаемых на витые тетивы. — Натяни! Циклопический скрип напряженного дерева, будто открывается тяжелая дверь. — Стреляй! Бог разорвал небеса, как дешевое полотно, и в пикейном кольце поднялся крик. Настоящее смертоубийство началось.* * *
Будто кто-то пнул циклопическое осиное гнездо, и к ним устремилась безумная черная жужжащая масса. Окрик раздался, как только выпустили стрелы, и Хэл увидел, как отрок рядом с ним обратил свое млечно-белое лицо к небу, высматривая их. — Пригнись, Тэм, твою задницу, — прошипел его сосед, и мальчишка увидел, что все остальные, сгорбившись, уставились в землю, словно пытаясь взглядом пробурить дыры в залитой кровью грязи. Владельцы стальных шлемов съежились, словно в чаянии уместиться в них целиком, а обладатели кожаных или вовсе никаких безотчетно прикрыли головы руками; пики гремели, перестукиваясь, как камыши на ветру. Хэл подобрался, кожа покрылась мурашками, будто стараясь натянуться потуже перед ударом. Осы жужжали и свистели. Тэму пришло в голову, что звук такой же, как у гравия, который он швырял о стену мазанки Агнес, когда пытался ночью выманить ее на улицу. Но вместо того, вспомнил он, вылетел ейный папаша и велел ему проваливать… Выпрямившись, обернулся к Эрчи поблагодарить за добрый совет — Христе, угоди мне такая в глаз, напрочь изуродовала бы мою красу, хотел было сказать — и тут увидел перья, нелепо торчащие сбоку на шее Эрчи, будто малая птаха. А потом сообразил: это все, что осталось на виду от древка длиной в добрый ярд с металлическим наконечником, вошедшего в ключицу Эрчи и прошившего его коленопреклоненное, так и оставшееся стоять тело, — и взвыл. Увидев, как зарыдал млечнолицый отрок, Хэл принялся похлопывать соседа по плечу, будто раненого пса. Ему хотелось сказать мальчонке, что его друг не страдал, что он наверняка мертв, потому что ни одному человеку не пережить того, что стрела учинила с его внутренностями. Но подумал, что мальчонка и без того это знает. Да и времени на разговоры не было, потому что второй шквал уже рушился на них, и три снаряда взрыли дерн у его ног. Человек перед ним покачнулся под низкий колокольный звон попадания по стальному нагруднику, и стрела переломилась. Но человек все равно рухнул, будто огретый булавой вол, сипя и хлопая ртом, как рыба, из-за спавшихся от удара легких. Их стрелы убивают, даже не войдя в тело, увидел Хэл, борясь с всколыхнувшейся в душе паникой, и эта мысль пришла в голову не ему одному. — Они расстреляют нас во прах, — гаркнул Уоллес, — коли мы останемся здесь, абы дозволить сие. Пора уходить, парни. Ступайте ныне, разом! К лесу. Ныне, шаг! Шаг! Шаг! К лесу. Короткая прогулка по останкам мертвых лошадей, стонущим раненым и окровавленным трупам. До опушки всего-то пять минут ходу, подумал Хэл, если только не находишься в нескладном кольце людей, пытающихся двигаться в одном направлении и поддерживать подобие формы. Тридцать минут, если повезет, скорбно подумал он; чуть дольше, и уже никакого проку. Осы прилетели снова, жаля свирепо и зло. Люди кричали, визжали и валились, наталкиваясь на соседей, с проклятиями отталкивавших их. Медлительно, как исполинский издыхающий слизняк, шилтрон рывками тащился к опушке, оставляя склизкий кровавый след из убитых и раненых.* * *
— Надобен Уоллес, государи мои, — проскрежетал Эдуард, слушая бреньканье тетив и визг стрел усердных лучников. Прямо музыка, думал он. Песнь битвы, как речитатив монахов — песнь церкви. — Надобен Огр, — повторил он, и граф Линкольнский, забрызганный грязью и кровью, улыбнувшись, отдал ему салют мечом и захлопнул свое новое свинорылое забрало. — Жестокий Ирод, — рявкнул он приглушенно, с металлическим отзвуком, — более растленный, нежели Нерон. Он будет повержен к стопам Вашего Величества!* * *
Хэл понимал, что рыцари кружат, как волки вокруг оленя, поджидая для наскока момент величайшей слабости — и уже скоро… Он не знал, как дела у других колец, но то, в котором находился он сам, превратилось в кошмар, липкий от пота, страха и крови умирающих. Медленно растягивающееся кольцо приобрело форму яйца и приостановилось, чтобы ряды с одной стороны перестроились. Его порядки поредели; места в середине стало больше, так что теперь Хэл мог ходить, помогая пятящимся переступать трупы лошадей, еще стонущих людей, некоторые из которых умоляли взять их с собой, — но всех их извергали без милосердия. Они ступали по чему-то сочившемуся мозгами, скользили по телесным жидкостям и чавкали по внутренностям, слышали последний пукающий выдох мертвых, наступая на них и находя в себе самих довольно дыхания лишь для того, чтобы пробормотать «Ave Maria, Gracia plena»… Увидев меч, Хэл наклонился поднять его и уставился на незряче таращащиеся кровавые останки Макдаффа Файфского с громадной иссиня-черной дырой сбоку головы, будто взорвавшееся яйцо. Моргнул раз-другой; мысли закружились в голове: значит, Макдафф все-таки не сбежал и поплатился за это. Потом Уоллес вдруг опустился на колени, и ошеломленный Хэл на миг подумал, что в него попали. Стрелы, неустанно и стремительно выпускаемые искусными руками, взмывали стаями, как всполошенные скворцы с поля. — Ах, смилуйся над ним Христос, — проговорил Хранитель, поднимаясь, и Хэл увидел окровавленное лицо и затоптанные, смешанные с грязью останки его кузена — Саймона, вспомнил Хэл, сладкоголосого певца. — Не останавливайтесь! — гаркнул командир шеренги. — Уж недалече! Достаточно далеко, подумал Хэл. Прошла целая вечность; опушка стала ближе, маняще близко, да не прикоснешься. Песнопение заставило людей поднять залитые по́том лица с потрескавшимися губами, красные, как поротые зады, с тугими побелевшими морщинами страха вокруг губ и глаз.Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli
Porta manes, et stella maris, succurre cadenti,
Surgere qui curat, populo: tu quae genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem…
* * *
Костры пылали вовсю, будто чтобы оградить от растерянных духов, блуждающих во поле, и доносящихся из тьмы стонов и криков еще живых, от которых у всех волосы вставали дыбом. Эдуард сидел в своем курульном кресле, устремив угрюмый взгляд из-под приспущенных век на измаранную, кровавую тряпку, возложенную к его стопам. Красная гербовая накидка с белым львом, указал кто-то; можно разглядеть, коли прищуриться, подумал Эдуард, но сейчас этого человека даже родная мать не признает. — Герб Уоллеса, сказывали мне, Ваше Величество, — горделиво возгласил де Варенн, тряся своей серебристой сарацинской бородкой в улыбке. — Стало быть, — саркастически возразил Эдуард, — Огр сбросил герб Шотландии, в коем, как мне достоверно донесли, он был в начале сей баталии, — желто-золотой, государь мой Суррей, с красным вздыбленным львом. Глаз де Варенна задергался. — Вдобавок, — безжалостно вел свое Эдуард, — даже учитывая склонность страха к преувеличению, сей исполинский огр Уоллес как-то усох. У меня есть придворный фигляр, у которого жезл будет повыше этого. Де Варенн резким сердитым жестом велел унести труп и последовал за ним, одеревенев от негодования. Де Ласи склонил вперед лицо, залитое кровавым светом факела. — Возможно, кузен, Ваше Величество, — негромко произнес он. — Я слыхал, здесь в поле трое таких. Поиски продолжаются… — Он ушел, — пробормотал Эдуард, грызя ноготь. Ушел. Уоллес ушел в треклятые леса, из которых и вышел, где сражается лучше всего. Окровавленная трава на широком поле прямо-таки усыпана трупами шотландцев, будто обмолоченными снопами, — и лишь двое погибших англичан, заслуживающих упоминания: сэр Брайан де Джей и Джон де Соутри. Магистр английских храмовников и магистр шотландских храмовников; есть в этом суровая справедливость, подумал Эдуард, ощутив холодок от близости Длани Господней. Он не потрудился делать подсчет лиц менее значительных — погибших валлийцев, гасконцев и пехотинцев, ибо они по большей части люди незначительные, а то и вовсе никакие, но одержанная здесь победа принесла всего-то навсего обладание испакощенным кровью полем под Каллендаром. Уоллес ушел. Ничего не решилось. (обратно)Глава 13
Хердманстон, Праздник Святого Мирина, сентябрь 1298 года Стоя между двумя зубцами стены, Изабелла смотрела вниз, на сидящих там всадников, а ворон кружил в серо-синем небе, как неспешное распятье. Когда он отхаркнул свой клич, всадник в центре поднял глаза, и даже с такой высоты она разглядела рыжее золото его бороды и волос. Узнав его, она искоса поглядела на Куцехвостого Хоба. — Ты был прав, Хоб, — сказала. — Не я, государыня. Сэр Хэл послал меня предупредить вас, что сие может стрястись. Он и остальные в бегах, прячутся с Уоллесом. Куцехвостый говорил об этом как о деле обыденном, но Изабелла знала, что постоянное бегство и игра в прятки, о которых он говорит, означают уйму страданий, страха, крови и лишений. И тот факт, что Хоб исхитрился незаметно проскользнуть с весточкой до самого Хердманстона, — отнюдь не единственное чудо. Человек с золотисто-рыжей головой внизу помахал рукой. — Отсюдова я могу стрельнуть прямиком в зеницу его ока, — пробормотал Вулл Бранник, накладывая стрелу на охотничий лук, получив в ответ уничтожительный взгляд Куцехвостого Хоба. — Где там! Ты не попал бы в задницу быку с пяти шагов, коли ясно зрел бы, Вулл Бранник. А ты ясно не зрел на длину собственной руки почитай уж сколько лет. — Спуститесь и скажите сэру Джону Комину, что он может подойти к бране, — распорядилась Изабелла. — А после сопроводите его в залу. Мрачно насупившись на обоих, Вулл снял стрелу с тетивы. — А, чего там, стоит ли труждаться, — горько посетовал он, ковыляя к винтовой лестнице. — Открывайте брану ворогу, пущай спалит тут все дотла, ибо не осталося никакого почтения к сиротам навроде меня, наипоследнего чада из выводка бедной вдовы… На его воркотню не обращали внимания, потому что долгие заунывные сетования всегда тянулись за ним, как сырой серый дым. Услышав приглашение, Рыжий Комин спешился, отдал меч ближайшему из своей свиты, улыбнувшись в ответ на предостережения и тревогу. Прошел вверх по крутому, мощенному булыжником подъему, по дощатому мостику и в короткую арку ворот с поднятой железной решеткой. В нос ему ударил запах древесного дыма и свежеиспеченного хлеба, борющийся с головокружительным ароматом ракитника. Оказавшись во мраке небольшой залы, он ненадолго ослеп и сделал пару вдохов, чтобы приспособиться, прежде чем последовать за шаркающим старым слугой туда, где на высоком стуле восседала государыня в тщательно, по-монашески уложенном постно-сером и снежном барбетте[635], а жаровня с рдеющими углями и только что зажженные канделябры отражались в травяной зелени ее невероятно ярких глаз. Но ее волосы и кожа еще не просохли после недавнего мытья, кольца великоваты для пальцев руки, которую он поцеловал, сразу заметив, что она похудела, а следы бессонницы на лице поведали ему многое. — Графиня, — произнес Комин с официальным поклоном. — Мой государь. Голос звучал ровно, даже музыкально, но напряжение в нем было очевидно, и Рыжего Комина внезапно охватила досада на все это предприятие; у него и своих забот хватает, чтобы еще и играть роль стряпчего для своего родственника графа Бьюкенского и его блудной жены. — Мне сказывали, ваш отец не совсем здоров. Заботливый вопрос выбил его из колеи, но он опомнился стремительно, как рыжий лис. — Его темперамент стал непомерно холерическим, — заявил Комин, весьма тускло описав паралич, разбивший одну половину тела государя Баденохского и заменивший его умение изъясняться струйкой слюны, стекающей из одного уголка рта. Народ поговаривает, его наконец удушил его же собственный норов, заслуживший ему прозвище Черного Джона, но сын-то знал, что это не так, и сдавленным голосом с горечью проронил: — Заключение в Тауэре его доконало. — Значит, ему повезло, — ровным тоном отозвалась Изабелла, — поскольку большинство отправленных в Тауэр живыми оттуда вообще не вышли. Комин понимал, что она его дразнит, но держал себя в узде, просто кивнув на человека, стоявшего рядом с ней. — Мне этот ваш человек неведом, — шепеляво сказал он по-французски, — но, зная, кто он, я уверен, что вам поведали, какие события повлекли меня сюда. — Его зовут Хобом, — ответила Изабелла, чувствуя, что Куцехвостый поднял голову при звуке своего имени — единственное, что он понял. И намеренно перешла на английский, чтобы он не оставался в стороне. — Макдафф погиб, как поведал мне Хоб, — промолвила она, чувствуя, как вороний клекот этих слов подирает морозом по коже, хоть она и недолюбливала этого человека. — Отважно, — отозвался Рыжий Комин, тоже по-английски, — вместе с другими. Уоллес бежал и отрекся от своего Хранительства. Свет державы назначил новых Хранителей. Все, что осталось от дворянства, не поползшего на брюхе к стопам Эдуарда, подумала она. Однако от его интонации у нее на миг перехватило дыхание. — Вас? Комин подтвердил это легким надменным кивком, и до Изабеллы наконец дошло, какой долг привел его сюда. Значит, не только гордыня графа Бьюкенского… — Второй — граф Каррикский, — провозгласил Комин, и она едва удержалась, чтобы не рассмеяться вслух, но от его внимания не ускользнуло, как Изабелла, тараща глаза, кусает губы с курьезным выражением. — Истинно, — признал он. — Брюс да я. Несовместные звери в одной упряжке, допускаю, но того требует королевство. — Действительно, — негромко проронила Изабелла. — Чему же Хердманстон обязан честью вашего присутствия здесь? Его все больше раздражало, что она помпезно восседает там, будто государыня этого смехотворного поместья, и говорит от имени отсутствующего государя Хердманстонского в качестве его жены. — Вам прекрасно ведомо, — лаконично ответил Комин. — Я здесь, дабы вернуть вас в попечение вашего мужа графа. — Другие уже пытались, — с горечью парировала Изабелла. — Означенный решил, что лучше всего силой. Не таковы ли ваши инструкции от моего мужа? — Коли понадобится, — ответил он напрямую, чуть надвигаясь своим коротким бочкообразным телом на ее миниатюрное, и Изабелла ощутила, как Куцехвостый ощетинился, как гончий пес. — Титул государя Файфского переходит к вашему меньшому брату, ныне удерживаемому англичанами, и посему Файф возвращается Короне, государыня, — холодно отчеканил он. — В отсутствие короля таковой передается Хранителям — а именно мне и графу Каррикскому. Ваше присутствие при графе Бьюкенском ныне желательно не столько по причинам его страсти, сколько по соображениям чести, достоинства и положения Коминов. Я здесь в качестве Хранителя Шотландии, дабы донести до вас необходимость в таковом. Вам также следует знать, что государь мой граф желает, дабы пузыря Хэла Хердманстонского макнули в хляби вод. Изабелла оглядела этого приземистого пламенного человечка с головы до ног; у него сапоги с высокими каблуками, и эта примета тщеславия развеяла часть исходящей от него угрозы. Раны Господни, да он страшен уж тем, что похож на Бьюкена в миниатюре. Недостойно, думала она, сидеть здесь на глазах у этого уменьшенного, смазанного изображения ее собственного мужа, настолько похожего на него и цветом, и нравом, обсуждая ее частную жизнь. Зная норов мужа, Изабелла не сомневалась, что тот жаждет учинить ей зло, но в последнее время начала надеяться, что этого будет довольно, дабы он просто отстал от нее. Теперь же, устремив в пространство пустой затуманенный взор, она узрела глупую тщетность этих упований. Ему наставили рога, выставили дураком в деле с выкупом — когда ему и вовсе не следовало ее выкупать, — а теперь ему нужно наложить на земли Файфа прочную печать господства Бьюкена. И с помощью жены, последней из благородных Макдаффов в Файфе, и при поддержке своего родственника, назначенного Хранителем, он сумеет захватить бразды… Стыд и гнев переполнили ее, скользнув в живот и скрутив изнуренные органы в узел. В голове бусинками четок замелькали все ущемления, которые она причинила мужу, большие и малые. Хуже того, пришла подравшая морозом по коже мысль о словах угрюмого коротышки Комина Баденохского касательно применения силы. Если потребуется. И никакого исхода. Теперь Бьюкену нужна уже не блудная жена, а ключ от богатств могущественного графства, и уж тут он ни Изабелле, ни Хэлу спуску не даст. Если она останется, Хердманстон испытает гнев Бьюкена, а она как свои пять пальцев знает, что Брюс этому не воспрепятствует — даже будучи к тому расположенным, — ибо его убедят, что ради какого-то Хэла Хердманстонского нарушать хрупкое перемирие с Коминами вряд ли стоит. — Пузыря могут макнуть, — бесстрастно произнесла она, — но не утопить. Вы должны дать мне слово. Рыжий Комин пожал плечами; ему-то самому ни горячо ни холодно, о чем он и поведал. — Но вскорости, — добавил он въедливо, — я бы не возлагал надежд на государчика Хердманстонского. Слыхал я, он питается травой и шныряет по чащам, как пес. Плантагенет наказал его за мятеж и назначил сии земли одному из своих заслуживших — некоему Маленфонту, каковой недавно… оказал вам гостеприимство. Сей Длинноногий умеет показать норов, поневоле восхитишься; вы слыхали, его теперь кличут Молотом Шотландцев? — Маленфонту дарован лишь лист пергамента, — с каменным лицом обронила Изабелла, и Комин признал это; Длинноногий раздает земли, принадлежащие мятежным шотландцам, не имея возможности подкрепить их титулами, и новые владельцы сжимают в руках свитки с печатями, не став оттого ничуть состоятельнее. Увидев сжавшиеся в ниточку губы Изабеллы, он спустил свой норов с цепи. — Какова бы ни была участь сей фортеции, государыня, моя задача донести до вас необходимость неизбежного… Раны Христовы, женщина, вы восседаете в этом убогом зале, словно его владелец — ваш муж. Неужто вам не зазорно? Изабелла не чувствовала ни малейшего стыда. — Вы дадите мне слово на сей предмет. Вы — Хранитель. Вы сумеете убедить моего мужа не обращать весь свой гнев против сэра Хэла Хердманстонского, и если ни в чем другом Брюс с вами не согласен, в этом вопросе он может добавить свой вес к вашему. Даете ли вы мне слово в том? И тогда глубина явленных ею чувств потрясла Комина. Не имеет значения, подумал он про себя, заполучит ли Бьюкен обратно ее тело, ибо сердце ее принадлежит другому. При обычных обстоятельствах подобное и не имело бы значения для могущественного владыки, заинтересованного лишь в землях, но Баденох знал, что графу Бьюкену отнюдь не все равно. Это посеет новые беды, понимал он, но эта затея ему уже претила, да и хватало дел поважнее, чем пререкаться с высокородной шлюхой. Потребуется приложить немало сил для убеждения, но ему польстило, что Изабелла считает его способным на подобное, и потому он произнес официальные слова, которых она желала, и увидел, как она стиснула зубы. — Нет ли у вас запасного коня? — сумела выдавить Изабелла. Слова эти иссушили рот, как зола. — Ах, нет, графиня… Куцехвостый осекся, натолкнувшись на обращенный к нему полный муки взор сверкающих глаз. Рыжему Комину хватило ума промолчать, попросту склонив голову. — Я займусь приготовлениями, — проронила она, и он, снова молча склонив голову, развернулся и зацокал на своих высоких каблуках обратно к воротам. — Госпожа… — в отчаянии начал было Куцехвостый, но снова осекся, потому что стоявшая государыня вдруг осела, скрыв помертвевшее лицо решетом пальцев в слишком свободных перстнях.Рослин Праздник Святого Андрея Первозванного, ноябрь 1298 года Они смотрели, как косматая звезда тянет лучи на восток, и долго-долго никто не говорил ни слова. Потом Брюс втянул голову в свой меховой воротник, дыша белым паром изо рта. — Благословенный святой Андрей посылает знамение, — напыщенно провозгласил он. Киркпатрик с улыбкой кивнул, соглашаясь, хотя ему и пришлось прикусить язык, чтобы не отпустить ядовитое замечание, что это может быть очередным знамением святого Малахии. — Будем уповать, сие означает, что Хэл Хердманстонский несет добрые вести, — присовокупил граф Каррик, и Киркпатрик поежился. — У меня зубы стучат, — сказал он, приемлемо подделавшись под государя Хердманстонского, ехавшего достаточно далеко позади, чтобы услыхать. Брюс ответил ему белозубой улыбкой; они ехали вверх по дороге к темной громаде Рослина с тянущейся позади свитой Каррика под цокот копыт и лязг металла. Долгая черная гроза Длинноногого наконец выдохлась. Граф-маршал Роджер Биго повел свое войско на родину, как и Херефорд, и хотя они имели полное право так поступить, отбыв положенный срок службы королю и державе, Эдуарда это взбеленило. Поневоле тоже свернув к югу, он ураганом пронесся через Эршир, разграбляя города и деревни, — кроме Эра, который Брюс спалил загодя, чтобы англичане не смогли ничем поживиться. Длинноногий, желчный, как старый кот, вместе с еле живыми остатками армии, уже пожирающей собственных лошадей, захватил владения Каррика в Лочмабене. Потом последним неуклюжим взмахом когтистой лапы разграбил Джедборо и откатился назад в Англию, уже скликая войско для новой летней кампании. Все это, раздумывал Брюс, обошлось губительно дорого — для обеих сторон. Тысячи шотландцев полегли под Фолкерком, среди них лучшие из лучших света королевства — Мюррей Ботвеллский, Грэм Аберкорнский, Макдафф Файфский. Справиться с мощью англичан было попросту невозможно, и Уоллес грубо просчитался, попытавшись дать бой. Мори такой глупости не совершил бы. И все же дело обернулось не так уж и скверно, добавил про себя Роберт. Влияние его отца избавило Аннандейл от наказания со стороны Эдуарда, так что пострадали только земли Карриков. Уоллес утратил доверие, и, хоть и пришлось ради этого впрячься в одно ярмо с ненавистным Рыжим Джоном, Брюс стал Хранителем, на шаг приблизившись к вожделенному и наконец обретя власть в стране. Достаточную, чтобы избавить Хэла от участи беглого татя, скрывающегося от закона, и снова принять его под свое крыло, а Хердманстон остался в его руках просто потому, что у назначенного Эдуардом нового владельца — сэра Роберта Маленфонта — маловато сил, чтобы размахивать монаршей грамоткой перед Хранителем Шотландии. «Да и кишка тонка, — подумал Брюс, бросая взгляд на согбенную тень былого лотианского владыки. — Мне нужен этот хердманстонский человечишко, и всем ведомо о моей в нем заинтересованности, так что даже Бьюкен не решается артачиться. Казалось бы, мог хоть улыбнуться по этому поводу», — мысленно посетовал он. Хэлу мир представлялся омерзительней тухлой баранины, так что за всю долгую поездку до Рослина он не обмолвился ни словом. В зале присел на корточки, как затаившийся паук, пока Генри Сьентклер оживленно болтал, его дети играли, а жена Елизавета грациозной лебяжьей походкой двигалась по замку, занимаясь приготовлениями к визиту графа Каррикского. И все это, понимал Сим, лишь усугубляло боль утраты, и тревожился куда сильнее, чем в дни, когда его государь потерял жену и чадо. И тогда он предложил Хэлу то же, что и всегда, — непоколебимую дружбу, верность, на которую можно положиться, и искусное владение конем и оружием, не раз навлекавшее на них беду и выручавшее из нее. Взамен Сим получил единственный родной дом и единственного человека, которого мог назвать другом, несмотря на разницу в положении. И теперь его терзало, что все это было тщетно — Изабелла исчезла, как утренняя дымка, и узнали они это лишь после того, как много месяцев рыскали по лесным дебрям и холмам, скрываясь от англичан — и шотландцев, состоящих у них на содержании, — охотившихся на Уоллеса. Прибытие гонца Брюса, чтобы умыкнуть их из последних остатков воинства Уоллеса, принесло благословенное облегчение с примесью стыда за это чувство. Сам Уоллес — лишенный титула и полномочий, снова облачившийся в былое положение разбойника, пришедшееся впору, как старый плащ, — просто пожал плечами и пожелал им счастливого пути. И не так уж много времени спустя они узнали о случившемся и в Хердманстоне, и повсюду. — За ней пришел гадкий тип, — поведал им Куцехвостый. — Хранитель с ноготок, сам Рыжий Комин. Ее дядя сложил голову в Фолкерке, и это все переменило. Конечно, Хэл узнал об этом после битвы, пробуждаясь в горячечной испарине ночей, заполненных смертью, бледными ликами, воплями и сталью. Макдафф погиб, и Изабелла стала единственной ниточкой, позволяющей Бьюкену удерживать власть над поместьями Файфа. — Она велела мне сказать, что все тщетно, — вел дальше Куцехвостый с искаженным от горя лицом. — Поведала, что нонеча ее муж не станет давать спуску и что Хердманстон в опасности. Хэл поблагодарил Куцехвостого, и тот ушел, сгорбившись под бременем утраты и злости на собственное бессилие. А он так и остался стоять в оцепенении; Изабелла вернулась к Бьюкену. Как ни странно, понимал он, хоть она и вернулась в золоченую клетку, но теперь в куда большей безопасности, нежели прежде, и даже располагает собственными средствами воздействия. И наверняка частью цены ее кротости было условие, чтобы ни он, ни его дом не пострадали. Но цена высока, и даже когда возвращение в Хердманстон подтвердило, что тот по-прежнему принадлежит ему, Хэл чувствовал горькую цену этого каждый раз, когда видел одинокий покой в башне, аккуратно сложенное платье, кровать — и медальон продавца индульгенций, оставленный Изабеллой на подушке. Брюс, конечно, издал какие-то сочувственные звуки — и был поражен черной меланхолией Хэла. Кто бы мог подумать, что Изабелла может стать причиной подобного… Он тоже видел ее, когда Рыжий Комин и Бьюкен прибыли на Парламент в Скун, дабы сместить Уоллеса и перестроить власть в королевстве. Напыщенный граф привез графиню с собой, выставляя ее напоказ, будто какой-то олень — вернувшуюся лань. Брюсу бросились в глаза соколиная гордость ее осанки и отчаяние на дне глаз, и в душе всколыхнулся гнев: несомненно, Бьюкен снова поставил на блудную жену свое тавро. Но еще в ней читалась непокорность — и скорбь утраты. Кто бы мог подумать, что человек вроде Хэла мог пробудить в ней подобные чувства… Благодаря былой близости Брюс видел ее стиснутые зубы и ощутил приступ сочувствия к ее злосчастью, однако любовь осталась для него загадкой. Почти такой же, как повенчавшая его и Рыжего Комина с участью Шотландии. Этот мелкотравчатый хлыщ возвысился так исключительно потому, что владеет правом притязать на трон королевства и нужен Коминам, чтобы дразнить его, Брюса. И все же Роберт порадовался, что Хэл там не был и не видел Изабеллу с Бьюкеном, ибо без кровопролития не обошлось бы. — Странен сей союз, — заметил Генри Сьентклер за едой, и Брюс, продолжавший размышлять о Рыжем Джоне, подтвердил это взмахом руки. — Уишарт говорит, Бог еще может его наладить, — сказал он с кривой усмешкой. — Мне пришла от него весточка из Роксбургского заточения. Поерзав, сэр Генри состроил гримасу. — Право слово, женский ум ведом ему лучше, нежели я полагал, — ответил он, и на миг Брюс застыл, разинув рот с недожеванным куском. Киркпатрик хихикнул. — Полагаю, государь Рослинский имел в виду брачный союз Бьюкенов, — пояснил он, — а не вашу помолвку с Рыжим Комином в роли Хранителей. — Вы вряд ли проложите прямую борозду с этим человечком у локтя, — вдруг заявил Хэл. — Более несовместную упряжку волов не сыскать. — Воистину, — проронил Брюс с застывшей улыбкой. Ему не понравилось ни сравнение с волом, ни нескрываемая сердитая замкнутость этого человека. — По нраву ли вам угощение, государь мой граф? — спросила Елизавета в отчаянной попытке разогнать сгустившиеся тучи. Каррик благосклонно кивнул, хотя, правду говоря, считал государыню Рослинскую чересчур набожной, чтобы угодить гостям, — особливо ему. Быть может, жареная рыба и чечевица с овсяными опресноками — идеальная библейская пища по такому случаю, напоминающая каждому, что святой Андрей — покровитель бедных рыбаков, но немногим лучше, чем пост, и только. Однако он все равно сумел сохранить улыбку на лице, глядя, как сэр Генри с женой обмениваются любящими взглядами. Что ж, размышлял наблюдавший сие Киркпатрик, ты устроил это воссоединение любящих сердец и, смею предположить, считал себя заслуживающим изъявления бурных благодарностей и клятв — или хотя бы пристойной трапезы. Дурак же ты, государь мой граф… слишком многие еще относятся к тебе с подозрением. — Где Уоллес? — ножом рассек негромкую болтовню голос Хэла. — Скрылся, — кратко ответил Брюс. — Где скрылся? — Хэл поднял голову. — Во Франции, я слыхал, — ответил Киркпатрик, и Каррик кивнул, продолжая жевать. — Удрал, — сумел он выдавить между двумя глотками комковатого опреснока. Хэл нахмурился. Бегство совсем не в духе Уоллеса, и он выложил это напрямую, ожидая выпяченной губы и сдвинутых бровей, — и потому удивился, когда Брюс в ответ задумчиво кивнул: — Воистину. Рыжий Комин рвет и мечет, что оный не спросил соизволения Хранителей — имея в виду, конечно же, себя — покинуть державу после отречения от поста Хранителя. Подозреваю, посягает на имения Уоллеса. — Отречения, — произнес сэр Генри с нарочитой интонацией. Встретившись с Брюсом глазами, он чуточку покраснел. — Вряд ли по собственному произволу, государь мой граф. — По принуждению, — без обиняков заявил Хэл, осерчав от волчьей тоски услышанного. — Доблестных нобилей на конклаве в Скуне. Не удовольствовавшись тем, что драпанули в Фолкерке, как зайцы, они накинулись на Уоллеса, словно все это его деяния. Предан, потому что скроен не по их аршину. А теперь вы говорите мне, что они грызутся из-за жалкой горстки его земель… — Полагаю, — резко бросил Киркпатрик, — вы не бросаете тень на государя моего графа, вашего сеньора. — Ей-право, довольно, — промычал сэр Генри, и его жена ринулась закрыть собой брешь, лучезарная и воздушная, как солнечный луч. — Сладкой кашки? — вопросила она и, не дожидаясь ответа, хлопнула в ладоши. Слуга со всех ног бросился исполнять приказание. Брюс отчасти пристыженно улыбнулся Хэлу. — Шотландия предала себя, — ровным тоном ответил он. — Вы все бежали в Фолкерке, даже Уоллес под конец. Это факт и бесчестие — и спасительное милосердие, ибо если б вы остались и сражались, то все сложили бы головы. В свою защиту могу сказать, что у меня было довольно дел в Эршире, не позволявших отлучиться, но я бы галопом понесся с этого поля, как и все остальные. Хэл ощутил, как желчь подкатила под самое горло, понимая, что Брюс прав, и признал это, резко кивнув. Бежали все они, и благодаря этому горделивый Эдуард учинил свою бойню, но не одержал настоящей победы. Королевство приперто спиной к стене, как никогда прежде, и хотя схватка стала еще беспощаднее, держава не склонила головы, как и прежде. И теперь сопротивление стало таким же, каким было всегда: молниеносный удар из леса или с холмов, а потом лисий побег в укрытие. Именно такой тактикой Брюс не давал англичанам покоя в Эршире, выказав удивительную сноровку. Он учился у Уоллеса на совесть, подумалось Хэлу, и когда граф закончил, по сравнению с посеянным Брюсом опустошением пустыня показалась бы корзиной жареных кур. Этот новый беспощадный подход позволяет Брюсу уничтожать даже собственные владения, если это поможет чинить препоны врагу: он дотла сжег замок Тернберри, а Хэл знал, как Брюс любил это место, потому что и сам там родился, и мать его любила этот замок больше других. В этом человеке проснулась новая решимость, и искушенность его все растет, понял Хэл. И следующие слова Брюса это подтвердили. — Уоллес бежал во Францию, — добавил тот, уставив хмурый взор в миску перед собой, — ибо не может питать уверенности, что его не выдадут свои же. Уоллесу мира не будет. Эдуард жаждет насадить его голову на кол перед воротами. Взглянув на графа Каррикского с новой заинтересованностью, Хэл увидел, как за два года его сердитый лик стал более суровым и вдумчивым. В нем есть сталь — хотя сможет ли она согнуться, не сломавшись, рядом с Рыжим Комином, вопрос другой. Поерзав, Брюс бросил взгляд на сэра Генри, а затем подчеркнуто устремил его на Хэла, и тот, кивнув, устало оттолкнулся от стола, вставая. — Пора. Сэр Генри встал, и засуетившиеся слуги принесли факелы. Оставив Елизавету и слуг в зале, они углубились в колышущиеся тени и холодную тьму крипты, сходя по ступеням, пока лестница не изрыгнула их в циклопическую сводчатую утробу рослинских подвалов. Дыхание курилось в холодном воздухе; бочки и копчения поблескивали инеем. — Тут малость доделали со времени, когда я последний раз был дома, — задумчиво проронил Генри Сьентклер, поднимая чадящий факел. — Да и цитадель у вас теперь каменная, — докинул Хэл. — Я бы доделал остальное, и поживее, государь мой Рослинский, раз ваши деньги на выкуп более не потребны: ежели Эдуард вернется, деревянные стены Рослина не устоят, а защита храмовников, коей мы, Сьентклеры, пользовались ранее, уже не столь тверда, как прежде. Генри скорбно кивнул, а Брюс, отбрасывавший длинную зловещую тень, отмахнулся как от мухи. — Замки из камня хороши, да только сейчас важен лишь один камень. — И с этими словами обернулся к Хэлу: — Что ж, сэр, вы утверждаете, что держите в руках наше общее спасение. Вам ведомо, где лежит Подушка Иакова?[636] Выудив медальон, Хэл вручил его графу, и тот, нахмурившись, принялся вертеть его в облаченной в перчатку руке так и эдак. — Оберегающая медаль, — фыркнул он. — Такими продавцы индульгенций торгуют повсюду. Вроде той, что мы отобрали у оного сморчка Лампрехта. Хэл смотрел, как Киркпатрик и Сим, получившие надлежащие наставления, движутся вдоль сводчатого коридора, перекладывая тюки и бочки, вглядываясь в пол и ведя подсчет на палочках. Брюс и сэр Генри с интересом наблюдали. — Он самый и есть, — сообщил Хэл, следя за двумя факелами, подпрыгивающими по мере продвижения по плитам пола. — Как раз продавец индульгенций и растолковал мне смысл знаков. Повертев медальон, Брюс передал его сэру Генри, близоруко уставившемуся на него. — Рыба? — рискнул предположить тот, и Хэл извлек перстень, висящий на снурке у него на шее. — Точь-в-точь такая, как на этом, — объявил он, — каковой Древлий Храмовник завещал мне на смертном одре. Назвав его стародавним грехом. Брюс посмотрел на Хэла в упор, и того опять поразило отсутствие детского недовольства, уступившего место твердой решимости с поджатыми губами и кивком согласия. Подошедший Сим покачал головой; у Хэла внутри все перевернулось. — Наоборот, — велел он, и Сим кивнул. Факелы снова запрыгали: отсчет начался заново. — Перстень каменщика, — продолжал Хэл. — Принадлежавший Гозело, работавшему тут, прежде чем его вовлекли в ваши… происки, мой государь. И заплатившему за них жизнью. — Да-да, — пробормотал нахмурившийся Брюс чуть ли не себе под нос. — Кабы он не удрал… печальная необходимость ради безопасности королевства. Перстень перешел к Древлему Храмовнику, а затем к вам. Эта рыба — христианский символ ветхих времен. Какое он имеет отношение к отысканию Камня? Генри, лишь недавно посвященный во все это, встрепенулся, покачав головой от искреннего, неподдельного ошеломления. Заговоры в Шотландском королевстве не в диковинку, равно как и убийства, неизменно сопровождающие каждый из них, но даже при этом беззаботный тон, с каким граф Каррикский отрешился от убийства, внушал тревогу. Прыгавшие факелы вдруг остановились, и Сим с Киркпатриком одновременно вскрикнули. Хэл устремился вперед, и остальные последовали за ним, сомкнувшись бездыханным кольцом вокруг единственной широкой плиты пола с резьбой, смутно проступающей в свете факелов. — Рыба, — подчеркнул Хэл, и Брюс согласился, а затем указал налево: — И вот. И вон там. Отмечена каждая плита, тут их десятки. — Именно так, — подтвердил Хэл. — Это знак Гозело, каковой оставляют все каменщики, и если представляется, что он гордился здешними творениями чрез всякую меру, то не без резона, государи мои. Пока он говорил, Сим и Киркпатрик, натужно дыша, так что их дыхание сливалось в единое облако, вставили в желобки камня ломы. — Это не подлинное клеймо каменщика, — стремительно говорил Хэл по-французски, выплевывая слова, словно те обжигали рот. — Гозело не был одарен воображением и думал, что нашел добрый христианский символ сей страны, способный угодить вкусам заказчиков. Он взял знак рыбы оттуда же, откуда и все изготовители святых медалек, и по той же причине — чтобы произвести впечатление и потому, что изготовить его легко. Он приподнял медальон и пояснил, пока все смотрели на символ: — Взято из Колодца Чаши[637] в Гластонбери. Видите: одна окружность проходит через центр другой такой же. Пустячок посередине называется vesica piscis, что и дало название клейму. — Рыбий пузырь, — задумчиво перевел Брюс. — Разумеется. Я и забыл, что Колодец Чаши им отмечен. Послышался скрежет камня, и плита приподнялась. Пыхтя, двое взмокших мужчин выдвинули ее с долгим шелестящим хрустом, оставив темную дыру. Ее студеные недра будто всосали вздох облегчения Хэла. — Священный христианский символ рыбы времен римлян, — растолковал тот. — Лампрехт знает свое дело и поведал мне о его святой природе — и мне стало ясно, чем этот символ так по душе каменщикам. Я не счислитель, да и он тож, однако свое дело с реликвиями знает туго, а священная рыба имеет отношение ширины к высоте, составляющее квадратный корень из трех — двести шестьдесят пять на сто пятьдесят три. Последнее число есть число рыб, пойманных чудом, явленным Господом Нашим, так что в нем промысел Небес. — Святое благовествование от Иоанна, — выдохнул Киркпатрик, изумив всех познаниями, тут же заморгав и подобравшись под устремленными на него взорами. — Двести шестьдесят пять камней со знаком рыбы в одном направлении, сто пятьдесят три в другом, — и получаете вот это. — Хэл поднес факел к отверстию, так что свет упал на медово-золотистую древнюю плиту из песчаника, пристроенную внутри. — Тайник Древлего Храмовника, — объявил он, потом бросил взгляд на Генри, с разинутым ртом вытаращившего глаза. — Рискну предположить, что вы пожелаете извлечь хранящиеся там крепости, титулы и рослинские секреты, Генри, но сперва придется поднять тяжелую крышку. — Камень, — возгласил Брюс, восторженно крякнув. — Вдвоем управиться нелегко, но можно, — добавил Киркпатрик, и последовала пауза, во время которой всем представилось, как Древлий Храмовник и рослинский распорядитель Джон Фентон тащат Камень в крипту и прячут его. — Оный Гозело был умен, — подал голос Сим, бросая взгляд на насупившегося Киркпатрика. — Токмо не больно скор на ногу, егда приперло. — Истинно, добро, — произнес Брюс, выпрямляясь. — Как только вы заберете все, что потребно, сэр Генри, скройте его заново. И обвел взглядом лица, озаренные кровавым светом факелов, с дыханием, курящимся, как медовый дымок. — Итак, все мы тут причастны к будущему королевства, — вымолвил он. — В отсутствие епископа Уишарта я призываю всех нас преклонить колени и помолиться о силе сохранить решимость и беречь сей секрет, пока не пробьет час. Такая набожность застала врасплох даже Киркпатрика, но он послушно встал на колени. Брюс и Хэл последними опустились на студеные камни, обменявшись долгим взглядом поверх голов молящихся. Пока не пробьет час, безмолвным эхом повторил Хэл. Час, когда Брюс сделает свой ход. — Добро пожаловать в ваше королевство, — сказал ему Хэл с мрачной яростью. — Куда более кровавое место в эти дни, государь мой граф. Солнце улыбки Брюса сверкнуло равнодушным ножом, пронзившим и горькую кручину Хэла, и круговерть боли королевства. — Hectora quis nosset, si felix Troia fuisset? — откликнулся он, подобный льву в своих новых мечтаниях, а затем добавил на безупречном английском: — Кто знал бы Гектора, будь Троя счастлива? (обратно) (обратно)
Последние комментарии
2 дней 1 час назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 11 часов назад