Юрий Арбат ЧАСЫ С БОЕМ
Рассказы и фельетоны
Иллюстрации И. СЕМЕНОВАЛЮБОВЬ К ФЛАМАНДЦАМ
Никто не мог понять, откуда вдруг у Зои взялась любовь к фламандцам. Но вот уже неделя, как эта любовь существовала; она была глубокой и яростной, что испытали на себе почти все Зоины родные и знакомые. Зоя, которая раньше думала только о нарядах, о нейлоне, перлоне, замшевых туфлях и букле́, теперь могла по четверть часа говорить о живописи. И как говорить! С блеском в черных миндалевидных глазах, с самым настоящим волнением, заставлявшим ее вскакивать со стула и подступать к собеседнику с неотразимыми доводами. Зоя судорожно кинулась в водоворот искусства. Зарождение любви оказалось делом не таким уж сложным. Зоя старалась все делать, «как в лучших домах». В одном из таких, по ее мнению, лучших домов она увидела, как муж умчавшейся куда-то ее подруги вешает новую картину. — Что это? — спросила она с той наивностью, которую иногда называют менее любезным словом. — Картина! — мрачно ответил муж. (За картину жена устроила ему нагоняй.) — Неужели? — не смущаясь, отозвалась гостья. — А вы думали, я приму это за кофточку или шляпку? Вид у Зои в эту минуту был победоносный. Она считала себя неотразимо остроумной и часто «сражала» таким образом своих «противников». — Меня интересует, какой школы художник: французской, немецкой или еще какой. Муж подруги скрыл улыбку и мирно ответил: — Ах, вот вы о чем! Это фламандец. Пока не могу сказать, кто именно: не то Вандервельде, не то Ван дер Люббе. Сейчас это выясняют эксперты из музея. Цена, уплаченная любителем искусства за картину, поразила Зою. Она сразу же прониклась уважением к скромному натюрморту. А муж подруги так же равнодушно добавил: — Картина — это всегда деньги. Придет трудная минута — продам. С этого дня Зоя и полюбила фламандское искусство. Чуть не каждый день к ней стал являться комиссионер Подползухин. Муж у Зои был человек покладистый. Инженер, он строил дома и мало интересовался хозяйственными делами собственного дома. Едва он уходил на работу, как раздавался звонок, и бархатный голос комиссионера рокотал: — Душенька! У меня есть такая прелесть для вас! Правда, видел ее член-корреспондент Порубай-Саблин, но у меня именно к вам душа лежит. Уж вы не осудите меня, старика, за эти слова. Он приходил, и начинался долгий разговор о школах и художниках. Собственно, это был монолог одного комиссионера, так как Зоя только слушала. Скоро она привыкла к словам «импрессионист» и «плене́р», хотя так и не поняла их смысла. Комиссионер Подползухин сыпал фамилию за фамилией и в подтверждение гениальности названных листал справочники и указывал толстым мизинчиком на строки, где значились эти фамилии. Он поражал Зою своими знаниями. Подругам Зоя звонила: — Если бы вы знали, какого Форо я купила! — Кого? Кого? — переспрашивали на другом конце провода. — Форо! — снисходительно повторяла Зоя. — Это, конечно, не Рафаэль и не Налбандян, но он принадлежит к французской школе! Милая моя, ты отстаешь от жизни. Иногда сообщения Зон были еще более восторженными: — Удалось достать чу́дную картину. Ты не поверишь, она написана на красном дереве! У меня как раз работал столяр, полировал мебель, так он говорит, что это — настоящее красное дерево. Представляешь?! — А что там изображено? — интересовалась собеседница. — Какие-то устрицы! И еще лимон. Все так темно, что не сразу разберешь. Я вместе с Подползухиным показывала картину одному человеку, который близок к закупочной комиссии, и он сказал, что это музейная вещь. Ну не для Москвы, а для периферии. Он предлагал ее купить, но я, конечно, не согласилась. Да! Я забыла сказать о раме. Чудо! Просто чудо! Такого благородного золотого цвета. Я ненавижу, когда картины в простом багете. Фи! В рамах, будь уверена, я теперь разбираюсь. Недавно была в Третьяковской галерее. Вот где рамы! Так продолжалось неделю. В Зоиной квартире уже висело четыре шедевра фламандской школы. Муж смотрел на них почтительно: он не считал себя специалистом в искусстве; кроме того, расходы по дому находились в безраздельной власти Зои. Родным и знакомым не стало от Зои житья. То сенсацией оказывалась картина: «Предполагают, что это люксембургская школа», то картина «овальная, как мое зеркало». Знакомые мужа дали приказ всем домашним, что если будет звонить Зоя, отвечать, что их нет дома. Пусть выдумывают что угодно: уехали на дачу, заседают в месткоме всей семьей, хоронят тетку.
И вдруг, так же неожиданно, как и началась, любовь к фламандцам, французам и прочим у Зои прошла. Кто-то попробовал было объяснить это ее капризным, взбалмошным характером. Но нет. Тут была тайна. Зоя раскрыла ее только одной — самой близкой — подруге: — Этот Подползухин оказался жуликом. Подсунул мне бог знает что! Посмотри на эту парочку. Ну как я ее вывешу? Ведь к нам приходят племянницы. Они такие любознательные. Могут задать вопросы. Какому-нибудь лектору в музее хорошо рассказывать, кто такой Марс, кто Венера. А я? Что я, из Общества по распространению знаний? А этот дом? Это просто… как это называется… «эскиз». Строил какой-то помещик дом где-то в Париже или Берлине, а я любуйся черепичной крышей и фонтаном. Зачем они мне сдались?! — О чем же ты раньше думала? — не смогла не улыбнуться подруга. — Тебе хорошо смеяться! — даже обиделась Зоя. — А знаешь, сколько я ухнула на эти штучки? Сказать страшно! Знатоки, черт бы их взял, любители! Нет чтобы подыскать действительно ценную картину Вандервельде, или Ван дер Люббе, или еще какого-нибудь Вана. Пусть бы даже устрицы с лимоном — как-нибудь я бы выдержала, лишь бы сто́ящая вещь! — Но ведь тебе нравились эти картины! — удивилась подруга. — Вон та овальная особенно! — Здравствуйте, я ваша тетя! — фыркнула Зоя. — Ничего мне не нравилось. Просто в одном доме сказали: картины — это те же деньги. А тут разговоры о реформе. И, главное, из самых достоверных источников. Я и накупила. А теперь ясно, что ничего не будет. Ну, ладно, как только снова пройдет слух, Продам всех своих фламандцев. Есть у меня знакомые на примете. Я давно собираюсь устроить им пакость. А сама куплю нейлон. И неунывающая Зоя прищурила свои миндалевидные глаза и изобразила улыбку, которую считала обворожительной. Эта улыбка, по ее мнению, очень шла к ее зелено-оранжевой нейлоновой кофточке с кожаными пуговицами. 1957 г.
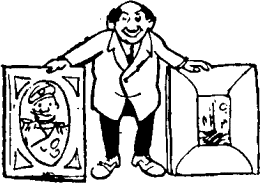
СОР ИЗ ИЗБЫ
Света пришла из школы возбужденная, с пылающими щеками. — Папа! — сказала она решительно и бросила портфель с книгами на кровать, чем вызвала укоризненный взгляд мамы. — Да? — отложил газету отец. Николай Николаевич работал конструктором станкостроительного завода. Человек тихий и сосредоточенный, он всегда, даже дома, был занят размышлениями о станках. — Мы хотим с тобой поговорить, — все с той же решительностью продолжала Света. — Кто это мы? — Я, Таня и Игорь. — А где же они? — Ждут на улице. — Ты бы хоть позвала их. — Я не знала, дома ты или нет. Через минуту вошли Светины одноклассники — мальчик и девочка. Про высокого черноглазого и очень застенчивого Игоря Света уже рассказывала родителям. Когда класс ходил в бассейн сдавать нормы, тренер звал Игоря в спортивную школу: у него исключительные способности к плаванию. Таня, Светина подруга, была беленькая, остроносенькая, и про нее Светин папа знал, что она уже прочитала всего Бальзака и «Консуэлло» и ведет дневник, где беспощадно критикует свои недостатки. Некоторые места в дневнике Таня показывала только Свете, зная, что та одобрит непреклонное ее решение идти после школы работать на завод и учиться в вузе заочно. — Здравствуйте! — сказали вместе Таня и Игорь. — Здравствуйте! Ну, какие сложные проблемы не дают спокойно жить восьмиклассникам? И чем я могу быть вам полезен? — Слушай, папа! — торжественно начала Света Таня и Игорь напряженно смотрели ей в рот. — Я тебе рассказывала про Валю… … Валя училась в том же восьмом «А» классе. Как и Свете, ей было четырнадцать лет. Валин отец уехал на три месяца в командировку в Мурманск, на какое-то месторождение. Все было бы ничего, но через месяц и мама отправилась туда же — «повидать папу», оставив единственную дочь на попечение бабушки и взяв с Вали слово, что она, как сознательная девочка, будет вести себя образцово и помогать бабушке в работе по дому. Но выдержки у Вали хватило ненадолго. Первым делом она разыскала мамины капроновые чулки с узорной пяткой и в таком виде пошла щеголять к подруге. Затем каждый день стала убегать на танцы или в кино и возвращаться домой в час ночи. В табеле появились тройки, а затем и двойки. Бабушку пригласили на родительский комитет и в ее присутствии отчитали внучку. Валя держалась вызывающе, презрительно щурила глаза, смотря на классную руководительницу, которая вела заседание комитета, и на все упреки либо отмалчивалась, либо нехотя отвечала «да» и «нет». Чтобы добиться хоть какого-нибудь результата, с девочки взяли обещание исправиться, хотя уже знали, что Вале ничего не стоит и дать и нарушить слово. Дома бабушка сказала Вале: — Неужели тебе не стыдно? — Подумаешь, дело-то какое! — беспечно ответила Валя и заперлась в ванной, где стала читать роман Драйзера, вместо того чтобы решать задачи по физике на равномерное прямолинейное движение. Позавчера поздно вечером Валя опять собралась в кино — третий раз на «Хлеб, любовь и фантазию». Бабушка встала у двери и трагически произнесла: — Ты переступишь порог только через мой труп! Валя, недолго думая, оттолкнула старушку и с подчеркнуто самостоятельным видом вышла из квартиры. Сеанс окончился около часу ночи. Бабушка дожидалась внучку, сидела и плакала. Она открыла Вале дверь молча, но всем своим видом показывала, что кровно обижена. Это, однако, не произвело на внучку ни малейшего впечатления. Эпопею с Валей Света вчера рассказала отцу. Светин папа, разговаривая с детьми, всегда шутил и острил, считая, что это лучший способ расположить их к себе. И сейчас он спросил: — Что нового? Бабушка овладела техникой бокса и нокаутировала внучку? — Нет, папа, я серьезно, — нахмурившись, сказала Света, и сразу же нахмурились и Таня с Игорем.
И только тогда, когда с лица папы сошла улыбка, Света продолжала: — Сегодня к нам приходили из комитета комсомола и спросили, можем ли мы написать в школьную газету о Вале: «Как вырастают тунеядцы». Мы, конечно, сказали, что напишем, потому что все на нее злы. Сколько раз ей по-доброму советовали, а она хоть бы что. Весь класс подводит. Думаешь, интересно, если о восьмом «А» будут говорить на комсомольском собрании школы? Ты у себя на заводе член редколлегии стенгазеты. Помоги нам написать. Это дело ответственное. Светина мама, тревожно прислушивавшаяся к рассказу дочери, отложила книгу и спросила: — Вот так все и напишете: и про капрон, и про танцы, и про кино, и про то, что бабушку толкнула? — И что в булочную за хлебом не хочет ходить. И что грубит, — добавила Таня, всегда помогавшая матери, у которой было больное сердце. — Есть еще предложение написать родителям в Мурманск, но пока решили подождать, — сказал Игорь. — Посмотрим, повлияет ли заметка. — Какой ужас! — произнесла Светина мама. Она переводила взгляд с дочери на Таню и Игоря, а с них на мужа, который доставал из письменного стола голубую рижскую бумагу. — Ничего, заметка в стенгазете ее приструнят, — сказал папа. — У меня был зам — отчаянный ругатель и сквернослов. Я его не раз предостерегал, а он ноль внимания. А как на него шарж в газете поместили, так он стал говорить с большими паузами, и мы сразу сообразили, что это критика на него подействовала и он теперь ругается про себя. — Но написать, чтобы все знали?! — патетически заговорила Светина мама. — Какая это травма для девочки! — Что такое травма? — спросила Света. — Коля, как это лучше объяснить ребенку? — обратилась к мужу Светина мама. — Ну, повреждение при помощи внешнего воздействия. — Воздействие — это верно, — одобрительно качнула головой Света. — На Вальку и надо воздействовать. А поврежденная она сейчас. Напишем — исправится. Против всего класса она не пойдет. Это ясно. А все комсомольцы твердо решили больше не мириться с ее фокусами. — Нет, дети, — продолжала, все более волнуясь, Светина мама, — вы хорошенько подумайте, прежде чем писать. Я уверена, что лучше отказаться от этого намерения. Вам приятно было бы, если бы про вас так написали? — Мы так не делаем! — в один голос, будто сговорившись, воскликнули Таня и Игорь. И оттого, что это вышло складно, все трое рассмеялись. — У вас свои грехи есть. — Пожалуйста, пусть пишут, если справедливо, мы не боимся, — убежденно заявила Таня. Светина мама покачала головой: — Лучше сказать учительнице. Пусть она… — Она тысячу раз отчитывала Вальку. И теперь тоже считает, что надо протащить ее в стенгазете, — перебила Света. — А ты папе рассказывал об этом деле? — спросила Игоря Светина мама. Игорь смущенно улыбнулся: — Он говорит: «Зачем выносить сор из избы?» — А моя мама за то, чтобы написать, и она рада бы помочь, да только у нее слог неважный. Это она мне сама сказала, — выпалила Таня. Светин папа закивал головой, а Светина мама вскочила со стула и, не обращая внимания на Танины слова, заявила: — Вот видишь, Коля, не только я так думаю, но и папа Игоря. Ты абсолютно неправильно делаешь, поощряя разные кляузы среди детей. — Это не кляузы. Это самокритика. И вмешательство коллектива, — ответил папа, смущенно разглаживая голубую бумагу, на которой уже появился чертеж каких-то шестеренок. — Ах, оставь, пожалуйста! — вскинулась на него мама. — Ты сейчас в семье, а не на собрании и не на своей ред-кол-ле-гии. Последнее слово она выговорила по складам, презрительно, чуть в нос, точь-в-точь, как в некоторых театрах произносят иностранные слова. — Да я что? Я ничего, — сразу сник Светин папа. — Я только высказал свое мнение. Полагаю, что это никому не возбраняется. — Вот потому, что не возбраняется, у нас так много «мнений» о воспитании, — назидательно и все более повышая тон, говорила Светина мама. — А все дело в том, чтобы старшие показывали пример и разумно руководили. Наш долг — оградить детей, пока можно, от всяческих дрязг, от житейской грязи. Будь уверен, что они испытают неприятности. Этого вокруг сколько угодно. Возьми хотя бы Иевлевых. Едва придут с работы, как начинают ссориться. Мне через стенку все слышно. Но я же об этом не кричу на всех перекрестках. Потому что если я про них скажу, то и они будут перемывать мои косточки. — Позволь, они играют в заводском драмкружке и дома репетируют, — попробовал было уточнить факт Светин папа. — Ах, оставь, пожалуйста! — вспыхнула мама. — У тебя на все найдутся оправдания. Нет, нет, я решительно против того, чтобы выносить сор из избы! Не тронь никого, и тебя никто не тронет. Если тебе нравится, — проявляй активность на заводе, но не сбивай с толку ребенка. И Светина мама снова уселась за книгу и стала обмахивать разгоряченное лицо шелковым платочком цвета павлиньего хвоста. Игорь и девочки приуныли. У них опустились не только плечи, но и уголки губ. Огонь в глазах погас. — Пошли, Таня, — тихо сказал Игорь. Еле слышно попрощавшись, они выскользнули за дверь. Через месяц Светина мама увидела Валю. Вместе с Таней и Игорем она в воскресенье зашла за Светой. Компания уговорилась идти в кино на новый фильм. Оживленная, улыбающаяся, секунды не стоящая на одном месте, Валя все торопила: — Опоздаем — не прощу! Когда Света вернулась домой, мама спросила: — Я все собиралась узнать у тебя: как теперь Валя учится? — Три двойки исправила. Иначе мы бы ее в кино не взяли. И девочка уверенно добавила, тряхнув головой, так что длинные косы разлетелись в стороны: — Есть еще тройка. Но не беспокойся, и ее исправит. — И вежливая какая! — Когда захочет, — сказала Света и отвернулась: ее взгляд встретился со взглядом отца. А мама говорила и говорила, и сразу было заметно, что она очень довольна: — Видишь, отлично все устроилось. Вырастет хорошей девочкой. А как легко могли вы причинить людям огорчение! Надеюсь, теперь ты, Коля, убедился, что я была глубоко права? Мать ушла на кухню. Света подошла к отцу близко-близко и зашептала: — Наверное, мама считает, что я все еще маленькая? Как ты, папа, думаешь, сказать, что это наша заметка на Валю подействовала? — Тс-с! Что ты?! — испуганно замахал на нее руками отец. — Еще, чего доброго, проболтаешься, что я тебе помогал писать. В этот вечер Николай Николаевич решал, наверное, очень сложную техническую задачу: он долго сидел над листом бумаги и все думал и думал. Но если бы Света заглянула в чертеж, как иногда делала, когда звала папу к чаю или ужину, то удивилась бы: в десятках вариантов была изображена она сама, Света, и не маленькая девочка, а девушка с комсомольским значком на форменном платье и с пристальным и серьезным взглядом.

МУЗЫКАНТ
Точность секретаря райкома партии Василия Петровича Снигирева была хорошо известна. Поэтому уже без пяти двенадцать исполняющий обязанности заведующего районным отделом народного образования Иван Никанорович Горищев сидел в приемной. «Я знаю, — невесело размышлял Горищев, вытирая платком тройную складку на затылке, покрытую от волнения мелким бисером пота. — Все заранее знаю… Пропесочивать будет. К месту или не к месту, а уж обязательно помянет: дескать, ты, Горищев, отсиживаешься в районе, не ездишь по колхозным селам, не заглядываешь в школы. Ну что ж, хочет, чтобы поехал? Пожалуйста!» Последние слова он мысленно произнес так трагически, будто клал голову на плаху, жертвуя собой за великое дело, и эту жертву по заслугам смогут оценить только потомки. Горищев знал, что есть за ним такой грех: не любит он трясти в поездках свои сто десять килограммов живого веса. Когда-то он был учителем пения, потом директорствовал в школах, а последние годы обосновался в районном центре. Заведующий часто болел, и Иван Никанорович его замещал. Секретарь райкома открыл дверь. — Прошу, товарищ Горищев! Под медлительный и басовитый бой часов, возвещавших наступление полдня, Иван Никанорович вошел в кабинет. — По прогнозам впереди дожди, — без предисловия приступил к делу Снигирев. — Надо завершать строительство школ. А вот у меня есть сигнал, пишет парторг из села Дудаки, что там часть кровли на новой школе не покрыта. Председатель сельсовета сидит дома, чаевничает, а о школе не думает. И материалы разбросаны. И в расчетах с рабочими что-то напутали. Надо съездить, проверить. С народом потолкуйте. Если потребуется, подскажите, что сделать, помогите. Секретарь поднял усталый взор на Горищева. — Ничего об этом не слышали? — Нет! — выдохнул Горищев. Секретарь нахмурился и сказал: — Отсиживаться в районе сейчас не время. Горищев стал краснеть с шеи и, когда кровь прилила к щекам, потянулся за платком. Он ждал, что секретарь райкома начнет развивать эту неприятную тему. Но Сннгирев поднялся и отставил кресло. — Выезжайте, не задерживаясь. Загляните домой, экипируйтесь соответственно — и в путь. Сапоги-то у вас есть? Горищев вытер пот и недовольно подумал: «Еще советы дает: экипируйтесь… Сапоги… Что это: восхождение на Казбек? Или розыски мертвого города Хара-Хото? Просто хочет показать активность, вот и гонит с глаз долой. Сам, небось, будет сидеть здесь и осуществлять общее руководство». Горищев вышел из кабинета. Он тут же позвонил домой: — Обед готов? Я заеду! Что? Нет, бог с ним, с отдыхом! Лучше поскорей отделаться. Часа через полтора, выходя из дома, Горищев посмотрел на небо, затянутое серой мутью, и покачал головой. Он втиснулся рядом с шофером в «Победу», буркнув только одно слово: — Дудаки! Это прозвучало у него, как «дураки». Шофер лихо повел машину: дорога на Дудаки была ему хорошо знакома. Упали первые капли дождя. Потом ударил ливень. Косой дождь хлестал в треснувшее и от времени ставшее палевым смотровое стекло. Казалось, что поля с оранжевыми скирдами хлеба и тронутой багрянцем зеленью — это цветная картинка, расчерченная сверху донизу мутным грифельным карандашом. «Еще полчаса такого потопа — и я засяду!» — уныло подумал Горищев. Уже осталось позади шоссе. «Победа» разбрызгивала кофейного цвета грязь на проселочной дороге. А дождь все сеял и сеял, такой же унылый, как и мысли у Горищева, который намеревался вечером вкусно поужинать, послушать радио, соснуть пару часиков и только после этого отправиться ненадолго «в контору». Вызов к секретарю спутал все планы любившего точный распорядок Горищева. Возле четырех березок с янтарными намокшими листьями показалось новое здание школы. За ним виднелись отстроенные колхозом в прошлом году дом сельскохозяйственной культуры и библиотека. — Дудаки! — счастливым голосом возвестил шофер. Горищев ничего не ответил. Машина ухнула правым колесом в раздолбанную колею, не видимую под водой необъятной лужищи, села дифером в глинистую гущу, и мотор заглох. — Слезай, приехали! — зло буркнул Горищев. Шофер долго пробовал сдвинуть машину с места. Мотор подвывал, но даже вода вокруг оставалась неколебимой. Судя по всему, застряли прочно. — Пойду в село! — виновато промолвил шофер. — Надо трактор просить. Он хотел было осторожно добраться до твердого грунта, но потом махнул рукой и погрузил левую ногу в лужу, так, что из воды торчал только верхний край голенища. Горищев услышал, как чавкала размокшая глина, и невольно пошевелил пальцами в легких полуботинках.
Секретарь райкома Снигирев после утреннего разговора с Горищевым сразу же выехал в дальний сельсовет, находившийся километрах в пятидесяти за Дудаками, и до дождя осилил главную часть пути. Через двое суток, когда солнце, уже успевшее высушить омытую дождями землю, приближалось к закату, секретарь райкома проезжал через Дудаки. «Если Горищев еще не уехал, прихвачу с собой! — решил Снигирев. — Кстати и потолкуем: давно хочу поближе с ним познакомиться. Как про таких говорят: «На подъем тяжел». Секретарь усмехнулся: выходит, что и он сам не легче на подъем, если столько времени собирается узнать поближе Горищева, а все откладывает. — Давай-ка, Толя, остановимся на перекур! — сказал он шоферу. День был воскресный. Машину сразу окружили ребята. — Здравствуйте, Василь Петрович! — нестройно загалдели они. — Здорово, друзья! — серьезно ответил Снигирев и спросил: — Конечно, вы все знаете, что на селе делается. Ну вот ты скажи, — обратился он к вихрастому пареньку с фиолетовыми пятнами чернил на пальцах обеих рук, — здесь еще товарищ Горищев? Но эта фамилия, видимо, ничего не говорила ни вихрастому, ни его товарищам. Снигирев пояснил: — Из районо! Ребята по-прежнему молчали и переглядывались, а один даже пожал плечами. — Странно: позавчера должен был приехать! — проговорил Снигирев и подумал: «Неужели опять какую-нибудь отговорку сочинил, чтобы остаться? Не может того быть!» Секретарь решил набраться терпения и завел разговор издалека: — В пятницу дождь был? — Ага! — весело ответил вихрастый паренек, радуясь возможности хоть что-то подтвердить. — В тот день на машине кто-нибудь сюда приезжал? — На «Победе»? — уточнил паренек. — На «Победе»! — подтвердил секретарь. — Темно-зеленая машина. — Ребята, это которая вечером возле школы села, — сведя брови и вытаращив глаза от сознания ответственности разговора, выпалил паренек постарше, с красной нашивкой звеньевого. — Точно! — согласился вихрастый. — Значит, установлено, что машина была! — по привычке резюмировал секретарь. — А в ней сидел такой приличных размеров дядя. Лицо — вот, шея — вот. Секретарь для убедительности развел руками, изображая Горищева. — Был такой пузан! — кивнул вихрастый паренек и пояснил: — Но только он не из районо, а музыкант. — Как музыкант?! — не мог Снигирев удержаться от возгласа изумления. — Расскажи толком. Вихрастый слегка покраснел, скосив глаза на приятелей, соображая, оценили ли они, что именно его, а не кого другого, даже не звеньевого, выбрал секретарь райкома для рассказа, и, не торопясь, начал: — Петька из шестого «А» прибежал и кричит: «Зеленая «Победа» у школы в лужу села!» Мы все туда, к школе. Верно: правым колесом загрязла. — Левым! — поправил звеньевой, видимо, очень обиженный, что для рассказа выбрали не его. Губы вихрастого презрительно выпятились и стали похожи на скобку, концами обращенную вниз. — Эх ты, левым! Ведь этот толстяк сидел справа. Или ты его спутал с шофером? Ребята рассмеялись. Видимо, все помнили необъятные размеры Горищева. Вихрастый продолжал: — Шофер пыхтел, пыхтел, а вывести машину не мог. Он пошел к трактористам. А те в ночной смене. Музыкант включил радио. Концерт какой-то транслировал. То ли Чайковского, то ли Глинки, я уже не помню. — Глинки! — вставил звеньевой. — Может, и Глинки! — великодушно согласился вихрастый. — Дядя Миша предлагал музыканту вылезти… — Кто это дядя Миша? — Председатель сельсовета, — поторопился сказать паренек с нашивкой. — Михаил Герасимович! Его дядя! Он ткнул пальцем в вихрастого. — Дальше! — попросил секретарь, стараясь скрыть улыбку. Он уже начал догадываться, что за история произошла с Горищевым. — Так вот, Михаил Герасимович и кричит музыканту: «Выходите, чайку попьем!» — а тот показал на свои ноги в полуботинках и галошах и на лужу и не вышел. «А чай, — говорит, — у меня в термосе есть». Концерт, конечно, многие послушали. У нас музыку любят. Свое-то радио в ремонте. — И чем же все это кончилось? — спросил секретаре, обращаясь на этот раз к звеньевому. Просиявший паренек с красной нашивкой затараторил так, будто заранее знал, что без него все-таки не обойдутся, потому заготовил свой рассказ и теперь шпарил наизусть: — Целую ночь музыкант просидел. Все транслировал. До семнадцати ноль-ноль концерт был, потом ответы на вопросы радиослушателей по международному положению, потом «Пиковую даму» из Большого театра передавали, потом спортивный выпуск последних известий. — Постой, постой… А «музыкант»-то что делал? — уже не скрывая веселья, спросил секретарь. — Как что? — удивился звеньевой. — За радиопередачей следил. Я же говорю, транслировал. Он растерянно посмотрел на хохочущего секретаря и закончил несмело: — А утром его эмтээсовский трактор вытащил. — Значит, в субботу утром он и уехал? — уточнил секретарь. На сей раз решил вставить фразу вихрастый паренек: — Он с дядей Мишей поговорил и уехал. — А дядя Миша к школе его не звал? — лукаво спросил секретарь. — Нет, нет! — в один голос загалдели ребята, а звеньевой сказал последнее слово: — А машина грязная была! Ух ты! В это время подошел председатель сельсовета Михаил Герасимович. Он подтвердил секретарю все, что сообщили ребята, но смущенно замолк, как только, речь зашла о школе. Снигирев досадливо потер переносицу и положил руку на плечо шофера. — Ставь коня, Толя, заночуем здесь. И ушел с председателем в сельсовет. По дороге к ним присоединился парторг. Хотя утром секретарь уезжал чуть свет, ребята снова окружили машину. Снигирев сказал на прощание: — Спасибо за информацию! А сам подумал: «Она нам пригодится на сегодняшнем бюро райкома. Пойдет речь о школах, поговорим и о «музыканте». На стекло машины упала прозрачная капля. За ней другая. Опять начинался дождь.
СЛОВО АДМИРАЛА
С тех пор, как Вася помнит себя, он помнит и слова отца: «Цифра, друг мой, — великое дело. Без нее ни шагу ступить. На часах что? Цифры. То-то, дружок!» Васин отец работал начальником финансового отдела, и ему было простительно такое славословие цифири. Васю же не прельщало ни «дважды два — четыре», ни, когда он подрос, таблицы логарифмов, хотя цветные таблицы в атласе бабочек он мог рассматривать часами. Даже к квадратному корню он оставался равнодушным, предпочитая разглядывать корень папоротника или вульгарного подорожника. Оставшись вдовцом, Васин отец считал своим родительским долгом руководить учением сына, особенно в области, которую он величал «основой основ мироздания». — Ну какой ты без математики финансист? Даже в любой другой профессии — у астрономов, инженеров или торговых работников — цифра — это фундамент. Когда Вася приносил двойку по алгебре или геометрии, отец, не повышая голоса, даже с нотками сожаления, произносил: — Обидно, дружок, ой, как обидно! Я-то уже рассчитал, что пойдем мы к Камышевому озеру за щуками. А ты, оказывается, не хочешь. И он поправлял очки на носу и укоризненно смотрел на сына, а затем звонил приятелю, бухгалтеру промкомбината, и соблазнял его ехать в ночь на озеро. Вася знал, что сколько бы теперь он ни просил отца, тот не изменит решения. И Вася не просил. Он клял алгебру, но учил ее, чтобы в следующее воскресенье не пропустить удовольствия. Кто из рыболовов-любителей не знает, какое наслаждение сидеть на берегу озера, от которого подымается голубоватый туман, и ждать, не звякнет ли колокольчик, возвещая о неосторожности пудовой щуки! (Замечено, что у настоящих рыбаков щуки меньше пуда даже не подходят к крючку с живцом.) При всей своей математической одержимости Васин отец был знатоком рыбной ловли. И Вася это признавал. Сколько раз, бывало, они по совету какого-нибудь из многочисленных приятелей отца добирались до неизвестной ранее реки, выбрав укромное местечко, садились, и Вася шепотком спрашивал: — На что попробуем? Отец, помолчав для солидности, отвечал: — Может, язьки есть. Рискнем на горох. Или: — Давай на муху. Если в кругу друзей-финансистов заходила речь о воспитании, Васин отец говорил: — Надо учитывать и умело использовать интерес ребенка. И все соглашались, что Васин отец в трудном искусстве воспитания не меньший дока, чем президент Академии педагогических наук. А что? Вася давно уже не получал двоек ни по алгебре, ни по геометрии и тригонометрии. Может ли президент похвастать такими же успехами в подшефных школах? Больше всего отец боялся за выпускные экзамены, но и тут все обошлось. Правда, по литературе Вася получил четверку и сочинение написал не блестяще и потому на медаль претендовать не мог, но что это было по сравнению с победами в науке Эвклида! Отец еще раз произнес фразу о цифре, вошедшую в число семейных традиций. В соответствии с обстановкой было прибавлено лишь несколько слов: — Теперь ты почти самостоятельный человек и сам понимаешь значение математики. Надо сказать, что Васин отец с некоторых пор все чаще и чаще стал говорить на тему о самостоятельности. Даже в таком серьезном вопросе, как выбор приманки, и тут отец, разматывая леску на удочке, спрашивал сына: — На что рискнем? Как твое слово? И Вася пробовал быть самостоятельным и решительно высказывал свое мнение.
Поэтому, когда отец заговорил об ответственности наступившего момента, об экзаменах как проверке самостоятельности, и пр., и пр., Вася взмолился: — Папа! Дай, я все сделаю сам. А ты меня не опекай. — Хочешь самостоятельно провалиться? — пошутил отец. — Нет, — серьезно ответил Вася. — Я экзамены сдам и поступлю. — Слово? — Слово! — Ну смотри! Крепкое мужское рукопожатие скрепило этот договор. Вася подумал, что отец что-то очень легко согласился с ним, и для верности переспросил: — Значит, у меня полная свобода действий? Результат — поступление в институт? — А ты уверен в себе? — Уверен. — Тогда полная свобода действий. Рукопожатие было повторено. Вася не захотел быть жестоким. После каждого экзамена он приходил домой и говорил: — Пять! Он долго не знал отметки за сочинение. Но однажды явился домой мрачный. — Знаешь, папа, по сочинению у меня тройка. Отец, читавший газету, резко повернул голову, хотел сказать что-то, но сдержался и только произнес: — Значит, провал? — Все зависит от того, как я завтра отвечу устно. Отец молча размышлял, а на следующее утро тайком от сына помчался в институт. Он считал себя не вправе бездействовать в столь критический момент. Как-никак директор — его старый друг. Вместе они начинали рядовыми бухгалтерами, и уж такому человеку можно объяснить, насколько важно помочь Васе именно в начале его финансового пути. Директор встретил Васиного отца, как родного, долго искал нужную фамилию в списках абитуриентов и недоуменно развел руками. Невеселые мысли одолевали отца, пока он шел домой: «Неужели обманывал? Не хочет учиться? Не узнаю́ сына». А сын уже поджидал отца у ворот веселый, сияющий. Он издали крикнул: — Порядок, папа! Я, видно, понравился старику: пять. А знаешь, в чем дело было с сочинением? Я каких-то запятых не поставил, провались они на ровном месте! В общем, принят! Отец не улыбнулся. Он протестующе поднял руку и только потом тихо и горестно вымолвил: — Тебя нет в списках абитуриентов. И ты не сдавал ни одного экзамена. Вася онемел от изумления. Отец добавил: — Я был в институте у Ивана Ивановича. Только тут Вася обрел дар речи; — Директора зовут Петр Николаевич, — сказал он и схватил отца за руку. — Ты в каком институте был, папа? — В финансово-экономическом, конечно. — А я сдавал-то в Институт рыбного хозяйства. Это было в пятницу. Весь вечер отец дулся на Васю, хотя тот двадцать раз напоминал, что ведь ему была предоставлена полная свобода действий и он свое слово сдержал. Отец не считал себя ни обманутым, ни оскорбленным. Он просто не понимал, как можно столь пренебрежительно отнестись к финансово-математической карьере. С сыном он говорил подчеркнуто сухо. В субботу с утра начались мучения. Отцу хотелось, как всегда, ехать на озеро, дымившееся туманом в рассветный час, но для поездки следовало восстановить дипломатические отношения с сыном. А как их теперь восстановишь? И вообще: продолжать сердиться или попытаться убедить сына? Что, если прав сын? Отец выбрал самый прямой и короткий путь. Возвратившись с работы, он спросил: — Ну как насчет подъязков? — Можно, — коротко ответил сын, стараясь не улыбнуться. Они молча стали собираться. Но когда доехали до места, уселись на корягах возле омутка и стали разматывать лески, отца вдруг «прорвало»: — Убей меня бог, не понимаю! Отдыхать с удочкой после настоящего дела — куда ни шло. Но превратить удочку в занятие, считать целью жизни… И он возмущенно пожал плечами. Теперь «прорвало» сына. Забыв, что можно спугнуть рыбу, Вася стал говорить. Щеки его пламенели. — Прости меня, отец, но разве не ты заставил меня полюбить рыбную ловлю? А что ты знаешь об институте, куда я поступил? «Удочка»! Да разве в удочке дело?! Теперь даже закидные невода — вчерашний день. Не реки, не озера, даже не внутренние моря, а океаны — вот где действуют наши рыбаки. Думаешь, половили рыбу — и к берегу? Нет, база рыбаков — пароход, траулер, где в два счета рыбу превратят в консервы. А ты слышал об электролове? О «фишлупе» — подзорной трубе, через которую разглядывают дно океана? О подводном телевидении ты знаешь? Капитан рыболовной флотилии — это человек многих профессий: он и мореплаватель, и промысловик, и технолог. Да что капитан! В океаны выходят не пароходы-одиночки, а отряды и экспедиции. Ими командуют флагманы. Это адмиралы рыболовных флотилий. А ты «удочка»! Вася передохнул и уже спокойнее закончил: — За что я тебе благодарен, так это за математику. Теперь рыболовам она нужна позарез. Без нее — ни шагу. Тянет траулер мешок, а трал длиной в четыреста — пятьсот метров. Нужны точные расчеты. Приходится брать в соображение и скорость движения, и силу сопротивления, и многое другое. Цифры, цифры, цифры!.. Услышав это, отец, улыбаясь, закивал головой. — Ладно, — сказал он ласково, — давай ловить. На что? На муху? На червяка? Как твое слово, адмирал? Вася в ответ улыбнулся тоже и медленно стал сматывать удочки. — Клев-то уже прошел. Смотри, как печет. Впервые они возвращались домой без единой рыбешки, но довольные. 1957 г.

РОКОВОЙ ЗАЯЦ
Кузьма Кузьмич Матрешкин, председатель правления кустарной артели «Игрушка-вертушка», решил перед производственным совещанием основательно поработать дома в выходной день. Надо было набросать тезисы доклада. Еще недавно артель выпускала куклы на одно лицо, в скучных серых одеяниях. После серьезной критики в печати руководство сочло за благо перестроиться. Этой важной проблеме и посвящалось производственное совещание. Жена на весь выходной день уехала к больной матери, и глава семьи должен был позаботиться о дочери, носившей великолепное имя Идея (во дворе все звали девочку по-человечески — Идой). Следовательно, оставалось придумать что-то, чтобы Идея не мешала. Товаровед артели Александр Филиппович Македонский, человек чрезвычайно услужливый, быстро нашел выход: — Предоставим ей какой-нибудь игровой инвентарь, и ее не будет слышно. Ручаюсь. Это же типичный ребенок! Товаровед вынул из портфеля необычайно пеструю игрушку и протянул ее председателю: — Выкрашено по образцу, утвержденному лично мной. Уже выбрасываем на рынок… — Что это? — испуганно спросил Кузьма Кузьмич. — Полумеханизированный заяц, — с готовностью объяснил Македонский. — Довольно свободно кивает головой и дергает хвостиком. Игрушка напоминает детям о хозяйственном значении зайца как объекта охотничьего промысла. Играя, ребенок приучается отличать зайцев от львов, леопардов и других хищников, что крайне важно в жизни… Заяц с наляпанной на самом видном месте маркой артели «Игрушка-вертушка» был лично товарищем Македонским вручен Идее. — Теперь разверни активную игру, а нам не мешай! — сказал Македонский и подсел к Кузьме Кузьмичу. Девочка изумленно разглядывала игрушку. Деревянный заяц был раскрашен в такие дикие цвета, что если бы настоящие, честные лесные зайцы хоть чуть на него походили, в лесу наверняка поднялась паника. Нос зайца был фиолетово-багровым, как это можно встретить только у дегустатора вин, празднующего 25-летний юбилей своей деятельности на благо пьющего человечества. Глаза зайца налились кровью того ядовито-красного цвета, которым отличаются только сироп и губная помада. Задняя часть туловища вызывала неожиданное подозрение в том, что бедный заяц прибежал с Тверского бульвара, где сидел на линючей зеленой скамейке. Концы ушей были голубые, так же как и колесики, при помощи которых заяц со скрипом и скрежетом передвигался. — Идем! — сказала Идея зайцу. — Ты будешь пугать моих кукол, когда они закапризничают. И она потянула игрушку за веревочку, собственноручно привязанную к перекладинке заботливым Македонским.
Но не успели председатель и его товаровед углубиться в тезисы, как Идея подбежала к отцу. В одной ее руке был заяц, в другой веревка. Как оказалось, перекладинка держалась не на гвозде, не на клею, а на честном слове. — Тут нужна серьезная работа по организации ремонта! — сказал Македонский. А Матрешкин раздраженно добавил: — Идея, ты уже большая девочка, проводи катание без использования веревки. После этого Кузьме Кузьмичу пришлось снова сосредоточиваться. Но, как нарочно, едва он сочинил весьма эффектную фразу в тезисах и Македонский стал ее записывать, как к столу опять подошла Идея. — Папа, — сосредоточенно спросила она, — хвост так и должен отламливаться? — Конечно, нет! — рассердился отец. — Это — доказательство плохого качества продукции. Хвост действует функционально. — Чего? Чего? — спросила девочка. — Хвост существует для того, чтобы им виляли, и потому должен быть при организме, — замяв разговор о качестве продукции и переходя на другую, более близкую ему тему, сказал Македонский. Так и не усвоив этой мысли, жизненно важной для Македонского, Идея несмело отошла к своим куклам. Впрочем, в течение ближайшего часа она являлась еще ровным счетом десять раз. Ей хотелось узнать, почему гвозди на колесах «царапаются, как кошки»; почему глаза «сделаны из красных чернил» и пачкают руки; почему отстает одно ухо, а не оба, и еще столько «почему», что Кузьма Кузьмич Матрешкин понял: составление тезисов о качестве продукции артели пора прекратить. Положение ясно. И когда вот эта идея пришла, председатель сухо попрощался с Александром Филипповичем Македонским, отбросил в дальний угол бренные остатки полумеханизированного зайца и стал мастерить для Идеи бумажного голубя. В дело пошли листы бумаги, исписанные тезисами. 1945 г.

ЧАСЫ С БОЕМ
Проснулся я от громкого тикания часов. Варвара Ильинична, хозяйка колхозного Дома приезжих, стояла возле рупора, подвешенного рядом с табелем-календарем, — на самом видном месте. Было семь утра, и радиоголос любезно предлагал проверить часы. Варвара Ильинична, взглянув на ходики, горестно вздохнула: — Опять отстали! Потом с явным сочувствием добавила: — Да ведь и то: разве легко такой груз тащить? А снимешь — совсем остановятся… На цепочке ходиков, вызывавших справедливый упрек в недопустимом отставании, висела, кроме обычной чугунной еловой шишки, шестеренка от комбайна. — Утюг, что ли, повесить? Нет, видно, отслужили свой век: скоро год будет, как дочка их купила. Да, по совести сказать, и не жаль их: скучные, без боя.
Кряхтя, Варвара Ильинична опустилась на колени, пошарила под кроватью, вытащила ящик и достала из него часы в старинном деревянном футляре. Вечером я увидел старинные часы на стене. Еще из сеней был слышен их хрип. Едва я переступил порог, как они с бешеной скоростью пробили одиннадцать раз. Мнепоказалось, будто где-то по соседству ударили в набат. На лице Варвары Ильиничны сияла блаженная улыбка. — Бьют! — ласково проговорила она. — Отец сказывал, что купил их, когда я несмышленышем еще была. А мне семьдесят. Прежний механик из МТС не брался чинить: безнадежные, мол, устарели. А новый-то побойчее, вишь, устроил!.. Ночью я трижды вскакивал от набатного звона, но, сообразив, что это бьют часы, снова засыпал. Когда я уезжал из этого подмосковного колхоза и благодарил Варвару Ильиничну за гостеприимство в Доме приезжих, она попросила: — В Москве будешь, присмотрел бы там для меня часы с боем. Радио передавало, будто по желанию потребителей всякие разные вещи изготовляют. Я пообещал выполнить несложную просьбу. Но сделать это оказалось не так-то просто: сколько ни бродил я по московским магазинам, часов с боем нигде не встречал. Продавцы и директора отвечали, будто сговорившись: — Не было, нет и в будущем не обещаем! Это, конечно, звучало безнадежно, но все же более честно, чем то, что говорили и делали руководители главка, ведающего производством часов. Там обещали очень охотно, но сами ни на секунду не верили, что сдержат слово. Не прекращается поток писем о часах в этот главк. Со всех концов страны идут сюда сотни жалоб, заявлений, требований. Все это вопли, запечатленные на бумаге. Немало среди них и о часах с боем. Из Краснодара пишут, что еще несколько лет назад прочитали в газетах извещение о предстоящем выпуске часов с боем и ждут их и дождаться не могут. Из Свердловска не без ехидства напоминают, что часы изобретателя-самоучки Кулибина, сделанные в XVIII веке, ходят и по сию пору и бой их приятен для слуха, а вот часы, выпускаемые предприятиями главка, быстро портятся, и к тому же без боя. Коллектив одной МТС настойчиво просит объяснить «письмом и, если можно, по радио», почему наша промышленность, выпускающая сложнейшие машины, не может дать часы с боем. В ответ на все письма летят из главка обещания: «Часы скоро будут пущены в серийное производство». Для красного словца сначала добавлялось, что «разрабатываются конструктивные чертежи», потом, что «чертежи корректируются», и, наконец, что «корректируется техническая документация». Но шедевром отписки была коротенькая фраза: «Часы с боем реализованы в торговой сети». Дескать, мы выпускаем, а вы сами виноваты, что не покупаете. Лучше бы уж об этом не вспоминали! А то себе наступили на мозоль. Действительно, Московский инструментальный завод часовой промышленности изготовил опытную партию часов с боем — тысячу с чем-то штук. За них заломили такую цену, что, появись они в магазинах, у покупателей волосы встали бы дыбом. Восемь месяцев тянулась тяжба из-за цены, до тех пор, пока часы… не заржавели. Тогда их передали Второму московскому часовому заводу. Там многострадальные часы перебрали, промыли и поспешили продать, уже не споря о цене. А новых делать не стали. Через полтора года главк вспомнил об оборудовании для этого производства и решил сплавить все с глаз долой. Орловский часовой завод обязали выпустить в ближайшем году две тысячи часов с боем, то есть одни часы на… каждые сто тысяч душ населения нашей страны! Причина немилости к часам с боем открылась нам после разговора с одним из руководителей главка. Он признался: — В большом количестве мы эти часы все равно выпускать не будем. Желающих на них не найдется. Вывод столь не согласовался со спросом в магазинах и письмами, хранящимися в главке, что мы спросили: — Любопытно знать, почему вы так думаете? Руководитель сказал откровенно: — Потому, что сам бы я, например, не взял часы с боем. И вообще некоторые считают, что бой, особенно у «кукушки», — это олицетворение мещанства. Так вот, оказывается, в чем корень зла! Если часы идут молча и только скромненько тикают, — обладатель вне подозрения. Но стоит часам пробить или — о ужас! — прокуковать, — все кончено, одновременно пробил час и их хозяина: он на веки веков заклеймен как презренный мещанин… Рискуя прослыть мещанином, я продолжал поиски. Но все напрасно. Мне предлагали ходики, но при этом деликатно намекали, что хорошее их качество — дело случая. Если удались «сопряженные детали баланса», часы будут ходить довольно долго, а если нет, — не взыщите! Советовали купить стенные часы — топорное сочетание тех же ходиков и фанерного ящика из-под апельсинов. В ГУМе я увидел еще одни часы. Про них даже говорили, что они с боем. Но оказалось, что эти часы песочные и «бой» у них особого рода. Стекляшка, в которой струится красный песок, часто бьется по дороге в магазин, и в силу такой оказии три рубля специально накинуты на бой. Посылать песочные часы в колхоз, где давно налажена электродойка и где хлеба убираются комбайнами, я, конечно, постеснялся и написал Варваре Ильиничне, что при всем желании бессилен ей помочь. Набатный звон по-прежнему будит командированных товарищей в гостеприимном колхозном Доме приезжих у Варвары Ильиничны. Ну, что же: часы с шестидесятилетним стажем работают, как могут. 1954 г.

РЕВИЗИЯ
Продавщица сельмага Таня Курносенкова, милая, веселая и действительно в соответствии с фамилией курносая девушка, уезжала из родного колхоза в областной город на курсы переподготовки. Ее мать, Анфиса Лукинична, хлопотливая и разговорчивая старушка, кроме точного адреса тетки, у которой придется жить, и собственноручно испеченных подорожников (хоть и пути-то всего полдня), надавала дочери сотню наказов. А напоследок добавила: — И еще одно. Девушка ты, Татьяна, собой видная, возраста самого невестинского… В этом месте Анфиса Лукинична, несмотря на свое высокое положение в колхозе — она была председателем ревизионной комиссии, — проявила некоторое слабодушие: смахнула невольную слезу. Специалисты-психологи установили, что любящая мать вне зависимости от характера и занимаемого поста обязательно должна смахнуть «невольную» или «непрошеную» слезу, стоит ей только заговорить о возможном замужестве дочери. — Ты уж не спеши, доченька. В таких делах нужна осмотрительность. Отца твоего я два года марьяжила: все приглядывалась да испытывала. Таня отозвалась с обидой: — И что это вы, мама? Неужели я маленькая? Но написать в случае чего все же обещала. Не прошло со времени назидательной беседы и двух недель, как Таня прислала своей родительнице письмо, в котором сообщила об успехах в учении, подробно описывала спектакли, на которых успела побывать в областном центре, а в конце послания упомянула о встречах с неким товарищем, утверждающим, что девушки лучше Тани нет на свете. Дальше в письме было, как в известной песне: «Только точки, — догадайся, мол, сама». У Анфисы Лукиничны от этих намеков сделалось сердцебиение. Она снова всплакнула, предчувствуя близкое расставание: судя по всему, у девушки не за горами собственная семья. А спустя немного времени пришло еще одно письмо. Оно было коротенькое, но решительное. Анфиса Лукинична перечитала его трижды, сначала удивилась, потом рассердилась, весь день ходила темнее осенней тучи, вечером на вопросы мужа отвечала невпопад, а утром собралась в город: — Как бы там Татьяна чего не начудила! И поехала. Приехав, она постучалась в дверь директорского кабинета одного довольно крупного магазина, расположенного на главной улице областного центра. Из-за двери раздалось гостеприимное «войдите». Анфиса Лукинична переступила порог. Она увидела средних лет человека в халате белее снега горных вершин, чуть лысеющего и чуть полноватого. — Прощения просим, — неторопливым, деревенским говорком начала Анфиса Лукинична, — мне бы лично директора. — Это я, — ответил человек в белоснежном одеянии. — Имя-отчество позвольте узнать? — приветливо улыбнувшись, спросила Анфиса Лукинична. — Иван Капитонович. Старушка одобрительно закивала головой, словно лучше этого имени и отчества не было на свете, и принялась словоохотливо объяснять: — Я, сынок, не могу, чтобы по батюшке не величать, потому как… Директор строго перебил: — Что у вас, гражданка? Анфиса Лукинична отозвалась с обидой: — А вы не торопите меня, Иван Капитонович! Может быть, я по делу! Хочу вам сказать, что там, в магазине, народ волнуется. Вчера к вечеру, говорят, привезли много тюля, а почти не продавали его. Куда, интересуются, делся? Одна гражданочка очень активно книгу требует, жалобу писать собирается. Иван Капитонович беспокойно поднялся с кресла: — Простите, я должен идти в магазин. — Идите, голубчик, идите, — заботливо согласилась старушка и уселась на стул возле директорского стола.
На секунду Иван Капитонович даже растерялся, но потом со всей официальной сухостью, на которую был способен, произнес: — Не задерживайте меня. Анфиса Лукинична замахала руками: — Я не задерживаю! Что вы? Идите! Рассердившись, директор повысил голос: — Что вам еще надо? Кто вы такая? — Я Курносенкова, — с готовностью назвалась старушка, — Анфиса Лукинична Курносенкова. Иван Капитонович удивленно уставился на посетительницу и только и мог, заикаясь, промолвить: — Анфиса… Лукинична?.. Это… Старушка даже фразы закончить не дала: — Вот именно, это! И, встав со стула, взяла директора под локоток. Иван Капитонович сиял. — Какая потрясающая встреча! Простите, я в два счета улажу все в магазине и вернусь. Когда директор исчез из кабинета, Анфиса Лукинична осмотрелась, попробовала пальцем, нет ли пыли на телефоне и лампе, и осталась довольна. «Видать, человек хозяйственный, — подумала она. — Ох, Татьяна, Татьяна!..» Вернувшийся Иван Капитонович по-прежнему сиял, как будто улыбка так и закрепилась на его лице. — Ну как? — спросила Анфиса Лукинична. — Полный порядок! — бодро отрапортовал директор. — Разъяснил по существу и заверил, что жалобная книга на проверке в торге. Анфиса Лукинична взяла книгу в сером переплете, лежавшую на столе, и спросила: — Эта? — Точно! — подтвердил Иван Капитонович, деликатно отобрал книгу и, заглядывая старушке в глаза, не проговорил, а почти пропел; — Разрешите, уважаемая Анфиса Лукинична, считать, что в данный торжественный момент нашей с вами встречи я выступаю не в качестве директора магазина, а по родственной линии, как жених вашей дочери. Старушка склонила голову и как-то сбоку посмотрела на Ивана Капитоновича. Отозвалась она неопределенно: — А не торопитесь вы, товарищ жених? — Почему же? — возразил Иван Капитонович. — При вашем любезном содействии… — Мой голос совещательный. Тане замуж выходить, ей и решать. Я ведь к вам тайком от дочки. Сказала: пойду, мол, по магазинам. А сама решила посмотреть, что за человек Иван Капитонович. Чтобы ошибки какой не вышло. Директор не переставал улыбаться: — Оказывается, теща у меня будет что надо! Разрешите мне доложить по ряду пунктов. В рассуждении материальной стороны можно не беспокоиться… — А я разве беспокоилась? В браке первое дело, чтобы любовь была. — До гроба! — решительно поддержал Иван Капитонович и даже поднял руку, как бы голосуя за предельно долгий срок своих нежных чувств. — И человек чтобы подходящий… — задумчиво продолжала Анфиса Лукинична. — Вот именно: подходящий! — обрадовался Иван Капитонович. — Не пустой? Да? — Уж конечно. — Деловой? — Непременно. — И при случае чтобы не зевал? — Это в смысле выгоды, что ли? — вдруг хитро и испытующе глянув на Ивана Капитоновича, отозвалась старушка. — Ну ясно! Директор сел рядком со старушкой и доверительно стал говорить: — Я чувствовал, что вы меня поймете. У Тани, у той есть кое-какие заблуждения. Это от молодости, от неопытности. Она святая простота. Жизни не знает. А жизнь сложна! Ох, сложна! Недаром говорили, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. Анфиса Лукинична промолчала. Тогда Иван Капитонович повернул разговор на прежнюю стежку: — Докладываю дальше: жилищный вопрос решен, можно сказать, в положительном смысле. Месяца через два приглашаем на новоселье. — Квартиру дали новую? Иван Капитонович покачал головой. — Комнату? — Тоже нет. Брат у меня, Федор, работает по жилищной части. Дело имеет с материалами. Решил построить домик. Свое имя он категорически не хочет упоминать. Сами понимаете, пойдут разговоры разные, сплетни, пересуды. А он кристальной души человек. Одним словом, оформил на меня. А мы между собой по-родственному договорились, что половина моя. Анфиса Лукинична, прищурившись, смотрела на Ивана Капитоновича. А тот все улыбался. Он подмигнул старушке и произнес почти с нежностью: — Ну как, подходящий родственничек? — Для кого подходящий? — как-то удивительно спокойно спросила Анфиса Лукинична. — Как для кого? Для вас, для ваших родственников… — А вы моих родственников, поди, и не знаете. — Расскажите, не таитесь. — Мне таиться нечего. Вся наша жизнь у народа на виду. Брат мой коров пасет. — Что?! — Коров, говорю, пасет. Присвоили ему высокое звание Героя Социалистического Труда, и получил он премию. Новую породу скота выводить помогал. Сын Александр — директор МТС, на войне четыре ордена заслужил, звание майора имеет. Татьяну вы знаете — по торговой части. Осталось сказать о старике моем, главе нашей трудовой семьи. Он поскромнее — кладовщик в колхозе. У него одна медаль «За доблестный труд». Человек он не очень здоровый: слаб зрением. — Стоп! — ударил ладонью по столу Иван Капитонович. — Старика устрою у себя. Мне нужен кладовщик со слабым зрением. Заметано? Старушка ответила строго и властно: — Нет, не заметано! Я долго слушала, теперь вы послушайте, гражданин. Неподходящий вы нам родственник! Не было у нас в семье фальшивых людей. И не будет! И Татьяне нашей вы не пара. Улыбка сползла с лица Ивана Капитоновича так же, как сползает плохо наведенная позолота с глиняной свистульки. — Вы так считаете? — ехидно спросил он. — И я и вся наша семья! — отрезала Анфиса Лукинична. — Семья! — пренебрежительно и холодно повторил Иван Капитонович. — Слава богу, дочь у вас не маленькая. Как-нибудь договоримся сами. Подумаешь, дефицитный товар — родительское благословение! Даже лучше! Дом без тещи — это дом отдыха. Старушка усмехнулась: — Что вы мелете? В том-то и дело, что Татьяна за вас идти не хочет. — Ой ли? — недоверчиво откликнулся Иван Капитонович, но было заметно, что он задет за живое. — Ни за что! — твердо сказала старушка, полезла в карман шерстяной кофточки, достала оттуда конверт, дунула на него, чтобы он раскрылся, вытянула письмо, аккуратно расправила его и, далеко отставив от глаз, прочла вслух: — «Сначала он мне показался человеком самостоятельным, а пригляделась — скользкий и темный». — Какого же черта вы сюда притащились? — закричал в досаде Иван Капитонович. Старушка не рассердилась. Она рассмеялась от всей души и с готовностью ответила: — Я же сказала: чтобы не вышло ошибки. Вдруг, думаю, приехала дочка в город учиться, вскружила голову хорошему человеку, а потом из-за пустяка рассердилась, и пути врозь. Ежели что, хотела помирить. Мать я дочке или не мать? А по проверкам я, можно сказать, специалист: в колхозе председателем ревизионной комиссии пять лет состою. Анфиса Лукинична Курносенкова медленно сложила письмо, медленно затолкала в конверт, медленно спрятала в карман и, не торопясь, вышла из кабинета. Она решила, что ревизия, хотя и оказалась не совсем обычной, все же прошла отлично. Как говорится, для пользы дела. 1946–1955 гг.
У САМОГО СИНЕГО МОРЯ
Всему причиной была популярность Гаврилы Афанасьевича. Ну, конечно, и его упрямство. Еще совсем недавно жили его одностаничники на берегу тихого Дона, в станице Верхне-Курмоярской, а сам он ютился километрах в десяти, в глинобитной мазанке на хуторе Веселом, где был всего только бригадный стан колхоза имени Крупской и стояло несколько грубо слепленных хибарок. Но была у Гаврилы Афанасьевича слава. Да, да, и не малая слава! На всю округу он слыл первейшим музыкантом-скрипачом. Где только за свои восемьдесят семь лет не играл на своей скрипке старик Маслов! Существует на Дону обычай: собрания начинать музыкой. Услышав звуки масловской скрипки, народ собирался в клуб. Девчата с парнями затевали танцы, старики садились к стенке, в задний ряд, и смотрели на молодежь. И вдруг все пошло дыбом. Появилась какая-то девушка, поставила три палки, уместила наверху что-то вроде бинокля, вычертила у себя на дощечке план и, пожалуйста, говорит: — У вас здесь вода будет. Гаврила Афанасьевич даже засмеялся: — Где это видано, где это слыхано, чтобы вода на горы лезла? Вечером престарелое население хутора Веселого собралось возле мазанки Гаврилы Афанасьевича. Заговорил Яков Семенович Астахов, бригадир колхозного поливного участка, худенький старичок со смеющимися глазами: — Слышал я сегодня в правлении: верно, будет прорыт канал на соединение Дона с Волгой. И будто бы в наших местах произойдет с рекой перемена. — Что? С Доном? — Дон вроде как бы и останется, а разольется так, что его и не узнаешь: покуда глаз хватит — море. И будто бы море это — ему уже имя дали: Цимлянское — затопит станицу Верхне-Курмоярскую. — Брехня! Никогда нас не затопляло, а теперь затопит? — недоверчиво усмехнулся Гаврила Афанасьевич и, стукнув палкой оземь, пригрозил: — Все одно городьбу с бахчей снимать не буду. Зальет вода, а к лету и спадет. — Оно конечно, — стал Астахов размышлять вслух. — Может, и мечтают Дон задержать, а захочет ли он, батюшка, остаться? — И хитро подмигнул: — Сам на двенадцати гектарах поливного участка водой заправляю. Ох, нелегкое это дело — заставить воду идти по указанной дорожке! Нелегкое! Все же Яков Семенович Астахов получил от Волго-Дона деньги на переселение и выстроил аккуратный домик, встав третьим на улице, запланированной сталинградским архитектором. А Маслов тянул с получением денег и не переселялся. И так как все помнили о его славе и забывали об упрямстве, то, глядя на скрипача, не трогались с места и другие колхозные старожилы. — Не дойдет до меня вода, — уверенно говорил Маслов. Но дошли уже сюда разговоры о том, как перебирались на новое, высокое место жители соседней станицы Нагавской, члены колхоза, носящего имя героя гражданской войны Григория Родина. Кто не знает там Екатерины Фетисовой, по прозвищу Лобачиха! Она, прослышав, что новое море скоро будет наполняться водой, всплеснула руками: — Так неужели же я свой сад брошу? Белосливы свои?! И даже смотреть не захотела в ту сторону, где одностаничники готовились к переезду. Первым из Нагавской переселился шофер Спиридон Иванович Алпатов. Он разобрал и по кирпичику вынес русскую печь, подвел под дом большие полозья. Мощный дизельный трактор «Сталинец» впрягся и потянул дом. Народ шел и удивлялся. А дом как ни в чем не бывало переезжал на новое место. Посмотрел председатель ревизионной комиссии колхоза Мартынов на уплывающий алпатовский дом и закричал: — Раз пошло такое дело, я и печь разбирать не стану! И что бы вы думали? Как в сказке «По щучьему веленью», поехала печь вместе с домом из низины на гору! Председатель колхоза Михаил Тихонович Алпатов после этого, конечно, тоже не стал рушить печь. Но ему было мало этого. И он оставил все цветы на подоконниках. Больше всего такой фокус понравился девушкам. Они шли следом за председателевым домом, а когда полозья попадали в ямку и дом кренился, взвизгивали и смотрели, не упали ли горшки с цветами. Но цветы выдержали испытание не хуже печки. Вот уже в станице Нагавской отстроили жилые дома, возвели клуб и здание радиоузла с ветродвигателем, школу, разбили парк на триста деревьев. Уже и Лобачиха, не выдержав одиночества, перебралась вслед за всеми в новый дом на горе и все свои белосливы по одной перетаскала на новое место, где будет сад вдвое больше прежнего. Рассказы обо всем этом дошли до станицы Веселой, где к старому хуторку пристроилось несколько прямых улиц, состоящих из красивых домов. И клуб тоже вырос, и двухэтажное здание правления. А главное, стало наполняться Цимлянское море. Сначала разлился Дон, как он обычно разливался в половодье. Потом подошел к городьбе огородов, что несколько озадачило стариков. Вода продолжала прибывать и тогда, когда ей, по всем старым приметам, полагалось бы спадать. Вечером Маслов ставил на берегу вешки, но к утру их заливало, а то и сносило. И все же Маслов не сдавался и от своих слов не отступал. Он продолжал жить в своей халупе на глиняном крутояре. Бакенщик Максим Карпович Полуэктов — вторая скрипка колхозного оркестра — смеялся над Масловым: — Будешь тонуть, Афанасьич, я тебя спасать не поеду. И чего ты ждешь, Афанасьич? У нас жизнь плановая, разумная. Все равно море займет отведенное ему место. — А я подожду. Мне спешить некуда! — теребя седые усы, но уже начиная нервничать, пробормотал Маслов. — Я тебе вот что расскажу! — продолжал Максим Карпович, порозовевший от недавно пропущенного цимлянского. — Поехал я тут как-то заряжать новый буй. Зарядил. Огляделся. Вижу вышку на дальнем краю нашей Верхне-Курмоярской станицы, куда вода еще не дошла. Вижу и пески на том берегу. И сразу меня как шибануло: а ведь буй-то стоит как раз над тем самым местом, где я жил, над моей, вечная ей память, мазанкой! Сейчас, думаю, это место только для сазана или судака пригодно. И скоро я тех самых судаков, что на моем месте устроились, начну вылавливать себе на уху.
В первый раз в жизни Гаврила Афанасьевич Маслов не доиграл в клубе, ушел домой. Он рассердился: что, в самом деле, взялись все за него! Вот и председатель сельсовета сказал: — Проезжали на пароходе товарищи из области, говорят, что старые мазанки портят вид на Веселую с моря. Вечером от расстройства старик забыл камышовую плетенку на высоком яру, откуда станичные женщины добывали, как здесь водится, ярко-желтый охряной песок для окраски полов. Наутро камышовая плетенка валялась внизу, едва видимая среди глинистых комков и набегающих волн. На синем в солнечную пору Цимлянском море — теперь от непогоды черном — разыгралась буря. Огромные валы с белыми барашками пены ходили по необозримому простору. А яр — да, да, весь яр! — обрушился. Он встал морю поперек пути, и море сокрушило его. Море наступало, желая, как говорил бакенщик Полуэктов, занять отведенное по плану место. И тут Гаврила Афанасьевич не выдержал. Он добрался до дома, подержал в руках скрипку, но не стал, как собирался, натягивать новую басовую струну, сердито отвернулся от старухи, предложившей поесть, и засеменил, постукивая посошком, к председателю сельсовета Афанасию Ивановичу Карпову. — Давай, давай, Афоня, пособие от Волго-Дона! Переселяюсь на новую квартиру. Но только предоставь мне в станице такое место, чтобы было видно синее море во всей его красе! И живет теперь старик Маслов со своей старухой и со своими одностаничниками у самого синего моря. Старик играет на своей скрипке, а старуха варит ему уху. Станица Веселая Сталинградской области. 1952 г.
ВЕРНЫЕ ПРИМЕТЫ
Жених! Все-таки для многих это очень приятное слово. В доме, где жила Валя, работавшая в комбинате бытового обслуживания, все знали, что у нее есть жених, чудный высокий и голубоглазый парень Миша, полгода назад уехавший с китобойной флотилией в дальние моря и океаны. Известно было также, что свадьба предполагается после возвращения жениха, а затем молодые уедут в приморский город, поближе к базе флотилии. — У меня знаешь, сколько друзей? Всех позову на свадьбу. А ты подруг из комбината пригласишь. Решено? — говорил он на вокзале при расставании, смущенно и нежно смотря на Валины слезы. Валя была девушка общительная, и соседки по дому сразу же оказались в курсе ее сердечных дел. Особый интерес проявляла дворничиха Михеевна, известная прохладным исполнением своих обязанностей по наведению чистоты на подопечном дворе, а также гаданием и спекуляцией разными ходовыми товарами. Гадала она как угодно: на картах, по книге «Тайна черного рыцаря, или Пылкая любовь», на камешках, на бобах и по левой ладони. Она любила поболтать, и новости со всего дома быстро слетались к ней. Поэтому гадала она наверняка: с таинственным видом сообщала очередной жертве то, что узнавала накануне. Эта самая Михеевна и предложила Вале: — Писем-то от Миши все нет? Зашла бы ты, милая, ко мне. Я б, касатка, погадала. Когда знаешь, что к чему, — на душе-то и легче. Налила бы я в стакан воды: вода кипеть будет — твое желание исполнится. — Ты стакан прямо на газ, что ли, поставишь? — улыбнулась Валя. — А если стакан лопнет, вода прольется и кипеть не будет? — Тогда и желание прахом пойдет. Вот смеешься, и не увидишь ты Миши, как своих ушей, — рассердилась Михеевна. В результате таких отнюдь не дружественных отношений будущее оставалось для Вали скрытым. И все-таки письмо из Антарктики пришло. Жених сообщал об удачном промысле и намекал на то, что, судя по некоторым данным, Валю в ближайшем будущем ожидает сюрприз. — Неужели приедет? — сказала девушка. — А почему прямо об этом не пишет? — не без ехидства спросила вездесущая Михеевна. Валя не знала, что ответить. А Михеевна продолжала подзуживать: — Марусе из шестнадцатой квартиры я раскинула карты, и, что ж ты думаешь, вышло, что охладел парень к нашей крале и стал заглядываться на другую. — Что ты, Михеевна, — возмутилась Валя, — они же совсем недавно поженились! Но Михеевну не так-то легко было смутить. Врала она, как по писаному. — Поженились? А почему? Я кое-что пошептала над угольком, вот опять и приворожила милого к Марусе. На следующее утро Валя по радио услышала о присвоении звания Героя Социалистического Труда наиболее отличившимся работникам китобойного промысла — капитанам, гарпунерам, мотористам. Когда назвали фамилию Миши, Валя вскрикнула: — Мишенька-то мой — Герой! Прибежали соседки, тоже узнавшие новость, а Михеевна — раньше всех. Как полагается, она поздравила Валю, а потом сказали: — Вот он и сюрприз, о котором в письме было. А ты думала — приедет. Теперь с геройской-то звездочкой и не жди его сюда. Найдет себе поинтереснее. Холодок проник к Валиному сердцу. Она подумала с тревогой: «Может, и верно?» А Михеевна нашептывала: — Погадай, верно тебе говорю. Хочешь, раскину карты? Валя грустно улыбнулась; — И выйдет мне разлука, а червонному королю — дальняя дорога — в Антарктику. Михеевна тараторила: — Можно и без карт. Хочешь, я тебя научу? И она долго шептала ей что-то на ухо. С тех пор, если Валя шла по улице и взгляд ее падал на новый дом, она загадывала:
— Будет четное число окон — значит, Миша скоро приедет, если нечетное, то не скоро.
И поди ж ты: все время выходило нечетное число, и, таким образом, Мише долго не суждено было попасть в Москву.
— Плохая примета! — сокрушалась девушка.
Однажды, спускаясь вечером в метро на станции «Площадь Революции», Валя увидела группу людей. Ей показалось, что на груди у одного блеснула золотая звездочка. А может, это был какой-нибудь значок. Валя загадала:
«Если я сейчас войду в вагон и там будет Герой Советского Союза или Герой Социалистического Труда, — значит, Миша приедет в этом году».
Но тут же ограничила себя:
«Гадать так гадать: если в вагоне будут два Героя, — значит, увы, увидимся только в будущем году».
Откровенно говоря, у Вали был тайный расчет: одного Героя встретить легче, чем сразу двух. Значит, больше шансов на скорый приезд любимого. Ну, а кто же не хочет себе счастья?
И вот вошла Валя в вагон и нарочно опустила голову, чтобы заранее не разочаровываться, если не окажется ни одного Героя и, значит, по-прежнему будет неизвестно, когда приедет Миша.
Блондинка в фуражке с красным верхом крикнула: «Готов!», — ловко глотая гласные, так, что получалось странное слово «Гтв!»; двери вагонов лязгнули и закрылись, и поезд помчался. Валя зажмурилась, как это делала маленькая, когда сразу хотела увидеть елку в огнях, подняла голову и открыла глаза.
Хотите верьте, хотите нет, но вокруг нее стояли одни Герои Социалистического Труда. Ими наполнен был весь вагон метро.
Сначала Валя подумала, что это ей померещилось. Она закрыла глаза и через секунду снова открыла их; потом ущипнула себя за руку — все Герои стояли как ни в чем не бывало, а двое даже довольно доброжелательно на нее взглянули и улыбнулись. Валя вздохнула и стала считать. Героев было тридцать шесть. Итак, свидание с Мишей состоится через 36 лет, то есть в 1994 году; Вале в это время будет под шестьдесят.
А вдруг она ошиблась? Теперь ей хотелось выгадать хотя бы один год. Выйдя из вагона там же, где и Герои, она стала считать их снова.
Когда Валя глянула в лицо тридцать шестого, она крикнула: «Миша!» — и упала к нему на грудь, как это полагается при неожиданных встречах.
Оказалось, что Миша вместе с группой награжденных прилетел в Москву для получения звезды «Серп и молот» и, решив сделать невесте приятный сюрприз, не известил ее заранее, а только в письме намекнул.
— Ну вот, а тут получалось, что ты появишься только через тридцать шесть лет.
— Через тридцать шесть? — изумился Миша. — Почему? Что ты! Таких долгих рейсов не бывает!
Вале было совестно признаться, что она поверила Михеевне. Поэтому она о гадалке рассказала только на свадьбе, куда были приглашены гости — Мишины товарищи.
Что же касается Михеевны, то с тех пор Валя ее видеть не может: напророчить свадьбу тогда, когда Валя рассчитывает быть уже бабушкой, качающей на коленях по крайней мере пару голубоглазых внучат, — это ли не безобразие!
1956 г.
С тех пор, если Валя шла по улице и взгляд ее падал на новый дом, она загадывала:
— Будет четное число окон — значит, Миша скоро приедет, если нечетное, то не скоро.
И поди ж ты: все время выходило нечетное число, и, таким образом, Мише долго не суждено было попасть в Москву.
— Плохая примета! — сокрушалась девушка.
Однажды, спускаясь вечером в метро на станции «Площадь Революции», Валя увидела группу людей. Ей показалось, что на груди у одного блеснула золотая звездочка. А может, это был какой-нибудь значок. Валя загадала:
«Если я сейчас войду в вагон и там будет Герой Советского Союза или Герой Социалистического Труда, — значит, Миша приедет в этом году».
Но тут же ограничила себя:
«Гадать так гадать: если в вагоне будут два Героя, — значит, увы, увидимся только в будущем году».
Откровенно говоря, у Вали был тайный расчет: одного Героя встретить легче, чем сразу двух. Значит, больше шансов на скорый приезд любимого. Ну, а кто же не хочет себе счастья?
И вот вошла Валя в вагон и нарочно опустила голову, чтобы заранее не разочаровываться, если не окажется ни одного Героя и, значит, по-прежнему будет неизвестно, когда приедет Миша.
Блондинка в фуражке с красным верхом крикнула: «Готов!», — ловко глотая гласные, так, что получалось странное слово «Гтв!»; двери вагонов лязгнули и закрылись, и поезд помчался. Валя зажмурилась, как это делала маленькая, когда сразу хотела увидеть елку в огнях, подняла голову и открыла глаза.
Хотите верьте, хотите нет, но вокруг нее стояли одни Герои Социалистического Труда. Ими наполнен был весь вагон метро.
Сначала Валя подумала, что это ей померещилось. Она закрыла глаза и через секунду снова открыла их; потом ущипнула себя за руку — все Герои стояли как ни в чем не бывало, а двое даже довольно доброжелательно на нее взглянули и улыбнулись. Валя вздохнула и стала считать. Героев было тридцать шесть. Итак, свидание с Мишей состоится через 36 лет, то есть в 1994 году; Вале в это время будет под шестьдесят.
А вдруг она ошиблась? Теперь ей хотелось выгадать хотя бы один год. Выйдя из вагона там же, где и Герои, она стала считать их снова.
Когда Валя глянула в лицо тридцать шестого, она крикнула: «Миша!» — и упала к нему на грудь, как это полагается при неожиданных встречах.
Оказалось, что Миша вместе с группой награжденных прилетел в Москву для получения звезды «Серп и молот» и, решив сделать невесте приятный сюрприз, не известил ее заранее, а только в письме намекнул.
— Ну вот, а тут получалось, что ты появишься только через тридцать шесть лет.
— Через тридцать шесть? — изумился Миша. — Почему? Что ты! Таких долгих рейсов не бывает!
Вале было совестно признаться, что она поверила Михеевне. Поэтому она о гадалке рассказала только на свадьбе, куда были приглашены гости — Мишины товарищи.
Что же касается Михеевны, то с тех пор Валя ее видеть не может: напророчить свадьбу тогда, когда Валя рассчитывает быть уже бабушкой, качающей на коленях по крайней мере пару голубоглазых внучат, — это ли не безобразие!
1956 г.
Последние комментарии
1 день 15 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 22 часов назад
2 дней 54 секунд назад
2 дней 1 час назад