Л. С. Клейн Другая сторона светила: Необычная любовь выдающихся людей. Российское созвездие
Макет обложки Майи Плясецкой.Введение
Другая сторона Луны
Другую сторону Луны люди не видели до второй половины XX века. «Темную сторону Луны» люди не слышали до появления «Пинк Флойд». Название этой знаменитой рок-группы для англичан звучит с намеком на голубизну — ведь в том значении, в котором в машем молодежном жаргоне употребляется слово «голубой», европейцы говорят «розовый», по-английски «пинк». Луна издавна связана с однополой любовью. Покровительницей ее считали музу Уранию, богиню лунного света. Поэтому гомосексуалов в XIX веке называли уранистами, ураниями или урнингами. «Люди лунного света» — так называл их русский философ Василий Розанов. Известный социолог сексуальной жизни И. С. Кон озаглавил свою книгу о гомосексуальности «Лунный свет на заре» — он имеет в виду, что сейчас эти люди перестали таиться и стали выходить на солнечный свет, но этот процесс лишь в самом начале. «Аутинг» (outing) называется этот процесс открытого заявления о своей гомосексуальности, выход гомосексуалов в открытую на публику. От английского «аут» (out) — выход, вовне, наружу. Знаменитых представителей этого сонма призывают «выйти из своей каморки», «выйти из чулана», выйти из своего укрытия» (to come out of the closet), чтобы всем стало видно, какие люди «среди нас». Четверть века назад огромную популярность снискала книга Джона Рида Самый лучший в мире маленький мальчик» — автобиография йельского студента-атлета, ведущего тайную жизнь гомосексуала (Reid 1976). Тогда это была одна из первых книг этого рода, книга-сенсация. Но автора никто не знал. Ныне вышла вторая книга этого же автора «Самый лучший в мире маленький мальчик вырос», но уже не под псевдонимом, а под настоящим именем автора. Оказалось, что это самый консервативный из демократов Эндрю Тобиас, автор популярного руководства по инвестициям и личный друг семейства Клинтонов (Tobias 1999; Archer 1999). В 1983 г. титулы Мистер Америка и Мистер Вселенная завоевал культурист Боб Пэрис. Этот изумительно красивый юноша был влюблен в другого культуриста — Рода Джексона, студента журналистики и психологии, работавшего также и моделью. В 1989 г. они объявили в печати, что заключают брак друг с другом (Быть 1992; Bianchi 1994; Rod and Bob 1994) — и живут в браке до сих пор. Один конгрессмен (Барни Фрэнк) также открыто объявил о своей гомосексуальности, добавив, что еще 30 его коллег по Конгрессу втайне придерживаются той же ориентации. Уже после этого признания он трижды переизбирался огромным большинством голосов! Но чаще не сами гомосексуалы выходят на свет, а их выводят «на чистую воду» журналисты, что явно негуманно, нецивилизованно: это интимная сторона жизни человека, и для многих ее открытие означает колоссальные конфликты и неприятности.Сакраментальный список
Иное дело, когда речь идет не о живых, современных деятелях, а о крупных исторических личностях прошлого, которых мало кто подозревал в запретных связях. У многих светил, оказывается, была темная сторона жизни. Темная не потому, что сопряжена с темными делами, со злом, низменными инстинктами, хотя ее и считали такой, а потому, что была скрыта от всех. На свету она оказалась вовсе не такой, а наполненной всем, чем обычно наполнена жизнь (см. мою книгу «Другая любовь» — Клейн 2000). Ведь и другая сторона Луны оказалась столь же разнообразной, как и знакомая нам — с игрой света и тени, с такими же «цирками» — следами ударов метеоритов. Именно из-за всеобщего осуждения даже крупные личности тщательно скрывали эту сторону своей жизни от окружающих. Но даже если они сами не очень это скрывали, то впоследствии их биографы смущенно прикрывали эту сторону их жизни, маскировали своих героев, стараясь поддержать миф о полном их соответствии идеальному образу — образу, сформированному наступившей эпохой, своей собственной для биографов. Эти маски прилипли к лицам. С тем большим рвением их, эти маски, срывают теперь разобла чители. Одни со злорадством — вот, мол, каковы ваши хваленые герои, все не без греха, все с червоточинкой. Другие, сами гомосексуальные, находят в этом радость самооправдания: не так уж порочно это пристрастие, если им затронуты столь великие люди и если их так много. В «Содоме и Гоморре» Пруст писал о гомосексуалах: «Им нравится разоблачать тех, кто эту свою принадлежность скрывает, нравится не потому, чтобы им так уж хотелось сделать тем людям гадость, хотя они и этим не брезгуют, а для того, чтобы снять обвинение с себя; они прощупывают извращение, как врач — аппендицит; даже в истории им доставляет удовольствие напомнить, что и Сократ был такой же…» (Пруст 1993а: 30). И в следующем томе Пруст изображает де Шарлю, щеголяющего такими познаниями: «Считайте: при Людовике Четырнадцатом — Мсье (брат короля. — Л. К.), граф де Вермандуа, Мольер, принц Людовик Баденский, Брунсвик, Шароле, Буфлер, великий Конде, герцог де Бриссак…» (Пруст 19936: 260). Длинный перечень исторических личностей этого плана содержится в ряде книг (Moll 1910; Garde 1964; Rowse 1977; Greif 1982; Duberman et al. 1990; Leyland 1991–1993; Расселл 1996; Lariviere 1997; Nash n. d.). Вот наиболее известные личности, целиком отдававшиеся этой любви или, по крайней мере, причастные к ней: Политики и государственные деятели: древнегреческий законодатель Солон, Цицерон, граф Сандерлэнд, президент Франции (1924–1931) Думерг, гонитель коммунистов (и гомосексуалов!) сенатор Маккарти, еще один такой же — многолетний глава ФБР Эдгар Гувер, генеральный секретарь Объединенных Наций Даг Хаммаршельд, а, по последним исследованиям, в какой-то мере и оба самых известных президента США — Вашингтон и Линкольн: у Линкольна была в юности гомосексуальная любовь, Вашингтон был окружен гомосексуальными офицерами и питал гомосексуальные симпатии, которые должен был подавлять (Shively 1989а; 1993). Из российских — с одной стороны, ревнители «самодержавия, православия и народности» — Уваров, возглавлявший министерство просвещения и Победоносцев, глава Священного Синода, с другой — советский нарком Чичерин. Чтобы не миновать и преступных деятелей — гитлеровский глава штурмовиков Рем (убитый вместе со всей верхушкой штурмовых отрядов по приказу Гитлера якобы за гомосексуальность) и сталинский палач Ежов (гомосексуал лет с 15, и этот грех был единственным, которого он, сам арестованный, не отрицал при допросах). Свободолюбы, мятежники и революционеры: античные тираноубийцы Гармодий и Аристогитон, польский революционер Костюшко, основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк («отец турок»), президент Испанской республики, противостоявшей Франко, Мануэль Азана. Виднейшие общественные деятели: основатель Олимпийских игр Пьер де Кубертен (он даже возражал против участия в них женщин), основатель Красного Креста Анри Дюнан, основатель движения бойскаутов (от них наши пионеры) лорд Френсис Баден-Пауэлл. Полководцы и воины: Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ричард Львиное Сердце, Фридрих Прусский, называемый Великим, (всё вдобавок монархи), гохмейстер ордена тамплиеров Жак де Моле и Великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнглинген, маршал и принц Конде, маршалы Вандом и Тюренн, принц Евгений Савойский, генералы Китченер и Макдональд (англо-бурская война), генерал Монтгомери (знаменитый «Монти», главнокомандующий англичан во время Второй мировой войны), есть серьезные подозрения и насчет Наполеона (Richardson 1972; Duroc 1983: 309–310). Такие ошеломительные разведчики (или, можно сказать, шпионы), как полковник Лоуренс Аравийский и вся гомосексуальная команда кембриджских шпионов-коммунистов («Гоминтерн»), среди которых самые известные — Филби (единственный среди них не гомосексуальный) и сэр Энтони Блант, хранитель картин королевы. Из крупных мыслителей (философов, культурологов): Сократ, Платон, Антисфен, Аристотель, Диоген, Зенон, Эразм Роттердамский, Фрэнсис Бэкон, Мишель Монтень, Людвиг Витгенштейн, Кьеркегор, Сантаяна, Ролан Барт, Мишель Фуко, Луи Альтюсер, Жак Деррида, из русских — Константин Леонтьев, возможно, Чаадаев. Из ученых: Плутарх, Винкельман («отец искусствоведения и архе ологии»), Александр Гумбольдт, историк Иоганнес фон Мюллер, антрополог Эдвард Вестермарк (историк семейно-брачных отношений), филолог Жорж Дюмезиль, экономист Дж. Мейнард Кейнз, французский историк и философ Ж. -П. Арон (умер от СПИДа), наконец, национальный герой Англии, расшифровавший тайный код вермахта во время Второй мировой войны, изобретатель первого компьютера Алан Тюринг (арестован по обвинению в гомосексуальности, насильственно подвергнут гормонотерапии и покончил с собой в расцвете лет). Известные путешественники: Джеймс Кук, Сесиль Родс (по которому названа Родезия), Стэнли, Бёртон, из русских Пржевальский и Миклухо-Маклай. Художники и скульпторы (Cooper 1986): Леонардо да Винчи (24-х лет был обвинен в сношениях с 17-летним Джакопо Сальтарелли, промышлявшим проституцией, затем в течение 18 лет у него жил его ученик Салаи по прозвищу «Маленький Дьявол», и Леонардо оплачивал его дорогие счета за одежды), Альбрехт Дюрер, Боттичелли, Микельанджело Буонарроти, Бенвенуто Челлини (дважды привлекался к суду за сексуальные эскапады), Караваджо (обвиненный в связи с мальчиком бежал из Мессины), Эжен Делакруа (по крайней мере, не водился с женщинами и признавался, что обожает мужское тело), Жерико, Клод Моне, Демут и одно время Сальваторе Дали (в юности он был любовником Гарсия Лорки), Роден, Пабло Пикассо (был в связи с Кокто), из русских — Сомов и Петров-Водкин. Мастера художественной фотографии: барон фон Глёден, Роберт Мэпплторп («я проделывал всё, что показываю на своих фото» — он показывал и умирание от СПИДа, и умер сам от него). Драматурги: Софокл, Еврипид, Марлоу (у нас по традиции транск рибируется как Марло), Шекспир (хотя его гомосексуальность оспаривается), Мольер, фон Клейст, Бенавенте, Федерико Гарсия Лорка, Теннесси Уильямс, по-видимому, также Бертольд Брехт. Поэты: Вергилий, Катулл, Гораций, Марциал, Ювенал, Абу Новас, Ибн Хазм, Саади, Хафиз, Пьетро Аретино, Томас Грей, Уильям Блейк, Байрон (покинувший Англию ради Греции, где его ждала «греческая любовь» — см. Crompton 1985), Шелли, Теннисон, Грильпарцер, фон Клейст, Бодлер, влюбленные друг в друга Верлен и Рембо (они вместе писали «Сонет о заднем проходе»), Жак д’Адельсвар-Ферзан (неоднократно арестовывался за секс с гимназистами), Суинберн, Редьярд Киплинг, самый значительный поэт Америки Уолт Уитмен, грек Кавафис, лучший современный поэт Англии Уистан Оден, которого Иосиф Бродский (1998: LVII) называл «величайшим умом двадцатого века» и поэтом, который «не имеет себе равных», далее Гарт Крейн, негритянский поэт Каунти Каллен, Габриель д'Аннунцио, Райнер Мария Рильке (Кокто уверял, что у них была связь). Признавался в сексуальном опыте с юношами (в стихах) и Гёте. Но добавлял в шутку, что предпочитает все же девушек: ими можно пользоваться с обеих сторон. В России — поэт-сентименталист Иван Дмитриев (он же министр юстиции Александра I и автор «Сказки о рыбаке и рыбке»), Константин Батюшков (тяготился своей гомосексуальностью, после гибели возлюбленного сошел с ума и 30 лет порывался к его могиле), Иван Мятлев («Как хороши, как свежи были розы»), Михаил Кузмин, Николай Клюев и Сергей Есенин (оба одно время жили вместе и были влюблены друг в друга не только духовно, хотя Есенин несколько раз женился), Георгий Иванов, Рюрик Ивнев, Павел Антокольский, был к этому причастен и поэт-символист Вячеслав Иванов. Под большим подозрением Лермонтов. Писатели: Петроний, Апулей, Мигель де Сервантес (да, тот самый, автор «Дон Кихота», хотя подтверждения слабы), Сирано де Бержерак (настоящий, а не литературный герой Ростана), фон Платен, Суинберн, Бальзак (это доказано у Ларивьера), Гюстав Флобер, Оскар Уайлд, Марсель Пруст, Август Стриндберг, сказочник Ганс Христиан Андерсен («женственность моей натуры и наша любовь останутся загадкой», — писал он юному Эдварду Колину, но видимо, никогда не осуществил телесно свою страсть ни к Колину, ни к другим юношам, в которых был влюблен; в «Русалочке» он воплотил свою трагедию: существо иной природы, не находящее ответа своей любви. — Rosen 1993: 804–806, 809), Жюль Верн (пожилой писатель вел интимную дружбу с юношами, среди которых был 16-летний Аристид Бриан, будущий президент Франции), Сомерсет Моэм, Герман Мелвилл (автор «Моби Дика»), Генри Джеймс, Томас Манн (он, однако, ни разу не осуществил свою склонность), Андре Жид, Анри де Монтерлан, Юкио Мисима, Эдвард Олби, Трумэн Капоте, Гор Видал, Дэвид Герберт Лоуренс (автор «Любовника леди Чаттерли»), Кристофер Ишервуд (вдохновитель сценария знаменитого фильма «Кабаре»), Аллен Гинзберг (зачинатель бит-движения и хиппи), Норман Дуглас, Хулио Кортасар, Керуак, Сэлинджер, коммунист Луи Арагон, австралиец Нобелевский лауреат Пэтрик Уайт, Габриель Арно, Ежи Анджеевски, Джо Экерли с его «Отпуском в Индии», Колин Спенсер. Композиторы: Гендель, Люлли, Беллини, Шуберт, Рихард Вагнер (известна его любовная связь с королем Людвигом II Баварским), Чайковский, Равель, Сен-Санс («я не гомосексуал, я педераст»), Пуленк, Бенджамен Бриттен (когда Бриттен, имевший титул барона Олденбурга, умер, королева Елизавета II выразила соболезнование его постоянному любовнику тенору Питеру Пирсу), Арон Коплэнд, Кол Портер (это его мелодия «1 love Paris in the moontime») и, судя по новейшим публикациям (Krzeszowiec 1996–1997), Шопен, возможно, также Бетховен. Музыканты-исполнители: дирижер Леонард Бернстайн, пианист Владимир Горовиц, а также очаровавший некогда всех в Советском Союзе пианист Вэн Клайберн, которого у нас звали Ван Клиберном (за ним долгие судебные процессы с его любовником Томасом Зарембой, на 13 лет его моложе, обвиняющим его в заражении СПИДом). В литературе появились упоминания и о Святославе Рихтере. Танцовщики: Нижинский, Лифарь, Брун, Нуреев, и если бы в этой когорте оказался еще и Барышников (но знающие его люди убеждают, что это не так), то более блистательных и не было. Артисты театра и кино: Лоуренс Оливье, Джеймс Дин, Юрьев, Эррол Флинн, Жан Марэ, Берт Ланкастер, Юл Бриннер, признавался в гомо сексуальной молодости и Марлон Брандо. Деятели театра (антрепренеры, продюсеры, режиссеры): Дягилев, Джо Ортон, а из современных — Виктюк. Кинорежиссеры: Сергей Эйзенштейн (чей фильм «Броненосец Потемкин» признан лучшим фильмом всех времен), Висконти, Паоло Пазолини, Жан Кокто, Энди Уорхол, Рейнер Фассбиндер, Дерик Джармен, Сергей Параджанов (провел по обвинению в гомосексуальности пять лет в лагере). Дизайнеры моды: Пьер Бальмен (создатель «нового французского стиля»), Жак Фат (сделавший модой «женщину-вамп»), Кристиан Диор (с роскошным стилем «нью-лук»), Ив Сен-Лоран (введший силуэт-трапецию), Джанни Версаче, Жан-Поль Готье, Дольче и Габбана (а есть ли в этой категории имена громче?). Рок-и поп-музыканты: Джим Моррисон («Доорз»), Фредди Меркьюри («Куин»), из ныне живущих Клиф Ричард, Дэвид Боуи, Элтон Джон, Майкл Джексон и многие другие. Французские шансонье Серж Гэнзбур и Шарль Азнавур. Богачи (аристократы или капиталисты): крупнейший английский коллекционер XVIII–XIX вв. Уильям Бекфорд, на несколько лет бежавший из Англии из-за скандала с 12-летним сыном виконта Куртене «Котенком» Уилли (впоследствии герцогом Девонским), такие капиталисты-мультимиллионеры, как Фридрих-Альфред Крупп (когда его разоблачили, покончил с собой) и Малькольм Форбс. Такими приключениями увлекались и многие государи — кроме уже указанных в перечне полководцев, вавилонский царь Хаммурапи, библейский Давид, греческие властители Солон и Писистрат, Алкивиад, римские императоры Август, Калигула, Клавдий, Нерон, Гальба, Вителлий, Тит, Коммод, Тиберий, Траян, Адриан, Гелиогабал и др., арабские халифы Аль Амин и Аль Мутаваккид, султаны Баязет I и Махмуд Газневид, многие китайские императоры, японские сёгуны и другие самураи, король франков Хлодвиг, французские короли Филипп II, Иоанн II, Генрихи II и III, Людовики XIII и XV, английские короли Вильям II Рыжий и Вильям III (Вильгельм Оранский), Эдуард II и Яков I (чьим фаворитом был Вильерс, ставший герцогом Бекингемским), из немецких Фридрих I Гогенштауфен и баварский король Людвиг II, австрийские императоры Фридрих II и Рудольф II, король Дании и Норвегии Христиан VII, польский король Болеслав Смелый, русские цари Василий III, Иван Грозный, Лжедмитрий I и Петр I, его противник шведский король Карл XII. Содомским грехом не гнушались и многие святейшие папы, несмотря на официально отрицательное отношение к нему римско-католической церкви. Из пап своей гомосексуальностью были известны Иоанн XII, взошедший на папский престол 18-летним (X век), Бенедикт IX, получивший святейший престол 15-летним (XI век), Павел II, прославившийся также коллекционерством предметов античного искусства, Сикст IV, возводивший своих любовников в кардиналы, Александр VI Борджиа (все трое — XV век), Юлии II и III, Лев X, Адриан VI (XVI век), Пий XII (XX век) (о папах — Kowalski 1988, Duroc 1983). Да что папы — сам Святой Августин, основатель католического аскетизма, в своей «Исповеди» кается, что в молодости предавался этому греху («позорной любви»). Был к нему причастен и основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола.Значение такого комплектования
Если это грех, простительный великим и славным, то почему мы его не прощаем нашему соседу? Если в этих списках набралось такое созвездие блестящих имен, то не связана ли как-то их «беспутность» (выбор необычного пути) и «повернутость» (к непривычному) с их величием и славой? Логика здесь не безупречна: хоть таких людей действительно немало, но великих людей без этого пристрастия явно больше, а кроме того, среди гомосексуалов можно найти и преступников, и таких старательно отыскивали те, кто стремился доказать, что гомосексуальность — признак упадка и вырождения. Поскольку одно время это была господствующая линия в медицине и юриспруденции и немало литературы выдержано в этом духе (например, Krafft-Ebing 1882, Крафт-Эбинг 1996), составлять и пополнять «списки великих гомосексуалов» имеет смысл, чтобы создать противовес этой негуманной традиции, ныне опровергнутой, поддержать гонимых и придать им силы в борьбе за человеческое достоинство. Многим кажется, что, стремясь пополнить свои ряды великими, гомосексуалы преувеличивают. Возможно, не без этого. В приложении к газете «Невское время» журналист Мих. Логинов (1997) на странице, специально посвященной «инаколюбящим», пишет: «Нынешние гомосексуалисты любят составлять огромные списки «великих предшественников», зачисляя в свои ряды чуть ли не всех знаменитых мужчин прошлого. Однако прославившиеся короли и властители дум всегда имели много недоброжелателей, которые и обвиняли их в «содомском грехе». История не знает великих педерастов, управлявших государством или писавших симфонии. Скорее наоборот, она сохранила имена королей и композиторов, обвиненных современниками в гомосексуализме». Да нет, история знает и королей, и композиторов, и властителей душ, не только обвиненных в этом, но и причастных к этому на деле. Остались же не только слухи и наветы, остались (хоть это и неизвестно Логинову) судебные протоколы. Остались дневники, письма и мемуары. Остались произведения и деяния. Но списки эти — очень пестрые, в них включены самые разнообразные люди. Разнообразные не только по профессии, национальности, времени существования, но и по характеру причастности к «другой любви». И не только по месту, которое в их жизни такая любовь занимает (у одних заполняет всю жизнь, у других — лишь дополняет на какой-то стадии вполне обычную любовь и брак), но и по соотношению с нормой. Для нового времени причастность к содомскому пороку была ужасным клеймом, делавшим человека изгоем, для аристократии XVIII века — это был порок, но красивый порок, галантный порок, вполне допустимый, для античности же это была норма. Однако и там одни увлекались этим больше других. Кстати, И. С. Кону (1989: 288) кажется, что «независимо от их фактической достоверности списки «великих гомосексуалистов» выглядят оскорбительными и пошлыми». Понятно — скажем, как списки лысых или рыжих или низкорослых гениев. Что ж, если бы лысых презирали, преследовали и казнили за их лысину, то и списки гениев с лысиной не были бы пошлыми. Оскорбителен ли такой список? Ведь вносят-то человека в список всё-таки не столько за лысину (или гомосексуальность), сколько потому, что он гений (или, по крайней мере, примечательная личность). Да Кон и сам в другой книге помещает такой список (1998: 88–331). Если такие списки могут как-то изменить взгляд обычных людей на гомосексуалов, то стоит позаботиться о полноте списков. Таким образом, исследование и обнародование этой стороны жизни великих людей прошлого способствует осознанию собственного достоинства у гомосексуалов, столь долго гонимых и презираемых, и воспитанию терпимости со стороны остальных. Но эта эмоциональная и психологическая сторона дела — лишь один из факторов значимости подобных биографических очерков, открывающих другую сторону светила. Еще одним фактором, придающим значимость изучению сексуальной ориентации великих людей, является возможное воздействие гомосексуальности на мышление, творчество и прочую деятельность знаменитого человека. То, что объяснялось иначе или вовсе не объяснялось и даже не замечалось, может оказаться существенным в этой фигуре и найти неожиданное объяснение. Скажем, в какой мере то, что Наполеон изъял наказуемость однополой любви из своего кодекса законов, связано с его собственными гомосексуальными чувствованиями (если они были)? В какой мере аналогичное предложение в России, разработанное Набоковым, отцом знаменитого писателя, было обусловлено его переживаниями по поводу гомосексуальности брата и младшего сына? Гомосексуальность Оскара Уайлда, Марселя Пруста и Андре Жида явно отразилась в их творчестве. А гомосексуальность Теннесси Уильямса? Прямых отражений очень мало, но косвенные весьма обильны. А как с музыкой? Как гомосексуальность отразилась в музыке Чайковского, Равеля, Сен-Санса, Бриттена — в особой страстности, нежности и лиричности? Вообще в их преданности именно музыке? И т. д. В связи с этим встает и вопрос о возможных особых качествах гомосексуалов, особых способностях, делающих гомосексуала часто незаурядным человеком. Есть даже книги, специально посвященные связи между гомосексуальностью и гениальностью (Кауу 1965; Ruitenbeck 1967). Здесь подразумевается, что всякая гениальность есть отклонение от нормы. А там, где есть некое отклонение, можно подозревать и другие, в том числе и необычную сексуальную ориентацию. И обратно — где есть гомосексуальность, можно ожидать необычных отклонений в способностях к творчеству. В сторону гениальности. Впрочем, и в противоположную сторону — к тупости и преступлениям. Это основа для теории Ломброзо о тонкой грани между гением и криминалом. Но не доказано, что дело в некоем особом обострении или притуплении способностей. Возможно, незаурядность гомосексуалов, положительная или отрицательная, обусловлена в значи тельной мере гонениями и трудным, маргинальным положением гомосексуалов в обществе, что стимулирует их силы, обостряет сопротивляемость, побуждает к нестандартному мышлению. «Гомосексуальность ставит мужчину «вне общества», и это вынуждает его пересматривать общепринятые ценности», — говорил Жене, писатель и вор (Жене 1995: 276–277). Гораздо более реалистично предположение, что гомосексуальность образует благодатную основу для занятий некоторыми специальностями. Уже по нашему списку можно заметить, что писателей, поэтов, композиторов и полководцев гораздо больше, чем, скажем, спортсменов или производственников. В литературе отмечалась также приверженность гомосексуалов к занятиям дизайном одежды, парикмахерским искусством и балетом. «Часть женственности, таящаяся в гомосексуальности, как бы обволакивает юношу и делает его более чутким. <…> Ломая традиционные представления о поведении самца, мужчина как бы разбивает свою скорлупу, и в нем просыпается чувственность, которая в обычном состоянии оставалась скрытой» (Жене 1995: 276–277). Опять же неясно, что здесь в основе — то ли природная мягкость характера, тонкость восприятия, манерность (даже кокетливость) некоторых мужчин приводит их к гомосексуальной ориентации, то ли гомосексуальная практика ведет к увлеченности уходом за телом, телесными искусствами (танец) и сугубо мужскими специальностями. Или же сказывается изоляция полов, характерная для некоторых специальностей и социальных групп (военное дело, студенческие общежития и т. п.) и ведущая к гомосексуальности?Об этой книге
Из приведенного огромного списка (более 280 имен), разумеется, далеко не полного, здесь отобрано для биографических очерков всего несколько десятков, хотя материалов у меня собрано гораздо больше. Есть в русском переводе книга Рассела (1996), специально посвященная именно биографиям выдающихся гомосексуалов — там отобрана «первая сотня». Он отобрал эту сотню и даже расположил их в книге по их значению для освободительного движения сексуальных меньшинств: самые важные — сначала, менее важные — под конец. Однако критерии этого отбора чрезвычайно субъективны и вызвали насмешки критиков: почему, скажем, Чайковскому уделено 29-е место — ниже локальных американских политиков Гарри Хэя и Харви Милка (места соответственно 22-е и 23-е)? Почему американские лесбиянки Джейн Адамс и Эмили Дикинсон (порядковые номера 26 и 27) расположены намного выше, чем Дягилев и Нижинский, уместившиеся вместе на одном 46-м месте? Сравнивается их участие в политике? Вообще, как точно выстроить светил в шеренгу? Почему Паоло Пазолини на один пункт важнее, чем Юкио Мисима (номера 61 и 62), а не на три пункта важнее или на четыре пункта зауряднее? И т. д. Кроме того, у Рассела биографии очень сжаты — по каждому, кого он включил в свою книгу, приведена в сущности только краткая информационная справка: даты рождения и смерти, перечень основных деяний, основные проявления гомосексуальности. Разобраться в психологии героя на двух-трех страницах невозможно. Я решил посвятить каждому деятелю, отобранному для анализа, по меньшей мере десяток страниц — стараюсь рассмотреть перипетии его жизни, осветить этапы сложения личности, разобраться в его психологии, проследить воздействие гомосексуальности на творчество и т. п. А чтобы книжка не вышла слишком громоздкой, я решил разделить материал на серии и издать каждую отдельным выпуском. Для первой серии я решил рассмотреть русские биографии, поскольку они ближе русскому читателю, и гомосексуальность их героев менее освещена в литературе. С другой стороны, русская история чрезвычайно любопытна для прослеживания судеб гомосексуалов. С одной стороны, у всех на памяти недавнее время, когда Советский Союз преследовал гомосексуалов более жестоко, чем ведущие западноевропейские государства (из коих некоторые вообще не преследуют уже давно). С другой стороны, преследование гомосексуалов по закону введено в России лишь при Петре Первом и осуществлялось до самой Сталинской эпохи спустя рукава. В средние же века и в начале нового времени, когда во всех европейских государствах (а в начале нового времени — и в Америке) гомосексуалов свирепо казнили, в России, по единодушному свидетельству западных путешественников, гомосексуальность была чрезвычайно распространена в быту, и особых наказаний за нее не было. Видимо, языческая русская культура не отличалась в этом отношении от греческой, а внедрение христианства долго не могло вытеснить старые нравы. Критериями для отбора биографий мне послужили два: во-первых, сравнительная известность личности русскому читателю или, по крайней мере, несомненная значительность личности и, во-вторых, достаточная обеспеченность биографическими материалами по теме. Лжедмитрий I, видимо, предавался не только гетеросексуальным, но и гомосексуальным утехам, и, разумеется, был крупной исторической фигурой, а биография его весьма разработана. Но о его гомосексуальных приключениях известны лишь крайне скудные сообщения современников. Чаадаев — ближе к нашему времени и очень интересен для нашего читателя, но о его гомосексуальности тоже можно составить лишь самое общее представление, основываясь на горстке косвенных данных. По Чаадаеву все, что можно, собрано в книге К. Ротикова «Другой Петербург». Нарком Чичерин — это уже почти наше время, фигура крупная и интересная, но его интимная жизнь была заботливо укрыта и остается в глубокой тени. Помещать эти биографии в мое собрание нет смысла. Гомосексуальность поэта Рюрика Ивнева или художника Судейкина, наоборот, достаточно освещена в мемуарной литературе и в архивах, но в истории литературы и искусства они не занимают видных мест. Поэтому их также нет в этой книге. Книгу эту я начал писать случайно, как производное другой книги — «Другая любовь». Там я поместил несколько биографических очерков, каждый из которых должен был иллюстрировать некую сторону однополой любви на примерах исторических личностей — известных писателей, мыслителей, ученых. Ведь интимная жизнь известных личностей, особенно писателей, лучше освещена — в их произведениях, в переписке, опубликованных дневниках и мемуарах. На одном примере можно было проиллюстрировать скрытую гомосексуальность, на другом — бегство от нее в брак с женщиной, на третьем — переход от гетеросексуальности к гомосексуальности и т. д. Но в итоге в ту книгу включены лишь некоторые биографии, другие вошли лишь отдельными эпизодами. А материала было собрано значительно больше. Было жаль его упускать. Как раз при обсуждении издательских перспектив для книги «Другая любовь» петербургские деятели культуры и бизнеса, ознакомившиеся с рукописью, заказали мне лекции о замечательных людях, причастных к гомосексуальности. Так и другие материалы сформировались в биографические очерки. На этих лекциях слушатели и подали мне идею объединить их в отдельную книгу. Только один очерк (о Льве Толстом) взят из моей книги «Другая любовь» и расширен, так же как и некоторые материалы, вошедшие в данное предисловие. Остальные очерки написаны специально для этой книги. Основой для них послужили мои лекции, читавшиеся в 1999–2001 гг. в Русском клубе в Петербурге и спонсированные графом С. В. Осинцевым. Перед сдачей рукописи в печать ее просмотрели А. М. Марков и Ю. М. Пирютко, которым я весьма признателен за ценные критические замечания и советы. Я использовал также подсказки доктора ист. наук Р. Ш. Ганелина, проф. Л. И. Гительмана, А. А. Панченко и А. В. Шарова. Помощь в поиске литературы и книги из своих личных библиотек любезно предоставили Г. Г. Алябьев, А. Е. Кузнецов и П. В. Меляков, а также проф. А. А. Кухарский. Им я приношу свою искреннюю благодарность. А так же отдельное спасибо редакторам А. А. Селину, В. Кустову, С. И. Дергачевой и М. И. Плясецкой.Иван Грозный и содомский грех
1. Образ грозного царя
Как ни странно, этот кровавый раздел русской истории находит своих апологетов, а образ жестокого и изобретательного деспота — своих защитников и фанатов. Впрочем, это естественно: если обнаруживаются аналогии, если такие же явления повторяются вновь — доносительство, пытки, массовые казни, — то есть ведь не только те, кто от них страдает, но и те, кто их проводит или получает от них выгоды. Ясно, что этим выродкам угодно отыскивать в истории свои прообразы и они ждут воспевания и приукрашивания таких периодов и таких исторических фигур. Так, именно в эпоху Сталина лояльные ему историки начали повторять Кавелина и с особенным ражем возводить на пьедестал фигуру Ивана Грозного, отыскивать в нем черты великого и благого исторического деятеля, всячески оправдывать его бесчинства и преуменьшать их масштаб и причиненное ими зло. Но даже в Сталинскую эпоху в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» есть эпизоды, в которых воскрешается склонность Ивана к содомскому греху. Показан его смазливый кравчий Федька Басманов, танцующий для царя в женском платье. Более того, сам глава опричников Малюта Скуратов, ославленный в народных сказаниях как страшный палач, подползает к царю, и царь почесывает его под бородой, спрашивая: «Что, соскучился по царской ласке?». А тот лишь покряхтывает умильно. Виктор Шкловский в своей биографии Эйзенштейна скупо упоминает, что в общем это вполне соответствует исторической действительности, что Федька Басманов «всеми обвинялся в мужеложестве» (1976: 252). Но Шкловский — не историк, на источники не ссылается и уж критической проверке их и подавно не подвергает. Что же было в действительности? Был ли царь причастен к содомскому греху или это напраслина, возводимая на него недругами, коих у него было предостаточно? Так сказать, коли уж злодей, то и в этом. А если это реальная черта его поведения, то каков ее характер — была ли то особенность его природной сексуальной ориентации или всего лишь еще одна примета его распутства, нарочитое злоумышление против благочиния ненавистной боярской среды, или разновидность оскорбления и унижения подданных?2. Содомский грех на Руси
Прежде всего необходимо ввести в расследование этого вопроса историческую перспективу. Очень долго в средневековье (что в Западной Европе, что в России) отношение христианской церкви и всего населения к однополой любви мужчин было совсем не таким агрессивно-негативным, как мы привыкли его представлять по более поздним временам. Церковные кары и уголовное преследование гомосексуалов нового времени принято проецировать на предшествующие времена и возводить в христианскую традицию. Между тем как раз средневековье было для гомосексуалов не таким уж мрачным. В образованной части общества держались традиции античной культуры, для которой было характерно весьма свободное отношение к однополой любви. Да, конечно, от библейского ригоризма иудеев и от евангельской простоты апостолов христианство унаследовало суровую и неуклонную нормативность сексуального поведения. Но то в теории, по Священному Писанию и поучениям святых отцов. А на практике церковь налагала на прегрешения этого плана очень мягкие наказания — в основном молитвы, посты и временные отлучения от духовных привилегий. При Карле Великом гомосексуальные сношения наказывались не строже, чем внебрачные связи. В западноевропейских монастырях царила большая свобода нравов, и есть много сочинений известных церковных авторитетов — стихи, песнопения, трактаты, — посвященные блаженству телесной любви к мальчикам; часто это послания, обращенные к самим красивым мальчикам или юношам. Известна латинская гомоэротическая лирика епископа Ренского Марбода, архиепископа Дольского Бодри де Бургея и др. Более того, в некоторых церквах заключались браки между мужчинами, и существовали специальные молитвы о благополучии таких браков! (Boswell 1980; 1995). Только с эпохи Возрождения, с XIII века, когда церковь почувствовала себя в опасности, когда зашаталась ее власть над умами, отцы церкви начали ужесточать кары за несоблюдение религиозных заповедей, в частности за уклонение от сексуальных норм. Это подхватили светские власти, ввели преследование содомского греха в законодательство, и вскоре в Западной Европе запылали костры, на которых сжигали содомитов. На Руси же прежнее положение держалось дольше — до эпохи Петра I. Еще и в XVI–XVII веках церковь смотрела на это прегрешение сквозь пальцы, а государство вовсе не вмешивалось. В Стоглаве, написанном при Иване Грозном в 1551 г., есть специальная глава «О Содомском грехе». В ней священникам предписывается добиваться покаяния виновных в этом прегрешении (но их еще надо сначала выявить), «а которые не исправляются, ни каются, и вы бы их от всякие святыни отлучали, и в церковь входу не давали» (Стоглав 1863: 109). И всё. Да и то в книжном представлении, так сказать, в идеале. А в реальности было, конечно, и того проще. В русском обществе однополые половые сношения, конечно, считались грехом, но грехом небольшим и вполне извинительным, вроде потребления алкоголя или обжорства, — не грехом, а грешком, скорее забавным, чем ужасным. Люди даже похвалялись перед приятелями успехами на этом поприще. Анализ церковных: кар за гомосексуальные сношения (Levin 1989: 203) показывает, что в те времена русская православная церковь, следуя общественным убеждениям, упрекала паству не столько за противо естественность этих сношений или их предполагаемую вредность, сколько за уклонение от положенной для данного пола социально-психологической роли. Каралось (или по крайне мере сопровождалось неодобрительными оценками) не то, что мужчину сексуально привлекает мужчина, а те действия или позиции, в которых мужчина выступает в женской роли. Поэтому, скажем, нескромные ласки руками подвергались лишь легкому наказанию, а орально-генитальные контакты вовсе выпадали из сферы наказуемых деяний. Но и за анальное сношение с мужчиной, где один из соучастников выступает в роли женщины, оба наказывались не очень сурово: тот, кто осуществлял это действие, мог поплатиться лишь покаянием и длительным постом, а тот, кто ему подвергался, отделывался даже еще более легким наказанием (пассивный» участник не считался главным виновником), тогда как в Венеции той же эпохи или в Англии за то и другое полагалась смертная казнь. Иностранцы, приезжавшие в Россию из стран, где этот грех уже перешел в категорию ужасных и смертельных, изумлялись свободе («порче») нравов в России. Посол Священной Римской империи Сигизмунд Герберштейн, побывавший в начале XVI века при дворе Василия III, отца Ивана Грозного, с удивлением отмечает, что содомский грех подлежит у московитов лишь церковному разбирательству и не карается смертью (Герберштейн 1988: 109, 118). Англичанин Джордж Тэрбервилл в составе дипломатической миссии прибыл в Москву при Иване Грозном, в 1568 г., и был поражен терпимым отношением московитян к тому, что европейцы считали ужасным пороком. Вернувшись, он описывал свои впечатления в стихотворном послании к другу Эдварду Данси:Хоть есть у мужика достойная супруга,
Он ей предпочитает мужеложца-друга.
Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.
Вот в грех какой его ввергает хмель.
(стихотворный перевод С. Карлинского).
Даже если у мужика есть веселая и красивая жена, Потакающая его звериной похоти, Он все равно предается содомскому греху. Чудовище с большей охотой ляжет в постель с мальчиком, Нежели с любой девкой: на пьяну голову совершает он такой грязный грех.Французский авантюрист Жак Маржерет, служивший в России при Борисе Годунове и Лжедмитриях, пишет в своем «Состоянии Российской державы… с 1590 по сентябрь 1606 г.», что Лжедмитрий I «насмехался над русскими обычаями и следовал русской религии только для виду, этому не нужно удивляться. Особенно если принять во внимание их нравы и образ жизни, так как они грубы и необразованы, без всякой учтивости, народ лживый, без веры, без закона, без совести, содомиты и запятнаны бесчисленными другими пороками и скотскими страстями» (Маржерет 1982: 213). В русской литературе бытует мнение, что это не свидетельства очевидцев, а европейские стереотипы описания диких и грубых иноверцев московитов, то есть клеветнические измышления. Но необходимость бороться с содомским грехом отмечается в наставлениях у самих русских православных церковников XV–XVI веков — в «Домострое», «Стоглаве», в епископском поучении, помещенном в «Кормчую книгу». Борьба была нелегкой. Сам глава православной церкви при Иване III митрополит Зосима тайно предавался содомии. Старец Филофей из Елеазарова монастыря в Пскове, тот самый, которому принадлежит формулировка о Москве как третьем Риме («а четвертому не бывати»), умолял великого князя Василия III заняться искоренением содомии из своего православного государства — он явно исходил из слишком широкого распространения этого порока на Руси. При Василии III выписанный из Византии богослов Максим Грек, учившийся в Италии, во Флоренции и Венеции, у столпов Возрождения, написал против содомии «Слово на потопляемых и погибаемых без ума, богомерзким гнусным содомским грехом, в муках вечных». Исходя из современной итальянской практики и учения Савонаролы, проповеди которого он слушал в Италии, он возглашал, что содомитов нужно сжигать на кострах и предавать анафеме. Но он еще и требовал правки священных книг, а эти новации вызвали негодование консервативно настроенного духовенства. Максим был обвинен в ереси и заточен в отдаленный монастырь. Его враг Даниил, избранный митрополитом, считал, что содомитов достаточно лишь оскоплять, чтобы приводить к целомудрию. Но и это оставалось лишь его пожеланием. Власти на это он не имел. Зато он в своем двенадцатом поучении с пылом обличает распространяющееся с Запада брадобритие, которое, по его мнению, производится с нечистыми намерениями: «… женам позавидев, мужское свое лице на женское претворяши. Или весь хочеши жена быти?» Даниил с отвращением живописует, как эти модники бреют себе бороды, натираются мазями, румянят себе щеки, обрызгивают тело духами и выщипывают на нем волосы щипчиками. Они переодеваются по нескольку раз на дню и напяливают на ноги тесные ярко-красные сапожки. Кого же они собираются прельщать? Увещевания не действовали. Брадобритие все больше распространялось в верхних слоях общества, а содомскому греху предавались все сословия. При Иване Грозном, в 1552 г., митрополит Макарий был вынужден обратиться с посланием к царскому войску, стоявшему под Казанью и Свияжском. В этом послании он ужасался, что государевы воины не только насиловали девиц и жен во взятых городах и весях, но и «содевали со младыми юношами содомское зло, скаредное и богомерзкое дело». Опять же, о наказаниях не слышно — только увещевание. Таким образом, если молодой царь или великий князь баловался иногда подобным образом, это не должно было вызвать особого удивления подданных — не более, чем если бы он предавался обжорству или пьянству. Одни расценили бы это как достойный сожаления недостаток, другие — как удальство.
3. Легенды об отце
Более того, в самой великокняжеской семье была традиция покровительства фаворитам-мужчинам и пренебрежения к женам, разумеется тайная, но смутные слухи об этом могли доходить до юноши Ивана. Его отец, великий князь Василий III, был женат дважды. Он решил жениться только в 1505 г, став великим князем и достигнув 26 лет. По тогдашним меркам это было очень поздним браком: знать женила своих сыновей 15-летними и более юными. Историки теряются в догадках о причинах столь позднего брака — указывают на трудности отыскания православной невесты за рубежом: Византия и православные царства на Балканах были уничтожены турецким завоеванием, а брак с иноверкой считался нежелательным. Однако обычно можно было договориться о переходе невесты в православие. Так что, вероятно, было и просто отсутствие тяги молодого княжича к браку. Но его отец Иван III внезапно переменил свои настроения и отнял наследование престола у старшей линии — у потомства своей первой жены, тверского рода (соправителем государя был вместо умершего старшего сына Ивана внук Дмитрий). В 1502 г. Иван III арестовал своего соправителя-внука и передал этот пост Василию — сыну своей последней жены (то была греческая принцесса Софья Палеолог, племянница византийского императора). Через три года Иван III лежал при смерти. Теперь Василию было важно обзавестись супругой и детьми, чтобы выдержать конкуренцию с арестованным племянником, законным наследником, и обеспечить преемственность власти для потомства «грекини». Василий по совету греков решил избрать себе жену из своих подданных. По всему государству объявили перепись невест. Племянника же он заковал «в железа» и заточил в «полату тесну», где тот и умер три года спустя. Летом 1505 года в Москву свезли 500 дворянских девиц, и Василий остановил свой выбор на Соломониде Сабуровой, дочери окольничего Василия. Брак оказался бездетным, и по праву старшинства престол должен был перейти к следующему сыну Ивана III, Юрию. Разумеется, это грозило новыми перестановками в верхах. Знать беспокоилась, и в 1523 г. Василий и его бояре стали думать о разводе. Как это тогда водилось, вину за бездетность возлагали только на женщину, хотя, учитывая долгое воздержание Василия от брака, больше оснований подозревать в неплодии как раз его. Духовенство высказалось против развода: он противоречил московским традициям. Пришлось обвинить Соломониду в колдовстве. В ноябре 1525 г. был начат розыск. Собственный брат Соломониды дал показания, что великая княгиня держала у себя бабку-ворожею и прыскала водой «порты» мужа, чтобы вернуть его любовь. Отсюда ясно, что муж пренебрегал исполнением супружеского долга. Однако виновную в колдовстве после двадцати лет супружества насильно постригли в монахини. Сорокашестилетний государь женился на дочери литовского выходца, покойного князя Глинского, Елене, и при этом сбрил бороду — первым из русских государей. Княжна была сиротой, а дядя ее, известный политический авантюрист, родом из Литвы, находился в заключении по обвинению в государственной измене. Так что не влиятельность рода привлекла монарха, а, видимо, красота молодой невесты. Но и в этом браке детей долго не было. Сын Иван (в будущем Иван Грозный) родился в августе 1530 г., т. е. через пять лет после бракосочетания. Поскольку противозачаточных средств тогда не существовало, да и надобности в них у государя не было, долгая оттяжка зачатия носит странный характер. Ходили слухи, что Василий настолько не любил женщин и настолько был привержен к муж чинам, что при его сношении с женой к ним должен был присоединяться обнаженный сотник, чтобы супруг мог реализовать соитие (Карлинский 1991). Супруга этому противилась, но не из моральных соображений, а из опасения, что если это узнают, то на ребенка может пасть подозрение, что он не царский сын. Некоторые так и считали, что роль этого (или другого) помощника в оплодотворении супруги была куда более значительной, чем простое присутствие. В Москве шептались, что настоящим отцом ребенка был не великий князь Василий III, а конюший (в России один из высших чинов) князь Иван Федорович Овчина-Оболенский, после смерти Василия ставший фаворитом великой княгини и фактическим правителем Московского государства. Ясно, что Василий III был не очень расположен следовать призывам старца Филофея, Максима Грека и митрополита Даниила. Василий умер пятидесяти трех лет, простудившись на охоте, когда сыну было три года. Поняв, что смерть близка, великий князь велел сжечь все документы, на которых его братья могли бы основать свои претензии на трон. Д ля обеспечения престолонаследия сына он ввел в круг душеприказчиков дядю великой княгини князя Михаила Львовича Глинского, авантюриста, еще недавно сидевшего в тюрьме по обвинению в политической измене. А для успокоения бояр опекунский совет пришлось расширить до семи человек. Он и должен был править, оттеснив Боярскую думу. Занимаясь этими приготовлениями, Василий ни разу не пригласил к обсуждению свою супругу Она была вызвана к одру великого князя лишь в самые последние часы. Он сообщил ей, что сыну оставлено государство, а ей отведен вдовий удел для проживания. Правительницей она не назначена, на то есть семеро бояр. Тут сказались традиции Москвы, не допускавшие правления женщин, но бесцеремонность последнего прощания показывает, что, очевидно, Василий так и умер женоненавистником.
4. Сиротское детство и опасные задатки
Неизвестно, в кого уродились дети от этого брака, но наследственность была тяжелой. Иван был нервным, раздражительным, трудновоспитуемым ребенком, второй сын, Юрий, и вовсе глухонемым и слабоумным. Расправившись с выдуманным «заговором» князя Дмитровского — Юрия, то есть старшего дяди маленького Ивана, — и посадив этого князя с его боярами в башню, опекунский совет утвердился у власти. Через год-другой группе бояр, возглавлявших боярскую думу, удалось перехватить власть. Глинского, заковав в железо, посадили в тюрьму и там уморили. Во главе боярского правительства, правившего теперь от имени великой княгини Елены, встал ее фаворит Иван Овчина-Оболенский. Он расправился не только со своим соперником за влияние на Елену ее дядей Глинским, но и с младшим дядей маленького государя Андреем Старицким, действительно поднявшим мятеж. Князя Андрея посадили в тюрьму, надев на него тяжелую «шляпу железную», то есть нечто вроде железной маски. За полгода его довели до смерти. Но в 1538 г., после четырех лет правления, Елена Глинская умерла. Тотчас Ивана Овчину схватили и бросили в ту же темницу, в которой недавно умер Михаил Глинский, причем в назидание «тяжесть на него — железа — тут же положиша, что на нем Глинском была: там и преставися» (Летопись, 34: 26). Восьмилетний Иван остался крутым сиротой. Воспитывавшийся под боком у матери и нянек, он должен был перейти в мужские руки и готовиться к своей роли под наблюдением отца, но отца давно не было, а теперь и некому было позаботиться о должном мужском воспитании. Близко от него не оказалось мужских фигур, к которым он был бы привязан. Мужчины были для него существами чужими, таинственными, любопытными и часто враждебными. Теперь у власти оказались князья Василий и Иван Васильевичи Шуйские, окружившие себя боярами покойных великих князей Юрия и Андрея (братьев Василия III). Василий Шуйский, женившийся на старости лет на двоюродной сестре Ивана IV Анастасии, и переехал-то во дворец Андрея Старицкого, покойного дяди государева. После смерти Василия Шуйского всем руководил Иван Шуйский. Это его впоследствии Иван Грозный вспоминал недобрым словом: «Нас же с единородным братом моим, в Бозе почившим Георгием, начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде и в пище. Ни в чем нам воли не было… Припомню одно: бывало мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца («о отца нашего постелю») и положив ногу на стул, а на нас и не взглянет — ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб на господ» (Переписка 1993: 138). После смерти братьев Шуйских их группировку возглавил их племянник Андрей Михайлович Шуйский. Этот князь как-то ворвался со своими людьми в столовую палату великого князя, и при нем они схватили боярина Воронцова, ободрали на нем одежду и едва не убили; на митрополите Макарии изорвали украшенную мантию. Такое небрежение маленьким государем контрастировало с общим поклонением во время торжественных приемов — тогда те же князья били земные поклоны и делали вид, что все в стране делается по повелению юного князя. Он присматривался и наматывал себе на ус. Кстати, ус появился быстро и в буквальном смысле. В конце 1543 г. Ивану исполнилось 13 лет. Он рос очень быстро и выглядел переростком. Посольский приказ объявил за рубежом, что государь «в мужской возраст входит, а ростом совершенного человека ужь есть, а з божьею волею помышляет уже брачный закон приняти». Такие помыслы явно говорят о том, что у царя было раннее половое созревание. Он рос буйным и, как это называется сейчас, трудным подростком, предавался диким потехам. По свидетельству Курбского, лет в двенадцать он забирался на островерхие терема и сталкивал оттуда «тварь бессловесную» — собак и кошек. Это начало, обычное для маньяков-убийц. В четырнадцать лет «начал человеков ураняти». С ватагой сверстников, детей знати, он разъезжал по улицам, топтал конями прохожих, бил их и грабил, «скачюще и бегающе всюду неблагочинно». То ли сказалось небрежное и неровное воспитание, то ли тревожное детство, то ли наследственность. Внезапно, видимо, по наговору приближенных, бояр Кубенских и Воронцовых, а может, и по собственному почину подросток на троне громко повелел страже схватить князя Андрея Шуйского, главу опекунского совета, и бросить его псарям, которые уже имели приказ тут же его умертвить. Убитый лежал нагим в воротах два часа. С тех пор бояре начали «от государя страх имети и послушание». Почему князь Шуйский лежал нагим? Раздеть его догола не могли без приказа государя. Здесь проявляется войеризм юного царя, причем ему любопытно именно мужское тело. По крайней мере, и мужское. Естественное для детского возраста половое любопытство оказалось направленным на мужчин и сопряженным с насилием. И впоследствии по его приказу часто раздевали женщин и мужчин догола — ради пыток или просто ради сексуальных забав царя и его присных. Сладострастное наслаждение изначально смешивалось у него с наслаждением от насилия над живыми существами и властного унижения окружающих. В 1546 г. юному государю исполнилось 15 лет — по тем временам совершеннолетие. Официально он уже мог начать самостоятельное правление. Неистовый нрав юноши проявлялся часто. За невежливые слова он велел отрезать язык Афанасию Бутурлину. Нескольких бояр и двоих сверстников осудил на смерть. Его родня Глинские решили, что их час пришел, и стали нашептывать царю, как и от кого избавиться. В этом году великий князь выступил в свой первый военный поход. В походе он не проявил ни особой воинской доблести, ни особой мудрости военного вождя. Он забавлялся: пахал пашню, сеял гречиху, а паче всего ходил на ходулях и наряжался в саван, чтобы пугать местных жителей. Между забавами он отдал нужные Глинским распоряжения, и были схвачены и подвергнуты пыткам их враги — главные лица государственной администрации: конюший боярин И. П. Челяднин-Федоров, дворецкий князь Кубенский, двое бояр Воронцовых и сын Овчины-Оболенского Федор (это была месть за Михаила Глинского). Другой Михаил Глинский стал конюшим. Каждый раз возле подростка было кому злорадствовать — вместо ужаса перед тем, каким окажется будущий государь, обрадоваться возможностям уничтожить конкурентов с его помощью. В декабре того же года великий князь Иван IV принял титул царя, то есть императора (до того так официально именовались в русских документах только крупнейшие государи мира — император Священной Римской империи, хан Золотой Орды, византийский государь и султан турецкого государства, появившегося на месте Византии). После этого бояре решили, что 16-летнего царя нужно женить. В невесты была избрана Анастасия Захарьина, из рода бояр Захарьиных-Юрьевых, занимавших высокое положение при деде и отце государя. Теперь они снова возвысились. Глинские разозлили народ своими насилиями и поборами. Когда засушливым летом 1547 г. Москва была охвачена огромными пожарами и погибли тысячи москвичей, народ обвинил бабку царя Анну Глинскую, что она вынимает у покойников сердца и, настояв на этих сердцах воду, кропит ею дома, от чего они загораются. Собравшись толпами, москвичи бросились искать Глинских. Юрия Глинского вытащили из Успенского собора, куда он спрятался, и убили. Прибыли в Воробьево и требовали у царя выдать бабку Анну. Царь натерпелся страху и на всю жизнь проникся ненавистью не только к боярам, но и к простому народу. Глинских пришлось удалить от правления, заменив их Юрьевыми.5. В тени Сильвестра
К этому времени в Москве оформилась система министерств — «Приказов»: Казенный (финансовый), Посольский, Поместный, Разрядный (военный) и другие. Из этих учреждений вышли дельные соратники молодого царя, начавшие реформировать управление. Из них сложилась небольшая группа советников, которая встала над Боярской думой и в руках которой сконцентрировалась реальная власть. Эту группу советников впоследствии прозвали Избранной радой. Во главе этой группы стояли два незнатных человека: казначей Алексей Адашев и священник Сильвестр, духовник царя. Сильвестр был ярким проповедником и обладал даром внушения. Он психологически подчинил себе молодого царя и внушил ему страх перед Богом, желание заслужить вечное спасение добрыми деяниями и покровительством церкви. Сильвестр и Адашев начали робкие реформы устарелого административного устройства России, основанного на «кормлениях» (даче областей на откуп воеводам) и местничестве. Но влияние Сильвестра беспокоило родственников царицы, оттесненных от кормила правления. Они нашептывали царю, что поп Сильвестр посягает на царские функции, слишком много на себя берет и фактически оттесняет царя от власти. Наговоры возбуждали природную подозрительность царя и играли на его самолюбии. Особенный гнев царицы и ее родных вызвало поведение Сильвестра и Адашева во время тяжелой болезни царя. Готовясь к смерти, даже приняв от митрополита монашеский чин, царь предложил своим приближенным присягнуть маленькому царевичу Дмитрию, его сыну от Анастасии, тогда еще живому, но советники, испугавшись нового боярского засилья при малолетнем царе, взяли сторону Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата царя. Этого царь не мог им простить, когда выздоровел. Обоих советников заподозрили и в смерти царицы: извели, мол, ее колдовством. Советники угодили в опалу. Сильвестр был сослан простым монахом в Соловки, Адашев — комендантом захваченной в Ливонии крепости Феллин (ныне Вильянди, Эстония), где вскоре и умер.6. Востребованная гроза
Царь был убежден в своем праве на всевластие, в святости и божественности своего призвания по самому происхождению. Это у других народов («о безбожных языцех что и глаголати!») властители не сами владеют государствами, а «как им повелят работные их, так и владеют, — писал он своему беглому критику князю Курбскому. — А Российское самодержавство изначала сами владеют своими государствы, а не боляре и вельможи». Расправляться с ними сам Бог велел. «А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же есми были» (Первое послание…). Грозный и жестокий царь таким, каким он формировался с детства, был нужен не только недалеким эгоистам, попадавшим к нему в родню и фавор, но и широким слоям мелкого дворянства, страдавшим от своеволия крупных феодалов. Идеологом их был профессиональный воин-наемник Иван Пересветов, подавший царю две челобитные, в которых была изложена обширная программа реформ. Пересветов мечтал о сильной военной монархии, устроенной по образцу Османской империи турок. Царь должен больше всего заботиться о благополучии воинского сословия. «Мудр царь, что воинам сердце веселит». Ленивых богатеев, отвращающих царя от воинов, надо, не дожидаясь каких-либо улик («лица»), «огнем жещи» и «лютой смерти» предавать. Царь должен быть «на царстве грозен и мудр» (Пересветов 1956). Пересветов умер в безвестности, но царь фактически осуществлял многое из его программы. Природные свойства царя совпали с неким социальным идеалом. С расформированием Избранной рады 13-летний период сравнительно благостного правления окончился. После 1560 г. начались кровавые расправы с родственниками и друзьями Адашева. Одновременно после короткого траура по умершей жене царь, и при ее жизни изменявший ей, пустился во все тяжкие. Он всячески распутствовал, утоляя свое любострастие, веселился на пирах с обильными возлияниями и грубыми забавами. Вокруг него собралась ватага новых приятелей и советников взамен Избранной рады: Алексей Басманов-Плещеев, Василий Грязной, князь Афанасий Вяземский, Малюта (Григорий Лукьянович) Скуратов-Бельский. Басманов взял на себя воеводские функции, Скуратов — карательные, и все поддерживали безудержное веселье и распутство царя. Видя на пиру, как царь, упившись, плясал со своими любимцами в масках, старый князь Михаил Репнин заплакал. Иван стал надевать на него маску («мошкару»). Князь вырвал ее из рук царя и растоптал, сказавши: «Государю ли быть скоморохом?» Иван выгнал его взашей и приказал прикончить — убили старика прямо в церкви, куда он отправился молиться о чистоте нравов. После начала войны с Ливонией и бегства в Литву ряда знатных людей — князей Вишневецкого, Курбского, Черкасских — царь, опасаясь боярских измен, собрал всю казну, оставил Кремль и зимой 1564 г. со всеми родичами и приближенными выехал длинным обозом в Александровскую слободу, заявив, что из-за боярских измен отказывается от царства. В испуге москвичи и духовенство били челом царю и умоляли вернуться. Через месяц Иван вернулся в Москву, но на определенных условиях. Этими условиями было введение опричнины. Земскому управлению царь оставил лишь часть земель, кроме (опричь) ряда центральных земель, которые присвоил себе. В том числе двадцать самых богатых городов и лучшие улицы в Москве. С опричных земель князья и бояре-вотчинники, владевшие имениями наследственно (от отцов), были согнаны, переселены в отдаленные земли, а территория разбита на участки, на кои пожизненно помещались верные царю дворяне — помещики, целиком зависевшие от царя. Болезненная подозрительность и жестокость Ивана Грозного, происходившие от дурной наследственности и небрежного воспитания, к этому времени под воздействием стечения обстоятельств вылились в подлинную психическую болезнь. Обстоятельства эти — постоянные войны, действительные измены и потакание дурным инстинктам царя со всех сторон — при полных его бесконтрольности и всевластии. Мания величия сочеталась в его болезненной психике с манией преследования (убежденность во всеобщих изменах, заговорах, злых чарах). Царь твердо верил, что надо пресекать эти измены и заговоры в зародыше. Ряд потрясений, заливаемых алкоголем, привел к резкому изменению здоровья царя, выраженному ясно даже в его внешности. Из Александровской слободы Иван вернулся другим — он сразу облысел и борода стала редкой, темно-серые глаза потухли, на лице были написаны ярость и свирепость. Последовала вторая волна казней. Бояр и их людей сажали на кол, вешали, рубили им головы и т. д. Шести тысячам опричников была дана полная воля бесчинствовать. Близкие отношения с Богом, установленные во времена Сильвестра, не были прерваны, но стали противоречивыми и неровными. Как царь отписывал Курбскому, «несть человека без греха, токмо бог един». А царю и вовсе не до святости, «ино же святительская власть, ино же царское правление». Подставлять ланиту бьющему — не царское дело. Вина за кровопролитие падает на тех, кто царю изменяет. Как всякий параноик, царь был удивительно хитроумен в изобретении моральных оправданий для своего нечестивого поведения, для его сочетания с религиозными убеждениями. Известный историк Казимир Валишевский на этом основании даже отрицает психическую болезнь царя — уж очень аргументированно и с эрудицией оправдывает свое поведение. Но таковы почти все параноики. Пиры и распутство, пролитие крови и пытки совмещались с истовым замаливанием грехов. Александровская слобода была превращена в своеобразный монастырь. Припомнив, что принял монашеский чин (правда, когда был без сознания во время болезни), царь провозгласил себя игуменом, 300 самых приближенных опричников стали братией, все надели скуфьи и черные рясы, а под ними богатые кафтаны. Службы и молитвы перемежались с пирами и пытками. Присутствие на пытках взбадривало царя, после упоения ими он себя лучше чувствовал. Теперь, чтобы выявить измену, царь сам спровоцировал тайные письма от литовского короля к своим воеводам и следил за их реакцией. Хоть они и отказались изменить царю, он не поверил. Пригласив в 1568 г. во дворец главного воеводу, Ивана Петровича Федорова, царь велел ему одеться в царские одежды и воссесть на царский трон. Преклонившись перед ним и сказав, что дал ему насладиться той властью, о которой Федоров якобы тайно мечтал, царь воскликнул, что как он его вознес, так и низвергнуть волен — и ударил его в сердце ножом. Затем были преданы казни его родичи, а также родные и единомышленники митрополита Филиппа (Колычева), не одобрявшего царских расправ. Четвертая волна казней, 1569 года, сопровождала расправу над двоюродным братом Владимиром Андреевичем Старицким. Он был обвинен в умышлении отравить царя через царского повара. Владимиру и его жене было велено самим испить яда, и царь со сладострастием наблюдал, как они корчились в смертных муках. Тогда же Скуратовым по велению царя был задушен в своей монашеской келье сосланный бывший митрополит Филипп. Последовал разгром Твери, затем Новгорода Великого — оба сопровождались массовыми казнями жителей и разграблением их усадеб. После разгрома царем собственных городов по всей стране заговорили о том, что Бог покарал царя душевной болезнью — «болети неисцелно ему сотворити». Отмечали припадки бешенства, во время которых царь приходил «как бы в безумие», на губах выступала пена, и он «бесился на встречных». Царь же выискивал тайное сочувствие Новгороду. В 1570 г. в заговоре были обвинены хранитель печати Иван Михайлович Висковатый и казначей Никита Фуникович Курцев, а им были подысканы сотни сторонников. Пятая волна казней была не слабее предшествующих. Как описывают австриец Альбрехт Шлихтинг и другие свидетели, в Москве было поставлено 18 широких виселиц, зажжен был высокий костер, а над ним повешен огромный чан с водой. На площадь для публичной казни было выведено несколько сот человек, измученных пытками. Висковатого, раздетого догола, повесили вверх ногами, и царь повелел своим приспешникам доказывать свою верность, отрезая куски тела подвешенного. Малюта Скуратов первым отхватил ему нос, кто-то другой — ухо. Затем прочие стали отсекать кто что горазд. Когда же подьячий Иван Реутов отсек половые части, Висковатый испустил дух. Негодующий царь в гневе велел подвергнуть Реутова самого тому же наказанию, раз он так необдуманно сократил мучения Висковатого (выполнить не успели, царь передумал). Курцева обливали попеременно кипятком и ледяной водой, пока кожа с него не слезла, как с угря, и он умер. Царь и его опричники кололи, рубили и вешали — за 4 часа 200 человек. В числе жертв были на сей раз и недавние соратники — Алексей Басманов и Афанасий Вяземский (этот не дотянул до площади — умер при пытках). После экзекуции опричники окружили царя с криками «Гойда! гойда!». Воевода Козаринов-Голохвастов удрал в монастырь и посхимился. Царь повелел достать его и взорвать на бочке пороха, повелел с юмористическим обоснованием: ведь схимники — ангелы и должны лететь на небо. Князя Осипа Гвоздева царь сделал шутом. Недовольный какой-то его шуткой, вылил на него миску горячих щей и вдобавок ударил ножом. К упавшему вызвал иностранного врача Арнольфа и сказал: «Исцели слугу моего доброго, я поиграл с ним неосторожно». «Так неосторожно, — отвечал доктор, — что разве Бог и твое царское величество могут его воскресить: в нем уже нет дыхания». Ну и пес с ним, раз он не хочет воскресать, — махнул рукой царь и продолжал веселиться. В 1572 г. царь внезапно отменил опричнину: она выполнила свои задачи. Всякое сопротивление и самостоятельность были сломлены. Многие опричники сами стали чересчур сильными — и были казнены тоже. Малюта Скуратов вовремя погиб при осаде крепости Вейссенштейн в Ливонии, а зять его Борис Годунов вошел в фавор. Новая напряженность в отношениях с западными соседями вызвала новую волну подозрений, доносов, расправ и казней. В числе прочих был взят победитель Казани воевода князь Михаил Воротынский. По доносу его привезли окованного к царю, положили между двух огней, и царь своим жезлом сам пригребал угли к его телу. Полусожженного повезли в ссылку на Белоозеро, но он умер в пути. О масштабах казней дает представление «синодик» — поминальник по душам убиенных, составленный царем в минуты раскаяния и переданный монахам для регулярных молитв. Там аккуратно перечислены в великом множестве умерщвленные князья, бояре, опричники и простые люди, с именами, отчествами и кличками. Но часто массовость казней принимала такой характер, что имен не спрашивали — в этих случаях проставлено просто: «В Губине углу отделано 30 и 9 человек». Или: «В Матвенщеве отделано 84 человека, да у трех человек по роуки сечено». «В Бежецком Верху отделано Ивановых людей 65 человек да у 12 по роуки отделано». «Ворошило Дементьев, да 26 человек ручным усечением живот свой скончаша». Есть и «отделанные» «из пищали», «соженые …з женами и з детьми». «По Малютинские посылки (т. е. в результате командировки Малюты) отделано скончавшихся православных христиан тысяща четыреста девятьдесять человек да из пищалей пятнадцать человек, им же имена сам ты, господи, веси»; «А котораи в сем сенаники не имены писаны… ты, господи, сам веси имена их» (Зимин 1964: 405–406; Скрынников 1996, т. 2: 428). Завещание (или «исповедание») 1572 года полно самокритики: «Се аз, худый раб Божий Иоанн… всеми ненавидим есмь. Разумом растленен бых и скошен умом, понеже убо самую главу оскверних желанием и мыслию неподобных дел, уста рассуждением убийства и блуда и всякаго злаго делания, язык срамословием, выю и перси гордостию и чаянием высокоглаголиваго разума, руце осязанием неподобных, и граблением, и убийством, внутренния помыслы всякими скверными, объядением и пиянством, чресла чрез естественным грехом…» (Соловьев 1995: 56). Что ж, в послании Курбскому есть и объяснение этого сочетания кровопролитий с молитвами: «Не тако убо грех творится зол, егда творится, но егда по сотворении познание и раскаяние не имать». А царь «имал», каялся, — значит, грех простителен. Таково его отношение ко греху. Как обычно, террор, кем бы он ни был востребован, косил всех — в том числе тех, кто о нем мечтал, и тех, кто его вершил. Практика террора сформировала и личность самого царя. Жестокие утехи, садистские забавы обусловили характер этого человека, включая его сексуальность.7. Жестокость к женщинам
Расправляясь с подлинными и мнимыми злоумышленниками и изменниками, царь не оставлял без внимания и их жен, да и просто устраивал бесчинства над ними. В записках Альбрехта Шлихтинга есть специальный раздел «Тиранство его над женщинами». Там сообщается, что если по доносам становится известно о худых словах какой-либо женщины о государе, царь тотчас велит хватать и приводить к себе. Приведенных, «даже из спальни мужей,… если понравится, он удерживает у себя, пока хочет; если же не понравится, то велит своим стрельцам насиловать ее у себя на глазах и таким образом изнасилованную вернуть мужу. Если же у него есть решение убить мужа этой женщины, то он тотчас велит утопить ее в реке». Похитив жену со служанкой одного из своих секретарей, он держал их долгое время. «Затем обеих, изнасилованных, он велит повесить пред дверьми мужа, и они висели так долго, пока тиран не приказал перерезать (петлю). Так же он поступил с одним из своих придворных. Именно, захватив его жену, он хранил ее у себя и после обладания ею до пресыщения отсылает обратно мужу, а потом велит повесить ее на балке над столом, где муж ее с семейством обычно принимал пищу. Висела она там так долго, пока это было угодно тирану» (Царь-палач 40–41). После казней 1568 г. любимцы царя Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Василий Грязной с царской дружиной ночью вламывались в дома состоятельных горожан, они забрали у хозяев красивых жен (около 50) и вывезли их за город. Туда выехал и царь, некоторых женщин избрал для своей услады, других роздал опричникам и ездил с ними по усадьбам опальных бояр, сжигал усадьбы, казнил обитателей, истреблял скот. Вернувшись в Москву, велел развести женщин по домам. На склоне лет Иван то ли хвастал, то ли каялся, что «растлил тысячу дев» (По Горсею Скрынников 1996, 2: 160). В 1569 г., расправившись с Владимиром Старицким и его женой Евдокией, царь решил было помиловать ее прислужниц, но те отказались от милости врага своих господ. Иван повелел обнажить их и расстрелять. Зверски казнив хранителя печати Висковатого и казначея Курцева, царь отправился в дом казначея и мучил жену его, требуя сокровищ. Раздев догола, посадили ее верхом на веревку, протянутую между стенами, и несколько раз протащили из конца в конец. Пятнадцатилетнюю дочь казначея отдал на усладу и мучительство своему сыну Ивану. Потом израненную мать и дочь заточил в монастырь так же, как мать и жену Висковатого. Жена Курцева вскоре умерла там от полученных ранений — от езды на веревке. Джером Горсей описывает казнь князя Бориса Тулупова в 1575 г… Тот был посажен на кол, а его мать отдана на изнасилование — через нее прошла сотня стрельцов, один за другим. Генрих Штаден сообщает, что (это было еще раньше, в 1571 г.) воевода («маршалк») опричников дьяк Булат (Арцыбашев) хотел сосватать свою сестру за великого князя. Он был убит, а сестра его была изнасилована пятью сотнями стрельцов (Штаден в сб. «Царь-палач» 116). Из этого краткого обзора видно, что в отношении к женщинам сексуальная услада у него была тесно связана с удовольствием от мучительства, а кроме того, он наслаждался и лицезрением насилия, учиняемого его приспешниками, и неясно, чего у него было больше в этом наслаждении — садизма или войеризма, но в обоих случаях с элементами гомосексуальности, поскольку для этого насилия требовалось участие мужчин.8. Жены Ивана Грозного
Еще до вступления царя в брачный возраст бояре планировали династический брак с одной из иностранных принцесс, в частности с польской королевной, но переговоры не удались. Пришлось юному государю выступить в Думе со следующей речью (излагается по летописи): «Помышляя ecu жениться в иных царствах, у короля у которого или у царя у которого, и яз… тое мысль отложил, в ыных государьствах не хочю женитися для того, что яз отца своего… и своей матери остался мал, привести мне за себя жену из ыного государьства, и у нас нечто норовы будут разные, ино между нами тщета будет; и яз … умыслил и хочю жениться в своем государьстве…» (Летопись 13: 450). Даже теоретически препятствием для династического брака могли служить религиозная рознь или политические противоречия. Но Иван выдвигает различия нравов — это показывает, насколько вольно и необычно для царя он был воспитан и сколь необычно для царского облика его поведение выглядело. За 13 лет брака Анастасия родила ему шестерых детей, из которых дочери и сын Дмитрий рано умерли, а выжили двое сыновей — Иван, нравом чрезвычайно похожий на отца, столь же яростный и жестокий, и слабовольный хилый Федор. Анастасия была незлобивой и ласковой, но не терпела попа Сильвестра, вероятно, ревнуя его к царю. А ревновать следовало других. Сладострастный царь изменял ей. На упрек Курбского царь ответил откровенно в своем Втором послании: «Будет молвиш, что яз о том не терпел и чистоты не сохранил, — ино все есмы человецы. Ты чего для понял стрелетцкую жену?» Анастасия стала много болеть и, не дожив до 30 лет, умерла. Царь «от великого стенания и от жалости сердца» валился с ног, но вскоре «нача яр быти и прелюбодействен зело». Позже его советники Сильвестр и Адашев были обвинены, что колдовством извели царицу. Но уже через неделю духовенство обратилось к царю с предложением отложить скорбь и поскорее жениться вторично. Снова переговоры с Польшей и Швецией не имели успеха, и невесту привезли из Кабарды. Звали ее Кученей, перейдя в православие, она приняла имя Марии Темрюковны. Очень молодую и красивую, при осмотре царь сразу ее «полубил». По нраву оказался ему и агрессивный характер новой жены, дикой и жестокосердой. Свирепствовал и ее брат Михаил. Мария посоветовала мужу завести себе отряд телохранителей по кавказскому образцу. Но и телохранители не уберегли ее от утраты любви царя и от внезапной болезни. Она заболела в Вологде и по прибытии в Александровскую слободу в 1569 г. умерла. По легендам, царь ее отравил, но подтверждения не найдено. Снова царь велел собирать невест по всему царству. В Москву свезли 1500 дворянских девок. Из них на многомесячном смотре отобрали 24, а из тех — 12 самых лучших. В последний день их заставили раздеться догола, и царь с сыном осматривали невест нагими, хотя на Руси невеста потому и называлась невестой, что жених до свадьбы не должен видеть и лица ее. Для женитьбы 40-летнего требовалось специальное церковное разрешение, но царю было нетрудно его получить. По совету Малюты Скуратова царь выбрал его родственницу Марфу Собакину, но вскоре после обручения (осенью 1570 г.) невеста стала «сохнуть», а тотчас после свадьбы (через две недели) умерла — умерла девицей. Царь так и не успел провести с ней брачную ночь. Разумеется, было объявлено, что царицу извели ядом злые люди, родственники покойных цариц Анастасии и Марии. Брата последней, Михаила Темрюковича, посадили на кол. По результатам того же смотра невест взяли еще одну из победительниц Анну Колтовскую. Но этот брак (1571 г.) был уже четвертым. По православным же правилам можно было жениться только три раза. Для четвертого духовенство задним числом вынесло специальное постановление, касавшееся только царя — ему и только ему было разрешено жениться в четвертый раз. Тем не менее брак оказался неудачным и продолжался менее года. Царь отослал жену в монастырь под именем Дарьи. Костомаров восстанавливает его пятый, весьма мимолетный брак, на который он уже и не спрашивал церковного разрешения. В ноябре 1573 г. Иван женился на Марии Долгорукой, но, обнаружив, что она не была девственницей, на другой день после женитьбы приказал посадить жену в колымагу, запрячь дикими лошадьми и пустить в пруд на съедение рыбам (Костомаров 1: 510–511). На шестой брак, 1575 г., он также не спрашивал церковного разрешения. Свадьбу играли в узком кругу, никаких обрядов не справляли. К этому времени Скуратова сменил новый временщик Василий Умной-Колычев, и царь женился, видимо, на его родственнице Анне Васильчиковой. Уже через несколько месяцев Умной попал в опалу, а с ним — Васильчиковы. На третий день после казни Умного царь отослал и эту жену в монастырь. Седьмой брак был самым необычным и романтическим. Царь отверг все результаты смотра дворянских невест и влюбился в некую вдову дьяка Василису Мелентьеву, «юже мужа ее опричник закла; зело урядна и красна, таковых не бысть в девах, киих возяще на зрение царю» (Хронограф, цит. по: Скрынников 1983: 212). Детям Василисы и Мелентия, Федору и Марье, Иваном была пожалована огромная вотчина. Брак этот тоже был устроен без обрядов, только молитву прочли, и продолжался недолго — царица Василиса была много старше других жен Ивана и рано умерла. К этому времени «дворовым» любимцем царя был А. Ф. Нагой. Он сосватал царю свою племянницу Марию. Восьмая свадьба была сыграна по всем правилам, то есть вопреки правилам, потому что разрешения церкви на восьмой брак, как и на три предшествующие, не было. Поэтому брак многие считали незаконным, а царевича Дмитрия от этого брака (это он погиб в Угличе) — незаконнорожденным. Интересно, что дружками на свадьбе были два будущих царя — Борис Годунов и Василий Шуйский, а одновре менно сыграли свадьбу царевича Федора с Ириной Годуновой. Еще в разгар Ливонской войны Иван затеял сватовство к английской королеве Елизавете, той самой, которая держала в заточении, а потом казнила Марию Стюарт. Когда же попытки завязать военный союз с Англией про валились, царь отчитал королеву — он, де, разочаровался в ее поведении: чаял, что она сама владеет своим государством, «ажно у тебя мимо тебя… мужи торговые» управляют, «а ты пребывает в своем девическом чину как есть пошлая девица» (Послания 142). И все же теперь, потерпев поражение в войне, стал свататься снова, на сей раз при живой жене, но уже не к самой 50-летней «пошлой девице», т. е. старой деве, а к ее племяннице, 30-летней Марии Гас тингс. Царский посол Ф. Писемский заявил, что царь не станет сохранять брак с Марией Нагой: «государь взял на себя в своем государстве боярскую дочь, а не по себе, а будет королевина племянница дородна и тому великому делу достойна и государь наш… свою оставя, зговорит за королевину племянницу». Иван Грозный из кожи лез, чтобы хлопоты об этом браке удались: он надеялся вывести Россию из полной дипломатической изоляции и поднять престиж страны после военного разгрома. Кроме того, подозревая, как всегда, своих подданных в изменах и заговорах, он хотел обеспечить себе за границей убежище. Он серьезно подумывал в случае успешного мятежа бежать в Англию. Но английский посол сообщил ему, что родство Марии Гастингс с королевой самое дальнее, а кроме того, она больна и «рожей не самое красна» — у нее лицо покарябано оспой. Царь не отступился от самой идеи, разузнавал о возможности получить руку какой-нибудь другой королевиной родственницы. Так что для Марии Нагой уже был уготован монастырь. Но смерть прервала свадебные замыслы престарелого жениха. Что же можно сказать об отношении царя к женам? Лишь две из восьми жен — Анастасия и Василиса — пользовались расположением царя, и то Анастасия лишь поначалу обладала сексуальной привлекательностью для него. И ей он много изменял, три другие жены рано умерли, одну он убил, двоих заточил в монастырь и еще одну планировал сослать в монастырь, да смерть помешала. Это был супруг ненадежный, непостоянный, капризный и эгоистичный. Избалованный полной доступностью любого сексуального удовольствия, он смотрел на каждую новую жену как на очередную сексуальную усладу и после удовлетворения страсти быстро терял к ней интерес, помышляя о новой забаве и сопряженных с ней политических выгодах. Бесцеремонно обращался он и с женами сына. Сын, царевич Иван Иванович, во всем подражая отцу, имел уже третью жену, хотя первые две не умерли. Царь женил сына восемнадцати лет на Евдокии Сабуровой, через три года, отправив первую жену в монастырь, посватал за него вторую — Параскеву Соловую, но и ее отправил туда же. Третьим браком женил сына на Елене Шереметевой. Но дядю ее объявил изменником. Беременную невестку избил в спальне за неприличное, по его мнению, платье. На следующий день Елена произвела выкидыш. Царь не хотел иметь от нее внука и добился своего. По данным папского посла Поссевино, царевич, столь же яростного характера, как и отец, вступился за жену и получил рану в висок царским жезлом. Сын Иван, наследник престола, умер через 10 дней. Ярость, питавшая террор так долго, обратилась на собственное семейство царя и подточила судьбу династии. Царь пережил сына лишь на два года. На трон взошел хилый, слабовольный и бездетный Федор (собственно, у него не было сыновей, была только дочь, но и та умерла во младенчестве). Царь Иоанн IV Васильевич Грозный. С немецкой гравюры на дереве XVI в.
Царь Иоанн IV Васильевич Грозный. С немецкой гравюры на дереве XVI в.
 Иван Грозный. Древнерусский портрет, находящийся в Копенгагене
Иван Грозный. Древнерусский портрет, находящийся в Копенгагене
9. Психиатрический портрет
Каким был Иван? Внешность его известна по описаниям иностранцев и по русским портретам («парсунам»), большей частью сделанным не при жизни. Иностранцы описывают его как полного высокого человека с рыжей бородой. Сам Иван в бранном письме Курбскому, намекая на его голубые глаза, вопрошает: «Где же видано честного человека с голубыми глазами?» Значит, у самого царя глаза были темные. Миниатюры Лицевого свода летописи мало что добавляют к этим описаниям: они слишком мелкие и обобщенные. Единственный более подробный портрет, хранящийся в Копенгагене, сделан в традиционной иконописной манере и также может претендовать лишь на очень приблизительное сходство. М. М. Антокольский Иван Грозный. 1875 г. (с оригинала 1871 года. Гипс).
М. М. Антокольский Иван Грозный. 1875 г. (с оригинала 1871 года. Гипс).
Из российских художников нового времени образ Грозного воссоздавали многие. Наиболее известны несколько. Скульптура Мордуха Антокольского изображает Иоанна в монашеском клобуке с синодиком умерщвленных на колене и четками в руке. Статуя была представлена на диплом, но профессора Академии Художеств не хотели давать за нее звание. Однако она понравилась президенту Академии великой княгине Марии Николаевне. Та пригласила своего брата царя Александра II. К ужасу профессоров, царь явился в Академию, осмотрел статую в глине, сказал: «Хорошо, очень хорошо! Поздравляю, статую приобретаю — из бронзы…». Профессора быстренько пересмотрели свое решение и присвоили Антокольскому звание академика.
 Фрагмент картины «Иван Грозный и сын его Иван». Репин Е. И, 1885 г.
Фрагмент картины «Иван Грозный и сын его Иван». Репин Е. И, 1885 г.
В 1885 г. появилась картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г». Замысел был связан с убийством царя Александра II в 1881 г. Назвать картину «Убийство царем собственного сына» было совершенно невозможно по ясным политическим причинам. Репин рассказывал Грабарю: «Я работал завороженный. Мне минутами становилось страшно. Я отворачивался от картины, прятал ее. На моих друзейона производила то же впечатление. Но что-то гнало меня к этой картине, и я опять работал над ней» (Грабарь 1: 258). Одновременно он работал над портретом Менделеева. Жена Менделеева рассказывает: «Никогда не забуду, как раз неожиданно Илья Ефимович пригласил нас в мастерскую. Осветив закрытую картину, он отдернул занавес. Перед нами было «Убиение Грозным сына». Долго все стояли молча, потом заговорили, бросились, поздравляли Илью Ефимовича, жали руку, обнимали» (Менделеева 1928: 51). Впечатления с выставки излагает В. И. Михеев: «Кровь, кровь! кричали кругом. Дамы падали в обморок, нервные люди лишались аппетита. Можно было бы обойтись и без крови. Но был ли бы тогда понятен тот полный жалости и раскаяния ужас на лице Иоанна, который и есть психическая задача картины?» Поэт Волошин считал, что картина недопустимо травмирует зрителя, и место ей в паноптикуме. Известнейший критик Стасов вообще молчал. Художник И. Н. Крамской в письме А. С. Суворину писал: «Вот она, вещь, в уровень таланту!.. И как написано, боже, как написано!» Теряясь в оценке воздействия картины на зрителя, он приходит все-таки к выводу, что картина возвышает зрителя: «человек, видевший хоть раз внимательно эту картину, навсегда застрахован от разнузданности зверя, которая, кажется, в нем сидит» (Ляскоронская 1953). Тем не менее с выставки в Москве картину было приказано снять, в Третьяковской галерее ее показ запретили, потом запрет отменили. Через несколько лет на картину было совершено покушение — психически неуравновешенный человек набросился на нее с ножом. Картина стала самым знаменитым изображением Ивана Грозного. Но, конечно, это не документальный Иван. Это гибрид из позировавших Репину знакомых — художника Г. Г. Мясоедова и композитора П. И. Бларамберга.
 Царь Иван Васильевич Грозный Картина В. М. Васнецова. 1897 г.
Царь Иван Васильевич Грозный Картина В. М. Васнецова. 1897 г.
Для изображений Ивана Грозного чаще используют как модель картину Васнецова «Иван Грозный» — царь сходит по ступенькам. возвращаясь из церкви, — с четками в руке и образками на шапке. Замаливал грехи. В лице его сквозят болезненная подозрительность и жестокость. Наконец, в 1963 г. в Архангельском соборе Московского Кремля археологи вскрыли гробницу Ивана Грозного и захоронения его сыновей. Открыв белокаменный известняковый гроб, достали из-под узорно-тканого покрова полуразрушенный череп с сохранившимися волосами и передали его профессору Михаилу Михайловичу Герасимову на предмет реконструкции лица. Профессор Герасимов был известен тем, что разработал сложную методику восстановления лица по черепу: выявив, как толщина мягких тканей лица обычно отражена в деталях черепа, ученый мускул за мускулом наращивал исчезнувшие лица. На юридических казусах было проверено, что его скульптурные реконструкции близко совпадают с обликом исчезнувшего человека. Это документальные портреты. Вот он представил и документальный портрет Грозного. У высокого дородного старика оказалась массивная голова со свисающим носом и тяжелым квадратным подбородком (на последнем этапе реконструкции Герасимов покрыл этот подбородок раздвоенной бородой). Позвоночник сильно окостенел и был весь в наростах — царь в конце жизни не мог наклоняться и должен был испытывать сильные боли. Для нашего анализа гораздо интереснее не внешность царя, а его психологический или, скорее, психиатрический портрет. Из российских историков Н. А. Полевой первым (в первой половине XIX века) указал на отягченную наследственность Ивана Грозного, выраженную в жестокости, трусливости и сластолюбии царя. Он признал, что в Иване соединились недостатки деда (суровость и вспыльчивость) и отца (неголюбие и склонность к забавам).
 Иван Грозный Герасимов реконструкция
Иван Грозный Герасимов реконструкция
Н. К. Михайловский одним из первых (в середине XIX века) четко при знал Ивана Грозного психопатом и маньяком, чье сознание помрачилось. В 1572 г., разгромив Новгород и Псков и устроив грандиозную вакханалию казней в Москве, Иван писал в завещании: «Изгнан я от бояр ради их самовольства, от своего достояния, и скитаюсь по странам». Более того, он всерьез просил убежища в Англии. Это настолько противоречило реальности, что Михайловский делает вывод о «явной мании преследования». Не забывал Михайловский и тяжелую психопатическую наследственность царя. Он указывал на ненормальность глухонемого царского брата Юрия («слабоумен бысть»), на патологичность всех сыновей — приступы бешенства у Ивана-сына, скудоумие Федора, предпочитавшего управлению государством обязанности пономаря, и эпилептические припадки Дмитрия, погибшего в Угличе от ножа. Е. А. Соловьев (1893), не будучи психиатром, попытался сформулировать медицинский диагноз на уровне своего времени. Он назвал заболевание Ивана Грозного термином Ричардса moral insanity — «нравственной болезнью», «заболеванием морали». Он заметил, что эта болезнь всегда сопровождается манией величия, и привлек рассуждения француза Мореля о том, что эта болезнь является феноменом вырождения, дегенерации. В конце XIX века выдающийся психиатр профессор П. И. Ковалевский (1983/1995) поставил Ивану Грозному более точный медицинский диагноз в современной терминологии. Он пришел к выводу, что у царя была паранойя с манией преследования. Параноики живут в мире своих фантазий, они не в состоянии отделить воображаемое от действительного, причем всех и вся подозревают в злых умыслах по отношению к себе. Царь и проявлял болезненную подозрительность, необоснованную жестокость и жажду крови. Эгоизм и абсолютное бессердечие — все это типичные черты параноиков. Как это свойственно таким дегенератам, у царя проявляется страсть «возможно чаще и возможно больше фигурировать, произносить речи, появляться к народу и блуждать по государству» (с. 65). «На Иоанна, как и на всех подобных больных, ярость, гнев и кровожадность нападают приступами. Оканчивается приступ ярости, и убийства прекращаются» (с. 133). Его кровавые дела, с точки зрения Ковалевского, это не преступления, а деяния «душевнобольного, невменяемого, но и не правоспособного» (с. 160). «Вне пределов своего бреда он был обычным человеком. Правда, этот человек не отличался особенным умом, особенными дарованиями, особенными подвигами, но это был человек, как все люди» (с. 161). Ковалевский согласен с оценкой Ключевского: Иван подкупает читателя жаром речи, и читатель готов признать у царя широкие политические воззрения. «Но сняв эту пелену, находим под ней скудный запас идей и довольно много противоречий» (с. 162). Таковы же и выводы Погодина, который возмущался по поводу восхвалений Ивана Кавелиным и Соловьевым. Его оценка деяний Ивана Грозного звучит вполне современно: «Что есть в них высокого, благородного, прозорливого, государственного? Злодей, зверь, говорун-начетчик с подьяческим умом и только. Надо же ведь, чтобы такое существо, как Иоанн, потерявшее даже образ человеческий, не только высокий лик царский, нашло себе про славите лей!» (цит. по: Соловьев 1995: 73). В Сталинское время и даже позже такие мысли могли высказываться только за рубежом. Вывод о том, что разные периоды царствования Ивана Грозного были просто разными стадиями его болезни, доказывал американский историк Р. Хелли (Hellie 1974, 1984), — вывод, излишне прямолинейный, но с большой долей истины. Действительно, по своей марксистской выучке мы привыкли искать под странными затеями и телодвижениями Ивана Грозного скрытые политические мотивы и социально-экономические интересы, тогда как скорее всего их движущими мотивами были всего лишь безумные выверты маньяка. В конце концов, коль скоро он царь, любое его деяние кому-нибудь выгодно и против каких-нибудь слоев направлено. Сам он, разумеется, находил и хитроумно изобретал подходящие мотивы, психологические и политические, для своих сумасбродных затей (как писал Михайловский, маньяки подыскивают чрезвычайно замысловатые объяснения для своих поступков, совершенно бессмысленных). Так что и впрямь не стоит принимать историю болезни за историю государства. Да, Россией этого времени велись войны, заключались договоры с иностранными государствами, у нее изменялось хозяйство, реформировалось управление — словом, вершилась история государства, но уж очень она была подчинена сумасбродствам маньяка, сидевшего на троне, и подстраивалась под историю его болезни. Тут ничего не поделать, так это было. Другое дело, что для своих затей Иван выбирал удобные ситуации, поводы и силы, то есть как-то считался с реальностью, что он подыскивал объяснения и оправдания, казалось бы, логичные и правдоподобные, что сама возможность и реализация его тиранических сумасбродств была, конечно, обусловлена исторической обстановкой в тогдашней России, и за его деспотизмом, как и против него, сосредотачивались определенные политические силы. С душевной болезнью царя историки обычно и связывали его содомию.
10. Федька Басманов
Среди новых дружков и собутыльников царя, выдвинувшихся после падения Избранной рады в 1560 г., одним из виднейших был Алексей Данилович Басманов-Плещеев, отец которого служил постельничим у Василия III. От отца Басманов мог знать о постельных вкусах и нравах покойного государя, мог и попытаться обнаружить такую же струнку у его сына. Басманов был заметным военачальником и одним из инициаторов Ливонской войны. Он отстаивал политику военной агрессии и нуждался в одобрении и поддержке царя. Ненавистники называли его «согласником» и «ласкателем» царя. Они считали, что он не брезговал ничем, чтобы вкрасться в доверие царя, в частности что использовал ради этого юность и красоту своего сына. Курбский причислял Басманова к «ласкателям» и «потаковникам», «иже детьми своими паче Кроновых жерцов действуют». Молодой и красивый, сын Басманова Федор приглянулся царю и стал его кравчим (прислуживающим за столом). Как в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный», так и в написанных чуть раньше романах Льва Жданова об Иване Грозном фигура Федьки Басманова выведена с подчеркнутой андрогинностью. В фильме он танцует в женском платье. В романе Жданова «Царь Иоанн Грозный» царь слышит за дверью «знакомый сладенький голосок» и, встретив своего любимца, хлопает Федора «по румяной, нежной щеке, покрытой пушком, словно у красной девицы. Да и вообще, вся фигура наперсника царского, с пухлой грудью, с широкими, упитанными бедрами, вихляя которыми подходит он к Ивану, — все в Басманове дышало притворной слащавостью и женственностью. Азиат происхождением, он наследовал от своих дедов или, скорее, от бабок — миндалевидные, с наглой поволокой очи, брови соболиные дугой, полные губы, яркие, пунцовые, каким любая боярыня позавидует… Всем видом своим напоминал он мальчиков-наложников, которых много при дворах восточных владык, которых и на Русь привозили бухарские и хивинские купцы, наравне с рабынями-одалисками… Близко, гораздо ближе, чем допускает строгий обычай московский, подошел Басманов к царю и продолжал нежно…». По Жданову, Басманов обращается к царю со слащавыми словами «царь ты мой любименький», «царечек ты мой». «Обороты речей, дышащие бабьей льстиво-заманчивой податливостью, звуки мягкого, сдобного голоса, юношеского контральто, поворот стана, выражение глаз, наглые ужимки фаворита сразу пробудили какое-то особое настроение в Иване. Словно защекотало у него в груди… Загорелись, потемнели глаза, губы задвигались, дрогнули ноздри… — Один ты, что ли? — спросил Иван. И голос у него звучит как-то хрипло, необычно. — Один, один… Там нет никого… — шепчет извращенный любимец, прижимаясь к Ивану…» (Жданов 1999: 175–176). Звучит, как пародия на историческое повествование. «Извращенный любимец»… То есть, даже просто описывая факты прошлого, повествователь не в силах отвлечься от осудительных определений, обычных для его эпохи и его среды, и не подводит к ним исподволь, а пришлепывает их сразу. Романы Жданова сейчас издаются массовыми тиражами, хотя язык их («фаворит», «контральто», «капризно», «царечек» в романе об эпохе Ивана Грозного и в соседстве с «ноне» и «помилуй ны») выдает бездарность и безвкусицу автора. Невозможно поверить и в его реконструкцию образа Федьки Басманова. Имея очень слабое представление о гомосексуальности, автор полагает, что для того, чтобы проникнуться страстью к парню, царю было необходимо узреть в нем подобие женщины — мягкие щеки, покрытые пушком, очи с поволокой, широкие бедра, пухлую грудь… Скорее всего, этот искатель царской милости был не таким. Да и вряд ли мог подобный образ привлечь грозного царя. Восточные вкусы, вкусы «Тысячи и одной ночи», были чужды христианской Руси и бешеной натуре царя. Если уж содомский грех, то не с подобием женщины (зачем? сколько угодно красавиц к услугам), а с тем, кто и сам проявляет мужские достоинства. Чем мужественнее, тем более заманчиво овладеть им как женщиной. Можно полагать, Федор был лихим опричником, авантюрным и беспринципным помощником своего воинственного отца. Что же объективно о нем известно? Об особо тесной интимной связи царя со своим кравчим единогласно свидетельствуют иностранцы Альбрехт Шлихтинг (переводчик) и Генрих Штаден (опричник), а также русский беглец князь Андрей Курбский. Особенно это всплыло в эпизоде ссоры Федьки Басманова с князем Дмитрием Овчиной-Оболенским, сыном погибшего воеводы. В запале ссоры князь уязвил Федора: «Мы служим царю трудами полезными, а ты гнусными делами содомскими!» (так у Карамзина). Шлихтинг перелагает эту тираду деликатнее: «попрекнул его нечестным деянием, которое тот обычно творил с тираном». Басманов в слезах бросился к царю с жалобой. Царь позвал князя на обед и вонзил ему нож в сердце. По сведениям Шлихтинга, князь погиб иначе. Царь велел ему выпить единым духом во здравие царя двухлитровый кубок медовухи. Оболенский смог выпить только половину. Царь, слегка упрекнув его за нерасположение к себе, велел ему идти в царские винные погреба и там пить сколько душе угодно. Там его ждали псари, уже имевшие приказ задушить его, что и было исполнено. На следующий день царь послал к нему на дом слугу с приказом явиться во дворец. Жена Овчины отвечала, что со вчерашнего дня не видела мужа, что он ушел в царский дворец и еще не возвращался. Таким образом, царь притворился, что судьба князя ему неизвестна — тот якобы исчез беспричинно и бесследно. Видимо, мотив расправы был слишком деликатен, и царь не хотел огласки. Десять лет Басмановы были в фаворе. Когда же начались расправы с самими опричниками, пришло и Басмановым время умереть от пыток и казни. Федору было приказано умертвить отца, после чего был казнен и он сам. Так закончилась царская любовь к избраннику своего пола. Мало с кем из жен Иван был близок так долго, как с Федором Басмановым. Но считать, что царь отдавал преимущество этой любви, нельзя. Женщин у него было гораздо больше. Что именно, кроме разнообразия, влекло его к этой не совсем обычной разновидности любви, неясно. Он не сопрягал эту любовь с унижением, с насилием, скорее с весельем и отдыхом. Если что и привлекало его особенно в любви с парнем, то разве что именно ее запретность, ее греховность, соблазняли именно поучения святых отцов против нее. Видимо, ему доставляло удовольствие сознавать, что для него нет ничего недоступного. Когда же пришла пора каяться в этом грехе, как он каялся во всех других грехах, он просто казнил своего повзрослевшего (и поднадоевшего) любовника. Во всяком случае в «исповедании» 1572 г. Иван сам признает за собой «чрезестественный грех чресел». Вообще Иван признавал содомию грехом, даже готов был признать уголовно наказуемым пороком, но без большого энтузиазма. Когда в 1575 г. предали пыткам и казни Елисея Бомлея, иностранного врача царя, соучастником в заговоре, по данным Джерома Горсея, был объявлен новгородский архиепископ Леонид. Кроме писания шифрованных писем за рубеж ему предъявили обвинения в содомии и скотоложстве. Бомлей не признавал своих вин, архиепископ же под пыткой все признал и во всем покаялся. И казнив Бомлея, царь помиловал Леонида, заменив ему казнь заключением в погребе, где, закованный в цепи, он и умер. Содомия на Руси тогда явно еще не доросла до западноевропейского ранга преступлений. На склоне лет Иван приблизил к себе Богдана Яковлевича Бельского, который, по сведениям папского посла Поссевино, «полных тринадцать лет был у государя в фаворе и спал в его комнате» (Поссевино 1983: 182). Это был племянник Малюты Скуратова, оружничий царя и его главный душеприказчик. Был ли он еще и любовником, неизвестно. Но, учитывая аппетиты царя, вряд ли Басманов был у него единственным.11. В панораме эпохи и в перспективе эпох
Кровавых тиранов типа Ивана Грозного история знает не так уж много. Нерон, Калигула, Чингисхан, Тамерлан, Людовик XI, Филипп II Испанский, Гитлер, Сталин. Гомосексуальность проявлялась лишь у некоторых из них: немного у Нерона, что-то у Калигулы, Федька Басманов и, возможно, Богдан Бельский у Ивана (по крайней мере, мы не знаем у него других). XVI век был в общем жестоким веком. Войны, казни, пытки, инквизиция, мучения гезов Фландрии, истребление гугенотов. Филипп II и Мария Кровавая были современниками Ивана. Иван Грозный получал известия и о Варфоломеевской ночи и, разумеется, выражал свое возмущение жестокостями католиков. XVI век видел и гораздо более завзятых содомитов на троне (не говоря уже об отце Ивана — Василии III). Современником Ивана Грозного был фривольный и сугубо гомосексуальный Генрих III во Франции с его бесчисленными миньонами. Другой современник — Рудольф II Габсбург, император Священной Римской империи со столицей в Праге, долго правивший и так и не женившийся, был влюблен в своего канцлера фон Румпфа. Оттоманской империей правили один за другим завоеватель Египта и Аравии Селим I Угрюмый, воспевавший в стихах мальчиков, и его сын Сулейман Великолепный, делавший своих любовников визирями. В Италии — это время гомосексуальных пап Льва X Медичи и Юлия III — самого гомосексуального из пап. В Англии подрастал Яков I Стюарт, который к трону привлечет своего любовника герцога Бекингемского (Garde 1969). Какое полное созвездие коронованных содомитов! На их фоне десятилетнее увлечение Ивана Васильевича своим кравчим выглядит скромным зигзагом от гетеросексуального любострастия — от 8 жен и 1000 дев! В истории России наиболее схожей с Иваном IV фигурой является, конечно, гораздо более поздний тиран Иосиф Сталин. Та же страсть к полновластию и всеобщему преклонению, та же болезненная подозрительность, та же невероятная жестокость. Такие же массовые гонения и казни, пытки и ссылки, такое же лицемерие — у царя Ивана оно было с религиозным рвением, у Сталина — с идеологическим маскарадом. Такое же губительное равнодушие к собственному семейству. Это не только сходство характера, не только одна и та же психическая болезнь. Схожи и те преобразования, которые оба затеяли в своей стране, полагая возвысить ее над всеми странами. Очень примечательное преобразование, которое Иван Грозный провел в России, это ликвидация вотчинного землевладения бояр и замена его помещичьим. Он погубил самостоятельных и в какой-то мере независимых феодалов, способных, опираясь на владение унаследованными от отца землями и крепостными, ограничивать и контролировать власть царя. Вместо них сословие феодалов теперь составляли целиком зависимые от царя помещики, которых он помещал на то или иное имение и мог сместить с него, заменить другим прислужником. Форма эксплуатации осталась прежней, а норма эксплуатации резко возросла. Если вотчинники эксплуатировали своих крепостных бережно, чтобы оставить их своему потомству в хорошем состоянии, то многие помещики-опричники драли с них семь шкур, потому что чувствовали себя временными хозяевами. Через четыре века похожее преобразование Сталин устроил в деревне, проводя коллективизацию и «ликвидацию кулачества как класса». Он вернул прежнюю, крепостническую, форму эксплуатации (не имея паспортов, крестьяне были фактически прикреплены к земле, для них трудодни были барщиной, налог — оброком). Но Сталин заменил наследственных собственников временными управляющими (председателями колхозов и директорами совхозов), назначаемыми сверху — от диктатора, который был фактическим собственником всех земель и всех крестьян (ведь собственность еще римляне определяли как полное право употребления и злоупотребления). Это ужесточило положение крестьян. Если при крепостном праве крестьяне были обязаны отработать менее сотни мужских и несколько десятков женских дней барщины от семьи, то в колхозах требовалось всем членам семейства работать все дни на колхоз, а налог с гораздо меньших приусадебных участков был гораздо больше оброка — норма эксплуатации неизмеримо возросла. Так что аналогия в тиранстве между Сталиным и Иваном Грозным покоилась на структурном сходстве их экономической политики, политики военно-феодального режима. Только Иван провел экспроприацию крупных собственников, а Сталин — мелких. Результаты преобразований были схожими. Руководясь своей непомерной гордыней, Иван Грозный сумел мобилизовать силы страны на многолетние войны и, вырезав воевод, в конечном счете проиграл войны. Он завел Россию в полную международную изоляцию, перевоспитал народ в духе раболепия и доносительства и истощил народное хозяйство. Как отмечает Е. А. Соловьев, «все молчало, все несло на себе лицемерную или искреннюю маску смирения… Как государь Грозный совершил величайшее преступление: он развратил народ, уничтожая в нем все выдающееся, героическое, славное» (1893: 84). Итогом была Смута, в которой государство едва не рассыпалось. Сталин тоже исходил из убежденности в великой миссии своей и своего государства в мире, мобилизовал силы народа на великую войну с помощью резкого повышения нормы эксплуатации, тоже вырезал весь старший командный состав и едва не проиграл войну, обрекши страну на тяжкие поражения, тоже завел Россию в международную изоляцию, а по качеству жизни опустил народ до уровня африканских колоний. Конечно, причины лежат глубже: в гонке вооружений с капиталистическими демократиями социализм оказался банкротом, но сказались и индивидуальные сходства Сталина с Иваном Грозным — его любимым историческим героем. Итогом был распад СССР и экономические катастрофы. Характеризуя царя Ивана, многие историки упоминают его содомию в числе признаков его разврата, вырождения и патологичности. П. И. Ковалевский считает гомосексуальность присущей «иногда» параноикам: «Иногда у таких больных является ненависть и омерзение к противному полу, особенно у мужчин к женщинам, и влечение к одноименному полу с стремлением к удовлетворению своей страсти» (с. 41–42). Описывая последнюю болезнь царя, он отмечает: «Грехи опричнины и содомии дали себя знать» (с. 149). Е. А. Соловьев в очерке об Иване Грозном вторит: «Насколько я знаком с психопатологией (а я не специалист), то для меня очевидно, что и эротические аномалии, и жестокость находятся между собой в непосредственной причинной зависимости» (с. 79). Он только не уточняет, что чем порождается — содомия жестокостью или жестокость содомией. Представленный здесь панорамный обзор аналогичных фигур истории показывает, что наивные увязки историков совершенно несостоятельны. В XVI веке едва ли не во всех крупных государствах Европы — в Англии, Франции, Германии, Италии, Турции — на тронах сидели коронованные содомиты, только в Испании Филипп II, самый близкий по характеру к Ивану, был свободен от содомского греха, зато грешными были его премьер-министр Перес и сын Дон Карлос. Самым близким Ивану по характеру оказывается — через напластования эпох — Сталин, но гомосексуальностью этот деятель не отличался. Так что содомия не могла быть признаком чудовищности Ивана Грозного, скорее это была в нем как раз человеческая слабость. Здесь та же путаница связей, как в известном английском историческом сочинении, которое сообщало, что современником Елизаветы в России был царь Иван Грозный, прозванный за свою жестокость Васильевичем. В посланиях Курбскому Иван настаивал: «паче же убо человек есми», «ино вси есмы человеци» — примазывался, конечно. Но в числе оснований он, вероятно, держал в уме те блаженные часы, когда, чистоты не соблюдши и презрев тысячу дев, он уходил в спальню с Федькой Басмановым или, возможно, Богданом Бельским, уподобляясь простым людям своего царства. В «Князе Серебряном» Алексея Константиновича Толстого изображен конец Федьки Басманова. По Толстому, Федька, дабы избежать мучительных пыток, угрожает раскрыть всему народу, что именно они проделывали с царем, и уловка сработала: Малюта Скуратов мгновенно отсек ему голову. Этот эпизод надуман. Толстой перенес на историческое прошлое представления своей эпохи. Во времена Грозного ни царю незачем было бояться огласки, ни народ было не устрашить содомским грехом. О связи царя со своим кравчим было не принято говорить вслух, но тайны она не составляла. Тайной ее окутали потом.Любимцы Петра Великого
1. Слухи и шлюхи
От времени Петра I осталось множество письменных источников. Из них явствует, что слухи об амурных приключениях царя с мужчинами были весьма распространены среди его современников. Но историки разного времени упорно молчат об этой стороне его жизни или решительно отвергают такие слухи. Ученый и публицист XVIII века князь М. М. Щербатов (1898) написал специальный труд «Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого». Среди пороков, конечно, фигурируют распущенность и любострастие Петра, но мужеложство не упоминается. Речь идет только о его вольном обращении с женщинами. Польский историк конца XIX века Казимир Валишевский, посвятивший специальное исследование личности и чертам характера Петра, сталкиваясь с подозрительными фактами, отмечает: «В этом хотели найти источник недоброжелательных предположений относительно интимных нравов государя. Но объяснение, к сожалению, недостаточно убедительно». Он подыскивает фактам другое, не столь одиозное объяснение (1993: 89). Современный автор самого популярного на Западе трехтомного труда о Петре Великом американец Роберт Масси не может совсем обойти загадочность очень уж тесной и во многом необычной дружбы царя с Меншиковым и в примечании (только в примечании) задается вопросом: «Крылось ли за этой дружбой нечто иное?» Приведя подозрения современников о том, что эта близость более напоминает любовь, нежели дружбу, Масси, несомненно, знаток материалов о Петре, отвергает это мнение: «Но в действительности никаких свидетельств гомосексуальных отношений между Петром и Меншиковым нет» (Масси 1996, 3: 135). Что уж и говорить о бесчисленных агиографических сочинениях советских историков и литераторов, начиная с исторического романа Алексея Толстого «Петр Первый»… До середины XX века только два автора громогласно объявили царя Петра содомитом. Это первый глава марксистской советской историографии проф. М. Н. Покровский, который в своем «Кратком курсе» истории России (этот учебник был одобрен Лениным и отвергнут Сталиным) пишет, что Петр получил от одного из своих любовников сифилис и заразил им свою жену. Второй автор — это известный исследователь проявлений гомосексуальности в истории и культуре России эмигрант профессор Семен (Саймон) Карлинский, сам открытый гомосексуал. В общем обзоре гомосексуальности в истории России он перечислил сведения о таких приключениях царя Петра, вполне им доверяя. Но из этих ученых первый, писавший в первое десятилетие советской власти, был заядлым критиком царского режима и потому склонен к преувеличениям, а второго можно было заподозрить в стремлении приписать гомосексуальность любому крупному деятелю истории и к тому же досадить советской ура-патриотической идеологии. Объективность обоих под сомнением. Остальные историки, особенно отечественные, единодушны в своем игнорировании слухов о гомосексуальности, точнее, о бисексуальности Петра Великого. Что лежит в основе такого единодушия? Ну, во-первых, конечно, туманность самих источников. Свечу никто не держал, и к тому же вести слишком откровенные речи о царе было смертельно опасно. Русские источники, естественно, говорят намеками, а иностранные дают, в общем, косвенные свидетельства, не из первых рук. Признаний самого Петра нет. Во-вторых, большей частью историкам тоже приходилось считаться с тем, что их герой — самодержец из той династии, что оставалась правящей, и вдобавок культовая персона. В-третьих, большей частью историки принадлежали к викторианской эпохе или к советской среде. В обеих содомский грех был неназываемым пороком. О нем было не принято говорить, и хороший тон состоял в том, чтобы делать вид, что его вовсе и не существовало, или, по крайней мере, автору он не интересен или не известен. Наконец, всех поражало обилие амурных приключений государя с женщинами. Не говоря уже о женах, везде его окружали женщины легкого поведения и просто шлюхи, с которыми он охотно предавался сексуальным утехам. Мог ли столь женолюбивый мужчина покуситься на содомский грех? В представлении большинства эти страсти исключают одна другую. Если гомосексуал, значит с женщинами не может, а если увлекается женщинами, значит нормален и нечего его подозревать в извращении. Это представление отражается в полярности самих идентификаций: либо гомосексуал, либо гетеросексуал, а понятие бисексуал к историческим фигурам обычно не прилагается. Категория эта, действительно, не вполне понятна: в самом деле, кого в нее зачислять? Тех, чьи склонности распределяются строго пополам, фифти-фифти, или также тех, у кого отмечается близость к такому распределению? Насколько близко? На деле, однако, даже если отвергнуть категорию бисексуалов, границы между противоположностями оказываются размытыми: многие гомосексуалы женаты и имеют детей, а, по меньшей мере, треть всех гетеросексуалов, по данным Кинзи, имела в своей жизни гомосексуальные приключения. Сочетаемость этих склонностей, широта диапазона контактов, допустимых для данного субъекта, зависит от характера его увлечения женщинами и от общей его раскованности, от степени его приверженности нормативному поведению. Поэтому, чтобы выяснить, насколько велика вероятность того, что слухи о гомосексуальных приключениях Петра I достоверны, нужно рассмотреть не только сами эти слухи и их источники, но и увлечения Петра женщинами и общий характер его личности в плане его отношения к нормам, благопристойности и традициям. Разумеется, нужно также оценить и связь содомского греха с русскими традициями того времени.2. Традиции
В очерке об Иване Грозном я уже сообщал данные о распространенности содомского греха на Руси в предшествующую эпоху — во времена Ивана Грозного, в XVI веке, приводил свидетельства визитеров-иностранцев и поучения местных отцов церкви. В XVII веке, при первых Романовых, ситуация не изменилась (а молодость Петра относится к концу этого века). В 1616 г. новогородец Михаил Клементьев сообщает в Швецию о гомосексуальности молодого царя Михаила, то есть деда Петра (Коваленко 1992). В том же году некий приезжий юноша в челобитной новгородским властям жалуется на то, что взрослый новгородец Федор за четыре года до того, пользуясь малолетством юноши и улещая его подарками (изюмом и яблоками), склонил его к содомии («и яз, государь, с ним за неволь блуд сотворил»), а теперь Федор шантажирует его — угрожает рассказать отцу и вымогает деньги. Челобитчик жалуется, собственно, не на содомитское прельщение, а на шантаж, вымогательство (Селин 2001). С 1659 г. по 1677 г. в России проживал священник хорватского происхождения Юрий Крижанич — и этот отмечает распространенность содомии у русских. Он возмущается тем, что «здесь, в России, таким отвратительным преступлением просто шутят, и ничего не бывает чаще, чем публично, в шутливых разговорах один хвастает грехом, иной упрекает другого, третий приглашает к греху; недостает только, чтобы при всем народе совершали это преступление» (Крижанич 1866: 17–1'8). В XVII же веке также голштинский дипломат Адам Олеарий дает развернутое описание содомии у русских: «Плотским побуждениям своим и любодеянию Русские предаются до того, что некоторые из них грязнят себя отвратительным пороком, известным у нас под названием Содомского, и употребляют для этого не только pueros muliebria parti asvetos [мальчиков, привыкших к женской роли], как говорит Курций, но даже мужчин и лошадей. И такие постыдные действия их доставляют материал для разговоров на пирушках, так как обличенные в пороках строго не наказываются…» (Олеарий 1870: 189–190). Сэмюэл Коллинз, английский врач царя Алексея Михайловича, отмечал о «содомии и мужеложстве», что в России люди гораздо терпимее относятся к этому пороку, чем в Англии — «он не наказывается здесь смертью», — и считал, что русские «склонны к этому по своей природе» (Collins 1671: 106). Таким образом, если царевич захотел бы прибегнуть к подобной сексуальной забаве (или пагубе, или усладе — в зависимости от отношения к ней), это не было бы сочтено за потрясение основ, за нечто ужасное, а лишь за непристойную утеху, неприличную его сану и благочестию или несообразную с поведением на людях и с оглаской, но вполне простительную и не столь уж постыдную. Такова была традиция на Руси. Одна из ее старых традиций, отличавших ее к этому времени от остальной Европы. Был ли царь Петр причастен к этой старой традиции? Он ведь был борцом с традициями. Как эта сторона его жизни вписывается в общую характеристику его личности, его психологии, его душевного склада?3. Вехи жизненного пути
Нет надобности излагать здесь биографию Петра Великого — она общеизвестна. Отметим лишь основные вехи этого жизненного пути, чтобы далее иметь под рукой ориентиры при разборе интересующих нас здесь сторон его жизни. 1. Безмятежное детство царевича в Кремле, любимого и лелеемого отцом сына от молодой жены, первого удачного сына после слабых, хилых и больных братьев — сыновей от первой жены. Всего четыре года (1672–1676) — до смерти пожилого отца, царя Алексея Михайловича. 2. Не столь привилегированное положение сводного брата при молодом царе Федоре — сыне от первой жены, из рода Милославских. Мать Петра, молодая вдова Наталья Нарышкина, которая была второй женой умершего царя, а также ее родственники Нарышкины оттеснены от трона Милославскими. Однако царь Федор заботится о брате. Но и этот период недолог — шесть лет (1676–1682), до смерти царя Федора. 3. Семь лет (с 10-летнего до 17-летнего возраста) в гораздо большем загоне (1682–1689) — от стрелецкого бунта до прихода к полной власти. Формально Петр — царь, но второй после сводного брата Ивана под общим правлением (до их совершеннолетия) сводной сестры Софьи, оба сводных — брат и сестра — из рода Милославских. В удалении от Кремля Петр занимается военными играми со сверстниками — потешными солдатами. Период завершается свержением Софьи (больной и слабый брат Иван не в счет) и женитьбой Петра на Евдокии Лопухиной. 4. Пятилетнее продолжение военных игр и строительство кораблей на Плещеевом озере и в Архангельске (1689–1694). В это время Петр фактически не участвует в управлении государством. За него управляют соратники его матери — бояре, поддерживавшие Нарышкиных и противостоявшие Софье: Тихон Стрешнев, Борис Голицын, Емельян Украинцев, Борис Шереметев. 5. Война с Турцией (1695–1696). Неудачная осада Азова, строительство галер в Воронеже и взятие Азова. Начало строительства большого флота и отправка русских юношей на обучение в Европу. 6. Великое посольство Петра в Европу (1697–1698) с путешествием самого царя инкогнито (под видом «урядника Петра Михайлова»). Маршрут: Ливония (Рига) — Курляндия — Пруссия — Бранденбург — Ганновер — Голландия — Англия — Австрия (Вена — столица Священной Римской империи) — Венеция. Однако, не доезжая Венеции, пришлось повернуть в Россию: пришло известие о новом стрелецком бунте. Дипломатические цели посольства (создать союз европейских государств против Турции) не удались (Европа, по инициативе союзника турок — Франции Людовика XIV, готовилась к «войне за Испанское наследство»), а цели образовательные были достигнуты. Франция этого времени — самая крупная держава — у нее 18 миллионов населения, у России и Польши по 8, у Англии — 2. Но у Англии мощный флот, хотя самый крупный торговый флот — у Голландии. 7. Стрелецкая казнь (стрельцы развешаны на стенах кремля и у окон Софьи; не посланные на виселицы пошли на плаху — Петр заставил всех своих сподвижников рубить головы и сам рубил) и насильственное внедрение европейских обычаев (брадобритие, короткополые костюмы, парики и проч.). Насильственное пострижение Евдокии Лопухиной в монахини. Строительство Южного флота в Воронеже и успехи поддержанной флотом дипломатии в Стамбуле (1698–1700). 8. Начало Северной войны (1700–1703). Цели России — возвращение Ижорских и Карельских земель и получение выхода к Балтийскому морю. Союзники — Саксония и Дания. Противник — Швеция Карла XII. Поражение под Нарвой и разгром союзников: Дании до разгрома русской армии, Саксонии — после. Последующие успехи русских: взятие Нотебурга (Орешка) и основание Санкт-Петербурга. 9. Успехи в Прибалтике: взятие Дерпта и Нарвы. Поход Карла на Москву, Полтавская баталия и бегство Карла в Турцию. Очищение Прибалтики от шведов (1704–1709). Начало связи с лифляндской пленной служанкой Мартой Скавронской (крещенной в православие как Екатерина) — 1705 г. 10. Новая война с Турцией, Прутский поход, поражение русской армии и потеря Азова. Войны с Турцией — она добивалась выполнения условий сдачи русской армии и Азова, ликвидации черноморского флота России (1710–1715). Вынужденное сосредоточение морских интересов России на севере и официальный перенос столицы в Петербург (1712). Женитьба Петра на Екатерине. Германская кампания и изгнание шведов из Германии. 11. Второе путешествие Петра на запад (1716–1717). Посещение Ганновера для лечения и Франции ради установления связей после смерти Людовика XIV и окончания войны за Испанское наследство. Одновременно: бегство царевича Алексея с его любовницей Евфросиньей в Священную Римскую империю. Миссия Петра Толстого: он обеспечил возвращение царевича. Суд и смерть Алексея (1716–1718). 12. Победоносное окончание Северной войны: от гибели Карла XII до Ништадтского мира (1719–1721). 13. Персидские (Каспийские) походы — присоединение Дербента и Баку (1722–1723). 14. Болезнь Петра и подготовка передачи власти жене: хлопоты о выдаче дочерей замуж за иностранных принцев и коронование Екатерины. Смерть Петра Великого (1724–1725).Эти дробные этапы биографии можно свести в четыре больших периода. Первый (становление царя-новатора, этапы 1–4) охватывает взросление Петра под влиянием соседей-иностранцев и простирается до его реального воцарения, то есть период оканчивается не свержением Софьи, а позже — перенятием власти у приближенных матери. Второй период (антитурецкая стратегия, этапы 5–6) включает первые попытки самостоятельного правления — турецкую войну и Великое посольство в Европу (с целью создать союз против турок). В этот период антиазиатская направленность Петра выражается в его нацеленности против Турции. Третий период (европеизация и экспансия на север, этапы 7–10) начинается с возвращения из Европы, стрелецкой казни и насильственной европеизации страны, охватывает начало Северной войны, а заканчивается победой под Полтавой, поражением на Пруте, смещением главных внешних интересов с юга на север и переносом столицы в Петербург. В этот период главные противники — шведы и консервативная оппозиция внутри страны. В четвертый период (стабилизация, этапы 11–14) Петр занят стабилизацией империи и заботами о судьбах своего дела, о преемственности власти. Старые, враждебные традиции сломлены, построено мощное новое государство, Россия вошла в Европу, но надо было обеспечить необратимость реформ.
4. Личность Петра Великого
Величие Петра определяется прежде всего именно его отношением к традициям. Это царь-реформатор России, царь-новатор. Его заслуги (или, по другим оценкам, его вина) заключается именно в сломе закоснелых традиций, тормозивших развитие России. Вместо Возрождения и Реформации, преобразивших Европу, в России было татарское иго. Теперь надлежало догонять Европу. Петр оторвался от извечного страха перед всем иностранным, западным, не убоялся пойти в обучение к европейцам, перенять их военную и морскую технику и организацию, их более благоустроенный городской быт, их более практичные камзолы и мундиры — отказался от азиатской долгополой одежды. Заодно он перенял и те западные обычаи, которые не имели функциональных преимуществ, например, брадобритие и ношение париков, а также и вовсе вредные — скажем, курение табака. Однако он вовсе не от всех русских традиций отрекался. Скажем, ему никак не нравилась все более ширившаяся на Западе демократическая струя в государственном управлении — конституционные хартии, билли о правах, парламенты, разделение властей. Тут он был целиком и полностью за российское самодержавие. Как монарх он оставался абсолютным властителем, самодержцем, более того — азиатским деспотом, не только требовавшим полного и всеобщего повиновения в государственных делах, но и притязавшим на потакание его личным капризам. Он еще и усилил крепостное право. В отличие от западных абсолютных монархов, своих современников — Людовика XIV или Карла XII, он собственноручно пытал и казнил своих подданных — правда, в отличие от Ивана Грозного, только за реальные вины. Как, впрочем, собственноручно мастерил корабли и ставил дома. Не отменял он и старую русскую традицию пьянства. «Веселие Руси есть пити…». Более того, развивал ее и усиливал, организовав в восемнадцатилетнем возрасте «Всешутейший и всепьянейший собор», в который вошли десятки его сподвижников. Были расписаны чины и звания в этом соборе, учреждены обряды. Собор пародировал церковную организацию, впрочем, не право славную. От 80 до 200 гуляк шатались по имениям богатеев и заставляли поить и кормить себя до упаду. Петр учредил ассамблеи — сборища для танцев и общения, с непременным повальным пьянством. На ассамблеях ввел обычай штрафовать за недостаточное усердие в возлияниях кубком Большого Орла, так что питьприходилось до потери сознания, здоровья, в некоторых случаях до смерти. Заставлял пить и женщин. Когда дочь вице-канцлера Шафирова отказалась от чарки водки, закричал ей: «Скверное еврейское отродье, я научу тебя слушаться!» — и влепил ей две оплеухи (Царь вообще не любил и не пускал в свое государство евреев как нацию — считал их хитрыми обманщиками, но отдельных евреев приближал и возвышал: иностранные дела поручил вести Шафирову, первым полицмейстером Петербурга сделал Девьера). В числе неотмененных традиций допетровской Руси были и нравы сексуальной свободы с беспутными женками, а также, поначалу легкое, отношение к мужеложству. Лишь с 1706 года в воинские артикулы стал вводиться заимствованный у шведов запрет мужеложства, распространявшийся только на военных. Часто говорят, что Петр цивилизовал Россию варварскими средствами — кнутом и дыбой, царской дубинкой, пьяными ассамблеями. Петр и сам во многом оставался грубым и диким, даже на взгляд тогдашней, еще не очень цивилизованной Европы. Во время путешествия Великого посольства по Европе выходки Петра Михайлова, инкогнито которого было тайной Полишинеля, показывали, что он предстал перед европейцами сумасбродным и не очень воспитанным юношей. В Кенигсберге его встречает придворный церемониймейстер Иаков фон Бессер, поэт и ученый. Петр срывает с него парик и отбрасывает прочь. «Кто это?» — спрашивает он у своих. Ему объясняют. «Хорошо, пускай приведет ко мне девку». Встреченную на улице придворную даму он остановил окликом «Halt!», взял часы, висевшие у нее на корсаже, посмотрел, который час, отпустил и пошел дальше. В Лондоне царя поселили в великолепном особняке Джона Эвлина, который 45 лет обустраивал дом и сад. Когда русские уехали, Эвлин был потрясен, увидев, что осталось от его прекрасного особняка. Он обратился к королевским чиновникам с просьбой оценить размеры ущерба и оплатить разрушения. Из сохранившихся документов мы можем себе представить масштабы бедствия. Оказалось, что полы и ковры в доме перемазаны чернилами, грязью и рвотой и подлежат смене. Из голландских печей вынуты изразцы, из медных дверей выломаны замки. Краска на стенах изгажена. Окна (300 стекол) перебиты, а больше 50 стульев исчезли, вероятно, в печках. Перины, простыни и пологи над кроватями изодраны, туалетный столик, обитый шелком, сломан и изрезан. Двадцать картин и портретов продырявлены. От сада ничего не осталось. Лужайка перед домом разворочена. Живую зеленую изгородь сровняли с землей — соседи рассказывали, что русские нашли три тачки и придумали игру: царя или другого приезжего сажали в тачку, а кто-либо разгонял ее на изгородь — и наблюдали, что получится (Evelyn 1906, III: 334–335). Значительно позже, будучи в Копенгагене, царь осматривал естественно-исторический музей, и приглянулась ему выставленная мумия. Царь выразил пожелание, чтобы ему ее подарили. Инспектор доложил об этом королю, и тот ответил вежливым отказом: «Мумия отличается особенной красотой; второй подобной нет в Германии». Петр снова отправился в музей, схватил мумию, оторвал у нее нос, всячески уродовал ее и ушел, сказав: «Вот теперь пусть она у вас остается» (Валишевский 1993: 117). Трудно сказать, понимал ли царь, как реагируют европейцы на его пьяные дебоши и варварское поведение. Вероятно, понимал, во всяком случае стеснялся и стыдился своей необразованности и невоспитанности. Еще больше он стеснялся своего необычайно высокого роста и своего физического недостатка — нервного тика. Как только он сталкивался с затруднительным положением, у него сводило судорогой шею, начинала дергаться левая сторона лица, тряслась голова и непроизвольно двигалась левая рука. Чтобы замаскировать это, он начинал махать и правой рукой. Видимо, это были припадки эпилептического характера, не доходившие до полного приступа (он не падал, сознание не отключалось). О причине этой болезни спорят. Одни видят ее в событиях его детства или отрочества (шок при нападениях стрельцов), другие винят пережитую в юности лихорадку с серьезным воспалением мозга. Бывали у него и приступы бешеной ярости, когда он нападал на рассердившего его с кулаками или оружием. Потом нередко раскаивался. Вообще, с его приступами дикости и грубости могла соперничать только его застенчивость. В замке Коппенбрюгге, в резиденции герцога Браун швейгского он встретился с курфюрстиной Бранденбургской Софией- Шарлоттой и ее матерью курфюрстиной Софией Ганноверской, самыми образованными дамами Европы. Увидев множество лиц вокруг, сначала испугался и хотел убежать. Пришлось целый час уговаривать. На приветствие дам закрыл лицо руками и повторял: «Ich kann nicht sprechen…» (не могу говорить). Потом смущение прошло, и он оказался неплохим собеседником. Хоть он и не умел пользоваться салфеткой и много пил, но отвечал толково на вопросы и похвастался мозолями на руках. В танцах пожаловался курфюрстинам, что немецкие дамы чертовски костлявые. Дамы умирали со смеху: «Это не кости, это наши корсеты». В Голландии Петр наблюдал из соседней комнаты торжественное прибытие своего посольства в аудиенц-зал Генеральных штатов. Обнаружив, что люди узнали его, он захотел скрыться, но для этого надо было пройти через аудиенц-зал. Петр попросил провожатого приказать членам Генеральных штатов отвернуться. Тот ответил, что это верховные правители страны и приказать им никто не может. Узнав, что их просит царь, члены Генеральных штатов встали, но повернуться спиной отказались. Петр прикрыл лицо париком и, пробежав через зал, выскочил в вестибюль и убежал. Вена, столица Священной Римской империи, подавила Петра великолепием и могуществом. С трудом «урядник Петр Михайлов» добился аудиенции у императора Леопольда в замке Фаворит. На аудиенции он так потерялся, что хотел поцеловать руку императора (что ему, царю, совершенно не подобало) и никак не решался надеть шляпу, на чем настаивал император. Вырвавшись наконец из замка Фаворит, он, заметив челнок, вскочил в него и принялся что есть духу грести. «Словно как школьник, отделавшийся от трудного экзамена», — комментирует Валишевский (1993: 83). Это была натура деятельная, бурная, беспокойная и падкая до наслаждений. Да, это был «и академик, и герой, и мореплаватель и плотник», но, кроме того, он же был гуляка и дебошир, палач и барабанщик, вечный шалун и ответственный, совестливый командир. Всё-то он хотел попробовать сам, всё испытать, всё изведать. Шапку Мономаха и солдатскую лямку. Барабанные палочки и кузнечный молот. Святые подвиги и грешные удовольствия. Вероятно, мы лучше поймем этот характер, если проследим, как он формировался.5. Зерно и почва
Если сравнить Русь первых Романовых с государством, которое Петр оставил своим преемникам, то можно было бы подумать, что страна была завоевана и колонизована каким-то западным, европейским соседом, если бы не следы побед России над своими соседями. Как в дремучем азиатском краю мог вырасти этот деятельный гигант, крушитель и преобразователь? Это выглядит чудом. Но это было исподволь подготовленное чудо. Уже отец Петра, тишайший богомолец и охотник царь Алексей Михайлович, в одном только 1661 г. вызвал в Москву на службу около 400 иностранцев — офицеров, докторов, мастеровых. Правда, им было велено селиться в особом поселке — Немецкой слободе, Кукуе. А всего в это время жило в России уже около 18 тысяч иностранцев. В сорок лет царь Алексей похоронил жену Марию Милославскую, от которой он имел тринадцать детей, но сыновей только пять, а из них выжило двое — хилый и слабый Федор, страдавший наследственной невосприимчивостью к витамину С и потому постоянно болевший цингой, и подслеповатый и косноязычный Иван, у которого веки не держались открытыми. Только дочь Софья была энергична и жаждала учиться, но царевнам удел был сидеть в терему и даже выход замуж им не светил: выходить за своего подданного не подобало, а иностранные принцы не покушались на захолустных московских невест. Царь-вдовец часто коротал время дома у своего приближенного Артамона Матвеева, начальника Посольского, Казенного и других приказов, который был необычным боярином. Он интересовался науками, проводил опыты в самодельной химической лаборатории и, по некоторым сведениям, женился на дочери Грегори Гамильтона — бежавшего от революции роялиста из Шотландии. Собственно, в родословной указана женитьба на дочери Григория Петровича Хомутова, и некоторые историки считают, что шотландское родство — миф, но Хомутовы в России были русской переделкой фамилии Гамильтон. Во всяком случае, дом был обставлен на западноевропейский манер — с зеркалами и картинами. Женщины, вопреки русскому обычаю затворничества, выходили к столу, в том числе воспитанница Матвеева юная красавица Наталья Нарышкина. Царь обратил на нее внимание и вскоре женился на ней, после чего стал менее богомольным и более приверженным светским удовольствиям, в частности театральным представлениям. В 1672 г. у царицы родился сын Петр. Нарышкины, сменившие у трона Милославских, происходили от татарина Нарыша, подвизавшегося при дворе Ивана Грозного. У Натальи Кирилловны и ее сына были черные, чуть раскосые глаза. Младенец был очень крепкий, здоровый и уже, как уверяли, в семь месяцев начал ходить. Мог ли пожилой по тем временам (под пятьдесят) и больной царь породить такого крепыша? Как-то много лет спустя Петр сам захотел дознаться об этом у родственника своей бабушки Тихона Стрешнева, ближнего боярина покойной царицы Натальи Кирилловны. Указывая на Мусина-Пушкина, Петр посетовал, что тот-то как раз на деле сын царя, незаконный, конечно, а вот «чей сын я? Не твой ли, Тихон Стрешнев?» Стрешнев взмолился: «Батюшка, смилуйся. Я не знаю, что отвечать… Я был не один…» (Валишевский 1993: 11–12). Через четыре года царь Алексей умер, и на престоле подростком оказался его старший сын Федор, который, при всем нездоровье, имел страсть к учебе, охоте и коневодству, был чрезвычайно образованным человеком, книжником, говорил на многих языках и, несмотря на молодость, вникал в дела управления сам, проявляя незаурядный ум и добиваясь справедливости. Хотя впоследствии в угоду культу Петра историки старательно затушевывали деятельность отпрысков Милославских, недавно показано (Богданов 1998), что именно Федор начал реформы и модернизацию России. При нем была введена регулярная армия на европейский манер, ее полки переодеты в европейскую форму (так что потешные Петра взяли готовый образец, не нужно было придумывать). Изменена была налоговая система, налоги неуклонно снижались. В Москве развернуто обширное каменное строительство — Москва за шесть лет стала каменной. Успешно велась война с Турцией. Поскольку молодой царь был всегда нездоров (имел распухшие ноги и, видимо, больное сердце), его сестра Софья неустанно помогала ему и даже, что совершенно необычно для Московии, посещала заседания Боярской думы. Родственники первой жены Милославские снова оказались вокруг трона, а Нарышкиных удалили из Москвы. Артамона Матвеева арестовали и посадили в тюрьму. Вскоре, в 1682 г. молодой царь Федор скончался, успев запретить местничество и сжечь разрядные книги, поддерживавшие древнюю иерархию боярских родов. Это было нужное преобразование (давно надо было покончить с назначением на должности по родовитости, а не по способностям), но оно разозлило знатных бояр. Обиженные на Милославских, они нарушили традицию и, ссылаясь на болезненность слабоумного подростка Ивана, отвергли этого законного наследника и избрали взамен на царство его сводного младшего брата, здорового и крепкого мальчика Петра. К власти вернулись Нарышкины и Матвеев. Вернулись как ревнители старых традиций, на которые покусился царь-реформатор Федор, так что Петру потом пришлось преодолевать старые традиции, восстановленные его родными. Поскольку покойный царь уменьшал налоги и это новшество оказалось под угрозой, народ был недоволен возвращением старых порядков. Взбунтовались расквартированные в Москве стрельцы — остаток старого полупрофессионального войска, имевшего право подрабатывать торговлей и ремеслами. Стрельцы ворвались в Кремль, на глазах у Натальи и Петра убили Матвеева и Долгорукого, погибли также Ромодановский и братья царицы, Нарышкины. Царями были провозглашены оба брата — Иван и Петр, а над ними до их возмужания была поставлена правительница Софья. С помощью своего «таланта» князя Василия Голицына, тоже, кстати, западника, она надеялась утвердиться на троне. При ней присоединены украинские земли. Вскоре она расправилась с распустившимися стрельцами и их начальником князем Хованским. Петру же кровавые сцены стрелецкого бунта запомнились на всю жизнь и определили во многом его тревожность и свирепость, а также нелюбовь к боярам, Москве и Кремлю. Петр Великий.
Гравюра с картины Г. Неллера 1697 г.
Петр Великий.
Гравюра с картины Г. Неллера 1697 г.
Ивана для обеспечения престолонаследия за собой Милославские по скорей женили на Прасковье Салтыковой, но четыре года у этой пары не было детей. Тогда к супругам приставили для гарантии стольника Юшкова, дело пошло на лад, но у этой троицы рождались только дочери (тем не менее из этой линии было несколько персон на троне после Петра). Меж тем Наталья с Петром обосновалась за Москвой, в сельце Преображенском. Маленький Петруша оказался на природе, вне надзора строгих настав ников, в общении с деревенскими ребятишками. Тут формировались его вкусы и привязанности, далекие от норм дворцовой жизни. Для игры к нему приставили не детей первых вельмож, так сказать, будущую свиту царя, а сыновей придворных помельче. Петр рос быстро и у себя в Преображенском переходил от игры на барабане (всю жизнь он очень ее любил) ко все более серьезным военным играм. Для них он запрашивал из царского арсенала все более действенное оружие, а из его сверстников, приставленных к нему для его потехи, было образовано потешное войско (позже из него были сформированы два потешных полка, Преображенский и Семеновский — этот назван по соседнему сельцу). Подобно солдатским полкам Федора, это войско было организовано по иностранному образцу (и стало впоследствии основой русской гвардии). Это было тем легче сделать, что по соседству с Преображенским находилась Немецкая слобода — Кукуй. Петр все чаще заглядывал туда и восхищался чистотой, опрятностью и благоустроенностью тамошнего быта. Он удивлялся диковинным нарядам, завидовал раскованности и веселью обитателей Кукуя. Завел себе там приятелей, стал посещать там пирушки. Там он нашел офицеров, показавших ему преимущества западного строя и мастеров-корабельщиков, зародивших мысли о собственном флоте. В возне с потешными полками юному царю особенно понравилась одна игра, смахивавшая на маскарад: он вручал командование кому-нибудь другому, объявлял себя рядовым и маршировал в рядах, как все прочие. Это была игра в солдатики и в ряженые, но постепенно он обнаружил в ней большие преимущества: она позволяла ему осваивать все виды военного мастерства, проходить самому все стадии военной карь еры, показывая своим подданным пример, а рост и физическая сила позволяли ему и в самом деле оказываться первым в этом соревновании. Он вошел в эту игру на всю жизнь — всегда оставался солдатом Петром Михайловым, медленно проходящим этапы военной карьеры — от урядника и бомбардира до (под старость) генерала.
 Петр в 1698 году.
С картины Г. Неллера
Петр в 1698 году.
С картины Г. Неллера
Вообще, ему, видимо, было легче с простонародьем — сразу устанавливалось первенство высокорослого молодца, не сказывались огрехи образования, можно было не ожидать скрытого ехидства под маской почтительности и тайных злоумышлений. К концу 1688 г. Петру было уже шест надцать с половиной лет. Верзила, вымахавший выше взрослых — почти до своего потолка, он пил, курил (научился у иностранцев), командовал своими потешными и присоединенными к ним полками на военных играх-маневрах, палил из пушек и забавлялся с простонародными приятелями и веселыми девицами из Немецкой слободы. Это беспокоило его мать, и она решила женить сына, чтобы он остепенился. Жену ему выбрала сама — двадцатилетнюю Евдокию Лопухину, скромную, богобоязненную и глуповатую дворянскую девицу с традиционным русским воспитанием, чурающуюся еретиков-иностранцев. В начале 1689 г. Петр послушно провел с женой медовый месяц и удрал от жены к своим строящимся на озере под Переяславлем судам. Она ему быстро и навсегда опротивела. Изредка он появлялся на парадных действах в Москве. Как-то когда Софья оказалась рядом в торжественном царском облачении, он огрызнулся: «Тебе не место здесь, ты не царица!» Софья поняла, что пришло время решительной схватки за власть. Она стала было науськивать стрельцов, но, вспоминая разгром Хованщины, стрельцы теперь поднимались не столь охотно. Петра же эти сборы вспугнули, он ночью в одной рубашке удрал из Преображенского за могучие стены Троицкого монастыря, за ним ушли его потешные полки, и туда к нему стали стекаться все, кто понял, что за ним перевес. Софья была схвачена и отправлена в монастырь. Надо отдать должное Софье — она самим своим прорывом к власти тоже ломала старую русскую традицию — женского затворничества и раболепия перед мужчиной, а ее любовник и соратник князь Василий Голицын был и просто западник под стать Артамону Матвееву: говорил на иностранных языках, подстригал бороду, ходил в польском костюме. Если бы не связь с Софьей, мог бы стать сподвижником Петра. Конечно, Петр далеко обогнал в развитии своих родных и весь двор, он опередил свой век в России. Но предпосылки к формированию такого характера уже были во взрастившей его среде. Просто случайное стечение обстоятельств поместило его на край этой среды, в необычные условия, а по своим задаткам и положению он был готов воспринять новые веяния и претворить их в судьбу России.
6. Браки и амуры
Петр опережал свой век и чисто биологически. Он уже тогда, на триста лет раньше своего поколения, был акселератом. По-видимому, к этому привели отличное питание царевича, забота и уход, обилие информации и бурный темп жизни — то, чем, как считают, обусловлена современная акселерация юношества и что отсутствовало у остальных людей, вне царской семьи. Во всяком случае Петр не только достиг гигантского роста (204 см), но и пришел к половому созреванию гораздо раньше своих сверстников — это отмечают многие современники. Когда ему было одиннадцать лет, послы шведского короля приняли юного царя за шестнадцатилетнего! Мудрено ли, что, общаясь с множеством сверстников, привыкнув ко всеобщему угождению и не связанный строгими правилами поведения, он рано начал половую жизнь. Он рассматривал ее как одну из статей своей программы увеселений — наряду с пирушками, пьянками и танцами. Пристрастившись к регулярному посещению Немецкой слободы, он нашел там если не такой разврат, какой царил в низах русской городской жизни, то гораздо более свободные нравы, чем те, что господствовали при дворе. Женив его, царица-мать не достигла цели. Он не остепенился, не стал более благонравным и домоседом. Когда он не уезжал к своим кораблям, он продолжал регулярно посещать Немецкую слободу и оставаться там на ночь. Его тамошний приятель и собутыльник бесшабашный красавец-богатырь Лефорт уступил ему свою возлюбленную юную красавицу Анну Монс, дочь виноторговца. Веселая и расчетливая, она не сопротивлялась и скоро стала основной любовницей царя, хотя царь поддерживал отношения и с ее подругами — дочерью серебряных дел мастера Беттихера и Еленой Фадемрех. От последней, не очень молодой, тоже получал письма, адресованные «Свету моему любезнейшему сыночку, черноглазинкому, востречку дорогому». Анна знала, что царь не переносит свою жену, но вряд ли могла надеяться на брак с царем. Молодой царь еще не решался тогда на подобное отступление от норм, хотя и подумывал об этом. Он лишь построил Анне в слободе дворец с роскошной спальней. Связь тянулась 12 лет и оборвалась из-за оплошности Анны. Выявилась ее тщательно скрываемая измена. Она не любила Петра и отдавалась ему исключительно из корыстных соображений. На деле она любила саксонского посланника Кенигсека и переписывалась с ним. Когда в 1703 г. тот утонул, при трупе утопленника обнаружили ее портрет и любовные письма. Петр был очень расстроен, плакал, но навсегда отказался видеться с Анной Монс. Царь быстро утешился. Помогли ему его родная сестра Наталья и самый доверенный любимец Меншиков. Заботами друга при дворе Натальи сложилась группа девиц, большей частью не слишком строгих и готовых утешить царя. Тут были не только сестры Меншикова Марья и Анна, но и возлюбленная самого Меншикова Дарья Арсеньева и ее сестра Варвара. Меншиков собирался жениться на Дарье, а свою сестру Анну и Варвару Арсеньеву подсовывал царю, надеясь породниться с ним так или этак. Варвара была умная дурнушка. Как описывает биограф контр-адмирала Вильбуа, за обедом царь сказал Варваре: «Не думаю, чтобы кто-нибудь пленился тобою, бедная Варя, ты слишком дурна; но я не дам тебе умереть, не испытавши любви». И, как сообщает этот источник, царь «тут же при всех повалил ее на диван и исполнил свое обещание» (Villebois 1853). Но привязался он к другой женщине из этого круга, уступленной ему Меншиковым. Это была служанка лифляндского пастора Глюка, плененного при взятии Мариенбурга в 1702 г., Марта Скоровощенко или Сковоротская, что позже для благозвучия переделали в Скавронскую. Мать ее принадлежала ливонскому дворянину Альвендалю, который сделал ее своей любовницей, вследствие чего и родилась Марта. Мать умерла, а сироту приютил пастор Глюк и, испугавшись ее благосклонности к мужчинам (у нее даже дочь родилась), выдал ее семнадцати лет замуж за шведского драгуна Рабе или Крузе. В русском плену черноглазая и смуглая Марта стала сначала любовницей драгунского унтер-офицера, потом самого главнокомандующего Шереметева. Оттуда ее забрал портомоей (прачкой) Меншиков. Марта была обращена в православие, названа Катериной, тут ее и заметил Петр. В 1704 г. она уже была беременна от Петра и вскоре у нее было двое сыновей от него. Роман этот не сразу стал браком. Петр увлекался и другими девицами. В Гамбурге ему приглянулась дочь одного пастора. Пастор соглашался только на законный брак. Ему было это обещано, и он прислал дочь. Но как только она, поверив обещаниям, согласилась отдаться в кредит, брак сорвался. Ее отправили назад с большим денежным кушем. Увлекся царь и юной Евдокией Ржевской из большого рода Татищевых. Ее он соблазнил четырнадцатилетней, а шестнадцати лет выдал ее за своего денщика Григория Чернышева, но, наградив его за уступчивость деньгами, держал ее при себе. Она родила ему четырех сыновей и трех дочерей, но, так как она была чересчур любвеобильна, отцовство было ненадежным. Это подрывало ее фавор. Царь говорил про нее «Авдотья бой-баба». В конце концов царь заболел, видимо, гонореей, и, по его подозрениям, он заразился от Чернышевой (Villebois 1853: 29). Муж ее, к тому времени генерал-аншеф и сенатор, получил от царя предписание «высечь Авдотью». В 1725 году заболела и Екатерина после проведенной с мужем ночи, и французский посланник Кампредон возлагает за это вину на Авдотью. Царя же, возможно, эта болезнь, плохо вылеченная, в числе других причин и привела к смерти. Вот что Покровский принял за сифилис. Официальные же потомки Григория Чернышева, графы Чернышевы, впоследствии имели некоторые основания считать, что они почти Романовы. Постепенно Екатерина осталась самой прочной любовью царя. Простая и домашняя, она умела лучше других утихомиривать бешеные приступы ярости царя, исцеляла и его судорожные припадки. Чтобы радикально порвать остатки ее связи с Меншиковым, Петр заставил его жениться-таки на Дарье Арсеньевой, после чего сам женился без большой огласки на Екатерине — в 1711 году, а в 1724 г. короновал ее императрицей. Это не значит, что его увлечения другими прекратились. Самым известным был роман с Марией, дочерью графа Андрея Матвеева. Это был сын боярина Артамона Матвеева, воспитателя Натальи Кирилловны Нарышкиной — матери царя Петра, то есть Андрей воспитывался в одной семье с ней. Дочь его Мария была еще более привлекательной красавицей, чем Чернышева, и вдобавок умнее. Петр сделал ее фрейлиной Екатерины, но, окунувшись в атмосферу двора, юная красавица нашла и более очаровательных молодцов, чем пожилой и грубый царь. Уличив ее в измене, царь отколотил ее, но этим дело не ограничилось. Императрица Екатерина I.
С картины Натье
Императрица Екатерина I.
С картины Натье
К этому времени к царю был особенно приближен один из денщиков, рослый Александр Румянцев, из бедных дворян. Он отличился в захвате царевича Алексея и доставке его на суд и смерть и стал любимцем царя. Некий боярин предложил царскому любимцу в жены свою дочь и богатое приданое, тот доложил царю. Царь захотел сам посмотреть невесту. Посмотрев, пожал плечами и сказал: «Ничему не бывать». И добавил, что сам найдет Румянцеву другую невесту немедленно. Повез его сватать в богатый особняк — к удивлению Румянцева, хозяином дома оказался один из самых знатных и богатых вельмож государства граф Матвеев. Царь поцеловался с графом и заявил: «У тебя есть невеста, а вот жених». 19-летняя невеста и была Марией, любовницей царя, изменявшей ему. Царь решил приставить к ней своего человека, назначив его мужем. Так Матвеева стала Румянцевой. Впоследствии этот денщик и муж, умевший быть молчаливым в щекотливых ситуациях и смекалистым в поручениях, стал генерал-аншефом и дипломатом. После смерти царя Петра Мария Румянцева осталась беременной от него и вскоре родила сына, названного тоже Петром. Сын этот станет знаменитым полководцем Екатерины II — Румянцевым-Задунайским, памятник которому стоит в Румянцевском саду возле Академии Художеств в Петербурге. Как уже сказано, Артамон Матвеев был женат на женщине, возможно, из рода Гамильтон. Красавица Мария Гамильтон (как некоторые полагают, внучатая племянница его жены), была взята ко двору царицы и приглянулась царю. Он вскоре бросил ее, и она утешилась его денщиком Иваном Орловым, родоначальником плеяды гвардейских офицеров, впоследствии сыгравших видную роль в дворцовых переворотах. Мария похищала у царицы бриллианты и дарила их Орлову. Несколько раз она беременела от него и выводила плод. На третий раз младенец родился, и она просто задушила его и велела выбросить. Трупик нашли, но не определили, чей. Но простоватый Орлов был вызван для допроса об исчезновении какого-то документа из царского кабинета. Не знавший о пропаже документа, он вообразил, что царю стало известно о его шашнях с царской любовницей, пал в ноги царю с криком «Виноват!» — и сознался во всем. Следствие показало, что подарки он принимал, не зная, что они краденые, а о смерти младенцев знал, но не знал об их умерщвлении. «Девку Марью Гамонтову» приговорили к смерти в 1719 г. На эшафот она взошла в белом атласном платье с черными лентами и надеялась, что красота ее принесет ей помилование. Царь поднялся на эшафот, поцеловал ее и… уступил место палачу. Потом он поднял отрубленную голову, прочел присутствующим лекцию по анатомии, обращая внимание на срез позвонков, еще раз поцеловал прекрасные уста, перекрестился и ушел. Голову велел заспиртовать (Семевский 1993: 361–419). Согласитесь, что судьба Марии Гамильтон куда драматичнее приключений ее известной однофамилицы или родственницы Эммы Гамильтон, любовницы адмирала Нельсона. Екатерина не опасалась соперниц вроде Гамильтон. Она и сама брала в свою свиту «метресок» своего супруга и вообще привлекательных девиц, способных угодить царю. Единственной соперницей, которой она опасалась, была дочь молдавско-валашского князя Дмитрия Кантемира, после поражения от турок (с 1711 г.) жившего в Петербурге. Царь увлекся Марией Кантемир, и в 1722 г. она собиралась родить ему ребенка. Если бы это оказался сын, то Мария, происходившая из княжеского рода, вполне могла заменить царицу из служанок, у которой к этому времени оставались только дочери. Но у Марии произошел выкидыш, возможно, не без помощи врача, подкупленного друзьями царицы. Брат Марии Антиох стал видным русским дипломатом и поэтом — он мог бы стать братом царицы. Видно, не судьба.
7. Корцвейльворты и ревность
Рассказывая о пребывании царя Петра в Магдебурге (это было уже через много лет после Великого посольства), Пёльниц сообщает, что когда прусские государственные учреждения явились приветствовать его и их президенты держали речи, царь принял их, лаская груди двух русских дам. Он не прерывал своего занятия и во все время произнесения речей. Тот же Пёльниц описывает встречу царя с его племянницей, дочерью покойного царя Ивана, герцогиней Мекленбургской. «Царь поспешно пошел навстречу принцессе, нежно обнял ее и отвел в комнату, где уложил на диван, а затем, не затворяя двери и не обращая внимания на оставшихся в приемной, предался, не стесняясь, выражению своей необузданной страсти» (Валишевский 1993: 187). Но царь редко избирал для себя принцесс. По свидетельству Нартова, очень близкого к царю, Петр был большой любитель женских ласк, но никогда не увлекался ими больше чем на полчаса. Он называл такие свои приключения «корцвейльвортами» (короткими досужими словечками). Еще и поэтому выбор его часто останавливался на простых служанках или кухарках, прачках. Один из документов, изданных князем Голицыным, описывает драку государя с садовником, который граблями отгонял его от некой крестьянки. Маркграфиня Байретская, видевшаяся с царем в 1713 и 1718 годах, ехидно записывает, что при царице состоит 400 так называемых дам и что большей частью это немецкие служанки, исполняющие обязанности дам, кухарок, горничных и прачек. Почти все они держат на руках богато разодетых детей, а на вопрос, чьи это дети, отвечают, кланяясь в пояс: «Царь почтил меня». Количество царского потомства явно преувеличено, однако оно было все же весьма велико. Не брезговал государь и платной любовью, причем предпочитал подешевле. В Саардаме (Голландия) царь не только учился кораблестроительному мастерству, но и нашел для любовных утех служанку из харчевни. Она согласилась пойти с ним, только когда, заглянув в его кошелек, убедилась, что это не простой плотник и у него есть, чем расплатиться (из воспоминаний Нартова). Лейбниц приводит письмо от 27 ноября 1697 г., в котором указано, что царь «отправился с ней один на лодке, чтобы отдаваться любви в дни отдыха». В Англии ее сменила актриска Гросс, которая осталась недовольна его скупостью. Он же считал, что пятьсот пенни это даже много. «За пятьсот пенни я нахожу людей, готовых преданно служить мне умом и сердцем; эта же особа посредственно служила мне тем, что может дать, и что такой цены не стоит» (Валишевский 1993: 81). В 1716 году на свидании царя с союзником, датским королем Фридрихом, тот игриво заметил: «Я слышал, брат мой, что у вас тоже есть любовница?» Царь мрачно ответил: «Брат мой, мои любовницы обходятся мне недорого, а на вашу вы тратите тысячи талеров, которые могли бы употребить с большею пользою». Будущей императрице Екатерине за первое свидание он дал один дукат. При всей этой бесцеремонности в амурных связях, царь весьма строго относился к соблюдению своего достоинства в делах матримониальных. Когда обнаружилась измена Анны Монс, ее долго держали под арестом, который сняли лишь через несколько лет по просьбам прусского посланника Кейзерлинга, который в конце концов на ней женился. Когда посланник вздумал хлопотать о ее брате, Петр оборвал его: «Я держал твою Монс при себе, чтобы жениться на ней, а коли ты ее взял себе, так и держи ее, и не смей никогда соваться ко мне с нею или с ее родными». А Меншиков добавил: «Знаю я вашу Монс! Хаживала она и ко мне, да и ко всякому пойдет. Уж молчите вы лучше с нею». Кейзерлинга вытолкали взашей и спустили с лестницы. Отставленную и упрятанную в суздальский монастырь жену Евдокию царь, казалось, забыл. По прошествии многих лет Евдокия сбросила монашеское одеяние и увлеклась майором, присланным в Суздаль для набора рекрутов. Майор Степан Глебов пожалел тридцативосьмилетнюю бывшую царицу, подарил ей меховую одежду, и с этого начался их роман. В письмах она исходила от любви: «Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя!.. Уж мне нет тебя милей, ей Богу! Ох, любезный друг мой! За что ты мне таков мил?» Степан был женат. Евдокия считала, что это не повод для разлуки: «Что я твоей жене сделала? Какое ей зло учинила?» Через восемь лет роман их открылся. Петр боялся, что Евдокия вела козни с расчетом на заговор царевича Алексея, и подверг Глебова ужасающим пыткам, но не выявил ничего сверх любовной связи. Пытали и пятьдесят монахинь — как свидетельниц, они подтвердили отсутствие заговора. Тем не менее Евдокию сослали в более отдаленный монастырь на Ладоге, а умирающий от пыток Степан Глебов был посажен на кол. Чтобы он не умер слишком быстро на жестоком морозе, его заботливо укутали в меховую шубу, такие же сапоги и шапку. Меры оказались успешными: казнь началась в три часа дня, умер он на следующий день в семь вечера. Опала на Анну Монс не коснулась ее брата, столь же красивого. Он стал камер-юнкером Екатерины и самым доверенным и влиятельным лицом при ее дворе. Через него добивались приема у императрицы, а уж через нее старались повлиять на решения Петра. Воспользовавшись своим положением, Виллим Монс брал огромные взятки («подарки») у всех, даже у знатнейших персон, не исключая Меншикова. В обстановке всеобщей продажности и подкупности это сошло бы ему с рук, но за этим стоял его тайный роман с Екатериной. Ей тоже перепадало золото от взяток. Монс сочинял стихи. В них содержится признание:Und also Lieb ist mein Verderben,
Und heg’ ein Feuer in meiner Brust,
Daran zuletzt ich doch muss sterben.
Mein Untergang ist mir bewusst.
Das macht ich lieben wollen,
Was ich gelt verehren sollt.
8. Мин херц
Общеизвестно, особенно после романа Алексея Толстого и кинофильмов, что лучшим другом Петра — до гробовой доски — был Александр Данилович Меншиков (Порозовская 1895/1998), совершивший благодаря этой дружбе головокружительный взлет от мальчишки-пирожника до светлейшего князя и фельдмаршала, чей роскошный дворец и сейчас стоит на берегу Невы — одно из немногих зданий, сохранившихся от Петровской эпохи. Отец его был капралом Преображенского полка, конюхом и приторговывал среди солдат. Это его пирожки мог разносить Алексашка. Мать была, по-видимому, соблазнена капралом еще в девичестве, и грех закрыли свадьбой. Это видно из замечания царя Екатерине, которая не раз заступалась за проворовавшегося Меншикова: «Меншиков на свет явился таким же, каким живет век свой: в беззаконии зачат, в грехах родила мать его и в плутовстве скончает живот свой…». Юноша, бойко торговавший пирожками, понравился Лефорту, и тот взял его к себе в услужение, а у Лефорта в 1689 г. он приглянулся Петру. Именно приглянулся, потому что кроме смазливой наружности у юного слуги не было ничего, что могло бы оправдать внимание царя. Алексашка, как его звали в юности, был моложе царя на год и отличался чистоплотностью и особенной элегантностью, необходимой для торговца вразнос. Он не получил никакого образования и всю жизнь оставался почти неграмотным. Письма диктовал секретарю и мог лишь вывести свое имя и одно — два слова. Совершенно непонятно его влияние на такого человека, как Петр, — столь ценившего образование! Александр Данилович Меншиков
Александр Данилович Меншиков
Но Меншиков был толковым, очень пронырливым и безусловно преданным слугой и очень скоро стал больше чем слугой. В 1693 г. он числился бомбардиром Преображенского полка. Ко времени Великого посольства был денщиком и спал у кровати царя. Он был самым доверенным исполнителем любого пожелания юного государя. Повсюду следовал за ним, как тень, под Азовом жил с ним в одной палатке. С 1700 года стал его домоправителем. Многие величали его уже Данилычем. В сердце Петра он определенно занял совсем особое место. В письмах (с 1700 по 1703 г.) Петр называл его «мин херц» (сердце мое), «мейн херцхен» (мое сердечко) или «мейн херценкин» (буквально: дитя моего сердца, хотя и на ломаном немецком). Это не обращение к другу — так пишут к возлюбленным. Но это был, по-видимому, уже конец чисто любовной связи, после чего отношения перешли в тесно-дружеские и родственные. Через год Алексашка был уже «mein beste Freint» (мой лучший друг) или «мейн липсте камрат» (мой любимейший товарищ), а еще позже «min Brudder» (брат мой). Эти эпитеты царь не давал больше никому. Соответственно и Алексашка обращался к Петру запросто: «Мой господин капитан, здравствуй!» и подписывался просто именем, без льстивых добавлений, подобающих подданному, — как, скажем, унижал себя знатнейший боярин фельдмаршал Борис Шереметев: «наиподданнейший раб твой», «Ваш холоп Бориско». Заканчивались письма царя к Меншикову словами: «О чем больше писать оставляю, токмо желаю вскоре, что дай Боже, в радости видеть вас». «Здесь все добро, только дай Боже! видеть тебя в радости; сам знаешь…». «В болезни моей не меньше тоска разлучения с вами, что многажды в себе терпел; но ныне уже вяшше не могу; извольте ко мне быть поскоряе, чтобы мне веселяе было» (Порозовская 1895/1998: 153). Оба поклялись не жениться один раньше другого. А собственно, с чего бы это? Уже в 1706 г. царь повелевал главнокомандующему своей армии Огильви слушаться «слов господина моего товарища», исполнять его приказы. В 1703 г. оба друга в один и тот же день получили высшую награду России орден Андрея Первозванного. Еще в 1702 г. из уважения к Петру император Священной Римской империи присвоил Меншикову титул графа. В 1707 г. император Иосиф пожаловал ему титул светлейшего князя Священной Римской империи. Через два года, одержав победу над шведами при Калише, бывший пирожник становится князем Ижорским, герцогом Ингерманландии. В Полтаве Петр пожаловал его чином фельдмаршала. Меншиков оказался подполковником Преображенского полка (полковником впоследствии всегда был сам царь), генерал-губернатором Петербурга, генералиссимусом. Выезжал он из своего дворца в золоченой карете шестеркой лошадей, с лакеями на запятках и стражей впереди и сзади. Между тем, хотя Меншиков одерживал победы и с исключительной энергией исполнял приказы царя, административных и военных дарований ему порой не хватало, а ответственности у него не было. Перед важным сражением со шведами он чертил новую ливрею для лакеев. В Полтаве он упустил Карла после сражения и едва сам не попал в плен к Левенгаупту. Все время он беззастенчиво воровал у казны в колоссальных масштабах и приумножал свои богатства. На него неоднократно поступали доносы, и порою воровство устанавливал суд. Петр поколачивал его своей дубинкой, но неизменно прощал. Однажды Петр обещал отнять у него все и вернуть его к пирогам. В тот же вечер Алексашка приобрел корзину и появился перед Петром с криком: «Пироги подовые!» Петр рассмеялся и опять простил. За воровство таких масштабов он не прощал никому — князь Гагарин, Сибирский губернатор, был повешен; казнены обер-фискал Нестеров и вице-губернатор Курбатов; вице-канцлер и сенатор Шафиров, глава ведомства иностранных дел, за выгоды, предоставленные брату в ущерб казне, был приговорен к смерти и лишь на эшафоте помилован — смерть заменена ссылкой. А Меншиков процветал. Почему? Многие современники видели только одно объяснение — Алексашка смолоду был связан с царем любовными отношениями, содомским блудом. К подозрениям, видимо, добавлялись и сведения о подсмотренных фактах: невозможно ведь было полностью утаить такие отношения от простых людей — прислуги, конюхов, собутыльников. Да от них не очень и скрывали. Уже в 1702 году один капитан Преображенского полка в подпитии сказывал про его царское величество, что тот «живет с Меншиковым бляжским образом» (Карлинский 1992). Сохранилось дело о дознании. Капитан был арестован, но лишь выслан в отдаленный батальон, тогда как за менее позорные слова в лучшем случае людей били кнутом на дыбе и вырывали им клещами ноздри или урезали язык. Петр не только в истории со слишком прозорливым капитаном, но и в других случаях подобного срамословия в свой адрес (но только подобного) проявлял странное благодушие. Видимо, это были справедливые обвинения, не клевета, и кара была столь мягкой потому, что царь наказывал этих болтунов лишь за неуместность злословия, а не за ложь.
9. Муж с мужем или блуд с ребятами
Если исходить из непреложности этого чувства кМеншикову, то надобно более пристально рассмотреть и другие связи, в которых такая трактовка царской личности была возможна, обратить внимание на признаки, в которых такие склонности царя могли бы проявиться. Трудно ожидать, чтобы эти склонности проявлялись открыто, но если иметь в виду, что их наличие ожидаемо, то некоторые вещи, которые в ином контексте и порознь не имели бы значения, приобретают его в этом контексте и в сочетании. Ибо если много странностей совпадают в одной возможной трактовке, то это вряд ли случайно и такая трактовка слишком смахивает на реальность. Можно подумать и о том, как могли подобные склонности у царя возникнуть. Нет, Петр не был «прегомосексуальным» ребенком. Наоборот, он с самого раннего детства питал пристрастие к оружию, к шумным военным играм и барабанному бою. Но его раннее детство прошло в настоящем женском царстве. Вдобавок к матери, теткам и сестрам, до пяти лет он был окружен няньками и «мамками», а мужчины не имели к нему никакого доступа (Либрович 1991: 56). Всю свою жизнь Петр проявлял ненасытную любознательность, он страстно жаждал все непривычное узнать и изведать. Поэтому в его раннем половом созревании особую роль должно было играть половое любопытство, обычное у каждого ребенка (Клейн 2000: 465–475). А его половое любопытство неминуемо было направлено на мужчин, поскольку женщин он видел в интимной домашней обстановке каждый день. В юности это могло способствовать превращению его контактов с парнями в сексуальное общение, тем более что, подобно многим представителям знати (Клейн 2000: 478–480), в сексуальном общении он чувствовал себя гораздо свободнее с простыми людьми, а из простонародья ему было проще общаться с парнями, чем с девицами. Процитируем «Гисторию о царе Петре Алексеевиче», написанную по живым воспоминаниям его дипломатом князем Б. И Куракиным. Вот как Куракин описывает времяпровождение недавно женившегося молодого царя: «Многие из ребят молодых, народу простого, пришли в милость к его величеству, а особливо Буженинов, сын одного служки Новодевичьего монастыря, также и Лукин, сын одного подьячего новгородского, и многие другие, которые кругом его величества были денно и ночно. И от того времени простого народу во все комнатные службы вошли, а знатные персоны отдалены. И помянутому Буженинову был дом сделан при съезжей Преображенского полку, на котором доме его величество стал ночевать и тем первое разлучение с царицею Евдокиею началось быть. Токмо в день приезжал к матери во дворец, и временем обедовал во дворце, а временем на том дворе Бужениного» (Куракин 1993: 77–78). Павел Иванович Ягужинский
Павел Иванович Ягужинский
Таким образом, первую разлуку Евдокии с молодым царственным супругом вызвала не Анна Монс, как принято везде трактовать, — разлучником был русский сержант Моисей Буженинов. Это у него ночевал царь-новожен, убегая от постылой молодой. В этом контексте предшествующее появление Меншикова при нем в качестве особого друга становится понятным. Позже в его денщиках появился Павел Ягужинский, литовец, сын учителя школы органистов, которого канцлер Головин подсунул Петру специально чтобы уменьшить влияние Меншикова. Ягужинский начал свою карьеру в Москве с чистильщика сапог, причем иногда промышлял и другими занятиями, о которых брауншвейгский резидент в Петровской России Фридрих Христиан Вебер пишет, что «чувство приличия запрещает (ему) распространяться о них» (Weber 1723). Ягужинский быстро стал любимцем царя и через несколько лет был уже генерал-прокурором Сената. Может быть, поэтому злые языки говорили, что в основе успехов — «содомский грех» с царем. Царь не любил спать один. Дома в отсутствие жены он клал с собой первого попавшегося денщика, и Нартов («повествование» 27) объясняет это боязнью припадков, поскольку у царя была привычка спать, положив обе руки на плечи денщика, то есть в обнимку: «Государь поистине имел иногда в ночное время такие конвульсии в теле, что клал с собою денщика Мурзина, за плеча которого держась, засыпал, что я и сам видел». Конечно, царь мотивировал приближенным это свое пожелание боязнью конвульсий, а чем же еще? (Участник Азовского похода Прокофий Мурзин дослужился до чина полковника.) За городом, когда Петр укладывался на послеобеденный отдых, он приказывал одному из денщиков ложиться на землю и использовал его живот как подушку. Перед тем денщик не должен был есть, так как при бурчании в его животе царь вскакивал и принимался колотить денщика (из сообщений, собранных Штелиным). В 1722 г. саксонскому художнику Данненгауэру было поручено сделать портрет одного из царских денщиков, изобразив его совершенно голым. Он очень любил целовать мужчин — так денщика Афанасия Татищева зацеловывал до ста раз. В дневнике голштинского камер-юнкера Ф. В. Берхгольца под 1721 годом содержатся сведения о поступлении к царю в денщики юного Василия (Поспелова). Этот денщик, обладая порядочным голосом, был взят из певчих царского хора, а поскольку царь сам любил петь в хоре и всякий праздник стаивал на клиросе вместе с простыми певчими, он приметил среди них Василия, и юноша так приглянулся государю, что тот без него и минуты не мог прожить: по сто раз на дню гладил его по голове, целовал, а важнейших министров своих заставлял дожидаться, пока он наговорится с любимчиком. «Удивительно, как вообще большие господа могут иметь привязанность к людям всякого рода. Этот человек низкого происхождения, воспитан как все прочие певчие, наружности весьма непривлекательной и вообще, как из всего видно, прост, даже глуп, — и несмотря на то, знатнейшие люди в государстве ухаживают за ним» (Берхголъц 1993: 178–179). Берхгольц удивляется… Наивный Берхгольц. Голштинцы в России всегда были несколько туповаты. В депеше от 6 марта 1710 г. датский посланник Юст Юль испрашивает дворянского звания для одного датчанина из меншиковской свиты, который красив собою и мог бы оказать царю некоторые услуги. Царь с особым любопытством относился к мужским половым органам и в 1717 г. лично внес в церемониал своего Всепьянейшего собора обряд очень детального удостоверения в принадлежности избираемого папы к мужскому полу. А в 1720 г., устроив шутовскую свадьбу «папы», Петр поместил новобрачных под специальный полог, в котором была проделана дыра для наблюдения за их брачной ночью. Когда в 1718 г. Петр с супругой был в Берлине, как повествует маркграфиня Вильгельмина Байретская, король показывал ему античные статуэтки, и римский божок с эрегированным членом столь понравился царю, что он подозвал Екатерину и предложил ей поцеловать статуэтку. Екатерина из приличия уклонилась от этого приглашения. Петр грубо крикнул ей: «Кор ab!» (Голову долой!). Она повиновалась. Потом он обратился к королю с просьбой уступить ему этот раритет (так что вещица поступила, видимо, в Кунсткамеру и сейчас, вероятно, находится в Эрмитаже). Я уже говорил о свирепости, с которой царь относился к покушениям на свое достоинство супруга. Только один раз царь пожалел своего соперника и только один раз пощадил. Пожалел он красавца Виллема Монса. После вынесения смертного приговора он зашел к нему в камеру и сказал по-немецки: «Мне очень жаль тебя лишиться, но иначе быть не может». А пощадил он совсем другого. Это был французский авантюрист Франциск Гильом де Вильбуа, которому приписывается рукопись — якобы мемуары о его похождениях (источник во всяком случае не позже ближайших полутора-двух десятилетий после смерти Петра). Став в России адъютантом царя, он был послан с письмом к царице. По дороге, чтобы согреться, выпил изрядно водки. Очутившись в спальне и увидев в раскрытой постели полунагую женщину, он потерял самообладание и набросился на нее, невзирая на ее крики и присутствие фрейлины. Екатерина при этом пострадала не только от насилия, но и от физиологических особенностей Вильбуа. Чтобы исцелить повреждения, потребовалась помощь хирурга. Несмотря на это, Петр отнесся к происшедшему философски: «Это животное действовало бессознательно, значит, оно невинно, но для примера пусть его закуют в кандалы на два года». В реальности пылкий авантюрист отсидел только шесть месяцев. Помилованный, он, заботами царя, женился на дочери пастора Глюка, у которого воспитывалась Екатерина, и стал почти свояком царя. При дочери Петра царице Елизавете он уже был контр-адмиралом и комендантом Кронштадта (Villebois 1853: 1–15). Учитывая, с какой заинтересованностью царь относился к вы дающимся телесным особенностям и с какой симпатией он воспринимал мужское достоинство (даже заставлял Екатерину целовать статуэтку), объяснить его непонятное снисхождение к преступлению Вильбуа можно только внезапной симпатией царя к самому авантюристу, столь внушительно оснащенному и столь смело пускающему свое орудие в ход. В своих мемуарах Вильбуа, служивший у царя адъютантом и хорошо его знавший (или некто, хорошо знавший Вильбуа), пишет о «припадках бешеной страсти» государя, во время которых «для него не было различия возраста и пола» (Villebois 1853: 149). Это не было для Вильбуа сногсшибательным открытием. Хотя Европа тогда относилась к «ненатуральным прелюбодеяниям» куда строже, чем Россия, не надо думать, что Петр был одинок среди коронованных персон и полководцев своего времени в сексуальном восприятии своих любимцев. Правда, Людовик XIV не был к этому склонен, но его генералы и маршалы были почти сплошь завзятыми гомосексуалами — Людовик герцог Вандомский, Людовик принц Конде, герцог Клод де Виллар, Франсуа герцог Люксембургский, принц Евгений Савойский (перешедший на сторону Австрии). Брат короля Филипп Орлеанский, известный под именем Месье, любил появляться в дамских туалетах и окружал себя любовниками. Вильгельм III, король Англии и штатгальтер Нидерландов, которого Петр очень почитал, был известен как гомосексуал. Его фаворитами были Уильям Бентинк лорд Портлэнд и Арнольд Юст ван Кеппель лорд Олбермарл. Наконец, главный враг Петра король Швеции Карл XII был сугубо гомосексуален — он совершенно не знал женщин, и его любовниками были Аксель Вахтмейстер, принц Максимилиан Вюртембергский и генералы Реншельд и Стенбок (Garde 1969). Когда Петр Первый заимствовал из шведского кодекса запрет на мужеложство (первоначально только для военных), он вряд ли знал, что в реальности запрет не касался самого короля и его генералов. Тем не менее он и сам вряд ли собирался неукоснительно следовать этому запрету. Но во всяком случае, вводя запрет, он поступал вопреки своим личным вкусам и интересам, исполняя свой гражданский долг, как он его понимал, — цивилизовать Россию. В Европе принято запрещать — запретим и мы. Найдутся верные слуги проследить за исполнением — Алексашка Меншиков, Пашка Ягужинский, Моисей Буженинов, Афанасий Татищев, Василий Поспелов, Прокофий Мурзин. Особенно ревностным гонителем мужеложников стал князь Меншиков. Первое наказание за «ненатуральные прелюбодеяния» появилось в 1706 г. в «Кратком артикуле» князя Меншикова — предусмотрены были кары за совокупления если «муж с мужем» и «которые чинят блуд с ребятами». Они были наказуемы по-европейски жестоко — сожжением на костре. Но никого не сожгли. Через 10 лет Петр смягчил это наказание — в его воинском уставе 1716 г. за это преступление вместо смертной казни вводится телесное наказание, а смерть или вечная каторга на галерах — лишь при насилии. Сделал ли бы он еще через 10 лет шаг в сторону дальнейшего смягчения, сказать трудно — в 1726 г. он был уже год как мертв. Запрет мужеложства распространялся в России лишь на солдат и офицеров. Остальным грозили только церковные кары. Но даже они совершенно не касались употребления крепостных и холопов. С ними можно было иметь сношения любым способом, угодным господину. Когда в петровский синод поступило дело одного монаха, обвиненного в сожительстве со своим юным слугой и монах сознался в содеянном, Священный Синод постановил, что, коль скоро пострадавший принадлежит господину, тот вправе употреблять его, как ему угодно, однако в Синоде приватно посоветовали монаху отделаться от мальчика (Villebois 1853: 83–84). Только в 1832 г., при Николае I, запрет был распространен на все население, но мужеложство теперь наказывалось не телесным наказанием, а лишением всех прав состояния и ссылкой в Сибирь на 4–5 лет. В 1903 г., при Николае II, последовало дальнейшее смягчение: тюремное заключение не менее 3 месяцев, и лишь если мужеложство совершено с насилием или по отношению к несовершеннолетним — от 3 до 8 лет. Нынешние российские власти верны петровским заветам. В Европе отменяют уголовное преследование гомосексуалов — отменяем и мы. Его величество Петр Алексеевич наверняка бы одобрил. По многим основаниям. Он ведь был зело разносторонний реформатор и жизнелюб. Таким его и воссоздал Пушкин, не всегда постигая сам двусмысленность своих образов. У него изваянный в бронзе царь гоняется по ночному Петербургу за бедным Евгением. Покарать за дерзкие слова? Ну, современники Петра могли бы примыслить разные причины, по которым царь мог захотеть поближе познакомиться с этим молодым человеком — так что, куда тот стопы ни обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал.
Содомиты вокруг Пушкина
Новый облик поэта
Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит», — отозвался Пушкин о своем портрете работы Кипренского. Почти все портреты ему льстят — в жизни он был очень некрасивым. Судя по сличению с посмертной маской, ближе других к реальности потрет работы Линева. «Лицом настоящая обезьяна», — сказал Пушкин о себе в юношеском стихотворении на французском «Mon portrait». «А я, повеса вечно праздный, потомок негров безобразный», — характеризовал он себя в послании к красавцу Ф. Ф. Юрьеву. Его возлюбленная Долли Фикельмон писала: «невозможно быть более некрасивым — это смесь обезьяны и тигра». Увидев его на балу, мадам М. К. Мердер воскликнула в душе: «Какой урод!» «Пушкин был собою дурен», — подтверждает брат поэта Лев (Губер 1923: 22; Последний год 1990: 423). Было немало дурных черт и в его характере. Прижизненная портретная лесть переходила в посмертное приукрашивание и приглаживание облика поэта биографами ради создания благостного образа классика. В царской России он должен был оказаться благонамеренным и безусловно пристойным, не посягающим ни на религию, ни на мораль, ни на основы государственного порядка. Словом, памятником не рукотворным. При советской власти он, естественно, должен был оказаться свободолюбивым борцом с царским режимом, выступать атеистом и опять же быть образцом высокой морали в быту. Памятник по-прежнему обливался патокой, только другого сорта. Приторность не исчезала, и все биографии напоминали школьные учебники, которые умеют прочно и надолго отбивать вкус к литературе. В российской и советской традиции были очень добро совестные исследования биографии и творчества поэта (Щеголев, Сергиевский, Томашевский, Цявловский, Эфрос и др.), но в целом наше пушкиноведение было крайне односторонним. Для пушкинистов Пушкин был чем-то вроде номенклатурной персоны, чьей личной жизни можно было только издали завидовать, источая казенное умиление или искреннюю любовь. Иной подход возник в исследованиях непрофессионалов, людей не являющихся литературоведами, историками литературы по профессии. Уже философ В. В. Розанов в 1899 г. в «Заметках о Пушкине» восстал против казенного умиления и заметил, что Лермонтов или Достоевский ночами трудились над своими произведениями, а вот Пушкин ночи напролет играл в карты, если не участвовал в попойках с девицами легкого поведения. Из биографов писатель В. В. Вересаев (1924) первым возмутился: «Скучно исследовать личность и жизнь великого человека, стоя на коленях — обычная поза биографа. Скучно и нецелесообразно… Пушкин был натура очень сложная: по-видимому, в душе его немало было разложения, зияли чернейшие провалы, много было и хаоса, и зверя» (Вересаев 1999: 236). В 1936 г. в «Новом мире» появилась «Жизнь Пушкина» символиста Г. И. Чулкова, через два года напечатанная отдельной книгой. В книге этой была попытка представить Пушкина живым человеком со всеми страстями, с донжуанским списком и трезвым взглядом на жену, которая его не любила и рвалась к светским удовольствиям. Конечно, эта работа была сильно исковеркана цензурой (полный текст вышел только в 1999). Но уже то, что эта работа всё-таки вышла тогда в свет, было чудом. В рецензиях ее называли «опошленной». Скандал наделал в 1976 году Андрей Синявский, который под псевдонимом Абрама Терца выпустил в эмиграции книжку «Прогулки с Пушкиным». В ней он осмелился сказать, что Пушкин вбежал в литературу на тонких эротических ножках. Пушкин А. С., 1836–1837 гг.
Портрет работы И. Л. Линева
Пушкин А. С., 1836–1837 гг.
Портрет работы И. Л. Линева
В последние десятилетия пушкиноведческая традиция была и вовсе нарушена блестящим и смелым исследованием физика Л. М. Аринштейна «Пушкин. Непричесанная биография» (1989/ 1999). Пушкин предстает в ней живым человеком — смолоду неустанным соблазнителем девиц и чужих жен, от крестьянок до великосветских дам, в зрелом возрасте ревнивым и нелюбимым мужем молодой жены-красавицы. Жениться ему было нелегко, многие ему отказывали: он был некрасив и несолиден. Сначала и красавица Гончарова ему отказала. В конце концов согласилась, но не по любви. Далее, в молодости это был преследуемый и дерзкий обличитель сравнительно либерального царя Александра, спасаемый от расправы супругой царя, которую обожал. Но позже это был уже обласканный и благонамеренный фаворит царя Николая (Николая Палкина!), особенно благосклонного к красавице-жене поэта. И всё это отражалось в его творчестве! Иначе вырисовывается и гибель поэта. Дантес был обычным светским волокитой — таким же, каким был сам Пушкин в молодости, с тем же кодексом моральных (или аморальных) правил. В Наталью Гончарову- Пушкину Дантес был действительно влюблен без памяти. Пушкин злился на него, поскольку Наталья Николаевна только терпела своего мужа и была, видимо, в красавца-кавалергарда тоже влюблена. Несчастный поэт готов был вызвать на дуэль любого (и вызывал!). Не царская камарилья травила его — наоборот, и царь, и его приближенные, и барон Геккерен делали всё, что было в их силах, чтобы предотвратить дуэль. Да и Дантес — он ради мира даже женился на старшей сестре Натальи Николаевны и стал свояком Пушкина. Ядовитый анонимный памфлет, намекавший, что поэту наставили рога, вовсе имел в виду не Дантеса, а царя, и был написан не бароном Геккереном, а завистливым другом Пушкина Александром Раевским. Царь жестоко (и с точки зрения кодекса дворянской чести несправедливо) расправился с Дантесом и Геккереном: первый был разжалован в солдаты и первоначально приговорен к повешению, затем выслан из страны, второй лишился надолго карьеры дипломата. Появившийся недавно охальный журнал «Дантес» (пока вышел только один номер) по весомости и доказательности не идет ни в какое сравнение с трудом Аринштейна, но добавляет множество мелких штришков в создание новой, более реалистической картины жизни и облика поэта, как и роли Дантеса в его трагедии. Приведена масса свидетельств проказливости и злонравия поэта, непредсказуемости его поведения, а также приметы его двойной морали: что он считал позволительным для себя, он не склонен был допускать для других. Как и многие гениальные натуры, он был часто несносен в общежитии. Теперь уже можно более объективно рассмотреть и отношение Пушкина к содомскому греху. Нет, Пушкин, несомненно, был завзятым ревнителем любви к женщинам, и нет ни малейших оснований подвергать это сомнению. Даже такой охотник увеличивать число содомитов, как Ротиков, готовый причислять к ним любого по самым ничтожным косвенным основаниям («На первый взгляд полное алиби,… а всё же как-то вот…» — с. 116), оставляет Пушкина вне подозрений («на шевелящийся в душе читателя вопрос ответим решительным: нет. Уверены, что нет». — с. 278). Но обилие содомитов вокруг поэта и его разнообразные с ними связи (дружбы, ссоры) должны были как-то сказаться на его восприятии самой этой склонности, выработать какое-то отношение к ней, а это могло найти отражение в творчестве. А может быть, и не только в творчестве? Поэтому анализ этого окружения и его связей с ним может добавить некие черточки к облику поэта.
Канва биографии
 А. С. Пушкин.
Гравюра художника Е. Гейтмана
А. С. Пушкин.
Гравюра художника Е. Гейтмана
Для последующего анализа напомним общую канву всем известной биографии поэта. 1. Московское детство. Пушкин происходит из древнего, но обедневшего дворянского рода. Несколько деревенек с сотнями душ крепостных у них всё-таки имелись. Отец Сергей Львович был потомком бояр, мать — внучка царского арапа Абрама (Ибрагима) Ганнибала. Хозяйство вели безалаберно. Александр родился в 1799 г. в Москве. Гувернерами были французы, да и библиотека отца состояла из французских книг вольнолюбивого и фривольного века Просвещения. Сын уже в детстве читал Вольтера, Парни и более эротических авторов. Русской речи учился у своей бабушки и няни. В семье часто бывал дядя Александра Василий Львович, поэт, известный своей фривольной поэмой «Опасный сосед». 2. Лицейская юность. Шесть лет — с 1810 по 1816 — Пушкин провел в Сарскосельском лицее (тогда еще это село под Петербургом называлось своим исконным именем — Сарским, а не Царским). Это было привилегированное заведение, только что созданное. Порядки были там весьма либеральные (без телесных наказаний, обращение к воспитанникам на «вы»), но строгие. У каждого воспитанника своя комната, но с окошком для надзора. Воспитанников приучали к самостоятельности мышления и независимости поступков. Французскую литературу преподавал, как ни странно, родной брат «друга народа» Марата — Давид Иванович Будри, музыке обучал Теппер де Фергюссон, учившийся ей в Вене у того же учителя, который обучал и Бетховена. Еще в Лицее Пушкин стал сочинять стихи, среди товарищей — эротические, для рукописных журналов и более широкого круга — любовные, а также с философскими и гражданскими мотивами. Еще лицеистом познакомился с известными литераторами Жуковским, Батюшковым, Вяземским и Карамзиным, а на переводном лицейском экзамене понравился Державину, живому классику Был заочно принят в «Арзамас» — литературное общество во главе с Жуковским. У Карамзиных познакомился и подружился с гусарским офицером Чаадаевым. Таким образом, он сразу оказался в центре литературной жизни. Последний год Лицея дружил с гусарами. 3. Петербургская молодость (1817–1820). Пушкин мечтал поступить на военную службу в гвардию, но это требовало больших расходов. Пришлось устроиться в Коллегию иностранных дел переводчиком. Одновременно с ним присягу принес Грибоедов. Родители тоже переехали в Петербург. Александр службу посещал редко, вел светскую жизнь, щегольски одевался, часто участвовал в дружеских пирушках и попойках, был завсегдатаем театра и отнюдь не чурался дам полусвета и сексуальных эскапад. Имел много ссор с вызовами на дуэль. Стрелялся или почти стрелялся с собственным дядей Ганнибалом, с Корфом и Кюхельбекером, с Тургеневым… «Арзамас» распался, его левое крыло состояло теперь из людей, у которых обозначилась тяга к освободительному движению, к тайным политическим обществам. Таковы были друзья Пушкина Чаадаев, Николай Тургенев, его однокашники Пущин и Кюхельбекер. В это время Пушкин и написал свою вызывающую оду «Вольность» и антикрепостническое стихотворение «Деревня», ряд эпиграмм на власть имущих. Они расходились в списках и дошли до царя. Решено было сослать дерзкого молодого человека на Юг, ссылку оформили как перевод по службе. Перед отъездом Пушкин закончил свою первую большую поэму «Руслан и Людмила». Жуковский подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя». 4. В ссылке на Юге (1820–1824). Прибыв в Екатеринослав, Пушкин искупался в Днепре и простудился. Проезжавшая мимо семья генерала Н. Н. Раевского захватила больного с собой на кавказские горячие воды, оттуда в Крым. Получив немало впечатлений, поэт отправился в Кишинев, где к тому времени обосновалась канцелярия его начальника. Здесь Пушкин связался с участниками Южного тайного общества — генералом Орловым, Пестелем, В. Ф. Раевским, С. Г. Волконским. Однако в члены общества они его не принимали, так как он был под усиленным надзором властей и к тому же обладал несдержанным характером. Продолжалась цепь его дуэлей. В 1821 г. в Кишиневе создана «Гавриилиада», озорная эротическая поэма на библейскую тему — осмеяно непорочное зачатие. С 1823 г. поэт явно переживал духовный кризис. В его стихотворениях чувствуется мрачное настроение и разочарование в людях. Революции в Европе, которым он симпатизировал, угасли и подавлены. Призывы к свободе наталкиваются на равнодушие толпы. Начались разоблачения и аресты в России. В 1822–23 гг. разгромлен кишиневский кружок вольнодумцев. В. Ф. Раевский арестован, Орлов под следствием. Личная судьба также складывается неудачно. С 1823 года южные губернии возглавляет М. С. Воронцов, и Пушкин переезжает в Одессу. Жизнь в Одессе несколько напоминает Петербург, есть опера, да и дамы более светские, чем в Кишиневе. Пушкин сближается с А. Н. Раевским, сыном генерала, человеком честолюбивым и озлобленным ввиду несбывшихся надежд. Полагают, что его образ отразился в стихотворении «Демон». С Воронцовым отношения не сложились. Он видел в Пушкине мелкого чиновника и ожидал подобострастия, поэзию не ценил. А Пушкин уже создал «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан» и «Цыган» — эти поэмы читались всей грамотной Россией. Пушкин написал злую эпиграмму на Воронцова («Полу-милорд, полу-купец…»). Воронцов писал на него доносы — что он «слишком проникся вредными началами», а в Одессе находит много поклонников. Да еще было вскрыто письмо Пушкина брату, где он писал, что берет уроки «чистого афеизма» (атеизма) у одного англичанина. Решено было удалить Пушкина в глушь, в деревню, в его имение в Псковской губернии. 5. Ссылка в селе Михайловском (1824–1826). В Михайловском жили его родители. К ним под надзор его и отправили. Родители были возмущены его поведением — тем, что он навлек подозрение на всю семью. Из-за ссор с отцом Пушкин уже готов был просить сослать его в какую-нибудь крепость. Но осенью родители уехали, а в соседнем сельце Тригорском, у Осиповых, он нашел дом, полный молодежи. Пушкин возобновил свои романы с женщинами, а общую картину дома Осиповых можно увидеть в доме Лариных в «Евгении Онегине». В Михайловском поэт много читал. В эти годы написана драма «Борис Годунов». Это когда он ее окончил, он прыгал и бил в ладоши, крича: «Ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!!» Наряду с любовными стихотворениями и центральными главами «Евгения Онегина» была написана и элегия «Андрей Шенье» — о поэте, казненном во время террора якобинцев. 6. Москва и царская милость (1826–1827). В условиях подавления мятежа на Сенатской площади, следствия по делу декабристов и расправы с ними Пушкин ждал ужесточения своей участи, тем более, что его стихотворение «Андрей Шенье» было воспринято как отклик на царскую расправу. Озабоченный отношением общества к себе после расправы, царь, однако, хотел использовать имя поэта, привлечь его на свою сторону. Он вызвал поэта в Москву, где прошла коронация, и дал ему аудиенцию. Выслушав честное признание, что будь поэт в столице, он был бы в рядах бунтовщиков, царь простил его и вернул свободу, обещав сам быть его цензором. В Москве Пушкин сдружился с «любомудрами», «архивными юношами», служившими в архиве министерства иностранных дел, стал вместе с Погодиным выпускать журнал «Московский вестник». 7. Разъезды (1827–1830). Весной 1927 г. Пушкин уехал в Петербург. Поселившись здесь, он часто ездит-то в Москву, то в Михайловское, а весной 1928 г. — на Кавказ, в Арзрум (в действующую армию, воюющую против турок) и в Тифлис. С 1826 по 1830 г. он неоднократно сватается, всё пытается создать семью, постоянный очаг. В 1830 г. это с большим трудом удается — он помолвлен с Натальей Николаевной Гончаровой, 18-летней красавицей без приданого. Один из разъездов осенью 1830 г. занес его в Болдино, отдаленное нижегородское имение Пушкиных. Это была для него чрезвычайно плодотворная осень. За три месяца написаны «Маленькие трагедии», «Повести Белкина» и три десятка стихотворений. В начале 1831 г. Пушкин венчается. 8. Семейная жизнь (1831–1837). Совместная жизнь с женой была нелегкой. Поэт привык к вольному времяпровождению, к работе по вдохновению, с творчеством на первом плане. А молодая жена ожидала внимания и светских развлечений, которые поэту претили. От разваленных имений доход был невелик, над Пушкиным висели огромные карточные долги, а никакие гонорары не могли покрыть расходы на светскую жизнь. К тому же рождались дети, требовались средства на домашнее хозяйство. Красоту Натальи Николаевны при дворе оценили, ее стали приглашать на все придворные балы, сам царь был не прочь за ней поухаживать — «как офицеришка», по выражению Пушкина. Пушкин, работавший над историей Пугачевского бунта и «Капитанской дочкой» и много ездивший для сбора материалов, тревожился за жену и за свою честь. В письмах он умолял жену не поддаваться на ухаживания «кобелей» и не кокетничать с царем. В это время написан «Медный всадник», один из мотивов которого — конфликт с царем, отнявшим у бедного Евгения его Парашу. 9. Последняя дуэль. Осенью 1834 года с Натальей Николаевной познакомился молодой красавец-кавалергард Жорж Дантес, приемный сын нидерландского посланника барона Геккерена. Он стал настойчиво уха живать за ней, уверяя в своей любви и умоляя утолить его страсть. Наталье Николаевне было лестно и приятно внимание кавалергарда, но она отвечала, что останется верна своему мужу — как Татьяна в «Евгении Онегине». По распространенному представлению, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль и был убит. На деле всё было не совсем так. Первая ссора была улажена, но позже как раз Дантес был вынужден вызвать Пушкина — и не по прямому поводу своих ухаживаний. Ревнивый Пушкин, конечно, сразу же возненавидел Дантеса, но вначале считал, что незачем привлекать внимание света к этим приставаниям. Однако в ноябре 1836 г. в Петербурге был распространен пасквиль, причислявший Пушкина к рогоносцам и тонко (косвенно) намекавший на внимание царя к его жене и подобострастную терпеливость Пушкина. Пушкин подозревал Геккерена в авторстве (как теперь ясно, ошибочно). Он тотчас послал вызов Дантесу, чтобы отвлечь общее внимание от конфликта с неприступным соперником — царем (его-то не вызвать). Стремясь спасти Дантеса и свою карьеру, Геккерен сообщил, что Дантес ухаживал вовсе не за Натальей, а за ее старшей сестрой Екатериной. Дантес, который действительно (прикрытия ради) оказывал внимание и Екатерине, сделал ей предложение и, хоть та и была старше его на 4 года, бедна и не очень красива, срочно женился на ней. Он стал родственником Пушкина, но тот не примирился с ним, хотя и продолжал считать главным злодеем Геккерена и лелеял идею мести именно ему (это известно из его прямых высказываний). Прошло несколько месяцев. Представление об авторстве Геккерена было поколеблено, но возникло подозрение в его причастности к распространению сплетни об интимной связи Пушкина с другой сестрой жены — Александриной (Скрынников 1999). Неожиданно Пушкин получил аудиенцию у царя и прямо сказал царю, что подозревал и его самого в ухаживании за Натальей Николаевной. Царь уверял в своих чисто отеческих чувствах и, по-видимому, согласился с гипотезой о Геккерене как инициаторе козней — ему было выгодно отвлечь от себя негодование поэта (он и позже называл Геккерена канальей). Это развязало Пушкину руки для мести. На другой день Пушкин послал чрезвычайно оскорбительное письмо Геккерену. Поскольку Геккерен как дипломат не мог вызвать Пушкина на дуэль, вызов (в защиту оскорбленного отца) должен был сделать его приемный сын Дантес. Дуэль состоялась 27 января 1837 года на окраине Петербурга, на Черной речке. Рана по тем временам была смертельной. В ночь на 29 января Пушкин умер. 10. Эпилог. Есть данные полагать, что вдова Пушкина очень быстро утешилась и позже действительно стала любовницей царя, обеспечив царские милости своему новому мужу Ланскому, приятелю Дантеса (Чулков 1999: 354), а Дантес прожил за рубежом с ее сестрой до смерти последней.
«Донжуанский список» Пушкина
Прежде чем рассматривать отношение Александра Сергеевича к содомскому греху, надо с самого начала констатировать, что любовь к женщинам составляла с юности его неотъемлемую черту, порождая страстную и ненасытную жажду поэта к любовным наслаждениям, следами чего являются его многочисленные любовные признания в стихах (Губер, 1923; Толмачева, 1996; Аринштейн, 1999: 5–95; Скрынников, 1999: 42–51). Но характер этой страсти с течением времени изменялся. Аринштейн заботливо собрал свидетельства раннего полового созревания Александра Пушкина, соответствующего его африканским генам и африканскому темпераменту. Пушкин вырастал как молодой Дон Жуан, а легенда о Дон Жуане, замечает исследователь, не случайно возникла в Андалузии — на стыке африканской и европейской культур. Уже в тринадцать лет Пушкин пишет любовные стихи, в четырнадцать-пятнадцать влюбляется то в Екатерину Бакунину, то в Наталью Кочубей. Однокашники иронизировали над этой пылкостью. С. Комовский отмечал, что «от одного прикосновения к руке танцующей, во время лицейских балов, взор его пылал, он пыхтел, сопел, как ретивый конь…». М. Корф подтверждал: «В Лицее он всех превосходил чувственностью, а после, в свете, предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. Должно дивиться, как и здоровье, и талант его выдержали такой образ жизни, с которым естественно сочетались и частые гнусные болезни… У него господствовали только две стихии: удовлетворение плотским страстям и поэзия, и в обеих он ушел далеко» (Губер 1923: 20). По окончании Лицея он оправдывал характеристику Корфа. Подтверждения можно вычитать в письмах его друга А. И. Тургенева к Вяземскому: 18 декабря 1818 г.: «Сверчок (это его кличка в «Арзамасе». — Л. К.) прыгает по бульвару и по борделям». Сам Пушкин в стихотворном послании Мансурову (1819) пишет о расставшейся со школой девице, которая «на бархат ляжет пред тобой/ и ножки враз раздвинет» (II, 80), а в послании Юрьеву (1819) возглашает:Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и бордель,
Где с громким смехом сладострастье
Ведет нас пьяных на постель (II, 95).
Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхалъны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас! (II, 420).
Но в Кишиневе, знаешь сам,
Нельзя найти ни милых дам,
Ни сводни… (II, 292).
Христос Воскрес, моя Ревекка!
Сегодня следую душой
Закону Бога-человека,
С тобой целуясь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцелуй я не робея
Готов, еврейка, приступить —
и даже то тебе вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить. (II, 186)
Где муки, где любовь? Увы! в душе моей
Для бедной легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени (III, 20).
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры… (III, 183)
Увы! напрасно деве гордой
Я предлагал свою любовь!
Ни наша жизнь, ни наша кровь
Ее души не тронет твердой.
Слезами только буду сыт,
Хоть сердце мне печаль расколет,
Она на щепочку нас. ыт,
Да и понюхать не позволит. (11, 452)
В начале жизни мною правил
Прелестный, хитрый слабый пол…
Как будто требовать возможно
От мотыльков иль от лилей
И чувств глубоких и страстей! (VI, 591–593).
Не чисто в них воображенье:
Не понимает нас оно,
И, признак Бога, вдохновенье
Для них и чуждо и смешно.
Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?
(Пушкин «Разговор книгопродавца с поэтом» — 11: 324).
 А. П. Керн, 1825 г. Неизвестный художник.
А. П. Керн, 1825 г. Неизвестный художник.
В письме от 13 июня 1823 г. Бестужеву он писал по поводу подлаживания к женской аудитории: «Впрочем, чего бояться читательниц? их нет и не будет на русской земле, да и жалеть не о чем» (XIII: 64). Той же Анне Керн он писал (13–14 августа 1925 г.): «Вы говорите, что я не знаю вашего характера. А на что мне ваш характер? Он мне вовсе ни к чему! — разве хорошеньким женщинам нужен какой-нибудь характер? Основное — глаза, зубы, ручки да ножки» (XIII: 543). В 1828 г. он даже напечатал подборку анекдотических замечаний о женском неравенстве мужчинам, разумеется, придав этому перечню оттенок осуждения: «В некотором Азиатском народе (это иудеи. — Л. К.) мужчины каждый день, восстав от сна, благодарят Бога, создавшего их не женщинами. Магомет оспаривает у дам существование души. Во Франции, в земле, прославленной своей учтивостью, грамматика торжественно провозглашала мужской род благороднейшим». Далее упоминается «славное решение, приписываемое Петру I: женщина не человек, курица не птица, прапорщик не офицер». И даже те, кто выдает себя за почитателей прекрасного пола, «не предполагают в женщинах ума, равного нашему». Иначе зачем они издают ученые книжки для дам, как будто для детей — «приноравливаясь к слабости их понятия». Автор вроде бы не одобряет этих мыслей, но подборка сделана очень старательно, а, учитывая приведенные свидетельства истинных убеждений поэта, в самом переложении скорее видится скрытое ехидство. Перечень назван странно: «Примеры невежливости» (Пушкин 1995: 91).
Преображение «Дон Жуана»
Аринштейн назвал так первую часть своей книги. Действительно, всякий раз, когда Пушкин влюблялся в девушку, достойную не только страсти, но и уважения, он начинал стыдиться своих прежних увлечений. Так было, когда он в 1820 г. влюбился в Марию Раевскую. Тогда он обращался в стихах к былым друзьям, «питомцам наслаждений» — «я вас бежал».И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златыя,
И вы забыты мной…
… Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило… (II, 146–147).
Теперь уж мне влюбиться трудно,
Вздыхать неловко и смешно,
Надежде верить безрассудно,
Мужей обманывать грешно (II, 228).
Остепенясь, мы охладели,
Некстати нам учиться вновь.
Мы знаем: вечная любовь
Живет едва ли три недели (II, 224).
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей любовный шепот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот (III, 222).
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты! (111: 108)
Уж так горбата, так мала,
Так неопрятна и писклива… (VI, 513).
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем…
с печальным завершением:
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим (111: 188).
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне, нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься всё боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле! (III: 213).
 Н. Н. Пушкина, 1842–1843 гг.
В. Гау.
Н. Н. Пушкина, 1842–1843 гг.
В. Гау.
Барятинский с Пушкиным собрались читать друг другу стихи в присутствии Натальи Николаевны и спросили у нее, не помешает ли это ей. «Читайте, читайте, — ответила она, — я не слушаю». Художник Карл Брюллов посетил Пушкина, тот ему демонстрировал детей, свое семейное счастье, которое Брюллов нашел «натянутым», и он прямо спросил Пушкина: «На кой черт ты женился?» Тот отвечал, что его не выпускали за границу, вот он от нечего делать и женился (Вересаев 1999: 289–290). Какая-то доля истины в этой отговорке есть. Его полушутливая сентенция о несерьезности женской любви, о легковесности женщин, об отсутствии у них глубины чувств вроде бы находила подтверждение. Это была основа, по крайней мере, для раздумий о друзьях и знакомых, чуждающихся женщин и избравших другую форму любви.
Отношения с религией и нравственностью
Чтобы правильно оценить отношение Пушкина к содомскому греху и содомитам, нужно рассмотреть динамику его взглядов на религию и нравственность. Воспитанный на Вольтере и французской легкой поэзии Просвещения, Пушкин имел полную возможность выработать в себе идеологию, соответствовавшую его африканскому темпераменту. Это предполагало скептическое отношение, по крайней мере, к некоторым религиозным догмам, служившим основами консервативной нравственности. Целомудрие, святость брака были для молодого Пушкина чем-то, достойным только осмеяния. Его борьба за живой русский язык включала в себя и допущение эротической лексики, в том числе и непристойной, обсценной. Бордели и дамы полусвета, откровенно именуемые блядями, поселились в его лицейских стихах. В 1821 г. в Кишиневской ссылке он написал «Гавриилиаду», в которой соединились эротика и вольтерьянство. Это изящная насмешка над религией. Черновики 1827 года содержат подробное и абсолютно нецензурное описание борделя: барышни на стук у дверейВстали, отодвинув стол;
Все толкнули [целку],
Шепчут: «Катя, кто пришел,
Посмотри хоть в щелку».
— «Что, хороший человек;
Сводня с ним знакома;
Он с блядями целый век,
Он у них как дома…» и т. д. (III: 77)
 А. Н. Вульф, 1828 г.
Художник А. И. Григорьев.
А. Н. Вульф, 1828 г.
Художник А. И. Григорьев.
Его либертинаж не ограничивался литературной эротикой и не сводился к визитам в публичные дома (то есть к слабостям и временным падениям), а имел основания в его жизненной философии. Об этом говорят его поучения студенту Алексею Вульфу, которого он называл своим «сыном в духе». А Вульф его — Мефистофелем. Вульф сформировался как изрядный циник. В своем дневнике (который он не предназначал для печати) Вульф записывал: «Молодую красавицу вчера я знакомил с техническими терминами любви; потом, по методе Мефистофеля (т. е. Пушкина. — Л. К.), надо ее воображение заполнить сладострастными картинами; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, кто им питать может их, и теряют ко всему другому вкус: им кажется всё пошлым и вялым после языка чувственности» (Вересаев, 1999: 218). Но расшатывание религиозных догм не могло остановиться на половой морали. Симпатии к революционным движениям в Европе влекли за собой и более решительную критику религии. В послании В. Давыдову с Юга (апрель 1821 г.) Пушкин писал:
Я стал умен, я лицемерю —
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что бог простит мои грехи,
Как государь мои стихи. (II, 178)
Ты богоматерь, нет сомненья,
Не та, которая красой
Пленила только Дух Святой,
Мила ты всем без исключенья;
Не та, которая Христа
Родила, не спросясъ супруга.
Есть бог другой земного круга —
Ему послушна красота,
Он бог Парни, Тибулла, Мура,
Им мучусь, им утешен я.
Он весь в тебя — ты мать Амура,
Ты богородица моя! (III, 45).
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью… (III, 102).
И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне Ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом —
И стерегут — и мстят мне оба —
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба (III: 651).
Но, развернув его суровые творенья,
Не мог я одолеть пугливого смущенья…
[Стихи бесстыдные] приапами торчат,
В них звуки странною гармонией трещат.
Картины [гнусного] латинского разврата… (III, 430).
Добра чужого не желать
Ты, боже, мне повелеваешь;
Но меру сил моих Ты знаешь —
Мне ль нежным чувством управлять?
Обидеть друга не желаю,
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
На всё спокойно я взираю:
Ни дом его, ни скот, ни раб,
Нелестна мне вся благостыня.
Но ежели его рабыня
Прелестна… Господи! я слаб!
(Десятая заповедь — II, 231).
Вежливый грех
Вокруг Пушкина в обществе было очень много людей, почти откровенно практиковавших гомосексуальные отношения — канцлер граф Н. П. Румянцев, министр юстиции И. И. Дмитриев, обер-прокурор Святейшего Синода и министр просвещения князь А. Н. Голицын, морской министр князь А. С. Меншиков, начальник Генерального штаба, а затем министр двора князь П. М. Волконский, князья В. П. Мещерский, П. В. Долгоруков и М. А. Дондуков-Корсаков (вице-президент Академии наук), а также министр просвещения и президент Академии наук граф С. С. Уваров, приятель Пушкина — Кишиневский вице-губернатор Ф. Ф. Вигель (у Пушкина есть эпиграммы на них), Л. М. Яшвиль (по Пушкину, «педераст и отъявленный игрок») и др. С маститым поэтом и министром юстиции И. И. Дмитриевым Пушкин был знаком с детства: как литератор Дмитриев знался с его дядей и отцом. Зайдя к Сергею Львовичу и увидев маленького Александра, Дмитриев воскликнул: «Ведь это настоящий арапчик!». На что мальчик, взглянув на рябое лицо гостя (он был со следами оспы) тотчас откликнулся: «По крайней мере, отличусь тем, что не буду рябчик!». Под 1811 годом Пушкин записал в набросках автобиографии: «Дядя Василий Львович. — Дмитриев, Дашков, Блудов». Вряд ли мимо любознательного и рано созревшего подростка прошли мимо слухи о необычных склонностях классика литературы. Позже Пушкин поссорился с Дмитриевым, но после нескольких лет прохладных отношений сошелся снова и сотрудничал до конца своих дней. Другой поэт, за которым известны гомосексуальные склонности и которого Пушкин считал своим учителем, это Батюшков. Он тоже бывал у Пушкиных дома, а позже посещал Пушкина в Лицее. Пушкин воспринял от него многое в стиле поэзии, считал его своим учителем и посвятил ему два стихотворных послания. Когда Батюшков, потрясенный смертью своего возлюбленного, сошел с ума (1822), Пушкин был очень огорчен. В 1830 г. он посетил его в приюте душевнобольных под Москвой. Начальник Генштаба князь Петр Михайлович Волконский (прототип Андрея Болконского у Льва Толстого) имел «вкусы против натуры», по запискам знакомой Пушкина Россет. В 1816 г. он жаловался царю на лицеиста Пушкина, назойливо вертевшегося вокруг него в театре. Впоследствии, став министром двора, он разрешил Пушкину, писавшему историю Петра I, ознакомиться с хранившейся в Эрмитаже библиотекой Вольтера. Потом они светски общались, Пушкин был у Волконского на балу. Малорослый А. Н. Голицын, друг детства Александра I, присутствовал как министр народного просвещения на выпускных экзаменах в Лицее. Как обер-прокурор Синода он основал Библейское общество в России и распространял благочестие в университетах. Но в 1823 г. его фаворит В. Н. Бантыш-Каменский, сын известного историка, попался на каких-то гомосексуальных приключениях, был сослан в Вятку, а перед тем назвал начальству других известных ему содомитов. В стихах Пушкина 1824 г. есть эпиграмма на Голицына:Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша!
Напирайте, Бога ради,
На него со всех сторон!
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он. (11: 127).
 С. С. Уваров, 1840 г. С.-Ф. Диц
С. С. Уваров, 1840 г. С.-Ф. Диц
«Уваров был человек, бесспорно, с блестящими дарованиями […], но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Уваров не имел в себе ничего аристократического, напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра 1), но оставшийся в сердце своем слугою; он не щадил никаких средств, чтобы угодить барину (Николаю 1). […] Не было ни одной низости, которой он не был в состоянии сделать». С ним Пушкин близко сошелся в обществе «Арзамас». Уваров восхищался стихами Пушкина и, посетив вместе с ним Московский университет, представил его студентам как «саму поэзию». В на чале 30-х годов он стал министром просвещения и выдвинул знаменитую формулу «самодержавие, православие, народность» (Соловьев иронизировал: «православие — будучи безбожником, самодержавие — будучи либералом, народность — не прочитав ни одной русской книги»). Поэзию Пушкина Уваров аттестовал как «истинно народную» и добивался избрания Пушкина почетным членом Академии наук. Он перевел на французский пушкинское стихотворение «Клеветникам России». Пушкин бывал дома у Уварова, обедал у него, посещал вечера. Но в глубине души Уваров недолюбливал поэта. Ему, царедворцу и вельможе, претила гордость и независимость Пушкина. Ссора разгорелась в 1834 г. Уваров, ведавший цензурой в России, был недоволен исключительным положением Пушкина, который получал разрешения на публикацию только лично от царя. Уваров решил это прекратить и распространил на Пушкина еще и обычную цензуру, сразу же вырезав некоторые стихи из «Анджело». Не понравилась ему и «История пугачевского бунта». В январе 1835 г. Пушкин записывает в дневник: «Уваров — большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом… Кстати, об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен…». «Дундуков» — это возлюбленый Уварова князь М. А. Дондуков-Корсаков, которого тот сделал вице-президентом. Об Уварове в этой записи сведения, что он дрова казенные крал, у министра Канкрина был на посылках, «начал блядью, продолжил нянькой» и т. п. (Пушкин 1995: 47). В это время Уваров предпринимал меры, чтобы завладеть наследством своего больного родственника по жене, графа Шереметева, хотел опечатать его дворец, но больной неожиданно выздоровел. Пушкин тотчас откликнулся одой «На выздоровление Лукулла», где отчехвостил жадного наследника. Уваров пожаловался Бенкендорфу. Пушкин в объяснении с напускным простодушием недоумевал, как мог Уваров принять на свой счет характеристики «низкого скупца, негодяя, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в домах знатных вельмож». В том же году Пушкин сочинил эпиграмму на Уварова, которая распространялась в списках:
В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят не подобает
Дундуку такая честь.
Почему ж он заседает?
Потому что ж… есть. (III: 388)
Но с этим милым городком
Я Кишинев равнять не смею,
Я слишком с Библией знаком,
И к лести вовсе не привычен.
Содом, ты знаешь, был отличен
Не только вежливым грехом,
Но просвещением, пирами,
Гостеприимными домами
И красотой не строгих дев!
Как жаль, что ранними громами
Его сразил Еговы гнев! (II, 291).
 Ж. Дантес-Геккерн, 1830-е гг.
Бенар с оригинала неизвестного художника.
Ж. Дантес-Геккерн, 1830-е гг.
Бенар с оригинала неизвестного художника.
Вот текст его письма Геккерену, написанного 21 ноября 1836 г., после двухнедельной отсрочки поединка с Дантесом, но до женитьбы Дантеса на Екатерине Гончаровой. «Барон! Прежде всего позвольте подвести итог тому, что произошло недавно. — Поведение Вашего сына было мне совершенно известно уже давно и не могло быть для меня безразличным; но так как оно не выходило из границ светских приличий и так как я притом знал, насколько жена моя заслуживает мое доверие и мое уважение, я довольствовался ролью наблюдателя, готового вмешаться, когда сочту это своевременным…. Случай, который в иное время был бы мне крайне неприятен, вывел меня из затруднения: я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло и воспользовался этим. Остальное вам известно. Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую и потешную, что моя жена, удивленная такою пошлостью, не могла удержаться от смеха, и чувство, которое, может быть, и вызывала у нее эта великая и возвышенная страсть, угасло в отвращении самом спокойном и вполне заслуженном. Но вы, барон, — вы мне позвольте заметить, что ваша роль во всей этой истории была не очень прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему выблядку или так называемому сыну. Всем поведением этого юнца руководили Вы. Это вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он осмеливался писать. Подобно старой развратнице, Вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о Вашем сыне; а когда, заболев сифилисом, он вынужден был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына. Вы видите, что я много знаю; но погодите, это не всё: я же говорю вам, что дело осложнилось. Вернемся к анонимным письмам. Вы, конечно, догадываетесь, что они Вас касаются… Я получил три экземпляра из десяти, которые были разосланы. Это письмо было сфабриковано с такой неосторожностью, что с первого же взгляда я напал на следы автора…» Письмо завершалось следующими словами: «Поединка мне уже недостаточно… и каков бы ни был его исход, я не почту себя достаточно отмщенным ни смертью вашего сына, ни его женитьбой… Я хотел бы, чтобы Вы дали себе труд самому найти основания, которые были бы достаточны для того, чтобы побудить меня не плюнуть вам в лицо и чтобы уничтожить самый след этого подлого дела, из которого мне легко будет составить отличную главу в моей истории рогоносцев. Имею честь быть, барон, вашим нижайшим и покорнейшим слугою А. Пушкин. 17–21 ноября 1836 г. (XVI: 396–397). Публично плюнуть в лицо дипломату — это и была запланированная Пушкиным скандальная месть. Царю, Жуковскому и другим удалось на время (на несколько месяцев) успокоить Пушкина, но после распространения сплетни о связи Пушкина со свояченицей, аудиенции у монарха и обнаружения добрачной беременности Екатерины от Дантеса гнев взыграл с новой силой, и 25 января 1837 г. Пушкин всё же послал свое письмо Геккерену, устранив обвинения в авторстве пасквиля (эта убежденность была поколеблена), введя некоторую гипотетичность в свои догадки о поведении барона («видимо», «вероятно») и слегка изменив концовку: «Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела хотя бы малейшую связь с вашей. Только под этим условием я согласился не давать хода этому грязному делу и не обесчестить Вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение. Я не хочу, чтобы моя жена выслушивала впредь Ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы Ваш сын после своего мерзкого поведения смел разговаривать с моей женой и — еще того менее — расточал перед ней казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто трус и негодяй. Итак, я вынужден обратиться к Вам с просьбой положить конец всем этим проделкам, если Вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь. Имею честь, барон…» (XVI, 407–408). Теперь он отказывается от конкретизации публичного скандала, но тон письма достаточно оскорбителен (о Дантесе: «выблядок», «заболев сифилисом», что не имеет подтверждений, о Геккерене: «старая разврат ница», «сводничали») и не оставляет путей отступления. То есть дуэль. Разумеется, с Дантесом вместо Геккерена. В обоих посланиях обращает на себя внимание одно странное обстоятельство, не замеченное всеми предшествующими исследователями. Пушкин смертельно оскорбляет Геккерена и Дантеса, он отыскивает выражения, которые бы уязвили их как можно больнее, но ни единым словом, ни намеком не задевает общеизвестную гомосексуальную связь обоих. Не задевает ее в обоих вариантах письма. А ведь в глазах общества это было бы наибольшим оскорблением дипломата и кавалергарда. Пушкин даже делает вид, что верит в слух о том, что Дантес незаконный сын («выблядок») Геккерена. Правда, он добавляет: «или так называемый сын», но это не может пониматься непременно как указание на любовника — вполне можно прочесть это и просто как ироническое отношение к новообретенному статусу приемного сына, маскирующему действительные отношения, какими бы они ни были (незаконного сына). Есть лишь одна деталь, которая может рассматриваться единственно как тонкий намек на бракоподобную связь четы Геккеренов — это заключительная угроза Пушкина внести это дело в его собственную историю рогоносцев. Кажется, никто из исследователей не понял ее смысла. А ведь ухаживая за женщинами, Дантес наставлял рога именно Геккерену. Другого смысла эта угроза не имеет. Но из посланного варианта письма она была убрана вместе с обвинением Геккерена в авторстве пасквиля. Почему же в своем «иду на вы» он не вменял широко в вину Геккерену гомосексуальную связь с Дантесом? Можно предположить, что упоминание о гомосексуальности Дантеса лишило бы смысла обвинение в его приставаниях к жене поэта, но многие гомосексуалы (да и сам Дантес) женаты, стало быть, бисексуальны и явно способны иметь любовные приключения с женщинами. Пушкин знал, что его друг Родзянко, «певец сократической любви», имел любовницу — Анну Керн. Быть может, Пушкин опасался предъявлять обвинение без точных доказательств? Но нужны ли для света дополнительные доказательства, когда двое взрослых самостоятельных светских мужчин живут вместе и один из них усыновил другого при живых родителях? Словом, остается только одно внятное объяснение: Пушкин не считал вообще обвинение в «содомском грехе» допустимым в данном случае и в данное время. Не считал это явление пороком. Это была для него простительная слабость («вежливый грех»), над которой можно было пошутить, можно было посмеяться за спиной на сей счет, даже зло посмеяться, — если уж разозлился, — но в серьезной борьбе бить по этому месту было нельзя. Почему? Не потому ли, что Пушкин, не видя в женщинах характер, ум и духовность, присматривался к людям, которые обходятся без женщин? Не потому ли, что не нашел понимания и покоя в браке с лучшей, как ему казалось, из женщин? Не потому ли, что Пушкин знал эту слабость (склонность к «сократической любви») за весьма приятными ему людьми, а может быть, и примеривал к себе возможность поисков услады для души в этом направлении? Когда Пушкин со своим секундантом Данзасом ехали в коляске на место роковой дуэли, им, будто нарочно, повстречался на Невском экипаж Борхов. Иосиф Борх — это тот самый граф, которого пасквилянты определили в «историографы ордена рогоносцев». Полный горьких мыслей о своем порушенном семейном очаге и несбывшихся надеждах на счастье, Пушкин, по воспоминаниям Данзаса, ехидно и меланхолически заметил о встреченном экипаже: «Вот две образцовых семьи: ведь жена живет с кучером, а муж с форейтором» (Щеголев 1987, 2: 172). Трудно сказать, чего здесь было больше — меланхолии или ехидства, но, возможно, и какая-то доля зависти.
Огонь мятежный
Таким образом, вокруг Пушкина было изрядное количество содомитов, и он хорошо знал их жизнь. Оставался ли он сам всегда в стороне? Первым товарищем в Лицее, с кем Пушкин познакомился, был крестник цесаревича Константина Костя Гурьев, курносый мальчик младше Пушкина на год. С ним Пушкин сдружился. Этот Гурьев был уже в 1813 году исключен из Лицея за мужеложство. Коль скоро мужеложство предполагает партнеров, был кто-то в паре с Гурьевым, признанный, видимо, не столь виновным, не инициатором. Через много лет (в 1829 г.) в письме царю Николаю великий князь Константин Павлович, куратор Лицея, упоминал Гурьева как «товарища известным писакам Пушкину и Кюхельбекеру» (Черейский, 1988: 123) и намекал на дурное влияние их друг на друга. Выросши, Гурьев был кавалергардом и секретарем русского посольства в Константинополе. Через 7 лет после лицея, в 1824 г., уже из Михайловского Пушкин пишет гусару Якову Сабурову, своему приятелю лицейских лет, стихотворное послание (возможно, так и не отправленное):Сабуров, ты оклеветал
Мои гусарские затеи,
Как я с Кавериным гулял,
Бранил Россию с Молоствовым,
С моим Чедаевым читал,
Как все забавы отклоня,
Провел меж ими год я круглый,
Но Зубов не пленил меня
Своею задницею смуглой. (11: 350)
Счастливый юноша, ты всем меня пленил
Душою гордою и пылкой и незлобной,
И первой младости красой женоподобной. (II: 422)
Не пленяйся бранной славой,
О красавец молодой!
Не бросайся в бой кровавый
С карабахскою толпой!
Знаю, смерть тебя не встретит;
Азраил среди мечей,
Красоту твою заметит —
И пощада будет ей!
Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда! (III: 163)
Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый,
Строен, легок и могуч, — тешится быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать. (111, 434)
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился… прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре. (III, 435)
Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись, навек ты мой;
Тот же в нас огонь мятежный,
Жизнью мы живем одной.
Не боюся я насмешек:
Мы сдвоились меж собой,
Мы точь в точь двойной орешек
Под единой скорлупой. (III, 411)
Другой Лермонтов
1. Загадочный классик
Борис Пастернак так оценил место Лермонтова в русской литературе: «Пушкин возвел дом нашей духовной жизни, здание русс ого исторического самопознания. Лермонтов был первым его обитателем. В интеллектуальный обиход века Лермонтов ввел глубоко независимую тему личности…. Все творчество Лермонтова живое воплощение личности…» (Пастернак 1958/1965: 632). Пастернак указал на бесспорное влияние Байрона, но отметил, что у Лермонтова это был не столько романтизм, сколько предвосхищение субъективно-биографического реализма по следующего времени. Действительно, насыщенность его стихов и даже прозы сугубо биографическими материалами чрезвычайно высока. Чуть ли не каждый герой и каждый эпизод находят свои прототипы в жизни поэта. При таких условиях изучение биографии и личности поэта приобретает особую важность. Однако здесь нас ожидают странные констатации. Несмотря на общеизвестность Лермонтова, классика русской литературы, лучшие специалисты разводят руками. Ираклий Андроников, знаменитый искатель и находчик литературных памятников, связанных с Лермонтовым, поделился своими впечатлениями от работы (1977: 632): «Мало-помалу вы понимаете, что, перелистывая стихи, писанные Лермонтовым в юные годы, вы поминутно задумываетесь, стремясь представить себе вдохновившее поэта событие. Вот — продолжение разговора, которого мы не знаем. Вот — ответ на упрек, которого мы не слышали. Или памятная дата, ничего не говорящая нам. В юных стихотворениях запечатлены «моментальные» состояния и настроения: недаром Лермонтов не хотел их печатать (и не мог! — Л. К.). До конца их понимали лишь те, кто был вполне посвящен в его жизнь и душевные тайны». Э. Г. Герштейн в наиболее часто цитируемой книге о Лермонтове пишет (1989): «В истории жизни и гибели Лермонтова есть какая-то тайна. Белые листы, корешки вырезанных страниц, письма с оторванным концом — вот что мы находим в рукописях, в которых говорится о судьбе поэта». Ей вторит современный исследователь Найдич (1994: 4): «Восстановить облик поэта, узнать, как создавались его творения, что он хотел ими сказать, — это задача увлекательная, но трудная. Лермонтов получил известность, поэтическую славу за четыре года до своей смерти…. После него осталось мало автографов и писем. Воспоминаний о Лермонтове немного; их собирали буквально по крупицам. Биография и творчество поэта еще плохо изучены, всюду белые пятна, провалы, а порою тенденциозные свидетельства. До сих пор не написана научная биография Лермонтова…». «Он во многом еще не открыт, — резюмировал Д. С. Лихачев. — Он — до сих пор тайна» (ГиК 1998: 3). Те биографии, которые мы зубрили в школе и воспринимали с экранов, заметно искажают реальность, выступающую в живых воспоминаниях очевидцев. Биографы пытаются приукрасить поэта, пригладить и причесать его, сделать академичнее и красивее — как приукрашивали его все порт ретисты. Достаточно упомянуть судьбу его юнкерских поэм. Вскоре после его смерти разгорелись споры, стоит ли их печатать. Творения, де, эти недостойны его пера. В. С. Соловьев писал о Лермонтове: «И когда в одну из минут просветления он говорил о «пороках юности преступной», то это выражение было — увы! — слишком близко к действительности. Я умолчу о биографических фактах, — скажу лишь несколько слов о стихотворных произведениях, внушенных этим демоном нечистоты. Во-первых, их слишком много, во-вторых, они слишком длинны: самое невозможное из них есть большая (хотя и неоконченная) поэма, писанная автором уже совершеннолетним, и, в-третьих, и главное — характер этих писаний производит какое-то удручающее впечатление полным отсутствием той легкой игривости и грации, каким отличаются, например, подлинные произведения Пушкина в этой области» (ГиК 1998: 362). Найдич (1994: 10) рассказывает, что в середине XX века тоже велись такие споры. «Неужели нужно печатать 310 стихотворений и 14 поэм…; ведь автор, столь взыскательный к своему творчеству, отказался от их печатания…?» Да, сам он не думал выпускать их в свет. Но ведь его письма явно не предназначались для печати, а печатаются! К тому же и выпускал поэт в свет свои юнкерские стихи, только вот не типографским способом. Более того, хотя печататься он стал, действительно, только за четыре года до смерти, прославившись своим мятежным стихотворением на смерть Пушкина, но за три — четыре года до того он был уже широко известен как поэт, только поэт специфический — фривольно-эротический, непечатаемый, расходящийся в списках. Один из первых его биографов П. А. Висковатов пишет (1891: 176–177), что произведения эти быстро принесли ему славу «нового Баркова». В кавалерийской школе они помещались в рукописном журнале «Школьная заря». «Юнкера, покидая Школу и поступая в гвардейские полки, разносили в альбомах эту литературу в холостые кружки «золотой молодежи» нашей столицы, и, таким образом, первая поэтическая слава Лермонтова была самая двусмысленная и сильно ему повредила. Когда затем стали появляться в печати его истинно-прекрасные стихи, то знавшие его по печальной репутации эротического поэта негодовали, что этот гусарский корнет «смел выходить на свет со своими творениями». Бывали случаи, что сестрам и женам запрещалось говорить о том, что они читали произведения Лермонтова; это считалось компрометирующим». Его современник и соученик говорил: «Я бешусь на Лермонтова, главное за то, что он повесничает с своим дивным талантом, и за то, то не хочет ничего своего давать в печать, а, по-моему, просто-напросто оскорбляет божественный свой дар, избирая для своих статей сюжеты совершенно нецензурного характера и вводя в них вечно отвратительную барковщину» (В. П. Бурнашев, 1836–37, со слов А. И. Синицына — Гусляров и Карпухин 1998: 108). Среди всех этих бесчисленных похабных произведений было и несколько стихотворений на содомские темы. На этом основании в новейшее время в журналах секс-меньшинств появились замечания о том, что Лермонтов был причастен и к гомосексуальной любви, по крайней мере, не чурался ее. Если это так, то приоткрывается новая сторона его личности, новая тайна, которую надо учитывать при анализе его творчества. Есть и попытки подтвердить это предположение общей ситуацией его жизни — Н. Ф. И. и Варенька Лопухина были как-то вдалеке, а кто всегда рядом? Отнюдь не женщины. Юрий Пирютко пишет (1993: 8): «Все эти бахметьевы, сушковы, щербатовы, гирейши вьются бледным хороводом вокруг таинственного юноши, но думает он не о них. Был ли кто-нибудь, кого он просто по-человечески любил?» Из женщин в его тени Пирютко отмечает только бабушку. Но то бабушка. А рядом с Лермонтовым — в школе подпрапорщиков, в гусарском полку, в великосветских салонах и в смертный час у горы Машук — кто? «Правильно, Алексей Аркадьевич Столыпин, «Монго»… Неразлучно бывший с Лермонтовым восемь лет из его двадцатишестилетней жизни, Монго оказал на него большее влияние, чем все «Н. Ф. И.», вместе взятые». Наиболее пространно излагаются эти соображения у К. Ротикова в «Другом Петербурге». Романтические влюбленности были у Лермонтова в основном в 15–16 лет, а в таком возрасте даже отъявленный гомосексуал Кузмин ухаживал за гимназисткой. Все возлюбленные вышли замуж за других: Варенька Лопухина — за Бахметева, Наталья Иванова — за Обрескова, Катенька Сушкова — за Хвостова. «Друзья его юности — смутные, бледные фигуры, не интересующие лермонтоведов настолько, что неизвестны даже годы их жизни». Но они были рядом с ним в университете и в школе подпрапорщиков. Среди них Петр Тизенгаузен, которого лермонтовское стихотворение уличало в гомосексуальном распутстве… (Ротиков 1998: 164–170). Это всё намеки, подозрения, догадки. Чтобы довести их до чего-то более определенного и противопоставить полученные выводы традиционной убежденности в исключительной преданности поэта обычным любовным романам и приключениям, нужен гораздо более тщательный анализ биографических материалов, личности поэта и самих стихов. Здесь предлагается лишь попытка продвинуться в этом направлении. Некоторые издания облегчают эту задачу — прежде всего Лермонтовская Энциклопедия (1981), сборник воспоминаний о Лермонтове (1989) и систематизированные свидетельства, представленные в сборнике «Лермонтов в жизни» (Гусляров и Карпухин 1998, далее ГиК).2. Канва биографии
Основные вехи его биографии общеизвестны. 1. Тарханы. Родился в 1814 году в Москве, сразу был перевезен в Тарханы, имение богатой бабушки, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной. Ее дочь, мать поэта, умерла, когда он был младенцем, отец вообще жил вдалеке. Бабушка заменяла ему отца и мать. Властная и деспотичная помещица, она души не чаяла в своем внуке, всячески баловала его. Учили его домашние учителя, французы. 2. Москва, пансион. Тринадцати лет, в 1828 г., он был увезен в Москву, где поступил в университетский пансион. Уже в это время писал стихи, в основном на гражданские темы — свободолюбивые и мятежные (подражал Байрону), но ничего нигде не печатал. Одному из них со стенаниями о рабстве на родине благоразумно дал название «Жалоба турка». Начат «Демон». 3. Московский университет. Через два года поступил в Московский университет, где учился вместе с Герценом, Огаревым, Белинским, Гоголем. У Белинского в комнате 11 образовалось Литературное общество. У Лермонтова была своя группа — «Лермонтовская пятерка»: Алексей Лопухин, Закревский, Поливанов, двое Шеншиных. И Белинский, и Лермонтов писали в это время пьесы о зверствах крепостников. Стало быть, отвергали крепостное право. Однако уже в 1831 г., еще в университетское время, из-под пера 17-летнего Лермонтова выходят и фривольные стихи «Счастливый миг», «Девятый час, уж тёмно, близ заставы…». C профессорами Лермонтов вел себя дерзко и заносчиво. После студенческой обструкции одному профессору Лермонтова из университета исключили. 4. Юнкерская школа. В 1832 г. он уехал в Петербург и пытался поступить в Петербургский университет, но принят не был. Тогда 18-летний юноша поступил в Петербурге юнкером в кавалерийскую школу подпрапорщиков. Вместе с ним там оказались его младший родственник Алексей Столыпин и сосед по имению Николай Мартынов. Для Лермонтова это было резкое переключение интересов. Марии Лопухиной он пишет: «до сих пор я жил для литературной карьеры, столько жертв принес своему неблагодарному кумиру, и вот теперь я — воин». Из его стихов практически на некоторое время исчезают гражданские мотивы. Но стихи он продолжает писать, только теперь — для своих грубоватых и бесшабашных товарищей: фривольные, эротические, часто просто похабные стихи. В это время создаются «Уланша», «Гошпиталь» и другие. В школе издавался рукописный журнал «Школьная заря», где эти стихи и помещались. Вышло 7 номеров. Больше всего в журнале участвовали Лермонтов и Мартынов. Однако в это же время начаты и серьезные произведения, в том числе «Хаджи Абрек». 5. Гусар. В 1834 г. 20-летний Лермонтов выпущен офицером в лейб-гвардии Гусарский полк в Царском Селе. Бабушка продолжает заботиться о внуке, он хорошо экипирован, не стеснен в деньгах и может себе позволить вести светскую жизнь, бывать на балах, маскарадах и т. д. При игре в карты он ставит не сотню, как другие офицеры, а тысячу рублей. Его сложные романы со светскими девушками находят отражение в начатых в это время вещах «Княгиня Лиговская» и «Маскарад». Цикл юнкерских поэм (1833–34) закончен, однако в 1835 г. поэт написал первый вариант «Сашки» — поэмы достаточно фривольной, но с гораздо более сложным нравственным содержанием (Найдич 1994: 64–79). Наконец, в 1837 г. 23-летний поэт впервые решается напечатать свое стихотворение — он отдает в «Современник» «Бородино». 6. Первая ссылка на Кавказ. Однако в это время убит Пушкин, и Лермонтов пускает в оборот свое гневное обращение «На смерть поэта». Стихотворение признано возмутительным, распространявший его друг поэта Святослав Раевский сослан в Олонецкую губернию, а Лермонтов направлен в ссылку на Кавказ, где идет война. Теперь его имя покрыто громкой славой. Из ссылки он привозит «Песню про купца Калашникова», герой которой сражается с царским опричником за честь своей невесты. 7. Петербургский литератор. С 1839 г. начинается сотрудничество с журналом Краевского «Отечественные записки». Лермонтов печатается в каждом номере. Выходят «Герой нашего времени», многие стихотворения. Появляются сборники стихов. В Петербурге в это время сложился оппозиционный «Кружок Шестнадцати», состоявший из университетской молодежи и кавказских офицеров. Лермонтов был душой этого кружка. Два больших произведения закончены в это время, но их невозможно напечатать — это «Сашка» и «Демон»: они противоречат религиозным догмам. 8. Вторая ссылка и дуэль. В марте 1840 г. Лермонтов сражался на дуэли с сыном французского посла Барантом. Он арестован и снова сослан на Кавказ, в пехотный Тенгинский полк. Там, изведенный постоянным подшучиванием Лермонтова, старый приятель Мартынов вызывает его на дуэль и, подзуженный его светскими недругами, тщательно целится. Есть достаточно доказательств того, что Лермонтов считал повод для дуэли пустячным, хотел примирения, отвел пистолет в сторону и уступил выстрел Мартынову. Тот воспользовался. 15 июля 1841 г. пуля пресекает жизнь поэта.3. Маёшка косолапый
Есть много прижизненных портретов Лермонтова. Все они льстят поэту. В нашем воображении он всегда романтически красив, с тонкими усиками и большими глазами. Особенно красив он на автопортрете. Его современник К. А Бороздин заметил: «Сколько я ни видал потом его портретов, ни один не имел с ним ни малейшего сходства, все они писаны были на память, и потому не удалось передать живьем его физиономии… Но из всех портретов Лермонтова приложенный к изданию с биографическим очерком Пыпина самый неудачный. Поэт представлен тут красавцем с какими-то колечками волос на висках и с большими вдумчивыми глазами, в действительности же он был, как его метко прозвали товарищи по школе, «Маёшка», то есть безобразен» (Г и К, 1998: 383–384). М. Ю. Лермонтов в группе офицеров на привале при Темир-Хан-Шуры в 1840 г.
Рисунок из альбома князя Урусова
М. Ю. Лермонтов в группе офицеров на привале при Темир-Хан-Шуры в 1840 г.
Рисунок из альбома князя Урусова
— Скажите на милость, — спрашивал Синицына, соученика поэта, Бурнашев, — почему юнкера прозвали Лермонтова Майешкой? Что за причина этого собрике (прозвища)? — Очень простая, — отвечал Синицын. — Дело в том, что Лермонтов немного кривоног благодаря удару, полученному им в манеже от раздразненной им лошади еще в первый год его нахождения в школе, да к тому же и порядком, как вы могли заметить, сутуловат и неуклюж, особенно для гвардейского гусара. Вы знаете, что, французы, бог знает почему, всех горбунов зовут Mayeux…; так вот «Майошка косолапый» уменьшительное французского Mayeux (ГиК 1998: 82). Бороздин, критиковавший лермонтовские портреты, описывает его так: «Огромная голова, широкий, но невысокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивающееся узким подбородком, угрястое и желтоватое, нос вздернутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики и волосы на голове, коротко остриженные. Но зато глаза!.. Я таких глаз после никогда не видал. То были скорее длинные щели, а не глаза!., и щели, полные злости и ума» (ГиК 1998: 383). И. С. Тургенев в своей молодости встретил его на балу и потом вспоминал: «Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий» (ГиК 1998: 385). Когда его послали ординарцем к великому князю, принимавший казак, по воспоминаниям другого юнкера, «долго смотрел на Лермонтова (а он был мал, маленького роста и ноги колесом), покачал головою, подумал и сказал: «Неужто лучше этого урода не нашли кого в ординарцы посылать?» (ГиК 1998: 383). Вера Бухарина, навестившая его с мужем в госпитале в 1832 г., описывает 18-летнего подпрапорщика так: «Должна признаться, он мне совсем не понравился. У него был злой и угрюмый вид, его небольшие черные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд был таким же недобрым, как и улыбка. Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько даже неблагородно…. Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка, избалованного, наполненного собой, упрямого и неприятного до последней степени» (Андроников 1977: 189). Причину его озлобленности и одиночества среди шумных затей угадала В. И. Анненкова, его дальняя родственница, отведя основную роль в этом его внешности: «У него было болезненное самолюбие, которое причиняло ему живейшие страдания. Я думаю, что он не мог успокоиться оттого, что не был красив,пленителен, элегантен. Это составляло его несчастие. Душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой коренастой фигуре карлика» (ГиК 1998: 391).
4. Психологический портрет
Исходя из его юношеской и зрелой поэзии, все критики единодушно отмечают необыкновенную тонкость его натуры, благородство идей и сложность эмоций, его изумительное чувство красоты, душевность и мечтательность. И это, несомненно, верно. Но верно лишь отчасти. Мы знаем, что реальные творцы очень часто весьма далеки от своего лирического героя, от того образа, в котором они выступают перед читателем. Достоевский в жизни был желчным и мелочным эпилептоидным психопатом, изводившим близких, Некрасов — гулякой и картежником, Тургенев — любителем похабщины. Лермонтов, несомненно, был человеком тяжелым и неприятным для большинства встречных. Он был злым и даже жестоким, причем с детства таким. Как вспоминает И. А. Арсеньев, «этот внучек-баловень, пользуясь безграничной любовью своей бабушки, с малых лет уже превращался в домашнего тирана. Не хотел никого слушаться, трунил над всеми…» (ГиК 1998: 48). Питомец своей деспотичной бабушки, ездившей на коляске, в которую были впряжены ее крепостные (она боялась лошадей), он был предельно избалован и своеволен. Висковатов и Соловьев обращают внимание на лермонтовскую заготовку для «Маскарада», описывающую детство Арбенина, явно на автобиографической основе: «он семи лет мог прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу» (Гик 1998: 41–42). Бабушка воспитывала вместе с ним десяток мальчиков (в том числе Акима Шан-Гирея), чтобы ему не было скучно. Кроме того собрала ему ватагу деревенских ребятишек-однолеток, обмундировала их в военное платье, с ними Мишенька и забавлялся. Забава состояла в том, что он разделял их на две партии и науськивал одну на другую. Победителей этих рукопашных боев, нередко с разбитыми в кровь носами, он награждал пряниками. Позже перешел на взрослых — ставил мужичкам бочку водки и сталкивал две половины села Тарханы в кулачном бою, стенка на стенку. При этом он «от души хохотал». Но вот его увезли в Москву. «Вообще в университетском пансионе товарищи не любили Лермонтова, — вспоминает Н. М. Сатин, — за его наклонность подтрунивать и надоедать. «Пристанет, так не отстанет», — говорили о нем» (ГиК 1998: 56). В университетском периоде своей жизни он проявлял тяжелый характер и трудно сходился с товарищами. Желая как-то сблизиться, один из них, П. Вистенгоф, по совету друзей подошел к Лермонтову и спросил: — Позвольте вас спросить, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее; нельзя ли поделиться ею и с нами? «Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии, сверкнули глаза его». — Для чего вам хочется это знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать, вы тут ничего не поймете, если бы я даже и решился сообщить вам содержание ее. И Лермонтов принял прежнюю свою позу, продолжая чтение. «Как ужаленный, отскочил я от него, успев лишь мельком заглянуть в его книгу — она была английская» (ГиК 1998: 62). Вероятно, Байрон. Тот же Вистенгоф сообщает и эпизод со старейшим профессором П. В. Победоносцевым. На занятиях профессор задал Лермонтову какой-то вопрос. «Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал: Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда вы могли почерпнуть эти знания? Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорю, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным. Мы все переглянулись» (ГиК 1998: 60). В школе подпрапорщиков Лермонтов был главным заводилой грубых проказ. Его однокашник, а потом убийца — Мартынов — вспоминает: «Как скоро наступало время ложиться спать, Лермонтов собирал товарищей в своей камере; один на другого садились верхом; сидящий кавалерист покрывал и себя и лошадь свою простыней, а в руке каждый всадник держал по стакану воды; эту конницу Лермонтов называл «Нумидийским эскадроном». Выжидали время, когда обреченные жертвы заснут, по дан ному сигналу эскадрон трогался с места в глубокой тишине, окружал постель несчастного и, внезапно сорвав с него одеяло, каждый выливал на него свой стакан воды…. Можно представить испуг и неприятное положение страдальца, вымоченного с ног до головы и не имеющего под рукой белья для перемены». Все это обращалось на новичков (ГиК 1998: 80–81). Конечно, от Мартынова трудно ждать благостных отзывов о Лермонтове, но о его «Нумидийском эскадроне» вспоминают и другие однокашники (ГиК 1998: 90–91). У юнкера, князя Шаховского, был длинный нос, который звали «курком». В стихотворении «Уланша» Лермонтов о нем пишет:Князь-нос, сопя к седлу прилег —
Никто рукою онемелой
Его не ловит за курок.
О, как мила твоя богиня!
За ней волочится француз, —
У нее лицо как дыня,
Зато ж… как арбуз.
5. Лермонтов и женщины
Обладая такой внешностью и таким характером, мог ли он рассчитывать на легкий успех у женщин и счастье в любви? А. М. Меринский пишет: «Лермонтов, как сказано, был далеко не красив собою и в первой молодости даже неуклюж. Он очень хорошо знал это и знал, что наружность много значит при впечатлении, делаемом на женщин в обществе. С его чрезмерным самолюбием, с его желанием везде и во всем первенствовать и быть замеченным, не думаю, чтобы он хладнокровно смотрел на этот небольшой свой недостаток» (ГиК 1998: 385). Вдобавок он с детства проникся острым недоверием к семье и браку, потому что не знал нормальной семьи. Его властная бабушка Елизавета Алексеевна, урождённая Столыпина, не очень красивая, неуклюжая, вышла замуж, будучи уже старой девой — в 35 лет. Она была старше мужа лет на восемь. А муж Михаил Васильевич Арсеньев был статный красавец, но не столь богат. К тому же после рождения дочери жена заболела женской болезнью. Супруг же влюбился в красивую молодую соседнюю помещицу, муж которой был в армии. Когда тот вернулся, Арсеньев покончил с собой, выпив пузырек с ядом. Елизавета Алексеевна сказала: «Собаке собачья и смерть» и не стала справлять положенного траура. Дочь Мария была не краше маменьки, но замуж выдана молодой. Муж ее Юрий Петрович Лермонтов был таким же красавцем, как покойный тесть, но еще беднее. Однако вскоре после рождения сына она стала хворать, он охладел к жене и стал изменять ей с бонной и дворовыми. Она начала пенять ему за это. Пылкий и раздражительный, он ударил ее кулаком по лицу. Болезни ее развились еще более, и вскоре она умерла. Теща (бабушка будущего поэта) отказала зятю от дома и объявила, что лишит наследства и его и внука, если мальчик уедет с отцом. Маленький Мишель остался с бабушкой — без отца и матери, в доме, где всё время жила память о двух непрочных и порочных брачных союзах. Автопортрет. 1837–1838 гг.
Автопортрет. 1837–1838 гг.
Когда бабушка выезжала на своей оригинальной коляске, в которую были впряжены ее крепостные, один из них, статный Ефим Яковлев нередко вынимал чеку из оси, так что госпожа падала на землю. Но его ко всеобщему удивлению никогда не наказывали, ибо «это Ефим Яковлев делал… из мести за то, что Елизавета Алексеевна в дни его молодости не позволила ему жениться на любимой им девушке, а взамен сама была к нему неравнодушна» (Шугаев, ГиК 1998: 36). По свидетельству П. К. Шугаева, «когда Мишенька стал подрастать и приближаться к юношескому возрасту, то бабушка стала держать в доме горничных, особенно молоденьких и красивых, чтобы Мишеньке не было скучно. Иногда некоторые из них были в интересном положении, и тогда бабушка, узнав об этом, спешила выдавать их замуж за своих же крепостных крестьян по ее выбору» (ГиК 1998: 48). Для светского человека того времени быть влюбленным в прекрасную даму было признаком хорошего тона, овеяно романтическим ореолом. В юнкерской и гусарской среде любовь чаще сводилась к своеобразному спорту. К этому примешивалось молодеческое пренебрежение к даме, бахвальство победами в любовных приключениях. Лермонтов не верил в возможность семейного счастья, мстительно презирал женщин и с наслаждением мучил их.
 Портрет В. А. Лопухиной. 1835
Акварель М. Ю. Лермонтова
Портрет В. А. Лопухиной. 1835
Акварель М. Ю. Лермонтова
Из любовных романов Лермонтова наиболее глубоким считается первый — его влюбленность в Вареньку Лопухину Семейство Лопухиных жило по соседству с Арсеньевыми — старик-отец, три дочери-девицы и сын, друг Мишеля. Будучи студентом, Лермонтов был страстно влюблен в симпатичную Вареньку. Старше его всего на год, она была уже членом общества и почиталась уже невестой, приходилось думать о выдаче ее замуж, тогда как Мишель в 15–16 лет считался еще ребенком. Его биограф Висковатов пишет: «Он, сопоставляя себя с нею, находил себя гадким, некрасивым, сутуловатым горбачем: так преувеличивал он свои физические недостатки. В неоконченной юношеской повести он в горбуне Вадиме выставлял себя, в Ольге — ее…» (ГиК 1998: 144–145). Но попав в шумную ватагу юнкеров, он забыл ее, не вспоминал, не писал. Варенька приняла предложение пожилого помещика Бахметева и вышла за него замуж. При известии об этом Лермонтов чрезвычайно расстроился. А. П. Шан-Гирей вспоминает: «я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «Вот новость — прочти», и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В. А.» Лермонтов всегда называл ее по девичьей фамилии — Лопухиной, ненавидел Бахметева. Тот платил ему тем же, заставил жену уничтожить все письма поэта и запретил ей любую связь с ним. В двенадцать лет Мишель безнадежно влюбился в Катеньку Сушкову, которой было семнадцать. В пятнадцать лет, делая запись в тетради об этом, он добавляет: «Как я был глуп!». Еще через четыре года он пишет М. А. Лопухиной о Екатерине Александровне: «Было время, когда она мне нравилась. Теперь она принуждает ухаживать за нею. Но не знаю, в ее манере, в ее голосе есть что-то жестокое, отрывистое, отталкивающее. Стараясь ей понравиться, в то же время ощущаешь удовольствие скомпрометировать ее, запутавшуюся в собственные сети!» (ГиК 1998: 118). Катенька стремилась выйти замуж за молодого и богатого князя Лопухина, приятеля поэта. Лопухин был очарован, влюблен, брак был близок. Лермонтов приехал с Лопухиным. Дальнейшее описано Е. А. Ган: «Лермонтов окружает ее всеми сетями: грустит, изливает жалобы и в прозе и в стихах и, наконец, отрывает ей, что день ее свадьбы с князем будет его последним днем!.. Она его и прежде предпочитала, но тут ее голова пошла кругом!.. Как он умел опутать эту невинную душу! Чего не употреблял, чтобы доказать ей, как мало князь достоин ее!.. Как сыпал элегиями и поэмами… Смешил и трогал — успел!.. Она полюбила его со всею страстью первой взаимности. Князь уехал не простясь — она о нем и не тужила». Сама Сушкова поясняет: «Я была рада его отъезду, мне было с ним так неловко и отчасти совестно перед ним, к тому же я воображала, что присутствие его мешает Лермонтову просить моей руки» (ГиК 1998: 127). После отъезда князя Лермонтов продолжал разыгрывать страсть, но лишь до отъезда в лагеря, по возвращении переменился. Ограничивался поклонами вежливости, но о прежнем — ни слова. Танцевал с другими. На прямой вопрос заплаканной девушки о причинах ответил: «Бог мой, mademoiselle, может быть — я люблю вас, может быть, нет, право, не знаю! И можно ли помнить о всех увлечениях прошлой зимы? Я влюбляюсь, чтобы убить время, но не рассудок! Поступайте, как я, и будете чувствовать себя хорошо» (ГиК 1998: 128). Своей знакомой А. Верещагиной весной 1835 г. Лермонтов весьма цинично объясняет свое поведение: «Я публично обращался с нею, как с личностью, всегда мне близкою, давал ей чувствовать, что только таким образом она может надо мною властвовать. Когда я заметил, что мне это удалось и что еще один дальнейший шаг погубит меня, я выкинул маневр. Прежде всего, в глазах света, стал более холодным к ней, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (что в сущности не имело места). Когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я первый ее публично покинул. Я в глазах света стал с нею жесток и дерзок, насмешлив и холоден. Я стал ухаживать за другими и под секретом рассказывать им те стороны, которые представлялись в мою пользу… Далее она попыталась вновь завлечь меня напускною печалью, рассказывая всем близким моим знакомым, что любит меня; я не вернулся к ней, а искусно всем этим пользовался». И далее: «Я понял, что желая словить меня, она легко себя скомпрометирует. Вот я ее и скомпрометировал насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя» (ГиК 1998: 127). Каково самодовольство! И чем хвастает! В это время тетка Кати получает анонимное письмо якобы от неизвестного, где Лермонтов описан самыми черными красками. Он уже обольстил, мол, одну девушку и бросил. В письме говорится, что Катю ожидает та же участь. «Поверьте, он недостоин вас. Для него нет ничего святого, он никого не любит. Его господствующая страсть: господствовать над всеми и не щадить никого для удовлетворения своего самолюбия». «Нам стоило бросить взгляд, чтобы узнать руку Лермонтова», — вспоминает подруга Кати Е. Лодыженская. — Обе мы и в разное время, сколько перевидали в Москве лоскутков бумаги с его стихотворными опытами… В один миг Екатерина Александровна придавила мне ногу: «молчи!» — дескать. Я ничего не сказала». А сам Лермонтов сознается Верещагиной: «Я искусно направил письмо так, что оно попало в руки тетки. В доме гром и молния…». Ему было отказано от дома (ГиК 1998: 129–135). В «Княгине Лиговской» вся эта история пересказана весьма близко к действительности. Через два года Катя Сушкова вышла замуж за своего давнего поклонника А. В. Хвостова. Лермонтов, будучи шафером жениха, поспешил прежде молодых в дом жениха и рассыпал из солонки соль по полу. «Пусть молодые новобрачные ссорятся и враждуют всю жизнь» — объяснил он это присутствовавшим (ГиК 1998: 141). И завершающий штрих. Как пишет М. Семевский, «Будучи женихом Щербатовой и в то же время избегая брака, Лермонтов на коленях умолял свою бабку Арсеньеву не позволять ему жениться» (ГиК 1998: 142). Из этих романов мы видим, что любовь Лермонтова к женщинам была непрочной, чаще напускной и рассчитанной на создание романтического образа. Графиня Е. П. Ростопчина, умная и наблюдательная женщина, писала о Лермонтове: «Веселая холостая жизнь не препятствовала ему посещать и общество, где он забавлялся тем, что сводил с ума женщин, с целью потом покидать их и оставлять в тщетном ожидании; другая забава была расстройство партий, находящихся в зачатке, и для того он представлял из себя влюбленного в продолжение нескольких дней…» (ГиК 1998: 115–116). На вопрос о том, зачем он интригует женщин, Лермонтов отвечал: «Я изготавливаю на деле материалы для будущих моих сочинений» (ГиК 1998: 116). Возлюбленные были для него скорее предметом холодного исследования, а также удовлетворения физиологических потребностей, чем душевной привязанностью. Издателю Краевскому он рассказывал, что перестал ходить в бордель: незачем, когда светские дамы могут заменить тамошних девиц (ГиК 1998: 236). Белинский сказал после бесед с ним: «Женщин ругает: одних за то, что дают, других за то, что не дают… Пока для него женщина и давать одно и то же» (ГиК 143). В юнкерское время это обретало особенно прямолинейные, грубые формы. Из «Гошпитали»: На эту ножку, стан и грудь Однажды стоило взглянуть, Чтоб в продолженье целой ночи Не закрывать горящих глаз И стресть по-меньшему — пять раз! В стихах его то грубо, то нежно и деликатно воспеваются женские формы — ножка, грудь, глазки, — но это скорее дань поэтической традиции, общественным ожиданиям. В лермонтовских рисунках мы не найдем того обилия женских ножек, как в черновиках Пушкина. У Лермонтова скорее преобладают мужчины в черкесках и лошади.
6. Монго и другие
 Портрет А. А. Столыпина в костюме курда. 1841 г.
Акварель М. Ю. Лермонтова
Портрет А. А. Столыпина в костюме курда. 1841 г.
Акварель М. Ю. Лермонтова
По крайне мере не меньше, чем образ женщины, в его сознании маячил тот образ, который он страстно хотел бы иметь сам — но не имел. В 24 года писал другу Святославу Раевскому из Тархан: «сердце мое осталось покорно рассудку, но в другом не менее важном члене тела происходит гибельное восстание; всё то хорошо, чего у нас нет, от этого, верно, и пизда нам нравится» (Лермонтов 1957, 6: 433–434). Не было у него не только этого женского органа — не было и многих мужских качеств, отчего он невероятно страдал. Завидовал. Мечтал. Перед ним всё время стоял образ стройного высокого мужчины с прекрасным лицом. Это был его недостижимый идеал для самого себя. Незаметно он накладывался на идеал друга, интимного друга, близкого человека. Соревновался с идеалом женщины как наперсницы. С идеалом того, кому стоит дарить свою любовь. Именно такие молодые красавцы становились его самыми близкими друзьями. Алексей Аркадьевич Столыпин, «Монго», его двоюродный дядюшка, который, однако, был на два года младше Мишеля, был его соучеником в Школе подпрапорщиков (выпущен курсом позже). Это были нераз лучные друзья. Верный спутник во всех проказах, герой поэмы «Монго», он был и секундантом на дуэли. Прозвище «Монго» он получил по имени своей собаки.
Монго — повеса и корнет,
Актрис коварных обожатель,
Был молод сердцем и душой,
Беспечно ласкам женским верил
И на аршин предлинный свой
Людскую честь и совесть мерил.
(Из поэмы «Монго»)
 А. А. Столыпин (Монго).
Акварель В. Гау
А. А. Столыпин (Монго).
Акварель В. Гау
 Н. С. Мартынов.
Рисунок Г. Гагарина
Н. С. Мартынов.
Рисунок Г. Гагарина
Другим многолетним приятелем поэта был Николай Мартынов. Это был товарищ Лермонтова по Юнкерской школе и сосед по пензенским имениям. Лермонтов бывал у них дома и приударял за сестрой Мартынова Натальей. Есть посвященные ей стихи. А. Пирожков писал: «В молодости Мартынов был очень красив: он был высокого роста, прекрасно сложен. Волосы на голове, темно-русые, всегда носил он коротко остриженными; большие усы, спускавшиеся по углам рта, придавали физиономии внушительный вид» (ГиК 1998: 178). Висковатов: «Он был фатоват и, сознавая свою красоту, высокий рост и прекрасное сложение, любил щеголять перед нежным полом и производить эффект своим появлением» (ГиК 1998: 281). Можно предположить, что отношение Лермонтова к Мартынову было двойственным. С одной стороны, его тянуло к этому высокому красавцу, да и старому приятелю, однокашнику. По воспоминаниям П. И. Майденко, приехав в Пятигорск, он, «потирая руки от удовольствия, сказал Столыпину: «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним» (ГиК 1998: 281). С другой стороны, его грызла тайная зависть к этому фату, которому успехи у женщин давались так легко и которому незаслуженно досталось такое красивое тело. Отсюда и постоянные издевки.
7. Юнкерские утехи
Немудрено, что, оказавшись в юнкерской среде, в закрытом мужском обществе, он с легкостью и готовностью воспринял то отношение к однополым мужским сексуальным утехам, более того — к однополой любви, любви-дружбе, которое господствовало в военно-учебных заведениях во всем мире, также и в Николаевской России. Известны свидетельства распространенности этих нравов в Пажеском корпусе, в Училище правоведения и т. д. Здесь не нужно было соревноваться за внимание прекрасных дам, в каковой конкуренции он имел изначально плохие шансы и должен был вести упорную борьбу, прибегая к остроумию и богатству. Здесь легко было сблизиться, завязать дружбу можно было благодаря другим качествам — смелости, уму, ухарству, лидерству, — а дружба незаметно могла перейти в более интимные отношения. А уж в них ему могли отдаться именно те молодые красавцы, которым он втайне мучительно завидовал и которым симпатизировал. Ради успеха у которых писал все эти фривольные поэмы. Товарищи-кавалергарды и гусары влекли его помыслы тем, что воплощали в себе тот образ, который был его тайным идеалом. В этом контексте его юнкерские стихи с гомосексуальными мотивами действительно выглядят не просто похабщиной, не случайными эскападами среди прочих. Лермонтовская «Ода к нужнику» (Лермонтов 1931 в) была написана для веселого чтения друзьям, она известна по копии в школьной тетради, и в ней полно легко узнаваемых юнкерами деталей:Но вот над школою ложится мрак ночной,
Клерон уж совершил дозор обычный свой,
Давно у фортепъян не распевает Феля,
Последняя свеча на койке Белавеля
Угасла… и луна кидает медный свет
На койки белые и лаковый паркет.
Вдруг шорох! слабый звук! и легкие две тени
Скользят по каморе к твоей знакомой сени.
Взошли… И в тишине раздался поцелуй,
Краснея, поднялся, как тигр голодный, х…
Хватают за него нескромною рукою,
Прижав уста к устам, и слышно: «будь со мною,
Я твой, о милый друг, прижмись ко мне сильней,
Я таю, я горю…» И пламенных речей
Не перечесть. Но вот, подняв подол рубашки,
Один из них открыл две бархатные ляжки!
И в восхищеньи х…, как страстный сибарит,
Над пухлой ж…ю надулся и дрожит.
Уж сблизились они… Еще лишь миг единой…
Но занавес пора задвинуть над картиной…
Не води так томно оком,
Круглой ж. кой не верти,
Сладострастьем и пороком
Своенравно не шути.
Не ходи к чужой постеле
И к своей не подпускай,
Ни шутя, ни в самом деле
Нежных рук не пожимай.
Знай, прелестный наш чухонец,
Юность долго не блестит,
Хоть любовник твой червонец
Каждый раз тебе дарит.
Знай, когда рука господня
Разразится над тобой,
Все, которых ты сегодня
Зришь у ног своих с мольбой,
Сладкой негой поцелуя
Не уймут тоску твою,
Хоть тогда за кончик х..
Ты бы отдал жизнь свою.
Я пробегал страны России,
Как бедный странник меж людей;
Везде шипят коварства змии,
Я думал, в свете нет друзей!
Нет дружбы нежно-постоянной,
И бескорыстной и простой;
Но ты явился, гость незваной
И вновь мне возвратил покой!
С тобою чувствами сливаюсь,
В речах веселых счастье пью;
Но дев коварных не терплю,
И больше им не доверяюсь!..
Вот, друг, плоды моей небрежной музы!
Оттенок чувств тебе несу я в дар,
Хоть ты презрел священной дружбы узы,
Хоть ты души моей отринул жар…
Я знаю всё: ты ветрен, безрассуден,
И ложный друг уж в сеть тебя завлек;
Но вспоминай, что путь ко счастью труден
От той страны, где царствует порок!
Готов на всё для твоего спасенья!
Я так клялся и к гибели летел…
8. Между Байроном и Львом Толстым
Таким Лермонтов предстает по воспоминаниям современников и по своим запретным стихотворениям. Влияние Байрона на него было огромным, может быть, не столько в реальности, сколько в осознании Лермонтова. Горделивый и скрытный, он кропотливо собирал свои сходства с Байроном. Он тщательно прослеживал свою родословную к английскому поэту Лерме. Подобно Байрону, он был очень автобиографичен в своем творчестве. У обоих поэтов опекавшие их женщины (у Байрона мать, у Лермонтова бабушка) были богаты, а отцы гораздо беднее. Оба поэта были баловнями. У Байрона в детстве одна нога была искалечена, он всю жизнь прихрамывал, и его называли «уродом». Подобно Байрону, Лермонтов пытался компенсировать свои физические недостатки упражнениями в езде, бойцовских схватках и т. п. «Когда я начал марать стихи в 1828 (в пансионе), я как бы по инстинкту переписывал и перебирал их, они еще теперь у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же, — это сходство меня поразило!» И дальше: «Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет великий человек и будет два раза женат; про меня на Кавказе предсказала то же самое (повивальная) старуха моей бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив, как Байрон» (ГиК 1998: 388). Неизвестно, дошли ли до Лермонтова слухи о том, что Байрон любил юношей и что «греческая любовь» была не последним мотивом его бегства в Грецию; находил ли Лермонтов какие-то схождения между собой и Байроном и в этом плане. Не все современники оценили масштаб личности Лермонтова. Плетнев, скажем: «Придет время, и о Лермонтове забудут, как забыли о Полежаеве». Арнольда: «в сущности он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный». Между тем по дороге к месту дуэли Лермонтов рассказывал своему секунданту и другу Глебову о своих планах. «Я выработал уже план, — говорил он, — двух романов: одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене, и другого — из Кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа…» (Мартьянов 1893: 93–94). Таким образом, он планировал «Войну и мир» и «Хаджи Мурата». Вряд ли Толстой обратил внимание на эту публикацию и помнил эти слова, когда устанавливал свое место в истории культуры рядом с ним: «Лермонтов и я — не литераторы» (цит. по Найдич 1994: 4). Тут есть резон: обе личности стали властителями дум. И уж явно Толстой не видел сходства еще в одном аспекте — в том, что оба могут быть упомянуты как люди с необычным проявлением своих чувств в любви. Для нас всех, воспитанных на многих лермонтовских стихах, ставших народной классикой, он несомненный поэтический гений. Это перевешивает и пересиливает реалии жизни. Пусть мы знаем, каким он был в жизни, но когда в памяти звучат его дивные строки -На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил…
Пржевальский жизнь, полная свободы
1. Человек и памятник
Для биографа, который занимается выдающимися личностями с гомосексуальными склонностями, Пржевальский представляет собой интереснейший казус. Никаких прямых свидетельств его гомосексуальности нет. Нет ни одного признания в его многочисленных бумагах — дневниках, статьях, письмах. Он был очень осторожен и молчалив. Молчаливее только его медный памятник у Адмиралтейства. Ни единого обвинения, высказанного в адрес Пржевальского по судебной или церковной линии. Ни малейших подозрений в воспоминаниях его друзей и учеников, даже в отзывах врагов. Словом, молчание полное. Современники ничего не говорят о его гомосексуальности и, видимо, уже не скажут. Еще меньше надежды узнать что-нибудь из его многочисленных русских биографий. Великий путешественник, герой и академик, генерал русской армии и патриот, он выступает в биографиях как безупречный образец для романтических юношей. Все это так называемые «голубые биографии» — голубые не в современном слэнговом смысле, а потому, что они рисуют жизненный путь, светлый, как безоблачное небо, и невинный, как полет ангела. В этих биографиях тщетно надеяться найти «компромат» на великого путешественника; биографы ничего не скажут, даже если бы и знали — уж скорее заговорит верблюд на его памятнике. Даже в таких полных справочниках о выдающихся гомосексуалах, как книги Ноэля Гарда (1964) и А. Л. Рауза (1977), его нет. Не упоминается он и у И. С. Кона (1997, 1998). В некоторых самых поздних справочниках имя Пржевальского, однако, приводится, а кое-что проскальзывает в одной амери канской биографии (Rayfield 1976), правда, без большой определенности. Дело в том, что идея о его причастности к миру однополой любви не лежит на поверхности, не видна прямо в материалах, а вытекает из их интер претации. Идея эта обосновывается косвенными доказательствами, для обыч ного человека, возможно, слабыми, но для человека, обладающего соответ ствующим опытом или, по крайней мере, вдумчивого, эти доказательства чрезвычайно весомы. Это факты, которые сами по себе, взятые порознь, ничего не говорят и допускают другое толкование, но в совокупности стано вятся очень красноречивыми и однозначными. Памятник недвижим, а человек все-таки жил, действовал, оставлял следы, которые можно изучать, сопоставлять, исследовать.2. Безупречное начало
Николай Михайлович Пржевальский родился в 1839 г. в Кимборове Смоленской губернии, имении своих родных по матери, Каретниковых. Дед его Алексей Каретников был безземельным крепостным, но приобрел вольность, богатство, а затем и потомственное дворянство. Об отце Пржевальского сообщают, что он офицер, потомок запорожского казака Корнилы Анисимовича Паровальского. Но советские биографии умалчивают, что фамилия-то офицера звучит уже по-польски. Она начинается с типично польской приставки Пше-, только неточно переданной. Казачий ротмистр Корнила Паровальский за успехи в войне против Ивана Грозного был возведен Стефаном Баторием в дворянское достоинство. Так что потомки казака явно ополячились. Были католиками. Прадеда звали Томаш, деда Казимир, его брата, майора, — Франц. Дед бросил Полоцкую иезуитскую школу, перешел в православие и стал Кузьмой Фомичем. Имение было в Смоленской губернии по соседству с Каретниковыми. Фамилия Паровальский при двойном языковом переходе пережила трансформации: в Польше она была осмыслена как русское Перевальский; русскому пере- соответствует польское prze-, где rz обычно сейчас читается как русское ж (не река, а «жека», «республика» — не Речь Посполитая, а Жеч Посполита), а после глухих согласных — как ш («извините» — «пшепрашам», Премысль — Пшемысль, и фамилию путешественника поляки сейчас читают Пшевальски). Но, возможно, при переходе Польши на русскую документацию это сочетание еще произносилось как рж (у чехов ведь и сейчас читается рж в этих местах: русскому Юрий соответствует польское Ежи и чешское Ержи), или русские грамотеи-писцы частью передали латинское правописание, частью польское произношение и из этой смеси вывели: Пржевальский. Польское происхождение отцовского рода еще живо ощущалось во времена Николая Михайловича. Его прозвище у друзей было: Пшева. Когда в 1863 году в Польше разгорелось восстание против России, в Академии сделали досрочный выпуск и направили выпускников-офицеров на подавление восстания, но Пржевальский взял трехмесячный отпуск и в карательных операциях не участвовал. После усмирения восстания его все-таки направили опять же в Варшаву. Михаил Пржевальский, отец путешественника, был офицером-инвалидом с небольшой пенсией и рано умер (когда Николаю было 7 лет). Жена, оставшись с двумя сыновьями, вышла вторично замуж и имела во втором браке (Толпыго) и других детей. Она отстроила неподалеку от Кимборова небольшую усадьбу Отрадное. В доме всем заправляли две женщины с суровым характером — мать Елена Алексеевна и нянька Ольга Макарьевна. «Рос я в деревне дикарем, — вспоминает Пржевальский. — Воспитание было самое спартанское…. Розог немало досталось мне в ранней юности, потому что я был препорядочный сорванец». Николая и его младшего брата-погодку Владимира отвезли в Смоленскую гимназию. Там, по его воспоминаниям, «Подбор учителей, за немногими исключениями, был невозможный; они пьяные приходили в класс, бранились с учениками, позволяли себе таскать их за волосы. Из педагогов особенно выделялся в этом отношении один учитель. Во время его класса постоянно человек пятнадцать было на коленях». Инспектор каждую субботу сек учеников «для собственного удовольствия». Коля был самым юным в классе и самым сильным в учебе. У него была фотографическая память — он запоминал целые страницы сходу. Скоро он стал вожаком класса. Когда один учитель выставил оценки несправедливо, по общему решению Коля похитил и уничтожил классный журнал. Его никто не выдавал. Четыре дня весь класс сидел на хлебе и воде. Тогда Коля взял на себя всю вину и был жестоко высечен. Домой его принесли на носилках. Большое влияние на мальчика оказал его дядя Павел Каретников, страстный охотник и любитель природы. В его доме была комната, полная певчих птиц — соловьев и щеглов. Каретников брал Колю с собой на охоту, а когда тому исполнилось 12 лет, подарил ему ружье. Мальчик стал охотиться самостоятельно. Лес былдля него домом. Он стал неутомимым ходоком, метким стрелком — у Пржевальских к столу всегда была настрелянная им дичь. В этом детстве трудно усмотреть какие-нибудь задатки будущего гомосексуала. Обычный гомосексуал растет как очень домашний мальчик, чуждый соревновательных игр и озорства. А здесь сорванец и заводила, отнюдь не маменькин сынок. Единственной чертой, способной навести на некоторые сексуальные следствия, были его частые порки. Но обычно это ведет к развитию садо-мазохистских вкусов (Руссо, Лоуренс Аравийский), которые в будущем Пржевальского никак не засвидетельствованы. Так что от порок могла остаться разве что привычка к обнажению, некоторый эксгибиционизм, отсутствие стеснительности. В 1855 г. Николай 16-ти лет окончил с отличием Смоленскую гимназию — как раз шла Крымская война, и он, полный патриотических чувств, рвался в армию. Но попал туда только к позорному окончанию войны. Оказавшись в Рязанском пехотном полку, он вынес оттуда полное разочарование военными порядками: офицеры только и делали, что пили и играли в карты. Они заставляли солдат воровать птицу у населения. Через год службы Пржевальский был произведен в прапорщики и направлен в Полоцкий пехотный полк, расквартированный в городе Белом Смоленской губернии. Там была та же картина. Николай рассказывал брату: «Офицеров этого полка никто не хотел пускать на квартиру. На площадке среди города был нанят особый дом. Посреди комнаты стояло ведро с водкой и стаканы. День начинался и кончался пьянством вперемежку со скандалами». Пржевальский был абсолютно чужд пьянству. Дома у него стояла бочка с яблочным соком. Он читал естественнонаучную литературу (по ботанике, зоологии и географии) и собирал гербарий. К игре в карты, однако, приобщился, но, будучи всегда трезвым среди пьяных, почти всегда выигрывал. Это составляло существенную добавку к его жалованью. Впоследствии он писал об этом времени: «Я невольно задавал себе вопрос: где же нравственное совершенство человека, где бескорыстие его поступков, где те высокие идеалы, пред которыми я привык благоговеть с детства? И не мог дать себе удовлетворительного ответа на эти вопросы, и каждый месяц, можно сказать, каждый день дальнейшей жизни убеждал меня в противном, а пять лет, проведенных на службе, совершенно переменили мои взгляды на жизнь и человека… Я хорошо понял и оценил то общество, в котором находился» (Хмельницкий 1950: 26). Пять лет армейской службы, видимо, как-то повлияли и на сексуальные вкусы молодого человека (ему же было в эти годы 17–22), но об этом в его писаниях полный молчок. Постоянное пребывание в чисто мужской грубой компании могло открыть ему секреты мужской любви, а полное молчание на темы, обычно задеваемые в рассказах о юности, наводит на мысль, что было в этой юности нечто необычное и неудобное для рассказов, но это все догадки и домыслы. Единственно, что наверняка можно сказать — это что разочарование в обществе, предающем собственные идеалы, должно было подпитывать в молодом сознании критический дух и в отношении сексуальной морали, навязываемой этим обществом. Утоление умственного и нравственного голода, разочарование военной службой в мирное время вело к мыслям о жизненных перспективах, а страсть к охоте и любовь к природе навевали идею искать славу в путешествиях по неизведанным землям. Его привлекали не заморские земли, а окраины России — в тех направлениях, куда до него устремлялся Семенов-Тяньшанский. Полагая, что из сибирских гарнизонов легче добиться командировок в Центральную Азию, он подал рапорт с просьбой перевести его на Амур. Ответом был арест на трое суток: младшему офицеру не подобает выбирать, где служить. Ясно, что нужно было добиться сначала более высокого статуса. Тогда он стал готовиться к экзаменам в Академию Генерального штаба. В 1861 г. прибыл в Петербург, сдал экзамены и поступил. В 1863 окончил Академию (по указанным причинам досрочно) и был произведен в поручики. Один товарищ описывает его внешность в это время (т. е. 22–24 года): «Он был высокого роста, хорошо сложен, худощав, симпатичен по наружности и несколько нервен. Прядь белых волос в верхней части виска при общей смуглости лица и черных волосах привлекала к себе невольно внимание» (Хмельницкий 1950: 35). В конце 1864 г. Пржевальский получил направление в Варшавское юнкерское училище преподавателем географии. Он прослужил тут несколько более двух лет. Впервые он занят тем, что близко его интересам, и окружен молодежью, которая ему, видимо, импонировала. Он был любимым учителем для своих юнкеров. Написал для них «Учебник всеобщей географии». Мог отдыхать только в компании юных. Они приходили к нему домой, где их принимал его слуга Заикин. Слуга их удерживал в тишине, пока хозяин в кабинете заканчивал работу. Затем хозяин выходил, все собирались в гостиной, где угощались и смотрели книги — Гумбольдта, Риттера, художественную литературу — Байрона, Лермонтова, Гюго. Пржевальский ел яблоки и пил грушевый настой кружку за кружкой. В 9 часов Пржевальский расставался с гостями и ложился спать. Один из учеников Пржевальского вспоминал: «Система поблажки любимчикам находилась у него в полном отсутствии». Это не значит, что любимчиков не было. «Он был вполне беспристрастен и зачастую ставил единицу и нуль самым любимым юнкерам… Часто посещавшему его и довольно близко к нему стоящему юнкеру К. пришлось остаться на второй год за то, что не выдержал экзаменов именно по истории и географии (Гавриленков 1989: 17). Что это за юнкер К. и сколь близко он стоял к Пржевальскому, мы не знаем. В Варшаве Пржевальский познакомился с видным орнитологом Тачановским, который обучил его препарированию птиц и набивке чучел. Тогда же был принят в Географическое общество. В Варшаве он снова подал просьбу о переводе в Сибирь. На сей раз просьба была удовлетворена. Итак, до этого момента в его жизни встречаются ситуации, когда возможны какие-то гомосексуальные переживания, но никаких доказательств, что они на деле были, нет.3. Уссурийское путешествие
В январе 1867 г. Пржевальский отправился в Сибирь, на Амур. По дороге, в Москве, встретился с Семеновым-Тяньшанским и попытался добиться от Географического общества ассигнований на путешествие в Центральную Азию, но Семенов счел молодого человека излишне самонадеянным, и ассигнований от Географического общества Пржевальский не получил. Зато на месте, в Иркутске, в штабе Сибирских войск, в мае того же года он получил командировку на обследование Уссурийского края. Военных, конечно, интересовали разведывательные данные о маньчжурах и корейцах, а самого Пржевальского — ботаника, зоология и геология, но эти задачи были совместимы. Предстояло выехать на берега Тихого океана, к границам Кореи. «На меня выпала завидная доля и трудная обязанность, — писал Пржевальский своему другу Фатееву, — исследовать местности, в большей части которых еще не ступала нога образованного европейца. Тем более, что это будет первое мое заявление о себе ученому миру, следовательно, нужно поработать усердно» (Хмельницкий 1950: 41). Важно было тщательно и осмотрительно выбрать спутников для такого ответственного путешествия, особенно основного помощника. Преодолевать предстояло тысячи километров на утлых лодках, пешком и на лошадях. В пути ожидали встречи с тиграми и медведями, а также неведомо было, как отнесутся к непрошеным гостям маньчжуры и корейцы, да и китайские власти. Выбор свой Пржевальский описывает в автобиографии так: «Тут случайно зашел ко мне из штаба Ягунов, только что поступивший в топографы. Мы разговорились. Ягунов настолько понравился мне, что я предложил ему ехать со мной на Уссури, тот согласился» (Хмельницкий 1950: 40). Пржевальский наскоро обучил Ягунова снимать шкурки животных, сушить растения. И положился во всем на него. Н. М. Пржевальский. 70-е годы XIX века.
Н. М. Пржевальский. 70-е годы XIX века.
А теперь существенная деталь: Николаю Ягунову было к этому времени 16 лет. Можно, конечно, подыскать оправдания для столь странного выбора. Ну, разочаровался человек в своих взрослых товарищах по военной службе. Ну, уверовал в Варшаве в своих юнкеров, в надежность молодежи. Ну, сумел за короткую беседу разглядеть в сыне бедной ссыльной вдовы недюжинные качества. Ведь выбор оправдался! Все это возможные основания выбора, и не обязательно подозревать за выбором сексуальные мотивы. Но и это возможно. Возможно, что жаждущий вырваться на простор Азии поручик, имеющий какой-то эмоционально обнадеживающий опыт общения со своими юнкерами в Варшаве и никак не связанный с женщинами, по крайней мере проникся внезапной симпатией к этому парнишке. Симпатией столь сильной, что она заставила позабыть простые истины житейской мудрости: молодо-зелено, молоденький умок — что весенний ледок. И вполне возможно, что тайным внутренним теплом, согревающим эту симпатию, были сексуальные вкусы и сексуальные надежды. Я это высказываю пока только как одну из возможностей. Но есть очень большая вероятность того, что именно эти надежды оправдались. Потому что уже вскоре мальчишка Ягунов был с 28-летним офицером Пржевальским на ты. В экспедиции к концу дня после длинного перехода все очень уставали, а Пржевальский требовал идти дальше. Ягунов обыкновенно начинал уговаривать его, и это засвидетельствовано воспоминаниями самого Пржевальского в книге «Путешествие в Уссурийском крае»: «Надо остановиться, сегодня и так уже много прошли, а ТЕБЕ бы все больше да больше. Другого такого места не будет, а здесь, ПОСМОТРИ, как хорошо!» (шрифтовое выделение мое. — Л. К.). Пржевальский чаще всего оставался глух к увещеваниям, но «иногда соблазн был так велик, что по слабости, присущей в большей или меньшей степени каждому человеку», наконец подавал сигнал остановиться на ночлег «ранее обыкновенного времени». Опять же можно подыскать правдоподобные объяснения. Ну, сдружились в дороге. Ну, не столь уж большое значение придавал интеллигент Пржевальский субординации. Но все же это как-то странно. Ведь Пржевальский очень настоятельно советовал хранить в экспедиции твердую дисциплину и утверждал, что лучше, чтобы члены экспедиции были военными: дисциплины больше. А тут мальчишка при нижних чинах обращается запросто на ты не просто к взрослому, но к офицеру, которого ему следовало бы называть «Ваше благородие» или, по крайней мере, по имени-отчеству! А вот если предположить, что между Пржевальским и Ягуновым установились интимные отношения, тогда изменение в языковом общении естественно, хотя и неразумно. В таких случаях, вероятно, трудно удержать подростка от перехода на ты (подростки обычно весьма озабочены своим статусом). За два года путешествия Ягунов и Пржевальский, действительно, сильно сдружились. Вернувшись в Россию, Пржевальский определил Ягунова в Варшавское юнкерское училище. В этом путешествии Пржевальский снял на карту ряд белых пятен, дважды пересек хребет Сихотэ-Алинь, собрал гербарий в 2 тыс. экземпляров и коллекцию в 210 чучел птиц, описал жизнь населения в книге «Путе шествие в Уссурийском крае» (1870). Пржевальский с содроганием вспоминал свою службу, испытывая ненависть к «цивилизованной, правильнее — изуродованной жизни». А в Уссурийском крае ему открылась иная — «чудная, обаятельная жизнь, полная свободы». Свобода от чего? Свобода для чего? Это ведь идеология эскапизма, бегства от норм цивилизации, характерная для многих путешественников с гомосексуальными склонностями (Гумбольдт, Стэнли, Родс, Бастиан, Кейсмент, Бёртон, Миклухо-Маклай).
4. От Желтой реки к Голубой реке
Вот теперь предложенный Пржевальским план трехлетней экспедиции в Центральную Азию встретил поддержку. Правительство ассигновало на расходы по 1000 рублей в год серебром, Географическое общество — по 1000 рублей в год ассигнациями (это примерно по 700 рублей серебром), Ботанический сад — еще по 300 рублей и сам Пржевальский смог выделить из личных средств по 1000 рублей в год. Это была его первая экспедиция в Центральную Азию, в Тибет. Чтобы найти нового спутника, капитан Пржевальский обратился опять же исключительно к молодым: он написал своим бывшим ученикам по Варшавскому училищу. Откликнулся его любимец Пыльцов, служивший в это время подпоручиком в Алексопольском полку. Он стал помощником Пржевальского и жил с ним в одном шатре. Казаков уже во время похода сменили на двух новых. «На этот раз, — рассказывает Пржевальский, — выбор был чрезвычайно удачен, и вновь прибывшие казаки оказались самыми усердными и преданными людьми во все время нашего долгого путешествия. Один из них был русский, девятнадцатилетний юноша, по имени Панфил Чебаев, а другой, родом бурят, назывался Дондок Иринчинов. Мы вскоре сблизились с этими добрыми людьми самой тесной дружбой, и это был важный залог успеха дела. В страшной дали от родины, среди людей, чуждых нам во всем, мы жили родными братьями, вместе делили труды и опасности, горе и радости. И до гроба сохраню я благодарное воспоминание о своих спутниках, которые безграничной отвагой и преданностью делу обусловили как нельзя более весь успех экспедиции» (Хмельницкий 1950: 135–136). Дондок Иринчинов впоследствии ходил с Пржевальским во все остальные экспедиции (кроме последней). За три года с великими тяготами и болезнями (тиф Пыльцова) прошли 5650 километров, от Пекина в Тибет, пересекли пустыню Гоби, открыли неведомые места Тибета, достигли Голубой реки (Ды-чу). Привезли 10 тысяч экземпляров растений и животных, многие — неизвестных ранее видов: рододендрон Пржевальского, ящурка Пржевальского, расщепохвост Пржевальского, герань Пыльцова и т. д. Коллекцию разложили на столах Генерального штаба — больше тысячи птиц, 35 шкур больших животных — и сам царь ее осматривал. Пржевальского произвели в подполковники. Русское географическое общество присудило Пржевальскому Большую золотую медаль. В 1875 году вышла его книга «Монголия и страна тангутов».5. Неприятности на пути к Лоб-Нору
В марте 1878 года правительство согласилось отпустить 24 тысячи рублей на новую экспедицию Пржевальского, на сей раз двух летнюю, к неведомому европейцам озеру Лоб-Нор и далее в Тибет, к границам Индии. Щедрость объяснялась неспокойной политической обстановкой в этом районе и борьбой отколовшегося от Китая мусульманского государства Джеты-шаар, поддерживаемого Англией, против России. Экспедиция обещала быть чрезвычайно трудной и опасной. Но оба помощника, на которых Пржевальский рассчитывал, не могли его сопровождать. Ягунов, окончивший Варшавское училище с отличием, утонул, купаясь в Висле в возрасте 22 лет («Меня постигло великое горе», — говорил Пржевальский). Пыльцов женился на сводной сестре Пржевальского и стал членом семьи, но из-за этого утратил мобильность. Снова Пржевальский ищет очень молодых ребят, юнцов, можно сказать. Его выбор пал на 18-летнего вольноопределяющегося Федора Эклона из Варшавы, сына одного из служащих Музея Академии наук, а также на еще более молодого прапорщика Евграфа Повало-Швыйковского, сына соседей по имению. В Забайкалье к ним должны были присоединиться старые товарищи, казаки Чебаев и Иринчинов. Они прислали телеграмму: «Память о Вас перейдет из рода в род. С Вами готовы в огонь и воду» (Хмельницкий 1950: 184). Ф. Л. Эклон.
Ф. Л. Эклон.
Эклону Пржевальский объявил, представляя Евграфа: «Я знаю, что вы будете большими друзьями, но будете и драться друг с другом. Конечно, это не будет случаться часто, но все равно, будет происходить — никто не совершенен». Он явно беспокоился, что два юнца почувствуют себя соперниками — но соперниками в чем? Во власти? У них никакой власти не предполагалось. В обязанностях? Но им нечего делить, в экспедиции обязанностей больше, чем сил. Значит, соперничество за фавор? А это предполагает эмоциональные связи между начальником и помощниками. При подходе к царству Якуб-бека Джеты-шаар стало ясно, что на сей раз Пржевальский промахнулся с выбором. Один из юнцов, Повало-Швыйковский, оказался совершено негодным к выполнению своих обязанностей. «Вступление наше на Юлдус ознаменовалось крайне неприятным событием, — сообщал Пржевальский. — Мой помощник Повало-Швыйковский, почти с самого начала экспедиции не мог выносить трудностей пути. Я вынужден был отправить его обратно к месту прежнего служения. К счастью, другой мой спутник, вольноопределяющийся Эклон, оказался весьма усердным и энергичным юношей. При некоторой практике он вскоре сделается для меня прекрасным товарищем» (цит. по: Хмельницкий 1950: 193). А в дневнике (за 20 сентября) описывает это более откровенно: «Тяжелый день. Сегодня я отправил обратно в Кулю, а оттуда в полк, Швыйковского, оказавшегося совершенно негодным для экспедиции по своей умственной ограниченности и неспособности к какому-либо делу. Бедный Евграф не может препарировать птиц, стрелять или ориентироваться на местности — ничего… Я вынужден был прогнать его как человека совершенно бесполезного. Тяжело мне было решиться на это. Евграф ко мне лично привязан, притом он доброй души… Я отправил Евграфа, хотя вчера вечером и сегодня утром я плакал несколько раз как ребенок… Дал ему прогоны и жалованье, всего 800 рублей, причиной везде выставил болезнь» (цит. по: Гавриленкова 1999: 60; Rayfield 1976: 92). Тут уже совершенно ясно, что мотивом выбора помощников не была пригодность к выполнению ответственных задач. Она могла проявиться, а могла и не проявиться. Важнее были другие критерии — душевная доброта и нежное отношение к Пржевальскому лично. И согласитесь, странную картину представляет собой начальник дорогой и опаснейшей экспедиции, который плачет вечер и утро, отправляя из экспедиции негодного сотрудника — мальчишку из соседнего имения, чем-то ему полюбившегося. Чем? Можно и тут найти приличные психологические мотивировки. Ну, чувствительный попался герой-начальник. Ну, наобещал мальчишке из сосед него имения с три короба, а теперь приходится изгонять его (долг превыше всего). Но кого брал-то в экспедицию — не видно было, что ли, что тот ничего не умеет? И плакать «как ребенок» все-таки совсем неуместно, каким бы тот ни был нежно любящим и податливым. Пржевальский явно оплакивал свои надежды насладиться «свободной жизнью» вне цивилизации сполна. Так или иначе, русская экспедиция, теперь в составе 13 человек, достигла Лоб-Нор, посетила Джеты-шаар, который распался вскоре после ухода их оттуда (Якуб-бек был убит), и Пржевальский наметил путь в Тибет. Но в Кулю Пржевальский и Эклон привезли мучительную болезнь — зуд с лихорадкой. «От этого проклятого зуда нет покоя ни днем, ни ночью», — сетует Пржевальский. Советские биографы умалчивают некоторые подробности, но американский биограф сообщает их. Это был зуд мошонки. Жара усиливала это заболевание — зуд распространялся на все тело. В дневнике Пржевальский записывает: «Мои тестикулы ужасно чешутся, как раньше, я мою их каждые вечер и утро в табачном отваре — это не приносит ничего хорошего… «(Rayfield 1976: 104). Мылся солью и квасцами, мазался дегтем и купоросом — никаких результатов. Добавился абсцесс на одной ягодице. У Эклона тестикулы чесались, но стали проходить. Два казака — Урусов и Чебаев — также подхватили это заболевание. Наконец, Пржевальский как-то справился с этой напастью с помощью йодистого калия — пил его, горло болело, а кожа стала выздоравливать. Может быть, болезнь прошла не от этого лекарства. Вообще непонятно, что это за заболевание. По советским биографам, это нервное — но тогда почему в одинаковых проявлениях у четырех членов экспедиции? Это явно что-то заразное. Если это лобковые вши (они ведь очень маленькие и могли быть незамечены и не распознаны в экспедиционных условиях), то напрашивается вопрос, как эта зараза распространилась на треть экспедиции. Ведь она передается главным образом половым путем, во всяком случае при ночном телесном контакте. Расстаться пришлось еще с одним членом экспедиции — казак Панфил Чебаев был отослан за воровство и пьянство. А ведь о нем Пржевальский писал за несколько лет до того как о «чрезвычайно удачном выборе» и «родном брате»! Не так уж прозорлив был он в выборе сотрудников — или выбирал их по иным критериям, чем деловые. По всем этим соображениям гипотеза о гомосексуальной обстановке в экспедиции очень уж напрашивается. Болезни измотали путешественника. Тряслись руки, и трудно было уси деть в седле. Решено было прервать экспедицию и возвратиться в Зайсан, там вылечить Пржевальского в госпитале. В госпитале он пробыл три месяца. Он уже собирался продолжить экспедицию, но прибыла депеша из Петер бурга о ссоре с китайским правительством и приказ экспедицию прервать. Одновременно пришло известие о смерти матери. В мае 1878 года полковник Пржевальский получил отпуск на четыре месяца и отправился в Отрадное. Его отчеты о Лоб-Норской экспедиции вызвали восторг ученого мира. Академия наук избрала его почетным членом. Берлинское географическое общество присудило ему золотую медаль Гумбольдта. Но Пржевальский сожалел, что задачи экспедиции не были выполнены полностью и Тибет остался недоследованным. Он мечтал о новой экспедиции.
6. Экспедиция в Тибет через Хами
На новую экспедицию правительство ассигновало 20 тысяч рублей, и 9 тысяч осталось непотраченными от прежней экспедиции плюс ее запасы снаряжения. От прежней команды остались Эклон, Иринчинов и еще ряд лиц. Нужно было найти замену Швыйковскому. Пржевальский взял соученика Эклона по гимназии — Всеволода Роборовского, старшего капрала Новочеркасского полка, хорошего чертежника, рисовальщика и разведчика. При первой же встрече Пржевальский нашел, что Роборовский — «Человек весьма толковый, порядочно рисует и знает съемку, характера хорошего, здоровья отличного». Назначил его вторым своим помощником. «Эклону поручено было препарирование млеко питающих, птиц, словом, заведывание зоологической коллекцией; Роборовский же рисовал и собирал гербарий». Беспокойства о соперничестве на сей раз не возникало — возможно, потому, что Эклон и Роборовский были друзьями с детства. Так в круг Пржевальского вошел будущий выдающийся путешественник-исследователь Азии, один из лучших его учеников. Ф. Л. Эклон.
Ф. Л. Эклон.
С этим составом в марте 1879 г. Пржевальский отправился в Тибет. Во время этой экспедиции были открыты дикая лошадь, получившая название «лошадь Пржевальского», и особый вид медведя — тибетский медведь, а также десятки новых видов растений и животных. Исследователь выяснил, что непрерывная стена гор от верховий Хуанхэ до Памира ограничивает с севера самое высокое плато Центральной Азии и разделяет его на две части — монгольскую пустыню на севере и Тибетское нагорье на юге. Двум новооткрытым хребтам Пржевальский присвоил имена двух выдающихся немецких географов — Гумбольдта и Риттера. Но в Лхасу, столицу Тибета, его не пустили посланцы далай-ламы, остановив в нескольких сотнях верст от Лхасы. Пришлось возвращаться, правда, иным путем — обогнув озеро Куку-нор с востока и далее через Ургу, столицу Монголии. Пройдено 4100 километров пути, и в конце 1879 г. экспедиция вернулась в Россию. В Петербурге все участники экспедиции и сам Пржевальский были награждены военными орденами. Пржевальскому был присвоен титул почетного доктора зоологии Московского университета. Британское географическое общество присудило ему золотую медаль. Начало 80-х годов было у него занято написанием книги «Из Зайсана через Хами в Тибет и верховья Желтой реки» (она вышла в свет в 1883 г.). В марте 1881 г., через две недели после убийства царя Александра II, открылась выставка коллекций Пржевальского. Атмосфера России Александра III с ее реакцией на террор революционеров гнетуще действовала на Пржевальского. В одном из писем 1881 г. он писал: «Изуродованная жизнь — жизнью цивилизованной (называемая), мерзость нравственная — тактом житейским называемая, продажность, бессердечие, беспечность, разврат, словом, все гадкие инстинкты человека, правда, прикрашенные тем или другим способом, фигурируют и служат главными двигателями… Могу сказать только одно, что в обществе, подобном нашему, очень худо жить человеку с душою и сердцем» (Хмельницкий 1950: 314). В письме к невестке Софье он делится теми же мыслями: «Как вольной птице тесно жить в клетке, так и мне не ужиться среди «цивилизации», где каждый человек прежде всего раб условий общественной жизни… Простор в пустыне — вот о чем я день и ночь мечтаю. Дайте мне горы золота, я за них не продам своей дикой свободы…» (Гавриленкова 1999: 41). Книгу о своем четвертом путешествии Пржевальский завершает словами: «Грустное, тоскливое чувство всегда овладевает мною лишь только пройдут первые порывы радостей по возвращении на родину. И чем далее бежит время среди обыденной жизни, тем более и более растет эта тоска, словно в далеких пустынях Азии покинуто что-либо незабвенное, дорогое, чего не найти в Европе. Да, в тех пустынях, действительно, имеется исключительное благо — свобода» (там же). Советские биографы, само собой, связывают эти высказывания Пржевальского с его демократическими и прогрессивными настроениями. Вглядевшись в эти строки и сопоставив их со всей жизнью Пржевальского, можно уверенно сказать, что критика Пржевальского не носила политического характера. Он был патриотом России и верноподданным офицером государя. Он критиковал не политический строй, а общество, людей, их нравы и поведе ние, их культуру. Он судил о Европе в целом («чего не найти в Европе»). Общество, которое могло бы ему вменить в вину не совсем обычные отношения со своими юными соратниками, он заранее обвинял в ханжестве и лицемерии («гадкие инстинкты, правда, прикрашенные тем или другим способом»). Свобода, о которой он мечтал и которую находил в пустынях, это не политическая или гражданская свобода, а свобода нравственная. Свобода поступать естественно, без оглядки на «житейский такт» и нормы «цивилизации».
7. Азия под Смоленском
Мечтая о жизни в глуши даже по возвращении из экспедиций, Пржевальский подыскал и купил недалеко от Поречья в Смоленской губернии имение Слободу. В письме Эклону он вдохновенно описывал эти места: «Лес, как Сибирская тайга. Озеро Сопша в гористых берегах, словно Байкал в миниатюре». Его племянник в воспоминаниях рассказывает: «как гордился он тем что перед самым его домом было болото! Особенно ему нравилось то, что в Слободе и ее окрестностях была дикая охота: медведи, иногда забегали кабаны, водились рыси, много глухарей». Он перевез туда Макарьевну, повара Архипа, нанял домоправителя. «Одно неудобство, — досадовал Пржевальский в письме к родственнику, — усадьба стоит рядом с винокурней».
П. К. Козлов, 1883 г.
Но именно на винокурне Макарьевна углядела смазливого парнишку, скромного и работящего, и указала на него своему барину. Это был 18-летний Петр Козлов, в будущем выдающийся путешественник и любимый ученик Пржевальского. Отец его то ли батрачил у скотопромышленника, то ли был мелким прасолом, во всяком случае «гонял гурты» с Украины. Несколько раз брал с собой и сына, и с тех пор сын стал бредить путешествиями. По окончании школы в деревне Духовщина юноша поступил писцом в контору винокуренного завода. С шестнадцати лет он мечтал увидеть знаменитого земляка Пржевальского. И вот грезы осуществились: Пржевальский поселился в Слободе! Впоследствии, уже старым академиком, выдающийся путешественник Петр Кузмич Козлов вспоминал о своем кумире (цит. по изд. 1947 г., с. 99):: «При виде этого человека издали, при встрече с ним вблизи, со мною одинаково происходило что-то ужасное. Своей фигурой, движениями, голосом, своей оригинальной орлиной головой, он не походил на остальных людей; глубоким же взглядом строгих красивых голубых глаз, казалось, проникал в самую душу. Когда я впервые увидел Пржевальского, то сразу узнал его могучую фигуру, его образ — знакомый, родной мне образ, который уже давно был создан моим воображением». Знакомство происходило так: «Однажды вечером, — повествует Козлов, — вскоре после приезда Пржевальского, я вышел в сад, как всегда, перенесся мыслью в Азию, сознавая при этом с затаенной радостью, что так близко около меня находится тот великий и чудесный, кого я уже всей душой любил». Словом, юноша был вполне готов к близкому контакту. «Меня оторвал от моих мыслей чей-то голос, спросивший меня: — Что вы здесь делаете, молодой человек? Я оглянулся. Передо мною в своем свободном широком экспедиционном костюме стоял Николай Михайлович» (цит. по: Житомирский 1989: 11). Вопроса, а может быть и выхода навстречу юноше в сад, скорее всего и не было бы, если бы Макарьевна, угадавшая, что барину нужно, не позаботилась осведомить его. «Получив ответ, что я здесь служу, а сейчас вышел подышать вечерней прохладой, Николай Михайлович вдруг спросил: — А о чем вы сейчас так глубоко задумались, что даже не слышали, как я подошел к вам?» Это уже вопрос, явно рассчитанный на то, чтобы завязать разговор. «С едва сдерживаемым волнением я проговорил, не находя нужных слов: — Я думал о том, что в далеком Тибете эти звезды должны казаться еще гораздо ярче, чем здесь, и что мне никогда, никогда не придется любоваться ими с тех далеких пустынных хребтов». Браво, браво. Если только этот романтический ответ не придуман post factum, то слова были как раз самые нужные — юноша сделал точно рассчитанный выпад. «Николай Михайлович помолчал, а потом тихо промолвил: — Так вот о чем вы думали, юноша… Зайдите ко мне, я хочу поговорить с вами». Чего и следовало ожидать. И к чему оба стремились. «Тот день, когда я увидел первую улыбку, услышал первый задушевный голос, первый рассказ о путешествии, впервые почувствовал подле себя «легендарного» Пржевальского, когда я с своей стороны в первый раз сам смело и искренно заговорил с ним, — тот день я никогда не забуду…» (Козлов 1947: 100). Петя также чрезвычайно понравился Пржевальскому, и тот решил взять его в экспедицию, забрал с винокурни и поселил у себя. «Осенью 1882 года, — рассказывает Козлов, — я уже перешел под кров Николая Михайловича и стал жить одной жизнью с ним». Что означает «жить одной жизнью», сказать трудно, но вскоре юноша стал для Пржевальского «Кизюшей», а полковник Пржевальский для юноши — «Пшевой». Правда, сохранялись отношения на вы (Rayfield 1976: 151), но здесь можно полностью повторить все те соображения, которые высказаны об отношениях с Ягуновым, только с тем отличием, что это уже не первый случай и что дистанция между участниками здесь больше: полковник Генштаба, прославленный путешественник — и юный конторщик с сельской винокурни…» Слава — большой афродизиак», — говаривал Трумэн Капоте. «От Николая Михайловича неслась какая-то особая струя, особенный запах, который опьянял человека и отдавал его во власть его несравненной силе воли, энергии и того высокого обаяния, которое составляло отличи тельную черту характера Пржевальского… В его неимоверной жизненной энергии мое личное «я» растворилось и стало частицею его общего собирательного имени» (Козлов 1947: 99). Роборовского шеф тоже засадил за учебу — заставил готовиться в академию Генштаба, которую когда-то окончил сам. Вместе с Роборовским Пржевальский стал обучать «Кизюшу» экспедиционным навыкам. Купил учебники и стал сам готовить Козлова к экзаменам на аттестат зрелости. После экзамена Козлову предстояло быть зачисленным на военную службу в Москву вольноопределяющимся, а затем оттуда — в экспедицию. К экзамену на аттестат зрелости Пржевальский еще раньше подготовил Эклона. Эклон был теперь в полку и в офицерской среде менялся к худшему. «Слышал от Волъки (Всеволода Роборовского. — Л. К), что ты сидел на гауптвахте, — писал ему Пржевальский. — Теперь можешь считаться старым офицером». И в другом письме: Жизнь самостоятельная в полку оказала на тебя то влияние, что ты сделался в значительной степени моншером. Коляски, рысаки, бобровые шинели, обширные знакомства с дамами полусвета, — все это, увеличиваясь прогрессивно, может привести, если не к печальному, то, во всяком случае, к нежелательному концу. Сделаешься ты окончательно армейским ловеласом и поведешь жизнь пустую, бесполезную… Во имя нашей дружбы и моей искренней любви к тебе, прошу перестать жить таким образом». Он пенял Эклону не столько за «дам полусвета», сколько за простые любовные увлечения. Он вообще был настроен против контактов с женщинами, против женитьбы, и требовал этого от всех своих товарищей. «Слобода, — пишет его американский биограф Рэйфилд, — давала Пржевальскому тот дух чисто мужской семьи, которым он наслаждался несколько лет в Варшаве. Ни одной женщине не позволялось оставаться в доме — даже Макарьевне (она жила поблизости. — Л. К). Старые друзья из Смоленска и Варшавы, его братья Евгений и Владимир, племянники (сыновья Владимира и Пыльцова) превращали летние месяцы в длинные охотничьи стрельбы, полные юмора и преданности спорту. Но эти посетители имели свои семьи, куда возвращались; они не могли дать Пржевальскому ту постоянную мужскую среду, которую он имел в Варшаве и в Центральной Азии. Роборовский и Козлов должны были уехать продолжать свою офицерскую подготовку. Единственным решением было заполучить его любимых казаков, чтобы они прибыли и жили с ним» (Rayfield 1976: 154. — Разрядка моя. — Л. К.). Трогательны письма Пржевальского к забайкальскому казаку Пантелею Телешову. Они написаны то застенчиво, то грубовато, со смущением и любовью. Вот одно из писем Пржевальского Телешову: «Передай мой привет Мише [Протопопову]; поблагодари его за письмо; напиши ему и спроси, хочет ли он стать солдатом. Не собирается ли он приехать в Петербург? Передай мой привет казакам; похвали Соловикова за то, что не женился. Если последуешь его примеру и не женишься, это доставит мне большое удовольствие».
 Участник III и IV экспедиций Пржевальского — Пантелей Телешов.
Участник III и IV экспедиций Пржевальского — Пантелей Телешов.
Первый сохранившийся ответ Телешова, продиктованный им военному писарю, датируется январем 1882 г. Это благодарность за посланные деньги и амуницию. Телешов сообщает, что учится читать и писать, для чего ездит за много верст. «Я имею честь благодарить Вас, — пишет он, — за ваши отеческие советы мне; я не собираюсь жениться до следующей экспедиции ни при каких обстоятельствах». К марту 1883 г. Телешов уже обучился читать и писать. Пржевальский просил его об одном: оставаться холостым. Телешов сообщает: «Я не могу дождаться Вашего приезда. Я дни и ночи думаю об охоте, как только будет возможно, за голубыми и золотыми фазанами. Я и не думал о женитьбе…». Пржевальский: «Насматривай истинно хороших казаков, только молодых и не женатых». Пржевальский все звал Телешова в Слободу, а тот все не ехал. Для него была приготовлена специальная комната в усадьбе. Пржевальский купил ему костюм-тройку и дорогое ружье. Приехав, Телешов долго жил в имении. Что означает эта неприязнь к женщинам, эта страсть окружать себя чисто мужской компанией? Что означает приглашение очень молодых и очень простых людей жить постоянно у него в гостях? Что означают его настойчивые просьбы, почти мольбы, не жениться? Только ли для мобильности и готовности к долгой экспедиции? Ведь речь шла о том, чтобы они были холостыми ко встрече с ним. Почему ему так хотелось, чтобы эти ребята были ко встрече с ним, к приезду в Слободу, сексуально свободны и не втянуты в гетеросексуальную практику?
8. К истокам желтой реки
Осенью 1883 г. было получено согласие правительства на новую экспедицию в Тибет, предложенную Пржевальским. Помощниками назначались подпоручики Эклон и Роборовский и вольноопределяющийся Козлов. Но Эклон отказался участвовать. Он, страшно сказать, женился! Пржевальский даже не принял его дома, не поздравил, не попрощался — извинился в письме. И письмо это было написано на «вы» — впервые за 8 лет. Двадцатилетний Козлов заменил Эклона. В составе экспедиции был 21 человек, 7 лошадей и 57 верблюдов, из них 14 «под верхом» у казаков, остальные вьючные и в запасе. Среди казаков выделялся препаратор Телешов, с которым Пржевальский очень подружился. Один из новооткрытых видов птиц назван «жаворонок Телешова». За два года экспедиция прошла из Кяхты в Прибайкалье на юго-запад к верховьям Желтой реки (Хуан-хэ) и мимо оз. Куку-нор вернулась в Россию к Караколу на оз. Иссык-куль. Пришлось выдержать и настоящие бои с воинственными племенами тангутов. В январе 1885 г. полковник Генштаба Пржевальский был произведен в генерал-майоры, а Географическое общество выбило золотую медаль с его профилем. Оставив Роборовского готовиться в Академию Генштаба, а Козлова определив в юнкерское училище, Пржевальский уехал в Слободу, забрав с собой любимого казака Телешова. Там они жили, как в экспедиции, редко даже ночевали дома — все в лесу. Потом у него жили Телешов и два гренадера — Нефедов и Бессонов. Костя Воеводский
Костя Воеводский
В окружении себя молодежью он был неустанен и изобретателен. В Смоленске, где он часто бывал на почтамте в связи с огромной корреспонденцией, ему приглянулся молодой телеграфист Вася Малахов. Умный и добрый, он, однако, был слаб здоровьем и в экспедиции негоден. Николай Михайлович пристроил его учителем детей в семейство Нуромских, где он сам часто бывал, — теперь мог его часто видеть. Правда, Вася вскоре женился на одной из дочерей Нуромских. Костю Воеводского с открытым чистым лицом, какие он любил, он просто взял на воспитание и на время направил в юнкерское училище. Его друг Лушников, поздравляя его с генеральским званием, мягко намекнул, что неплохо бы завести и генеральшу с детишками. На это Пржевальский отвечает: «Спасибо за письмо и поздравления. Только то, что ты говоришь насчет генеральши, вероятно не осуществится. Я слишком стар (ему было 46 — Л. К.), и не такая моя профессия, чтобы жениться. В Центральной же Азии у меня много оставлено потомства — не в прямом, конечно, смысле, а в переносном: Лоб-нор, Куку-нор, Тибет и проч. — вот мои детища». Одиноким он себя не чувствовал. Своей семьей он называл свой экспедиционный отряд. Он говорил, как вспоминает Роборовский, что «больше всего желал бы умереть не дома, а где-нибудь в путешествии, на руках отряда, который он называл нашей семьей» (разрядка моя. — Л. К.). Желание его исполнилось.
9. Экспедиция в Лхасу
Экспедициями Пржевальского Тибет был пройден вдоль и поперек, многие белые пятна закрыты, в науку внесены многие виды растений и животных. Одно Пржевальский считал не достиг нутым, и это не давало ему покоя: он не проник в столицу Тибета Лхасу, не увидел ее сказочного дворца. Лхаса оставалась миражом. Он мечтал о новой экспедиции, окончательной. Его мечты совпали с дипломатическими планами России: в Тибете разгорался конфликт между Англией и Китаем, и Россия хотела поддержать автономию далай-ламы против тех и других. Прежде всего нужна была полная информация об этих землях. В экспедиции был запла нирован состав в 27 человек на два года. Ассигновано было 80 тысяч рублей! С Пржевальским в 1888 г. Слободу покидали Роборовский и Козлов, казак Телешов и гренадер Нефедов. Вскоре после отъезда умерла Макарьевна. Но мысли о путешествии отвлекли Пржевальского от горя. «Радость великая! — записывает он в дневнике. — Опять впереди свобода и дело по душе». Н. М. Пржевальский, 1886 г.
Н. М. Пржевальский, 1886 г.
В Верном (Алма-ата) он должен был отобрать солдат и казаков для своего экспедиционного отряда — добровольцев. 7 батальонов были выстроены на плацу. Он описал им опасности и тяготы. Затем отделил женатых — этих не брал никогда. Отбирал холостых, самых здоровых, причем унтер-офицерам предпочитал рядовых. Было предварительно отобрано 40 человек, а из них выбрано 10. Он подходил, смотрел «взглядом насквозь» (вспоминает один из выбранных), затем задавал короткие вопросы: «Фамилия? Куришь? Пьешь? Разряд?» — и если ответы устраивали — «Запиши его имя, Роборовский». Отсюда также видно, что при отборе внешние данные преобладали над деловыми сведениями — ну что можно извлечь из столь короткого интервью? Зато «взгляд насквозь» — и стоит обратить внимание на одну общую особенность всех его помощников и воспитанников: они все очень красивые люди. Хорошие фигуры, чистые, открытые лица. Эклон, Роборовский, Козлов, Телешов, Воеводский — один к одному… Среди отобранных был Иван Менухов, который, по его словам, «табака не курил, водки не пил». За круглое лицо и широкую улыбку молодой силач был тотчас из Ваньки переименован в Маньку. Как-то реализовать его переименование генерал не успел. В Пишпеке 4 октября Пржевальский охотился с Роборовским и, разгоряченный, выпил воды из реки Чу. Даже местное население остерегалось пить воду из этой реки: здесь свирепствовала эпидемия брюшного тифа. Прибыли в Каракол, разбили бивуак за городом. Но 15 октября Пржевальский почувствовал себя совсем плохо. Пригласить врача отказывался, а когда пригласили, было уже поздно. 20 октября он умер от брюшного тифа в возрасте 49 лет. Похоронили его там же, в Караколе. В советское время это стал город Пржевальский.
 П. К. Козлов после экспедиции 1896 г. учеников Пржевальского.
П. К. Козлов после экспедиции 1896 г. учеников Пржевальского.
Удивительно, сколько этот энтузиаст успел сделать за менее чем полвека своей жизни. В Тибете закрыты многие белые пятна, нанесены на карту целые хребты и озера, существование других опровергнуто. Науке стали известны сотни новых видов растений и животных и 7 новых родов. Дело его продолжили его ученики. Роборовский возглавил экспедицию 1893–1895 гг. и был разбит параличом в 1895 г. в Тибете в возрасте 38 лет. Больше ездить не мог. С экспедицией 1899–1900 гг. Козлов проник в Юго-Восточный Тибет, а в 1905–1909 гг., не достигнув Лхасы, все же беседовал с далай-ламой, изгнанным оттуда англичанами. Ученики Пржевальского — это его создания, одно из его великих достижений. Он открыл их, воспитал и поднял к мировой славе. Трудно сказать, какую роль в этом педагогическом свершении сыграли деловая необходимость в помощниках, преданность своему призванию и забота о преемственности, а какую — простая человеческая любовь, пусть необычная инеодобренная обществом, простое томление по юношескому теплу и красоте. Точно так трудно сказать, какое место в формировании личности самого Пржевальского занимают его страсть к охоте, его тяга к странствиям, его несомненное стремление к славе, а какое его эскапизм — жажда уйти в глушь, в пустыню, где нет тягостных оков цивилизации и где человек может быть таким, каким его создала природа. Где он и его юные соратники могут жить одной семьей.
10. Запоздалый роман?
Таким образом, по всем данным, хоть это данные косвенные, Пржевальский выступает сугубым гомосексуалом, совершенно чуждавшимся общения с женщинами. Есть только один текст, недавно опубликованный, который нарушает абсолютную чистоту этой картины. Это рассказ Марфы Мельниковой (Бацевой), из соседней с имением Пржевальского деревни Боровское. Эта женщина в старости объявила себя незаконной дочерью Пржевальского и передала в Дом-музей Пржевальского в Слободе (с. Пржевальское) и в Географическое общество свои воспоминания о рассказах матери, в которых был описан роман матери с Пржевальским. По этим воспоминаниям, летом 1882 г., т. е. после четвертой экспедиции, Пржевальский в своих охотничьих рысканиях по окрестным лесам забрел как-то в дом Кирилла и Ксении Мельниковых, стоявший на окраине деревни. Кирилл был чрезвычайно мастеровитым крестьянином, известным всей округе, часто уходил надолго на работу к помещикам, а также был завзятым охотником. Однако он был хилый, некрасивый и сутулый. Жена Ксения была немного его моложе, очень красивая, выдана была за него не по любви, и любви между ними не было. На почве охоты и заинтересованности мастерством Кирилла Пржевальский с ним подружился и стал часто бывать в избе. Однажды Ксения подшутила над ним: заперла его в амбаре, где он спал. Тот справедливо это воспринял как заигрывание. Когда Ксения проходила мимо него в праздничном наряде (вернулась со свадьбы), он обнял и поцеловал ее. Прошло несколько лет. Летом 1886 г., т. е. за два года до последней экспедиции, Пржевальский пришел, когда Кирилла не было дома, и в разговоре спросил: очень ли я постарел. Ксения ответствовала, что наоборот, даже помолодел. А вот о себе сказала, что постарела: «Мне уже двадцать восемь лет» (Пржевальскому было сорок восемь). Пржевальский обнял ее и сказал: «— Прошлый раз (это было за несколько лет до того. — Л. К.) я поступил с тобой как мальчишка-шалопай, поцеловал тебя, не сказав, что люблю тебя. А я очень тебя люблю, и ты не один раз стояла перед моими глазами там, вдали, словно царица. Я надеялся, что в разлуке пройдет, но не прошло. Ксения, любишь ли ты меня? Мать произнесла еле слышно: — Да. … Мать уложила детей и проводила Пржевальского в амбар… Николай Михайлович стал часто навещать мать. Поздно вечером приходил, рано утром уходил. Хата стояла на краю деревни, и его никто не видел. Никаких разговоров не возникало.» (Гавриленкова 1999: 132). Летом 1887 г. родилась девочка, о которой Пржевальский знал, что это его дочь. Он предлагал Ксении денег, предлагал их (якобы в помощь) Кириллу, но ни та, ни другой денег не брали. В 1888 г. Пржевальский уехал в свое последнее путешествие, и при известии о его гибели Аксинья (Ксения) на людях потеряла сознание. Таков этот рассказ. Николай Михайлович Пржевальский
Николай Михайлович Пржевальский
Если даже принять это сообщение за достоверный факт, оно само по себе не противоречит выводам о гомосексуальности Пржевальского — мало ли гомосексуалов, имевших жен, любовниц и детей. Но принятие этого дополнения к картине изменило бы наши представления о характере гомосексуальности Пржевальского, сдвинув его характеристику в сторону бисексуальности. Вопрос, однако, в том, насколько достоверно это сообщение. Смоленские публикаторы считают его достоверным. В этом их убеждает то, что в рассказе есть некоторые подробности жизни Пржевальского, которых вроде бы простая крестьянка не могла знать, а с воспоминаниями других о Пржевальском она вряд ли могла ознакомиться. Так, в рассказе сообщается, что Пржевальский не исполнял религиозные обряды, не крестился — ни входя в избу перед иконой, ни перед едой и т. п., что он цитировал стихи о русской женщине, т. е. некрасовские, а он действительно любил и знал Некрасова, и т. д. Далее, Марфа Мельникова, видимо, не принадлежала к обширному племени «детей лейтенанта Шмидта»: она не претендовала ни на какие выгоды и не собиралась пользоваться благами как дочь великого человека. Только состарившись (свыше 60 лет) и тяжело заболев, она выдала тайну — свою и своей матери Ксении. С 1952 г. она стала записывать по памяти страничку за страничкой рассказы своей матери об этом событии их жизни, и о ее стараниях узнали ее муж и дети, а к 1954 г. ее записи собрали, отпечатали на машинке в нескольких экземплярах и отослали в Географическое общество. В 1975 г., т. е. через 20 лет после отсылки записей, она умерла. Еще четверть века записи оставались неопубликованными. К этим аргументам публикаторы могли бы добавить и еще один факт. Летом 1886 г. Пржевальский решил съездить в Москву к докторам: его пугала полнота и отеки ног. Доктор Остроумов, осмотрев его, посоветовал: «Держите диету, купайтесь, больше ходите, а самое лучшее — заведите-ка себе хорошую девицу: жир сразу пойдет на убыль…». Не решил ли Пржевальский последовать совету доктора? Как раз в 1886 году он и завел, по рассказу Марфы, роман с Аксиньей. Однако, не все эти аргументы представляются мне убедительными, да и в рассказе не все рождает доверие. Во-первых, многие подробности жизни Пржевальского и черты его личности в окрестностях знали все. Так, о том, что он недолюбливал попов, не ходил в церковь и не очень уважал религию, знали даже крестьянские детишки (Гавриленков 1889: 108–109). Во-вторых, если верны многие детали общения крестьян с Пржевальским, это еще не значит, что верно и сообщение об интимных отношениях его с хозяйкой дома. В-третьих, никому из своих близких Пржевальский ни разу не обмолвился о том, что у него есть дочь и не оставил ни в своем завещании, ни в своих устных предсмертных наказах никаких распоряжений на ее счет — ни обеспечения, ни подарков, ничего. Ни словечка. В-четвертых, и это главное, весь текст совершенно непохож на воспоминания неграмотной или малограмотной крестьянки, пусть даже литературно обработанные. Он скорее смахивает на очень распространенное и подробное повествование профессионального литератора, прибегающего к стилизации диалогов под крестьянскую речь и умело использующего диалектные словечки.
 Марфинъка, дочь (?) Николая Михайловича Пржевальского в возрасте 20 лет
Марфинъка, дочь (?) Николая Михайловича Пржевальского в возрасте 20 лет
Правда, дочь Аксиньи, Марфа, в переложении которой и дошли до нас все эти сведения, — это уже следующее поколение семьи, уже с образованием: один брат учился в юнкерском училище, другой был учителем русского языка. Видимо, и сама Марфа хорошо владела языком, так что воспоминания матери дошли до нас в дочернем, сильно переработанном пересказе, к тому же отделенном тридцатью — сорока годами от устного повествования матери. Если этот текст в самом деле писала Марфа Мельникова, то в ней умер незаурядный литератор. Неясно, сколь велика в этом пространном литературном тексте (он занимает 36 печатных страниц!) доля подлинного сообщения о позднем романе генерала с крестьянкой и какова тут связь с реальностью. Мотивы к тому, чтобы приукрасить свое прошлое романом с великим чело веком, бывают очень разнообразны и весьма часты в женских мемуарах. У Ксении это могли быть совсем не выгода и поиск славы, а простая тоска по загубленной молодости, жажда приподнять себя в глазах близких, неприязнь к мужу, и т. п. А уж дочь могла иметь еще больше причин сохранить и развить, а то и изобрести эту историю — тоже не обязательно ради своей собственной выгоды и славы, хотя и это не исключается (надо же в своих болестях обратить на себя внимание окружающих), но и ради того, чтобы получше обеспечить своих детей своим (или присвоенным) отблеском славы великого человека — как оружием в жизненной борьбе. У публикаторов есть и еще один, коронный аргумент: «Если ко всему вышесказанному добавить и бросающееся в глаза портретное сходство Марфы с Н. М. Пржевальским — можно сделать вывод о том, что история с отцовством вполне имела место быть…» (Гавриленкова 1999: 106). Приложена фотография Марфы Мельниковой. Ах, впечатления о портретном сходстве далеко могут завести. Как известно, памятники Пржевальскому так схожи с бюстами вождя народов, что народное сознание родило молву, будто Сталин — незаконный сын Пржевальского (хотя Пржевальский никогда не был на Кавказе, а прачка Джугашвили никогда не выезжала из Гори). Теперь, выходит, у Сталина была еще и сестра на Смоленщине — скорее всего, столь же недостоверная. Как известно, сам Пржевальский считал своими детищами не сыновей или дочерей, а Лобнор, Кукунор, Тибет… Вероятно, как и вытекает из всего его быта, он все-таки не был бисексуален. Если и был, то лишь под старость, по совету доктора.
Человек с луны: Миклухо-Маклай среди папуасов
1. Загадочное завещание
Имя Миклухо-Маклая в России известно всем. Великий путешественник-первоокрыватель, героический исследователь-одиночка, проведший много лет в диких болотистых лесах Новой Гвинеи, среди малоизвестных тогда первобытных туземцев — папуасов. В отличие от западных колонизаторов и миссионеров, он привлекал к себе туземцев не силой оружия, а только добром — лекарскими умениями, распространением материальных благ. Он стал среди них культовым героем-покровителем, память о котором жива в фольклоре папуасов еще и сейчас. Там и в XX веке рассказывали о человеке с Луны Макрае и дарованной им людям свинье с зубами на голове, которую звать «бика» (Носик 1998: 370). Он — одна из культовых фигур и в российской этнографии. Этнографические и антропологические коллекции, привезенные им из многочисленных путешествий, составляют золотой фонд Кунсткамеры — Музея антропологии и этнографии, и основанный в ней научно-исследовательский Институт этнографии РАН носит имя Миклухо-Маклая. Николай Николаевич состоял в переписке с выдающимися учеными мира — Вирховом, Гексли, Бэром, переписывался с министрами иностранных дел ведущих держав, царь Александр III принимал его лично в Ливадии. Впрочем, ассигнования, на которые он проводил свои дальние экспедиции, были в основном от Русского географического общества. По крайней мере, поначалу они были далеко не достаточны для путешественника. Царь помогал главным образом средствами доставки — позволял военным кораблям отвозить путешественника и его груз к облюбованным островам в Океании, моряки также обустраивали его поселение. Нехватку денежных средств Миклухо-Маклай покрывал из личных источников — расходовал на науку всё, что получал от матери на проживание. Друзья — особенно князь Александр Мещерский, но также и писатель Иван Сергеевич Тургенев — собирали деньги, хлопотали за него. В сущности, он является предшественником Малиновского, основателя функционализма. Этот английский ученый, поляк по происхождению, считается изобретателем метода «включенного наблюдения» — исследователь изучает туземцев не наездами и не опросом информантов, а поселяется среди них и живет их жизнью. Только так он может составить себе представление о функционировании всей их социальной структуры как системы. Малиновский поселился на одном из Тробрианских островов и два года (1915–1916) жил среди туземцев. Но Миклухо-Маклай осуществил это же на Новой Гвинее почти на полвека раньше Малиновского! Он писал в голландском журнале: «Единственное средство изучить обычаи этих интересных дикарей — это жить в течение нескольких месяцев с этими первобытными бродячими ордами их жизнью» (Путилов 1985: 71). Малиновский и Марсель Мосс выявили значение неэкономических функций первобытного обмена. Но и здесь Миклухо-Маклай предвосхитил их наблюдения. Об обмене в деревнях Горенду, Гумбу и Бонгу он писал: «Надо заметить, что в этом обмене нельзя видеть продажу и куплю, а обмен подарками. То, чего у кого много, он дарит, не ожидая непременно вознаграждения. Я уже несколько раз испытывал туземцев в этом отношении, т. е. не давал им ничего в обмен на принесенные ими кокосы, сахарный тростник и пр. Они не требовали ничего за них и уходили, не взяв своих подарков назад» (ММ 1: 97). Но прежде всего Миклухо-Маклай собирал доказательства равенства человеческих рас и народов, равноценности разных обычаев и культурных норм. Жизнь его была короткой, стремительной и беспокойной. Лев Толстой, восхищенный ее результатами, написал ему восторженное письмо (от 25 сентября 1886 г.): «Вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек, то есть доброе общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это подвигом истинного мужества». Люди так долго жили насилием, — писал яснополянский старец, — что поверили, будто это нормально. «И вдруг один человек, под предлогом научных исследований (пожалуйста, простите меня за откровенное выражение моего убеждения), является один среди самых страшных диких, вооруженный вместо пуль и штыков одним разумом, и доказывает, что все то безобразное насилие, которым живет наш мир, есть только старый отживший humbug (вздор), от которого давно пора освободиться людям, хотящим жить разумно. Вот это-то меня в вашей деятельности трогает и восхищает, и поэтому я особенно желаю Вас видеть и войти в общение с Вами» (ММ 5: 773–774). Но увидеться им не довелось. Обменялись фотопортретами. После смерти Миклухо-Маклая Толстой не раз повторял: «Его у нас не оценили. Ах что это был за человек!» По Толстому, Миклухо-Маклай действовал как гуманист «под предлогом научных исследований»… Их-то Толстой ни в грош не ставил, он презирал естественнонаучные теории и наблюдения, с его точки зрения, ненужные простому мужику, это и было «откровенное выражение» его тогдашних убеждений. С точки зрения Толстого, «научные исследования» были для Маклая лишь предлогом для достижения иных, более человечных и личных целей. Насколько Толстой был близок к истине в оценке мотивов подвижничества Маклая? Между тем в представлении самого Миклухо-Маклая научные исследования были отнюдь не предлогом для достижения каких-то истинных целей. Научные исследования обладали для него самоценностью, и свои научные задачи он ставил превыше всего в жизни — это для них, по его собственному представлению, он готов был рисковать жизнью, неустанно и самоотверженно трудиться, преодолевать бедствия и болезни. Чтобы внести свою лепту в сокровищницу фактов, из которых извлекается знание научных законов. Он горячо возражал Толстому. Он знал, что его коллекции и наблюдения обладают непреходящей ценностью, что они увековечат его имя и прославят Россию. В конце жизни он чрезвычайно был озабочен тем, чтобы «издание моих трудов осуществилось на русском языке при содействии Русского географического общества». В путешествиях он непрерывно вел аккуратнейшие записи, дневники, делал описания и зарисовки. Тысячи и тысячи их содержатся в его архиве. Он тщательно хранил, упорядочивал и заботливо перевозил их с места на место при каждой перемене обитания, понимая их ценность для науки и для собственной чести. Но странное дело: перед самой смертью он строжайше наказал своей англоязычной жене Маргарет (он женился в Австралии), чтобы после его смерти все его рукописи и письма, которых она не поймет, т. е. все написанные на русском языке, были немедленно, в ту же ночь, уничтожены. Свои дневниковые записи он часто вел на немецком и английском языках, а на русском он записывал то, что, по его мнению, требовало скрытности, — то, что он хотел сохранить в тайне от слуг и случайных попутчиков. На русском вел дневники в ряде своих путешествий, в которых совершалось нечто тайное. На русском переписывался с русскими друзьями, в частности с ближайшим другом, князем Александром Мещерским, с которым был откровенен. Жена в точности выполнила его волю. Всю ночь напролет она жгла его рукописи и письма (кое-что удалось спасти его братьям и друзьям — уговорили прекратить аутодафе). В огне погибли целые годы тяжелейшей работы, ушли от биографов пласты интереснейшей жизни, ценнейшие данные обратились в пепел. Ради чего? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть его биографию, прочесть многочисленные жизнеописания, проштудировать его полное собрание сочинений, где опубликованы сохранившиеся письма (ведь его письма друзьям оказались вне достижения жены), просмотреть архивы в Академии наук (ведь сочинения публиковались с изъятиями — «с незначительными сокращениями, касающимися мест, где излагаются интимные подробности жизни Миклухо-Маклая». — ММ 1: 16). Тогда выяснятся некоторые стороны его личности, ускользнувшие от почти всех биографов, хотя именно эти факторы в значительной мере стимулировали его деятельность, придавали ей дух и форму.2. Мятежная юность
 Николай (слева) с гимназическим приятелем.
Николай (слева) с гимназическим приятелем.
17 июля 1846 года близ Боровичей Новгородской губернии в семье инженера Николая Ильича Миклухи, строившего железную дорогу Петербург — Москва, родился второй сын, которого тоже назвали Николаем, а вскоре прибавилось еще два сына и дочь. Обосновались в Петербурге, где поселились прямо в здании вокзала (ныне Московского). Николай Николаевич Миклуха прославился как русский ученый и сам себя так аттестовал, но родители его не были великороссами. Отец пришел учиться в Питер пешком из Черниговской губернии (то есть с Украины) и вел свое происхождение из запорожских казаков. Прадед ученого Степан, хорунжий одного из малороссийских казачьих полков, отличившись в боях, получил потомственное дворянство. Мать Екатерина Семеновна была внучкой немецкого доктора Беккера, лейб-медика последнего польского короля. Ее мать (бабка ученого) была полькой. Таким образом, в жилах великого русского этнографа текла украинская, немецкая и польская кровь. Отец хотел дать детям хорошее образование, нанял учителей, в том числе учителя рисования, который проходил анатомию у самого Бэра. Впоследствии Николай всегда отлично рисовал. Однако отец рано умер от туберкулеза, а разом обедневшая семья должна была удовлетвориться обычным обучением детей. Сначала старших мальчиков отдали в немецкую Анненшуле (школу Св. Анны), но Коля взбунтовался и был переведен в третий класс 2-й санкт-петербургской гимназии. Юность ученого была кладезем для советских биографов. В семье были сильны революционные настроения. Мать была в дружбе с семьей Герцена. Семейный врач Петр Иванович Боков был личным другом Чернышевского и сам был схвачен жандармами, но за неимением улик отпущен. За судьбу польского восстания 1863 года в семье переживали, как за своих родных. Три брата матери участвовали в восстании. Коля был замечен в беспорядках, арестован, и его исключили из гимназии. Удалось устроиться вольнослушателем в Университет на физико-математический факультет, но через полгода он был исключен и оттуда. В «Деле вольнослушателя физико-математического факультета Николая Миклухи» сказано: «…подвергался аресту, сидел в Петропавловской крепости…, исключен из гимназии…, состоя вольнослушателем, неоднократно нарушал во время нахождения в здании университета правила, установленные для этих лиц…» и резюме: «… исключить без права поступления в другие высшие учебные заведения России». Это называлось: «с волчьим билетом» Осталась только одна возможность получить высшее образование — за рубежом. С помощью доктора Бокова выхлопотали для Коли разрешение на отъезд за границу для поправки здоровья. 18-летний Николай Миклуха отбыл на родину прадеда — в Германию.
3. Учеба в Германии
Оказавшись в Гейдельберге и поступив в тамошний университет, в котором из русских в разное время учились Сеченов, Менделеев, Боткин, Бородин, он выбрал философский факультет. Его увлекали идеи переустройства жизни. На первых порах юноша не мог отойти от революционных дел — искал квартиры для польских беженцев, учил польский язык, собирал деньги для отправки сосланному Чернышев скому. Однако деньги Чернышевскому не удалось доставить, польские беженцы погрязли в мелких политических спорах и бытовых заботах о благоустройстве, утратив романтический ореол, а одновременно юноша пере жил разочарование в философских системах, обосновывавших революционные идеалы. Более полезными людям представлялись ему теперь практические науки — медицина, сравнительная анатомия, биология. Он перебрался в Лейпциг на медицинский факультет. Там к своей неблагозвучной фамилии (по-немецки она звучала «фон Миклуха») он ни с того ни с сего добавил более романтическую, почти шотландскую привеску «Маклай». Взял он ее якобы у своего украинского прадеда Степана. Тот носил малахай и получил соответствующую кличку, по местному «Махалай» или «Махлай». Но поскольку «махлай» означает «олух», то прадед переделал ее на Маклай и стал подписываться двойной фамилией, чтобы отличаться от других представителей своего рода. Другая мотивировка — происхождение от шотландского пленника казаков Микаэля (Майкла) Маклая. В Лейпциге Миклухо-Маклай повстречался со столь же бедным русским студентом князем Александром Мещерским из Йенского университета, и тот переманил его в Иену. Там в это время преподавали молодой Эрнст Геккель, знаменитый дарвинист, и специалист с мировым именем по сравнительной анатомии Карл Гегенбаур. В Иене Миклухо-Маклай поселился в одном доме с Мещерским. Они стали близкими друзьями на всю жизнь. Н. Н. Миклухо-Маклай и Эрнст Геккель на Канарских островах, 1866 г.
Н. Н. Миклухо-Маклай и Эрнст Геккель на Канарских островах, 1866 г.
Геккель, которому было тогда 32 года, обратил внимание на конспекты 20-лет него Миклухо-Маклая и пригласил его к себе домой. Там он предложил двум студентам (вторым был швейцарец Фоль) принять участие в его экспедиции по обследованию губок в Северную Африку (Марокко и Канарские острова) в качестве ассистента. В 1867 г. экспедиция стала реальностью. На Канарских островах Миклухо-Маклай сделал свое первое научное открытие — новый вид губок, который он назвал Guancha blanca — в честь народа гуанчей. В Марокко Геккель был только 10 дней, а студенты остались на месяц. Переодетые в берберов, они добрались до Гибралтара под видом хакимов (врачей). Можно сказать, Геккель сделал Миклухо- Маклая путешественником. Приохотившись к экспедициям, Миклухо-Маклай сделал попытку устроиться в экспедицию Норденшельда, но тот не взял его. Вернувшись в Иену, студент опубликовал первые научные статьи, в том числе большую статью о мозге акул, ганоидных и костистых рыб. Эта работа вошла в список основных статей по сравнительной анатомии мозга. В 1868 г. Николай Миклухо-Маклай окончил Йенский университет. С молодым немецким зоологом Антоном Дорном он укатил в Италию основывать исследовательскую зоостанцию в Мессине. Он так много работал и так крепко спал, что проспал знаменитое разрушительное мессинское землетрясение 1869 г. В 1869 г. отправился в Египет, Эфиопию и Нубийскую пустыню изучать губки, рыб и вообще природу. Но, пришлось завершать работу: кончились деньги.
4. Первая экспедиция к папуасам
После 5 лет отсутствия 23-летний ученый вернулся в Петербург. На II Съезде русских естествоиспытателей он выдвинул идею организовать на разных морях исследовательские зоостанции. Ему обещали поддержку видные ученые. Представили его академику Бэру, основателю эмбриологии и океанологу. Он понравился Бэру и как специалист по губкам стал разбирать его коллекции губок, в том числе губок Тихого океана. Миклухо-Маклай отказался от почетного предложения занять место на кафедре. Вместо этого подал в Географическое общество план 8-летнего путешествия по Тихому океану. Интересы его всё более смещались с губок и рыб на людей, со сравнительной анатомии на антропологию. В какой-то мере это было как бы расширением сравнительной анатомии мозга — молодого ученого всё больше занимало сравнение человеческих рас по умственным способностям. Он интуитивно был на стороне обездоленных и угнетенных, ему импонировала теория моногенизма, отстаивавшая единое происхождение человеческого рода. Геккель-то был на стороне полигенистов, для которых расы не равны: победившие — это более прогрессивные. За поддержкой своей экспедиции выехал за границу. В Веймаре встречался с Тургеневым, в Англии — с Гексли, соратником Дарвина. От Географического общества получил 1200 рублей, от царской администрации разрешение воспользоваться плаванием корвета «Витязь» — и отправился на нездоровой во всей окрестности. С этого места не были видны корабли, а с кораблей не было видно флага Маклая. Тихий океан. Его первая самостоятельная экспедиция к папуасам Новой Гвинеи почти одновременна с первой экспедицией Пржевальского в Тибет. На архипелаге Самоа Миклухо-Маклай нанял слуг — морского бродягу шведа Ульсона и молодого полинезийца по прозвищу Бой. Портрет Миклухо-Маклая.
Художник А. И. Корзухин, 1882 г.
Портрет Миклухо-Маклая.
Художник А. И. Корзухин, 1882 г.
20 сентября 1871 г. моряки высадили ученого и его двух слуг в заливе Астролябии на северо-восточном берегу Новой Гвинеи, который позже получил название Берега Маклая. На берегу моряки пост роили ему дом на сваях, заложили вокруг фугасы (на случай нападения), оставили продовольствие, спички и товары и отбыли. Ученый специально просил поселить его на безлюдном мысу, чтобы не мешать туземцам и не пугать их. Но выбор был неудачен: эта местность и была безлюдной потому, что была самой Сначала туземцы боялись приезжих и встречали Маклая, выставив копья. Потом один из туземцев, Туй, осмелился наладить знакомства, получил подарки, за ним осмелели и другие. Маклай тактично предупреждал свистом о своем появлении в деревне, чтобы женщины успели спрятаться. Потом прятаться перестали. Постепенно Маклай стал своим среди местных, но сохраняя особый статус — очень большого человека, обладающего таинственной силой и умениями. Он дарил и менял на пищу ножи, гвозди и другие практически полезные вещи, лечил местных жителей. Тем временем изучал их язык, культуру и антропологические особенности, срисовывал их татуировку, собирал их орудия и украшения для своей коллекции. И Маклай, и его слуги много болели. Малярия и местная лихорадка не пощадили их. 13 декабря Бой умер. Когда по истечении 15 месяцев на берег прибыл русский клипер «Изумруд», Ульсон и Маклай были едва живы, но Маклай еще раздумывал, не остаться ли ему еще на какое-то время продолжать исследования. Всё же клипер забрал их.
5. Другие путешествия
На клипере ученый провел в плавании полгода, поправил здоровье, посетил Молуккские острова, Целебес, Филиппины, Гонконг и Кантон. Его с почетом принимали вице-король кантонский, султан тидорский. Последний назвал сына Маклаем и подарил Маклаю раба — мальчика Ахмата. Генерал-губернатор Нидерландской Индии Джеймс Лауден пригласил его в свой дворец в Бейтензорге (Богор) на Яве пожить в качестве почетного гостя. Здесь, в королевской роскоши и вблизи знаменитого ботанического сада, Миклухо-Маклай прожил 7 месяцев. Все пять дочерей Лаудена (от 8 до 17 лет) были влюблены в него. Гораздо серьезнее в молодого и смелого гостя влюбилась жена Лаудена (которая была моложе своего мужа на 20 лет), но он отдавал предпочтение одной из дочерей. Отсюда Маклай отправился пароходом опять на другой, южный берег Новой Гвинеи. Это второе путешествие на Новую Гвинею. Высадились 3 марта 1874 г. На сей раз, оставив базу на берегу, Маклай отправился вглубь острова. Когда вернулся, оказалось, что его база разграблена теми, кому он доверил ее охрану, но Ахмат уцелел. Найдя и покарав изменников (отдал главного под суд), Маклай написал обращение к властям о беззакониях, творимых колонизаторами и местными разбойниками, о главном из этих бедствий — торговле людьми. Миклухо-Маклай с Ахматом. 1874-1875 г. г.
Миклухо-Маклай с Ахматом. 1874-1875 г. г.
Хотя Лауден был к этому времени смещен, Маклай поехал к нему в гости как к частному лицу. Затем, В 1874 и 75 гг., предпринял в сопровождении Ахмата два путешествия по Малайскому полуострову, где изучал карликовые негроидные племена — сакаи и семангов. В 1876 г. на шхуне «Си бёрд» отправился опять на Новую Гвинею — это было третье посещение. Ахмат заболел и взят в плавание не был. Он был оставлен на попечение одного знакомого и более не упоминается. Маклай высадился снова в заливе Астролябия и встретил старых друзей — Туя и других. Теперь ему построили большой дом, откуда он изучал уже не антропологию папуасов, а их общественную структуру. Кроме того, он стремился ее укрепить, создав Папуасский Союз, способный противостоять колонизаторам и поработителям. В этом путешествии у него был уже небольшой штат слуг — три человека. В ноябре 1877 г. английская шхуна «Флауэр ов Эрроу» забрала тридцатилетнего путешественника, который был к этому времени очень болен: цинга, бери-бери, катар желудка. Полгода он прикован к постели. Его доставили в Сидней, Австралия. Семь месяцев он готовит зоологическую станцию в Уотсон-бэй, изучает мозг туземцев. Через семь месяцев американская шхуна «Сэди Ф. Келлер» увозит его в Меланезию — на Новую Каледонию, Новые Гебриды, Тробриановы острова. Возможно, в Новой Каледонии он встречался со ссыльными парижскими коммунарами. 12 мая 1880 года вернулся в Брисбен, Австралия. Прибыв туда на 7 дней, задержался на 7 месяцев, снова путешествовал вглубь страны. Только в январе 1881 г., после двух лет отсутствия, вернулся в Сидней. Премьер-министр Нового Южного Уэльса предоставил ему отдельный коттедж. Чтобы сдвинуть с места организацию зоостанции, ему советуют заручиться поддержкой влиятельного человека, сэра Джона Робертсона, бывшего премьер-министра. Робертсон оказал ему поддержку, а его дочь Маргарет-Эмма, молодая и богатая вдова миссис Роберт Кларк, полюбила гостя. Он отвечал ей взаимностью. Но в это время в Мельбурн прибыла русская эскадра. Маклай загорелся идеей посетить родину. Долго не было разрешения царя, наконец — прибыло. Однако путешествие было очень долгим. Пришлось пересаживаться с корабля на корабль, шла война в Египте, корабли застревали в портах, только через много месяцев, в сентябре 1882 г., Миклухо-Маклай прибыл в Петербург, где он не был 12 лет. Еще с дороги он написал Маргарет просьбу стать его женой. В Петербурге и Москве с блеском проходят его публичные лекции. Затем он посещает европейские страны. На пути из Парижа в Лондон получил письмо от Маргариты Робертсон — согласие стать его женой. Он устремился в Австралию, в Сидней. Но на пути, в Батавии (ныне Джакарта), он встретил русский корвет «Скобелев», направляющийся в Меланезию и планирующий побывать в заливе Астролябии. Миклухо-Маклай не мог удержаться и напросился с ними. 17 марта 1883 г. корабль бросил якорь в заливе Астролябии. Это было четвертое и последнее посещение. Теперь Маклай застал здесь полное разорение. Некто Ромильи, которому он доверял и который назвался его братом, напал на деревни и увез в рабство людей. Туй был убит на пороге дома Маклая, защищая его от грабителей. Только сутки провел Маклай на сей раз на своем берегу.
6. Женитьба и последние годы жизни
Вернувшись в Сидней, он женился, несмотря на сопротивление родни Маргарет. По условиям завещания покойного мужа новое замужество лишало ее значительной части наследства (Тумаркин 1999). Отец ее требовал разрешения царя на свадьбу по протестантскому обряду — он думал, что это не может быть достигнуто. Но царь Александр III сказал: «Пусть его женится хоть по папуанскому обряду, только бы не мозолил глаза». Свадьба состоялась 27 февраля 1884 г. Родились один за другим два сына. В 1887 г. Маклай перевез семью из Сиднея в Петербург. Раздражение царя понятно: всё это время Маклай боролся за признание Берега Маклая независимым, против аннексии его Бисмарком, против захвата Новой Гвинеи Австралией, требовал вмешательства Англии, просил царя и его министра иностранных дел объявить протекторат над независимым Берегом Маклая. Эти акции не вязались с царской дипломатией того времени, Новая Гвинея была слишком далека и с российскими интересами, по разумению царя, не связана. Тогда в 1886 г. Маклай обратился к российской общественности через газеты с призывом добровольцев стать колонистами на одном из островков Меланезии, где организовать русскую общину — работать сообща и сообща владеть землей. Склонных к алкогольным возлияниям просил ни в коем случае не беспокоиться. Неожиданно этот пуританский запрет вызвал раздражение великого русского композитора П. И. Чайковского. В своих дневниках он записал: «…я, т. е. больной, преисполненный неврозов человек, — положительно не могу обойтись без яда алкоголя, против которого восстает г. Миклуха- Маклай. Человек, обладающий столь странной фамилией (намек на нерусское происхождение. — Л. К.), весьма счастлив, что не знает прелестей водки и других алкоголических напитков. Но как несправедливо судить по себе — о других и запрещать то, чего сам не любишь. Ну, вот я, например, каждый вечер бываю пьян и не могу без этого. Как же мне сделать, чтобы попасть в число колонистов Маклая, если б я того добивался?… А впрочем… Еще не такое, ни с чем не сравнимое бедствие — быть непринятым в число его колонистов!!!» (ЧД: 211). Консервативно настроенного Чайковского не привлекла перспектива жить и работать в заморской общине, да еще с такими строгими правилами. Не все были столь индивидуалистичны. Откликнулось 160 человек. Эта социалистическая утопия напугала царя. Он создал комитет по рассмотрению проекта, и комитет единогласно высказался против проекта. Царь наложил резолюцию: «Считать это дело окончательно конченным; Миклухо-Маклаю отказать». Между тем Маклай угасал. Болезни сломили этого 42-летнего человека. 15 апреля 1888 г. в Медико-Хирургической Академии, в клинике С. П. Боткина, он умер от рака мозга — в один год с Пржевальским. При жизни он не раз писал завещания, готовясь умереть от тяжелых болезней. Написал их примерно 50. Но в последний раз не поверил, что это последний — как же, не раз уходил от смерти. И нового завещания не оставил. Успел только, поняв, что умирает, устно напомнить жене: сжечь бумаги в большой корзине. Это было очень важно для умирающего.7. Рабочие гипотезы
Вот теперь можно построить ряд гипотез о причинах этого странного завещания. Что ж, у русского за границей, предпринимавшего дипломатические действия, могли быть секретные записи. Притязания на независимость неких территорий, сопротивление аннексии, хлопоты о протекторате, обвинения некоторых стран в работорговле — всё это обычно готовилось в секрете. Но эта секретность исчезала с публикацией документов. И эти записи не имело смысла скрывать от российских ученых издателей. Может быть, Миклухо-Маклай пестовал революционные идеи, которые стоило держать в тайне и от российских издателей? Как мы видели, в молодости он был под арестом, сидел в Петропавловке, был исключен из гимназии и университета, явно испытывал симпатии к польским повстанцам, почитал Чернышевского, собирался помочь ему деньгами. Но то в молодости. А в путешествиях к папуасам — что могло бы возродить революционные идеи? Позже он узнал, что его младший брат оказался в близкой дружбе с убийцами царя Александра II и что он хотел быть среди них. Но Маклай не знал об этом в экспедициях. Наконец, социалистический душок в его последнем проекте русской общины на меланезийском острове? Но ведь не скрывал он своего проекта. Публиковал в газетах. По мнению некоторых биографов, всё дело в том, что Миклухо-Маклай в заботах о туземном населении исследуемых территорий стремился всячески затемнить конкретные указания в своих записях, чтобы затруднить колонизаторам доступ вглубь этих земель. Чтобы они не могли использовать его записи как путеводитель. Сам Маклай так объяснял Русскому географическому обществу свой отъезд из Сингапура: «Путешествие на Малаккском полуострове дало мне значительный запас сведений, важных для верного понимания политического положения стран малайских радий. Все пункты, как то: знание сообщений между странами, образ путешествия, степень населенности, характер малайского населения, отношение радий между собою и к своим подданным и т. п., — могли иметь для англичан в то время (перед началом последней экспедиции в Перак) немалое значение. Но вторжение белых в страны цветных рас, вмешательство их в дела туземцев, наконец, или порабощение, или истребление последних находятся в совершенном противоречии с моими убеждениями, и я не мог ни в каком случае, хотя и был в состоянии, быть полезным англичанам против туземцев… Я почел бы сообщения моих наблюдений, даже под покровом научной пользы, положительно делом нечестным. Малайцы, доверявшие мне, имели бы совершенное право назвать такой поступок шпионским. Поэтому не ожидайте найти в моих сообщениях об этом путешествии что-либо касающееся теперешнего status quo, социального или политического, Малайского полуострова» (цит. по: Путилов 1985: 74). И Путилов резюмирует: «Нередко он не публиковал свои работы, опасаясь, что они косвенно могут содействовать колонизаторам: пусть даже наука потерпит временный ущерб, лучше промолчать, чем дать сведения «белым» «(Путилов 1985: 74). Но, во-первых, все записи Миклухо-Маклая носят характер географических и этнографических описаний, и если уж быть последовательным, то надо было ликвидировать всё, что он написал, все дневники. А во-вторых, по завещанию рукописи и дневники доставались не западным колонизаторам, а российским ученым; до публикации этих материалов должно было пройти немало времени, а к тому же можно было бы ввести в завещание специальный пункт об ограничениях на данную информацию. Нет, тут было что-то очень личное, что жене было недоступно в силу ее незнания русского языка и что Миклухо-Маклай желал скрыть от всех. Здесь имелись в виду записи, дорогие и памятные ему самому при жизни — он их бережно хранил, не уничтожал, — а после его смерти они не должны были достаться никому. Некие тайны, которые он хотел унести в могилу. И это было столь важно, что для того, чтобы обеспечить ликвидацию этих тайн, стоило пожертвовать содержавшими их дневниками путешествий, ценными подробностями экспедиций. То есть был резон погубить записи, ради которых он самоотверженно жертвовал здоровьем и которые стоили столько трудов!8. Странности
Очевидно, чтобы догадаться о сути этой тайны, нужно выявить, что в личности Миклухо-Маклая было особенным — таким, что требовалось скрывать от людей, держать в строжайшем секрете. Это могло быть нечто запретное, постыдное или просто очень странное, отличающее его от других людей и способное навлечь на него позор или насмешки даже после смерти. Странностей в поведении Миклухо-Маклая было немало, и, вероятно, искомая странность как-то связана с другими его странностями, так что нащупывая их, мы в конце концов выйдем на причину странного завещания. а) бегство от цивилизации. Первое, что бросается в глаза — это его эмоциональное отличие от других путешественников. Сравним его прежде всего с крупнейшим антропологом Брониславом Малиновским, основателем функционализма. Кроме научных описаний, Малиновский вел и откровенный дневник — для вящей укромности на польском языке (никто из английских коллег не прочтет). Когда после его смерти дневник опубликовали, стало ясно, что Малиновский чрезвычайно тяготился своей жизнью в первобытных условиях среди дикарей, презирал своих тробрианцев, обзывал их «ниггерами» и приравнивал к собакам. Он тосковал по своим родным, мечтал о возвращении. Свою жизнь в хижине он рассматривал как вынужденное обстоятельство и выносил эти страдания только ради науки. А теперь сравним с этим уникальные высказывания Миклухо-Маклая. Дело не только в том, что он относился к своим подопечным с филантропической любовью и эгалитарным уважением антирасиста. Ему просто нравилось жить среди них — нравилось больше, чем дома, больше, чем в Европе! Европейцев он в массе презирал. Сестре он писал с корабля в 1879 г.: «Я могу и научился выносить многое, но общество так наз. людей мне часто бывает противно, почти нестерпимо». Он называет своих спутников «человеческим сбродом», «человеческим зверинцем» и отмечает, что это «преобладающая разновидность двуногих» (ММ 5: 229). В первой экспедиции, после страшнейшего приступа лихорадки он записывает в дневник: «Я так доволен в своем одиночестве!.. Мне кажется, что если бы не болезнь, я здесь не прочь был бы остаться навсегда, т. е. не возвращаться никогда в Европу» (Путилов 1985: 40). И когда за ним прибыл корабль, он, полуживой, еще раздумывал, не остаться ли, отпустив корабль. Во время экспедиции вглубь Малакки 24 января 1875 г. записывает в дневник: «я нахожу, что положительно чувствую себя отлично при этом образе жизни. Чем долее я живу в тропических странах, тем более они мне нравятся» (ММ 2: 58). Чем же? Только ли буйством природы и экзотикой? Ему нравятся папуасы. Описывая ритуальные военные игры при похоронах, он отмечает: «я не мог не любоваться красивым сложением папуасов и грациозными движениями гибкого тела» (ММ 1: 208). Он обобщает свои мысли о сравнении культур. «Усовершенствования при нашей цивилизации, — записывает он в дневнике, отмечая огрубление и увеличение своих рук, — клонятся всё более и более к развитию только некоторых наших способностей, к развитию одностороннему, к односторонней дифференцировке. Я этим не возвожу на пьедестал дикого человека, для которого развитие мускулатуры необходимо, не проповедую возврата на первые ступени человеческого развития, но вместе с тем я убедился опытом, что для каждого человека его развитие во всех отношениях должно было бы идти более параллельно и не совершенно отстраняться преобладанием развития умственного» (ММ 1: 117). С некоторым ухарством Маклай фиксирует свое уподобление дикарям. «Становлюсь немного папуасом; сегодня утром, например, почувствовал голод во время прогулки и, увидев большого краба,поймал его и сырого, т. е. живого съел…» (ММ 1: 179). Ест и вареных собак. Можно подозревать, что уподобление не ограничивалось пищевыми обычаями, а распространялось и на другие. Что какие-то обычаи папуасов даже нравились путешественнику больше европейских. Другу Мещерскому он пишет: «сам удивляюсь своим потребностям (?) и прихотям — а в Европе будет хуже». Какие такие потребности и прихоти были терпимы среди дикарей и нетерпимы в Европе? б) странствия в одиночку. Далее, в отличие от большинства путешественников, всегда предпочитавших отправляться в путь не в одиночку, а в надежной команде, с верными друзьями, и тщательно подбиравших себе товарищей в дорогу, Миклухо-Маклай путешествовал один, без соотечественников, без европейских коллег. Австралийская книжка о нем так и называется: «Кто путешествует один» (Greenop 1944). Только в студенческой экспедиционной практике он работал в команде. Но тогда организатором был Геккель. Когда же Маклай снаряжал экспедиции сам, он лишь в первую экспедицию взял европейца (шведа Ульсона) — и то всего лишь как слугу. И остался им недоволен. В остальных случаях прибывал к туземцам один, слуг и проводников набирал на месте, среди туземцев. У него даже сложилась система аргументов в защиту такого именно предпочтения. Советский этнограф Б. Н. Путилов, биограф Маклая, излагает эту систему так: «Почему один? Казалось бы, для этого не было особых оснований: да только объяви он о желании набрать людей в научный отряд — десятки ученых, энтузиастов, просто любителей приключений захотели бы отправиться с ним. Однако у Миклухо-Маклая были свои расчеты…. Появление множества пришельцев, совершенно чуждых по цвету кожи, языку, обычаям, поведению, к тому же всегда вооруженных, нередко ведущих себя вызывающе, непонятно, опасно, возбуждает местных жителей, сеет среди них подозрительность, страх, недоверие, заставляет их тоже держать оружие наготове. Даже если у экспедиции самые мирные намерения, большой ее состав трудно управляем, людям с разными характерами и взглядами невозможно держаться всё время одной линии поведения. У путешественника-одиночки есть преимущества: ему не приходится согласовывать с другими свои поступки и не приходится исправлять чужие ошибки, ему скорее удастся последовательно осуществлять собственный план. Конечно, он оказывается полностью беззащитным: если на него нападут — в лесу, в деревне, на берегу, — его никто не прикроет». Добавим: если заболеет — никто не окажет нужного ухода, если устанет — никто не подменит, если не хватит сил и умений — никто не поддержит. Это всё Маклай и его биограф отбрасывают. «И — как это ни покажется странным, — продолжает Путилов, — очевидная для всех его незащищенность окажется тоже его оружием, убережет его во многих ситуациях. Безусловно, папуасы на силу ответят силой, на угрозу — угрозой, на недоверие — еще большей недоверчивостью. А как они ответят на действия человека, который приходит к ним с кусками яркой материи, плитками табака, с множеством не всегда понятных, но явно полезных и занятных предметов?… Меньше всего Миклухо-Маклая пугало одиночество. Напротив, он видел в нем немало привлекательного и удобного для себя» (Путилов 1985: 14). Вот это несомненно. И поскольку опасности и неудобства путешествия в одиночку явно перевешивают приведенное преимущество (не раздражать туземцев), да и не столь уж очевидна необходимость полного одиночества для этого (два-три человека могут точно так же удерживаться в рамках), то должно было иметься нечто еще, что делало одиночество таким удобным и привлекательным для Маклая. Почему-то он не хотел иметь возле себя цивилизованных свидетелей — соотечественников или европейцев. Возможно, они мешали бы его свободному приобщению к туземной культуре и вообще свободе выхода из европейских культурных норм, которые его явно не устраивали. Н. Н. Миклухо-Маклай.
Бейтензорг (Богор). 1873 г.
Н. Н. Миклухо-Маклай.
Бейтензорг (Богор). 1873 г.
в) эксплуатация имиджа. Что же касается местных норм, то в чем-то они, вероятно, устраивали путешественника, а в остальном он мог с ними не считаться. Он был выше их. Его особый статус сложился быстро, и ученый очень заботливо сей статус поддерживал. Благодаря своей необычной внешности (одежда, башмаки), своим лекарским умениям, европейскому оружию и техническим средствам Маклай быстро прослыл обладателем магических свойств. Его белая кожа и метание огня (ружье, фейерверк) дали ему возможность прослыть «каарам тамо» («человеком с Луны»). Сам Маклай отмечал: «Они стали звать меня «каарам тамо» (человек с Луны) или «тамо-боро-боро» (человек болыиой-большой), ставя меня выше самых старых и почитаемых глав семейств», которых они называют просто «тамо» и редко «тамо-боро» (человек, человек большой). Они приходили ко мне, прося изменить погоду или направление ветра; были убеждены, что мой взгляд может вылечить больного или повредить здоровому, думали положительно, что я могу летать и даже, если захочу, могу зажечь море» (ММ 1: 263). Он не отрицал своего небесного происхождения. Наоборот, очень ценил эту славу и всячески укреплял ее. Прослышав, что Абуи и Малу, жители деревни Гориме, замыслили его убить и завладеть вещами, Маклай явился в эту деревню, собрал всех, позвал Абуи и Малу и улегся спать перед ними, предложив им попытаться осуществить их замысел. Оба испугались, откупились свиньей и провожали Маклая домой. В Бонгу жители собрались и Саул спросил: «Маклай, скажи, можешь ли ты умереть? Быть мертвым — как люди Бонгу, Богатии, Били- Били?» Маклай оказался в затруднении: сказать «да» значило бы бросить тень на свою репутацию, сказать «нет» — значило бы солгать, а это против его принципов. Маклай снял со стены тяжелое копье и, подав его Саулу, сказал: «Попробуй». Саул вскричал: «Нет, нет!» Присутствовавшие бросились заслонить Маклая, и эпизод был исчерпан. Когда умер его слуга Бой, Маклай скрытно, ночью, бросил его труп в море и дал понять папуасам, что Бой «улетел в Россию» («Россия» и «Луна» были для папуасов одним и тем же). Когда же папуасы не поверили, Маклай дал папуасам отпить воды, затем подлил ее в блюдце со спиртом и поджег. Эффект был потрясающий. Папуасы умоляли его не поджигать море. В России он так объяснял свои ухищрения: «Раз возведя меня в положение «каарам тамо» (человека с Луны), придав мне это неземное происхождение, каждый поступок мой, каждое мое слово, рассматриваемые в этом свете, казалось, убеждали их в этом… Моя репутация и обстановка и с нею сопряженные качества представляют ту громадную выгоду, что избавляют меня от необходимости быть всегда вооруженным и иметь в доме наготове заряженные ружья, разрывные пули, динамит и подобные аксессуары цивилизации. Проходит уже третий год, и ни один папуас не перешагнул еще порога моего дома ни на Гарагасси, ни в Бугарломе; незначительный негативный жест «каарам тамо» достаточен, чтобы держать, если хочу, туземцев в почтительном отдалении. Пристальный взгляд «каарам тамо», по мнению папуасов, достаточен, чтобы наносить вред здоровым и исцелять больных» (цит. по: Путилов 96). Вполне очевидно, что, имея такой статус и такую славу среди местного населения, Маклай мог позволять себе любые отклонения от норм, любые странности, любые «прихоти» без риска опуститься в глазах своих туземных почитателей, без риска стать изгоем. г) избегание женщин. Одна из таких его странностей — это его избегание женщин. Он их терпеть не мог. Когда он возвращался в Иену из своей студенческой экспедиции в Марокко и на Канарские острова, он пофлиртовал немного с некой немкой Августой Зелигман, похвастал своими путешествиями, обещал к ней приехать. Та влюбилась в него и прислала в Иену письмо. Он не ответил. Через несколько дней она прислала второе письмо: «Уже три дня я жду с нетерпением каких-либо известий от вас. Вы же получили мое письмо, так отчего же не отвечаете? Я жду в ближайшие дни вашего ответного письма с указанием времени, когда вы предполагаете посетить меня, что вы мне обещали. На этот раз одного обещания мне недостаточно. Вы должны приехать и скоро прийти. Я жду с нетерпением. Напишите мне сейчас же» (ММ 6: 579). Миклухо-Маклай посылает ей во Франкфурт на Майне ледяную отповедь: «На прошлой неделе получил ваше первое письмо, два дня назад — письмо от 17 января. Предпоследнее было для меня несколько непонятно, письмо же от 17 января, скажу откровенно, странно. Откуда это нетерпение? Зачем я должен скоро приехать? Это недоразумение, которое рассеется, когда я расскажу вам, кто я. Несколько часов нашего знакомства были слишком коротким сроком, чтобы узнать меня, так как я сделан не по мерке обычных добрых людей. Наше довольно оригинальное знакомство и обмен двумя-тремя письмами привели к тому, что в вашем воображении составилось совсем неверное представление о моем «я». Отсюда и нетерпение (Женщины к тому же очень любопытны). Но тут приходит разочарование: из героя, необыкновенного человека в самом благородном значении этого слова, который желал бы всем помочь и всех изучить, появляется скучающий эгоист, совершенно равнодушный к стремлениям и жизни других добрых людей, и их еще и осмеивает; который послушен лишь собственному желанию, стремясь каким-нибудь способом унять свою скуку; который добро, дружбу, великодушие считает лишь прекрасными словами, приятно щекочущими длинные уши добрых людей. Да, милая барышня, я не похож на тот портрет, который нарисовала ваша фантазия. В заключение даю вам совет: когда вы хотите видеть людей прекрасными и интересными, наблюдайте их только издали… Если набросанный мною портрет вас не испугает, то мы еще увидимся этой весной до вашего отъезда. Когда? Узнаете, когда я приеду. Неожиданное приятнее и интереснее. На сегодня довольно, — я устал, и тогда писать скучно» (ММ 5: 17–18). На фигуре «скучающего эгоиста» явно отразились образы Печорина и Базарова, а всё письмо дышит полным пренебрежением к чувствам девицы и желанием от нее избавиться. Впрочем, на случай перемены настроения резервирована возможность неожиданного приезда. В экспедицию на Новую Гвинею он берет с собой книги любимых философов — Канта и Шопенгауэра. Кант был завзятым холостяком, а Шопенгауэр развил философию женоненавистничества. Называя преобла дающую разновидность людей сбродом, Маклай пишет сестре: «между твоим полом таких образчиков особенно много» (ММ 5: 229–230). Наблюдая горных папуасов и отмечая, что «между ними встречаются чаще некрасивые лица, чем внизу», Маклай продолжает так: «О женщинах и говорить нечего: уже после первого ребенка они везде здесь делаются одинаково некрасивы: их толстые животы и груди, имеющие вид длинного полупустого мешка, почти что в фут длиною, и неуклюжие ноги делают положительно невозможною всякую претензию на красоту. Между девочками 14–15 лет встречаются некоторые — но и то редко — с приятными лицами» (ММ 1: 216). Папуасы, озабоченные его одиночеством и заинтересованные в том, чтобы он остался на Берегу Маклая навсегда, надумали его женить. Они наметили ему в жены красивую девушку, с большими глазами и длинной прической. Это была дочь Кума из деревни Гумбу. Маклай, не зная этих приготовлений, как раз проходил через эту деревню и, устав, лег поспать на резиновой подушке. В дневнике дальнейшее изложено так: «Я был разбужен шорохом, как будто в самой хижине; было, однако ж, так темно, что нельзя было разобрать ничего. Я повернулся и снова задремал. Во сне я почувствовал легкое сотрясение нар, как будто кто лег на них. Недоумевая и удивленный смелостью субъекта, я протянул руку, чтобы убедиться, действительно ли кто лег рядом со мной. Я не ошибся; но, как только я коснулся тела туземца, его рука схватила мою; и я скоро мог не сомневаться, что рядом со мной лежала женщина. Убежденный, что эта оказия была делом многих и что тут замешаны папаши и братцы и т. д., я решил сейчас же отделаться от непрошенной гостьи, которая всё еще не выпускала моей руки. Я поднялся с барлы и заявил, что я спать хочу, и, не зная еще хорошо туземный язык, заметил: «Маклай нангали авар арен»[1] (Ты ступай, Маклаю женщин не нужно).» Выйдя на следующее утро наружу, Маклай заметил, что многие знали о событии и явно ожидали другой развязки. «Они, казалось, были так удивлены, что не знали, что и думать». (ММ 1: 211). Позже папуас Коды-Баро из Богата указал Маклаю на разных женщин, которых можно бы взять в жены. Туй еще более прямо предложил Маклаю взять одну или несколько жен и осесть навсегда на Берегу Маклая. Маклай ответил, что, уехав, непременно вернется, но что женщин ему не нужно. Они слишком шумливы и разговорчивы. Всё это изложено в дневниках самого Маклая, видимо, в наиболее благоприятном для него освещении. К женщинам он относился с неприязнью и осуждением. Сестре Оле писал о своем «дурном мнении о «бабах» вообще» и подтверждал: «Вот тебе новое доказательство (если надо доказывать старые истины!), что одна из многих отличительных черт мужского пола, сравнительно с женским, есть великодушие!.. № 2 человечества (очень подходящее название твоего пола) далеко уступает в этом отношении № 1» (ММ 5: 205). Осуждение женщин сквозит в его наблюдениях. На корабле «Вильгельм II» он беседует с офицерами. С их слов подробно описывает даякский обычай на Борнео: «После обрезания делают в коже вокруг glans penis отверстие, в которое вставляют несколько пучков щетины; когда ранка закрывается, эти щетинки совершенно вращены в кожу. Это делается, чтобы доставить большее удовольствие женщинам во время коитуса. Другой офицер, быв[авший] на Борнео, подтвердил существование этого обычая у многих даяков, прибавив, что он называется там «дьюмбут» и что волосы, или щетина, выступают на 2 или 3 мм. Он сказал, что сам видел подобный пенис» (ММ 1: 271). Маклай подчеркивает, что именно женщины инициируют эти уродства. Впоследствии Маклай написал целый ряд статей об этом и подобных обычаях, об ампаллангах (металлических инструментах, вставляемых в головку члена), мика (операции вскрытия уретры снизу и развертывания члена — сперма при сношении таким плоским членом выбрасывается вне влагалища) и т. п. (статьи эти собраны в 4-м томе Собрания сочинений). Его интерес к этим сюжетам слишком бросается в глаза. Запрос его о Соньке Золотая Ручка говорит о некотором его злорадстве по поводу наказаний, ожидающих преступницу-еврейку. В газетной заметке он прочел о пересылке 127 преступниц на Сахалин и что «одну из преступниц, именно С. Блюмштейн, ожидает, кроме 12-летней каторги, 80 ударов плетьми». Он спрашивает адресата (видимо, автора заметки): «Интересуясь всем, что касается антропологии, я желал бы знать: 1) какого рода инструмент — сахалинская плеть, 2) прикрепляется ли наказуемая…» (ММ 5: 496–497). Ему нужны детали. В примечаниях издатели пишут, что, видимо, нужны для сравнения с английскими бесчинствами в Меланезии, где островитянок избивали за отказ переменить веру. Необходимость таких аналогий углядеть трудно. Какие могут быть аналогии, когда причины наказания совершенно противоположны. Скорее здесь можно увидеть смакование, возможно, подсознательное, телесных наказаний преступницы, зловредной как женщины, к тому же еще и еврейки. Можно было бы предположить, что он просто был асексуальным человеком, но этому противоречит характер его наблюдений. Достаточно сравнить описания одного и того же сексуального танца самоанцев в деревне Матауту, сделанные офицером с «Витязя» Перелешиным и Миклухо-Маклаем. Перелешин описывает музыку, затем отмечает: «Несколько пар, подернутые слегка поясками стыдливости, до того разошлись под звуки подобного там-там, что спустили с себя, как бы нечаянно, и последние пояски и вошли в какой-то дикий пафос безобразия». Он отмечает, однако, «атлетическое телосложение, мужественность, ловкость и природную грацию туземцев» (ММ 1: 466). Маклай же вначале подробно описывает одежду двух пар женщин — сначала травяная юбка до пят. (В дальнейшем описании использует принятые в антропологии сокращенные обозначения женщин и мужчин — соответственно кружком с крестиком вниз или со стрелкой вверх вправо). «После особенно оживленного вступления хора на сцену впрыгнули с двух сторон через головы сидящих 2 красных… здоровенных мужчины-начальника. На них был их обыкновенный наряд: ожерелье из пахучих трав и цветы на голове…» У женщин юбки до пят сменяются юбками до колен, затем тонкой mana. Они «снюхиваются». «Мужчины начинают яриться и теребить за одежду uu … Темп танца усиливается. Тапа заменяется листьями, и трава уже не закрывает стана, а обвивает слегка туловище uu. yy делают все более неистовые движения, срывают клочки последнего покрова и стараются приблизиться… Явившиеся uu (женщинам — Л. К.) при следующей фигуре, совершенно оголенные мужчины и продолжают танец голыми, причем yy становятся на колени у костра и, держа одной рукой стан u, горящей головней опаливают редкие волосы u на Mons Veneris…. Танец делается всё исступленнее, и хор ускоряет tempo, к ударам в ладоши присоединяется присвист. Костер по временам вспыхивает и освещает начало и уже продолжение coitus’а» (ММ 1: 373–375). На фоне такого пристального внимания к сексуальным аспектам танца избегание женщин особенно странно. Этих данных, конечно, недостаточно, чтобы заподозрить Маклая в гомосексуальности, но этого вполне достаточно, чтобы решить, что в сексуальном отношении он был человеком необычным и, возможно, с какими-то отклонениями, считавшимися тогда в цивилизованном мире постыдными и запретными. И что именно поэтому ему было приятнее и удобнее жить вне цивилизованного мира, и жить одному. Вот как он описывал мораль папуасов: «Папуасы смотрят на половые отношения разумно, как и на другие физические потребности (еда, сон и т. д.), и не создают из них искусственной тайны. Я видел много раз, как дети обоего пола, играя на теплом песке побережья, подражали coitus’y взрослых. В моем присутствии и перед другими мужчинами девушки и женщины говорили, нисколько не стесняясь, о половых органах и их функциях. Подобные разговоры показались бы чудовищными европейским моралистам…» (ММ 3: 57–58). Европейские моралисты чем-то ему досаждали…
9. Девочки и мальчики Маклая
Биографы отмечают, что Миклухо-Маклай очень любил детей, девочек и мальчиков. Любил возиться с ними, играть, заботился об удовлетворении интересов своих юных знакомцев. Так, он полюбился всем пяти дочерям Лаудена (от 8 до 17 лет) и возился с ними, учил их музыке, просил своего друга Мещерского прислать для них ноты Бетховена, Шопена и Шумана, «не очень трудные». И биографы умиляются этой готовности великого путешественника к возне с детьми. Из начала первого путешествия в Новую Гвинею, из Вальпараисо в Бразилии, он пишет тому же другу Мещерскому (18 апреля 1871 г.): «Мы здесь в Вальпарайсо 3 недели. Между делом я заинтересовался (!!) очень одной девочкой лет 14 1/2 — и отчасти иногда скверно справляюсь с этим интересом. Она просила, между прочим, вчера достать ей русских марок; пришлите ей, пожалуйста, штук 12 разных, но уже употребленных марок со следующим адресом… Буду очень благодарен. Не забудьте! Вы, может быть, улыбнетесь при чтении этой просьбы — но мне так редко встречаются люди, которые мне нравятся, что для них я готов на многое и даже готов беспокоить Вас этими пустяками» (ММ 5: 85). Можно предположить, что и здесь те же интересы, что и в Бейтензорге, но два восклицательных знака после слова «заинтересовался» и замечание о том, что автор письма «скверно справляется» с этим интересом, говорят о том, что в этом интересе есть и сексуальная составляющая. Монограммами имени этой девочки испещрена рукопись сообщения Миклухо-Маклая из Южной Америки Русскому географическому обществу — их не менее 14. Тут приведено и полное имя девочки — Эмма Мария Маргарита (ММ 1: 387). Там же, в Южной Америке, он записывает на листок по-немецки: «Были здесь две девочки, для (?) своего (?) возраста очень <физически> развитые; старшей, которой еще не было 14 лет, не хватало только мужчины с как можно большего размера пенисом; у младшей, которой едва было 13, была красивая пышная грудь» (ММ 1: 393). Странное восполнение образа 13-лет ней девочки — мужчина с членом как можно большего размера… При первом путешествии по Малаккскому полуострову Маклай повстречал пирогу с женщинами и девочками. «Одна из них кинулась мне в глаза своей курчавой головою, ей было лет двенадцать. Когда с веслом в руках, в саронге, который узко обхватывал среднюю часть туловища, она шла по стволу срубленного дерева, она показалась мне очень грациозным созданием. Я пожелал нарисовать ее портрет, тем более, что ее вьющиеся волосы делали из ее физиономии особенный тип. Но она стыдилась, боялась, одним словом не хотела прийти к занимаемой мною хижине. Это происходит, как мне кажется, оттого, что мужчины обращают внимание (в половом отношении) на очень молодых девочек, так что, если посмотреть немного пристальнее на 11–10-летнюю девочку, она стыдится, убегает, как бы боится, что ее хотят изнасиловать, или же сама заигрывает» (ММ 2: 23). Нет сомнения, Маклай смотрел на таких девочек «немного пристальнее». В другом месте этого путешествия среди курчавых голов одна ему «сейчас же бросилась в глаза миловидностью и приятным выражением. Но немного застенчивый, хотя и не глупый взгляд и перемена лица, когда он (или она) увидал, что я обратил на него или нее внимание, доказали, что это девочка…. Я нарисовал портрет Мкаль, которая оказалась действительно девочкой лет 13. Как только я сказал ей, что я ее хочу нарисовать, она поспешила надеть рубашку, но я вовремя предупредил ее, что это не нужно. Груди ее еще не были развиты, только окружность сосков немного вспухла, маленькие соски вдавлены. Видя, что я на нее часто смотрю, она вовсе перестала бояться и также смотрела на меня, даже когда я кончил, не отходила от меня, очевидно, ей нравилось, что я обращаю на нее внимание. … Положительно здесь девочки рано становятся женщинами и имеют то превосходство над европейскими, что во всех отношениях натуральнее и откровеннее. Я почти убежден, что если я ей скажу: «Пойдем со мною», заплачу за нее ее родственникам — роман готов» (ММ 2: 41). Это явно выходит за рамки научного описания и приближается к мечтам о ро мане. Может быть, даже к планам романа. В его штате прислуги при третьем посещении Новой Гвинеи было три человека: яванец Сале исполнял функции портного и повара, микронезиец Мебли с о. Пелау занимался охотой для снабжения стола, а юная родственница последнего, 12-летняя Мира, была в штате, «чтоб прислуживать мне в доме и сопровождать меня иногда при небольших экскурсиях» (ММ 2: 220). В первом письме о ней Мещерскому Маклай даже постеснялся сообщить пол этой прислуги. Разве в дальнем ответственном путешествии 12- летняя девочка лучше в роли такого слуги, чем взрослый парень? Позже, в декабре 1978 г., Маклай посылает портрет ее («моего новозеландского камердинера») своей сестре Ольге. Он пишет о портрете и его объекте: «Размеры глаз (замечательно больших), носа (замечательно плоского), губ (замечательно толстых) были отложены на бумаге с помощью циркуля. Подробности о Мире узнаешь со временем из моих дневников (кажется, они тоже в числе сожженных. — Л. К.). Когда я ее отправил на место родины, в Малегиок на острове Бабелътуап к ее дяде, другу моему томолю Раклаю, ей было приблизительно лет 14 или 13 1/2. Она была у меня от апреля 1876 по апрель 1878 — два года, и была в Бугарломе и Айру мне часто очень полезна» (ММ 5: 208). Через несколько месяцев он пишет сестре, что часто рвет написанные ей письма: «На что? зачем написал я то или другое?» и мучается вопросом: «поймешь ли ты меня?» (ММ 5: 224). Микронезийская девочка Мира, служанка ученого в 1876-1878 г. г. Рис. Н. Н. Миклухо-Маклая
Микронезийская девочка Мира, служанка ученого в 1876-1878 г. г. Рис. Н. Н. Миклухо-Маклая
А другу своему Мещерскому Маклай писал о Мире 21 июня 1876 г., т. е. с самого начала срока ее пребывания, когда ей было 12 или 11 с половиной лет: «Не посылаю портрета моей временной жены, который обещал в последнем письме, потому что таковой не взял, а микронезийская девочка Мира, которая со мной, если когда и будет таковой, то не раньше года» (ММ 5: 173). А она была с ним еще два года. Итак, при третьем посещении Новой Гвинеи он собирался взять временную жену «по папуанскому обычаю», высмотрел ее и даже собирался послать портрет Мещерскому, но жену не взял — видимо, переориентировался на девочку Миру, однако опять же некоторое время не делал ее официально своей временной женой — ждал, когда она перевалит за 12-летний рубеж, чтобы это сожительство соответствовало местным обычаям (законов там не было). Она была с ним достаточно времени для этого — и на год старше. Сделал ли он, наконец, ее своей временной женой и сожительствовал ли с ней неофициально до того — мы не знаем. Однако сами намерения показательны, а его статус «человека с Луны» позволял ему делать всё, что ему вздумается. Любопытна его рукописная заметка (с сокращенным обозначением дефлорации — кружком со штрихом со стороны) об островитянах с Самоа: «Вольная любовь. Совокупление дети начинают, как только могут рано, девочки и мальчики лет 9, 10, 11 женятся, — О (дефлорация. — Л. К.) часто 11, 12 лет, регулы, однако ж, не наступают ранее 13, 14 лет. У таких рано — О (дефлорированных — Л. К.) девок не рождается обыкновенно детей, другие браки бывают многодетнее» (ММ 1: 371). Игривое название заметки показывает личный интерес к сексу с детьми. Первым эту тайну понял биограф Маклая Б. М. Носик. Понял не сразу. Писал детскую повесть о Маклае, потом пьесу, а позже, когда сел в Москве писать повесть о женитьбе Маклая на австралийке Маргарет и сценарий для фильма, вчитался в письма «и вдруг с ужасом понял…» (Носик 1998: 365). Обычно же биографы следуют самому Маклаю в изложении его перипетий с папуасскими женщинами и лишь мельком упоминают о «клеветнических слухах», что он всё-таки имел туземную жену и прижил с ней ребенка. А как же его брак с Маргарет Робертсон, с его Ритой? Ну, многие люди с отклонениями решаются на брак. Вероятно, стимулами были те обстоятельства, что невеста была очень богата и была дочерью чрезвычайно влиятельного человека в Австралии, то есть имела всё то, в чем Маклай остро нуждался. К тому же она обладала сексуальным опытом, что для неуверенного в своих сексуальных возможностях человека немаловажно. Тем не менее, посмотрите, как он трудно шел на брак, как долго убегал от его осуществления. После долгого ухаживания предложение послал невесте с корабля, увозящего его в Россию. Полгода на дорогу, три месяца в России. Ответ получил во время путешествия по Европе. Всё откладывал отъезд в Австралию. Когда, наконец, поехал, при первой возможности свернул к Новой Гвинее… В ноябре 1883 г. во время подготовки своей женитьбы на Рите он предостерегает из Сиднея брата «Мика», планировавшего приехать к нему на подмогу в освоении островов: «смотри не влюбись: белая жена в Тихом океане — обуза или лишняя роскошь» (ММ 5: 347). В январе 1884 г. добавляет совет: «Туземная жена — большое удобство и будет тебе статья подходящая, для более быстрого изучения языка и ознакомления с туземными обычаями» (ММ 5: 354). Память о Мире его явно не оставляла. Уже женатым (в октябре 1886 г.) он пишет из Петербурга брату Мику (Михаилу) в имение Малин на Украину: «Мне рекомендовали хорошую девушку, которая умеет стряпать и стирать и т. д. Но мне кажется, было бы недурно, если бы Марья Васильевна (жена брата. — Л. К.) выбрала из малинских или нянзевских девочек (лет 10 или 12) одну более сметливую в дополнение одной прислуге. Она могла бы бегать между комнатами и кухней, отворять двери, прислуживать — я думаю, что это мысль недурная» (ММ 5: 472–473). Ясно, что препубертатное дополнение к умелой прислуге, бегающее между комнатами и кухней, нужно ему было совсем для других целей. Не добившись удовлетворения, через несколько месяцев, в марте 1887, он пишет Анне Петровне Миклухе, жене другого брата, Сергея, туда же, в Малин: «Ввиду того, что в Австралии прислуга, а главное такая, которая оставалась бы на одном месте долго (т. е. несколько лет) большая редкость, то я решил взять со временем прислугу в Австралию, по крайней мере, одну, из России, почему Вы меня обяжете, если в продолжение зимы и весны найдете где-нибудь в деревне (в Малине или Пенязевичах) девочку лет 9 или 10 (не старше 10) славянского, но никак не еврейского происхождения, сироту, здоровую, не чересчур здоровую и не слишком некрасивую…» (ММ 5: 487). Зачем ему в Австралии нужна была именно сирота, да еще оторванная от родной среды и не владеющая языком окружения? Видимо, чтобы некому было вступиться. Можно себе представить реакцию невесток на эти странные послания — как высоко они подняли брови и как плотно поджали губы. Маклай так и не получил желанную сироту славянского (никак не еврейского) происхождения, не чересчур здоровую и не слишком некрасивую. Итак, сексуальные вкусы Маклая сводились к педофилии (осложненной антисемитскими чувствами). Однако вполне вероятно, что в ней кроме гетеросексуальной основы была и гомосексуальная направленность. Уж очень назойливо в его окружении выступают сильно зависимые от него мальчики. В первом путешествии на Новую Гвинею это был новозеландский подросток по кличке Бой (англ. «мальчик»), которого он очень любил и который умер от лихорадки и был тайно похоронен в море. Его гортань Маклай успел заспиртовать для своего коллеги Гегенбаура. Можно скрепя сердце примириться с мыслью, что подросток был лучше взрослого в выполнении тех трудных задач, с которыми нужно было справляться путешественникам. Но в том же путешествии в самом его начале (10 ноября 1871 г.) Маклай предложил туземцам сделку: «Я показал им два больших ножа, фута в полтора длиною, и, шутя и смеясь, объяснил им, что дам эти два больших ножа, если они оставят жить у меня в Гарагасси маленького папуасенка, который пришел с ними. Они переглянулись с встревоженным видом, быстро переговорили между собою и затем сказали что-то мальчику, после чего тот бегом бросился в лес. Туземцев было более десятка и все вооруженные. Они, кажется, очень боялись, что я захвачу ребенка» (ММ 1: 115). Боязнь имела основания. А если бы они согласились? Затем появился мальчик Ахмет или Ахмат, раб, подаренный Маклаю султаном тидорским. «Я получил Ахмата, 11- или 12-летнего папуаса, — пишет Маклай, — от султана тидорского в январе этого года. Пробыв около четырех месяцев на клипере «Изумруд», он выучился говорить по-русски, и на этом языке мы объясняемся. Ахмат сметливый, непослушный, но добрый мальчик, который делает усердно и старательно то, что ему нравится делать, но убегает и скрывается, как только работа ему не по вкусу» (ММ 1: 269). Такой ли слуга нужен в экспедиции?
 Ахмат. Папуасский мальчик лет 12.
Рисунок Н. Н. Миклухо-Маклая
Ахмат. Папуасский мальчик лет 12.
Рисунок Н. Н. Миклухо-Маклая
Тем не менее Ахмат сопровождает Маклая во всех странствиях между первым и третьим посещениями Новой Гвинеи, с 1873 по 1876 год, и только болезни мальчика понуждают иногда оставлять его на базе. Во вся ком случае он с Маклаем в опасных путешествиях по Малайскому полу острову — тех, дневники которых сожжены. В составленном в это время (1874 г.) завещании Миклухо-Маклай распределяет, что именно оставит другу Мещерскому книги, рукописи, рисунки, чертежи), что — антропологическому музею (коллекция черепов), что — Географическому обществу (этнографические коллекции). А четвертым и последним пунктом значится: «моему маленькому слуге, папуасу по имени Ахмат тысячу рублей серебром» (ММ 5: 565) — это колоссальная сумма! А родственникам — ничего! И это в то самое время, когда семья Миклух жила весьма скромно и, отрывая от себя, посылала Николаю деньги… Могла быть, конечно, платоническая привязанность к смышленому, хотя и отлынивающему от работы мальчишке, но таскать его с собой в опаснейшие путешествия и завещать ему почти все наличные деньги можно было лишь при большой любви. А что и в этой любви вряд ли обошлось без сексуальной (гомосексуальной) составляющей, видно по графике Маклая, среди которой много рисунков мужских гениталий с фаллокриптами (туземными крышечками для фаллосов) и без всяких прикрытий — просто так. Видимо, потому, что нравился сам предмет. Наблюдая папуасских девочек и мальчиков 8–9 лет, бегающих совершенно голыми, Маклай делает следующее замечание, достойное пера Шопенгауэра: «длинные туловища и короткие ноги девочек невольно обращали внимание сравнительно с легким, свободным бегом длинноногих мальчиков» (ММ 1: 204).
 Фаллокрипт боссо с европейским ремнем, о. Танна
Фаллокрипт боссо с европейским ремнем, о. Танна

 Фаллокрипты: а) из раковины, о. Ниниго; б) о. Тасико;
Фаллокрипты: а) из раковины, о. Ниниго; б) о. Тасико;
Длинноногие мальчики, включая Ахмата, могли воспринимать «при хоти» Маклая без сопротивления не только потому, что он был «человеком с Луны», но и потому, что поглощение мальчиками мужской спермы (оральным способом или анальным) было широко распространено среди папуасов и меланезийцев и считалось нормой на ряде островов. Существовал специальный обряд — как это делать. Мальчики верили, что таким способом они приобщаются к мужской силе и растут лучше. Не осталось записей Маклая на сей счет, но обычай хорошо исследован рядом путешественников (Bleibtreu-Ehrenberg 1980; Herdt 1981, 1984, 1987).
 Мужчина с о. Малекула, 17-18 лет, его фаллокрипт. Рисовано на Таити в 1871 г.
Мужчина с о. Малекула, 17-18 лет, его фаллокрипт. Рисовано на Таити в 1871 г.
Когда Маклаю пришла в голову идея, что его сексу альные вкусы могут найти свободное удовлетворение на Востоке, в путешествиях, трудно сказать. Возможно, впервые эта идея озарила его в первом путешествии с Геккелем и затем без него с Германом Фолем по Марокко, когда они, переодетые в арабские одеяния, пробирались под видом хакимов в Гибралтар. Общеизвестна распространенность гомосексуальных утех в арабских странах Северной Африки и относительная свобода таких отношений в этом регионе. Страны эти по сей день служат Меккой для гомосексуальных европейских туристов. Возможно, именно с того памятного путешествия специалист по губкам и рыбам стал обращать всё больше внимания на различия обычаев и культурных норм разных народов, на свободу, связанную с первобытным миром. И с того памятного путешествия началась дорога к папуасам Новой Гвинеи, на которой его ждала слава великого этнографа и «человека с Луны». Тогда еще никто не ассоциировал его с «людьми лунного света». Да и сейчас это ассоциация гипотетическая. Прямые доказательства сожжены. Когда биограф путешественника Носик вычитал в письмах своего героя Мещерскому странные просьбы и признания и поведал о своем открытии «одному из главных «маклаеведов» страны профессору Тумаркину», тот взглянул на него «удивленно и не слишком дружелюбно. — С чего Вы это взяли? Я забормотал, что, может, я и не прав, но это все черным по белому, и это все же проливает свет…
 Рисунок Миклухо-Маклая
Рисунок Миклухо-Маклая
— На что? — спросил он, и я сник» (Носик 1999: 365). Между тем это действительно рисует в новом свете формирование научных интересов Миклухо-Маклая, его переход от зоологии к антропологии — науке, пронизанной идеями многообразия и равноценности разных культурных норм. Более полно очерчивается также основа его эскапизма — бегства от отечественного бюрократического режима и европейской цивилизации, его путь к методу включенного наблюдения, его предпочтение путешествиям в одиночку, когда исследователь встречается с первобытным миром один на один. Конечно, не только бегство от европейской цивилизации и ее норм определяли его судьбу — сказывались и любовь к науке, к славе, симпатия к угнетенным. Но и эскапизм, связанный с сексуальным своеобразием, налицо. Эти новые детали никак не умаляют величия Маклая — он не становится менее отважным, менее самоотверженным, менее заслуженным. Просто он другой, более реалистичный и сложный. Впрочем, видимо, после беседы с Носиком какие-то представления о том, что образ великого путешественника неполон и не столь уж пригоден для лакировки, забрезжили и у главного «маклаеведа» страны. В биографическом очерке, приложенном к шестому тому Собрания сочинений Миклухо-Маклая, где Д. Д. Тумаркин председателем редакционной комиссии, появилось неожиданное для осторожного деятеля науки высказывание: «Пришло время, устранив мифологические наслоения и «хрестоматийный» глянец, воссоздать образ тамо русс во всей его сложности, полноте и доподлинности» (ММ 6: 669). Разумеется, ни намека на то, какая именно сложность, какая доподлинная тайна скрывается под «хрестоматийным» глянцем. По словам Носика (1999: 365), «тайна эта была интимной, и неожиданной, и страшной». А ведь страшна эта тайна только в Европе. Маклай же, который называл себя «белым папуасом» (ММ 5: 310), был гражданином мира.
Гомосексуальность Чайковского
1. Тема и время
Среди тем, недавно бывших запретными и внезапно ставших открытыми, — гомосексуальность Чайковского. Выходят одна за другой книги, где эта тема занимает все больше места (вплоть до «Самоубийства Чайковского»); поставлен балет «Чайковский», в котором главный герой танцует со своим любовником; секс-меньшинства в Петербурге создали общество имени Чайковского… Ну, кому какое дело до гомосексуальности Чайковского? У нас есть его музыка. Гомосексуален он был или нет, мы ею наслаждаемся и будем наслаждаться. Пост-структуралист Ролан Барт провозгласил «смерть автора» — автор умирает в своем произведении. Когда оно создано, автор исчезает и для читателя существует лишь его произведение. Читателю нет дела до автора, до его намерений, его биографии и связей, неважно, какая ситуация вызвала к жизни произведение. Оно создано таким, каким создано. К чему бы ни стремился автор, его намерения вовсе не обязательно реализовались так, как он хотел. Да и вообще читатель вычитывает из произведения нечто, что автор, быть может, вовсе и не думал внести в произведение. Ведь у читателя другой склад мышления, другой кругозор, другая подготовка и другое время. С этим трудно согласиться. Мы не бабочки-однодневки. Мы не привязаны к нынешнему моменту. Мы живем в истории и созданы ею. Такими же мы воспринимаем и вещи, нас окружающие. Чтобы понимать мир, нам нужно улавливать связи вещей, их причины. Чтобы предвидеть ход развития, нам надо знать его истоки. Любое произведение звучит для нас совершенно иначе — полнее, интереснее, ближе, — если мы видим его место в истории, знаем его автора, если автор для нас не пустой звук, а полнокровная личность. В России долгое время Петр Ильич Чайковский был наполовину скрыт от нас. В 1900–1902 гг. появилось трехтомное жизнеописание, составленное его братом Модестом, в котором была сформирована официальная биография — сформирована такой, какою ее хотели видеть родные и близкие Чайковского. Такая биография соответствовала нормам среды, приличиям и идеологии государства и церкви. Жизнь Чайковского была прикрыта тяжелым бархатным занавесом, из-за которого он выходил к публике кланяться — в профессорском сюртуке и в мантии кембриджского доктора. Этот образ был унаследован и утвержден также советской идеологией. Революционным и патриотическим устоям нужен был народный герой, который бы воплощал в себе лучшие качества народа и страдать мог только от гнета самодержавия, в крайнем случае от буржуазной ограниченности — не привелось читать Маркса и Плеханова. Столько было биографий, но все они придерживались линии, намеченной Модестом. Даже биография, написанная врачом-психоневрологом Стойко, над которой он работал чуть ли не всю жизнь (опубликована посмертно в 1972 г.), ни словом не упоминает гомосексуальность композитора и вообще какие-либо его отклонения от идеала здоровой гармоничной личности и норм поведения. Даже пристрастие к алкоголю, которое отмечал сам Чайковский в своих дневниках (в частности, отвергая пуританство Миклухо-Маклая). Между тем в короткий период относительной свободы от цензурных ограничений, в начале 20-х годов, в Советской России были опубликованы дневник Чайковского (ЧД) и часть его переписки с родными и друзьями, где достаточно ясно выступает его гомосексуальность, которую сам он рассматривал как порок и источник душевных терзаний. Творчество его необычайно драматично, мелодии томительно прекрасны и зачастую наполнены слезами, гармонии потрясают красотой и какой-то отрешенностью от мира. Не оставляет впечатление, что Чайковский другой, не тот, который обрисован в десятках биографий. Первой осуществила прорыв к истинной жизни Чайковского эмигрантская писательница Берберова. На основе опубликованных дневников и писем Чайковского, а также бесед с родными и друзьями композитора она первой заговорила о специфической сексуальной ориентации Чайковского, о его любви к тем или иным юношам. Но характерно, что даже она в своей книге 1936 г. (российск. изд. Берберова 1997) ни разу не употребила слов «гомосексуальность», «гомосексуальный». Она избегала называть этот ужасный порок по имени, страшилась осквернить этим словом образ великого композитора. Но так или иначе джин был выпущен из бутылки. В том же году два эмигрантских писателя, Адамович и Ходасевич, выступая с откликами на сочинения Берберовой, высказались о публикации дневников Чайковского в Советской России и о самом Чайковском в его новом облике. Адамович назвал публикацию дневников «великим грехом перед памятью Петра Ильича, а самый дневник — ужасающим, ошеломляющим, невероятным в своей болтливой откровенности… Его можно было бы резюмировать словом, которое, однако, тут неприменимо и недопустимо, потому что записи принадлежат одареннейшему человеку: слово это — ничтожество». Он противопоставил Чайковского-композитора Чайковскому-человеку. В жизни Чайковскому-человеку была свойственна «беспредельная пассивность слабой себялюбивой души». Чайковский по Адамовичу это «слабый человек, который был великим художником» (Адамович 1936). Ходасевич вынес из чтения дневников иное впечатление. Он, правда, тоже отмечает у Чайковского «интеллектуальное безвкусие и эмоциональную расхлябанность». Его эмоциональные и нравственные недостатки рецензент объясняет «тяжелой наследственностью […], отчасти — и главным образом — той эротической ненормальностью, которая ему быласвойственна». Как и Адамович, Ходасевич не прощает Чайковскому его неспособности противостоять гомосексуальным страстям. Оба критика тоже страшатся произнести слово «гомосексуальность». Но Ходасевич не противопоставляет две стороны личности Чайковского, а пытается как-то связать их. Он отмечает «прямую связь этой ненормальности Чайковского с припадками нестерпимой тоски, которые на него наваливались без видимого повода […], с тем ложным положением, в которое он себя ставил по отношению к женщинам […]. Та же ненормальность […], во времена Чайковского встречавшая жестокое осуждение […], конечно, была причиной его замкнутости, скрытности и (как производное отсюда) — несправедливости, трусости, ощущения затравленности. Чайковский прожил жизнь под вечным страхом «разоблачения», «позора». Отсюда трагизм в его творчестве (Ходасевич 1936). После Берберовой гомосексуальность Чайковского стала общим местом в западной литературе (подробно об этой стороне жизни композитора см. Poznansky, 1991).2. Истоки
 П. И. Чайковский, Петербург, 1863 г. Фото Кулиша.
П. И. Чайковский, Петербург, 1863 г. Фото Кулиша.
Что касается наследственности, то ныне известно, что мужская гомосексуальность или предрасположенность к ней в значительной мере наследственна и передается по женской линии (если она связана с геном, то он находится в хромосоме X, получаемой всегда от матери). Мать Чайковского Александра Андреевна была дочерью Андрея Михайловича Ассиер, из французских эмигрантов. Так что же его гомосексуальность имеет французское происхождение? Андрей Ассиер был человеком нервным, чувствительным, и у него бывало что-то вроде эпилептических припадков (конвульсии случались и у Петра Ильича). Но ведь и не от деда подозрительный ген, а от бабки… Отец Илья Петрович, сын городничего из Вятской губернии, ставшего дворянином. Он был старше жены на 20 лет и очень любил музыку Окончил Горный кадетский корпус, работал всю жизнь директором Камско-Воткинского завода, а под старость стал в Петербурге ректором Технологического института. Детство и юность Петр Чайковский провел в Училище правоведения на Фонтанке. Он поступил туда осенью 1852 г. 12-летним, совершенно домашним, благонравным пай-мальчиком, а уж там усвоил более вольные навыки поведения. За желтую опушку мундиров учеников-правоведов дразнили «чижиками». Это о них сверстники из других школ сложили песенку-дразнилку:
Чижик-пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.
Выпил рюмку, выпил две,
Закружилось в голове.
Так нужно ль с п…..и
Знакомиться тут?
Товарищи сами
Дают и е..т.
Приятное дело
Друг другу давать
И ж…ю смело
Пред х. м вилять.
 А. Н. Апухтин, соученик Чайковского по училищу правоведения, его друг, будущий поэт.
А. Н. Апухтин, соученик Чайковского по училищу правоведения, его друг, будущий поэт.
Из выпускников училища вышли видные деятели, известные своей гомосексуальностью, — редактор «Гражданина» князь В. П. Мещерский, поэт Апухтин, обер-прокурор Священного синода Победоносцев (по прозвищу «Петровна», тот самый, который «над Россией простер совиные крыла») и другие. С Мещерским и Апухтиным Чайковский был соучеником и дружил с обоими. Мещерский прославился своими гомо сексуальными скандалами значительно позже, но, вероятно, был привержен одно полой любви с юности. Сверстник Чайков ского толстяк Леля Апухтин появился в классе в 1853 г. тринадцатилетним, уже знакомым лично с известными литера торами Фетом и Тургеневым. Он считался восходящей поэтической звездой и был любимчиком (и любовником) классного наставника Шильдера-Шульдера. Кровати «Чаиньки» и Апухтина стояли рядом и мальчики подружились. Апухтин был лидером, заводилой. Циник и критикан, он научил Чайковского курить и, видимо, не только курить. Дружбу с Апухтиным Чай ковский пронесет через всю жизнь. На его стихи напишет ряд романсов, надолго поселится в его квартире. Они и умрут в один и тот же год.
3. Сексуальная и жизненная ориентация
С 1859 г., окончив Училище правоведения, Чайковский оказался чиновником в Министерстве юстиции. Он подружился с учителем пения итальянцем Пиччиоли. Уже в возрасте, что-то около пятидесяти, Пиччиоли молодился, красил бороду и усы, подкрашивал губы и всегда был в кого-то влюблен. Он влиял на Чайковского в том же направлении, что и Апухтин. Продолжалась и дружба с Апухтиным, который своей гомосексуальности не стеснялся. Чайковский был более стеснителен, но прогуливался по солнечной стороне Невского проспекта щегольски одетым и бритым, что тогда было признаком вольнодумства. В 1862 г. оба оказались замешаны в каком-то гомосексуальном скандале (в ресторане «Шотан» на Невском), после которого, как отмечал Модест, они были «обесславлены на весь город под названием бугров» (Автобиография Модеста Чайковского в: Познанский 1993: 177, прим. 48). Бугр — это французское обозначение активных гомосексуалов (пассивные — это бардаши). Пришлось уйти из Министерства юстиции. Г.А. Ларош, ближайший друг и соученик Чайковского по Петербургской консерватории
Г.А. Ларош, ближайший друг и соученик Чайковского по Петербургской консерватории
Вот тогда-то Чайковский задумался над своей карьерой и решил, что юриста из него не выйдет. Он с детства увлекался музыкой и теперь решил заняться ею всерьез — поступил учиться в Консерваторию, к Антону Рубинштейну. В консерватории познакомился и подружился на всю жизнь с красивым 17-лет-ним музыкантом Германом Ларошем, похожим на молодого Шиллера. Играли в четыре руки, ночевали друг у друга. Герман, которого друзья звали «Маня», по уговорам Чайковского стал музыкальным критиком, весьма известным. Заканчивая консерваторию, Чайковский поселился на квартире у Апухтина. Издатель и журналист Суворин, посетивший их как-то, рассказывает (1923: 29), что Апухтин лежал уже в постели. Чайковский сказал, что идет спать. «Иди, голубчик, — откликнулся Апухтин, — сейчас я к тебе приду». В 1866 г. 26-летний композитор переехал в Москву, где брат Антона Рубинштейна Николай, руководивший Московской консерваторией, обещал ему место профессора и поселил в своей квартире. Он хорошо представлял себе особенности Чайковского и, хотя сам он весьма приударял за женщинами, его эти особенности не смущали. К удивлению Николая Григорьевича, через два года Чайковский влюбился в приезжую примадонну итальянской оперы Дезире Арто, 30-летнюю и очень красивую, и объявил всем, что хочет жениться. Он полагал тогда, что его привычки — дело временное и брак с прекрасной женщиной его выправит. В письмах к отцу и Модесту он расписывает свою любовь. Отец чрезвычайно рад, Модест, сам гомосексуальный, сомневался в возможности исправить натуру. Но больше всех усомнился Николай Григорьевич Рубинштейн. У него были и личные причины: не хотел потерять хорошего преподавателя. Он уговаривал Чайковского: на что Вам оказаться просто мужем при знаменитой жене, сопровождать ее повсюду как аккомпаниатору, когда Вы можете стать сами звездой первой величины. Но Чайковский загорелся своей идеей и слышать не хотел об отмене планируемой свадьбы. Дезире должна была только съездить домой и вернуться для бракосочетания. Перед ее отъездом к ней зашел с букетом цветов Николай Григорьевич Рубинштейн и, чрезвычайно смущенный, повел деликатный разговор о ее суженом и слухах, которые о нем ходят. Дезире, страшно взволнованная, спешно покинула Москву и уехала, а через месяц вышла замуж за одного тенора. Чайковский же остался профессором консерватории, а в личной жизни продолжал встречаться ради сексуального удовольствия с молодыми людьми, часто из простонародья. Поиски их — частый мотив в Дневниках. Вот 12 июля 1873 года, Веве, Швейцария: «Гулял по набережной в тщетной надежде!» Назавтра: «Желанья у меня непомерные, да ничего нет!» (ЧД: 7). В 1873 же году к нему поступил слугой на смену старшему брату 16- летний Алексей (Алеша, Леня) Софронов. Хотя разница между ними была в 17 лет (а может быть, именно потому), Чайковский чрезвычайно к нему привязался, выучил его русской грамоте, потом французскому языку и произношению, возил его с собой за границу, где Леня надевал пиджак и котелок. В характере этой привязанности нет никаких сомнений. Когда Леню забрали в армию, Чайковский хлопотал за него перед разнообразным начальством, но ничего не вышло. Он падал в обморок, бился в конвульсиях. Писал Лене в армию нежные письма. Вот одно из них: «Голубчик мой, Леня. Получил сегодня утром твое письмо. Мне и радостно и грустно было читать его. Радостно потому, что хочу иметь часто известия о тебе, а грустно потому, что письмо твое растравляет мою рану. Если бы ты мог знать и видеть, как я тоскую и страдаю оттого, что тебя нет!.. Так грустно, так грустно стало, что я заплакал, как ребенок. Ах, милый, дорогой Леня! Знаю, что если бы ты и сто лет остался на службе, я никогда от тебя не отвыкну и всегда буду ждать с нетерпением того счастливого дня, когда ты ко мне вернешься. Ежечасно об этом думаю… Все мне постыло, потому что тебя, моего дорогого, нет со мной» (цит. по: Берберова 1957: 190). Это не обычное письмо барина своему слуге. Леня вернулся и оставался при Чайковском слугой и поверенным до самой смерти композитора, хотя в 1887 г. и женился на Феклуше. Дом в Клину композитор завещал ему. Леню сменил другой слуга, Назар — «грамотный» (т. е. понимающий своеобразные пристрастия барина), поскольку перешел от брата Модеста. Запись 5 сентября 1886 г.: «Спал я беспокойно и видел странные сны (летание с Назаром в голом виде, необходимость и вместе невозможность что-то сделать при посредстве Саши, дьяконова сына и т. д.)» (ЧД: 93). Привязался он в Москве и к одному ученику, 14-летнему Володе Шиловскому. Привязанность была взаимной, на много лет. Чайковский ездил к Шиловским в имение, возил Володю с собой за границу (все поездки за счет Шиловских), брал у Шиловского деньги взаймы. В 1877 г. Шиловский женился на графине, которая была старше его на одиннадцать лет, и решил этим свои финансовые и социальные проблемы (стал графом). Как оказалось, и с чисто физиологическими проблемами, которые жизнь с женщиной перед ним поставила, он справился, что весьма обнадежило Чайковского. В 36–37 лет его окружали ученики — братья Шиловские, красавец виолончелист Анатолий Брандуков, скрипач Иосиф (Эдуард) Котек, познакомившийся с Чайковским еще будучи 16-летним. И тоже они были вместе много лет. В январе 1877 г. Петр Ильич писал о нем брату Модесту: «Я его знаю уже 6 лет. Он мне всегда нравился, и я уже несколько раз понемножку влюблялся в него. Это были разбеги моей любви. Теперь я разбежался и втюрился самым окончательным образом…. Когда по целым часам я держу его руку в своей и изнемогаю в борьбе с поползновением упасть к его ногам… — страсть бушует во мне с невообразимой силой, голос мой дрожит, как у юноши, и я говорю какую-то бессмыслицу. Однако же я далек от желания телесной связи…. Мне нужно одно: чтобы он знал, что я его люблю бесконечно, чтобы он был добрым и снисходительным деспотом и кумиром» (цит. по: Соколов 1994: 28). Котек обращался к бывшему учителю на ты, звал его «голубчик». А для телесных услад существовал еще один приятель — Бек-Булатов, в подмосковном имении которого была устроена, по словам Чайковского, настоящая «педерастическая бордель». Тем более, что Котек был гетеросексуалом и не мог ответить Чайковскому взаимностью. Модесту Петр Ильич пишет в мае 1877 о своей безутешности: «Моя любовь к известной тебе особе возгорелась с новой и небывалой силой! Причиною этого ревность. … Не могу тебе сказать, до чего мучительно мне было узнать, что мои подозрения основательны. Я даже не в состоянии был скрыть моего горя. Мною было проведено несколько ужасных ночей. … вдруг я почувствовал с необычайной силой, что он чужд мне, что эта женщина в миллионы миллионов раз ему ближе. Потом я свыкся с этой ужасной мыслью, но любовь разгорелась сильнее, чем когда-либо. Мы все-таки видимся каждый день, и он никогда не был так ласков со мной, как теперь» (цит. по: Соколов 1994: 28).
 Чайковский и его ученик И. И. Котек. Москва, начало 1877 г.
С племянником В. Л. Давыдовым. Париж, июнь 1892 г.
Чайковский и его ученик И. И. Котек. Москва, начало 1877 г.
С племянником В. Л. Давыдовым. Париж, июнь 1892 г.
4. Борьба с натурой
Свою гомосексуальность Чайковский считал несчастьем. Брату Анатолию он писал в 1875 г.: «Я очень, очень одинок здесь, и если б не постоянная работа, я бы просто ударился в меланхолию. Да и то правда, что [моя страсть] образует между мной и большинством людей непроходимую бездну. Она сообщает моему характеру отчужденность, страх людей, робость, неумеренную застенчивость, словом, тысячу свойств, от которых я всё больше и больше становлюсь нелюдимым. Представь, что я теперь часто и подолгу останавливаюсь на мысли о монастыре или чем-то подобном» (ЧПР: 214). Петр Ильич сердился на самого себя за то, что не может отделаться от своих страстей, считал их порочными, но не мог устоять никогда. Младшему брату Модесту, тоже гомосексуальному, он писал: «Меня бесит в тебе то, что ты не свободен ни от одного из моих недостатков — это правда. Я бы желал найти в тебе отсутствие хотя бы одной черты моей индивидуальности, и никак не могу. Ты слишком похож на меня, и когда я злюсь на тебя, то в сущности злюсь на самого себя, ибо ты вечно играешь роль зеркала, в котором я вижу отражение своих слабостей» (цит. по: Берберова 1997: 105). В 1873 г. в Западной Европе разыгрался громкий гомосексуальный скандал с французскими поэтами Верленом и Рембо: Верлен стрелял в своего возлюбленного, жена Верлена обвинила его в «постыдных связях», пересуды докатились и до Петербурга. В начале 70-х также весь Петербург говорил об одном директоре департамента, изловленном полицией на гомосексуальном приключении. Это был не столь громкий, но более близкий скандал. Мысли о монастыре оставлены. В августе 1876 г. Чайковский пишет брату Модесту (19/31 авг.): «…Я решился жениться. Это неизбежно. Я должен это сделать, и не только для себя, но и для тебя, и для Толи, и для Саши, и для всех, кого люблю. Для тебя в особенности!» Он намекал на недавнее решение Модеста принять на себя обязанности воспитателя при глухонемом мальчике Коле Конради. И дальше: «Но и тебе, Модя, нужно хорошенько подумать об этом. Бугромания и педагогия не могут вместе ужиться» (ЧПР: 253; ср. Соколов 1994: 26). Через три недели он снова пишет Модесту: «Что касается меня, то я сделаю всё возможное, чтобы в этом же году жениться, а если на это не хватит смелости, то во всяком случае бросаю свои привычки и постараюсь, чтобы меня перестали причислять к компании [бугров]… Думаю исключительно об искоренении из себя пагубных страстей». Он добавляет: «С нынешнего дня я буду серьезно собираться вступить в законное брачное сочетание с кем бы то ни было. Я нахожу, что мои склонности суть для нас обоих величайшая и непреодолимейшая преграда к счастию, и мы должны всеми силами бороться со своей природой…. Я сделаю всё возможное, чтобы в этом году жениться, а если на это не хватит смелости, то во всяком случае бросаю навеки свои привычки» (10/22 сент. 1876 — ЧПР: 253–254). На возражения брата он отвечает 28 сентября: «Потом ты говоришь, что нужно плевать на qu'en dira-t-on (что говорят)! Это верно только до некоторой степени. Есть люди, которые не могут меня презирать за мои пороки только потому, что они меня стали любить, когда еще не подозревали, что я в сущности человек с потерянной репутацией. … Разве ты думаешь, что мне не тяжело это сознавать, что меня жалеют и прощают, когда в сущности я ни в чем не виноват! И разве не убийственна мысль, что люди, любящие меня, могут иногда стыдиться меня! А ведь это сто раз было и сто раз будет. Словом, я бы хотел женитьбой или вообще гласной связью с женщиной зажать рты разной презренной твари, мнением которой я вовсе не дорожу, но которая может причинить огорчения людям, мне близким… Во всяком случае, не пугайся за меня, милый Модя. Осуществление моих планов вовсе не так близко, как ты думаешь. Я так заматерел в своих привычках и вкусах, что сразу отбросить их, как старую перчатку, нельзя… Да притом я далеко не обладаю железным характером, и после моих писем тебе уже раза три отдавался силе природных влечений. Представь себе! Я даже совершил на днях поездку в деревню к Булатову, дом которого есть не что иное, как педерастическая бордель… Итак, ты совершенно прав, говоря в своем письме, что нет возможности удержаться несмотря ни на какие клятвы, от своих слабостей» (ЧПР: 259–260). Письмо чрезвычайно противоречивое. С одной стороны, благо намеренное стремление жениться, с другой стороны — на ком угодно, а можно даже не женясь, лишь бы с женщиной. Ей-то какая роль предназначена? Роль маски? Прикрытия? С одной стороны, жажда пресечь пересуды «всякой презренной твари», с другой — мнением их не дорожу, а в сущности я «ни в чем не виноват», это моя природа. С одной стороны, твердое намерение бороться со своей природой, с другой — сознание, что это нереально. Дальше в том же письме он пишет о предполагаемом браке: «Но я сделаю это не вдруг и не необдуманно. Во всяком случае, я не намерен одеть на себя хомут. Я вступлю в законную или незаконную связь с женщиной не иначе, как вполне обеспечивши свой покой и свою свободу». На что нужна женщина, ясно из того, что допустима и незаконная связь. А как понимается «свобода», ясно из того, что за истекший месяц, как признается композитор брату, он имел три гомосексуальных контакта. Видимо, не собирается порывать с ними. Брату Анатолию, близнецу Модеста, он пишет: «Я чувствовал, что вру, когда говорил тебе, что вполне решился на известный тебе крутой переворот образа жизни. В сущности, я на это вовсе еще не решился. Я только имею это серьезно в виду и жду чего-то, что бы заставило меня действовать… Повторяю, что я имею серьезно в виду переродиться, но хочу только приготовить себя к этому постепенно (ЧПР: 257)». А два замечания предрекают скверную судьбу той женщине, которая рискнет связать свою судьбу с этим экспериментатором. Брату Модесту: «…ненавижу ту прекрасную незнакомку, которая заставит меня изменить свой образ жизни и свой антураж» (ПРС, 6: 71). Брату Анатолию: «…моя уютненькая квартирка, мои одинокие вечера, моя обстановка, тишина и покой, среди которых я обитаю, все это имеет для меня теперь какую-то особую, неоцененную прелесть. Мороз дерет по коже, когда подумаю, что со всем этим нужно расстаться…» (ПРС, 6: 72–73). Таковы были умонастроения Чайковского к 1877 г., когда в жизнь его вошли две «роковые» женщины.5. Роковые женщины
Через Котека он познакомился заочно со вдовой миллионера, строившего железные дороги, Надеждой Филаретовной фон Мекк, большой почитательницей музыкального таланта Чайковского. Получил сначала заказ на сочинение музыки, потом, видя по переписке, как Надежда Филаретовна воодушевлена ею, решился попросить взаймы несколько тысяч рублей. Фон Мекк не только дала просимую сумму, но и решила выплачивать композитору ежегодно гораздо более крупную сумму безвозмездно — как стипендию, чтобы он чувствовал себя без финансовых забот и мог полностью отдаться сочинению музыки. Стипендия дошла до 18 тысяч рублей в год — по тому времени колоссальная сумма. Однако Надежда Филаретовна решила соблюдать одно условие: они никогда не будут встречаться, никогда не увидятся лично. Она была старше Чайковского на 9 лет, имела детей. Это была высокая, худая нервная женщина, умная и образованная. То ли она, влюбившись в Чайковского заочно, боялась столкновения с реальностью — опасалась разрушить божественный образ композитора, построенный ее воображением, то ли, что более вероятно, подозревала, что будучи старше и не очень красивой, она не встретит настоящей взаимности, что композитор будет почитать в ней только ее деньги. В дальнейшем она строго соблюдала это условие многие годы, и даже когда они проживали в одном городе, они не встречались. Только переписывались. Переписка их составила три толстых тома (ЧПМ). Тематика была и музыкальной, и философской, и бытовой. Они сообщали друг другу перипетии своей жизни, обсуждали различные события, советовались. Фон Мекк приглашала Чайковского пожить в ее имении, он приезжал и пользовался ее гостеприимством, слуги создавали ему максимальный уют, он работал там, сочинял, но всё происходило без хозяйки. Надежда Филаретовна на это время неукоснительно выезжала из дому. Впоследствии они решили даже породниться: спланировали и устроили бракосочетание сына фон Мекк Николая на племяннице Чайковского Ане Давыдовой. Но и при этом не вошли в личный контакт, всё заочно. Иногда они издалека видели друг друга в театре. Однажды случайно встретились на улице в экипажах, мельком взглянули друг на друга и тотчас разъехались. Свою Четвертую симфонию Чайковский посвятил ей, но не называя ее имени — просто «Моему лучшему другу»… В том же 1877 г., и на той же основе — влюбленности в его музыку — Чайковский познакомился с миловидной молодой выпускницей консерватории Антониной Ивановной Милюковой. Она прислала ему письмо, полное восхищения, молила о встрече, прямо сообщала, что влюблена в него. Чайковский сначала не собирался отвечать. На его вопрос бывшему преподавателю Милюковой, что она собой представляет, тот ответил коротко: «Дура». Однако Чайковский к этому времени был весь нацелен на женитьбу, перебирал кандидатуры. Умная подруга у него уже была, а для той роли, которую он предназначал жене, ум вовсе и не требовался. Он повидался с девушкой, был благосклонен, любезен. К тому же Чайковский был в долгах, а девица дала понять, что обладает весьма приличным состоянием (это оказалось не так). Композитор начал ухаживать за ней, и дело быстро пошло к женитьбе. Их представления о браке были крайне несхожи. Она, как оказалось, пылает чувствами и ожидает избавления от девственности, а он считал, что брак и чувственность — вещи весьма различные, по крайней мере вполне могут быть такими. Чувства могут влечь в одну сторону (куда бы это ни оказалось, для него — отнюдь не к жене), а брачный долг — в другую. Брак для него был делом долга и приличий, а отнюдь не чувства. В это время Чайковский как раз работал над ролью Татьяны в «Евгении Онегине». Та тоже писала своему избраннику первой. Арии Татьяны так удались ему потому, что для него пушкинская героиня была отнюдь не отвлеченным образом. И даже не только аналогией его невесте. Для него это был идеал жены, о которой он для себя мечтал — жены, строго отделяющей свои чувства от брачного долга и готовой жить так, как велят приличия. Любовь может влечь ее к некой цели, «но я другому отдана и буду век ему верна». В жизни Чайковский и собирался осуществлять именно такой брак — без чувственной реализации. Его совершенно не тянуло ни к малейшему плотскому общению с невестой. Чайковский с женой Антониной Ивановной (Милюковой). Москва, июль 1877 г.
Чайковский с женой Антониной Ивановной (Милюковой). Москва, июль 1877 г.
«Маменька! — писала невеста матери. — Этот человек такой деликатный, такой деликатный, что не знаю, как и сказать!» Однако после торжественного бракосочетания такая деликатность стала представляться ей уже чрезмерной. Новобрачная знала, что в брачную ночь должно произойти некое действо, которое превратит ее в женщину, она с пылом предвкушала это событие, но муж всячески его оттягивал, после венчания молодые разъехались по разным домам. В свадебном путешествии в Петербург Петр Ильич под любым предлогом уклонялся от совместной постели, а когда это оказывалось неизбежным (наивные хозяева отводили молодым одну кровать), впадал в припадки болезни. Модесту он писал: «Когда вагон тронулся, я готов был закричать от душивших меня рыданий. Но нужно было еще занять разговором жену до Клина, чтобы заслужить себе право в темноте улечься на свое кресло и остаться одному с собой… Утешительнее всего мне было то, что жена не понимала и не сознавала моей плохо скрываемой тоски». В Петербурге «Наступил самый ужасный момент дня, когда я вечером остаюсь один с женой. Мы стали с ней ходить обнявшись». Тут внезапно до Чайковского дошло, что он может теперь представить жену обществу и заткнуть рты всем сплетникам. «С этого момента все вокруг просветлело… в первый раз я проснулся сегодня без ощущения отчаяния и безнадежности. Жена моя нисколько мне не противна» (брату Анатолию 13 июля 1877 г. — Соколов 1994: 35). К сожалению, это ощущение было мимолетным. По возвращении в Москву Чайковского обуяли прежнее отвращение и отчаяние. Он даже предпринял попытку самоубийства (по воспоминаниям его друга Кашкина) — вошел ночью в холодную реку и оставался там так долго, чтобы простудиться и смертельно заболеть. Но он был на деле весьма здоровым человеком и остался без вреда. Тогда он отправил брату Анатолию короткое письмецо: «Мне необходимо уехать. Пришли телеграмму — якобы от Направника, что меня вызывают в Петербург». Телеграмма пришла, и он стремглав помчался в Петербург. Родные не узнали Чайковского. Они недавно видели ухоженного человека в цвете лет, а с поезда сошел осунувшийся и постаревший незнакомец с белой бородой. Двое суток он пролежал без памяти. Модесту он писал (17 окт. 1877 г.): «Презрения я стою, потому что сделать такое безумие, какое я сделал, может только круглый дурак, тряпка, сумасшедший. Но мне до общего презрения дела нет. Мне только больно думать, что вы… сердитесь в глубине души на меня за то, что сунулся жениться, не посоветовавшись ни с кем из вас, а потом повис на вашей шее» (ЧПР: 302). Николаю Григорьевичу Рубинштейну, когда-то удержавшему Чайковского от женитьбы на Дезире Арто, он пишет (23 дек. 1877/4 янв. 1878 г.): «Я знаю теперь по опыту, что значит мне переделывать себя и идти против своей натуры, какая бы она ни была» (ЧПС, 7: 324). И брату Анатолию (13/25 февр. 1878): «Только теперь, особенно после истории с женитьбой, я наконец начинаю понимать, что нет ничего бесплоднее, как хотеть быть не тем, чем я есть по своей природе» (ЧПР: 374). Тут уж до Антонины Ивановны дошло истинное положение дел, а она не могла быть совсем несведущей: издавна в семействе ее родителей скандал следовал за скандалом. Мать с отцом жили врозь, непрерывно судились, у матери были незаконные дети, она обвиняла отца в сожительстве с дворовым человеком и в растлении старшей дочери (Соколов 1994). «Ух, какое несимпатичное семейство!» — жаловался Петр Ильич сестре (ЧПС, 6: 158). «Мне очень мало нравится ее семейная среда»; «кругозор их узок, взгляды дики»; «единственная мысль моя: найти возможность убежать куда-нибудь»; «хотелось задушить ее»; «я не встречал более противного человеческого существа. … Она мне ненавистна, ненавистна до умопомешательства…»; «Что может быть ужаснее, как лицезреть это омерзительное творение природы! И к чему родятся подобные гадины!» (ЧПС, 6: 158; 162; 175; 185; 190; 285). Сестра Чайковского Александра Давыдова поначалу вступалась за несчастную Антонину Тогда она написала Модесту: «Теперь скажу тебе коротенько мнение свое о Пете: поступок его с А. И. очень, очень дурен, он не юноша и мог понять, что в нем и тени задатков быть даже сносным мужем нет. Взять какую бы то ни было женщину, попытать[ся] сделать из нее ширму своему разврату, а потом перенести на нее ненависть, долженствующую пасть на собственное поведение, — это недостойно человека, так высоко развитого. Я почти убеждена, что в причине ненависти его к жене никакую роль не играют ее личные качества — он возненавидел бы всякую женщину, вставшую с ним в обязательные отношения…» (цит. по: Соколов 1994: 54). Чайковский жаждал развода и готов был взять на себя вину — якобы измену. Но в преддверии судебного процесса Антонина Ивановна сообщила, что готова простить «измену», только бы муж вернулся. Сохранился черновик письма Чайковского жене: «ты до сих пор еще надеешься, что, как ты выражаешься, рано или поздно мы должны сойтись с тобой». Этому Петр Ильич противопоставляет «непреложную истину»: сожительство невозможно. «…Никогда, ни в каком случае, ни под каким видом, ни за что на свете я не соглашусь на сожительство с тобой. Кажется, уж достаточно было говорено <об том, что тут не заключается ничего обидного для тебя> о причинах этого невозвратного решения… Еще в последний раз повторяю: ты ни в чем не виновата, я не отрицаю того, что ты можешь составить счастье другого человека, во всем виноват я, упрекать мне тебя не в чем, и тем не менее никогда, никогда, никогда жить с тобой я не буду» (ПСС, 7: 243–244). Жена грозила открытием полиции его «пороков, за которые ссылают в Сибирь». Модесту он пишет, что последнее письмо жены «замечательно тем, что из овцы, умилившей тебя до того, что даже в отдаленном будущем ты предполагал возможность примирения между нами, — она вдруг явилась весьма лютой, коварной и хитрой кошкой. Я оказался обманщиком, женившись на ней, чтоб замаскироваться (а разве не так? — Л. К.), она много от меня претерпела, она ужасается моему позорному пороку и т. д., и т. п. О, какая мерзость! Но чёрт с ней» (26 сент. / 7 ноября 1877 — ЧПР: 305). Анатолию он пишет, что жена «хочет шантажировать меня, донеся про меня тайной полиции — ну, уж этого я совсем не боюсь» (ЧПР: 364). Действительно, мог бы не бояться: много весьма высокопоставленных особ, министры и сами великие князья, братья царя, были гомосексуальны. Любые обвинения любимого композитора были бы несомненно замяты, как заминали гораздо более громкие скандалы. Но на деле Чайковский всё же боялся. Тому же Анатолию он позже признается (26 окт. /7 ноября 1878 г): «Я делаюсь совсем сумасшедшим, как только это дело всплывает! Чего я только не воображал себе? Между прочим, я в своем уме решил, что она начинает уголовное дело и хочет обвинять меня. Живо я воображал себя на скамье подсудимых и хотя громил прокурора в своей последней речи, но погибал под тяжестью обвинения. В письмах к тебе я храбрился, но в сущности считал себя уже совсем погибшим. Теперь всё это мне представляется чистым сумасшествием» (ЧПР: 496). Между тем «вести от гадины» продолжали идти. Потратив все свои средства на свадьбу, она действительно была в ужасном экономическом положении и просила денег. В декабре 1889 г. она поведала композитору, что полиция прекрасно осведомлена о его сексуальных вкусах. Впрочем, поясняя, что шеф жандармов Н. В. Мезенцев, знакомый ее семейства, предлагал подать ему докладную записку, чтобы он мог действовать, Антонина Ивановна, как она уверяет, отказалась — не желала причинять своему избраннику зло. Она продолжала его любить. Фон Мекк, полагавшая, что просто жена оказалась «не та», дала денег на то, чтобы откупиться, — 10 000 руб. Позже, через два года фон Мекк напишет Чайковскому потрясающее признание: «Знаете ли Вы, что я ревную Вас самым непозволительным образом, как женщина — любимого человека. Знаете ли, что когда Вы женились, мне было ужасно тяжело, у меня как будто оторвалось что-то от сердца. Мне стало больно, горько, мысль о Вашей близости с этой женщиной была для меня невыносима… Я ненавидела эту женщину за то, что Вам было с нею нехорошо, но я ненавидела бы ее еще во сто раз больше, если бы Вам с нею было хорошо. Мне казалось, что она отняла у меня то, что может быть только моим, на что я одна имею право, потому что люблю Вас, как никто, ценю выше всего на свете» (ЧПМ, 2: 213). Но это признание последует потом. А сейчас она написала деликатное и трогательное письмо: «Петр Ильич, любили ли Вы когда-нибудь? Мне кажется, что нет. Вы слишком любите музыку для того, чтобы могли полюбить женщину… Я нахожу, что любовь так называемая платоническая (хотя Платон вовсе не так любил) есть только полулюбовь, любовь воображения, а не сердца…» Он отвечал: «Вы спрашиваете, друг мой, знакома ли мне любовь неплатоническая? И да и нет. Если вопрос поставить несколько иначе: то есть спросить, испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу: нет, нет и нет… Впрочем, я думаю, что и в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня, понимаю ли я всё могущество этого чувства, то отвечу: да, да и да, и опять-таки скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительство и вместе блаженство любви» (ЧПМ, 1: 204–205). О том, что мучительство и блаженство доставляла ему именно платоническая любовь в буквальном смысле слова, о существовании которой образованная фон Мекк знала, он благоразумно умолчал. Деньги фон Мекк позволяли устроить развод, но жена предпочитала сохранить возможность восстановления брака. Она и дальше продолжала просить деньги, прижила от другого мужчины троих детей, ожидала их усыновления Чайковским и в конце концов сошла с ума. Последние 20 лет жизни провела в сумасшедшем доме. Так окончилась попытка Чайковского преодолеть собственную природу. Композитор взялся за Четвертую симфонию, в которой музыка передает схватку с судьбой и неодолимость судьбы. По его собственным словам, «Это фатум, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, … которая, как дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет душу. Она непобедима, и ее никогда не осилишь» (ЧПМ, 1: 218). Музыка абстрактна, и в Четвертой симфонии эта коллизия предельно обобщена. Но в чем эта «роковая сила» конкретно выражена для самого композитора, что для него самого было дамокловым мечом, после всего сказанного достаточно ясно.
6. Манфред
В 1878 г. Чайковский бежал от жены за границу, а затем переселился из Москвы в Петербург. Стипендия от фон Мекк и гонорары позволяли ему отказаться от изнурительной преподавательской работы в консерватории и отдаться целиком сочинительству. В том, что Чайковский смог обогатить русскую музыку таким количеством превосходных произведений, есть большая заслуга фон Мекк. В 1880 г. он встретился на частной квартире с 22-летним великим князем Константином Константиновичем, поэтом, писавшим под псевдонимом К. Р., и с этого времени начинаются их очень приязненные отношения (великий князь был также гомосексуален). Восьмидесятые годы для Чайковского это годы творчества — в это время созданы «Орлеанская дева», «Черевички», «Ромео и Джульетта», «1812 год», «Спящая красавица», «Щелкунчик», Пятая симфония. Это же и годы сознательного и теперь уже бескомпромиссного продолжения гомосексуальной активности. Облик композитора, его музыка, его мировая слава привлекали к нему сердца молодежи. Это бывало порою сопряжено с драмами. В 1880 г. ему писал страстные письма 17-летний Леонтий Ткаченко, умолял взять камердинером и заниматься с ним музыкой. Правда, когда Чайковский его взял, то Леонтий быстро стал закатывать истерики и вымогать деньги. В 1886 г. в Тифлисе у Чайковского возникла взаимная любовь с молодым офицером Ваней Вериновским, но тот вскоре застрелился, то ли из-за провала на экзаменах в Академию, то ли испугавшись своих собственных чувств. В Дневнике зафиксировано горе Чайковского: как вспомнит — впадает в рыдания. Еще раньше ушел из жизни некий Эдуард Зак (тоже, видимо, покончил с собой в связи с любовью к Чайковскому). Теперь, много лет спустя, Петр Ильич терзался, вспоминая о нем, и записывает в Дневнике: «Перед отходом ко сну много и долго думал об Эдуарде. Много плакал. Неужели его теперь вовсе нет???» И назавтра опять: «Думал и вспоминал об Заке. Как изумительно живо помню я его: звук голоса, движения, но особенно необычайно чудное выражение лица его по временам. Я не могу себе представить, чтобы его вовсе не было теперь… Мне кажется, что я никого так сильно не любил, как его. Боже мой! Ведь что ни говорили мне тогда и как я себя ни успокаиваю, но вина моя перед ним ужасна» (ЧД: 176–177). Чем Чайковский провинился, когда — не знаем. С 1882 г. Чайковский носился с идеей написать симфонию по драме Байрона «Манфред». Симфонию эту создал в 1885 г., и, поскольку стихи Байрона оказались созвучны с переживаниями самого композитора, ему удалось придать музыке чрезвычайную красоту и силу. Байрон, любивший и юношей и собственную сестру, заставляет своего героя славить любовь, Хотя любить, как мы с тобой любили, — Великий грех. Отчаяние Манфреда беспредельно, и все же он умирает несломленным: он оплатил свои грехи земными страданиями и не нуждается ни в божьем прощении, ни в помощи дьявола. Симфония оканчивается в мажоре. Чайковский писал о Манфреде: «В нем, как мне кажется, Байрон с удивительной силой и глубиной олицетворил всю трагичность борьбы нашего ничтожества с стремлением к познанию роковых вопросов бытия… ведь Байрон не хотел поучать нас, как следует поступать раскаявшемуся греховоднику, чтобы примириться с совестью; задача его другая…» (ЧПС, 13: 316). Примирился со своей природой и своей совестью и Чайковский. Иногда, правда, восклицал в Дневнике: «Что мне делать, чтобы нормальным быть?..» (1887 г., ЧД: 135). Но это были всего лишь мимолетные настроения. Он продолжал любить юных музыкантов, студентов и кадетов из своего окружения. Много любопытного в Дневнике за 1886 год. 14 мая, Марсель: «Шлялся по городу… Искание без успеха». 18 мая, Париж: «Около Cafè Chantant неожиданное знакомство с очень смелыми двумя французами. С одним из них разговаривал. Пьянство. Дома». 21 мая: «Шлялся около шантанов» (ЧД: 59–61). В России, судя по этому Дневнику, к услугам Петра Ильича, обычно за небольшую плату, были банщик Тимоша, «милейший» слуга Саша Легошин в семействе друга Кондратьева, деревенский мальчик Егорушка, Саша-просвирник («Саша дьяконский сын и его стратегические приемы для получения мзды» — ЧД: 83), московский извозчик Ваня. О мальчике Егорушке Табачке — 8 августа 1886, усадьба возле Клина: «После обеда ходил в город через Прасолово, надеясь увидеть интересующую меня личность». Назавтра: «После обеда ходил в Клин… Назад через Прасолово. Видел Егорушку, просил и получил вдвойне». 15 августа: «Соблазнился и дошел до Клина через Прасолово». Назавтра: «После обеда ходил в лесок и вернулся через Прасолово. Егорку не видел, а старался видеть» (ЧД: 86–88). 17 октября: «После обеда ходил все по дороге к Прасолову и добился, что Егор, к сожалению не один, выбежал ко мне. Разговоры, обещание коньков и т. д.» (ЧД105–106). С извозчиком Ваней Чайковский познакомился в начале 1886 г. или чуть раньше и сначала называл его в дневнике Иваном. Потом неоднократно ездил с ним. 2 сентября встретил Ивана случайно: «Неожиданно Иван. Рад. Парк. Большая прогулка в лесу». В конце записи за этот день Иван назван уже более интимно: «Влюблен в Ву. Колебание. Добродетель торжествует» (расшифруем цензурные точки издателя: «Влюблен в Ванечку»). Добродетель торжествовала недолго. 14 сентября: «Мой Ваня. Всевозможные заходы в кабаки. До безобразия». И назавтра: «Недоразумение с Ваней. Нахожу его у подъезда при возвращении. Очень приятная и счастливая минута жизни. За то бессонная ночь, а уж что за мучение и тоску я испытывал в утро то, — этого я выразить не в силах». 16 сентября: «Ощущение тоски. Поиски Вани около гостиницы». 17 сентября: «Ваня. Домой» (ЧД: 92, 95–96). Дальше мимолетные встречи, в спешке, так что любовные действия приходится ограничивать — 2 октября: «Ванюша. Руки». 9 декабря: «Ваня. Рука». 10 декабря: «Ваня. Руки». 11 декабря: «Пьяный Ванька» 12 декабря: «Вчера Ваня вызвал гнев. Сегодня растаял». 18 декабря: «Иван-извощик и 15 р.» (ЧД: 115–118). Наконец, 21 марта 1887 г.: «Охлаждение к Ване. Желание от него отделаться» (ЧД: 133). Петр Ильич и дальше затевал знакомства со слугами и продавцами. 10 июня 1889 г.: «Познакомился я с новым прикащиком». Назавтра: «Пошел на встречу к прикащику, имевшему вернуться. Встретил. Ничего. Дома» (ЧД: 243). Не брезговал великий композитор и утехами с банщиками и другими молодыми людьми, промышлявшими платной любовью. Его часто видели в ресторане «Палкин» на Невском, д. 47, — известном месте встречи гомосексуалов («теток»), желавших познакомиться с молодыми гуляками. В полицейском документе начала 90-х об этом обиталище «теток» говорится: «Здесь они пользуются большим почетом как выгодные гости и имеют даже к постоянным услугам одного лакея, который доставляет в отдельные кабинеты подгулявшим теткам молодых солдат и мальчиков». Фамилия лакея Зайцев (Ротиков 1998: 402; Берсенев и Марков 1998). Будучи в Париже в 1889 г., композитор специально отметил в дневнике: «в Café с [блядями] и в Paix. Шахматы. Я дремал. Один домой. Негр. Они зашли ко мне» (ЧД: 231). Дальше обрыв записей на неделю. Слухи об этих похождениях композитора стали общим достоянием.7. Пиковая дама
В 1890 г. внезапно наступил кризис в его отношениях с фон Мекк. Она вдруг написала ему письмо, в котором извещала, что финансовое состояние ее резко ухудшилось и, к сожалению, она более не сможет выплачивать ему ту стипендию, которую 13 лет высылала регулярно. В связи с этим переписка их должна прекратиться. Н. Ф. фон Мекк (1876 г.)
Н. Ф. фон Мекк (1876 г.)
Петр Ильич был, конечно, огорчен. Правда, теперь уже это не было бедствием для него. Он давно уже был знаменит, и его собственные заработки были весьма велики, а с 1881 г. царь в знак особого расположения платил ему пожизненную пенсию в 3000 р. серебром, хотя, конечно, сумма, которуюприсылала фон Мекк, была отнюдь не лишней. В конце концов, он мог понять прекращение финансовой поддержки. Но почему надо обрывать переписку? Он написал ей, что прекращение стипендии отнюдь не означает разрыва отношений, он будет всё также рад получать ее умные и дружеские письма. Но ответа не последовало. А через год он узнал, что состояние ее вовсе не пришло в упадок: железнодорожные акции даже повысились в цене. Просто ее брат разъяснил ей настоящую причину отсутствия женщин у Чайковского. И хотя фон Мекк знала, что такое истинно платоническая любовь, как и кого любил Платон, Чайковскому этой любви она простить не могла. А может быть, не могла простить скрытности, неискренности. Для него этот разрыв также был афронтом. Она отказала ему в дружбе и поддержке за вину, которой, как он теперь понимал, за ним не было. Конечно, Надежда Филаретовна сильно постарела, ожесточилась от семейных неурядиц и очерствела, он это мог понять, но всё же удар был чувствителен. Как раз зимой и весной 1889–1890 г. он писал музыку к «Пиковой даме» (либретто делал Модест). Для создания оперы уехал во Флоренцию, писал музыку там. Трагический сюжет захватил композитора. Опера была написана всего за 44 дня — что называется, на одном дыхании. Глазунову он писал, что переживает «очень загадочную стадию на пути к могиле». «Что-то такое совершилось внутри меня, для меня самого непонятное». Писал, что Герман очень ему симпатичен. Поскольку Леня Софронов женился и был всё время в Клину, с композитором был, как уже сказано, другой слуга, Назар, уступленный ему Модестом. Назар сознавал, сколь значительного хозяина послал ему Бог, и вел записи своего общения с Чайковским. Из записей Назара: «— Ну, Назар», обратились ко мне и начали рассказывать…, как Герман покончил с собой. Петр Ильич говорили, что они плакали весь этот вечер, глаза их были в это время еще красны, они были сами совершенно измучены…». Композитор явно чувствовал некую близость к Герману — этому авантюристу, который так сильно надеялся на помощь богатой и таинственной старухи, был поддержан ее колдовской силой и неожиданно обманут в своих надеждах. Это было так близко композитору, вероятно, потому, что именно в это время он пережил такое же разочарование в своих странных и немного мистических отношениях с фон Мекк. Нельзя отделаться от ощущения, что Пиковая дама, графиня, для него слилась с образом всегда далекой и утерянной навсегда старухи фон Мекк.
8. Шестая, «Патетическая»
В 90-е годы Чайковский, уже белый, как лунь в свои 50 с лишним лет, влюбился без памяти в своего племянника Владимира Давыдова, Боба, как звали его в семье, высокого статного курсанта училища правоведения. В своем завещании композитор передал Владимиру Львовичу Давыдову все авторские права на свои произведения. Уезжая в Америку, он писал оттуда Бобу: «Больше всего я думал, конечно, о тебе, и так жаждал увидеть тебя, услышать твой голос, и это казалось мне таким невероятным счастьем, что, кажется, отдал бы десять лет жизни (а я жизнь, как тебе известно, очень ценю), чтобы хоть на секунду ты появился, Боб! Я обожаю тебя». В 1893 году он должен был получить мантию и диплом почетного доктора музыки в Кембриджском университете. По дороге в Кембридж пишет опять же Бобу: «Я пишу тебе с каким-то сладострастием. Мысль, что эта бумажка будет в твоих руках, дома, наполняет меня радостью и вызывает слезы… Несколько раз вчера во время дороги я решился бросить и удрать, но как-то стыдно вернуться ни с чем. Вчера мои мучения дошли до того, что пропал аппетит, а это у меня редкость». Боб милостиво принимал ухаживания дяди, однако в сексуальном плане был к нему вполне равнодушен, и Чайковский это знал. На деле Боб был все же гомосексуален или во всяком случае бисексуален. Это явствует из письма к нему, двадцатилетнему, влюбленной в него тетки Прасковьи, жены Анатолия Чайковского, не намного его старшей. «… Раз я сидела среди общества, зашел разговор о тебе, я по обыкновению восторгалась тобой — на это мне отвечают, что ты таким только кажешься, а что многим ты омерзителен и что многие даже не захотят подать тебе руки… Я страшно была счастлива, когда заметила, что тебе нравлюсь; но когда в вагоне на мой вопрос, правда ли то, что про тебя говорят, ты ответил, что «может быть и то и другое» (т. е. и муж. и жен.)… и потом повторял несколько раз серьезно: «Я подлец» — еще большее сомнение насчет тебя запало во мне. Я думала, думала и додумалась, что… я … 1-ая женщина, которая действовала на твою чувственность, а ты думал, что рожден ненавистником женщин. Любить же то и другое совсем уж безнравственно… Я узнала также, что д. Петя боялся и старался, чтобы ты не был таким… И нетрудно догадаться, чье общество и какой entourage имел на тебя пагубное влияние, чьи друзья сосланы за границу и кто нашел, когда ты был еще почти ангелом, что ты будешь такой… Если б я была свободна — я ручаюсь, что излечила бы тебя. — Теперь еще есть время; но я связана по рукам и ногам и не могу тебе помочь… Я не могу слышать, когда говорят, что ты среднего рода, что ты отпетый и неисправим…» (цит. по: Соколов 1994: 200–201). В. Л. Давыдов (Боб) в мундире Училища правоведения
В. Л. Давыдов (Боб) в мундире Училища правоведения
Вот такого юношу с родственными чувствами полюбил Петр Ильич. Тем обиднее было ответное равнодушие. Но любви не прикажешь. Петр Ильич мог относить это равнодушие если не за счет разницы природных ориентаций, то за счет своего возраста, так или иначе это было для него трагедией. Для Боба же, видимо, трагедией было метание между собственными чувствами. Много лет спустя он по кончит с собой. Но до этого еще далеко. Сейчас композитор терзается неразделен ной любовью. Именно в это время он пишет Шестую симфонию, глубокий трагизм которой потряс слушателей. Она посвящена В. Л. Давыдову. Когда Давыдов особенно наглядно показал свое невнимание к дяде, композитор велел снять посвящение, но потом снова вернул. Критик В. В. Стасов писал в 1901 г. о Шестой симфонии: «…она не что иное, как страшный вопль отчаяния и безнадежности, как будто говорящий мелодиею своего финала: «Ах, зачем на свете жил я!»… Настроение этой симфонии страшное и мучительное; она заставляет слушателя испытывать горькое сострадание к человеку и художнику, которому пришлось на своем веку испытать те ужасные душевные муки, которые здесь выражены и которых причины нам неведомы» (Стасов 1980: 99). В советское время было принято искать в этом трагизме социальное звучание — отражение социального отчаяния конца века, конца царизма. Академик Б. В. Асафьев называл эту симфонию (в 1922 г.) «трагическим документом эпохи». Эпохи или биографии? Асафьев понимал, что непосредственные стимулы к созданию произведений лежали в сфере личных переживаний композитора и втайне, вероятно, отдавал себе отчет, что часто это были переживания, вызванные особой сексуальной ориентацией. Именно так было с некоторыми компонентами самых ярких произведений Чайковского — «Евгением Онегиным», «Пиковой дамой», симфонией «Манфред», Шестой симфонией. Но, как пишет Асафьев (1972: 301) о Чайковском, «Он часто… сам удивлялся совпадению его тайных сокровенных грез с желаниями людей вокруг. Так было с «Евгением Онегиным». Когда же в конце жизни он геройски собрал свои силы, чтобы выявить, наконец, в музыке то лично трагическое, что не давало покоя ему всю жизнь, он создал «Пиковую даму» и Шестую симфонию, от которых и теперь становится страшно…». Композитор хотел так и назвать симфонию — Трагическая, но Модест предложил более интересное название — Патетическая. В ней ведь не только отчаяние, но и пафос любви. Помните? «Да, да и да». Владели ли Чайковским в это время идеи отказа от радостей жизни, чувства раскаявшегося грешника, ожидание расплаты за грехи и пороки? Никак нет. Великий князь Константин Константинович, его высокий покровитель, К. Р., терзавшийся от сознания своей греховности (также связанной с гомосексуальностью), предложил Чайковскому написать «Реквием» на горькие слова Апухтина. В ответном письме (21 сент. /З окт. 1893 г.) Чайковский вежливо отказывается, ссылаясь на то, что чувства траура уже выражены в Шестой симфонии и ему не хочется повторяться. Сочтя это объяснение недостаточным, через несколько дней он шлет второе письмо (26 сент. /8 окт.). В нем, за месяц до своей смерти, он пишет: «Есть причина, почему я мало склонен к сочинению музыки на какой-бы то ни было реквием, но я боюсь неделикатно коснуться Вашего религиозного чувства. В «Реквиеме» много говорится о Боге-судии, Боге-карателе, Боге-мстителе (!!!). Простите, Ваше Высочество, — но я осмелюсь намекнуть, что в такого Бога я не верю, или, по крайней мере, такой Бог не может вызвать во мне тех слез, того восторга, того преклонения перед создателем и источником всего блага, которые вдохновили бы меня» (ЧПС, 17: 186). Между тем всего месяц оставался до его неожиданной и мучительной смерти.
9. Возмездие?
Эпидемия холеры в Петербурге шла уже на спад, но Чайковский заболел и через несколько дней мучений скончался. Хоронил его весь город. С того самого времени начали ходить слухи о том, что смерть его не была естественной, что он покончил с собой и что это как-то связано с его сексуальными прегрешениями. Слухи эти дошли до наших дней и реализовались в двух версиях. Одну предала печатной гласности музыковед А. А. Орлова в 1980-х годах, естественно, за границей (Орлова 1987 и др.). По ее рассказу, ей сообщил это некто Войтов, которому в 1913 г. соседка по даче в Крыму, Елена Карловна Якоби, вдова сенатского прокурора и соученика Чайковского по училищу правоведов, передала страшную тайну. Муж ее, Николай Борисович Якоби, за 20 лет до того, в 1893 г., устроил в своем доме в Крыму собрание соучеников по училищу, на которое пригласил Чайковского. Все примчались из Петербурга. Жена сидела за запертыми дверями кабинета несколько часов и слышала глухой разговор там. Потом выскочил взволнованный Чайковский и бросился вон. А муж рассказал ей суть дела. Граф Стенбок-Фермор пожаловался государю на то, что юному племяннику графа строит куры композитор Чайковский. Государь разгневался и приказал Сенату разобраться. Узнав об этом, Якоби собрал бывших соучеников по училищу правоведения и устроил суд чести, который должен был предотвратить позор, который бы пал на училище, если бы дело было предано гласному суду. Соученики предложили Чайковскому поступить, как подобает дворянину — покончить с собой. Чайковский уехал, принял яд, и через несколько дней мир узнал о его смерти от холеры. Версию эту приняли немногие издания, у нас, в частности, писатель Нагибин. Большинство ученых версию принять не смогло. Во-первых, дело несоразмерно такому развороту событий. На что графу Стенбоку-Фермору жаловаться? На простое ухаживание! Самое сильное, что могло бы последовать за такой жалобой (и даже за более основательной) — это укоризненное замечание, переданное намеком Чайковскому через кого-нибудь из великих князей или придворных. Сенату тут делать нечего. Во-вторых, Стенбок-Ферморы — придворные и хорошо знали, что гомо сексуальностью отличались сами великие князья (8 или 9 из них!), обер-прокурор Синода и влиятельные министры. Светские люди не стали бы ставить всех в неудобное положение, постарались бы справиться с делом личными контактами. В-третьих, даже публичные гомосексуальные скандалы (например, в скандале 1889 г. было замешано около 200 гвардейцев и артистов Александринского театра!) в России старались замять. В- четвертых, не правоведам бы (выпускникам училища правоведения, певавшим тот самый гимн) судить за гомосексуальность. В-пятых, последние дни Чайковского прослежены по часам — там не остается времени для путешествия в Крым к Якоби. В-шестых, нет общедоступного яда, способного действовать медленно — убивать за несколько дней — и без четких следов химического препарата. В-седьмых, версия передана устно через ряд посредствующих звеньев, разделенных друг от друга десятками лет, когда действуют погрешности памяти и просто сочинительство; ни один из этапов передачи этой версии не зафиксирован письменно, и версия не подтверждена никакими документами 1893 года. Другая версия всплыла тоже в XX веке — у швейцарского музыкального критика Алоиса Моозера, автора истории русской музыки (он умер в 1969 г.). В молодости он побывал в России и слышал якобы от Риккардо Дриго, дирижера императорского балета, что Чайковский соблазнил сына дворника. Дворник пожаловался полиции. Дело дошло до императора, и тот якобы высказал пожелание: виновный должен исчезнуть. Чайковский принял яд. Со слов Моозера, композитор Глазунов подтвердил ему эту версию. Она несколько реалистичнее по объекту совращения: известно пристрастие Чайковского к молодым парням низшего сословия — банщикам, слугам, кучерам. Однако версия носит сугубо европейский характер. В России в подобном случае всё обычно улаживалось небольшими денежными подачками. Совершенно нереально, чтобы за сына дворника вступился столь грозно император, который очень любил Чайковского. Затруднение с ядом остается. Документальных подтверждений никаких. Версия остается на уровне слухов, распространявшихся далекими от Чайковского людьми. Сторонники этих версий ссылаются на разногласия и неточности в описании последних дней Чайковского врачами и родными. Но в растерянности и смятении катастрофы это обычно: детали путаются и смещаются. Кроме того, и врачи, и Модест проморгали первые симптомы болезни, потеряли, минимум, день или два, когда еще можно было спасти композитора, так что они вольно или невольно старались так изложить детали, чтобы затенить эти ужасные для них обстоятельства. Отсюда путаница и разногласия в деталях (Познанский 1993). Не было возмездия от людей — не им судить. Не было и возмездия от Бога — по отношению к Чайковскому он, действительно, не был карателем и мстителем. Петр Ильич умер от той же болезни, что и его мать за полвека до него — от холеры. А матери-то его за что было мстить? Очень была порядочная и благонравная женщина. Чайковский сотворил столько чудесной музыки, которая одушевляет и услаждает миллионы людей во всем мире вот уже два века. Причинял ли он кому-либо зло? Возможно. Свою несостоявшуюся жену Антонину явно разочаровал и озлобил. Быть может, и кого-то из случайных возлюбленных. Его несдержанность способствовала смерти некоторых его возлюбленных. Застрелившийся (впрочем, не обязательно из-за гомо сексуальности) Вериновский. Застрелившийся Эдуард Зак. Застрелившийся Боб Давыдов… Но, встречая необычное чувство и находя в себе ответное, в большинстве они знали, на что идут, и желали этого. Чайковский был прав в том, что не виноват в своей натуре. А как мы видели, в его музыке эта натура отразилась многообразно и разными своими сторонами. В том числе и связанной с гомосексуальностью. Такой суровый моралист, как Лев Толстой, несомненно знавший слухи об эротических особенностях Чайковского, на известие о его смерти отреагировал в письме к жене (26 или 27 окт. 1893 г.) очень неожиданно и странно: «Мне очень жаль Чайковского… Жаль как человека, с к[оторым] что то б[ыло] чуть-чуть неясно, больше еще чем музыканта. Как это скоро, и как просто, и натурально, и ненатурально, и как мне близко» (Толстой 1992: 200–201). Что в жизни и смерти Чайковского Толстой считал натуральным, что — ненатуральным, можно догадываться. А вот что и почему было ему близко? Здесь встает вопрос о чувствах самого Толстого.Лев Толстой, смятение чувств
1. Св. Августин как прототип
В сексологии было много споров о том, есть ли в действительности латентная гомосексуальность — скрытая, проявляющаяся не сразу или вовсе не проявляющаяся открыто. Такая, когда человек долго или даже всю жизнь считает себя вполне «нормальным», то есть гетеро сексуальным, тогда как в подсознании его тлеют гомосексуальные потребности, готовые в любое время привести к неожиданным эксцессам и, что еще хуже, вносящие в его жизнь непонятную для него самого напряженность и неудовлетворенность. Нужно учесть, что в обществе гомосексуальность долго считалась позорной и неестественной слабостью. В таких условиях подавление гомосексуальных склонностей сознанием может быть очень прочным, если личность сильная, а ее требования к себе и идеалы — мирские, внушенные средой, или религиозные — очень высоки. Но в таком случае противоречия между подсознанием и сознанием создают трагическую доминанту всей жизни. Эта трагичность окрашивала жизнь некоторых духовных вождей человечества. Человек, которому суждено было стать Святым Августином, одним из основателей римско-католической церкви и ее догм, родился в середине IV века н. э. в Нумидии (нынешний Алжир). Благодаря его «Исповеди», мы знаем, что в молодости, поселившись в Карфагене, «где всё вокруг источало негу запретной любви», он «тянулся к ней, как мотылек к свету <…> Для меня любить и быть любимым было наслаждением, особенно если я мог наслаждаться еще и телом любимого человека. Тем самым я загрязнял родник дружбы мерзостью сладострастия. Я замутнял ее чистый поток адской похотью». Его возлюбленный юноша, с которым он наслаждался любовью почти год, внезапно заболел и умер. «Я удивлялся тому, что вместе с ним не умерли все смертные, настолько диким мне казалось то, что он умер, а я жив». Тем не менее Августин имел еще и любовницу, которая родила ему сына. Через 16 лет Августин вместе с сыном приняли христианскую веру. Сын вскоре умер, Августин же порвал все отношения со своей сожительницей, продал свое имение, роздал деньги бедным, а свой дом превратил в монастырь. Через 10 лет он был уже епископом и в последующие три десятилетия написал свои труды, ставшие основополагающим изложением католических догм, аскетизма и женоненавистничества. Блаженный Августин осуждал любые сексуальные отношения, даже между мужем и женой. «Нет ничего на свете, писал он, — что бы более разлагающе действовало на мужскую душу, чем привлекательность женщин и телесный контакт с ними». Он считал, что «тело мужчины достойнее тела женщины подобно тому, как душа достойнее тела». Так что в своем подсознании он оставался гомосексуальным, но эта гомосексуальность, подавленная христианским мышлением, приобрела искаженную форму женоненавистничества и отказа от всякой плотской любви. Он вытравил в себе и гомосексуальную страсть, особенно возмущаясь мужчинами, которые позволяли использовать свое тело, «как женщины» (Расселл, 1996: 86–90; Августин, 1996). Но скрытой гомосексуальность Августина была лишь во второй половине его жизни. В молодости он любил мужчин сильнее, чем женщин, любил плотски и сознавал это. Иначе обстояло дело с другими великими искателями истины и Бога — Николаем Гоголем и Львом Николаевичем Толстым. У обоих гомосексуальные чувства сказываются, но в подавленном виде. Они никогда не вступали в плотскую связь с мужчинами. Профессор С. Карлинский (Калифонийский университет, Беркли) собрал доказательства скрытой гомосексуальности Гоголя. За всю жизнь Гоголь не был близок ни с одной женщиной. Даже за вдохновением он обращается не к Музе, как Пушкин и другие, а к Гению («1834»). Кроме писем к матери, его огромная переписка адресована почти исключительно мужчинам. Письма к некоторым друзьям носят чрезвычайно эмоциональный и аффектированный характер — Гоголь клянется в вечной и верной любви до гроба. Критики относят это за счет стандартного стиля переписки в пору романтики и сентиментализма, но ведь ни у Жуковского, ни у Пушкина такой чувствительности в письмах нет. Опубликованные посмертно гоголевские «Ночи на вилле», где от первого лица представлены излияния в страстной любви к умирающему юноше, это на деле не художественное произведение, а личный дневник Гоголя, сохранившийся от времени, когда он ухаживал за умиравшим молодым другом князем Иосифом Виельгорским. Смерть Виельгорского была тяжелым ударом для Гоголя, хотя у него была еще одна такая привязанность — к молодому поэту Языкову, которого он уговорил жить вместе. И жили, но долгого сожительства не получилось. Языков отказался от продолжения. На своем смертном одре Гоголь признавался врачу, что не имел в жизни ни одного полового сношения и никогда не был причастен к «самоосквернению» (то есть к мастурбации). Он был глубоко религиозным человеком и не допускал и мысли о том, что его любовь к юношам может обрести плотский характер. Но весь его быт (Гоголь очень любил красиво и модно одеваться, хорошо варил, а однажды его видели дома в женском наряде), вся его общая ориентация на общение с мужчинами и его избегание женщин свидетельствуют о том, что главный герой его «Женитьбы», убегающий почти из-под венца, это по ощущениям и чувствам сам Гоголь. И. Н. Крамской.
Портрет Л. Н. Толстого. 1873.
И. Н. Крамской.
Портрет Л. Н. Толстого. 1873.
Вокруг него в обществе было очень много людей, почти откровенно практиковавших гомосексуальные отношения — князья А. Н. Голицын (министр просвещения), Вл. П. Мещерский (внук Карамзина, литератор и редактор журнала), П. В. Долгоруков и М. А. Дондуков-Корсаков (вице-президент Академии наук), другой министр просвещения граф С. С. Уваров, приятель Пушкина Ф. Ф. Вигель (у Пушкина есть эпиграммы на них), поэты Ал. Ник. Муравьев и А. Н. Апухтин, композитор П. И. Чайковский и другие. Гомосексуальность витала в воздухе. Для Гоголя это был абсолютно запретный и ужасающий мир греховных искушений, и если он в глубине души сознавал направленность своих влечений, то должен был глубоко страдать от этого. В сущности его смерть близка самоубийству: он перестал есть и вместо сна молился. Он уморил себя голодом и бессонницей (Karlinsky 1976). Если Гоголь и сознавал свои гомосексуальные влечения, то про являл их только в поступках, но никогда не высказывал их. Напротив, Толстой, видимо, не сознавал себя гомосексуалом и не проявлял ничего подобного в поведении, но высказывался о своих странных влечениях и удивлялся им. О скрытой гомосексуальности Толстого высказывался в начале века (1911) философ В. В. Розанов (1990: 105–111, 147). Но его доказательства большей частью носят косвенный характер. Сейчас можно привести более прямые соображения по опубликованным ныне материалам о Толстом.
2. Мизогиния Толстого
Как и многие творчески одаренные люди, человек он был очень сексуальный. С 14 лет, как он многократно вспоминал, похоть терзала его, и это было тем более мучительно, что, с одной стороны, он был болезненно мнителен, считая свою внешность уродливой (он и в самом деле в юности не был красивым), а с другой стороны, воспитанный в уважении религиозных ценностей, он был уверен, что всякая уступка страсти есть моральное падение. Уступать же приходилось то и дело. Организм требовал, а подросток и в мыслях не имел удовлет ворять свою половую потребность не так, как все, «неестественным» образом. «… Когда меня братья в первый раз привели в публичный дом, — говорил он М. А. Шмидт, — и я совершил этот акт, я потом стоял у кровати этой женщины и плакал» (Гусев 1954: 168–169). Но отчаяние прошло, а жизнь поставляла множество ситуаций, в которых находились женщины, готовые утолить его потребность. В результате попал в больницу. С записи в клинике и начинается его дневник: «Я получил гаонарею…» (Толстой 1992, 46: 3). Позже, на военной службе, появляются такие записи: «Шлялся вечером по станице, девок смотрел. Пьяный Япишка сказал, что с Саламанидой дело на лад идет. Хотелось бы мне ее взять и отчистить» (Толстой 1992, 46: 87). Читая его дневники столетней давности (1854–57 гг.), Корней Чуковский 24 марта 1954 г. записывает в своем дневнике: «Нет недели, чтобы он не сходился с женщиной, а если не удастся сойтись — поллюции (стыдливо обозначаемые буквой п). Такая ненасытность мужских желаний уже сама по себе свидетельствовала об огромности жизненной силы» (Чуковский 1994: 224). Будучи стариком, как-то в Крыму Толстой при Максиме Горьком, описавшем эту беседу, спросил Чехова: «— Вы сильно распутничали в юности? А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался: — Я был неутомимый. Л. Н. Толстой (1849 г.), Петербург
С дагерротипа.
Л. Н. Толстой (1849 г.), Петербург
С дагерротипа.
Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово» (Горький 1979: 95). Но вот «правило», которое он назначает себе в юности, в 19 лет: «смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них. В самом деле, от кого получаем мы сластолюбие, изнеженностъ, легкомыслие во всем и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват тому, что мы лишаемся врожденных в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и др., как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас, в теперешний же развратный, порочный век они хуже нас» (Толстой 1992, 46: 32–33). Это отношение к связям с женщинами проходит сквозь всю его жизнь: «не приятность жизни общественной» — определяет он в 19 лет, а в 72 года записывает в дневник: «Можно смотреть на половую потребность как на тяжелую повинность тела (так смотрел всю жизнь), а можно смотреть как на наслаждение (я редко впадал в этот грех)» (запись от 16 янв. 1900, Толстой 1992, 54: 9). Максим Горький вынес такое впечатление от бесед с ним: «К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее, — если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это — вражда, и холодная, как в «Анне Карениной»…» (Горький 1979: 98–99). Когда вокруг него шла беседа о женщинах, он «долго слушал безмолвно и вдруг сказал: — А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду, — скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь — возьми-ка меня тогда!» (Горький 1979: 124). Откуда такая неприязнь к женщинам в человеке, который так часто бегал в юности «к девкам» (частое выражение в дневнике), а в зрелом возрасте жил в многолетнем браке и имел множество детей? Горький пишет: «Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, — даже и в дневнике своем, молчит и, вероятно, никогда никому не скажет» (Горький 1979: 114). Но, как оговаривается и Горький, какие-то намеки всё-таки проскальзывают в дневниках и беседах.
3. Признания Толстого
Возможно, секрет, непонятный ему самому, приоткрывается наблюдением, которое он записывает в своем дневнике в возрасте 23 лет (29 ноября 1851 г.): «Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет, но мне [не] хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет — время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенною силою. В мужчин я очень часто влюблялся, 1 [первой] люб [овью] были два Пушк[ина], потом 2-й — Саб[уров], пот[ом] 3-ей — Зыб[ин] и Дьяк[ов], 4 — Обол[енский], Блосфелъд, Ислав[ин], еще Готье и мн[огие] др[угие]. Из всех этих людей я продолжаю любить только Д[ьякова]. Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или [не] понравиться л[юбимому] п[редмету], просто страх. Я влюблялся в м[ужчин] прежде, чем имел понятие о возможности педрастии (описка у Толстого, видимо от волнения. — Л. К.); но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову» (Толстой 1992, 46: 237; 437). Пушкины — это его дальние родственники графы Мусины-Пушкины, Алеша и Саша, товарищи его детских лет, первый на три года, второй на год старше его. Во второй редакции повести «Детство» Толстой (он выступает здесь как Николенька Иртеньев) вспоминает свою влюбленность в братьев Ивиных. Под этим именем, по его собственному признанию, выступают младшие из трех братьев Мусиных-Пушкиных. «Старший был нехорош собой и мальчик мясистый, вялый, потный (?); младшие же два были совершенные красавчики. … Я без памяти люблю обоих меньших и люблю так, что готов был бы для них всем пожертвовать, любил не дружбою, а был влюблен, как бывают влюблены те, которые любят в первый раз — я мечтал о них и плакал. Вот как я любил его…». О Саше Пушкине (Сереже Ивине) он пишет: «Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои во сне и наяву были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собой и лелеял этот призрак как лучшее наслаждение… Мне грустно вспомнить об этом свежем прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия» («Детство», гл. XIX). Это было то чувство «особенной дружбы», дружбы-любви, которое было популярно в литературе XIX — начале XX вв. и которое выведено в романах Роже Пейрефита «Особенная дружба» и Ромена Роллана «Жан Кристоф». Такое чувство может перерасти в однополую любовь, а может и умереть с выходом из детства. А вот дальше уже не детские чувства. Упоминаются друзья по студенческим годам. Сабуров — личность не установленная. Сабуровы — интересный род. У каждого из крупных русских литераторов был в юности друг из рода Сабуровых, связанный с любовными приключениями и чувствами: к гусару Якову Сабурову обращался со стихами молодой Пушкин, в другого Сабурова, Мишеля, был влюблен Лермонтов, вот «вторая любовь» Толстого — опять Сабуров, далее в полку у Константина Романова мы увидим подпоручика Дмитрия Сабурова подозреваемым в гомосексуальности. Блосфельд — это, вероятно, студент Карл Блосфельд, университетский товарищ Толстого, сын профессора Блосфельда, читавшего в Казанском университете судебную медицину. Зыбин и Дьяков («третья любовь») — это тоже друзья Толстого по студенческим годам в Казани, Ипполит Зыбин и Дмитрий Дьяков. С Ипполитом Зыбиным Толстой был на ты, их связывало общее увлечение музыкой (Зыбин был изрядный музыкант). Возможно, однако, что объектом влюблен ности был его брат Кирилл, тоже музыкант, композитор. Они даже вместе с Толстым сочинили вальс. Дьяков, «чудесный Митя», был уланом и лучшим другом Толстого. Старше Толстого на пять лет, он был предметом его обожания. Толстой писал ему откровенные письма, которые боялся отправить. Человек добрый и отзывчивый, Дьяков стал прообразом Дмитрия Нехлю дова в «Отрочестве» и «Юности», которого Николай Иртеньев «любил больше всего на свете» («Юность», гл. XXVII). Добрые отношения с Дьяковым сохранились на всю жизнь (он умер в 1891 г.). Д. А. Дьяков. С акварели неизвестного художника (1840 годы)
Д. А. Дьяков. С акварели неизвестного художника (1840 годы)
Друзьями студенческих лет в Петербурге были князь Дмитрий Александрович Оболенский и Константин Иславин «незаконный» меньшой сын приятеля отца. Оболенский был старше Толстого на шесть лет, служил стряпчим по уголовным делам в Казани, где и познакомился с Толстым в 1844 г. Толстой характеризует его как человека светского и добродушного. Иславина Толстой узнал уже в Петербурге. «Любовь моя к И[славину] испортила для меня целые 5 м[есяцев] жизни в Петербурге]. Хотя и бессознательно, я ни о чем др[угом] не заботился, как о том, чтобы понравиться ему» (Дневник, та же запись 29 ноября 1851 г.). Впоследствии в «Воспоминаниях» Толстой называл Иславина «очень внешне при влекательным, но глубоко безнравственным человеком», который предстал соблазнителем его брата Дмитрия, а в письме к брату Сергею в 1852 г. Лев Толстой писал: «Костинька, всю жизнь пресмыкаясь в разных обществах, посвятил себя и не знает больше удовольствия, как поймать какого-нибудь неопытного провинциала и, под предлогом руководить его, сбить его совсем с толку… Я говорю это по опыту» (Гусев 1954: 257). Стало быть, внешняя привлекательность и обаяние заслоняли безнравственность. Готье назван в этом списке последним. Это был Владимир Иванович Готье, сын обрусевшего француза, владелец старинного книжного магазина в Москве. Он был старше Толстого на 15 лет и приходился дедом известному московскому историку проф. Ю. В. Готье. Толстой особо отмечает свою «необъяснимую симпатию» к Готье: «Меня кидало в жар, когда он входил в комнату…». Ровно через 55 лет после записи о любви к мужчинам, 29 ноября 1906 г., Толстой, уже старик, со стыдом пишет в Дневнике: «Вспомнил, как я лгал в молодости, когда солгал Готье, что уезжаю, когда не думал уезжать, только потому, что мне казалось, что это может увеличить его уважение ко мне» (Толстой 1992, 55: 280). Лгал, чтобы понравиться, и краснеет, потому что лгал любимому человеку. Толстой хорошо отличал любовь от дружбы и приятельских отношений. Вернувшись из Петербурга в Москву и Ясную Поляну, он сдружился с молодым пианистом Рудольфом, даже пригласил его пожить в Ясной Поляне, где тот пил, сочинял музыку и давал уроки Толстому. Этого немца он называл приятелем, но никакой влюбленности не отмечено. Иначе с Пушкиными, Дьяковым, Иславиным и другими, перечисленными в списке 1851 года. В конце списка следует обобщение: «Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им было тяжело смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь, но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви — совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал. Я всегда любил таких людей, которые ко мне были хладнокровны и только ценили меня». Это была именно плотская любовь, хотя и не находившая конечного выражения: «Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Д[ьякова]; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из П[ирогова?] и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладостр[астие], но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею к ним страстное отвращение» (Толстой 1992, 46: 237–238). Через год записывает: «…Зашел к Хилковскому отдать деньги и просидел часа два. Николенька очень огорчает; он не любит и не понимает меня. <…> Прекрасно сказал Япишка, что я какой-то нелюбимой. <…> Еще раз писал письма Дьякову и редактору, которые опять не пошлю. Редактору слишком жестко, а Дьяков не поймет меня. Надо привыкнуть, что никто никогда не поймет меня» (Толстой 1992, 46: 149). А понимает ли он себя сам? Максим Горький, живший рядом со стариком Толстым в Крыму, замечает: «К Сулержицкому он относится с нежностью женщины <…> Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна» (Горький 1979: 88). Восхищение вызывал не только Лев Сулержицкий. Как-то, когда Сулержицкий шел рядом с Толстым по Тверской, навстречу показались двое кирасир. «Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости». Толстой начал было подтрунивать над их величественной глупостью. “Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал: — До чего красивы! Древние римляне, а, Левушка? Силища, красота, — ах, боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!» (Горький 1979: 108). Среди его воспоминаний о юности есть одно, странно противоречащее его рассказу о первом сношении с проституткой. Гусев, передающий оба рассказа, отмечает: «Как согласовать между собой эти два рассказа… я не знаю» (Гусев 1927: 106). Второй рассказ Гусева таков: в беседе с И. И. Старининым, книгоношей, Толстой встрепенулся при упоминании о Кизическом монастыре под Казанью, о жизни там среди братии. «— А когда это было? — тихо и как будто задумавшись спросил он». Услышав ответ, «Лев Николаевич совсем тихо и как бы про себя, как-то особенно грустно сказал: — А у меня там было первое мое падение…» (Гусев 1927: 106). В мужском монастыре «среди братии»? С кем же? Ведь с женщиной у него было первое падение в публичном доме! Гусев предлагает такое разрешение противоречия: «По-видимому, Толстой говорил про одну из слобод, расположенных вблизи монастыря» (Гусев 1954: 168, прим. 50). Но собеседник Толстого говорил о жизни «среди братии». Возможно, все же тут какое-то недоразумение.
4. Брак Толстого
 В остальном нет ни малейших признаков, что он не то чтобы реализовал когда-либо свою любовь к мужчинам как плотскую, но хотя бы помыслил об этом. Он вообще обычно резко разделял любовь и сексуальное удовлетворение. Сексуальное удовлетворение он получал от женщин, любил — мужчин. Он мечтал о соединении этих чувств, о высокой любви, которую мыслил в браке. В 1856 г., будучи двадцати восьми лет, по совету Дьякова собирался жениться на соседке по имению Валерии Арсеньевой, но вместо церкви уехал к себе в имение.
Тридцати четырех лет женился на 18-летней Софье Берс, хотя сначала ухаживал за ее сравнительно молодой маменькой (своей подругой детства), потом его сватали за старшую из трех дочерей, но средняя, Софья, перехватила жениха (а позже не без основания ревновала к младшей сестре). После первой брачной ночи записал в дневнике: «Не она» (Меняйлов 1998).
Тем не менее в первый месяц пишет родным и друзьям радостные письма: «Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым. <…> Теперь у меня постоянное чувство, как будто я украл незаслуженное, незаконное, не мне назначенное счастье». Но вскоре начинаются семейные сцены, всё больше выявляющие взаимонепонимание и отчужденность. Жена записывает в своем дневнике: «Лева или стар или несчастлив. <…> Если он не ест, не спит и не молчит, он рыскает по хозяйству, ходит, ходит, всё один. А мне скучно, я одна, совсем одна <…> Я — удовлетворение, я — нянька, я — привычная мебель, я женщина» (цит. по: Жданов 1993: 57, 146). Сцены становились всё более истеричными, с криками и битьем посуды (швырял и бил Лев Николаевич). Семейное счастье было, действительно, не ему назначено.
В остальном нет ни малейших признаков, что он не то чтобы реализовал когда-либо свою любовь к мужчинам как плотскую, но хотя бы помыслил об этом. Он вообще обычно резко разделял любовь и сексуальное удовлетворение. Сексуальное удовлетворение он получал от женщин, любил — мужчин. Он мечтал о соединении этих чувств, о высокой любви, которую мыслил в браке. В 1856 г., будучи двадцати восьми лет, по совету Дьякова собирался жениться на соседке по имению Валерии Арсеньевой, но вместо церкви уехал к себе в имение.
Тридцати четырех лет женился на 18-летней Софье Берс, хотя сначала ухаживал за ее сравнительно молодой маменькой (своей подругой детства), потом его сватали за старшую из трех дочерей, но средняя, Софья, перехватила жениха (а позже не без основания ревновала к младшей сестре). После первой брачной ночи записал в дневнике: «Не она» (Меняйлов 1998).
Тем не менее в первый месяц пишет родным и друзьям радостные письма: «Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым. <…> Теперь у меня постоянное чувство, как будто я украл незаслуженное, незаконное, не мне назначенное счастье». Но вскоре начинаются семейные сцены, всё больше выявляющие взаимонепонимание и отчужденность. Жена записывает в своем дневнике: «Лева или стар или несчастлив. <…> Если он не ест, не спит и не молчит, он рыскает по хозяйству, ходит, ходит, всё один. А мне скучно, я одна, совсем одна <…> Я — удовлетворение, я — нянька, я — привычная мебель, я женщина» (цит. по: Жданов 1993: 57, 146). Сцены становились всё более истеричными, с криками и битьем посуды (швырял и бил Лев Николаевич). Семейное счастье было, действительно, не ему назначено.
 Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков. Ясная поляна. 1906 г.
Фотография С. А. Толстой
Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков. Ясная поляна. 1906 г.
Фотография С. А. Толстой
Между тем, почти ежегодно рождались дети. Только это было в глазах Льва Николаевича оправданием чувственной близости с женой, он всё время подчеркивал, что такая близость для него не самоцель, а только средство (Жданов 1993: 146). Половую близость с женой в браке он вообще рассматривал только как работу по производству детей. Черткову пишет: «Сделай себе потеху даже с женой — и ей и себе скверно» (Жданов 1993: 203). Записи Льва Николаевича в дневнике: «Очень тяжело в семье. <…> За что и почему у меня такое страшное недоразумение с семьей! <…> Хорошо — умереть» Он терзается, ищет, в чем причины его страданий: табак, невоздержание и т. п. «Всё пустяки. Причина одна — отсутствие любимой и любящей жены. <…> Вспомнил: что мне дал брак? Ничего. А страданий бездна» (Жданов 1993: 174, 224). Горькому он как-то неожиданно сказал: «Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет трагедия спальни» (Горький 1979: 96). Множество вполне благополучных супругов согласятся с тем, что это очень субъективное суждение. Наконец, он приходит к отвержению половой близости даже в браке. Всякое половое сношение основано на чувственности, на слепом инстинкте и, по Толстому, унижает человека. Лучше всего — целомудрие, полное воздержание. А что без брака и половых сношений прекратится человеческий род, так ведь конец света всё равно когда-нибудь наступит. Зато какая чистота будет достигнута сейчас! То есть ясно, что самому ему чувственная близость с женой и, видимо, уже со всякой женщиной была при всей необходимости столь тягостна, столь омерзительна, что он готов был согласиться на всеобщее вымирание, только бы не было этой грязи. Словом, всё — как у Святого Августина. Остается только оставить жену, имение продать и деньги раздать бедным. Как известно, в конце жизни он и это попытается совершить. В последний год жизни Толстого разыгрался крупный семейный скандал. В присутствии нескольких знакомых Софья Андреевна 3 августа 1910 г. прочитала мужу вслух его собственную дневниковую запись молодых лет — о любви к мужчинам. Она имела в виду показать ему, что его исключительная приязнь к В. Г. Черткову противоестественна, поскольку увязывается в логичную цепь. Результат записан в ее дневнике: «Хотела объяснить Льву Николаевичу источник моей ревности к Черткову и принесла ему страничку его молодого дневника, 1851 года, в которой он пишет, как он никогда не влюблялся в женщин, а много раз влюблялся в мужчин. Я думала, что он, как П. И. Бирюков, как доктор Маковицкий, поймет мою ревность и успокоит меня, а вместо того он весь побледнел и пришел в такую ярость, каким я его давно не видала. Уходи, убирайся! кричал он. Я говорил, что уеду от тебя, и уеду… Он начал бегать по комнатам, я шла за ним в ужасе и недоумении. Потом, не пустив меня, он заперся на ключ со всех сторон» (Толстая 1978: 167). Уход Льва Толстого из дома приобретает в этом свете новый оттенок.
5. Крейцерова соната
Но уже задолго до того, с 1888 г., он пишет свои трагические произведения о низости и мерзости половой страсти — «Дьявола», «Отца Сергия», «Воскресение» и страшную «Крейцерову сонату». «Крейцерова соната» очень автобиографична. Герой, подобно писателю, много старше жены, женился поздно; несмотря на взаимное отчуждение и семейные скандалы, супруги обзавелись детьми; после многих лет брака супруге стал мил один музыкант (близким приятелем Софьи Андреевны стал композитор Танеев). Правда, концовка другая — герой убивает жену, а в реальности Лев Николаевич уходит из Ясной Поляны и умирает на захолустной станции. Но чувства и мысли героя — это чувства и мысли самого Толстого, он этого и не скрывал. Это совершенно ясно изфилософского «Послесловия» к «Крейцеровой сонате». О жениховстве герой ее вспоминает: «Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства. Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Но если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая это была сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было». (Глава Х). Далее наступил «хваленый медовый месяц. Ведь название-mo одно какое подлое! <…> Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно! <…> Вы говорите естественно! Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно!» (Глава ХI). О первой ссоре: «Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить как можно больше удовольствия один через другого. <…> Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением» (Глава XII). Толстой был крупнее своих фанатичных нотаций и смятенных чувств. Уже через несколько лет он пишет Черткову (15 апр. 1891 г.) о «Крейцеровой сонате»: «Она мне страшно опротивела, всякое воспоминание о ней. Что-нибудь было дурное в мотивах, руководивших мною при писании ее» (Толстой 1992, 87: 83). Что же было там дурного? Продолжая о ссорах, герой проговаривается: «С братом, с приятелями, с отцом, я помню ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут» (Глава XII). Брат, отец, приятели — это всё мужчины. Вот где вспоминается, что Лев Толстой любил — вплоть до сексуального возбуждения — только мужчин. Он был способен испытывать сексуальную тягу к женщинам, вожделел их, но любить их не мог. Если бы он вырос в среде, более свободной по отношению к сексуальной ориентации, он, вероятно, был бы гомосексуален или бисексуален с предпочтением мужчин. И в значительной части трагедия его жизни заключалась, видимо, в том, что он не осознавал своей природы, не давал ей ни малейшей отдушины — и делал несчастными себя и своих близких. Он ненавидел женщину за то, что был неспособен любить ее, тогда как любить был обязан — по общественным представлениям и по своей собственной религиозной морали. Эта трагедийность сказывалась и на его творчестве, сквозь которое красной нитью проходит всё усиливающееся отвращение к половой любви, осуждение женщин, признающих ее высшей ценностью. «Мне отмщение, и Аз воздам», — приводил он слова Господа в эпиграфе к «Анне Карениной», предупреждающие людей от узурпации Божьего суда. Но сам Толстой осуждал. Быть может, трагичность его семейной жизни способствовала уходу в воображаемую жизнь, в историю народа, усложняла и обогащала ее восприятие. Сразу же после женитьбы, обуреваемый конфликтами и непонятными ему самому страстями, он приступил к «Войне и миру». В последние годы Пьер Безухов, один из основных положительных образов романа, привлек внимание психоаналитика (Rancour-Lafferiere 1993). Анализируя сны Пьера, психоаналитик героя рассматривает их содержание как показатель бисексуальных тенденций в его характере. Эта линия интерпретации подтверждена источниковедческим открытием. В. И. Щербаков (1996 г.) выявил неизвестный ранее источник, по которому Толстым формировался дневник Пьера Безухова с его масонскими впечатлениями. Это дневниковые записи некоего масона П. Я Титова. В них те же сны, но бисексуальность в них значительно яснее выражена. Толстой чуть сгладил это, но не устранил. Между тем Пьер принадлежит к тем героям «Войны и мира», к которым Толстой относился с наибольшей симпатией. Общеизвестно, что откровенное проявление гомосексуальности вызывало у Толстого отвращение. Как пример приводили двух офицеров, описанных с нескрываемой антипатией в «Анне Карениной» (один молодой и неприметный, а другой пожилой с пухлявым лицом). Но теперь мы знаем, что им противостоит образ Пьера Безухова, который, как и сам Толстой, решительно восстал бы против подозрения в склонности к сократической любви, тогда как подсознание неумолимо влекло к ней, и это выдавали не контролируемые сознанием сны.Голубая кровь Романовых: К. Р. и другие
1. Дом Романовых и Россия
Царская Россия была сословным обществом, и многое от этого сохранилось в советской России. Я имею в виду, что происхождение (социальное, национальное и т. п.) значило во многих отношениях больше, чем социальное положение и личные заслуги. В высшем сословии голубая кровь (символ аристократического происхождения), ассоциировалась с благородством и образованностью, мотивировала притязания и ожидания. Российское сословное общество представляло собой гигантскую пирамиду, которую венчал разветвленный дом Романовых. Царь, царица, цесаревич (наследник престола), царевичи и царевны, царица-мать, дядья и кузены, тетушки и племянницы, дети от морганатических браков. Вся эта структура отражала в концентрированном виде состояние и качества всего высшего сословия. С другой стороны, коль скоро это было высшее, руководящее звено всей общественной и государственной системы России, всё, что делалось в этом звене, быстро и сильно отзывалось на всей системе. Каким окажется очередной царь, какими личными качествами он будет обладать, могло иметь колоссальное значение для всей России. Мы привыкли считать, что эпоха того или иного царя обусловлена социальными сдвигами, развитием общества и т. п. Но ведь это лишь часть истины. В громадной степени лицо эпохи было обусловлено личными качествами царя, а каким он окажется, было в большой мере делом случая. Не только царский трон, но и многие высшие посты в государстве занимались представителями дома Романовых. И кем окажутся эти руководители, тоже было делом случая, хотя и в меньшей мере — здесь многое определялось уже царем. Личные же качества претендентов на высокие посты не подлежали публичному обсуждению, они обсуждались лишь кулуарно. И чем более важными, индивидуальными, определяющими характер были эти личные особенности, тем менее приличным считалось о них говорить. А были и такие, о которых даже в кулуарах говорили только шёпотом или многозначительно молчали. К таким принадлежала сексуальная ориентация человека. Учитывая значение генеалогии для династических дел, сексуальная ориентация была чрезвычайно важна для претендента на престол. А при тесной связи династии с православной церковью и однозначно отрица тельном отношении христианской религии к проблеме сексуальной ориентации, нестандартная сексуальная ориентация первых лиц в государстве могла породить внутреннюю напряженность и как-то влиять на общую ситуацию с этой проблемой в стране. Рассмотрим с этой точки зрения некоторых известных Романовых, возглавлявших русскую культуру, российское образование, город Москву. Очень любопытны фигуры тех, кто едва не оказался царём. Кузен царя, брат царя, несостоявшийся царь, без пяти минут царь — все с нестандартной сексуальной ориентацией. А то и сам царь…2. Поэт с голубой кровью
Широко известны романсы Чайковского на стихи поэта К. Р.: «Растворил я окно, стало душно невмочь», «Уж гасли в комнатах огни», «О дитя, под окошком твоим». Одно из стихотворений К. Р. стало текстом народной песни «Умер бедняга в больнице военной». Подозревают, что ему же принадлежит и текст «Последний нонешний денечек | Гуляю с вами я, друзья». До революции всей интеллигентной России было известно, что инициалы «К. Р.» расшифровываются как «Константин Романов» и что под этим прозрачным псевдонимом кроется великий князь Константин Константинович, двоюродный брат Александра III. Что, стало быть, в жилах этого поэта течет самая настоящая голубая кровь, голубее некуда. Голубая кровь — выражение старое. В русском языке оно из французского le sang bleu, а во французском из испанского la sangre azul. В испанском же это словоупотребление родилось так. Кастильское дворянство гордилось тем, что в отличие от простонародья, смешавшегося со смуглыми маврами, оно чистопородное, белокожее. А на белой коже проступают голубые вены, так что кажется, что по жилам течет голубая кровь. Константин Константинович родился в 1858 г. и был вторым сыном Константина Николаевича, внуком Николая I и племянником Александра II, соответственно кузеном Александра III. Отец, будучи председателем Государственного совета, помогал своему брату, царю-освободителю, в проведении реформ. В Петербурге отец жил в Мраморном дворце, руководил русским флотом, Морским ведомством и был шефом Морского экипажа. Сын поэтому был от рождения приписан к Морскому экипажу (возможно, поэтому, а также за высокую худощавую фигуру родные его звали «Селедкой»). В 19 лет он получил Георгия за участие в боевых действиях на Дунае в русско-турецкую войну 1877–78 гг. Затем служил на фрегате «Светлана» и других кораблях, ходил в дальние плаванья, командовал ротой лейб-гвардии Измайловского полка, создал в полку литературный кружок «Измайловские досуги». Достоевский часто бывал в Мраморном дворце у великого князя. В одном из образов «Братьев Карамазовых» видят отражение Константина Константиновича — это Коля Красоткин, с его страстностью и благородством, любовью к поэзии и красоте. Со своей стороны Константин Константинович также очень почитал Достоевского. Великий князь Константин Константинович.
Фото К. Бергамаско. 1875 г.
Великий князь Константин Константинович.
Фото К. Бергамаско. 1875 г.
Когда же его кузен великий князь Сергей Александрович, брат царя Александра III и командир Преображенского полка гвардии, был назначен Московским генерал-губернатором и покинул Петербург, Константин Константинович сменил его в должности командира Преображенского полка — первого полка императорской гвардии. Как водится, великий князь занимал целый ряд почетных гражданских должностей. Он был председателем комитетов трезвости и грамотности, возглавлял Женский педагогический институт, 30 лет подряд был президентом Российской Академии наук. Был не почетным президентом, как многие до него, а реальным — управлял на деле. Высокий и сутуловатый, он был очень приятен в общении, а его увлечение музыкой и словесностью делало его чрезвычайно интересным человеком. Был причастен и к театральному искусству — переводил Шекспира на русский язык, в Эрмитажном театре ставил свои пьесы и сам играл в них главные роли. Поэтический талант его был умеренным, но несомненным, а великий князь по скромности никак его не преувеличивал. Посылал свои стихи на отзывы Фету, Гончарову, Майкову, Полонскому — кстати, кроме Фета, поэтам не первой величины, или вовсе не поэтам — и с волнением ждал, как оценят. Он пользовался общей любовью и уважением. Из его Дневника 10 августа 1888 г.: «В среду мне минуло 30 лет. Я уже не юноша, а должен бы считать себя мужчиной…. Для других — я военный, ротный командир, в близком будущем полковник… Для себя же — я поэт. … Невольно задаю я себе вопрос: что же выражают мои стихи, какую мысль? И я принужден сам себе ответить, что в них гораздо больше чувства, чем мысли. Ничего нового я в них не высказал, глубоких мыслей в них не найти и вряд ли скажу я когда-нибудь что-либо значительное. Сам я себя считаю даровитым и многого жду от себя, но кажется это только самолюбие и я сойду в могилу заурядным стихотворцем. Ради своего рождения и положения я пользуюсь известностью, вниманием, даже расположением к моей Музе. Но великие поэты редко бывают ценимы современниками. Я не великий поэт и никогда великим не буду, как мне этого ни хочется» (К. Р. 1994: 30). Убеждения его были, конечно, монархические, а вкусы в поэзии близки к принципам чистого искусства. Присутствуя в том же году с царской семьей на показе оперы Рубинштейна «Купец Калашников» в Мариинском театре, когда решалось, снять с нее запрет или нет (в ней выведены зверства Ивана Грозного и его опричников), великий князь отмечает: «Мое мнение: лучше оперу не разрешать. Не следовало бы правительству тешить зрителей такого рода зрелищами в наше время, когда существует стремление свергать в грязь все, что веками вынесено на подножие. Больно и за наше прошлое, когда видишь царя злодея на сцене. Тем более, что по-моему зверство Иоанна Васильевича IV у нас преувеличивают. Но опера разрешена…» (К. Р. 1994: 34). Он написал возражения одному критику, который хвалил Надсона. «Надсон является выразителем идеалов, надежд и страданий нашего интеллигентного молодого поколения», — писал критик. Константин Константинович на это: «Если он их выразитель, то как неопределенны, мелки и несущественны эти идеалы, надежды и страдания!» Критик: «Главным его пафосом были так называемые общественные мотивы, главным его вдохновителем — долг гражданина». К. Р.: «Лезть с долгом гражданина в поэзию — это с суконным рылом в пушной ряд». Критик: «Он так определяет задачу поэзии в современном обществе: «Нет, не ищи ее в дыхании цветов»«. К. Р.: «Отчего же? Или искать ее в навозе?» (Соболев 1993: 84–85).

На одной художественной выставке 1893 г., как вспоминает Александр Бенуа, 35-летний великий князь Константин, глядя на врубелевского «Демона», воскликнул: «Будь я его отец, я бы выпорол этого художника». Он смутился, когда Бенуа ему сообщил, что Врубель уже почитается за одного из самых выдающихся русских художников, а к тому же вышел из того возраста, когда получают порку (Бенуа 1990, 1: 693). Двадцати пяти лет он по знакомился с 18-летней принцессой Саксен-Альтенбургской Елизаветой, и эта немка родила ему 6 сыновей и 2 дочерей. Судьба сыновей была незавидной — из них старший погиб на фронте, трое были расстреляны в Алапаевске большевиками, одного жена-балерина сумела вырвать из застенков ЧК. Сам Константин Константинович не дожил до этих бедствий. Он мирно скончался в 1915 г. в возрасте 57 лет. Однако этот семьянин и ценитель прекрасного был человеком, которого терзали некие тайные страсти. О нем ходили смутные слухи. В стихах он обращался к другу (возможно, жене) со словами:
О, не гляди мне в глаза так пытливо!
Друг, не заглядывай в душу мою,
Силясь постигнуть всё то, что ревниво,
Робко и бережно в ней я таю.
Есть непонятные чувства: словами
Выразить их не сумел бы язык;
Только и властны они так над нами
Тем, что их тайны никто не постиг.
И уж точно жене, Елизавете Маврикиевне, через несколько месяцев после свадьбы:
В душе моей загадочной есть тайны,
Которых не поведать языком,
И постигаются случайно
Они лишь сердцем, не умом.
Супругов многое разделяло: разная национальность, разная вера (Елизавета так и осталась протестанткой), разные интересы (она засыпала, когда он восхищенно читал ей Достоевского) и что-то еще, сразу неуловимое. В 1887 г. он написал поэму «Севастиан-Мученик» о раннехристианском святом, образ которого на одном из полотен Эрмитажа впечатлил поэта. Примечательно, однако, что этот образ (с картины Гвидо Рени) оказывал огромное воздействие на гомосексуально настроенных интеллектуалов многих поколений.
 Великий князь Константин Константинович в маскарадном костюме. 1894 г.
Великий князь Константин Константинович в маскарадном костюме. 1894 г.
Привлек высокородного поэта и «Манфред» Байрона — как привлек он и Чайковского, видимо, по тем же причинам. В своем отрывке «Возрожденный Манфред» (опубл, в 1994 г.) К. Р. как бы дал продолжение поэмы Байрона: пройдя раскаяние, герой обретает христианское смирение. Похоже, автор сам его искал, сам проходил через внутренние терзания. Много лет он работал над переводами Шекспира, особенно страстно — над переводом «Гамлета». Этот перевод неоднократно издавался, даже при советской власти, а до революции великий князь сам играл Гамлета в Эрмитажном театре. Ему близок был этот принц, сомневавшийся в самом себе. Последним его крупным творением была мистерия «Царь Иудейский» — об Иисусе Христе. По тем временам это было чрезвычайно смелое дело — вывести священные фигуры на подмостки. До рок-оперы «Иисус Христос — супер-звезда» было еще около ста лет. Священный Синод запретил представлять пьесу К. Р. в театрах России, и царь утвердил запрет. Но К. Р. добился разрешения сыграть ее на придворных сценах — в Китайском театре Царского Села (перед постановкой всё же запретили) и в Эрмитажном театре. Он сам играл в ней. Но главным героем был не Иисус Христос (в пьесе он вообще не появлялся на сцене) и не Иуда, как в рок-опере, а Понтий Пилат, и в центре драматической коллизии была его вина, его лицемерие, его страх перед разоблачением, перед открытием его несоответствия высокому посту… Все это были, видимо, выстраданные переживания.
3. Кровь, дважды голубая
После великого князя остался дневник, который он вел всю свою жизнь, и в дневнике этом отражена его постоянная и, как правило, безуспешная борьба с той страстью, которая теперь придает определению «голубая кровь» (применительно к автору дневника) неожиданное и сугубо современное звучание. Ныне голубыми называют мужчин, которые любят только мужчин. Это обозначение есть только в России, и оно появилось только после войны. Правда, приводят старые французские и английские употребления слова «blue» (голубой) в значении «неприличный», «непристойный», в английском было также и значение «веселый», «беспутный», но нет связи между этой западной традицией и нашим нынешним слэнгом. По-моему, тут обычный эвфемизм — замена неприличного слова другим, созвучным. Так, слово «хуй» давно стало неприличным, и его приноровились заменять другим, начинающимся с той же буквы, — «хер» (первоначально это было просто название буквы алфавита). Потом, приобретя тесную связь с половым членом, и оно стало неприличным. Кстати, и слово «хуй» — тоже не первоначальное. Вначале половой член назывался на русском языке как-то иначе. Но, став неприличным, термин был заменен древнефинским словом «игла» — huj, поскольку население лесной полосы было сплошь финно язычным и, подвергшись русификации, принесло в русский язык свои замены неприличных слов. «Игла», «шип» — так называется член и в других языках (англ, prick). У других славян слова «хуй» нет. Так и матерное ругательство смягчают: «е…дрит твою мать», или «ё… моё». Вот так же и со словом «гомосексуальный». Оно стало в сталинские годы неприличным и опасным. Его произносили топотом и неполностью: «го…», а дальше делали круглые глаза. Или, маскируя не без иронии: «го…лубой». Возможно, при этом выборе сказалось традиционное обозначение цветов пола в одеянии младенцев: голубой для мальчиков, розовый для девочек. А уж почему розовый закрепился за женским полом, это как-то связано с мифологией розы и крови. Но сие уже далеко от нашей темы. Нам достаточно обозначить современное значение слова «голубой», неизвестное во времена К. Р., — «гомосексуальный». Такой вот смысл и приобрело выражение «голубая кровь» в приложении к К. Р. Этот второй смысл задним числом оказывается значимым — это видно из дневников К. Р. Дневники свои (66 толстых тетрадей) великий князь завещал Академии наук, оговорив условие: не публиковать их в течение 90 лет со дня его смерти. Таким образом, он, с одной стороны, хотел оставить ученым документальное свидетельство борьбы со страстью. Он, конечно, знал произведения сексологов — фон Крафта-Эббинга, Молля, Тарновского, Мержеевского. Знал и напечатанные в 1904 г. суждения крупного юриста Набокова (отца будущего писателя) — о нелогичности уголовного преследования мужеложства — и предложения отменить эту статью. С другой стороны, он не хотел омрачать будущее своих детей и родных. Мог ли он предвидеть, что уже через три года после его смерти такая забота потеряет всякий смысл, поскольку все они погибнут? 90 лет истекут в 2005 году. Но революция смела все покровы. Правда, печатать дневники не считали нужным (кому были интересны душевные переживания великого князя?), да это не было и возможным (неназываемая любовь…). Но уже сейчас некоторые отрывки из дневника К. Р. стали достоянием гласности. Не нарушая запрета автора на оглашение его текстов до 2005 г., я использую здесь только те отрывки, которые уже проникли в печать. Когда Константин во время своих плаваний в 1877 г. был в Нью-Йорке, он впервые в жизни посетил публичный дом — 18 апреля 1877 г. Это было заранее обдумано. Еще накануне записывал в дневнике: «вдруг пришла мысль, что я должен идти к женщине, и сама мысль была до того сильна, что я не мог преодолеть ее». Он собирается после этого вернуться к Господу, «как блудный сын». Понимает, что это огорчит Мама, но надеется: она поймет, «что мужчина не может без этого». Мысленно готовится: «Я задумываюсь и запинаюсь на пустейших подробностях: как войду, как разденусь, как совершу само дело — это уже обстоятельство решен[ное] — я пойду. Но сердце бьется. Как потом я буду просить прощения у Ангела Хранителя, Еще вопрос: отчего явилось у меня решение пойти? Я не могу себе объяснить этого, но чувствую, что надо. Кажется, я буду лучше потом, я буду мужчина» (Волгин 1998: 277). После произошедшего, записывая в дневнике мысли о своем грехопадении, он сравнивает себя с героем Достоевского: «Я вспомнил Раскольникова в романе Достоевского, который с такой решимостью идет на преступление, и приравнял его к себе, но тут большая разница: он совершал благодеяния человечеству. А я иду для удовлетворения своей похоти. Одним словом, я сам разбивал собственное намерение, и между тем оно не проходило; конечно я изменил своему убеждению, изменил обещаниям, данным Мама, но раскаяния я не чувствую, только все бывшее осталось в памяти, как тяжелый сон. Я был в полном сознании во все время, совсем как Раскольников, когда он совершал преступление» (Волгин 1998: 277, 281; Боханов 2000: 182). Поскольку это был обычный бордель и Константина обслуживала проститутка, грехопадение было не столь большой руки — в те годы кто там не бывал. Возможно, однако, что великий князь хотел контактом с искушенной в сексе женщиной не просто «стать мужчиной», а подавить в себе иные страсти, избавиться от тех более страшных и позорных склонностей, которые его терзали: с юности его тянуло к мужчинам. Еще 6 января 1877 г., за несколько месяцев до посещения борделя, он писал кузену Сергею: «Кажется, только мы с Тобою и были в состоянии питать нежные чувства к мужчинам. Это страстное, необъяснимое чувство, но которое меня так обхватило, что я очень страдал. Но как скучно, что глупый свет не может понять этого; он бы стал смеяться, если б узнал это» (Волгин 1998: 300). За два дня до решения посетить бордель, 15 апреля, он пишет кузену Сергею: «Как странно, я не понимаю еще чувства любви к женщине! Другие так рано влюбляются, а я не могу, скоро мне будет 19 лет, а я хладнокровен» (Волгин 1998: 280). После грехопадения его удивило и обеспокоило, что с этой женщиной у него не было чувства наслаждения. «Я не ощущал никакого сладострастия, и верно говорят, какая у меня холодная кровь» (Боханов 2000: 182). Только ли в этом дело? В том же кругосветном плавании Константин «сблизился больше допустимого» с одним офицером, в котором, по его словам, «мало целомудрия», но который «честный и прямой». Имя его не называет даже в дневнике (Волгин 1998: 285). Кровь оказалась вовсе не холодная. Вот отрывок из записи 1888 г. Великий князь служит ротным в Измайловском полку. «До сих пор меня привлекала в роту не столько служба, военное дело, как привязанность то к одному, то к другому солдату. Моего любимца после Калинушкина сменил Добровольский, а его место занял Рябинин. Теперь все они выбыли, и в настоящее время у меня в роте нет ни к кому особой сильной привязанности». (приведенную цитату использовал Ротиков в книге «Другой Петербург»). Рябинин, однако выбыл не в другой полк и не домой, а… в штат Мраморного дворца! Великий князь Константин Константинович.
Надпись: «Константин 13 сентября 1886 г.»
Великий князь Константин Константинович.
Надпись: «Константин 13 сентября 1886 г.»
Но эта цитата еще не столь ясна. Мало ли какая может быть привязанность! Что это привязанность, связанная с молодостью и красотой солдата, видно из стихов К. Р. («Умер бедняга», 1885 г.): С виду пригожий он был новобранец, Стройный и рослый такой, Кровь с молоком, во всю щеку румянец, Бойкий, смышленый, живой;
С еле заметным пушком над губами,
С честным открытым лицом,
Волосом рус, с голубыми глазами,
Ну, молодец молодцом.
4. Банные страсти: дух и плоть
Благочестивый и ностальгически настроенный историк А. Н. Боханов (2000: 188) пишет об этой «битве с похотью», что она «оказалась трудной и многолетней. Постепенно дух возобладал. Великий князь Константин Константинович отрешился от соблазнов. К сорока годам все это уже осталось в прошлом». Как бы не так! Как и следовало ожидать, надежда и на сей раз оказалась тщетной. Дальше, как видно из предварительной публикации зав. архивом С. Мироненко (Бычков 1998), грех взыграл с новой силой. 19 ноября 1903 г. Великому князю 45 лет. «[Меня называют] «лучшим человеком в России». Но я знаю, каков на самом деле этот «лучший человек». Как поражены были бы все те люди, которые любят и уважают меня, если бы знали о моей развращенности! Я глубоко недоволен собой». 15 декабря 1903 г. «Десять лет назад я стал на правильный путь, начал серьезно бороться с моим главным грехом и не грешил в течение семи лет или, вернее, грешил только мысленно. В 1900 году, сразу после моего назначения главой военно-учебных заведений, летом в Стрельне я сбился с пути. Потом два года было лучше, но в 1902 году, после моей болезни, я много грешил во время поездки по Волге. Наконец, в этом, 1903 году я совсем сбился с пути и жил в постоянной борьбе со своей совестью. Поездка в Москву и Тверь, казалось, отвлекла меня от нечистых мыслей и желаний, но теперь они меня опять захватили… Беда в том, что мог бы, но не могу бороться, ослабеваю, забываю страх Божий и падаю». Значит, лишь с 1893 г, с 35 лет, он стал бороться со своей страстью, и то с переменным успехом. Упование на Бога, на религию помогает, но мало. 21 декабря. «В голову продолжают приходить дурные мысли; они особенно донимают меня в церкви. Стыдно признаться, но это правда». Почему именно в церкви? Вероятно, это как-то связано с окружающей красотой, благолепием, возвышенными чувствами, а возможно, и с близостью незнакомых молодых людей — прислужников, хористов. 28 декабря 1903 г., под Новый год. «Мой тайный порок совершенно овладел мною. Было время, и довольно продолжительное, что я почти победил его, от конца 1893-го до 1900-го. Но с тех пор, и в особенности с апреля текущего года… опять поскользнулся и покатился и до сих пор качусь, как по наклонной плоскости, всё ниже и ниже. А между тем мне, стоящему во главе воспитания множества детей и юношей, должны быть известны правила нравственности. Наконец, я уже немолод, женат, у меня 7 человек детей…». Правда, во всех этих пассажах нет конкретизации. Но дальше и эта неясность снимается. 19 апреля 1904 г. «На душе у меня опять нехорошо, снова преследуют меня грешные помыслы, воспоминания и желания. Мечтаю сходить в бани на Мойке или велеть затопить баню дома, представляю себе знакомых банщиков — Алексея Фролова и особенно Сергея Сыроежкина. Вожделения мои всегда относились к простым мужикам, вне их круга я не искал и не находил участников греха. Когда заговорит страсть, умолкают доводы совести, добродетели, благоразумия». Простые мужики как объект страсти аристократов и интеллектуалов — это знакомый мотив. Писатель Юкио Мисима признавал, что ему для наслаждения нужно, чтобы его партнер не обладал интеллектом. Английский писатель Ишервуд всегда влюблялся в очень простых парней, один из которых, немец Гейнц, надолго стал его слугой. Таких пар легион. Марсель Пруст со своим шофером Альфредом, Чайковский со своим слугой Алешей (Леней) Софроновым, Оскар Уайлд с лакеями и посыльными, Уитмен с кондукторами и бродягами, со своим простецким возлюбленным Питером Дойлом (который, когда Уитмен начинал читать ему, засыпал у него на плече), король Людвиг Баварский с простолюдином Кайнцем, приближенный кайзера Вильгельма II князь Эйленбург и рыбак Эрнст, литератор Эдвард Карпентер с Джорджем Меррилом (он вообще любил крестьян Дербишира), историк и философ Саймондс, обожавший гондольеров, лесорубов и солдат (под конец жизни он жил с венецианским гондольером Анджело Фусато), философ и магнат Витгенштейн, искавший в парке Пратер грубых и простых парней, английский писатель Норман Дуглас, оставивший дипломатическую карьеру и жену, чтобы жить с неграмотным итальянским крестьянином Амитрано, офицер Жюльен Вио (Пьер Лоти), живший у всех на глазах с простым матросом Пьером Ле Кором, другой офицер, английский, Монтэгю Гловер — с простым парнем Рейфом Холлом, наконец, писатель Э. М. Форстер с вагоновожатыми и полицей скими, Петр Первый с денщиками… От представителей своего слоя они подсознательно ожидают иронии, рефлексии по поводу девиантных склонностей, а это убивает любовь в зародыше. Простонародье же, кажется им, воспринимает всё проще и, коль скоро уж такая склонность осознана, оно не делает из этого лишних сложностей. Простые парни могут просто наслаждаться контактом и давать простое наслаждение другому. По соображению Кона (1998: 187), юноши из рабочей или крестьянской среды казались аристократам и интеллигентам воплощением чистоты, теплоты и отзывчивости. Отдаваясь такому юноше, любя его, представитель высшего класса как бы отказывался от своих классовых привилегий, и это давало ему ощущение собственной демократичности. Банщики — обычный для дореволюционной России вид сексуального обслуживания гомосексуалов, объект платной любви. В 1866 г. такое обслуживание в одной из тоговых бань попало на заметку полиции (Мержеевский 1878). Семнадцатилетний банщик Василий дал такие показания: «когда придет желающий заниматься этим, то приказывает мыть, а между тем я уже вижу, что ему не мытье нужно, и он начинает обнимать и целовать, спросит, как зовут, а потом сделает со мною, как с женщиною, в ляжки, или, смотря по тому, как он захочет, сидит, а я буду на спине… или прикажет сделать с ним, как с женщиной, но только в задний проход: или наклонясь вперед или лежа на груди, а я сверху его». Показание Василия, что «все полученные за это деньги клались нами вместе и затем по воскресеньям делились», его подельники — Алексей, Иван, Афанасий и Семен — отвергли. Так что 6 месяцев отсидки за сей промысел получил только Василий. На Мойке (дом 82) на углу Фонарного переулка находились «Фонарные» бани. Но продолжим чтение дневника великого князя. «15 мая 1904 г. Путь лежал мимо бань. Думал, что если увижу у наружных дверей номеров банщика, не выдержу и зайду. Сильнейшим образом волновался, всё доброе было подавлено, почти лишился способности здраво рассуждать, готовый почти без борьбы поддаться искушению. Дверь в номера оказалась приотворенной, но банщиков не было видно. Каким-то чудом удержался и проехал мимо. Надо бы думать, что эта победа над собой должна радовать, но нет; напротив того, я долго потом досадовал на себя за то, что не воспользовался удобным случаем, не зашел». Три дня маялся. 18 мая — запись: «В заседании грешные мысли меня одолели. На Морской, не доезжая до угла Невского, отпустил кучера и отправился пешком к Полицейскому мосту и, перейдя его, свернул налево по Мойке. Два раза прошел мимо дверей в номерные бани взад и вперед; на третий вошел. И вот я опять грешен в том же». 23 июня. «Я опять отказался от борьбы со своей похотью, не то чтобы не мог, но не хотел бороться. Вечером натопили мне нашу баню; банщик Сергей Сыроежкин был занят и привел своего брата, 20-летнего парня Кондратия, служащего в банщиках в Усачевых банях. И этого парня я ввел в грех. Быть может, в первый раз заставил я его согрешить и, только когда было уже поздно, вспомнил страшные слова: горе тому, кто соблазнит единого из малых сих». Очень любопытны встречи Константина Константиновича с интеллигентными людьми той же сексуальной ориентации. Известно, что он очень покровительствовал Чайковскому, вероятно, зная о его вкусах. Обычно полагают, что это скрепляло дружбу. Нет, пожалуй, всё было сложнее. Вот пример — подпоручик Яцко. «12 сент. 1904 г. Послал за Яцко, и он был у меня сегодня утром. Я легко вызвал его на откровенность. Странно было мне у слышать хорошо знакомые особенности: он никогда не испытывал влечения к женщине и не раз влюблялся в мужчин. Я не признался ему, что по личному опыту знаю эти чувства…. Перед прощанием он целовал мне лицо и руки; я бы не должен был позволять ему это, но жалел его, за что потом казнился стыдом и смутными угрызениями совести. Он говорил мне, что с тех пор, как мы впервые увиделись в Виленском юнкерском училище, в душе его пробудились ко мне восторженные чувства, всё усиливающиеся. Как это мне напоминает собственные мои молодые годы». «15 сентября, Стрельна. Я пошел по дороге, по которой должен был приехать в посланной за ним коляске подпоручик Яцко. Посылал за ним, чтобы исполнить его желание еще раз побывать у меня и проститься перед его отъездом в Вильну. Признаюсь, я ему радовался и вместе с тем побаивался новой встречи. Теперь, что мне известны его наклонности, сходные с моими, было чего опасаться. В прошлый раз я удержался, но кто может ручаться за будущее. Он с еще большей откровенностью признавался мне в своих грехах; у него упадок духа, отвращение к самому себе, угрызения совести… Услышал от него имена людей, которых смутно подозревал в противо естественных наклонностях; с некоторыми из них Яцко согрешил, но теперь, кажется, твердо решил бросить всё это». «12 марта 1905 г. Днем повез Татьяну на историческую выставку порт ретов… Нас водил Дягилев. Мне неприятно с ним встречаться, хотя он этого не подозревает, а неприятно потому, что я знаю кое-что об нем от Яцко». Так что с Чайковским он был близок не благодаря общим вкусам, а, возможно, вопреки этой общности. Близок духовно, поскольку об этой тайной общности оба умалчивали, деликатно обходили этот вопрос. А между тем у них было что обсудить. Чайковский во второй половине жизни после своего катастрофического бракосочетания понял тщетность борьбы со своей природой и прекратил ее. Адаптировался к своему образу жизни, принял свою судьбу со всем ее несоответствием общественным нормам, со всей трагичностью и всем блаженством. В конце-концов и у великого князя стали появляться догадки о причинах его поражений. И эти догадки выходили за пределы представлений его круга, его религии, его морали. 28 декабря 1904 г. «Боюсь греха, боюсь разлада с совестью, и тем не менее хочу грешить. Мучительна эта борьба». 30 декабря. «Это что-то физиологическое, а не одна распущенность и недостаток воли». 31 декабря. «Хочется повидать Сергея Сыроежкина, которого и не приходится вводить в искушение, так как он первый готов на это» (это всё цитаты по статье Бычкова). В конце 1905 года, как и многие гомосексуалы, великий князь подвергся шантажу. Он получил письмо от одного офицера, который растратил казенные деньги и был уволен без права на пенсию. Растратчик намекал своему высшему начальнику Константину Константиновичу: «С кем не случается греха, хотя бы с вами». Далее он писал, что видел великого князя в Красносельской бане, и банщик ему порассказывал, что там у великого князя с ним было. Назван был и точный день. Письмо заканчивалось угрозой: пишущий «держит все пока в секрете» и просит его принять «для личного разговора». Невозможно описать волнение великого князя. Но вспомнив, что хотя в тот день он действительно мылся в Красносельской бане, греха в тот день не было! Проведя ночь без сна, великий князь решил не поддаваться шантажу и мерзавца не принимать. Если же огласки избежать не удастся, то так тому и быть. Ходили же такие слухи о его кузене Сергее Александровиче. «Разве я не стою наказания?» (Боханов 2000: 187–188). Офицер-растратчик мог привести и гораздо более яркие примеры грешников — среди ближайших родственников Константина Константиновича. Его старший брат Николай, храбрый боевой офицер, влюбился в американскую девицу легкого поведения и ради нее воровал бриллианты во дворце. Когда это обнаружилось, он был навсегда сослан в Среднюю Азию. Отец при живой жене завел вторую семью, сойдясь с балериной и прижив с ней детей. Но всё это заурядный офицеришка, конечно, не мог знать. А Константин Константинович знал. Не совсем ясно, подозревал ли он своего младшего брата Дмитрия, страстного кавалериста и женоненавистника, в том же грехе, который был присущ ему самому Но, гордый и совестливый, он писал в дневнике только о своем грехе, провинностями своих родных себя не оправдывал. Правда, и не отказывался от попечительства всеми военно-учебными заведениями России. Каялся лишь втайне и — продолжал грешить, пока мог Таким Константин Константинович, поэт К. Р., дядя царя и президент Академии наук, встретил 1905 год, год первой русской революции.5. Между Достоевским и Апухтиным
В этом году был убит его двоюродный брат той же сексуальной ориентации — великий князь Сергей Александрович, с которым К. Р. был очень дружен. Он обращался к нему со стихами:«Я бы нигде не нашел облегчения,
Лишь бы осталась мне дружба твоя!
В ней моя сила, мое утешение,
И на нее вся надежда моя!»
 Великий князь Сергей Александрович и Константин Константинович.
Фото С. Левицкого. СПб,1880-е гг.
Великий князь Сергей Александрович и Константин Константинович.
Фото С. Левицкого. СПб,1880-е гг.
В юности об их обоюдной склонности к мужчинам писал ближайший друг Сергея кузен Константин — его письмо от 6 января 1877 г. уже при ведено. Вскоре Сергей был заподозрен отцом, царем Александром II, в гомо сексуальных наклонностях. В дневнике Сергея, который велся аккуратно, без перерывов, есть запись (цит. по: Волгин 1998: 302), датированная 25 декабря 1877 г. (т. е. через несколько месяцев после бордельного грехопадения и гомосексуальной связи Константина): «На днях была для меня очень не приятная история: Папа меня обвинил в разврате и что Саша В. мне в этом способствовал, такая клевета, и меня горько обидело». За этими строками следует концовка: «Господи помоги! Amen! «. Засим следуют чистые страницы, дневник прерывается на полгода. Возможно, царь в запале преувеличил размах события, и дело тогда еще не так далеко зашло, а это дало возможность царевичу сетовать в дневнике на клевету. Но что-то же было замечено! Вполне основательно предположение Волгина, что об опасных увлечениях пятого сына информировал царя воспитатель царевичей адмирал Д. С. Арсеньев. Через несколько лет, когда слухи о гомосексуальности Сергея широко распространились, тот прямо обвинит в злословии своего бывшего воспитателя: «… вы говорили, что я валяюсь в грязи!» (Волгин 1998: 303). С точки зрения Волгина, скандальное объяснение сына с отцом — не обязательно указание на гомосексуальную связь с Сашей В.: мог быть и обычный «романчик», которому некий Саша способствовал. Но обычно приключения молодых царевичей с девицами не беспокоили родителей. Тем менее они должны были беспокоить царя Александра II, имевшего к этому времени уже давно детей и от любовницы (княжны Екатерины Долгорукой) и навещавшего, не скрываясь, свою вторую семью. Через короткое время, в начале 1878 г., во дворец был призван писатель Достоевский — видимо, для оздоровления моральной обстановки в семье, для морального влияния на царевичей (Волгин 1998), и перед первым визитом адмирал Арсеньев просил его встретиться сначала с ним. «…Если вас не стеснит приехать в 51/2, вы меня очень одолжите, ибо желал бы поговорить с вами наедине до великих князей» (Волгин 1998: 310). Первые приемы Достоевскому (в Зимнем дворце, где жили неженатые сыновья царя) давал именно Сергей, и на них бывал также Константин. А уж затем вечера с Достоевским переместились в Мраморный дворец к Константину Писатель произвел на Сергея очень сильное впечатление. Но от гомосексуальности это великого князя Сергея не избавило. Достоевский, конечно, далек от гомосексуальности, но его произведения не столь однозначны. Уже в июле 1881 г. Константин Константинович пишет кузену Сергею: «Было несколько жарких схваток с Ниловым из-за братьев Карамазовых, il n’est pas a la hauteur [он не на высоте], осмелился даже подметить на первых страницах нечто предосудительное в отношениях старца Зосимы к Алеше» (Волгин 1998: 430). Адмирал К. Д. Нилов славился, как это деликатно формулирует Волгин, «теми же известного рода наклонностями, которыми людская молва наградила адресата этого письма», и «взглядом истинного знатока» подмечал он в отношениях старца Зосимы к своему духовному ученику «нечто предосудительное». Волгин не скрывает своей иронии по поводу «постижения гомосексуальных мотивов русской классической прозы». Но в тех же «Братьях Карамазовых» есть и более недвузначная мысль — в высказывании Мити: «В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей…». Судя по тому, что на вечерах присутствовали некоторые придворные и даже дамы, думается, что в личных беседах с Достоевским эта тема вообще не фигурировала, там шла речь о духовных сюжетах. Любопытно, что Сергею очень понравился литератор совершенно противоположного склада — поэт Апухтин, циник и критикан, интимный друг Чайковского. В марте 1883 г. Сергей пишет кузену Константину: «Вообрази себе, что на днях я провел вторично ночь, с кем бы ты думал? С Апухтиным!!! … Его пригласили некоторые наши офицеры к нам в клуб, ну и дружеская беседа длилась далеко за полночь. Признаюсь, я был в восторге от его манеры говорить свои же стихи; он говорит такие прелести и так чудно, что можно было заслушаться; время было проведено крайне симпатично». Если вспомнить сексуальную ориентацию и беззастенчивость Апухтина, то природа его обаяния для Сергея Александровича становится понятнее.
6. Застенчивый преображенец
Сергей Александрович был предшественником кузена по командованию Преображенским полком. Сначала он командовал 1-ой, Царской, ротой, а потом — всем полком. Кузену Константину он писал в 1882 г.: «Я вполне доволен своей судьбой. Моя жизнь — батальон, мой интерес — роты, мой мир — казарма, мой горизонт — Миллионная» (на этой улице находились казармы преображенцев). Эта самоаттестация не очень вяжется с обликом великого князя. Он был человеком еще более благочестивым, чем К. Р, размышлял на религиозные темы (позже основал Русско-Палестинское общество). С юности обучался живописи у барона Клодта, хорошо знал коллекции Эрмитажа, так что не такой уж солдафон. Тем не менее он действительно был предан казарме и общению со своими полковыми товарищами гораздо больше, чем это было необходимо по службе. Близость великого князя Сергея с подчиненными офицерами и солдатами начинала уже тогда вызывать подозрения у окружающих. К. Р. пишет Сергею: «Твой образ жизни находит себе много порицателей, и я, конечно, получаю письменные жалобы и вздыхания о твоей погибели… Нам теперь стоит позавтракать у Донона, выпить бутылку шампанского, чтобы свет оплакал навек нашу нравственность. Это очень смешно и нечего обращать внимание на толки и пересуды. Брань на вороту не виснет» (цит. по: Боханов 1997: 339). Кузен Константин был его лучшим другом. Но таким обаянием, как Константин, Сергей Александрович не обладал. Начальник канцелярии министра двора генерал А. А. Мосолов описывает его так: «Очень высокого роста, весьма породистой красоты и чрезвычайно элегантный, он производил впечатление исключительно холодного человека». Французский посол в России Морис-Жорж Палеолог добавлял: «Сергей Александрович был физически человек высокого роста, со стройным станом, но лицо его было бездушно и глаза, под белесыми бровями, смотрели жестоко» (обе цит. по: Волгин 1998: 246–247). По воспоминанию другого великого князя, Александра Михайловича, это был человек «упрямый, дерзкий, неприятный… бравирующий своими недостатками, точно бросая в лицо всем вызов и давая таким образом врагам богатую пищу для клеветы и злословия» (Александр 1991: 116). Волгин (1998: 284), упирая на слова «клевета и злословие» и не замечая «бравирования своими недостатками», делает наивную для современного историка подпись к фотопортрету великого князя: «В этом холодном непроницаемом… лице… нельзя обнаружить следов приписываемых ему низких страстей». А какие следы он ожидал бы видеть? Великий князь Сергей Александрович
Фото К. Бергамаско. СПб, 1880-е гг.
Великий князь Сергей Александрович
Фото К. Бергамаско. СПб, 1880-е гг.
Французский посол Палеолог отмечает, что великий князь был «очень застенчив». И кузен Константин отмечает в нем обыкновение конфузиться. Возможно, его внешняя неприступность была оборотной стороной застенчивости, так сказать, защитным рефлексом. Но чего же он мог конфузиться? С кем и как он отходил от своего смущения? Длинный, подобно многим Рома новым, сухопарый, ладно скроенный, великий князь был всегда окружен красавцами-адъютантами. Бывший председатель кабинета министров граф С. Ю. Витте писал о его привычках деликатно и осторожно: «… его постоянно окружали несколько сравнительно молодых людей, которые с ним были особенно нежно дружны. Я не хочу этим сказать, что у него были какие-нибудь дурные инстинкты, но некоторая психологическая анормальность, которая выражается часто в особого рода влюбленном отношении к молодым людям, у него несомненно была» (Витте 1994, 1: 202). Князь Петр Алексеевич Кропоткин, теоретик анархизма, в своих «Записках революционера» писал о Сергее Александровиче более прямо: «…Великий князь Сергей Александрович прославился пороками, относящимися к области психопатологии» (Кропоткин 1988: 241). Быв. депутат Государственной Думы от кадетов В. В. Обнинский (1912: 487; 1992: 23, 223) конкретизировал: С. А. «более всего славен был своими противоестественными наклонностями, расстроившими его семейную жизнь и составившими служебные карьеры его красивых адъютантов. Были и штатные возлюбленные: один из них и доселе не скрывает своих бывших отношений с великим князем и показывает на своих выхоленных пальцах перстни, заработанные худшим из видов разврата». «Некоторые генералы, — продолжает высокородный автор мемуаров, — которые как-то посетили офицерское собрание л.-гв. Преображенского полка, остолбенели от изумления, услыхав любимый романс великого князя в исполнении молодых офицеров. Сам августейший командир полка иллюстрировал этот любезный романс, откинув назад тело и обводя всех блаженным взглядом» (Александр 1991: 116). Судя по остолбенению генералов, содержание романса было достаточно гомоэротичным. На двадцать восьмом году жизни великий князь женился на гессен-дармштадтской принцессе Элизабет, внучке английской королевы Виктории. Брак долго откладывался, Сергей никак не мог решиться. Между тем, он был очень привлекателен, и ради него невеста отвергла более перспективного жениха — Вильгельма II. Наконец Сергей женился, проживал с женой, но детей не имел. Воспитывал детей своего младшего брата Павла, вытесненного за второй, неравный брак за границу. Более того, уже будучи 35-летним, Сергей составил завещание, отказав все свое наследие племянникам. То есть и не рассчитывал на появление потомства. Знал об этом и брат Сергея — царь Александр III. В 1892 г. он писал жене: «Бедный Сергей и Элла, часто о них думаю; на всю жизнь они лишены этого великого утешения в жизни и великого благословения Господня» (Боханов 1997: 345). С женой Сергей Александрович проживал во дворце Белосельских-Белозерских на углу Невского и набережной Фонтанки. Поговаривали (и об этом знал французский посол Палеолог), что их брак — сугубо номинальный, для «прикрытия грехов» Сергея. Впоследствии то, что жена осталась якобы «непорочной», было одним из негласных аргументов в причислении ее к лику святых мучеников. Генеральша А. В. Богданович в дневнике, изданном уже при советской власти (1924, 68), записала: «Сергей Александрович живет со своим адъютантом Мартыновым», а жене своей не раз предлагал выбрать мужчину из окружения. В одной иностранной газете сообщалось, «что приехал le grand duc Serge avec sa maitresse m-r un tel» (великий князь Сергей co своей любовницей господином таким-то). В отличие от К. Р., Сергей Александрович не очень скрывал свои сексуальные наклонности и даже основал в Петербурге своего рода гомосексуальный клуб, который просуществовал до 1891 г., когда великий князь был назначен московским генерал-губернатором (Урусов 1909: 192).
7. На ком стояла Москва
В Москве он продолжал жизнь по своему вкусу. Организовал хор молодых офицеров. Будучи в возрасте, носил корсет для поддержания фигуры. У режиссера В. И. Немировича-Данченко (1989: 120–121) есть запись толков в московском свете о Сергее Александровиче: «Говоря о нем не пропускали случая подмигнуть насчет его склонности к молодым адъютантам, — что, мол, оправдывало и близость к великой княгине одного красивого генерала…». Слухи доходили не только до театра, но и до Университета. Декан математического факультета профессор Н. Н. Бугаев, по воспоминаниям его сына, писателя Андрея Белого (1989: 61), не стеснял себя в выражениях: «— Педераст! — слышался надтреснутый крик его… Педераст — другого именования не было для великого князя Сергея». Как сообщает министр иностранных дел Ламздорф (1934, 106), сам гомосексуальный, остряки шутили, что до того Москва стояла на семи холмах, а теперь стоит на одном бугре (бугр — по-французски активный гомосексуал). Современный историк Боханов (2000: 354) считает, что благочестие Сергея Александровича избавляет его от подозрений в гомосексуальности. Но ни в этом, ни в других случаях (Иван Грозный, Чайковский, К. Р. и проч.) благочестие не было препятствием для грехов любого рода, тем менее — для грехов сладострастия. Благочестивый человек знает, что грех всегда можно замолить, снять покаянием. Можно вообще списать и грех на волю Божию… Начал Сергей Александрович свое губернаторство в Москве со средне вековой антисемитской меры: выселил из Москвы еврейских ремесленников и торговцев. Это в губернаторство Сергея Александровича произошла Ходынская катастрофа (во время коронации Николая II), в которой погибло около 2000 человек, и, даже по мнению кузена Константина, Сергей Александрович как московский губернатор должен был принять на себя вину за происшедшее. Но Сергей воспротивился назначению чрезвычайного следствия, настоял на продолжении празднеств, балов и благодарственных молебнов, и Константин не решился даже уговаривать его, зная, что это бесполезно. Тем не менее Сергей Александрович сохранил огромное влияние при дворе. Это влияние в немалой мере покоилось на том, что Николай (будущий царь Николай II) влюбился в сестру Елизаветы Алису, и Сергей с Елизаветой немало способствовали этому браку, несмотря на противодействие царицы-матери Марии Федоровны (Дагмары). В начале 1905 г. Сергей Александрович, несогласный с либерализацией режима, ушел с поста генерал-губернатора, а 4 февраля 1905 г. он погиб от бомбы 28-летнего террориста Ивана Каляева, признавшегося между прочим на следствии, что он никогда не знал женской любви. Кое-что, стало быть, объединяло убитого и убийцу. После Сергея Александровича осталась большая коллекция гомоэротической литературы (Stem 1908: 570). Вдова его Елизавета Федоровна, немка Элизабет, но теперь уже православная, раздала имущество больным и бедным и построила монастырскую обитель с клиникой для бедных, а в 1918 г. была зверски убита большевиками — в Алапаевске вместе с великими князьями сброшена живьем в шахту, следом за ними туда были брошены гранаты, но она еще перевязывала там раны остальных перед тем, как умереть. Это установили, когда их нашли. Православная церковь канонизировала ее как святую мученицу. Все приведенные сведения о Сергее Александровиче известны по доку ментам и прессе царской эпохи, мемуарам царедворцев и сочинениям историков. Волгин и Боханов считают мемуары необъективными (генеральша Богданович — сплетница, Обнинский — левый кадет и противник режима, великий князь Александр Михайлович — из конкурентной линии Романовых, заигрывал с революционерами, князь Кропоткин — и вовсе революционер, анархист). Но вот дополнение из совершенно неожиданного источника. В своих тюремных и лагерных мемуарах Лев Разгон (1990: 63–91) рассказывает о том, что в 1938 г. сидел в этапной камере Бутырской тюрьмы вместе с одним из «бывших» — Михаилом Сергеевичем Рощаковским. Это был царский офицер, моряк, капитан миноносца и участник Цусимского боя, затем контр-адмирал и генерал-губернатор Кольского полуострова. После революции он эмигрировал в Швецию, в 1930 г. вернулся и в 37-м, естественно, угодил в тюрьму. Этот старый зэк был тем интересен Разгону, что представлял собою образец воспитанности, очень своеобразно оценивал ситуацию и, главное, был личным другом Николая II и знал в лицо многих руководителей старой России. Разгону (1990: 84–85) как соседу по нарам он рассказывал, между прочим, о Сергее Александровиче. «Этот дядя царя был совершенно редкостной скотиной. Хам, педераст, жил с дворцовыми гренадерами, бил по щекам полицейских». Рассказывал этот монархист и об изумительно красивом офицере, который в начале века был адъютантом Сергея Александровича, — Владимире Джунковском. Понятны мотивы, по которым Сергей Александрович приблизил к себе столь красивого офицера, взяв его из преображенцев и привезя с собой в Москву. Но, по словам беседовавшего с Разгоном бывшего контр-адмирала, тут имелся и еще один мотив: Джунковский «открыто жил с великой княгиней Елизаветой Федоровной — сестрой государыни», т. е. с женой Сергея Александровича. «Стал ее любовником еще при жизни ее мужа», а после его гибели «и вовсе перестал стесняться. И, знаете, их никто — даже при дворе! — никто не осуждал…». В 1905 г., после гибели великого князя, недавний адъютант сменил его на посту московского генерал-губернатора, а в 1913–15 гг. генерал Владимир Федорович Джунковский оказался заместителем министра внутренних дел и шефом жандармов. Это был «самый красивый свитский генерал». «Красив был, красив, и, знаете, благородной красотой красив был…». «А Елизавета Федоровна была тихоня-тихоня, а своего красавца толкала вперед, толкала». Однако во время войны он выступил против Распутина, дал ему пощечину и был вышвырнут из правительства. Что великий князь предлагал своей жене выбрать человека из своего окружения, известно и по другим источникам, а вот сожительство ее с этим полковником-адъютантом (позже генералом), да еще с молчаливого согласия двора, другими источниками не подтверждается, кроме разве сообщения Немировича-Данченко о «красивом генерале». Однако Рощаковский был человеком очень сведущим, а герцогов гессенских — семью родных царицы и ее сестры — знал близко, так как был царским послом в Дармштадте, их столице. Возможно, его рассказ о Джунковском и великой княгине заслуживает доверия. После революции Джунковский был арестован, приговорен к смерти, но выпущен, консультировал Дзержинского по организации тайной полиции, потом жил в Крыму, разводил фрукты, а свой архив сдал в Академию наук. В годы «Большого Террора» был расстрелян. В 1997 г. вышли два тома его мемуаров. Разумеется, в них нет ничего о его интимной жизни. Учитывая, что у Джунковского в течение его бурной жизни так и не появилось собственной семьи, а самыми близкими к нему женщинами оставались сестра с племянницей, видимо, он разделял вкусы своего высоко родного шефа и в свое время был ближе к нему, чем к его супруге. Если признать достоверность рассказов Рощаковского, подвергает ли это сомнению благие дела вдовы Сергея Александровича? Ни в коем случае. Мария Магдалина грешила в молодости больше, но Христос приблизил ее к себе. Да и в перечне грехов самого Сергея Александровича его любовь к молодым красивым адъютантам далеко не самый тяжелый грех. Во всяком случае это не самая скверная черта его личности.8. Несостоявшийся царь (Никс, жених Дагмары)
Сергей был младшим братом царя. У Александра III был еще и старший брат, Николай, который-то и должен был оказаться царем: он считался наследником Александра II, его готовили к царствованию, а на могучего Александра, которому суждено было стать Третьим, обращали гораздо меньше внимания. Его любимым занятием было кузнечное дело — с удовольствием работал молотобойцем в кузне. Но Николай, который и должен был стать Николаем II, умер в молодости. Этот царевич, которого в семье звали Никс, был чрезвычайно красивым, элегантным и утонченным молодым человеком — полная противоположность грубоватому здоровяку-брату, следующему за ним. Анархист князь Петр Кропоткин, бывший в юности пажом при дворе, вспоминает Николая так: «Царевич был необыкновенно красивым человеком, он блистал, пожалуй, несколько женственной красотой. Был он прост и в неофициальной обстановке свободно общался с пажами» (Kropotkin 1900: 142). Женственным в детстве был, как мы помним, и Сергей. Цесаревич Николай Александрович (Никс).
Фото сентябрь 1864 г.
Цесаревич Николай Александрович (Никс).
Фото сентябрь 1864 г.
Для цесаревича (т. е. царевича-наследника, крон-принца) Николая готовили династический брак. Россия в это время, оправляясь после Крымской войны и проводя реформы, старалась разорвать дипломатическую изоляцию. Намечен был союз с Датским королевством. Матери Никс писал в 1863 г: «Что касается женщин, то Вы знаете, дорогая мама, что я не влюблялся надолго ни в одну. Я предоставляю другим судить, хорошо это или плохо». Он сообщает матери, что, будучи, таким образом, свободным, заочно полюбил рекомендованную ему родителями Дагмару, датскую принцессу. Цесаревича отправили в Данию, он писал, что Дагмара прекрасна и не обманула его ожиданий (Kejserinde 1997: 74–82). Сразу же по приезде он послушно влюбился в Дагмару. Матери писал: «Если бы ты знала, как я счастлив: я влюбился в Dagmar. Не бойся, что это так скоро, я помню твои советы и не могу решиться скоро. Но как мне не быть счастливым, когда сердце говорит мне, что я люблю ее горячо. Как мне ее описать? Она так симпатична, проста, умна, весела и вместе застенчива. Она гораздо лучше портретов, которые мы видели до сих пор. Глаза ее говорят за нее: такие добрые, умные, бойкие глаза» (цит. по: Боханов 2000: 34). 16 сентября 1864 г. цесаревич сделал предложение, и Дагмара тотчас ответила «да». Было официально объявлено о помолвке. Отцу цесаревич сообщал: «Более знакомясь друг с другом, я с каждым днем более и более ее люблю, сильнее к ней привязываюсь. Конечно, найду в ней свое счастье; прошу Бога, чтобы она привязалась к новому своему отечеству и полюбила его так же горячо, как мы любим нашу милую родину». Словом, рекомендации родителей были выполнены полностью и неукоснительно. Сказано поехать — поехал, полюбить — полюбил тотчас же, сделать предложение — сделал. Но царица не могла забыть странного предсказания, которое он высказал ребенком. Он тогда пролепетал, что после дедушки царем будет папа, затем он сам, а после него — его младший брат Саша (которого в семействе звали Мака). Себе он сына не предусматривал — ну, это можно было отнести за счет детской наивности и желания не обидеть любимого брата Маку.
 Цесаревич Николай (Никс) с принцессой Дагмар. 1864 г.
Цесаревич Николай (Никс) с принцессой Дагмар. 1864 г.
Брат, молотобоец Александр, не разделял восторгов родителей и самого цесаревича по поводу предстоящей свадьбы. Он не верил в счастливый династический брак — брак, считал он, может быть счастливым только по любви. Даже едва не поссорился с женихом, скептически отозвавшись о внешности невесты по фотокарточке. Подозревал ли он, что скоропалительная влюбленность брата напускная, т е. неискренняя, или просто считал, что она опрометчива? Но вскоре цесаревич Николай занемог (острые боли в пояснице) и отъехал в Ниццу поправлять здоровье. А в апреле 1865 г. царь Александр II получил известие из Ниццы, что цесаревич при смерти, и спешно отправился в Ниццу с женой и сыном Александром. По дороге к ним присоединились Дагмара с родными. У них на глазах Николай умер. При этом за одну руку его держали мать с отцом, за другую — Дагмара с Александром. В своем дневнике Александр писал, что это был для него самый любимый из братьев и что потеря невосполнима. На другой день после его смерти царь издал манифест, в котором наследником объявлял Александра. Пришлось и брачные намерения пересмотреть. Дагмара стала невестой Александра. Теперь и ему было предписано влюбиться немедленно. Но, в отличие от брата, его чувства не были свободны. Он давно был влюблен в княжну Марию Мещерскую, фрейлину его матери, дочь камергера Элима Петровича Мещерского, и хотел на ней жениться. Собирался даже отречься от трона ради этого неравного (и запретного для членов династии) брака. Отречься в пользу следующего брата, Владимира.
 Мария Федоровна (после замужества)
Фото, март 1881 г.
Мария Федоровна (после замужества)
Фото, март 1881 г.
Но государственные интересы возобладали. Александра уговорили отречься не от трона, а от княжны Мещерской, и та в конце концов вышла замуж за миллионера Павла Демидова, князя Сан-Донато. Дагмара же стала женой цесаревича, впоследствии русской царицей Марией Федоровной. Ей было суждено стать матерью Николая II, в имени которого, возможно, была закреплена память об умершем Никсе. Единственная из всей семьи, Мария Федоровна избежала гибели в революцию — была тогда в Крыму и сумела спастись — отъехать в Данию. Странная судьба этой датчанки в России — полвека, при двух царях, она была в центре всей политики и очень влиятельна, и что же? Свекор убит революционером-бомбометателем, дети и внуки расстреляны большевиками, великолепное семейное гнездо разрушено, всё пошло прахом, а она доживала свой век там, откуда и вышла — в тихой Дании. Но вернемся к ее несостоявшемуся бракосочетанию с бедным Никсом. Вскоре после его неожиданной смерти пошли слухи, что это была не гибель от ревматизма почек (в современной терминологии — почечного менингита), а самоубийство. Что царевич был еще более настроен против брака с прекрасной Дагмарой, чем брат Александр, но по другим причинам. Что он был гомосексуален и видел в смерти единственную возможность избежать необходимости брака, который бы показал его несостоятельность с женщиной. То есть того, что его младший брат Сергей решал впоследствии более прагматично. Соответственно, рассказы о его смерти от болезни были лишь драпировкой неприличных обстоятельств его гибели. Никаких достоверных доказательств этой версии нет. Мне кажется, самоубийства и не было. Иначе хоть какие-нибудь следы проскользнули бы в переписке Дагмары с родными, поскольку первое время она была потрясена, растеряна, а вопрос о замене жениха еще не вставал. Что-нибудь отразилось бы и в дневнике Александра III — ведь он же не предназначался для печати. Тем не менее гипотеза о гомосексуальности Никса имеет право на существование. Дело не только в его женственности (это вообще не аргумент) или в долгом отсутствии влюбленности в женщин. Дело еще в двух обстоятельствах. Первое — это наличие сугубо гомосексуального брата Сергея. Поскольку, как сейчас ясно, наследственность, гены играют важную роль в возникновении гомосексуальности у человека, наличие гомосексуального брата сильно повышает вероятность того, что такой человек окажется гомо сексуальным. Братья Чайковские, братья Витгенштейны, Фрэнсис Бэкон и его брат Энтони, Фридрих Прусский и его брат Генрих, Людвиг Баварский и его брат Отто и т. д. Второе — это наличие сугубо гомосексуального друга. Близким другом Никса был князь Владимир Петрович Мещерский, внук Карамзина и троюродный брат возлюбленной Александра. Старше Никса на 5 лет, он был товарищем Чайковского по Училищу Правоведения, одно время близким другом Петра и Модеста Ильичей. Впоследствии издатель журнала «Гражданин» (редактировавшегося в 1873–74 г. Достоевским), агрессивный и верноподданный, он возбудил против себя ненависть во многих кругах общества. Гомосексуальность его была притчей во языцех. Писатель и философ Владимир Соловьев (1974: 148, 315; Феоктистов 1991: 415) называл его «Содома князь и гражданин Гоморры» и иронизировал: «хотя он и безграмотен, но зато в качестве содомита высоко держит знамя религии и морали». Граф С. Ю. Витте в мемуарах писал: «Всю свою жизнь Мещерский только и занимался своими фаворитами: из политики он сделал ремесло, которым самым бессовестным образом торгует в свою пользу и пользу своих фаворитов» (Витте 1994, 3: 551). В 1887 г. (это уже через два десятилетия после гибели Никса) он влюбился в молодого трубача из стрелкового батальона лейб-гвардии, и их постоянные свидания бросались в глаза. Мещерский даже добился отставки военачальника, который препятствовал ему видеться с трубачом. Родные публично отреклись от Мещерского. Противник Мещерского в вопросах церковной и внешней политики обер-прокурор священного Синода Константин Петрович Победоносцев, тоже выпускник Училища право ведения и тоже гомосексуальный, решительно восстал против такого нарушения приличий и пытался лишить Мещерского доступа ко двору, но не преуспел в этом. Александр III, возможно, памятуя близость Мещерского к любимому брату Никсу и родство со своей любимой, вступился за него (Витте 1994, 3: 551, 562; К. П. Победоносцев 1923, т. 2: 673–674; Феоктистов 1929: 245, 247). Через два года, в 1889 г., разгорелся новый гомосексуальный скандал, в котором было замешано ок. 200 человек, в том числе гвардейцы и артисты Императорского Александринского театра. Мещерский тоже. Ходили слухи, что его, по крайней мере, вышлют из Петербурга, ан нет. Он и тут уцелел (Богданович 1924: 68). В начале 90-х Мещерский упоминается в полицейской сводке о мужеложстве следующим образом: «Мещерский Князь Владимир Петрович 55 лет, Камергер, редактор газеты «Гражданин» — Употребляет молодых людей, актеров и юнкеров и за это им протежирует. В числе его любовников называют Аполлонского и Корвин-Круковского. Юнкеров и молодых людей ему сводничают К. Ив. Чехович и Депари. Для определения достоинства задниц его жертв, у него заведен биллиард» (Берсенев и Марков 1998: 113). При Николае II Мещерский сохранил свою близость ко двору и влиятельность. Чтобы сокрушить его, его враги подкинули царю выкраденную переписку Мещерского с его любовником придворным шталмейстером Бурдуковым. Царь прочел и никак не отреагировал (Суворин 1923: 316). В конце жизни Мещерский приютил у себя красивого мальчика, сына еврейского купца Манасевича-Мануйлова, которому шил костюмы у лучших портных, и ввел его в высшие круги Петербурга. С таким стартом тот вырос в знаменитейшего авантюриста и одного из самых результативных шпионов русской разведки, добывших для нее тайные шифры сначала японской дипломатии, а потом и немецкой. Он продавал государственные тайны революционерам, а их самих выдавал тайной полиции. Под конец стал государственным секретарем России (в годы войны). Мещерский скончался в 1914 г. в возрасте 75 лет. Всю его жизнь близость с ним налагала клеймо гомосексуальности на любого молодого человека. Не должен избежать этой участи и Никс, Николай Александрович, цесаревич, едва не ставший царем. Так что если бы он появился на престоле… Ну, а что если бы и появился? Всю страну превратил бы в голубой клуб? Ну зачем такие страхи. Подобные государи бывали в других странах — и ничего: Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ричард Львиное Сердце, Людовик XIII, Яков I, Вильгельм Оранский, Карл XII, Фридрих Великий и многие другие). А вот интеллигентный и образованный человек на престоле был бы России очень не лишним.
9. Убийца Распутина
У Александра II был еще один сын, младший — Павел, предмет нежной любви и заботы со стороны предшествующего по возрасту брата Сергея Александровича (того самого, о ком уже было рассказано). Павел был женат на греческой принцессе (но из немецкой династии, как женились почти все Романовы) и имел с ней сына, но после ее смерти вступил в середине 90-х годов в любовную связь с разведенной полковницей Ольгой Пистолькорс, урожденной Карпович, которую офицеры называли «мама Леля». Разведенная, да еще худородная! Дом Романовых не принял ее, дети от этого союза были незаконными, и великому князю пришлось скрыться с Ольгой за границу. Позже Ольга Валерьяновна получила от баварского короля титул графини Гогенфельзен, а от русского царя — княгини Палей, но последнее — лишь в1915 г. Ав начале этой истории великий князь и его новообразованное семейство проживали за границей, детей же его от первого брака, законных, принял на воспитание старший брат Сергей Александрович, у которого не было своих детей. О сыне Павла — Дмитрии — Ротиков в «Другом Петербурге» пишет: «Дмитрий Павлович родился таким хиленьким, что его буквально приходилось укутывать ватой. Дядя собственноручно купал младенца в бульоне. Вырос мальчик в хорошенького, как куколка, юношу. Называли его «изделием Фаберже» за редкое изящество. Считался он болезненным, что не мешало ему заниматься конным спортом и даже входить в олимпийскую сборную России в 1912 году… Близкая дружба его с Феликсом Юсуповым наверняка имела эротическую подкладку, по общим наклонностям юношей» (Ротиков 1998: 395). Знатность Феликса новая. Дедушка Феликса тоже Феликс, но просто Эльстон, получил графский титул, женившись на графине Елене Сумароковой. Отец, граф Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон, так сказать, Феликс II, женившись на княжне Зинаиде Юсуповой, получил в результате и княжеский титул после смерти тестя, поскольку мужская линия Юсуповых на этом пресеклась. В 27 лет его сын, князь Феликс Сумароков-Юсупов-Эльстон, уже Феликс III, женился в 1914 г. на великой княгине Ирине Александровне, племяннице Николая II, и, таким образом, породнился с Романовыми. Его дочь, родившаяся в 1915 г., была уже наполовину Романовой. Спортивный и изящный Дмитрий Павлович, друг Феликса III, приходился Ирине кузеном. Феликс в юности тоже был очень красив и любил переодеваться в женское платье. Более того, в двадцать лет впервые вышел в этом наряде на публику. Затем не раз появлялся в образе очаровательной мадемуазели в ресторанах России и Европы. Как он описывает в своих мемуарах, однажды в Париже он как-то заметил, что «пожилой субъект из литерной ложи настойчиво меня лорнирует. В антракте, когда зажегся свет, я увидел, что это король Эдуард VII». Позже королевские слуги пытались выведать, кто эта красотка. Английский король славился своими донжуанскими похождениями. Вернувшись в Россию, Феликс решил повторить парижский успех, выступив на сцене модного кабаре «Аквариум». В мемуарах эта история описана в подробностях. «В назначенный день в женском наряде явился я к директору. На мне были серый жакет с юбкой, чернобурка и большая шляпа. Я спел ему свой репертуар. Он пришел в восторг и взял меня на две недели». На сцену «Фелюша» вышел в хитоне из голубого тюля, расшитого серебряной нитью. Над головой колыхались синие и голубые страусиные перья. А на шее и руках сверкали самые настоящие брильянты — из семейных драгоценностей Юсуповых-Сумароковых-Эльстонов. Это и подвело исполнительницу шансонеток. На одном из представлений светские зрители опознали родовые драгоценности Юсуповых, и разразился скандал. Отец был в бешенстве. Как вспоминает не без грусти виновник скандала, «карьера кафешантанной певички погибла, не успев начаться. Однако игры с переодеванием я не бросил. Слишком велико было веселье» (Боханов 2000: 204–206). В старости он вспоминал, как они с приятелем, переодевшись кокотками, заигрывали с мужчинами в ресторане «Медведь» на Конюшенной. Таков был друг Дмитрия Павловича. Феликс и Дмитрий, сговорившись с депутатом Думы Пуришкевичем, решили взять на себя избавление России от царского фаворита Распутина, сибирского мужика, который из-за своих знахарских способностей приобрел при дворе слишком большую силу, снимал и назначал министров, решал, надо ли наступать войскам или нет. Князь Феликс Сумароков-Юсупов-Эльстон предстает в книге Ротикова (1998: 142–148) как убийца Распутина. Убийство произошло в его дворце, он организовал всё, но непосредственный смертельный выстрел принадлежал не ему. В мемуарах выстрел брал на себя Пуришкевич, депутат Государственной думы, но и это сомнительно. Феликс Юсупов. 1912 г.
Феликс Юсупов. 1912 г.
16 декабря 1916 г. Феликс заманил Распутина в свой дворец на набережной Мойки, д. 94, якобы чтобы устроить его встречу со своей женой Ириной, красавицей и урожденной Романовой, т. е. великой княгиней. Старец лишь по титулу, а на деле вовсе не старый (ему было 44 года), Распутин клюнул на эту приманку и прибыл. Его отвели в специально приготовленный подвал, замаскированный под гостиную. Но женщина всё не появлялась. Феликс в ожидании угостил старца пирожными, в которые была подложена лошадиная доля цианистого калия. Наливал ему отравленное вино. Играл для него на гитаре и всё ждал, когда же тот упадет. Старец лишь пожаловался на какой-то привкус, но был ни в одном глазу. Тогда испуганный Феликс, не зная, что яд обезвреживается сахаром, бросился к своим сообщникам, прятавшимся в другом помещении дворца, и дрожа объявил, что старец и в самом деле святой или заговоренный. Тут к нему присоединился Пуришкевич и, когда старец, заподозривший неладное, бросился бежать из дворца, то некто — то ли Юсупов, то ли Пуришкевич — произвел в него издалека выстрелы. Тот упал, обливаясь кровью. Юсупов еще избивал павшего старца железной тростью. Заговорщики на всякий случай связали труп, завернули тело в шубу, уложили в автомобиль Дмитрия Павловича и повезли к Неве, а там бросили в прорубь. Когда через несколько дней полиция достала тело из проруби, полицейские увидели, что одна рука была освобождена от веревок, а легкие наполнены водой, то есть при утоплении старец еще дышал и пытался вызволиться… Это версия убийства, восстанавливаемая по документам царского следствия. Тут есть много неясностей. Во-первых, Ирины в это время вообще не было в Петербурге, она была в Крыму, Распутин мог бы об этом легко узнать. Вряд ли Феликс сумел бы заманить его такой приманкой. Во-вторых, штатский деятель Пуришкевич плохо владел оружием, а стрелять ему пришлось бы с далекого расстояния. Вряд ли он попал бы в далекую цель. Феликс же был вообще в истерике. Поэтому основным убийцей был некто иной. По-видимому, это был великий князь Дмитрий Павлович, молодой офицер и хороший спортсмен. А Юсупов и Пуришкевич брали на себя убийство для того, чтобы выгородить представителя династии. Впоследствии же убийство Распутина, ставшее сигналом к падению царизма, стало для них чем-то вроде жизненного подвига, и они хвастались им как историческим деянием. Для них уже не было смысла восстанавливать истину.
 Григорий Распутин
Григорий Распутин
Что же касается самого приглашения Распутина в Юсуповский дворец, то Ротиков отстаивает (как более реалистичную) иную версию, которую выдвинул великий князь Николай Михайлович, причастный к рас следованию дела. Тот задался вопросом: Что же они там делали — Юсупов и Распутин — наедине так долго? Исходя из обычной практики Распутина, Николай Михайлович реконструировал объятия, поглаживания и поцелуи. Феликс пригласил Распутина скорее всего на сеанс лечения от гомосексуальности, а Распутин имел обыкновение клин клином вышибать — давал нагрешиться досыта. Ротиков восстанавливает гомосексуальную дружбу между Феликсом и Дмитрием Павловичем, которые воображали себя чем-то вроде античных тираноубийц, Гармодия и Аристогетона, как известно, гомосексуальных. Они — тоже тираноубийцы: избавили Россию и династию от гибельного фаворита — Распутина. На деле трудно сказать, удержало это деяние династию от падения хоть на какое-то время или лишь подстегнуло революцию. Гомосексуальность обоих убийц возможна, но прямых доказательств нет. Да, оба были несколько женственны и очень красивы. Да, оба увлекались «Дорианом Греем» Оскара Уайлда (Фюлёп-Миллер 1994: 227). Да, Феликс в юности любил переодеваться в женское платье. Но в то декадентское время это был стиль жизни верхов. Оба убийцы ушли от гибели в кровавой революционной мясорубке. Дмитрий Павлович был сослан за убийство Распутина на персидский фронт, там встретил революцию и, пересидев в Тегеране, перебрался в Европу. Несколько лет он был любовником Коко Шанель, говорят, участвовал в создании духов «Шанель № 5», а потом женился на богатой американке Одри Эмери. Она получила от дома Романовых титул княгини Романовской-Ильинской. Их сын Пол Ильинский является прямым потомком русских царей по мужской линии (Дмитрий — внук Александра II) и имеет сыновей, следовательно, они должны бы именоваться Романовыми, но в силу неприемлемости неравного брака никто из них не может возглавлять дом Романовых. Феликс Юсупов всю жизнь выступал с воспоминаниями и умер в 1967 г., его жена Ирина — в 1970, а их дочь — в 1983.
10. Остальные Романовы
В своей биографии Чайковского Н. Н. Берберова (1997: 19) приводит целый список великих князей (членов семейства Романовых) предреволюционной эпохи, причастных к гомо сексуальности. Беседуя с эмигрировавшими представителями знати, она пришла к выводу, что таких великих князей было восемь. Кроме уже перечисленных здесь Константина Константиновича (К. Р.), Сергея Александровича и Дмитрия Павловича, она относит сюда чуть ли не все семейство Константина Константиновича — его брата Дмитрия и троих сыновей (Олега с братьями), а также Николая Михайловича, двоюродного брата Александра III. Кузен Сергея Александровича и К. Р, Николай Михайлович, «Бумби», как его называли в семье Романовых, был последним владельцем Ново-Михайловского дворца на Дворцовой набережной и всю жизнь оставался холостяком. Он был человеком широко образованным, имел репутацию вольнодумца и фрондера. Писал об энтомологии и охоте, а больше всего о придворной жизни эпохи Александра I. Всего этого недостаточно, чтобы сделать вывод о его гомосексуальности, но слухи ходили. Был расстрелян большевиками во дворе Петропавловской крепости в 1918 г. Берберова упоминает бытовавшее мнение, что таких великих князей было не восемь, а девять. Если присоединить сюда Никса, несостоявшегося царя, то девять и выйдет. В гомосексуальности винили и брата императрицы, принца Эрнста Гессенского (обвиняла жена при разводе), но он не Романов. В источниках есть упоминания о гомосексуальности некоторых других Романовых, более ранних. Так, в напечатанном за границей (в Швейцарии) и, стало быть, неподцензурном сборнике «Эрот не для дам» в примечаниях то ли Шенина, то ли Долгорукова говорится о том, что и брат царей Александра I и Николая I Михаил Павлович был «педерастом, но очень осторожным». Константину приходился двоюродным дедом. Есть в источниках изложение слуха, что гомосексуальным был первый Романов — Михаил. Есть четкие указания на то, что его внук Петр I (Великий) был бисексуальным, т. е. что гомосексуальные проявления были ему свойственны. Внук Петра Великого Петр II, был на троне недолго после Екатерины I — он царствовал лишь подростком. За влияние на отрока боролись Меншиков с Долгоруковыми. Иван Долгоруков был на 7 лет старше Петра, они вместе охотились и спали в одной кровати. Это, конечно, весьма подозрительно: в царском обиходе тесноты не было. Но жениться на сестре Ивана юный царь не успел, умер от оспы 16-летним. Брат императрицы Александры Федоровны — герцог Гессенский Эрнст- Людвиг. 1896 г.
Брат императрицы Александры Федоровны — герцог Гессенский Эрнст- Людвиг. 1896 г.
Итак, мы находим проявления гомосексуальности в ряде поколений Романовых, иногда множественные. Говорит ли всё это о том, что гомосексуальность в роду Романовых была наследственной? Нет, этого сказать нельзя. Дело в том, что наследственная гомосексуальность мужчин передается, как теперь установлено, по женской линии, от матери к сыну (Клейн 2000: 383). То есть если гомосексуальность в родунаследственная, то у того гомосексуала, который взят за исходную точку отсчета, гомосексуальными родственниками оказываются его дядья и деды со стороны матери или родные братья или племянники со стороны сестры. А так как родство Романовых устанавливается по мужской линии, то проявления гомосексуальности каждый раз имеют разное происхождение, за исключением случаев, когда налицо несколько гомосексуальных братьев. Но даже у кузенов, скажем, Константина Константиновича и Сергея Александровича, генетические истоки гомосексуальности, видимо, разные. Они могут оказаться едиными, лишь если удастся проследить здесь родство по женской линии. Видимо, в роду матери Никса и Сергея, т. е. жены Александра II Марии Александровны, урожденной принцессы Гессен- Дармштадтской, дочери герцога Людвига II, гомосексуальность присутствует (но тоже не от герцога, а от его жены). Вот и Эрнст Гессенский, брат жены Николая II. тоже был обвинен в гомосексуальности. Под подозрение попадает также и мать К. Р. и Дмитрия — жена Константина Николаевича Елизавета Иосифовна, принцесса Саксен-Альтенбургская. И в ее роду со стороны матери была, возможно, гомосексуальность. Также и в других немецких королевских и княжеских династиях, поставлявших России цариц. Были же там Фридрих II с братом Генрихом, Людвиг II Баварский с братом Отто, и др. Так что гомосексуальность Романовых, там, где она вообще наследственная, приходится признать завозной, импортной. А вот почва, на которой она расцветала пышным цветом, в России своя. Потому что ни в одной стране не было столь либерального отношения к гомосексуальности, как в России. Здесь судили за это только в случае выхода за все пределы приличий, громкого скандала. И выносили очень мягкие приговоры. Не было русского Оскара Уайлда или даже Поля Верлена. Уж во всяком случае не было русского Эдварда II, низвергнутого и убитого разгневанными подданными, и не было русского Людвига II, обвиненного министрами в сумасшествии, заточенного в замок и там загадочно погибшего. А был Сергей Александрович, убитый совсем по другой причине и оплакиваемый подданными, и был К. Р., «лучший человек России». По свидетельству одного викторианца, Россия была для него «неким полинезийским островом», где всё позволено (Havelock 1926: 101–208). Всё не всё, вседозволенность была лишь по европейским меркам, но терпимость в вопросах сексуальной морали была для России традиционна. Мудрено ли, что и у Романовых мы находим не только голубую кровь, но и заметные голубые чувства.
Сексуальная революция Михаила Кузмина
1. Из Серебряного века в Железный
Странная фигура — Михаил Кузмин, какая-то фантасмагорическая. Начал печататься поздно, после тридцати, а уже между сорока и пятьюдесятью стали один за другим появляться девять томов его сочинений. Один из виднейших поэтов Серебряного века, явно не пролетарского направления, даже состоял одно время в черносотенном Союзе Русского Народа, и не был большевиками ни выслан, ни расстрелян. Не скрывал своей гомосексуальности, со многими молодыми людьми поочередно жил в любви практически открыто до и после революции. Еще при жизни стал знаменем русских гомосексуалов (по его повести «Крылья» теперь названо Петербургское общество секс-меньшинств). И всё же не пострадал за это ни от царской полиции, ни от советской власти. Более того, официально сдал свой Дневник, описывающий литературные будни и сексуальные похождения за 30 лет, в Литературный Музей как раз в год начала уголовного преследования гомосексуалов — и ничего. Ахматова, относившаяся к нему очень недоброжелательно, говорила: «Он, вероятно, родился в рубашке, он один из тех, кому всё можно» (Богомолов 1996: 31–32). Россия на нашей памяти вышла из перспективы прогрессистского подъема по векам — от каменного через бронзовый к железному — и вошла в схему Гесиода: от Золотого века через Серебряный к Железному. Ведущий поэт Серебряного века, Кузмин пережил свою эпоху на два десятилетия и, оказавшись в устрашающем Железном веке, мыкаясь и бедствуя, продолжал писать стихи и даже создал свое самое лучшее произведение «Форель разбивает лед». Он бился об лед, но оледенение, сковавшее страну, было чересчур мощным и длительным. Поэт был практически забыт. Лишь теперь, когда ледники стали быстро таять, появился спрос на его стихи, и он снова занял свое место в литературе и общественной жизни. По стилю Михаил Кузмин близок к французским символистам: Леконту де Лиллю, Верлену, Рембо, Малларме, Анри де Ренье. Их влияние у него и заметно. По месту и роли в русской литературе он сопоставим больше с Оскаром Уайлдом в английской — столь же манерен, изыскан, элегантен и гомосексуален. По откровенности его знаменитого Дневника похож на Андре Жида. Но по насыщенности творчества гомосексуальной тематикой скорее сравним с маркизом де Садом. Кстати, его грандиозный Дневник, очень искренний, создавался изначально как своеобразное литературное произведение, для чтения друзьям и для будущего. То есть живя, действуя, совершая поступки, Кузмин знал заведомо, что расскажет о них в Дневнике. Иными словами, он строил свою жизнь как содержание будущего литературного произведения, а многие эпизоды вдобавок легли в основу отдельных повестей и рассказов, не говоря уже о стихах. Теперь в русской филологии есть целый раздел по изучению Кузмина. Тут наличествуют и солидные дотошные исследования — от само отверженных работ Геннадия Николаевича Шмакова, умершего в эмиграции от СПИДа, или детальных исследований Н. А. Богомолова, до элегантных фрагментированных эссе К. Ротикова, разбросанных по его «Другому Петербургу» и составляющих в книге наиболее значительную часть. Короткими цитатами из Кузмина («шабли во льду, поджаренная булка») Ротиков великолепно умеет передать аромат эпохи и индивидуальность поэта, дает почувствовать оригинальность его таланта, Ротиков даже говорит о его гении, о его величии (из его «Сетей» «выпорхнули все эти гумилевы, мандельштамы, ходасевичи, адамовичи»). Ротиков восхищается его непревзойденным соединением крайнего европеизма (верлибр, тяга к Италии и Франции) и глубинных русских традиций (старообрядчество, крюковая музыка, духовные стихи). Исходя из темы книги, в Кузмине его больше всего интересуют свидетельства масштабности поэта и доказательства его гомосексуальности. Но тут, собственно, и доказывать нечего, всё налицо. Более интересен анализ личности поэта и темы гомосексуальности в его творчестве. Как получилось, что эта тема стала выступать в его творчестве столь откровенно? Если его поэзию вдохновляла любовь, то как это увязать с его непостоянством, с частой сменой любовников, можно ли это считать любовью? Какие данные для изучения гомосексуальности вообще можно извлечь из его Дневника? Ведь мало кто еще из гомосексуалов оставил такие откровенные записи своих чувств за 30 лет. Как получилось, что в годы террора он смог ускользнуть от репрессий? Что в его личности типично для гомосексуалов, а что индивидуально? В какой мере гомосексуальность определяла его связи в литературе и его творчество? Как вообще он сформировался таким?2. Пробуждение чувств
Отец был красивым моряком, но в семье это был капризный деспот. В молодости он был замешан в деле петрашевцев и даже сидел в Алексеевском равелине вместе с братом, но оба были отпущены. Этого хватило, чтобы вкус к политике был отбит в семье на два поколения вперед — у поэта он был атрофирован изначально. В пожилом возрасте отец служил в судебных управах — Ярославской, затем Саратовской. В Ярославле и родился Миша, а в Саратове провел детство. Ко времени рождения Миши в 1872 г. (позже он омолаживал себя на три года) отцу было уже 60 лет. Жена была моложе его на 22 года. Со стороны матери дед был инспектором Петербургской театральной школы, а бабка — дочерью приезжего французского актера Офреня. Наверное, от французских предков у Кузмина черные, как смоль, волосы, и профиль какаду — горбоносый, с выдвинутой вперед нижней губой. Мальчик рос болезненным, слабым. Подобно классическим гомосексуалам психоаналитиков, в детстве был «девчонкой в штанах»: «Я не любил игр мальчиков — ни солдат, ни путешествий» (письмо к Чичерину — МКиРК: 6); «У меня всё были подруги, а не товарищи, и я любил играть в куклы, в театр, читать, или разыгрывать легкие попурри старых итальянских опер…». Последнее признание содержится в его автобиографии (Histoire édifiante de mes commencements), которую он написал для своих друзей, читал им и включил в свой Дневник под 1906 г. Судя по этой автобиографии, его средний брат, юнкер Казанского училища, также был гомосексуален и, когда Мише было лет 10, разбудил его чувства. Этот факт укладывается в теорию наследственной гомосексуальности. Вот что сказано в автобиографии: «Мой средний брат тогда был еще реалист, лет 16–17-ти. Это было года за 2 до отъезда и, м<ожет> б<ыть>, он был уже подпрапорщиком. Иногда, гуляя со мной в оврагах (мы жили тогда на даче), скрытых от случайных взоров, он заводил игру «в тигров», где один из засады по очереди бросался на другого и мог делать с ним что хочет. Теперь я понимаю, что это была только хитрость, чтобы заставить меня исполнить над ним своими робкими руками и телом то, что его смелые и дрожащие руки делали со мной, но тогда закрытые веки, какой-то трепет неподвижного смуглого лица (которое ясно видится мне и теперь), возбуждение, смутно почувствованное мною, так напугало меня, что я бросился бежать через горы домой. И отлично помню, что бежа я почувствовал в первый раз сладкое и тупое чувство, которое потом оказалось возможным возбуждать искусственно и которое повело меня в Петербурге к онанизму. Брат рассердился на меня, боясь, что я расскажу домашним, но гулять стал с Сашей Белявским, старшим меня лет на 5. У брата был приятель, в которого он был влюблен и которого прогнал, т. к. тот стал слишком любезен со мной. Тогда я ничего не понимал» (ДК5: 268). Переехали в Петербург в 1884 г. и поселились сначала на Моховой, а потом на Васильевском острове, там Миша ходил в гимназию. Вскоре отец умер, и жизнь стала более стесненной. В гимназии Миша учился плохо, но языки любил. До 13 лет он мало интересовался религией, как и вся семья. Но в 13 лет был первый приступ религиозности, как и увлечение классическим миром и кое-чем еще. «Тут я в первый раз имел связь с учеником старше меня, он был высокий, полунемец, с глазами почти белыми, так они были светлы, невинными и развратными, белокурый. Он хорошо танцовал и мы виделись, кроме перемен, на уроках танцев и потом я бывал у него» (ДК5: 269). Начал подводить глаза и брови, потом бросил. Очень любил район Сестрорецка — он ему казался какой-то Аттикой. В пятом классе появился новый гимназист Георгий (Юша) Чичерин, мальчики подружились, и Миша стал часто бывать в большой барской семье Чичериных. С Юшей у них было общее увлечение музыкой. Миша стал писать музыку и страшно увлекся романтизмом в музыке и литературе: Гофман, Вебер, Берлиоз. Оба пережили короткое увлечение соседними девочками, а, оканчивая гимназию, Кузмин вознамерился идти в священники. Зная его связь с Кондратьевым и другие склонности к юношам, в гимназии посмеивались. Летом всё-таки решил поступать в консерваторию, хотя все уговаривали в университет. В консерватории учился у Лядова, Римского-Корсакова и Соловьева. «Тут я стал дружен с Юркевичем и опять ревновал, делал сцены и потом поссорился с ним. В 1893 году я встретился с человеком, которого очень полюбил и связь с которым обещала быть прочной. Он был старше меня года на 4 и офицер конного полка. Было очень трудно выискивать достаточное время, что<бы> ездить к нему, скрывать, где бываю с ним и т. д., но это было из счастливейших времен моей жизни…» (ДК5: 270). Тем не менее в это время была и попытка отравиться. «В связи с князем Жоржем я признался Чичерину, Синявину и моему двоюр<одному> брату, офицеру Федорову, который отнесся к этому как-то особенно серьезно. Я накупил лавровишн<евых> капель и, написав прощальное письмо, выпил их». К причинам этой попытки сам Кузмин относит «недовольство консерваторией, невозможность достаточно широко жить» и то, что он считал свое положение каким-то особенным. После этого фортеля пришлось оставить консерваторию. «Моя любовь еще удвоилась; я во всем признался матери, она стала нежной и откровенной и мы подолгу беседовали ночью или вечером за пикетом. Говорили почему-то всегда по-французски. Весной я поехал с князем Жоржем в Египет. Мы были в Константинополе, Афинах, Смирне, Александрии, Каире, Мемфисе. Это было сказочное путешествие… На обратном пути он должен был поехать в Вену, где была его тетка, я же вернулся один. В Вене мой друг умер от болезни сердца, я же старался в усиленных занятиях забыться. Я стал заниматься с Кюнером и каждый шаг был наблюдаем с восторгом Чичериным, дружбе с которым это был медовый год» (ДК5; 271). Позже Чичерин приобщился там к марксизму, жил в эмиграции и во время мировой войны был в Англии арестован. По хлопотам Советского правительства был освобожден и возвращен России, где стал наркомом иностранных дел. Таковым был с 1918 по 1930. Урывками занимался своим любимым делом — писал исследование о Моцарте. Не женился и поддерживал бедствующего поэта, помогал ему выжить. Переписывались до 1926 г., когда и была последняя встреча. Во время поездок в Берлин лечился в нервных клиниках и наведывался к одному шарлатану, претендовавшему на лечение гомосексуальности. С течением времени интеллектуалу Чичерину всё труднее было ладить с большевистским руководством, где университетски образо ванного Ленина сменил недоучившийся семинарист Сталин. У Чичерина все больше давали себя знать психические срывы. С 1925 г. практически не руководил наркоматом, лечился в Германии. Наконец, был сменен Литвиновым. Рожденный в один год с Кузминым, умер тоже в один год с ним.3. Искания себя
Десятилетие перед первой русской революцией Кузмин провел в истерических метаниях между разными увлечениями. Увлекался различными философско-религиозными течениями, видами деятельности и… объектами чувства. Поначалу по юношеской наивности и незнанию себя Кузмин полагал, что со смертью друга (князя Жоржа) он обречен на отсутствие любви. Увлекаясь неоплатониками и мистиками первых веков, он старался устроить свою жизнь на началах воздержания и строгого распорядка. Юша всячески старался поддерживать это убеждение. Вообще он стимулировал интерес Кузмина к философии и Италии. Однако Кузмин заболел — с ним стали случаться припадки истерии, и после лечения в клинике его отправили в Италию. В Риме он увлекся лифт-боем Луиджино, которого с согласия его родителей увез во Флоренцию, чтобы потом забрать с собой в Россию в качестве слуги. Между тем весело тратил деньги, и они иссякали катастрофически. Мать в отчаянии обратилась к Чичерину, жившему в Германии, и тот примчался во Флоренцию. «Луиджино мне уже понадоел, и я охотно дал себя спасти» (ДК5: 271). Юша свел его с каноником Мори, иезуитом. Тот переселил Кузмина к себе и занялся его обращением в католицизм (прямо как Винкельмана!). Кузмин бродил по церквам, по знакомым каноника, посещал его любовницу маркизу Эспинози Мороти, читал жития святых, но формального согласия не давал. Напряженность сказалась — возобновились припадки истерии, и он попросил мать вытребовать его телеграммой. С Мори первое время переписывался, потом письма стали реже и прекратились. Только в повести «Крылья» через десять лет появился каноник Мори — под своим собственным именем. Кузмин разрывался между разными направлениями в искусстве и общественной жизни. То он предавался русской древности, народности, церковности, то бредил д’Аннунцио, новым искусством и чувственностью. Познакомился со старообрядцем Казаковым, плутоватым и бестолковым продавцом древностей. Поселился с его семейством во Пскове. Стал изучать крюковую музыку, гордился тем, что его считали старовером. Ездил в Васильсурск. В это время носил ярко-красную шелковую косоворотку, черные бархатные шаровары навыпуск и русские лакированные сапоги. Отпустив черную бороду, напоминал цыгана — так и ожидалось, что вот-вот затанцует. Но вдруг европеизировался, сбривал бороду и становился театралом и денди. По слухам, у него было 365 разноцветных жилеток (на деле только 12). Таким он очень смахивал на еврея — своими вифлеемскими глазами, как бы подведенными, и горбоносым профилем с выпяченной нижней губой. В 1904 г. друзья семейства и соседи по даче в Васильсурске Верховские издали на собственные средства «Зеленый сборник стихов и прозы», в котором появились впервые и стихи Михаила Кузмина. Ему было в это время 32 года. После смерти матери осенью 1904 г. пришлось учиться вести собственное хозяйство. Надо признать, он не только вошел в поэзию в позднем возрасте, но и сохранял до этой поры — при всей образованности — некую общую инфантильность, некий юношеский стиль поведения. Это вообще, видимо, свойственно гомосексуальным личностям, свободным от ориентировки на создание семьи и заботы о ней. Впрочем, некоторую заботу о литературном воспитании своего племянника-гимназиста Сережи Ауслендера Кузмин проявлял и даже давал ему читать свой Дневник, хотя в особо откровенных местах отмечал: «[И подумать, что эту тетрадь будет читать Сережа, невинный, чистый, далекий от всяких уклонов!» (23 декабря 1905 г., ДК5: 86)]. На второе лето «я отчаянно влюбился в [Сережина] некоего мальчика, Алешу Бехли, живших тоже на даче в Василе, Вариных знакомых. Разъехавшись, я в Петербург, он в Москву, мы вели переписку, которая была открыта его отцом, поднявшим скандал, впутавшим в это мою сестру и прекратившим, таким образом, это приключение» (ДК5: 272). Но приключения на любовном фронте продолжались. «Весною (1904 г. — Л. К.) я познакомился с Гришей Муравьевым, с которым вскоре и вступил в связь, думая со временем устроиться с ним во Пскове. Летом я заезжал в Зарайск, где он жил; прожили там дней 6 со спущенными от жары занавесками, любя и строя планы, по вечерам гуляя за городом в тихих полях. Потом я жил в Щелканове у Верховских. Тут, просто от скуки, я стал оказывать больше внимания, чем следует, младшему брату, вызвав ревность жены, негодование других и почти ссору. Потом все помирились, а он уехал в Киев» (ДК5: 273).4. Возлюбленный Гриша Муравьев
Рассмотрим только одно из этих приключений, но показательное. 18-летний Гриша Муравьев был простым парнем, из слуг, попивал, никакой утонченной интеллигентности, но был любим и сам полюбил Кузмина беззаветно. Как состоялось знакомство, Кузмин вспоминает 8 сентября 1905: «мы оба стояли у окна и он рассказывал, почему Тимофей не уходит с места: «Может быть, он влюблен в своего барина». — «А может быть, я в вас влюблен, Григорий». — «Все может быть», — бегло и весело взглянув, сказал он. — «Если бы вы сами не сказали, я бы написал вам об этом» (ДК5: 39). Кузмин 22 августа описывает его так: «Одетый и особенно на улице, нельзя предположить, как он хорош голый или совсем близко. Первое, что меня поразило — это красота его тела и особенная сладострастность лица (я помню, как подумал: «вот педерастическая красота»), хотя, конечно, он слегка мордаст и похож на татарина (ДК5: 28)». Через неделю отмечает: «Сидя напротив, я смотрел, хорош ли он; вчера был очень интересен, побледневший, с большими серыми глазами, понятливыми, ласковыми и чувственными» (ДК5: 33). И запись 4 сентября: «Я целый день мучусь за свое отношение к Григорию; я позабыл дать свой адрес, — он хотел придти в воскресенье и я от трусости, не знаю отчего, побаивался этого. Нужно бы послать адрес и сговориться, а я этого не сделал. А я его хочу и думаю о нем весь день; не идеализируя, а так, как он есть, он и милее, и жалче, и дороже: стесняющийся, некрасивый с первого взгляда на улице, бедный, бедный» (ДК5: 36). 18 сентября: «Занятно, что сегодня впервые Григорий заявил, что он меня любит и даже скучал и ходил к дому, да не смел зайти, хотя последнее, я думаю, уже привиранье… Интересно, как отнеслась публика к посещению Гриши и что было слышно в детскую и коридор? Гриша у меня спрашивал, красивая ли Лидия Павловна и когда я сказал, что «право, не знаю», он прибавил: «Ну, если б это лицо было у мальчика, могло бы оно вам понравиться?» Я отвечал, что нет, п<отому> что такого лица не могло бы быть у мальчика» (ДК5: 43–44). За каждое посещение Кузмин Грише платил, и когда у него не было денег, он писал Грише, чтобы тот не приходил. 27 сентября он заносит в Дневник очень важную запись, характеризующую не столько его самого, сколько Григория: «я верю ему, когда он на мой вопрос (довольно глупый и несправедливый), что, если б у меня не было и не имелось быть денег, ходил ли бы он ко мне, он ответил: «А то как же? Разве я вас не люблю?» — и потом, совсем потом, после других разговоров, без вопроса, стыдливо заметил: «Я же вас только и знаю» (ДК5: 48). Их любовь, для сторонних и непривычных странная не только своей однополостью, но и резкой разницей образованности, социального положения и возраста, любовь платная, тем не менее приносила обоим острые и глубокие переживания. Вот запись от 23 октября 1905 г.: «Вчера я чего-то загрустил и стал плакать, когда уже Гриша был одет уходить, и все хотел его нарумянить, а он не знал, как уйти, и говорил: «Так я уйду?» — «Иди», — отвечал я и плакал, а он не уходил, стоял и твердил: «Так я уйду?»…» (ДК5: 60). А 6 ноября Кузмин записывает: «Сегодня целый день такой припадок мигрени, какого не было уже года три… У Григория тоже болела голова и вдруг заболела грудь, забилось сердце и он уснул, как в обмороке, хотя не был ни капли пьян. Полуодевшись, я сел в кресло и смотрел на спящего при красноватом свете лампады: совершенной стройности тело, смугло-бледное, еще более нежное от меха одеяла, спокойное лицо с длинными темными ресницами и красневшим ртом; мысль, что это все — твое, страшная головная боль…, теплота комнаты, свет лампад, все напоминало какой-то бред, но ни черты разврата, а что-то первобытное, изысканное, чувственно-простое, тихое и божественное. Потом я, одевшись, не мог стоять и лег, а он ушел и стоял, высокий, в высокой шапке, белый и милый; прощаясь, я почти не сознавал ничего» (ДК5: 66). Всё же Кузмину этот роман быстро начинал надоедать. Уже 22 августа он записывал: «Когда я в среду на прошлой неделе, приехав на городскую квартиру, узнал, что Гриши с Успенья, когда мы с ним довольно сухо расстались, не было, то я подумал, что это отчасти развязка и мне сделалось легко от этой мысли». Но «Оказалось, что в среду он был тотчас после меня, ночевал с четверга на пятницу один, весь залеж булок подъел, керосин и свечу пожег и оставил мне письмо, где, право, трогательно было описано, как он приходил несколько раз без меня, ночевал один, приходил под вечер смотреть, не освещено ли у меня окно, уходил на Остров, «поплакав». Конечно, в письмах все выходит трогательнее». И вот уже Григорий сидит у Кузмина на сундуке «совсем голый на своей красной рубахе» (ДК5: 27). 29 сентября запись: «У моей чашки на столе лежало письмо от Гриши, где он пишет, что приедет в субботу после 2-х …; в конце условный треугольник с надписью «сто раз» (ДК5: 49). Однако в конце-концов разница уровней начинала сказываться, и 3 октября 1905 г. появляется такая запись: «Редко я бывал почему-то так противен сам себе, как сегодня утром я не знаю отчего, может быть, похождения с Григорием, не имея никаких препятствий, входя в какой-то обиход, в привычку, делаются очень буржуазными, вроде «постельной гимнастики», как выражался император Домициан. И если и есть в этом остаток поэзии, то очень невысокого полета, какого-то хулигански-содержанского. М<ожет> б<ыть>, я просто встал с левой ноги, м<ожет> б<ыть>, письмо Юши меня настроило на более возвышенный лад, но нужно признаться, что эта авантюра, м<ожет> б<ыть>, одна из самых спокойных, но и из наиболее низменных. Собственно говоря, вполне совпадали интересы и культурность и вкусы только с князем Жоржем» (ДК5; 50–51). Тем не менее он давал Григорию читать свой Дневник, и 8 января 1906 г., прочтя там о приключении Кузмина с банщиком, Григорий «ссорился и ревновал, и плакал, и бранился, говорил, что я его мучаю загадками и что он сейчас разорвет стихи про Александра Македонского, хотел уходить сейчас, но я, наконец (все время, правда, дразня и подсмеиваясь), обозлился и сказал: «Ну, [парень,] слушай: если ты уйдешь, так надолго уйдешь». Он перестал кобяниться, стал спрашивать, есть ли во мне человечность… (ДК5: 98)».5. Этика и эстетика любви
Есть ли в Кузмине человечность — это серьезный вопрос. Ахматова на него отвечала отрицательно, говорила впоследствии: «Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный». Гумилев как-то обозвал его поэзию «будуарной». Кузмин отозвал свою положительную рецензию на Гумилева и напечатал резко отрицательную. Когда его возлюбленный молодой офицер и поэт Князев, с которым у него произошла ссора, застрелился, Кузмин даже не пошел на его похороны (Богомолов 1996: 31–32). Что уж и говорить о его отношении к платному любовнику Грише Муравьеву, из плебеев. Такими же были и другие возлюбленные Кузмина в это время — например, Павлик Маслов, длинный курносый вологодский парень, профессиональная проститутка из Таврического сада, знаток галстуков, очень искусный в постели и всегда нуждающийся в деньгах. Это он нашел, что у Кузмина «ебливые глаза». «Как мир мне чужд, как мир мне пуст, Когда не вижу милых уст!» — изливался Кузмин. Павлику посвящены лучшие его любовные стихи. «Шабли во льду, поджаренная булка» — это всё ему.Глаз змеи, змеи извивы,
Пестрых тканей переливы,
Небывалостъ знойных поз…
То бесстыдны, то стыдливы
Поцелуев все отливы,
Сладкий запах белых роз…
Замиранье, обниманье,
Рук змеистых завиванье
И искусный трепет ног…
И искусное лобзанье,
Легкость близкого свиданья
И прощанье чрез порог.
………………………………
Одеяло обвивало,
Тело знойное пылало,
За окном чернела ночь…
Сердце бьется, сухи руки.
Отогнать любовной скуки
Я не в силах, мне невмочь…
Прижимались, целовались,
Друг со дружкою сплетались…
Любовь расставляет сети
Из крепких шелков;
Любовники как дети,
Ищут оков.
Вчера ты любви не знаешь,
Сегодня весь в огне.
Вчера меня отвергаешь,
Сегодня клянешься мне.
Завтра полюбит любивший
И не любивший вчера,
Придет к тебе не бывший
Другие вечера.
Полюбит кто полюбит,
Когда настанет срок,
И будет то, что будет,
Что приготовил нам рок.
Мы, как малые дети,
Ищем оков,
И слепо падаем в сети
Из крепких шелков.
6. Интеллигенция и революция
Производит несколько странное впечатление подбор возлюбленных этого дворянина и высоколобого интеллектуала, который на французском языке говорил лучше, чем по-русски и то и дело сбивался на французские выражения. Возлюбленные большей частью из самых низов — слуги, банщики, гулящие парни, продающие свое тело за деньги. Но здесь нет ничего странного. Философ Витгенштейн тоже предпочитал грубых, недумающих парней. Английский писатель Ишервуд жил со своим слугой Гейнцем. Писатели Уолт Уитмен, Эдвард Карпентер, Джон Саймондс, дипломат Норман Дуглас, офицер Жюльен Вио (Пьер Лоти) находили себе пару среди солдат, матросов, гондольеров, крестьян, рабочих. Как я уже писал (в очерке о К. Р.), это характерно для многих интеллектуалов и аристократов. Они не могут расслабиться с представителями своего слоя, своего класса. От таких партнеров они подсознательно ожидают иронии, сомнений, сплетен по поводу сексуального отклонения, а это убивает любовь в зародыше. Простой же народ, им кажется, воспринимает всё проще и, коль скоро уж такая склонность осознана, он не делает из этого лишних сложностей. В записи от 27 сентября 1905 г. Кузмин сам это подмечал: «о Грише я думаю не только как о любовнике, но как о милом близком человеке, с которым в простейших вещах я мог бы быть откровенен, которого не стесняюсь и без стыда могу приласкаться попросту, и знаю, что не встречу ни досады, ни насмешки, ни шокировки, ни отвращения. Это я знаю и это я ценю, помимо влечения тела…» (ДК5: 48). 18 мая 1906 г. Кузмин заносит в свой Дневник такую запись: «Какая скука будет в Василе без возможностей легкой, доступной, ни к чему не обязывающей любви! Я почему-то не могу представить себя влюбленным (или, вернее, в связи) с человеком общества, особенно со знакомым» (ДК5: 150). Его неудержимо тянуло к «низам», хулиганам и уличным парням. 21 мая 1906 г. в Таврическом саду он жаловался некоему Василию, «что все ушли, что он ничего для меня не делает, в сад не взял, Каткова не приводит, с хулиганами не знакомит». Василий рыцарски твердил: «Доверьтесь, я все сделаю, я знаю, что вам нужно» (ДК5: 152). Отсюда и переосмысление отношений с Гришей. В начале октября (4-го) 1905 г. Кузмин записывал: «Конечно, я или клеветал на себя, или льстил себе, когда писал, что никогда не был себе так противен, как теперь, и что меня тяготит связь с Григорием. Конечно, во мне совершается какой-то перелом, отношения к Муравьеву осложняются безденежьем; я несколько более возвышенно настраиваюсь, вновь вспомнив о культурных центрах и о своем искусстве, но смотря в окно, на улицу, разве я не ищу глазами линий стройного тела, волнующих лиц, светлых, как ручей или омут, глаз; разве у меня не замирает сердце, когда я слышу звонок, возвещающий об его приходе? но не было ли бы это и со всяким, кто был бы мне привлекателен сколько-нибудь физически и доступен? И почему лица интеллигентные менее часто бывают чувственно волнующи (у нас, у русских, конечно)? Простые лица часто бывают глупы и без мысли, а у интеллигентов как-то оскоплено всё страстное, или просто серые, некрасивые, верблюжьи лица» (ДК5: 51). Отсюда, видимо, и поражающее многих его поведение в первой русской революции — его симпатии к черносотенцам, его вступление в Союз Русского Народа. Его, тончайшего интеллектуала, эстета, любителя Кватроченто, символистских стихов и музыки романтиков. Конечно, он еще вдобавок и евреев недолюбливал, хотя у него и было немало друзей-евреев и даже любимый племянник, Сережа Ауслендер, — полуеврей. Не терпел Кузмин еврейство, возможно, потому, что это была для него недостаточно мужественная нация, а возможно, потому, что его частенько самого принимали за еврея. «За жида», — как это формулировал он сам. Но, в общем, не идеи его влекли к контрреволюции, а люди, их плотский облик. «Если бы рабочие и студенты защищали отечество, — пишет он 15 ноября 1905 г., — а мясники, молодцы и казаки бунтовали, за кого бы я стоял?» Ответ ясен. Он всё равно был бы за молодцов и казаков. «Мне просто милее люди в сапогах и картузах, гогочущие и суеверные, это не старые лики и не Вандея, а ненависть к прогрессизму, либерализму, интеллигентности и к внешнему виду, к жизни, к лицам носителей этого. Я думаю, это главное» (ДК5: 70). Так его гомосексуальные вкусы формировали его политическую ориентацию. В октябре 1905 года появляются такие записи. 13 числа: «Сегодня запасали провизию, как на месяц осады. Сережа в восторге от справедливости и законности забастовок, но мне противны всякое насилие и безобразие (другого слова я не могу найти), все равно, со стороны ли полиции, или со стороны забастовщиков. Неделанием выражать свой справедливый протест всякий может, но силой мешать отправлению насущнейших функций культурной жизни — варварство и преступление, за безнаказанность которого всецело ответит признавшее будто бы свое бессилие правительство. Кровь! Разве меньше ее пролилось в Японии за фикцию богатства и влияния, за политическую авантюру? Спокойство нужно, хотя бы для этого все должны бы были лежать мертвыми» (ДК5: 57). Каково? Это после Кровавого воскресенья! Через неделю, 18 числа: «Сегодня объявлена конституция; на улицах небывалый вид, незнакомые заговаривают, вокруг каждого говорящего собираются кучки слушателей, красные гвоздики, кашнэ, галстухи имеют вид намеренности. У Думы говорили революционеры с красным знаменем, которое потом убрали, кучка единомышленников аплодировала заранее ораторам, которые толковали, что весь манифест — обман. Когда кричали: «долой красную ленту» и «долой ораторов», я тоже кричал «долой», помимо воли и рассуждения, т. е. наиболее искренне» (ДК5: 58).7. Крылья
Между тем именно революционная обстановка позволила Кузмину не только кричать «долой», но и крикнуть на всю страну о том, что его томило все эти годы. Он только начал печатать стихи, и вначале он просто писал стихотворные тексты к своим песням, а уж потом перешел к собственно стихам. И стихи его, стилизованные под античность («Александрийские песни»), зазвучали, как музыка. Будучи по натуре поэтом-лириком, он жаждал воспеть прежде всего любовь. Но как гомосексуал он мог писать только о той любви, которая в XIX веке стыдилась назвать свое имя, за которую был осужден Оскар Уайлд и которую российская власть и православная церковь также не могли позволить. В «Александрийских песнях» прямо не говорилось об однополой любви, но характерно, что для стилизации была выбрана эпоха, когда такая любовь процветала. Это был подступ к теме. Именно расшатывание, а затем и отмена цензуры позволили говорить прямее, и, почувствовав это, Кузмин зажегся идеями написать большое прозаическое произведение на эту тему. Весной 1906 года вышла повесть «Крылья». Герой этой повести гимназист Ваня Смуров, инфантильный юноша, тянется к образованному полуангличанину Штрупу, но внезапно открывает, что у того есть интимная связь с бывшим банщиком Федором, поступившим к нему в лакеи. Тут выясняется, почему Штруп отвергает любовь девушек, видевших в нем жениха. Интимная связь в повести задета очень мало, намеком, в подслушанном разговоре Федора с родственником. «— Ну, я уйду, дядя Ермолай, что ты всё ругаешься? — Да как же тебя, лодыря, не ругать? Баловаться вздумал! — Да Васька, может, тебе всё наврал; что ты его слушаешь? — Чего Ваське врать? Ну, сам скажи, сам отрекись: не балуешь разве? — Ну, что же! Ну, балуюсь! А Васька не балуется? У нас, почитай, все балуются… — Помолчав, он опять начал более интимным тоном, вполголоса: — Сам же Васька и научил меня; пришел раз молодой барин и говорит Дмитрию Павловичу: «Я желаю, чтобы меня мыл тот, который пускал», — а пускал его я; а как Дмитрий Павлович знал, что барин этот баловник и прежде им Василий занимался, он и говорит: «Никак невозможно, ваша милость, ему одному идти: он — не очередной и ничего этого не понимает». — Ну, черт с вами, давайте двоих с Василием! — Васька как вошел, так и говорит: «Сколько же вы нам положите?» — Кроме пива, десять рублей. — А у нас положение: кто на дверях занавеску задернул, значит, баловаться будут, и старосте меньше пяти рублей нельзя вынести; и Василий говорит: — «Нет, ваше благородие, нам так не с руки». Еще красненькую посулил. Пошел Вася воду готовить, и я стал раздеваться…» Потом говоривший вышел, «и Ваня увидел быстрые и вороватые серые глаза на бледном, как у людей, живущих взаперти или в вечном пару, лице, темные волосы в скобку и прекрасно очерченный рот. Несмотря на некоторую грубость черт, в лице была какая-то изнеженность, и хотя Ваня с предубеждением смотрел на эти вороватые ласковые глаза и наглую усмешку рта, было что-то и в лице, и во всей высокой фигуре, стройность которой даже под пиджаком бросалась в глаза, что пленяло и приводило в смущение». То ли предубеждение, то ли ревность оттолкнули Ваню от Штрупа, и он перестал с ним видеться. В том же доме женщина в возрасте пыталась соблазнить Ваню, но он в ужасе и отвращении убежал. Ваня помнил смущающие, но влекущие рассуждения Штрупа: «Мы — эллины… Чем дальше люди будут уходить от греха, тем дальше будут уходить от деторождения и физического труда… Любовь не имеет другой цели помимо себя самой… И когда вам скажут «противоестественно», — вы только посмотрите на сказавшего слепца и проходите мимо… И связывающие понятие о красоте с красотой женщины для мужчины являют только пошлую похоть, и дальше, дальше всего от истинной красоты жизни. Мы — эллины, любовники прекрасного, вакханты грядущей жизни». Путешествуя за границей, он встречает Штрупа. Колеблясь и волнуясь, Ваня решается восстановить знакомство, не раз вступает в беседу, и тот ставит вопрос ребром: «Да» или «нет»? «— Какое «нет», какое «да»? — спрашивал Ваня. — Вы хотите, чтобы я вам сказал словами?» Ваня обещал ответить. Штруп заметил: «— Еще одно усилье, и у вас вырастут крылья, я их уже вижу — Может быть, только это очень тяжело, когда они растут, — молвил Ваня, усмехаясь». Вскоре Ваня поехал дальше со Штрупом. Этот завершающий эпизод и дал название всей повести. В образованных кругах оно воспринималось как аллюзия к одному из диалогов Платона — «Федр». По мысли Платона, душа благородного мужа любуется красотой юноши, от этого у нее вырастают крылья. Она-то от природы крылатая, и ростки крыльев у нее есть, но неоперенные. Без созерцания красоты, душа не может воспарить, а созерцая прекрасного юношу, она согревается. Тогда вокруг ростков всё размягчается, крылья идут в рост и покрываются перьями. Это производит зуд и раздражение, как при прорезывании зубов. Влечение же позволяет взаимному истечению частиц впитываться, душа избавляется от мук и взлетает навстречу родственной душе. Юноша, хотя и называет это не любовью, а дружбой, тоже тоскует по влюбленному. «Как и у влюбленного, у него тоже возникает желание — только более слабое — видеть, прикасаться, целовать, лежать вместе, и в скором времени он, естественно, так и поступает» (Федр, 255). Повесть вызвала скандал. Она была воспринята как «физиологический очерк», вроде романов Золя, хотя отличается от них необыкновенной поэтичностью и скромностью. Коллеги увидели в «Крыльях» апологию порока, Зинаида Гиппиус назвала произведение «мужеложным романом», с «патологическим заголением». Впрочем, Блок нашел «Крылья» «чудес ными». Но критики заклеймили автора как пошляка, который «любит мальчиков из бани» и «сладострастно смакует содомское действие» (где они это увидели?). В одной газете были помещены такие стишки:Кузмин всемирный взял рекорд,
Подмял маркиза он де Сада.
Александрийский банщик горд…
Вакханту с крыльями отрада.
(цит. по: Богомолов 1995: 62).
 Карикатура на «Крылья» Кузмина. Около 1907 г.
Карикатура на «Крылья» Кузмина. Около 1907 г.
Самое любопытное, что известность Кузмина проникла даже в сами бани. Он это обнаружил у одного банщика. «Оказывается, — пишет он 6 апреля 1907 г., — они читали в «Нов<ом> врем<ени>» в буренинской статье отрывки из Розан<ова>, где про бани, и заинтересовавшись, спрятали даже номер газеты, так что когда я себя назвал, он стал вспоминать, где же он читал про меня и вспомнил. Вот литературная известность в банях, чем не шекспировская сцена» (ДК5: 343). Реакция на «Крылья» показывает, что, хотя Кузмин на самом деле в сущности ничего не рисовал откровенно и никаких гомосексуальных сцен в повести не было, все же он задел столь общеизвестную часть действительности, что достаточно было легких намеков, чтобы читатели увидели всё остальное. Банные утехи содомского плана были важной частью гомосексуальной субкультуры в России. В «Судебной гинекологии» В. Мержеевского (1878) приводится дело 1866 г. о банщиках Василии, Алексее, Иване, Афанасии и Семене. Проболтался 17-летний Василий, и здесь уже приводились его признания. Он рассказывал, что распознает, когда человеку не мытье нужно, и позволяет ему сделать «со мной как с женщиною, в ляжки, или, смотря по тому, как он захочет, сидит, а я буду на спине» или «прикажет сделать с ним как с женщиной, но только в задний проход…». О регулярном использовании подобных услуг банщиков в годы первой революции признавался в своем дневнике и великий князь Константин Константинович (поэт К. Р.). В Дневнике Кузмина уже после написания «Крыльев» есть такой сюжет (запись от 23 декабря 1905 г.): «Вечером я задумал ехать в баню, просто для стиля, для удовольствия, для чистоты. Звал с собою Сережу, но он, к сожалению, не поехал. Пускавший меня, узнав, что мне нужно банщика, простыню и мыло, медля уходить, спросил: «Может, банщицу хорошенькую потребуется?» — «Нет, нет.» — «А то можно…» — Я не знаю, что мною руководствовало в дальнейшем, т. к. я не был даже возбужден… — «Нет, пошлите банщика». — «Так я вам банщика хорошего пришлю» — говорил тот, смотря как-то в упор. — «Да, пожалуйста, хорошего», — сказал я растерянно, куда-то валясь под гору. — «Может, вам помоложе нужно?» — понизив голос… промолвил говорящий. — «Я еще не знаю», — подумав, отвечал я. — «Слушаюсь». Когда смелыми и развязными шагами вошел посланный, я видел его только в зеркале. Он был высокий, очень стройный, с черными чуть-чуть усиками, светлыми глазами и почти белокурыми волосами; он, казалось, знал предыд<ущий> разговор, хотя потом и отпирался. Я был в страшно глупом, но не неприятном положении, когда знаешь, что оба знают известную вещь и молчат. Он смотрел на меня в упор, неподвижно, русалочно, не то пьяно, не то безумно, почти страшно, но начал мыть совсем уже недвусмысленно. Он мне не нравился, т<о> е<сть>, нравился вообще, как молодой мужчина, не противный и доступный; моя, он становился слишком близко и вообще вел себя далеко не стесняясь. После общего приступа и лепета мы стали говорить, как воры: «А как вас звать?» — «Александром…» — «Ничего я не думал, идя сюда». — «Чего это… Да ничего… Бывает, случается мимо идут, да вспомнят…» — «Запаса-то у меня не много…» — «А сколько?». Я сказал. «Не извольте беспокоиться, если больше пожалуете, потом занесете…» — «В долг поверите?» — «Точно так…» — «А если надую?» — «Воля ваша…» Я колебался… Тот настаивал. — «А вы как?» — «[Как] Обыкновенно…»- «В ляжку или в руку?» — «В ляжку…» — «Конечно, в ляжку, чего лучше», — обрадовался парень. Гриша, милый, красивый, человечный, простой, близкий, Гриша, прости меня! Вот уже правда, что душа моя отсутствовала. Как бездушны были эти незнакомые поцелуи, но, к стыду, не неприятны. Он был похож на Кускова еп beau [красавчика (фр.)] и всё фиксировал меня своими светлыми, пьяноватыми глазами, минутами мне казалось, что он полоумный. Одевшись, он вышел причесаться и вернулся в [рубашке] серебряном поясе, расчесанный и несколько противный. Он был подобострастен и насилу соглашался садиться пить пиво, благодарил за ласку, за простое обхождение; главный его знакомый — какой-то князь (у них все князья), 34<-х> л<ет>, с Суворов<ского>, с усиками, обычные россказни о покупках родным и т. д. (впоследствии оказалось, то это князь Тенишев. — Л. К). Самому Алекс<андру> 22 г<ода>, в банях 8-й год, очевидно на меня наслали профессионала. Он уверяет, что дежурный ему просто сказал: «мыть», но он был не очередной, остальные спали; что в номера просто ходят редко, что можно узнать по глазам и обхождению. И, поцел<овав> меня на прощание, удивился, что я пожал ему руку. В первый раз покраснев, он сказал: «Благодарствуйте» и пошел меня провожать. Проходя сквозь строй теперь уже вставших банщиков, сопровождаемый Алекс<андром>, я чувствов<ал> себя не совсем ловко, будто все знают, но тем проще и внимательнее смотрел на них…. О, Псков, о, Гриша, вы будто луч спасения, как детство, как рай, как чистота, меня влечете; в Григории есть и родственность, и девственность, как это ни смешно. И чего я сунулся с этим Александром; впрочем, м<ожет> б<ыть>, все к лучшему» (ДК5: 85–86). Но все следующие дни он не может изгнать из памяти этого молодца, думает о нем, мечтает, пишет стихи и:
 М. Кузмин. 1911 г.
С автографом Г. И. Чулкову
М. Кузмин. 1911 г.
С автографом Г. И. Чулкову
«Я не знаю, что со мною делается; не влюблен же я, хотя бы самым первобытным образом, в Александра, — отчего же я возвращ<аюсь> мыслью к нему, и если бы было достаточно денег, сейчас бы поехал туда. Неужели вид, связь тела, для не совсем привычных людей так властна? неужели от прикосновения можно утратить себя?… Это какое-то колдовство» (ДК5: 88). И вот уже 20 мая 1906 он записывает: «Я хотел опять пойти по дороге в бани, но не к Александру, а куда-нибудь далеко, где никогда не был, никто меня не знает, грязновато. … Я люблю путь в незнакомые бани, когда не знаешь, кого получишь, какое у него лицо, глаза, тело, как он держится, говорит. Какая-то сладкая ломота во всем теле, и если денег мало и их нужно на что-нибудь, то прибавляется еще какая-то приятная безрассудность, какой-то abandon [непринужденность, небрежность в обращении (фр.).]. Это нельзя назвать авантюрой, и я хотел бы про гулок и быть вдвоем долго, до faire la chose [чтобы заниматься делом (фр.).] (как с Гришей), а еще бы лучше и вместе музыка, и чтения, и беседы, если б это было связано с чувственным возбуждением, если б это было и чувствительно, и легко, и эротично, и без стыда, и без мысли, надолго ли это или нет, это было бы лучше всего» (ДК5: 151). Позже (Дневник, 11 мая 1911 г.) он говорил о бане: «Какое благодетельное учреждение. Всех принимают, кланяются, дают ласки, и не бардак». Сравнивал ее с гаремом. Вот та темная стихия, которая скрывалась за тонкой и деликатной тканью «Крыльев». Но, конечно, и любовь гимназистов, студентов, молодых художников и поэтов. Беседы о философии, образы Антиноя, Ганимеда, виды Италии… «Крылья» открыли целый пласт культуры, ждавший своего часа, и вывели Кузмина на свою дорогу. Окрылили его и многих читателей. Гомосексуальные юноши были воодушевлены, писали Кузмину письма, добивались свиданий. Планировалось создание «эротического общества», для чего Кузмин переписывался со студентами и гимназистами. Но при реальном свидании они оказались «один другого уродливее». Кузмин вполне осознавал свое столкновение с доминирующей моралью. Его отношение к морали было очень близко к афоризмам Уайлда. 15 сентября 1906 г. он отметил в Дневнике: «Пошли к Чичериным, где обедали и читали свои вещи. Читая «Эме», я заметил, что независимо от художественных достоинств и развращающего характера (sic!), все мои писанья имеют смысл, как занятное, легкое, слегка скандальное чтение, amusement [забава]» (ДК5: 222). В 1907 г. опубликовал еще одну повесть — «Картонный домик», тоже о любви между мужчинами. Кузмин даже собирался написать что-то еще более смелое под названием «Красавец Серж» — о приключениях известного ему гомосексуального натурщика Валентина. 15 июня 1907 г. размышляет в Дневнике: «Не начать ли мне «Красавца Сержа», не думая о цензуре?» Назавтра снова: «Составлял план «Красавца Сержа» (ДК5: 371). Это будет вещь не для печати». Но время было уже не то. Не думать о цензуре было уже невозможно. «Красавец Серж» не родился. Но тенденция ясна. Поэтому, когда Куняев и прочие патриоты-почвенники превозносят православие Кузмина и его религиозные искания, это лицемерие и ханжество. Его искания влекли его отнюдь не к православию, а то к рас кольникам, то к католицизму, то — и больше всего — к греческому язычеству — к Эроту, Приапу и Ганимеду.
8. «Гафизиты»
В период между двумя революциями сплошным потоком текли стихотворения Кузмина, объединяемые в сборники «Сети», «Осенние озера» и др. Это лирика. В них поэтому любовь к юношам раскрывается более откровенно, чем в «Крыльях», но всё так же романтично, без физиологичности. Это восхищение юношескими чертами, признания в любви, и вся смелость их в том, что это любовь к юношам, высказанная поэтом-мужчиной. К этому времени Кузмин уже не был поэтом-одиночкой. Его приняли в свою среду поэты и театральные деятели, многие из которых были гомосексуальны. Из них Кузмин раньше всего познакомился с художником Николаем Сапуновым. У них были общие интересы: Сапунов писал Кузмину «об одном красивом юноше», которого «можно эксплуатировать для многого». В 1912 г. во время совместной прогулки на лодке Сапунов утонул. Остался недописанный портрет Кузмина. М. Кузмин.
Силуэт работы ЕС. Кругликовой. 1910-е.
М. Кузмин.
Силуэт работы ЕС. Кругликовой. 1910-е.
Сапунова был приятель, тоже художник, Сергей Судейкин, сын жандармского полковника, известного своей искусной агентурной войной против народовольцев и убитого за это террористом. Художник родился в Петербурге, уже в 13 лет заразился венерической болезнью от некой женщины, а потом был исключен из Московского художественного училища за показ «непристойных картинок». Поступил в Академию Художеств. В 1906 г. Мейерхольд пригласил Судейкина и Кузмина участвовать в его спектакле, а также позвал Сомова. У Судейкина с Кузминым разгорелся молниеносный роман, полная близость отражена была в стихах, а потом Судейкин отбыл в Москву, подарив Кузмину картонный кукольный домик. Недели три не писал, а затем прислал известие, что женится. Вот повесть «Картонный домик» — это и есть очень близко к реальности рассказанный эпизод об измене Судейкина. О том, как красавица-артистка Ольга Глебова разбила любовную пару Кузмина с Судейкиным. Все были под другими именами, но легко узнаваемы. На основе общих музыкальных (и сексуальных) интересов познакомился с Кузминым Вальтер Нувель и ввел его в круг театральных деятелей. Вальтер жил в одном доме с Философовыми, на его глазах юный Костя Сомов дружил интимно с красавцем Димой Философовым. Но того увел у него кузен Философова Сергей Дягилев. Нувель и свел Сомова с Кузминым, с которым они и раньше читали стихи Кузмина. Художник Константин Сомов, дворянин, сын хранителя картинной галереи Эрмитажа, был исключен из Академии Художеств за участие в студенческих беспорядках, уехал в Париж, вернулся. Приятели обозвали его «Содомовым». Подружившись с Кузминым, он даже воспылал желанием познать его плотски. Но в 1910 г. нашел себе постоянного друга в Мефодии Лукьянове и прожил с «Мифеттой», как он его называл 22 года, до смерти Мефодия. Кузмин посвятил Сомову «Приключения Эме Лебефа», а Сомов написал портрет Кузмина в красном галстуке.
 К. А. Сомов.
Портрет М. А. Кузмина. 1909 г.
К. А. Сомов.
Портрет М. А. Кузмина. 1909 г.
Итак, художники Сапунов, Судейкин, Сомов и Бакст, музыкант Нувель, где-то тут же организатор спектаклей Дягилев. Так уж подобралось, что все эти люди гомосексуальны и занимают не последние места в искусстве Серебряного века. Это среда, питавшая вдохновение Кузмина. Очень характерная деталь: Сережа, племянник Кузмина, знался с Н. И. Петровской, демонической возлюбленной Белого и Брюсова, и когда Сережа поклялся ей, что не связан интимно с Кузминым, что это ему вообще противно, то, как она написала В. Брюсову, говорил он «так убедительно, что я поверила, хотя жалко. Какая-то интересная черточка отпала» (Богомолов и Малмстад 1996: 294, прим. 33). В январе 1906 г. Кузмин впервые посетил «среду» у поэта Вячеслава Иванова в «Доме с башней» на Таврической. Кузмин тогда увлекался старообрядцами, ходил в косоворотке и с ассирийской бородой. Иванов был женат вторым браком на Лидии Дм. Зиновьевой- Аннибал. Оба интересовались гомо эротизмом, хотя имели много детей. Возникла идея собрать сугубо мужскую компанию для свободных бесед и «возлияний» в духе Хафиза (Гафиза). Вот все друзья Кузмина и вошли в эту компанию. Каждый участник получил свое прозвище: Кузмин — Антиноя, Сомов — Аладдина и т. д. Между ними была не столько плотская любовь, сколько духовное общение на основе общности интересов. Любовь была ориентирована вовне этого круга. Кузмин по-прежнему влюблялся часто, жил этими чувствами, посвящал возлюбленным стихи, и часто по стихам трудно определить, сколь примитивен был предмет, вдохновивший поэта. Так об стояло дело с «тапеткой», панельным мальчиком Павликом Масловым. Павлика, которого целовали втроем Кузмин, Сомов и Нувель, сменил юнкер Инженерного училища Виктор Наумов, ласковый, но неуступчивый. Ему посвящен стихотворный цикл «Ракеты». Зимой 1907 г. настойчиво домогался любви поэта студент Сергей Позняков. На «среде» у Ивановых он скромно ответил задевшему его Волошину: «Мне 18 лет, это мое единственное достоинство. Я русский дворянин». Дягилев порекомендовал Кузмину московского гимназиста Володю Руслова, который хвастался тем, что имеет до 30 юношей, готовых «par amour». Кузмин с ним переписывался, кстати, именуя его по имени-отчеству. В 1909 г. Кузмин сблизился с фабричным приказчиком Афанасием Годуновым, «Фонечкой». В том же году начался роман с гусарским юнкером Всеволодом Князевым, продолжавшийся три года. Но юнкер был бисексуалом, любил и женщин. Познакомила их одна весьма любвеобильная дама, и гусар перебегал всю ночь от нее к Кузмину и обратно. Кузмин без памяти влюбился в Князева, целовал ему не только руки, но и «ботинку». Князев, сын литератора, преподававшего в училище Штиглица, и сам писал стихи.
 Рисунок Вл. Милашевского
1-е изд. «Занавешанных картинок», 1920 г. 1
Рисунок Вл. Милашевского
1-е изд. «Занавешанных картинок», 1920 г. 1
Адресовали любовную лирику друг к другу. Сева писал:
Я говорю тебе: «В разлуке
Ты будешь так же близок мне.
Тобой целованные руки
Сожгу, захочешь, на огне…»
Целованные мною руки
Ты не сжигай, но береги:
Не так суровы и строги
Законы сладостной науки.
 В 1913 г. при поездке в Киев 41-летний Кузмин познакомился с 17-летним литовцем Осипом Юркунасом, который уже подростком имел опыт «со взрослой тетей и знакомым студентом» (О. Гильдебрандт в ДК34: 163) и искал себя в литературе. По совету Кузмина юноша принял псевдоним Юрий Юркун. Уже в 1914 г. Кузмин помог ему опубликовать рассказ «Шведские перчатки», потом другие. Юркун и рисовал, участвовал в выставках художников-графиков. Как и Кузмин, любил музыку — Моцарта, Дебюсси, Стравинского. Собирал лубки и… дневники. За восемь лет до того (запись от 27 августа 1905 г.) Кузмин мечтал «иметь друга, которого любил бы физически, и способного ко всем новым путям в искусстве, эстета, товарища во вкусах, мечтах, восторгах, немножко ученика и поклонника, путешествовать бы по Италии вдвоем, смеясь, как дети, купаясь в красоте, ходить в концерты, кататься, и любить его лицо, глаза, тело, голос, иметь его — вот было бы блаженство» (ДК5: 32). В Юрочке Кузмин нашел не только любовника — ученика, последователя, друга, сына — того, кому мог отдать неистраченный запас любви, заботы, надежд. Любовь с ним оказалась надолго — на всю жизнь. Видимо, ему адресованы стихи из сборника «Глиняные голубки» (1914):
В 1913 г. при поездке в Киев 41-летний Кузмин познакомился с 17-летним литовцем Осипом Юркунасом, который уже подростком имел опыт «со взрослой тетей и знакомым студентом» (О. Гильдебрандт в ДК34: 163) и искал себя в литературе. По совету Кузмина юноша принял псевдоним Юрий Юркун. Уже в 1914 г. Кузмин помог ему опубликовать рассказ «Шведские перчатки», потом другие. Юркун и рисовал, участвовал в выставках художников-графиков. Как и Кузмин, любил музыку — Моцарта, Дебюсси, Стравинского. Собирал лубки и… дневники. За восемь лет до того (запись от 27 августа 1905 г.) Кузмин мечтал «иметь друга, которого любил бы физически, и способного ко всем новым путям в искусстве, эстета, товарища во вкусах, мечтах, восторгах, немножко ученика и поклонника, путешествовать бы по Италии вдвоем, смеясь, как дети, купаясь в красоте, ходить в концерты, кататься, и любить его лицо, глаза, тело, голос, иметь его — вот было бы блаженство» (ДК5: 32). В Юрочке Кузмин нашел не только любовника — ученика, последователя, друга, сына — того, кому мог отдать неистраченный запас любви, заботы, надежд. Любовь с ним оказалась надолго — на всю жизнь. Видимо, ему адресованы стихи из сборника «Глиняные голубки» (1914):
Жутко слегка и легко мне…
Целую, целую в уста.
Теперь я знаю: запомни!
Без тебя моя жизнь пуста.
С тобою пройду до могилы,
Измена — ложь!
И будешь мне так же милый,
Даже если умрешь.
9. Занавешенные картинки
В 1917–18 годах революционная волна снова снесла цензуру, и Кузмин опять почувствовал тягу к запретному слову. Теперь — и, вероятно, по тем же причинам, — он симпатизирует революционерам, большевикам (ода «Враждебное море», посвященная Маяковскому). Прямо представляется: «я — большевик», хотя эти симпатии были очень ненадолго. Нина Каннегисер, сестра расстрелянного большевиками «тираноубийцы» (стрелявшего в Урицкого), вспоминает 1919 году «Кузмин и Юркун приходили просто погреться… Морозы в тот год были, кажется, жестокими, а от голода, от лютого холода в комнатах и от постоянного пребывания в одной и той же недостаточно теплой (драповые пальто и фетровые шляпы) и обветшалой одежде они приходили закоченевшими. Более выносливый (молодой!) Юркун раздевал и разматывал вовсе одеревяневшего Михаила Алексеевича…» О Кузмине: «Телом он был очень худ — одежда висела. Лицо одутловатое (отечное?). Глаза поражали не сиянием — скорее тусклые, — а величиной темных верхних век, отделенных от глазниц глубокими провалами» (Михаил 1995: 7–8). Кажется естественным, что он в условиях разрухи и лишений 1919 г. мечтает (в стихотворении «Ангел благовествующий») о все озаряющем солнце, которое в этом мире представлено — «пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает» — баней.Тогда свободно, безо всякого груза,
Сладко свяжем узел,
И свободно (понимаете: свободно) пойдем
В горячие, содержимые частным лицом,
Свободным,
… Бани.

Задев за пуговицу пальчик,
недооткрыв любви магнит,
пред ней зарозмаринил мальчик
и спит.
Острятся перламутром ушки,
плывут полого плечи вниз,
и волоски вокруг игрушки
взвились.
Покров румяно-перепончат,
подернут влагою слегка,
чего не кончил сон, — докончит
рука.
Его игрушку тронь-ка, тронь-ка, —
и наливаться, и дрожать,
ее рукой сожми тихонько
и гладь!
Ах, наяву игра и взвизги,
соперницы и взрослый «он»,
здесь — теплоты молочной брызги
и сон.
 Или вот стилизация под восточное:
Или вот стилизация под восточное:
Не так ложишься, мой Али,
Какие женские привычки!
Люблю лопаток миндали
Чрез бисерные перемычки,
Чтоб расширялася спина
В два полушария округлых,
Где дверь заветная видна
Пленительно в долинах смуглых.
…………
О свет зари! О, розы дух!
Звезда вечерних вожделений!
Как нежен юношеский пух
Там, на истоке разделений!
Когда б я смел, когда б я мог,
О враг, о шах мой, свиться в схватке
И сладко погрузить клинок
До самой, самой рукоятки!

И сам Кузмин, и его окружение понимали, что он каждую из двух русских революций сумел перевести в сексуальную революцию на свой манер: сделал гомосексуальную любовь не такой уж страшной для российского образованного общества. «Занавешенные картинки» вышли в 1920 г. в 307 экземплярах с изящными откровенными рисунками, и на титульном листе на всякий случай значилось: «Амстердам». Через несколько лет знакомый литератор тиснул рецензию: «Амстердамская порнография». Не смущалась гомосексуальностью поэта актриса Ольга Гильдебрандт-Арбенина, которой посвящали стихи Гумилев и Мандельштам. Она связала свою судьбу с куда менее талантливым, но более молодым Юркуном. Кузмин сначала воспринял это как бедствие — «баба в конце концов», «я всё еще не могу преодолеть маленькой физической брезгливости». Но брак втроем оказался не страшным: Юркун по-прежнему жил с Кузминым, Арбенина была лишь приходящей супругой, или скорее подругой, с Юркуном так и оставалась на «вы». Она очень любила обоих мужчин своего семейства и оставалась им верна и после их смерти.
10. Последние возможности свободы
В 20-е годы поэт бедствовал, как почти все обычные граждане страны. Его уплотнили, и их с Юркуном квартира на Спасской (Рылеева) превратилась в обычную коммуналку. Одну комнату занимала парализованная мать Юркуна Вероника Карловна Амброзиевич. Фамилии соседей были как на подбор, будто из Вороньей Слободки Ильфа и Петрова: Шпитальник, Пипкин, Веселидзе и Черномордик. Кузмин искренне, но тихо ненавидел новую жизнь. От недавнего восхищения большевиками не осталось и следа. Уже 12 ноября 1918 г. записывает в Дневник: «Ведь это всё призраки — и Луначарский, и красноармейцы… Какой ужасный сон». При встрече в 1921 г. голодный и озябший Кузмин говорит уезжающему в эмиграцию Шайкевичу: «Помните, как я вам говорил: Подлинный страх не извне, а изнутри? Ошибался я, жестоко ошибался; конечно, извне, как извне обыски, аресты, болезни, смерть…» (Богомолов и Малмстад 1996: 228). 23 января 1924 г. заносит в Дневник: «Умер Ленин… Кричат: Полное, подробное описание кончины тов. Ленина, а чего описывать смерть человека без языка, без ума и без веры. Умер как пес. Разве перед смертью сказал «бей жидов» или потребовал попа. Но без языка и этих истор<ических> фраз произнести не мог». 28 января 1924 г. добавляет: «После похорон погода утихла и смягчилась: все черти успокоились…. Весь мир через пьяную блевотину — вот мироустройство коммунизма». И добавляет своеобразный отклик на смерть Ленина: «Придумал написать Смерть Нерона». (Богомолов в МКиРК: 206, 308, прим. 11). И написал (но не напечатал). Кузмин не был прислужником и фаворитом новых властей, по идеологии его утонченное творчество было им абсолютно чуждо. В начале 20-х он придумал название для своего направления: эмоционализм. Он по-прежнему на первое место ставил чувства, а из них — любовь. Эротика же вообще была не в чести, а гомоэротика могла восприниматься лишь как свидетельство буржуазного разложения. В лучшем случае — как нечто по линии Фрейда. Кстати, о Фрейде Кузмин записывал (14 июля 1924): «Конечно, он грязный жид и спекулянт, но касается интересных вещей». Однако гайки еще не были закручены, цензура еще испытывала себя на сугубо политических вопросах. Весной 1924 г. Кузмина приглашает в Москву тот самый Руслов, который когда-то обещал ему 30 гимназистов. Теперь он организовал в Москве «очень интимный» кружок «Антиной» для выявления мужской красоты в искусстве, устраивал вечера «наших» поэтов, артистов, музыкантов (был даже «мужской балет»!). Он запланировал вечер вовсе не памяти Ленина, который и состоялся в кабаре «Синяя птица». Участвовали видные гомосексуалы, в частности музыканты Игумнов и Александров. В этой обстановке Кузмин успевает под занавес, в 1926–29 гг., опубликовать сугубо эротические вещи — сборник «Печка в бане» и более сложную поэзию, пронизанную смутной эротикой, — сборник «Форель разбивает лед». Банная тема, как видим, продолжается. «Печка в бане (кафельные пейзажи)» написана стилизованно под язык наивного мещанства — впервые появляется та речь, которую позже развернут Хармс и Зощенко. Это коротенькие зарисовки. Вот одна: «Целая история. Колька полез за кошкой в подвал. Обозлился потому что. Полез и застрял в окошке. А Петька спустил ему штаны и навалился. Кругом никого, одни огороды, а дом разваленный. Кольке обидно, что ничего поделать не может, голова и руки в подвале, только ногами брыкается. Идет прохожий с портфелем. Видит зад из окошка торчит, и пни его ногой. Что тут делается он не понимает; во-первых, потому что с портфелем, во-вторых, идет по своему делу, да и зовут-то его Соломон Наумыч. Пнул, — кирпичи-mo и посыпались, всё, куда нужно, вошло без остатка, и мальчишки в подвал — кувырк…». Или: «Едут двое военных верхами. Офицеры, верно, только что выпущены. Лошади лоснятся, и сами одеты чисто. Сапоги так и блестят. Едут и всё друг на друга взглядывают. Взглянут и отвернутся, взглянут и отвернутся. И всё улыбаются. Приехали к какому-то месту, так просто место, ничего особенного. Ну, им виднее. Остановились. Один говорит; «Ну что же, Петя, слезай». А тот глаза рукой закрыл и краснеет, краснеет, как вишня». В цикле «Форель разбивает лед» (1929) в сущности очень мало открыто гомосексуальных текстов, но весь цикл, или, можно сказать, вся поэма (хотя это странно несвязная поэма) пронизана любовным томлением, и для знающих поэта очевидно, что это любовь к мужчинам.И вот я помню: тело мне сковала
Какая-то дремота перед взрывом,
И ожидание, и отвращенье,
Последний стыд и полное блаженство…
Я встал, шатаясь, как слепой лунатик
Дошел до двери… Вдруг она открылась…
Из аванложи вышел человек
Лет двадцати, с зелеными глазами;
Как сильно рыба двинула хвостом!
Безволие — преддверье высшей воли!
Последний стыд и полное блаженство!
Зеленый край за паром голубым!
Заводит речь о том, о сем:
Да сколько лет, да как живем,
Да есть ли свой у вас портной…
То Генрих Манн, то Томас Манн,
А сам рукой тебе в карман.
Стоит в конце проспекта сад,
для многих он — приют услад,
А для других, ну — сад как сад.
У тех, кто ходят и сидят,
Особенный какой-то взгляд,
А с виду — ходят и сидят.
Куда бы ни пришлось идти, —
Всё этот сад мне по пути,
Никак его не обойти.
Попутчика нашел себе случайно…
Он был высокий, в серой кепке…
Мы познакомились без разговоров…
Мы этот май проводим как в деревне,
Спустили шторы, сняли пиджаки
В переднюю бильярд перетащили
И половину дня стучим киями
От завтрака до чая…
Мы этот май проводим, как в борделе:
Спустили брюки, сняли пиджаки,
В переднюю кровать перетащили
И половину дня стучим хуями
От завтрака до чая…
11. Судьба Дневника
Между тем полыньи, пробиваемые форелью, замерзали. Жизнь становилась всё труднее и опаснее. В 30-х Чичерин уже не был наркомом иностранных дел и утратил влияние. Сменивший Дзержинского Менжинский, когда-то печатавшийся в одном «Зеленом» сборнике с Кузминым, уступил место бесцветным сталинским жандармам. В квартире Кузмина еще бывали тайные чекисты от литературы — как Осип Брик и другие, но время романтических отношений с ними истекало. Прошли сплошная коллективизация и раскулачивание, голод обрушился на страну. Кузмин со своим верным Юркуном смотрелся каким-то непонятным пережитком прошлого. Они жили впроголодь. Тут ему пришла в голову совершенно сумасбродная идея — продать свой Дневник в Литературный музей. Собственно, эта мысль появлялась у него и раньше, с 1918 г. Он, видимо, хорошо представлял себе, что Дневник его является ценностью и интересен в двух аспектах. Во-первых, он отражает нравы эпохи, для России новые. Еще в 1906 г., после акта любви с Сомовым и Павликом (15 сентября 1906 г.), в Дневнике появилась такая запись: «Я спрашивал у К<онстантина> А<ндреевича>: «Неужели наша жизнь не останется для потомства?» — «Если эти ужасные дневники сохранятся — конечно, останется; в следующую эпоху мы будем рассматриваемы, как маркизы де Сад». И Кузмин заключает: «Сегодня я понял важность нашего искусства и нашей жизни» (ДК5: 223). Во-вторых, его Дневник аккумулирует в себе историю литературной жизни в Петербурге — Петрограде за десятки лет. Наконец, в общем это ведь тоже художественное произведение, причем самое крупное у Кузмина. Он и создавался именно как художественное произведение — не для себя, а для будущего и для зачитывания в узком кругу. А рукописи, как известно, продаются и тем обеспечивают существование автору. В годы Гражданской войны продать Дневник можно было только какому-нибудь частному коллекционеру или в Архив. Позже возник Государственный Литературный музей. Но в 1927 г. как-то «после чая прибежал похолодевший, перепуганный Л. Льв. (это Лев Раков, последний возлюбленный Кузмина. — Л. К.), увлек меня в мамашину комнату и на ухо сообщил, что его вызывали в ГПУ и расспрашивали обо мне, кто у меня бывает, я ли воспитал в нем монархизм, какие разговоры велись в 10-летнюю годовщину, что, кроме педерастии, связывает его со мною…» (Богомолов 1995: 65). Возможно, тогда у Кузмина появилось соображение, что выдача Дневника может его оправдать: там же зафиксировано всё, и никакой политической организации. В 1931 г. ГПУ заинтересовалось Юркуном, и в их совместной квартире был произведен обыск. Забрали рукописи Юркуна и три последних тома кузминского Дневника. Держать Дневник дома стало просто опасно: при очередном обыске могло исчезнуть всё безо всякой компенсации. Это ускорило хлопоты. В 1933 г. директор Гослитмузея В. Д. Бонч-Бруевич послал в Ленинград Ю. А. Бахрушина за кузминским Дневником. Кузмин получил за него 20 тыс. рублей, а за прочие рукописи 5 000. Это были для него большие деньги. Месячная зарплата служащего была в это время около тысячи. Дневник разрешалось печатать после смерти автора, а при жизни лишь отрывки и с разрешения автора. Бонч-Бруевич обещал похлопотать, чтобы и исчезнувшие три тома присоединились к Дневнику. Этого так и не произошло. Более того, уже в 1934 г. Комиссия отдела пропаганды ЦК ВКП(б) проверяла работу Литмузея и отправила в Политбюро докладную, что Литмузей совершил грубую политическую ошибку, приобретя рукописи Кузмина. По мнению Комиссии, «Архив содержит в себе записи, по преимуществу, на гомосексуальные темы, музейной и литературной ценности не представляет». Бонч-Бруевич в письме наркому Бубнову оправдывался: в Дневнике «конечно, много всевозможных литературных сведений. Дневник наполнен также и гомосексуальными мотивами, как и вообще все творчество Кузмина и его школы, но, повторяю, есть много ценного и важного для изучения <и> понимания того направления левого символизма, к которому Кузмин принадлежал и которое является ярким выражением разложившегося нашего буржуазного общества в конце 19-го и особенно начале 20-го века» (МКиРК: 141–142). Но 1 февраля 1934 г. Дневник был затребован в ГПУ и оставался там до 5 марта 1940 г. Всё это время, шесть лет, следователи ГПУ — НКВД внимательно изучали Дневник, и отнюдь не ради художественных тонкостей. Еще в конце 20-х гг. Кузмин записывал в Дневнике: «Если дневник захватят и прочтут, то всех порасстреляют». И вот же сам выдал. Видимо, в органах безопасности изучали Дневник именно с целью выявить дополнительные возможности обнаружения компрометирующих материалов, ибо как раз в 1934 г. был принят закон об уголовной наказуемости гомосексуальных отношений, а чуть позже, после убийства Кирова, начался Большой Террор. «Сколько таких косвенных убийств лежит на совести этого изящного человека», — замечает кузминовед А. Г. Тимофеев (1994: 35) и добавляет, что Ахматова считала его сеющим зло Калиостро, посланником ада. «Смрадный грешник», — припечатывала она. Какие именно аресты связаны с Дневником и связаны ли, пока неясно. Даже в деле Юркуна Сомовские данные не фигурировали. Дневник, самый большой труд Кузмина, до 8000 стр., теперь доступен для исследователей, но опубликованы пока лишь немногие части. Даже после продажи основного массива Дневник продолжался. В 1934 году Кузмину было уже не до любовных приключений — какие там приключения, когда жизнь впроголодь и в коммунальной квартире, а лет поэту за 60. Но сознание остается тем же. Из Дневника 1934 года: «У кассы стоял солдат, наклонившись, изогнув и выставив зад, стоял так долго… Стоял очень долго, объясняясь. Выставленные напоказ части тела грациозно и скромно кокетничали, очень соблазнительно и органично. Это было понято (мужская соблазнительность) в древности, Ренессансе, и в наше время мужское явно преобладает…» (КД34: 36). Кое-что в сознании, впрочем, изменилось. Мягче стало отношение к еврейству. По поводу галдежа (Содома) у еврейских соседей по ком мунальной квартире, прежде всего, конечно, возмущение содомита: почему галдеж называется «Содом»?! Но затем сравнение: «Когда Васильев или Жуков бьют и увечат своих жен, это всегда мрачно, тупо и страшно. Голова стучит об стенку, льется кровь, пьяные крики, бессмысленные и чудовищные явления… Еврей, во-первых, редко бывает пьяным. Во-вторых, ему нет никакого расчета увечить свою собственную жену. Но истеричны до последней степени, хотя и не до последней. До предпоследней, пока она только назойлива, а когда она перерождается в грандиоз, ложь, предательство, жертву, исступленную веру, как у Достоевского, это у них редко». Христианство, победившее римский мир он считает еврейской победой, а «если восторжествует коммунизм, это будет вторая победа. Но как одинаковы приемчики — и нищие классы, и аскетизм, и самопожертвование, и жалкие сказки о царствии божием» (ДК34: 109–110). В ретроспективе он оригинально смотрит на свое русофильство: «Русский элемент открылся мне очень поздно, а потому с некоторым фанатизмом, к которому я мало склонен. Да и пришел-то он ко мне каким-то окольным путем, через Грецию, Восток и гомосексуализм» (ДК34: 72). Как пародийно и тревожно откликаются прежние забавы… Банная тема: «вдруг — тук, тук, тук. Входит мол<одой> (относительно) человек, среднее между Пипкиным и темным Есениным. — Не узнаете? — Нет. — Я служил на 9-ой линии, Сеня Русаков. Господи! Банщик с 9-ой линии. Зачем он меня отыскивал с таким трудом? Теперь помреж на военной кинобазе… Бегающий и неподвижный взгляд, как у гепеушника? А м<ожет> б<ыть>, кто же его знает?» (ДК34: 69). Но ГПУ за Кузминым так и не пришло. Он успел тихо умереть на больничной койке от пневмонии в возрасте 66 лет 1 марта 1936 г. сразу после визита Юркуна. Он уже выздоравливал, но в переполненной советской больнице полежал несколько дней в коридоре и простудился. Он был похоронен на Волковом кладбище, но, когда строили монумент для семейства Ульяновых, его могилу разровняли под цветник. Юркун же был арестован вместе с известными писателями и расстрелян в сентябре 1938 г. В начале 40-х был расстрелян и племянник Кузмина Сергей Ауслендер. Брат поэта застрелился. Кузмин умер вовремя. Буря Большого Террора бушевала вокруг и каким-то чудом не задела его. Закоренелый мистик, он бы нашел мистическое объяснение. Поднятая им сексуальная революция была заморожена почти на 60 лет. В 1933 было принято постановление об уголовном преследовании гомосексуалов, в 1934 г., как уже сказано, — соответствующий закон. Только в 1993 г. он был устранен из Российского законодательства. С этим совпал всплеск издания работ Кузмина и о Кузмине. Появился целый ряд писателей и поэтов, продолжающих его традицию — Трифонов, Волчек, Пурин, Ильянен, Бушуев, Пригов. Есть милые его сердцу бани, но они уходят из быта. Специфическая активность перенеслась в балет и гей-клубы. А за доступными юношами не нужно ехать в Одессу. В районе Сестрорецка, где юный Кузмин воображал Аттику, существует пляж для любителей абсолютной обнаженности и греческой любви. Русская культура никогда не была сугубо враждебной этому роду любви, но та свобода чувствования, которая так легко утвердилась сегодня, — как бы к ней ни относиться — подготовлена сексуальной революцией, произведенной в обществе век тому назад невысоким горбоносым поэтом с изысканными манерами, дурным характером и сомнамбулическим взором.Скурильный Сомов
1. Трудности биографии
При жизни Сомов считался одним из лучших русских художников, хотя и тогда демократическая часть искусствоведческой критики во главе со Стасовым презирала его и считала мелкотравчатым: ведь он далек от социальной проблематики. В сталинское время он, естествен но, трактовался как не стоящий внимания — ведь все советское искусствоведение в значительной мере выросло из стасовской традиции. А тут еще Сомов оказался в эмиграции — одного этого было достаточно, чтобы он был вычеркнут и забыт. Вспомнили его лишь при Хрущеве, и стали публиковать альбомы репродукций и монографии о нем, хотя и с оговорками: «Сомов не принадлежит к великим, но он настоящий художник» (Гусарова 1973: 32). В этих книгах он, так сказать, очищен и выхолощен. Часто упоминаемая им в его письмах и дневниках его тяга к «скурильностям» (КАС: 69, 84 и др.) целомудренно трактуется издателями как любовь к шуткам и забавным вещицам. Даже такие далекие от ханжества писатели, как редакторы кузминского Дневника и К. Ротиков, производят это слово от латинского scurra «шут», «балагур» и приравнивают к современному «кич» (ДК5: 477, прим. 6; Ротиков 1998: 102). Между тем это слово, в конечном счете действительно имеющее такую родословную, у Бенуа, изобретшего это словечко, конечно, взято из современных западных языков, которыми он хорошо владел, а там это английское «scurrilous» — «грубый», «непристойный». И уж конечно, во всех монографиях и статьях о Сомове его гомо сексуальность, засвидетельствованная воспоминаниями современников, совершенно не упоминается. Наоборот, при обнародовании его писем и дневников всячески подчеркивается его внимание и интерес к женщинам, и можно подумать, что это был завзятый ловелас. Эта иллюзия достигается выборочной публикацией и частыми купюрами. Более того, спасая по своему разумению от бесчестия имя художника, его близкие, сдавая его архив в Русский Музей, даже старательно вымарали соответствующие места в самих автографах Сомова, чтобы сделать невозможным прочтение этих мест биографами. Это, конечно, чрезвычайно затрудняет работу. Теперь требуется не только допуск к этим документам (который не всякому дается), но и участие криминалистической лаборатории, на что нужны опять же разрешение хранителей и немалые средства. Иначе гомосексуальность художника так и останется неизведанной стороной его личности, а в его творчестве мы не увидим никакого ее отражения. Даже в книге Ю. Безелянского, вышедшей в 1999 г. и содержащей большую биографическую главу о Сомове, вопрос о его гомосексуальности хоть и задается, но повисает в воздухе, хотя автор вообще-то этой темы не избегает. Плотской тяги к женщинам у Сомова никто не замечал, но «был ли Сомов голубым? Семью не завел, детей не было, значит… А что значит? Точного ответа лично я не знаю» (Безелянский 1999: 290). Только в нашумевшей книге К. Ротикова «Другой Петербург» эта тема обсуждается открыто и со знанием дела. Ротиков пишет занимательно ичрезвычайно элегантно. У меня даже появилось ощущение, что после него сказать на эту тему нечего. Вот как он описывает одну из картинок Сомова. «Раскрасневшийся кадетик на диванчике, утомленно смеживший веки, тогда как не убранный в ширинку красавец во всей розовости и манящей пухлости покоится на затянутой в казенное сукно ляжке — это один из мотивов, часто тревоживших воображение художника» (Ротиков 1998: 102). Написано легко и игриво, и так вся история Сомова. Вроде бы все, что нужно, сказано, но по мере чтения остается какое-то чувство неудовлетворенности. Нельзя так вот с усмешечкой и фривольно пройтись по Сомову, так бесцеремонно обойтись с ним. Это оставляет впечатление, что Сомова автор не принимает всерьез. А между тем коллеги-художники чрезвычайно высоко ценили Константина Андреевича, выбрали академиком (он отказывался); после революции студенты Академии пригласили его быть профессором (он отказывался), потом и профессора избрали; советская власть поручила ему (беспартийному!) возглавлять выставку русских художников за рубежом. Да и был он вовсе не веселым и бесшабашным человеком, а скорее меланхоличным, вдумчивым и в высшей степени самокритичным. «О как не весел этот галантный Сомов!» — писал о нем Кузмин (КАС: 471), близко его знавший. Сомов был серьезным, принципиальным и порядочным. Еще одна трудность отмечена во вводной статье Ю. Н. Подкопаевой и А. Н. Свешниковой к его письмам и дневникам: «Биография его отмечена бессобытийностью» (КАС: 34). Действительно, в его жизни мало событий, кроме обычных в жизни всякого человека (рождение, смерти близких, учеба, переезды, знакомства, ссоры) и обычных для художника (картины, выставки, альбомы репродукций): ни арестов, ни побегов, ни сенсационных выступлений. Но знакомства, сближения и ссоры Сомова имеют некую специфику, его картины отражают ее, в его спокойной «бессобытийной» жизни есть — и должно быть! — внутреннее напряжение. Как согласовать его аристократизм и «скурильность»? Как сочеталось в нем уважение к традициям с отклонением от общепризнанной нормы сексуального поведения? Порядочность и требовательность к себе в представлении большинства современников не вязались с его выбором друзей и объектов любви. Эта напряженность и должна сформировать нашу фабулу.2. «Подруга дев» и Дима
В биографиях указано, что за Сомовым стоит пятисотлетнее дворянство: в начале 80-х годов XIV века, т. е. при Дмитрии Донском, в Москву переметнулся из Золотой Орды Мурза-Ослан, которому при крещении в 1389 г. дали имя Прокопий. Из пяти его сыновей один, Лев, имел кличку Широкий Рот, а сын оного, Андрей Львович, видимо, сохранивший наследственные черты, получил кличку Сом. От этого Андрея Сома и происходят Сомовы. Только вот Ослану-то русское дворянство пожаловали потому, что и до того принадлежал он к татарской знати — был мурзой. Стало быть, дворянство Сомовых, не пятисотлетнее, а более древнее. Заманчиво было бы в некоторых чертах Кости (глаза-щелки, отмечает Ротиков, низкий рост, склонность к полноте) углядеть татарские черты, удержавшиеся за пятьсот лет. Но пять веков — это 15–20 поколений. Одна двадцатая крови… Нет, ничего не удержалось. Константин Сомов похож не на отца, Андрея Ивановича, высокого и узколицего, а на мать, Надежду Константиновну, урожденную Лобанову, что можно видеть по их портретам его руки, если их сопоставить с его автопортретом. Он признавал в себе поразительное внешнее сходство с дедом и тезкой Константином Дмитриевичем Лобановым и боялся, что налицо не только внешнее сходство: отводил на сей счет и тяжесть своего характера — мелочную аккуратность, молчаливость, ипохондрию. Костя — второй сын, родился в 1869 году, в пореформенной России, в Петербурге. Детство Кости было безоблачным и счастливым. Уже в детстве у него проявлялись черты, относимые специалистами к провозвестникам гомосексуального развития («прегомосексуальный ребенок»). Друг семьи С. Яремич вспоминает высказывание отца Кости: «Костя в детстве любил играть больше один и очень часто играл в куклы, как девчонка» (КАС: 461). Впоследствии критики отмечали кукольность многих его фигур — не только расписанных фарфоровых статуэток, но и героев и героинь его картин. Его первые рисунки — «забавные дамы в модных платьях» (Эрнст 1918: 5). Во всех его картинах сквозит искреннее увлечение дамскими платьями, дорогими тканями, лентами, фижмами, оборочками, кружевами. Гомосексуальность Сомова проглядывает и в исключительной тщательности и элегантности его костюмов, которую отмечают многие его знакомые — его сюртуки особого покроя, изысканные галстуки. К. А. Сомов. 1883 г.
К. А. Сомов. 1883 г.
О своей юности сам Сомов вспоминает в письме к своей сестре А. А. Михайловой: «Я молоденький, папенькин и маменькин сынок, подруга дев — Лизы Званцевой, Анны Петровны, Влади мирской, Семичевых и других дев!» Не ухажер, не любовник, а именно подруга. И в дальнейшем в его переписке, если исключить одноклассника Шуру Бенуа, проступает дружба не с художниками, с которыми он был знаком (Кустодиев, Добужинский, Бакст, Головин, Коровин, Васнецов, Грабарь), а больше с художницами — Елизаветой Николаевной Зван цевой, Анной Петровной Остроумовой- Лебедевой, Елизаветой Михайловной Мартыновой. Дружил и со своими моделями Генриеттой Леопольдовной Гирш-ман, Евгенией Матвеевной Патон, Евфимией Павловной Носовой-Рябушинской. Ну, и, разумеется, с сестрой Анной Андреевной Михайловой. Дружил ли он с мальчиками, мужчинами? Дружил, но своеобразно и с немногими. Александр Бенуа вспоминает в некрологе по Сомову, как в гимназии Мая, куда Бенуа поступил в 1885 г., он приметил двух мальчиков, сидевших на одной парте, оба из «хороших семей» — они были скромно одеты и свободно изъяснялись на иностранных языках. Один, в синей курточке, Дима Философов, из очень древнего рода, оказался сыном генерала, заседавшего в военном суде. Это был необычайно хорошенький, тщательно причесанный блондинчик со светло-серыми, до странности холодными глазами и брезгливым выражением губ. Впоследствии он стал известным литератором. Другой, в коричневой курточке, был сыном хранителя картинной галереи Эрмитажа Костя Сомов. Этого Бенуа описывает в некрологе и в своих мемуарах как полноватого с пухлыми губками, ласковыми карими глазами, «какими-то женскими», и с непослушными волосами. Хотя он был тремя годами старше первого, он, видимо, находился всецело под его влиянием. Оба были вместе уже семь лет — с первого класса, с 1878 года, и встречали в штыки всякую попытку сближения с ними, но у Кости это выходило «как-то мягко, чуть по-женски и чуть конфузливо» (Бенуа 1993: 95; КАС: 477). Их желание отгородиться было естественным: дружба их носила несколько гомоэротический характер — они часто обнимались, прижимались друг к другу, обменивались ласками, что вызывало брезгливые усмешки других ребят. Шура Бенуа, сын архитектора французского происхождения, сумел прорвать их оборонительное кольцо, хотя и не был склонен к гомоэротическим ласкам, а затем к ним присоединился Валечка Нувель, как раз склонный к таким отношениям, и кое-кто еще. Так сложился круг друзей, который собирался на дому то у одного, то у другого. Гимназическое образование давалось Косте с трудом, у него не было способностей к точным наукам, и после десяти лет в гимназии он прервал обучение и был отдан в Академию Художеств. Это было в 1888 г. Отъезд Димы на лечение за границу, а потом уход Кости из гимназии несколько оторвал его от Философова, а в следующем году в Петербург прибыл кузен Димы из Перми Сережа Дягилев, который поселился в одной комнате с Димой и заменил Диме Костю в качестве близкого интимного друга. На всю жизнь Сомов сохранил неприязнь к Дягилеву и иногда делил эту неприязнь с Шурой Бенуа, который, как и Нувель, входил, однако, в одну компанию с Философовым и Дягилевым, в своеобразный молодежный клуб по обсуждению проблем искусства. В Академии Сомов к 1892 г. прослушал все курсы лекций и с 1894 по 1897 г. занимался в мастерской Репина. Но тоже недоучился. В Академии вспыхнула забастовка студентов, возмущенных грубостью ректора Томишко. На это вице-президент Академии граф Иван Иванович Толстой объявил, что разберется, а студентам велел записываться в листки отказа от забастовки. Из 380 только шесть человек записалось, остальные — нет. Из профессоров только Куинджи поддержал студентов. Сомов не участвовал в политических акциях никогда, но счел долгом чести поддержать товарищей и отказался записываться. Конфликт постепенно уладили, и все записались, не записалось опять же только шесть человек, естественно, другие шесть, но Куинджи в знак протеста ушел из Академии, а с ним — все его ученики. Сомов также проявил принципиальность, не стал поклоняться начальству и покинул Академию — это означало для студента лишение права участвовать в конкурсе на поездку за границу (обычно в Италию) за казенный кошт. Своих учеников (Рериха и других) Куинджи повез за границу за свой счет. Ну, а для Сомова потеря даровой поездки не была страшна. Он ездил не раз за свой счет — с родителями и сам.
3. «Мир Искусства» и мир Сомова
В период с конца 90-х годов по русско-японскую войну и начало первой русской революции Сомов тесно связан с журналом «Мир искусства» и группой художников и критиков, сплотившихся вокруг этого журнала. Сомов не был главным редактором и организатором, но это он подал идею создать этот журнал, и он был самым видным из художников, сплотившихся вокруг журнала. Ему, как и другим художникам- «мирискусникам» (это Бенуа, Бакст, Лансере, из москвичей Врубель, Серов, Коровин, Нестеров и др.), надоели обе доминировавшие школы живописи: и академическая с ее мертвенно классическими картинами, и передвижники с их назойливой социальной проблематикой. Сомов и его товарищи хотели создавать такое искусство, которое было бы современно по приемам, свободно от какой-либо тенденции и приносило бы чистое наслаждение красотой. Этот эстетизм был их главным принципом. «Книга Маркизы».
Литография раскрашенная К. А. Сомовым от руки. 1918 г.
«Книга Маркизы».
Литография раскрашенная К. А. Сомовым от руки. 1918 г.
Ядром журнала стала та группа друзей, которая сложилась еще в гимназии Мая. Главенство в журнале захватил Дягилев и поначалу правил журналом вместе со своим кузеном Дмитрием Философовым, а деньги на первый номер добыли у меценатов — княгини Тенишевой и московского промышленника Мамонтова, которые и значились издателями. Позже финансирование перенял царь. Дягилев помещал в журнале свои идеологические рассуждения об искусстве, а Философов — литературно-религиозные размышления. Собственно художественную критику возглавляли Бенуа, Нувель и Курок. Они обрушились с ядовитыми филиппиками на своих идейных противников, особенно на передвижников. Сомов же и другие художники выступали вне журнала со своими картинами, находя в журнале поддержку и воодушевление и создавая для журнала вещественную основу и опору Они регулярно устраивали выставки своего объединения, причем первая состоялась еще в 1898 г. В 1899 г. вышел первый номер журнала. Далее он выходил регулярно до 1904 г., когда военные трудности пресекли финансирование и журнал закрылся. Но он выполнил свое назначение: движение передвижников заглохло. Выставки же «Мира искусства» еще продолжались и в 1906 г., а затем ту же традицию продолжили другие группы — «36», «Союз Русских Художников». Сомов своими картинами, можно сказать, формировал на практике художественную традицию «Мира искусства» в живописи. Бытовому жанру «передвижников» он противопоставил ретроспективный жанр — естественное для него увлечение бытом придворного мира XVIII века — эпохи рококо и ампира, с их куртуазным стилем, с фигурами дам в кринолинах и светских кавалеров в париках. В ярких красках этого мира художник находил красоту и гармонию, отсутствующие в неприглядных серых буднях своего времени. Современность же этим картинам придавал ироничный взгляд художника, сознающего, что это лишь инсценировки, декорации, картинки. Тут есть двойная критика: современности за ее серость и прошлого за его нереальность и несбыточность. Многие из этих картинок изображают галантные сцены, эротику, иногда на грани непристойности. Сценки эти согреты искренними и наивными чувствами. Но сентиментальность в этих сценах соседствует с гротеском, восхищение — с сарказмом. Эти сценки особенно поразили воображение современников, отравленных цинизмом декаданса, и Сомов приобрел известность прежде всего как творец этих галантных сцен и эротического искусства. В годы первой русской революции, когда либерализация режима на некоторое время сделала свободным распространение эротических изображений в книжной графике, известность Сомова как мастера такого искусства вышла за пределы России, и он получил заказ на иллюстрирование «Книги маркизы» Франца Блея — дорогого собрания эротических литературных произведений предшествующих веков. Книга вышла в 1907 г. в Берлине. Цензура все-таки вырезала некоторые сомовские иллюстрации (например ту, где женская рука тянется к восставшему «приапу»).
 Рисунки К. А. Сомова к «Книге Маркизы». 1918 г.
Рисунки К. А. Сомова к «Книге Маркизы». 1918 г.
Между тем Сомов был мастером не только этих сцен, но и портретов. Ему принадлежат портреты ряда выдающихся деятелей русской культуры — Вячеслава Иванова, Блока, Добужинского, Бенуа, Лансере, Рахманинова, многих видных женщин того времени.
4. Портрет Кузмина
 Портрет М. А. Кузмина
работы К. А. Сомова. 1909 г.
Портрет М. А. Кузмина
работы К. А. Сомова. 1909 г.
Известно два сомовских портрета Михаила Кузмина, поэта, почти не скрывавшего свою гомосексуальность. Оба писаны в 1909 году, оба представляют поэта в красном галстуке, на обоих один и тот же ракурс головы, и даже очертания рубашки и куртки одни и те же. Только на одном, где преобладает гуашь, куртка окрашена в синий цвет, а на другом, сделанном преимущественно акварелью и цветными карандашами, она оставлена без окраски. Это, конечно, варианты одного и того же портрета, и даже если тот, на котором куртка не окрашена, является подготовительной штудией к тому, на котором она окрашена, все же он получился лучше. Лицо на нем занимает больше площади и выполнено с большей чистотой и выразительностью. Огромные библейские глаза поэта, полуприкрытые тяжелыми веками под приподнятыми бровями, отливают ртутным блеском и смотрят испытующе и призывно, а губы сложены легко, будто вот-вот откроются не для стихов, а для поцелуя. В то же время лицо остается жутковатым, загадочным и неприступным. Этот портрет имеет длительную предысторию. Еще 6 октября 1905 года, в разгар первой русской революции, Кузмин между описаниями своих любовных приключений с парнем из низов Гришей Муравьевым и филиппиками против жидов, сеющих смуту, записывает в дневнике свое пожелание познакомиться с Сомовым и «смешную мысль, чтобы он написал мой портрет». 10 октября они встретились у Нурока, знакомство состоялось, и Кузмин читал свой роман «Крылья». После этого Сомов ловил всех на улице и говорил, в каком он восторге от романа. В апреле 1906 они встречались у поэта Вячеслава Иванова. «Сомов писал его портрет, — записывает Кузмин в дневнике. — Редко человек производит такое очаровательное впечатление, как Сомов, все его жесты, слова, вещи так гармонируют, так тонки, так милы, что самый звук «Сомов» есть что-то нарицательное». Потом встретились у Нувеля. «… я прочел Сомову дневник, он говорил, что он — ahuri [ошеломляющий], что это бьет по голове, говорил, что, кроме интереса скандала, некоторым он мог бы быть толчком, и даже <исправлением?> … что впечатление дневника бодрящее, что чувствуется любовь к жизни, к телу, к плоти, никакого нытья» (ДК5: 133, 136). Затем начались регулярные собрания у Ивановых, где друзья их — писатели и художники — образовали неформальное общество «гафизитов», т. е. поклонников средневекового персидского поэта Хафиза, воспевавшего радости любви. Все приняли древние имена (Кузмин — Антиной, Сомов — Аладдин, Вячеслав Иванов — Петроний, жена его Зиновьева-Аннибал — Диотима и т. д.), переодевались в маскарадные костюмы, переходили на ты и, устраивая в гостиной палатки, как бы восточные шатры, возлежали в них, беседуя за вином, обнимаясь и целуясь. Сомов был костюмером и разливал вино. Кроме того, он отлично пел, и Кузмин отмечает, что у него полный, несколько меланхолический голос. На очередной встрече у Ивановых «я стал делать смесь из вина, сначала белое с Мюскатом, красное с Мадерой, в обе подливал Peach Brandy [персиковый бренди], потом выжимал апельсина и даже подбавлял Кюммель, вообще что-то невообразимое. Сомов стал пьянеть, но был еще мил, перешли на французский, потом на итальянский, потом на английский». «Петроний» (Иванов) стал гово рить, что я влюблен в Сомова и т. д. A force d’en parler [в силу этих слов*], я кончу тем, что влюблюсь в него. Я заметил, что это невозможно». Но Петроний возразил: «С Сомовым? гораздо возможнее, чем ты думаешь. Я могу это очень легко устроить. Ты не дождешься, чтобы Аладдин сам что-нибудь предпринял». Кузмин «был несколько froisse [уязвлен]» и отмел предложение: «Ты хвастаешь, зная, что я этого не захочу» (ДК5: 148). На деле захотел, но без посредничества Иванова. 26 мая Сомов подарил Кузмину книжку о себе «К. Сомов» (это была работа Бенуа), подарил с надписью «дорогому другу». «Я был ужасно благодарен, но благодарил, кажется, сухо, какая-то стыдливость меня удерживала… Я очень хотел поцеловаться и с Сомовым, ведь я же его «дорогой друг», но отчего-то воздержался». В конце месяца у Сомова умерла мать, но уже 1 июня Нувель и Сомов поджидали Кузмина, лежа у Нувеля на открытом окне, «и Сомов с жестами любовн<иков->заговорщиков из комических балетов молча объяснялся со мною» (ДК5: 156, 162). Назавтра встречались у Чернышева моста, чтобы провести смотрины Вячеслава, очередного молодого любовника Нувеля. «Вскоре я увидел милую фигуру Сомова, я его очень люблю, не только как мастера, но как человека и даже больше: я люблю его лицо, его глаза, коварные и печальные, звук его голоса, манеры, воротнички — всё проникнуто какой-то серьезной и меланхолической жеманностью» (ДК5: 163). В то же время отмечаются те особенности Сомова, которые вроде бы оправдывают слова Петрония о нем — насчет его доступности в сексуальном плане. Так, еще через пару недель Сомов привез Кузмину чёртика для мушки под мышкой. Вскоре Сомов заночевал в семье у Кузмина. Вечером Кузмин пошел показывать ему, сидевшему уже в белье, чёртика, наклеенного под мышкой. Никаких любовных приключений не отмечено. Несколько раньше «Нурок принес Сомову лиловатый галстух и страничку старой английской музыки и показывал каталоги продавца искусственных членов, эротических фотографий и книг, восточных парфюмерий, любовных пилюль, возбуждающих напитков и карточки entremetteuse [сводень] с красным сердцем наверху. Все описания звучат по-немецки великолепно-подло и торжественно-неприлично. Но что за типы существуют! Разве это — не прелесть? не XVIII siecle [век]?» (ДК5: 171). Это те самые скурильности XVIII века, за которыми Сомов обычно охотился. А еще через два дня Кузмин вспоминает, «как мы шутили Сомову, что нужно издать особенную карту Тавр<ического> с<ада>, как du pays du tendre [страны нежности], и можно написать поэму: voyage du pays du tendre au pays chaud [путешествие из страны нежности в страну пылкости]» (ДК5: 173). «Страна пылкости» по-французски — жаргонное название «бань». Таврический сад был местом встреч с молодыми людьми легкого поведения, а бани — обычным местом уединения для услады. Одним из этих молодых людей был давний любовник Кузмина, профессионал в этом деле, Павлик Маслов, высокий вологодский юнец, которому посвящены многие стихи поэта. При очередном свидании Павлик, исходя из своего опыта, подверг сомнению предположение Кузмина, что Сомов еще «неграмотный» (так у гомосексуалов того времени назывались люди, еще не приобщенные к гомосексуальной любви). «Смотря лежавшую книгу о Сомове, он все восклицал: «Неграмотный? с такими глазами? с таким ртом?» (запись от 18 июня, ДК5: 176). Кузмин познакомил его с Павликом. «Сомову он скорей понравился, говорит, что свеж, симпатичен и gentil [милый]» (ДК5: 178). Павлик выразил желание ближе познакомиться с Сомовым. Через несколько дней устроили увеселительную поездку: Кузмин с Павликом и еще одним мальчиком — Шурочкой — и Сомов. «Поехали все вчетвером на одном извозчике под капотом и все целовались, будто в палатке Гафиза. Сомов даже сам целовал Павлика, говорил, что им нужно ближе познакомиться и он будет давать ему косметические советы. Нашел, что его fort [сила] — это нос, очень Пьерро et bien taille [красивой формы], что приметные на ощупь щеки, и что губы, так раскритикованные Нувель, умеют отлично целовать. Нашел, что я как целовальщик pas fameux [не хорош], но я поцеловал его несколько лучше. «Mais с’est deja beaucoup mieux et vous n’etes qu ’un orgueilleux qui cache ses baisers» [ «Но это уже много лучше, и вы лишь гордец, прячущий свои поцелуи»] (ДК5: 189). Но уже к концу августа Нувель и Сомов разочаровались в Павлике, подозревали, что он заразил их. Они называли его «хорошенькой штучкой», пошлым, грубым и глупым, что очень огорчило Кузмина. Летом полных собраний «гафизитов» не было, обменивались письмами. Кузмин что-то хандрил, Сомов его утешал: «Милый и драгоценный Антиной!.. Я уверен, что мы все, любящие друг друга, проведем следующую зиму так же фантастично, дружно и весело, как и эту весну, которую вы так хвалите». Это 31 июля. А 10 августа сообщает: «эти недели мне недоставало Вас — я ведь очень к Вам привык и с Вам связаны самые милые недавние воспоминания…» (КАС: 94–95). Между тем у Ивановых уверены, что Кузмин развращает Сомова. Разговоры идут о devirgination [лишении девственности] Сомова, о его идеализме и разочарованности. В начале сентября в дневнике Кузмина описывается визит Сомова к нему. Читали произведения Кузмина, играли, долго болтали. «Конст<антин> Андр<еевич> никогда не был так откровенен и так дорог и близок мне. Действительно, этот год принес нам всем огромное сближение и разнообразие». 15 сентября Кузмин с Павликом вернулся домой и застал там в столовой Сомова. В этот вечер то сидели с семейством (сестра, зять) в столовой, то удалялись в комнату Кузмина. «Павлик все целовался с Сомовым, пили смесь Мадеры с Cassis, потом пели немного. Перешли снова ко мне в комнату, чтобы читать дневник; нежности моих гостей всё продолжались. Сомов собрался уходить, Павлик решил остаться: Конст<антину> Андр<еевичу> уходить не хотелось, он долго целовался со мной, прощаясь, делаясь всё томнее, пока я не предложил ему остаться с нами. Мы сели на постель, и Сомов начал без слов снимать мой пиджак. Сначала Павлик был будто несколько забыт Сомовым, который занялся мною, но потом, напротив, я почти ревновал своего нежного друга к другому; и мы с двух сторон любовались прекрасным созданием, и я целовал Павлика, как плащаницу. Потом он соскочил одеваться, мы же еще побыли вдвоем. Сомов gardait toujours sa camisole [все время сохранял свою рубашку] в качестве < нрзб. — последней защиты?> (ДК5: 222)». Через несколько дней Кузмин отмечает, что теперь уже почему-то смеет смотреть на Константина Андреевича больше — так, как хочет. Но сомневается в ответной любви: «Я думаю все, что Сомов, последний раз возбужденный Павликом, обратил случайно это на меня, находящегося тут. Я же могу влюбиться в него самым простым образом, если уже не сделал этого». 26 сентября, спускаясь по лестнице с Сомовым от Ивановых, шли обнявшись, а на улице Кузмин прижался локтем к Сомову — «был окрыленный и страшно молод» (ДК5: 229). В дневнике то и дело повторяется: «милый Сомов», «милый Сомов», «мечтаю о нем как о возлюбленном». 29 сентября запись: «Я теперь думаю просто об его лице, глазах, голосе, теле, хотя ценю, м<ожет> б<ыть>, еще больше сознанье, что этот чопорный, жеманный Сомов знаком мне и по-другому» (ДК5: 229–230). 2 октября снова типичное свидание возлюбленных — даром, что им по 34–37 лет! (34 Кузмину, 37 Сомову). «Я так далеко провожал Сомова, что он мне предложил заехать к себе отдохнуть. Так была восхитительность визита в 3 ч. ночи; он притащил торт от Berrin и Кюрасо; на столе у него <померанцы?>, на фортепьяно «Echo de temps passe» и арии из «Le jongleur de Notr ’Dame», висят в станке мои письма, печати которых как розы; показывал мне свои старые вещи, беседовали; было приятно говорить тихонько, тайна и ночь, Андрей Ив<анович> где-то кашлял. Провожал меня до низу и выпустил, долго целуясь перед дверью. Домой шел пешком, счастливый, счастливый всю долгую дорогу» (ДК5: 232). Через два дня снова увиделись и «беседовали нежно и задушевно; он говорит, что нежно ко мне привязан, восхищается мною, что я ему нравлюсь — всё, что он может обещать; что я chaste [целомудрен], несмотря на avantures [похождения], а он devergonde [развратник]» (ДК5: 234). Как бы в подтверждение 17 сентября сомовские новости: из Германии ему «предлагают делать порнографические иллюстрации» (ДК5: 243) — речь идет, вероятно, о «Книге маркизы». Но 24-го у Нувеля собрались трое — вместе с Сомовым. Кузмин «читал свой дневник, беседовали, сплетничали, составили план развращения молодых людей: Нувель — Сережу, я — Гофмана, Сомов — Волькенштейна, сверх дружеских объятий и больших страстей, из которых, по их мнению, я не выхожу. Я все толковал о студенте с Невского и Судейкине, хотя люблю одного Конст<антина> Андр<евича> и скоро начну его ревновать» (ДК5: 248). Назавтра вечером Кузмин пошел к Сомовым. «Было страшно дорого быть так почти запросто перед вечером вместе. За обедом была сверху belle soeur [невестка] Сомова с мальчиком. После обеда мы сели на диван, переговариваясь и целуясь, покуда нежность не дошла до того, что К<онстантин> А<ндреевич> предложил мне пойти в мастерскую, захватив с собой подушку; жалко, что у нас не было модных рубашек, расстегивающихся до самого подола. В мастер<ской> не совсем все в порядке и холодновато, но наша fatalite [судьба] нас согревала. Спустившись вниз, приведя немного себя в порядок, мы рассматривали галстуки Сомова, причем он мне предложил несколько, и покуда он одевался, я играл Javotte» (ДК5: 248). После этого взрыва любовь пошла на спад, хотя еще бывали милые встречи. Но у Кузмина разгорелась любовь к Судейкину, а Сомова Нувель стал, по выражению Кузмина, «сводить» с неким Птичкой. Потом Сомов признался в своей влюбленности в Добужинского. Сомов жестко и зло говорил о Судейкине и советовал Кузмину изложить его оборвавшийся роман с Судейкиным в литературном произведении, что Кузмин и сделал. Осенью 1906 г. у Нувеля появляется новый возлюбленный — Эдинька, которого он пристроил в театр статистом. В начале марта 1907 г. вся компания уединилась в ресторанном кабинете с Эдинькой. Кузмин записывает: «Ели pusatto и пили chianti, вели полуприличные разговоры, Эдинька совсем неграмотный (читатель помнит, что это означает. — Л. К.) и довольно глупый, но мне нравится. Сомов был кислый, absorbe [поглощеный], хотел спать, мы уехали раньше». Но назавтра Кузмин добавляет: «Вчера Эдинька оказался осведомленным, практическим и особенно согласным. Говорит, что я живу со студентом, и что Сомов любит минет» (ДК5: 328). Осведомленность оказалась шире, чем можно было предполагать. Когда в 1907 г. Сомов писал свой знаменитый портрет Блока, Кузмин присутствовал и занимал обоих разговорами. Такова была предыстория портрета Кузмина. Она делает более понятным эротическую ауру, исходящую от этого портрета. Позже ее бы не было: очарование ушло. 31 декабря 1916 г., в преддверии нового, 1917 года, Сомов записывает в своем дневнике: «Днем у меня были Кузмин и Кожебаткин. Кузмин жалкий старичок, очень грязный и с совершенно черными ногтями, с седыми небритыми щеками. Мне было с ним скучно…». У него были к этому времени новые привязанности.
5. Сомов и его Миф
В 1910 г. Сомов подрядился писать портрет жены богатого московского коллекционера Гиршмана и для этого стал ездить на серии сеансов в Москву, где останавливался у Гиршманов. С Генриеттой Леопольдовной подружился, она стала для него Геней, а ее муж — Володей. Портрет ее стал первым его большим, в рост, портретом. В 1915 году делал еще один портрет Генриетты (ее же, кстати, писал и Серов). Портрет Н. С. Познякова.
К. А. Сомов. Этюд, 1910 г.
Портрет Н. С. Познякова.
К. А. Сомов. Этюд, 1910 г.
Пока жил в Москве, ходил по московским музеям, театрам и капустникам. Там познакомился с молодым танцовщиком-любителем Николаем Позняковым. Знакомство продолжил дома у Познякова. В январе 1910 г. записал в дневник: «Был вчера вече ром у Познякова, московского танцора. Сентиментальный, восторженный, неумный, но милый…». Николаю Степановичу был тогда 31 год. Для своего возраста он удивительно молодо выглядел, если судить по портретам работы Сомова. А сделал их Сомов не более не менее как пять в разных техниках. Видимо, сильно увлекся. Немудрено, Позняков, действительно, красивый малый: с пухлыми губами и пушком над ними, с густыми бровями вразлет и челкой, спадающей на лоб. Позже Позняков стал балетмейстером, потом подвизался как пианист и умер профессором консерватории по классу фортепиано в 1941 году. Но известен более всего как модель Сомова. Подробности романа неизвестны, но он развертывался в 1911 г. в Петер бурге, где Позняков бывал наездами, и тогда рисование продолжалось. Как раз в это время племянник Сомова Женя Михайлов был отправлен к дяде из-за скарлатины брата, и, по его воспоминаниям, Сомов рисовал не только голову Познякова. Позняков «позировал затем в тигровой или леопардовой шкуре во весь рост в балетной позе — это было очень живописное зрелище, в особенности когда он становился для позирования. Иногда он переходил из комнаты в комнату, делая балетные па» (КАС: 494). Продолжаться долго этот роман не мог, так как жили они в разных городах и менять место жительство не собирались. В сентябре 1910 г. у Сомова появилась в Петербурге другая модель, гораздо более молодая — 18-летний Мефодий Лукьянов. Для более плотного позирования Мефодий поселился у Сомовых, где он быстро стал своим и получил у художника и его близких (сестры, племянника) прозвище Миф, Мифа, иногда Мифетта. Продолговатое лицо с орлиным носом, масляные глаза и темно-каштановая шевелюра Мифа затем фигурируют на многих сомовских портретах. Февральскую революцию 1917 года встретили вместе, утром шли по улице, «держась за руку. Народ приветствовал полк моряков. Мы с этим полком шли рядом всю Морскую» (КАС: 174). В 1918 г. Сомов сделал маслом большой портрет Лукьянова («Мифин портрет»), очень домашнего — сидящего в пижаме и халате на диване. Портрет был приобретен музеем Александра III (Русский Музей). Вместе снимали дачу, вместе оказались в — миграции. В 1928 г. в Париже Мефодий устраивал выставку Сомова. Так они и жили вместе (Ротиков называет это образцовым браком) 22 года — до самой смерти Мефодия Георгиевича в Париже от туберкулеза.
 Портрет М. Г. Лукьянова.
К. А. Сомов. 1918 г.
Портрет М. Г. Лукьянова.
К. А. Сомов. 1918 г.
Заболел Миф весной 1931 г., и Новый 1932 год Сомов встретил у постели больного, который «стал очень тих и кроток и со мной очень нежен — от этого у меня разрывается сердце», — пишет Константин Андреевич сестре в Россию. — «После окончания моей дневной работы Мефодий просит меня всегда ему показывать, что я успел сделать. Вчера моя акварель ему так понравилась — день у него был грустный, мрачный, — что он стал над нею плакать. И у меня потекли слезы, так мне было его жаль и так мне стало за него грустно…». В феврале Константин Андреевич сообщает сестре: «За эти тревожные дни я так много передумал о Мефодии, о том, что я часто был очень гадким, жестоким. Что все его вины — маленькие, ничего не значащие и что у меня просто придирчивый нрав. Что меня никто так не любил, как он». Но любезно добавляет: «Кроме, конечно, тебя». Еще через несколько дней: «Каждая минута моей жизни теперь мука — хотя я делаю все, что нужно, — ем, разговариваю с посетителями, даже работаю немного, — мысль о Мефодии и о предстоящей разлуке меня не покидает. Теперь я впитываю в себя его лицо, каждое его слово, зная, что скоро не увижу его больше». Мефодий захотел исповедоваться и причаститься, но боялся об этом сказать Константину, зная, что тот неверующий. Сомов просил не считать его за злого дурака, ведь он, конечно, согласен, раз Мефодию это даст облегчение. «Что у него, несчастного происходит в душе? Великий страх, отчаянье расставаться с жизнью?» В марте в письме сестре сказано даже больше: «Вчера и третьего дня Мефодию было очень скверно, задыхался, мучился… Вчера, лежа на тюфяке, на полу у его постели, я пытался мысленно молиться — это я! вроде: Боже, если ты существуешь и печешься о людях, докажи, спаси мне Мефодия и я поверю в тебя! Но… это слабость моя! Разум, логика, видимость — все против существования бога милостивого и умолимого…». Умирая, Лукьянов с умилением обводил напоследок глазами все вокруг и говорил: «Наша комната, наш китаец, наша Анюта, портрет прадеда…». Чей прадед — его ли, Сомовых ли, не все ли равно. Наше… Последние слова были (очень нежно): «Костя… до свиданья». Пусть традиционные моралисты говорят что угодно о невозможности прочной любви у гомосексуалов, о временном сожительстве двух похотливых эгоистов, об их постоянной и неизбежной погоне за мимолетными удовольствиями, — то, что разыгрывалось более двух десятилетий между Сомовым и его Мифом и что трагически завершилось в Париже, — это была Любовь в полном и безусловном смысле этого слова, Любовь большая и беззаветная, Любовь взаимная. В Мифе Сомов обрел такую Любовь. Утешительно убедиться, что такая любовь — не миф, а реальность.
6. Влюбленный англичанин
Вероятно, в каждой большой любви есть третий лишний. Таким лишним оказался известный английский писатель Хью Уолпол, которого Сомов в своих письмах и дневниках архаично транслитерирует как Гью Вальполя. Этот писатель, автор романов «Семейная хроника», «Повести из школьной жизни», «Собор» и других, работал в годы первой мировой войны в России от Красного Креста. Сомов повстречался с ним у одних знакомых в феврале 1915 г. Англичанину был тогда 31 год, Сомову было на 15 лет больше. Он отмечает встречу в дневнике, характеризуя англичанина как горячего поклонника всего русского. «Веселый, умный и не наивный, с юмором приятным. Беседа шла большей частью на английском языке, т. к. он очень мало говорит по-русски. Я, к сожалению, не все понимал, что говорил он. Он большой поклонник моего искусства, носит при себе репродукцию одной моей картины» (КАС: 140). Растроганный этим, Сомов пригласил его к себе вместе со всеми присутствовавшими. Через несколько дней те пришли и засиделись в гостях до трех часов ночи. «Вальполь странный англичанин, — записывает Сомов, — непохожий на обычных. Очень простой, экспансивный, санфасонистый. Просил меня позволения ходить ко мне и впредь и быть с ним patient [терпеливым], пока он плохо говорит по-русски…». Через месяц, в марте, Хью подарил Сомову четыре посвященных ему стихотворения (разумеется, на английском) — «Звезда», «Момент», Восточный ветер» и «Невозможность». Стихотворения были переписаны на чистом листе красивым почерком. В апреле Хью из чувства долга решил отправиться на фронт. Перед этим высказал свои чувства к Сомову. Он «говорил, что кроме его личного <…> отношения ко мне, он гордится мною как необыкновенным единственным художником. И человеком он меня считает единственным, таким я был бы не только в России, но и где бы то ни было по всей Европе. Он сегодня получил альбом воспроизведений с моих картин, некоторые на него произвели обаятельное впечатление…». Еще через неделю Хью рассказал Сомову содержание своего будущего романа «Смерть и охотники», который он хочет также посвятить Сомову. Еще через неделю Сомов в пух и прах раскритиковал рукопись уолполовского очерка «Враг в засаде». Уолпол был чрезвычайно огорчен, сказал, что уничтожит эту рукопись, требовал, чтобы Сомов больше не читал ни одной его книги, потому что они еще хуже — эта была лучшей, поскольку специально написанной для Сомова (Там же, 143–145). В мае Сомов сводил его в Москве в Третьяковку и на оперу «Борис Годунов». Показывал ему свою новую картину, тот ее расхваливал. «Гью страшно мил со мной, говорит, что картина прекрасна. Просил меня на дереве недалеко от моей подписи поставить и его инициалы. Я их поставил, прибавил для смеха сердце и очень незаметно маленький его портрет, чему он очень смеялся…» (Там же, 147). В этом же году Хью несколько дней гостил у Сомова. Допустил ли его хозяин к тем же ласкам, что когда-то Кузмина, неясно. Пожалуй, вряд ли. В ноябре 1916 г. Уолпол приехал с фронта. «Я показал Вальполю пейзажик, сегодня мной сделанный, прося сказать мне, надо ли его разорвать. Он ему так понравился своим мрачным настроением, что он встал на колени передо мной, поцеловал руку и умолял ему его подарить, на что я согласился» (Там же, 167). Все эти детали выдают, что англичанин явно влюблен в Сомова, а тот понимает это, но ограничивается легким флиртом, не отвечая взаимной страстью. Как пишет Ротиков, «Константин Андреевич привередничал и уклонялся». Ну, у него ведь был в это время Миф. Что касается англичанина, то можно было бы поставить под сомнение сексуальный характер его привязанности к Сомову — ведь вроде налицо только экзальтированные знаки преклонения перед художником и симпатия к человеку. Но здесь имеет значение личность Уолпола. В апреле 1915 г. у него был грустный день: «он узнал из Times’a, — пишет Сомов, — о смерти в Дарданеллах его друга, поэта Брука, одного из самых красивых людей в Англии и великолепного поэта» (Там же, 145). Золотоволосый Руперт Брук был бисексуален и после смерти стал идолом для английских гомосексуалов (Клейн 2000: 591–592). В конце февраля 1916 г. Хью был также крайне расстроен и плакал: пришло известие, что умер 70-летний писатель Генри Джеймс, «он был ему лучше отца… Он его так любил, что даже оставил ему большое состояние, но Гью отказался» (Там же, 155). Известно, что Джеймс был гомосексуален, хотя и тщательно это скрывал, и Уолпол фигурирует среди его интимных друзей. В 1912 г. Джеймс писал Уолполу: «Мне недостает Вас, коль скоро я так мало вижу Вас, даже когда Вы здесь (ибо я чувствую Вас больше, чем я вижу Вас)» (James in: Jolley and Kohler 1995: 90). Таким образом, авансы Уолпола Сомову имели однозначный смысл. Уже в 1917 г. Сомов разругался с англичанином, так как тот поддерживал политику Англии, а Сомов одобрительно относился к большевистскому перевороту и к прекращению войны. Потом помирились, а когда в Лондоне встретились снова в 1924 г., страсть поутихла. Преуспевающий «Гью» таскал пожилого Сомова по всему Лондону, в книжной лавке подарил ему 4 своих романа, у антиквара долго выбирал себе гравюры Рембрандта и Дюрера. Сомов устал и раздраженно пишет сестре: «Успех портит, он не поумнел, не сделался тоньше. Несмотря на все внимание и уверения в прежней дружбе, я нашел его каким-то неделикатным и ко мне и вообще. Я был гораздо выше его в этом свидании» (КАС: 227). И роману конец. По крайней мере, со стороны Сомова все ясно. Да он и прежде, несмотря на всю свою скромность, относился к Уолполу с некоторым превосходством (при всей симпатии) и без любви.7. Эмиграция без бегства
В Лондоне Сомов был проездом в Америку, куда был командирован большевистским правительством. Странное дело, несмотря на свои консервативные взгляды, социальное положение и воспитание, Сомов встретил захват власти большевиками не со страхом, а с живым любопытством и принятием. В его дневниковых записях нет ни слова возмущения по поводу отнятия дома, уплотнения, трудовой повинности, карточек. «С моей квартирой мне было грустно расставаться — конец эпохи, — но не слишком… Я перебрался со своей квартиры, которую сдал, в две комнаты к Анюте. Мне трудно было продолжать мою красивую и роскошную жизнь. Пришлось отпустить прислугу и сжаться со всеми моими вещами в две комнаты. Они вышли похожи на склад мебели» (КАС: 188). Через три месяца пришли и за мебелью, но Сомов показал им бумажку от Луначарского, и реквизиторы ушли. Большевики также отнеслись к художнику дружелюбно и покровительственно. Освободили от трудовой повинности, выдали ему охранную грамоту от реквизиций. В 1918 г., воспользовавшись отменой цензуры, Сомов даже издал на русском свою эротическую «Книгу маркизы» без цензурных изъятий, а, наоборот, с дополнениями. В 1922 г. она была издана и в Германии. Осенью 1923 года, когда петроградские художники делегировали Сомова на выставку в Америке быть их представителем, Москва утвердила. «Анюта была страшно огорчена, плакала и мне было больно и грустно». В Америке выставка (св. тысячи картин) имела успех, но продажа шла вяло, и назначенные в России цены оказались завышенными. Думали о тысячах долларов, а пришлось удовлетвориться сотнями. Когда в мае закрыли выставку и сделали несколько небольших передвижных выставок, чтобы выручить еще что-нибудь, Сомов был обеспокоен. «Настроение у меня неважное и тревожное, — пишет он сестре в Россию, — думаю о будущем, как устроить свою жизнь. Можно ли, по-твоему, теперь в России жить на продажу картин?… Как жить дальше? Здесь мне советуют задержаться еще на сезон — осенью обещают два портретных заказа — а я не знаю, как мне быть…» (КАС: 240). Как пишет в «Курсиве» о его американской жизни Берберова, «Он жил один очень аккуратно и умеренно, увлекался красотой розовощеких, кудрявых молодых мальчиков, которых потом писал веселыми масляными красками, с открытым воротом и длинными пальцами бледных рук. Когда я бывала у него, он всегда был окружен ими». В июне перебрался поближе к дому — в Париж, где его ждали Миф, Геня (Гиршман) и Нувель. Но в Париже цены на картины оказались в три раза ниже американских. Решил вернуться в Америку — не в Россию: «Вернуться теперь без всякой фортуны, без заказов, без возможности заработать домой было бы неблагоразумно». Вернулся в Америку, а тут глава всей выставки Виноградов заболел, и Сомова назначили возглавлять все выставочные дела. Подружился с Рахманиновым и подрядился писать его портрет. Но весной 1925 года он пишет Грабарю: «заработков у меня здесь больше нет, и я принужден уехать в более дешевую страну». Миф со своим приятелем Кралиным к этому времени купили ферму в местечке Гранвилье в Нормандии и занялись разведением скота. Сомов переехал к ним. Там и обосновались надолго. Цены там были втрое ниже парижских. Лишь после сомовской выставки 1928 года, организованной Мифом, смогли перебраться вПариж. Вот так, тихо и спокойно российский (чтобы не сказать советский) художник Сомов оказался в эмиграции. Он, конечно, изначально западник. Всегда он больше всего любил Францию. В языке его, как у Кузмина, масса галлицизмов и просто французских словечек и фраз, причем не со времени переезда во Францию, а с детства. И в творчестве его изобилуют сценки жизни Версаля эпохи Людовиков с XIV по XVI, но когда в России племянник Женя Михайлов спросил его: «А хотел бы ты, дяденька жить в восемнадцатом веке?» — он воскликнул: «Ни в каком случае! Ты подумай, какой ужас! Из-за отсутствия канализации летом во дворце стояла такая вонь, что двор был вынужден его покидать. Отчасти из-за этого были построены небольшие дворцы в парке». Его увлечение временем фижм и пудры — это не что иное, как игра, продолжение детства. Вообще у него по многим параметрам период детства и юности чрезвычайно затянулся — практически на всю жизнь. Тот же образ жизни — без семейных забот, те же увлечения. Это характерно для многих людей гомосексуального склада. Племянник не спрашивал: А не хотел бы ты, дяденька, жить на Западе? Сначала это было несущественно (легко было ездить туда — сюда), а потом бессмысленно задавать этот вопрос, коль скоро Сомов оказался на Западе. Но он уехал на Запад без острого желания. Скорее он желал бы жить в России, но чтобы Россия оказалась западнее. Он патриот. Еще в 1898 г., будучи в Париже, он готов был простить Званцевой ее передвижничество за то, что она русская женщина. «Вы знаете, — пояснял он, — хотя я всего две недели здесь, уже страшно скучаю по России или нет, по Петербургу, нет, по людям — наивным, простым, теплым, добродушным и уютным, которых здесь нет» КАС: 63). Россия для него замещается самым западным из своих городов — Петербургом. А еще дороже русские люди. Он и на Западе общался в основном с русской диаспорой: Рахманинов, Карсавина, Брайкевич, Гиршманы, Добужинский, Бенуа и, конечно, его Миф — Мефодий Лукьянов. Он не был шовинистом, но характерная для многих гомосексуалов невольная антипатия к евреям у него была. Рисуя на заказ Дебору Карышеву, записывает в дневнике (7/20 февраля 1914 г.): «Она еврейка, но еврейская раса в ней едва заметна. Я не люблю еврейский, даже красивый тип» (Константин 1979: 126). Это не помешало ему дружить с евреями (Бакст. Гиршман). Тут не идейный и не бытовой антисемитизм, а лишь эстетическая антипатия. Но, похоже, из тех же корней. Иллюстрация к повести Лонга
«Дафнис и Хлоя». 1930 г.
Иллюстрация к повести Лонга
«Дафнис и Хлоя». 1930 г.
8. Боксер как Дафнис
Сразу же после выставки, организованной Лукьяновым, и переезда в Париж у Константина Андреевича появился новый юноша-натурщик, конечно, из русских — Борис Снежковский. Он был привлечен для создания серии рисунков к повести древнегреческого автора Лонга «Дафнис и Хлоя» — о неопытных влюбленных. Пастух и пастушка, Дафнис и Хлоя, были воспитаны в неведении и совершенно не представляли себе, для чего у людей детородные органы и как они действуют в любви. Влюбившись друг в друга и терзаемы любовным томлением, они обмени вались нежными и страстными ласками, но не знали, как утолить свою страсть, пока, после их долгих мук и метаний, опытная женщина не обучила Дафниса. Для издания этой эротической повести Сомову были заказаны иллюстрации, и он искал натуру. Тема эта давно интересовала Сомова. Еще в 1920 г., на исходе Гражданской войны, в январе, он записывает в дневник: «Долго не мог заснуть и думал о… картинах, в моем воображении показавшихся мне прекрасными». Среди них — «Дафнис, Хлоя и Пан»: «Дафнис склонился к Хлое, виден его затылок и его подбородок и рот, она полулежит у него на коленях. Пан около них анфас, но они его не видят…» (КАС: 195). К. А. Сомов. 1934 г.
Портрет Бориса Снежковского.
К. А. Сомов. 1934 г.
Портрет Бориса Снежковского.
Теперь, когда осенью 1929 г. Сомов получил заказ, он сообщает сестре: «Эта работа очень интересная для меня, но трудная, надо уметь хорошо рисовать голеньких, а я не умею». В декабре он сообщает, что «стал рисовать этюды и наброски с голого тела. Пока нашел одного русского, очень хорошо позирующего и хорошо, но слишком атлетично для Дафниса сложенного, и подговорил его на 10 сеансов». Теперь ищет девушку. «А мой натурщик, русский, 19 лет, оказался очень умным, образованным и славным. Так заинтересовался своим позированием и моей целью, что попросил меня дать ему прочесть роман Лонгуса…».
 К. А. Самов за работой. 1936 г.
К. А. Самов за работой. 1936 г.
Художник стал с тех пор называть его Дафнисом. Книга вышла в 1931 г., а Борис стал другом художника и с 1932 года заменил ему в эмоциональном плане умершего Мифа. Художник сдружился и с родителями Бориса, ездил с ними в Гранвилье. Он сделал с Бориса не только серию эскизов для Дафниса, но и целый ряд портретов в течение 30-х годов, в том числе известный портрет обнаженного атлета с боксерскими перчатками. В 1933 г. начал серию акварелей-миниатюр на тему <Мужская натура на манер Буше». «У меня множество набросков с натуры «ню», большей частью с Дафниса… Может быть, эта серия будет из 10–12 номеров. Будет забавный, хотя и несколько скандальный ансамбль» (КАС: 410–402). Дружба продолжалась до самой смерти Сомова в 1939 г. Он умер внезапно и скоропостижно в возрасте 70 лет, до начала Второй мировой войны. Судьба избавила его от новой серии передряг. Был ли Борис его любовником, неизвестно. Скорее всего, не был. Нам неизвестна его сексуальная ориентация, да и вряд ли его мог телесно привлечь старик-художник. Для старика же, с трудностями при ходьбе (он страдал от атеросклероза), уже вряд ли были заманчивы сексуальные авантюры, но вкусы его не могли измениться, и, несомненно, ему просто доставляло удовольствие часто любоваться нагим телом превосходного атлета и всегда любоваться созданными им самим изображениями, в которых оно запечатлено навечно. В психологической литературе отмечалось, что для сексуального человека в подсознании рисование эрогенных зон равносильно трепетному касанию и ласке, так что оно должно было доставлять художнику утонченное наслаждение. Для человека, приверженного однополой любви и знавшего в своей молодости любовные приключения, а в зрелом возрасте всепоглощающую любовь, неплохой закат.
9. Характер и творчество
Изображения в стиле Буше, рожденные при разработке Дафниса и Хлои и представляющие полностью обнаженных молодых людей, предающихся неге и ласкам, — юношу с одной или несколькими девушками — могли быть сделаны и не гомосексуальным художником. Обнаженного юношу с фронтальной наготой изображали и вне гомоэротики.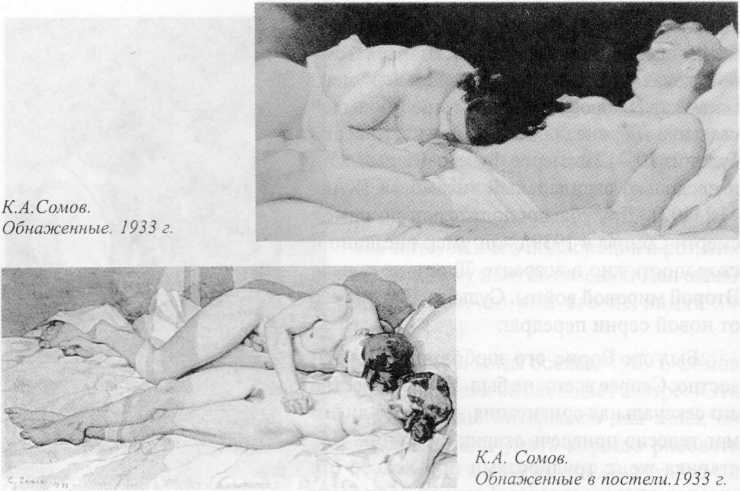
Но на этих изображениях у Сомова гениталии юноши выделены цветом и положением в картине, а в сюжете, описанном в книге Ротикова (кадетик на кушетке), и смыслом, тематически. Нагой юноша у Сомова, как правило, раскинулся на первом плане, а девушки или женщины — поодаль. В одном случае двое юношей возлежат рядом на ложе — это уже однозначный сигнал о роде чувств художника. Картинка, на которой голова девушки лежит очень удобно на лоне юноши, заставляет вспомнить о замечании Эдиньки насчет вкусов Сомова в любви. Загадку представляет собой обилие женских образов среди сомовских портретов: сестра Анюта Михайлова, художницы Званцева, Остроумова- Лебедева, Мартынова, супруга Рахманинова, богатые дамы Гиршман, Носова- Рябушинская, Олив и др. Тут продолжение темы «подруга дев», но есть и мотив денежный — писал, что заказывали. Еще более загадочно, что эти образы большей частью некрасивые. Это наблюдение идет от Бенуа. Грабарь в своей немецкой статье о Сомове придает особое значение поэтизации некрасивого, даже уродливого в женских образах Сомова. Он видит в этой поэтизации некрасивых сомовских женщин некую притягательную тайну — а разгадать эту тайну не может (Grabar 1903). Советские искусствоведы Подкопаева и Свешникова усматривают в сомовском увлечении отталкивающим, патологическим проявление декадентства (КАС: 34).
 К. А. Сомов.
Обнаженные в зеркале у окна. 1934 г.
К. А. Сомов.
Обнаженные в зеркале у окна. 1934 г.
Некоторый свет может пролить то, что отношение Сомова к женщинам типично мужское, не обязательно гомо сексуальное, но все же особенно распространенное у гомосексуалов — идея мужского превосходства. В письме своему брату он хвалит Якунчикову: «Она сейчас очень интересная художница, что очень большое исключение для женщин. Хорошо рисует, тонко чувствует тон, assez personelie [достаточно индивидуальна]. Техника мужская» (КАС: 61). Таким образом, в женщинах ему нравились скорее мужские черты, а не женственность, шарм, красота, нежность. Еще более раскрывает эту проблему сам Сомов в своем дневнике. В феврале 1914 г. он записывает: «Шура (Бенуа. — Л. К.) говорил, что я люблю некрасивых и скурилъных женщин и влекусь к ним или еще, что я смеюсь над женщинами зло и обидно, или что я поэтизирую некрасавиц. Бакст говорил Валечке, что изображая так женщин, как я, невозможно их не любить, что я притворяюсь. Один умный Валечка (Нувель. — Л. К.) каким-то образом лучше всех других меня знает, угадал меня (немудрено: вместе охотились за мальчиками. — Л. К.). Женщины на моих картинах томятся, выражение любви на их лицах, грусть или похотливость — отражение меня самого, моей души… А их ломаные позы, нарочитое их уродство — насмешка над самим собой и в то же время над противной моему естеству вечной женственностью. Отгадать меня, не зная моей натуры, конечно, трудно. Это протест, досада, что я сам во многом такой, как они. Тряпки, перья — все это меня влечет и влекло не только как живописца (но тут сквозит и жалость к себе). Искусство, его произведения, любимые картины и статуи для меня чаще всего тесно связаны с полом и моей чувственностью. Нравится то, что напоминает о любви и ее наслаждениях, хотя бы сюжеты искусства вовсе о ней и не говорили прямо…» (КАС: 125–126). Можно ли ожидать поэтизацию женской красоты от художника, который женщину не воспринимает сексуально и не ценит женственность? Который в женщине ценит ум, силу, талант и прочие мужские или, по крайней мере, общечеловеческие качества? Который следом за Флобером повторяет: «Эмма — это я»? А к себе относится сугубо самокритично — видит себя некрасивым и скурильным. Вот и женщины его такие же. Под конец жизни, в 1939 году, записывает о начатой картине «Усталый путник»: «Не нравится мне его тип, как ни старался сделать его мужественным и красивым, вышел женоподобным — всегдашний мой недостаток!» Умри — точнее не скажешь. Как видим, гомосексуальность художника проявляется во многих аспектах его творчества, не только в прямых изображениях на гомоэротические темы.
10. Самокритика и самооправдание
После этого анализа можно попытаться ответить на вопрос, поставленный в начале этого биографического очерка. Так как же согласуются в Сомове несогласуемые качества? Как уживаются в нем аристократизм и непристойность, воспитанность и планы раз вращения молодых людей, порядочность, впитанная с молоком матери, и поцелуи с кузминской проституткой Павликом? Понятно, что непристойность, желание встретить взаимность у молодых людей, даже неприхотливость связей при небольшом выборе были обусловлены гомосексуальностью Сомова. Это она входила в противоречие с его воспитанием и социальным положением. И все это у личности, безусловно, чрезвычайно требовательной к себе и самокритичной. При таком расколе сознания поневоле станешь ипохондриком, если не шизофреником. В таких случаях обычно срабатывают психологические механизмы защиты, коренящиеся в подсознании, и оно само устраняет противоречие, раздирающее личность, подавляя и устраняя одну из противоборствующих сторон. В данном случае устранить гомосексуальность оказалось невозможным — она была врожденной и составляла, как это обычно бывает, биологическую основу личности. Клетки-киллеры, фагоциты подсознания направились на гомофобную мораль, навязываемую личности обществом, стали подтачивать ее основу. Чем обосновывается в общественном сознании осуждение гомосексуальности? Прежде всего религией. Содомский грех. И вот мы наблюдаем чрезвычайно любопытную и своеобразную картину: несмотря на свое традиционное и консервативное воспитание, на любовь и уважение к родителям и без чьего-либо просветительского воздействия Сомов оказывается не просто неверующим, а довольно воинственным атеистом. В дневнике отмечает 3 мая 1916 г.: «Разговор о марионетках, о войне (я говорил о ней с ненавистью и злобой) и о боге, которого я зло денигрезовал [очернил], конечно его отрицая…» (КАС: 159). В споре с сыном писателя Джойса в 1927 г. уже за рубежом «Я доказывал, что хотя Библия и Евангелие и изумительные книги, но что это легенда и сказка, что Христов и его веяний было много и раньше и потом. Что в жизни человечества он сыграл меньшую роль, чем все думают, потому что и помимо него в человечестве заложено непонятное и таинственное стремление к добру…» (КАС 326). О его антирелигиозных размышлениях у смертного ложа Мифа уже была речь. Далее, чем поддерживается осуждение гомосексуальности на государственном уровне? Разумеется, консервативной властью. И Сомов, несмотря на свое аристократическое происхождение и свою социальную принадлежность к верхним слоям общества, копит злобу на царя и его политику, с радостью встречает его падение и гибель режима. Во время первой русской революции речи этого аполитичного индивидуалиста почти большевистские. Шуре Бенуа он пишет, что с отцом не может разговаривать о текущей политике: он «слишком человек другого времени и оппортунист». «Газеты вялы и ничего истинно интересного и закулисного не сообщают. Наша знаменитая конституция наглый и дерзкий обман, это ясно: в ней, кажется, нет даже крупицы зерна, из которого могло бы вырасти освобождение. Надо надеяться, что правители наши сами заблудятся в устроенных ими дебрях и сломят себе шеи» (КАС: 87). В 1915 г. в его видениях рисуется сюжет картины: на фоне громадной толпы опрокинутый, расколовшийся на части трон. В 1916 г. он наотрез отказался писать портреты императрицы и царевича. В конце года пришла весть об убийстве Распутина, потом опровержение — Сомов замечает: «Распутина не убили. Жаль» (КАС: 168). Потом все-таки оказалось: убит. В ноябре 1917 г. Константин Андреевич со злорадством описывает в дневнике посещение Зимнего дворца, где большевики, «симпатичные и вежливые», показывали пришедшим художникам «ватер-клозет Николая II с неприличными картинками» (КАС: 184). В 1923 г., незадолго до отъезда, «видел письма жены Николая II-го. Вечером прочел их 10. Глупая, экзальтированная, жалкая женщина. Писаны они на плохом английском языке некультурной женщины» (КАС: 217). Это уже после известия о зверском убийстве царской семьи! — никакого сожаления. Теперь ясно, почему он так мирно принял Советскую власть. Как видим, гомосексуальность сказалась не только на творчестве художника, но и на других аспектах его личности. Гомосексуальность обычно считают основой аполитичности и асоциальности характера, причиной эскапизма и ухода в тень. В Сомове мы видим любопытный пример человека, которого, похоже, именно гомосексуальность обратила к политическому радикализму мышления, к идейному родству с крайними революционерами, хотя это и уживалось в нем с полной аполитичностью поступков, с безусловной преданностью идеям чистого искусства, искусства для искусства, с принципиальным уходом в галантный и нереальный мир красоты. Нет, право, он парадоксален, этот офранцуженный русофил, консервативный радикал, женолюбивый мизогин, чопорный и скурильный Сомов.Восемь жизней Дягилева
1. Диапазон
Дягилев и Нижинский сцеплены, как парные слова в ассоциативном психологическом тесте: стоит только назвать имя «Дягилев», и тотчас следует отклик: «Нижинский». Все знают, что Нижинский был любовью Дягилева и что Дягилев помог ему стать первым танцовщиком мира — тем и славен. Между тем Нижинский был только одним из балетных артистов, вывезенных Дягилевым из Петербурга в Париж, правда лучшим, а артисты были не единственным компонентом расцвета Русского балета, стимулированного Дягилевым. Были и композиторы, открытые и мобилизованные им для писания балетов, — Стравинский, Равель, Дебюсси, Прокофьев, Рихард Штраус. Были художники, делавшие декорации, костюмы и афиши, — Бенуа, Бакст, Пикассо, Кокто — все громкие имена. Да и не только балет был материалом спектаклей, но и опера — из оперных артистов был впервые представлен миру Шаляпин. Да и не только многочисленные спектакли, и не только Русские сезоны в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке и других столицах мира были созданием Дягилева, но и выставки, и журнал «Мир Искусства» с его новой концепцией «искусства для искусства». Так что слава Дягилева не одним Нижинским держится. Не был Нижинский и единственным любовником в жизни Дягилева. Самым прославленным — да, был. Но не был он ни самым юным, ни самым взрослым, ни самым красивым из них, ни самым умным. Не была влюбленность в него ни первой у Дягилева, ни последней, ни самой продолжительной, ни самой счастливой. В соответствии с задачами книги нас здесь будет интересовать как раз не столько диапазон организаторской деятельности Дягилева, сколько диапазон его любви. Потому что Дягилев был в истории русской культуры довольно редкой фигурой сугубого гомосексуала. О Пушкине, Лермонтове, Льве Толстом, Миклухо-Маклае, Константине Романове (К. Р.), Есенине, Нижинском можно говорить как о гетеросексуалах с некоторыми проявлениями гомосексуальности либо как о бисексуалах. Дягилев же, подобно Чайковскому или Кузмину, совершенно не воспринимал женщин в сексуальном плане, а ввиду его исконной любви к музыке, жить ему приходилось в мире искусства с особым культом любви к женщине, с обожанием женского тела, женской красоты, женственности — в ариях, скульптуре, картинах, поэзии, рекламе. Он создавал себе отдельную нишу в этом мире, строя новые формы искусства — с упором на мужские роли: опера с битвами и политикой («Князь Игорь», «Иван Грозный», «Борис Годунов»), балет с мужскими танцами и танцовщиками в главных ролях («Нарцисс», «Послеполуденный отдых фавна», «Петрушка», «Иосиф и Потифар»). Дягилев — натура активная и общительная, прирожденный лидер — жаждал публичности, славы. А в пуританском мире, только что вышедшем из викторианского времени, невозможно было жить семейной жизнью со своим избранником на виду. Жить с кем угодно можно было только в номерах, в отеле. И Дягилев, собиравший коллекцию предметов искусства и обустраивавший свой дом, избрал амплуа, которое мотивировало постоянную жизнь в отелях — «Гранд-отель» в Париже и «Савой» в Лондоне, а на отдыхе «Отель де Бэн» в Венеции заменили ему дом. Он был явным однолюбом — жаждал привязанности, верности, постоянства, но, поклоняясь юности, был обречен на отмирание своей любви по мере взросления избранника, а любя сугубо мужские качества, обрекал себя на связь с юношами, тяготеющими к женщине и готовыми уйти от него — даже раньше, чем он от них. У Синей Бороды было восемь жен, которых он убивал, когда любовь уходила. У Дягилева было семь возлюбленных — один за другим, — которым он передавал свои знания, воспитывал и поднимал до уровня высокого искусства, а затем они уходили от него к женщинам, женились и, освободившись от зависимости, возвращались к нему работать — или возвращались к нему своей благодарной памятью. Он тяжело переживал уход, болел, почти умирал, но с появлением нового возлюбленного — а они появлялись каким-то чудом всегда, один другого краше — ему удавалось воспрять, и жизнь начиналась сызнова. Каждый раз юноши начинали ее в том же возрасте, даже моложе — 19, 18, 17, 16. Но Дягилев оказывался к каждому началу все старше. Последнему юноше не пришлось уходить. Ушел Дягилев — и насовсем, в мир иной, прожив восемь жизней за 57 лет. В этом круговороте любви они создавали искусство на века. Он находил для этого средства, оставаясь сам в поношенной обуви (оперируя миллионами, он никогда не имел ни дома, ни автомобиля), дарил своим возлюбленным золотые перстни, дорогие костюмы, знания и целеустремленность, а они приносили ему необходимое для работы вдохновение, молодую энергию и, как ни странно, почтительную любовь. Каждый из этих циклов имел свои особенности, а все вместе они составили биографию, вошедшую золотыми страницами в историю Серебряного века. Можно много говорить о том, что сексуальные аспекты не главные для характеристики деятеля искусства, что интерес к ним вульгарен и не оправдан ничем серьезным, что Пикассо, Кокто, Малявин. Бакст и другие рисовали портреты Дягилева не потому, что он любил Нижинского, Мясина и Лифаря. Но если бы он их не любил, возможно, что его поддержка их таланта не была бы столь беззаветной, для лидерства в Русских сезонах избраны были бы другие артисты, для спектаклей другие балеты, а быть может, и вообще жизнь в «Савое», «Гранд-отеле» и «Лидо» не показалась бы Дягилеву столь привлекательной. Словом, Серебряный век имел бы другой облик. По-человечески для нас чрезвычайно увлекательна каждая из восьми жизней Дягилева, каждое из восьми его любовных увлечений. Нам интересно проследить, как эти восемь жизней складывались в одну — с единой страстью к искусству. Для нас поучительно видеть, как Дягилев в разные периоды своей жизни умел зажечь в юных сердцах горение и энтузиазм к творчеству, уверенность в своих силах и любовь к своему наставнику. Любовь духовную и плотскую — несмотря на то, что большей частью они были изначально чужды однополой любви, а окружение было враждебно к подобным отклонениям. Причем это один из первых случаев «выхода из чулана» — почти все они без стеснения признают в своих мемуарах свою интимную близость с Дягилевым. Да, годами жили вместе. Да, были любимы. Да, любили. Чем Дягилев добивался успехов, славы и такой любви?Первая любовь
 Сергей Павлович Дягилев.
Фото 1880-х г.
Сергей Павлович Дягилев.
Фото 1880-х г.
Сергей Павлович родился в 1872 г., уже в пореформенной России. Дягилевы — богатый и знатный дворянский род. Дед Дягилева служил в Министерстве финансов и разбогател на продаже водки со своих винокуренных заводов. Он был завзятым театралом и атеистом, но затем внезапно стал религиозным аскетом и стал жертвовать огромные суммы на церкви. Отец, генерал-лейтенант, Пермский губернатор, любил музыку и пел тенором. Первая жена, умершая при родах Сергея, была из семьи Евреиновых и по материнской линии происходила из широкого рода Румянцевых, которым молва приписывала происхождение от незаконного сына Петра I, и Сергей этим несказанно гордился. Мачеха его, т. е. вторая жена отца, была из музыкальной семьи Панаевых. Губернатор держал открытый дом, Дягилевы часто устраивали вечера, на которые вся знать города стремилась получить приглашение. Сергей, одаренный мальчик, больше внимания уделял этим вечерам, чем школьным занятиям. Он предпочитал списывать и пользоваться шпаргалками. В школе он был самым крупным по росту и, конечно, первым по знатности. У него была большая голова, очень красивые карие глаза, слегка скошенные книзу, щеки, румяные, как яблоки, и щетка темных волос. Когда он смеялся, он распахивал настежь рот со сверкавшими белизной ровными рядами зубов (Бенуа 1993: 638–647). У него всегда был отличный гардероб. Он быстро завел себе цилиндр, монокль и нутриевый воротник. В 17 лет у Сергея был первый и единственный опыт с женщиной. Отец указал ему, где этот опыт можно приобрести с минимальным риском, с хорошей девушкой. Но сын воспринял эту усладу с отвращением, а к тому же все-таки подхватил какую-то инфекцию. Он быстро вы лечился, но на всю жизнь получил фобию — страх перед заражением и отвращение к женщинам. По словам Лифаря (1993: 36–37), такие разочарования в женщинах «навсегда» обычно проходят, но Дягилев, влюбившись после этого в некую женщину, был грубо отвергнут и как раз тут оказался в среде, культивировавшей «ненормальную» любовь. С тех пор и предался любви к юношам. Это объяснение его страсти, вероятно, восходящее к самому Дягилеву, является, конечно, попыткой пристойно объяснить «непристойную» страсть. Любовь его к женщине что-то не была замечена никем из его друзей, а среда с культом античных нравов появилась значительно позже, и в ней Дягилев был одним из застрельщиков.
 Дмитрий Владимирович Философов. Фото 1880-х г.
Дмитрий Владимирович Философов. Фото 1880-х г.
 Л. Бакст. 1885 г.
Л. Бакст. 1885 г.
 Александр Николаевич Бенуа.
Фото 1880-х г
Александр Николаевич Бенуа.
Фото 1880-х г
Оканчивать гимназическое образование его направили в Петербург, где его дядя был министром внутренних дел. Это было в 1890 г. Поселился 18-летний денди в том же доме, где жила его тетка Анна. Сестра отца, в замужестве Философова, была эмансипе, либералка, давала убежище террористке Вере Засулич, а ее старый муж был прокурором Военного суда и очень ее любил. Философовы — очень древнего рода. По средам и воскресеньям у них собирались за столом все родственники. Сергей поселился в одной комнате со своим кузеном Димой Философовым, высоким светлым юношей с серо голубыми глазами. Дима был остроумным и сдержанным, но сентиментальным. Сергей также был сентиментальным — мог выражать эмоции самыми настоящими слезами. Они с Сергеем стали неразлучными друзьями, ездили с ним по европейским городам (побывали и в аналоге Петербурга — Венеции, очень полюбившейся Сергею), а поскольку Дима уже имел, по крайней мере, гомоэротический опыт, то дружба быстро переросла в любовь и интимные отношения. Здесь все было чисто, эстетично и сопряжено с духовной общностью. Сергей заменил в этом плане прежнего Диминого друга и возлюбленного Костю Сомова, юного художника. Сергей и Дима столь яростно громили «ненормальную» любовь, «что даже самые близкие друзья их не догадывались об их интимной близости» (Лифарь 1993: 37). Сергей вошел в круг друзей Димы. В том же доме этажом выше жил Валечка (Вальтер) Нувель, увлекавшийся музыкой французских композиторов. Лидером группы тогда был Шура (Александр) Бенуа, молодой художник, сын императорского архитектора и потомок французских эмигрантов. В его доме Дягилев познакомился с другим молодым художником, Львом Розенбергом, евреем из семьи французских коммерсантов, рисовавшим уже для великого князя Владимира. Он учился во Франции, а в 16 лет поступил в Академию художеств и впоследствии принял фамилию (своего деда?) Бакст, став продолжателем стиля Врубеля. Сформировался небольшой дискуссионный клуб, с докладами и обсуждением, — Бенуа, Нувель, Бакст, Философов и Дягилев.
2. Обретение призвания
К Дягилеву его друзья относились с легким пренебрежением: для них он был несколько провинциален и фатоват, поверхностен. Кроме того, с явно карьерными амбициями. Так, в театре он мог едва поздороваться с друзьями кивком, однако дарить приятнейшие улыбки и усердные поклоны влиятельным персонам. Но он очень быстро набирал знания, авторитет и с 1893 г. стал перехватывать лидерство. В этом году он вступил во владение состоянием, унаследованным от матери, и начал покупать картины, украшать квартиру, где он поселился вместе со своим слугой Василием Зуйковым (с 1894 г.) и своей старой няней. Слуга этот был раньше обвинен в изнасиловании несовершеннолетней, и Дягилев сумел его вызволить из напасти. Теперь Василий был бесконечно предан хозяину и молчалив, как Гримо. Даже был готов убивать его недругов. Через два года Дягилев отправился за границу, где посетил знаменитостей — Золя, Гуно, Верди, Бердсли. Он считал, что знаменитостью станет и он сам и избрал для себя карьеру композитора (к юридическим наукам, которые он проходил в университете, он относился так же, как к школьным занятиям). Будучи в дальнем родстве с Чайковским, он звал его за глаза «дядя Петя» и очень горевал, когда тот умер. Самозванный «племянник» серьезно изучал музыку, занимался в консерватории. Отправился с Нувелем показывать свое творчество к Римскому-Корсакову. Нувеля тот покритиковал, но одобрил, а Дягилева вежливо попросил никогда не сочинять музыку: великим композитором ему не стать. Дягилев в ярости воскликнул что-то вроде: «Будущее покажет, кого из нас будут считать более великим в истории!» или «Вы еще услышите обо мне, когда я стану знаменитым!» — и выбежал из зала (Haskell 1935: 50). Но когда он показал Нувелю и Бенуа свой дуэт Лжедмитрия и Марины для оперы Мусоргского «Борис Годунов», те единодушно сочли вещь очень подражательной, и Дягилев оставил попытки сочинять. В Москве он подружился с художниками нового направления — Серовым, Коровиным, Васнецовым, Врубелем, которые отвергали академическую манеру, но не шли и за передвижниками, с их социальной направленностью, а предпочитали декоративную сторону в искусстве. Он познакомился с их покровителем, Саввой Мамонтовым, который, не будучи сам художником, определял многое в развитии искусств, организуя выставки, концерты, оперные спектакли и поддерживая определенных художников и артистов, например Шаляпина. Эта роль произвела впечатление на Дягилева. Он увидел и для себя возможность воздействовать на искусство и распоряжаться его событиями и людьми, даже не будучи сам артистом. Он сообразил, что организационная и распорядительная деятельность — меценат, импресарио, постановщик — тоже необходима для искусства и занимает в нем видное место. Она близка режиссуре и также может подниматься до уровня творчества! Правда, Дягилев не обладал таким собственным богатством, как Мамонтов, но зато у него были обширные связи в свете и при дворе, так что он мог мобилизовать нужные средства. Проникшись идеями войны с передвижниками, 25-летний энтузиаст организовал свою первую выставку в небольшом музее училища Штиглица — собрал английские и немецкие акварели нового направления. Второй выставкой он представил Петербургу скандинавскую живопись, неизвестную ранее в России. На открытие прибыли из Москвы Савва Мамонтов со своими художниками. Дягилев дал им пышный банкет в ресторане. В 1899 г. он привез из Франции выставку импрессионистов. Прежние друзья туго шли на принятие новой роли Дягилева. Бенуа пишет Сомову в 1896 г. из Парижа во время подготовки первой выставки Дягилева: «Здесь был три дня Сережа… Он произвел на меня неприятное впечатление… Его адское самодовольство, его до дерзости великолепный вид, его фатоватая поза (далее по-французски:) большого русского барина, «восхитительно» говорящего по-французски, (снова по-русски:) а главное, его оскорбительное меценатство, меценатство на подкладке откровеннейшего и подлейшего честолюбия — все меня так злило, что мы чуть-чуть не поругались и, быть может, еще поругаемся…». Через полгода, весной 1897 г., перед новым приездом Дягилева, Бенуа изменяет свой тон: «Что же касается Сережи… друг он мне или недруг! До сих пор не знаю. Посмотрю так: друг, посмотрю этак: недруг. Между тем скажу, что и на всех из вас, в конце концов, можно взглянуть и так и этак» (КАС 1979: 41–442, 444). Медленнее других (это психологически понятно) свел дружбу с Дягилевым прежний возлюбленный Димы художник Константин Сомов. Весной 1898 г. он писал своему брату из Парижа: «Дягилев здесь великолепен и нахален до отвратительности. Редко он мне так противен был, как в этот приезд, такой гранд сеньор, что прямо тошно. Я с ним не вожусь и видел мельком у Шуры, на которого он совсем сел и поработил» (КАС 1979: 62). Сомову принадлежала идея организовать журнал, пропагандирующий новые идеи в искусстве. К этому времени Философов подружился с философом Мережковским и его женой Зинаидой Гиппиус, поэтессой, и увлекся литературно-философскими и религиозными идеями. Он стал литературным редак тором журнала, Дягилев — ответственным редактором, а Мамонтов и богатая меценатка княгиня Тенишева — издателями. Лозунгами журнала были: «Искусство для искусства» и индивидуализм. Главными мишенями — академическая школа в живописи и передвижники. Кумирами — Бердсли и Уайлд, с которыми Дягилев познакомился за рубежом. Выступал Дягилев и против эстетических взглядов Льва Толстого. Журнал был назван «Мир Искусства». Если передвижники ориентировались на Германию, Мюнхен, то «Мир Искусства» — на Париж. Основным ядром редакции была группа художников, сдружившихся еще с юности: Сомов, Бенуа, Бакст, Рерих, Добужинский, Коровин, Врубель. Были и некоторые разногласия в редакции. В январе 1899 г. Сомов продолжает сообщать брату: «Дягилев порядочная сволочь, наш кружок, кажется, начинает разлагаться… Дима раб Дягилева и поклоняющийся ему… обиделся, рассердился за Дягилева на Шуру… Дягилев принимает аллюры птицы высокого полета, делает себе явно карьеру и желает быть единственным господином у своего пирога, испеченного из ингредиентов, ему доставленных Шурой же…» (Там же, 66–67). Философов и Дягилев выступали за союз с москвичами, за живопись Васнецова с религиозной духовностью, остальные члены редакции считали, что это дурной вкус. Бенуа оказался и редактором еще одного журнала — «Сокровища искусства в России», а Дягилев ревновал, что без него. Но Философов ушел из журнала, и по предложению Дягилева Бенуа вошел на это место в редакцию, а Дягилева ввели в редакцию «Сокровищ». Дягилев ввязался в издание еще одного журнала. Директором Императорских Театров был в это время сравнительно молодой (ему было около сорока) князь Волконский. Он пригласил Дягилева помогать ему и издавать журнал «Ежегодник Императорских Театров». В 1901 г. Дягилев затеял балет «Сильвия» с декорациями Бенуа и Бакста. Это была его первая балетная постановка, и по молодости он проявлял грубость и заносчивость, которые вызвали забастовку актеров. Волконский беседовал с ним и, намекнув также на слухи о его приватной жизни, потребовал уйти в отставку. Тут многие забастовщики перешли на сторону Дягилева. Дошло до царя, причем ему докладывали о Дягилеве то недруги того, то сторонники, и слушая эти сообщения 14 раз, царь менял свои решения, но в конечном счете посочувствовал Дягилеву. Однако Волконский уже успел уволить того по порочащей статье. Дягилев испугался, что это будет принято за намек на его гомосексуальность. Но этого не произошло, а через несколько месяцев, рассорившись с всесильной Матильдой Кшесинской, недавней любовницей Николая II, ушел в отставку и Волконский. Балет так и не был показан. Брат Бакста поместил в газете фельетон об этой истории. Дягилев с Философовым заподозрили своего коллегу в вынесении сора из избы и в ярости вышвырнули Бакста из своей квартиры. Быстро помирились, но Нувель и Сомов возмутились их поведением, и дело едва не дошло до дуэли между Сомовым и Дягилевым. Сказалась старая ревность. С тех пор они были на вы. Журнал «Мир Искусства» просуществовал с 1899 г. до русско-японской войны, когда военные расходы срезали царскую финансовую помощь журналу, и в 1904 г. он закрылся. Но битва с передвижниками была уже выиграна.3. Любовные искания и поиски дела жизни
В 1905 г. Дягилев, пользуясь покровительством великого князя Николая Михайловича, организовал в Таврическом дворце выставку русского исторического портрета, успех которой вернул ему реноме в свете. Ему хотели дать придворный титул камергера, но Дягилев захотел более высокий — церемониймейстера. У него было достаточно врагов при дворе, чтобы эту идею заблокировать. В результате он не получил ничего и обратил свои надежды на деятельность за границей. Бенуа был уже год на Всемирной выставке в Париже, где он руководил русским павильоном. Дягилев ринулся туда и решил устроить особую выставку русского искусства. К этому времени Дягилев громко и навсегда рассорился с Философовым (1905 г.). Они уже давно не имели интимных отношений, но сохраняли тесную дружбу. Дягилев заподозрил Диму, что тот хочет похитить его любовника и секретаря, студента-поляка Вики (Вицкого), поэтому вбежал в ресторан «Донон», где Дима обедал с Зинаидой Гиппиус, и устроил ему дикую сцену ревности. Так вскоре после смерти «Мира Искусства» умерла и 15-летняя дружба с Философовым. Но Вицкий был эпизодической, проходной фигурой. У Дягилева появилась новая любовь — юный Алексей Маврин, красивый, интеллигентный и воспитанный. Дягилев сделал его своим секретарем и поверенным, ездил с ним в Италию (где особенно его привлекала Венеция) и Грецию. Он прививал ему вкус к произведениям искусства — скульптуре, картинам, ювелирным изделиям, покупал их специально для него. Красив был и еще один его новый знакомый — молодой художник Сергей Судейкин. С помощью Судейкина, Нувеля, Бакста в 1906 г. Дягилев и организовал выставку в Париже, заполнив 12 залов. Выставка имела успех, а ее организаторы получили по ордену Почетного Легиона. Это породило идею представить в Париже и русское сценическое искусство. В 1907 г. Дягилев организовал концерты, на которых исполнялась музыка Рахманинова и Скрябина, а в 1908 г. — оперы Бородина и Мусоргского. Чайковского пока избегал: этот считался во Франции слишком германизированным, слишком под влиянием Листа и Вагнера. Бешеный успех имели «Борис Годунов» и Шаляпин. Когда в концерте пел Шаляпин, овации продолжались так долго, что дирижер обиделся и ушел со сцены, и следующий номер Шаляпина, «Камаринскую», не могли начать. Перекрывая шум, с галерки раздался русский бас, который английский репортер передает так: «Kamarinskuyu, I screwed your mother!» В «Князе Игоре» публике чрезвычайно понравились половецкие пляски. Это, а также успех Анны Павловой в ее английских гастролях 1908 г. подали Дягилеву идею вывезти в Париж и русский балет.4. Балет и Нижинский
Балет был идеальным средством пропаганды идей «Мира Искусства»: большая условность самой природы танца, традиционная эстетика декоративности и очень мало возможностей передавать в танце социальные идеи. При подготовке Дягилев рассорился с примой императорского балета Матильдой Кшесинской, за которой ухаживали великие князья: главная роль была предоставлена не ей. При объяснении Кшесинская и Дягилев швыряли друг в друга все, что было под руками. Кшесинская отказалась ехать, а по ее наущению двор отказал Дягилеву в использовании Эрмитажного театра для репетиций. Дягилев нашел замену, правда, похуже. Но главное внимание было не балеринам. В русском балете по традиции мужчины-танцовщики занимали более видное место, чем на Западе: Легат, Больм, Фокин. Особые надежды вызывал юный Нижинский, с его умением зависать в воздухе, блестящей техникой и выразительностью. К 1909 г. князь Павел Дмитриевич Львов, бывший первым любовником Нижинского, захотев, видимо, избавиться от надоевшего развлечения, познакомил 19-летнего танцовщика с вернувшимся из Венеции Дягилевым. К этому времени роман с Мавриным подходил к концу: тот увлекся очень красивой балериной Ольгой Федоровой, и Дягилева раздражали его богемные друзья. В первый же вечер знакомства Нижинский стал любовником Дягилева, причем в своих воспоминаниях Нижинский пишет, что Дягилев предоставил ему активную роль, а сам удовлетворился ролью женщины. Описывая этот момент, Нижинский уже был в состоянии ссоры с Дягилевым и поэтому пишет, что шел на сближение без любви, только ради денег. Но в других местах его воспоминаний и в воспоминаниях его жены проскальзывают свидетельства того, что первоначально с Дягилевым его связывали гораздо более теплые чувства, что его тянуло к этому сближению. Да иначе бы он и не мог исполнять активную роль. К тому же богатых подарков как раз его прежний любовник давал ему больше, чем мог дать Дягилев, зато дружба с Дягилевым была интереснее, прочнее и перспективнее. Именно Дягилев готовил его к покорению мира, развивал, поднимал и вывез в Париж. Нижинскому, это было более, чем необходимо. Он сам понимал, что туповат, косноязычен, и дар его покоится на интуиции, а не на интеллекте. Дягилев и его артисты придали мужским ролям в балете еще больше важности: из «носителей балерин» мужчины превратились в премьеров, и Нижинский стал в этом первым. Три французских банкира дали деньги — Ротшильд, Захаров и Рафалович. Театр Шатле специально перестроили. Французский антрепренер Астрюк придумал трюк: все 52 места в двух первых рядах лож были заняты самыми красивыми актрисами Парижа в блестящих нарядах и драгоценностях, при чем они были рассажены через одну — блондинки с брюнетками. Когда зажегся свет, еще до открытия занавеса раздались бурные аплодисменты, и праздничная атмосфера была обеспечена. Пресса захлебывалась от восторга. Нижинский был объявлен богом танца, а Павлова — самим воплощением танца. О Дягилеве молчали, а ввиду перерасхода чемодан Дягилева был арестован за долги. Тем не менее когда Нижинский заболел, Дягилев повез его отдыхать в свою любимую Венецию. В Петербург вернулись с триумфом. На следующий, 1910 год, привезли в Париж новые балетные постановки, и Нижинский опять блистал в них. По возвращении в Петербург он в 1911 г, танцуя в «Жизели», надел тот же костюм (по эскизу Бенуа), в котором блистал в Париже. Но дирекция Императорских театров возмутилась нескромностью этого костюма (под трико не было трусиков, а жилет укороченный), и от Нижинского потребовали извиниться и сменить костюм на старый. Он отказался и был уволен. Дягилеву пришлось взять его на круглогодичную оплату. Он вообще организовал постоянную труппу, с которой выступая не только в Париже, но и по всему миру. Начались их гастроли по главным сценам мировых столиц. Дягилев понимал, что с уходом из императорской труппы артисты теряют пенсию, и платил им щедро. Нижинский жил в самых дорогих отелях вместе с Дягилевым, и никого в труппе это не удивляло. Не задавали лишних вопросов ни сестра Нижинского, Бронислава, балерина труппы — почему брат живет в Париже не с ней, — ни мать Нижинского Элеонора, когда приезжала в Париж — почему сын говорит ей вечером «Добраноц!» и идет спать с Дягилевым.5. Конфликт с Нижинским
В сезон 1912 г. Дягилев решил повысить своего любимца до второго хореографа, чем возбудил ревность главного своего хореографа Фокина. Фокина разгневали и новации Нижинского — танец на пятках, копирование египетских фресок, которые он счел глупым фокусничаньем. Особенный гнев Фокина вызвала имитация Нижинским в «Послеполуденном отдыхе фавна» оргазма с шарфом нимфы. Эта имитацияпроизвела скандал на премьере, а Фокин в знак протеста ушел из труппы. Нижинский остался главным хореографом и в этом качестве ставил «Весну священную» Стравинского. Спектакль провалился. Дягилев заявил, что публика не доросла до понимания этого шедевра, но в глубине души заколебался в своей вере в гениальность Нижинского. Многим было очевидно, что Нижинский не справляется с обязанностями хореографа: у него не было ни педагогического мастерства, ни простой способности внятно и убедительно объяснить свои идеи. Михаил Фокин после 1905 г.
Михаил Фокин после 1905 г.
Сам Нижинский, наоборот, вознесся в самомнении и счел, что артисты слишком тупы, чтобы его понять, а Дягилев завидует его творческим способностям. Мелкие стычки и ссоры стали повторяться все чаще. Нижинского нервировала и дягилевская манера использовать не только свои, но и его деньги на спектакли, и он перестал одолжать Дягилеву свои деньги. А затем Дягилев и вовсе перестал платить Нижинскому — он ведь и так содержал его на свой счет: оплачивал его проживание и питание в лучших отелях, костюмы у самых дорогих портных, дарил ему драгоценности. Бывали ссоры, после которых Дягилева видели залитого слезами. Тут подвернулась Ромола фон Пульски, молодая и бедная венгерская аристократка, со своей фанатичной влюбленностью в сказочного танцовщика, которого она видела на сцене в Будапеште. Она хитростью проникла в труппу Дягилева — якобы учиться танцу, а сама начала продуманную и неустанную охоту на Нижинского. Когда труппа отправилась пароходом в Америку на гастроли без Дягилева, ее тактика принесла успех. Несмотря на то, что молодой танцовщик не говорил на иностранных языках, а Ромола не знала ни польского, ни русского, она вскружила ему голову, ее беззаветное поклонение покорило его, и он, даже не извещая Дягилева, объявил, что женится на ней. Помолвку и свадьбу провели на корабле при стоянках в Рио-де-Жанейро и Монтевидео.
 Бронислава Нижинская.
Бронислава Нижинская.
Приставленный к Нижинскому Дягилевым его верный слуга Василий сообщил хозяину в Венецию телеграммой о происшедшем. Дягилев был потрясен и взбешен. Почти пять лет вместе, столько сил и средств вложено, и такая демонстрация неуважения! Он собрал всех приближенных и спросил совета, как понимать эту измену — была ли она задумана и подготовлена в тайне? Бакст сказал, что вряд ли: ведь Вацлав перед поездкой не покушал новых рубашек и кальсон. «Поди ты к черту со своими кальсонами!» — была реакция Дягилева. Нижинский же написал письмо Дягилеву только через несколько дней после бракосочетания, и письмо шло из Аргентины три недели. Он спрашивал как ни в чем ни бывало, когда приступить к работе: он ведь мнил себя незаменимым. Дягилев через режиссера Григорьева сообщил Нижинскому, что, поскольку тот пропустил спектакль, Русский балет не нуждается в его услугах. И тут же вернул Фокина. Балерины Брониславы Нижинской, сестры танцовщика, опала не коснулась. Дягилев позже стал продвигать ее в хореографы и говорил: «Какой бы это был великолепный хореограф, если бы она была мужчиной!» Дягилев нанял слугой юного и смазливого итальянского пекаря Беппо Потетти, по дягилевской же характеристике, «веселого мерзавца». Ходили слухи, что это событие было ознаменовано оргиями, но это недостоверно: у пекаря оказалась жена, которая вскоре тоже появилась, и ее устроили в гардероб труппы. Беппо заменил Василия на долгие годы, а Василий занял должность в труппе.
 Портрет Леонида Мясина. Л. Бакст. 1914 г.
Портрет Леонида Мясина. Л. Бакст. 1914 г.
На место же Нижинского в Москве быстро нашелся изумительно красивый 18-летний танцовщик Леонид Мясин. Этот красавец подумывал уж было оставить танец и играть Ромео в Малом театре, когда Дягилев вызвал его в «Метрополь», появился перед ним в халате и предложил в балете роль Иосифа Прекрасного. Ответ просил дать назавтра. Друзья, вероятно, предупредили Мясина, что собой представляет Дягилев и какие сложности сопряжены для молодого человека с предложением Дягилева. Мясин твердо решил отказаться, но, придя, сказал: «Да» и на следующий день уехал в Петербург, а оттуда в Париж (Massine 1968). Фокину Дягилев сказал: Будем создавать нового Нижинского. А Нижинский попытался сам организовать труппу и выступать с ней, но способностями импресарио он обладал в еще меньшей мере, чем способностями хореографа, и его постиг полный провал. Затем супруги выехали в Венгрию к родителям Ромолы, а началась Первая мировая война, и они оказались на территории вражеского государства. После долгих мытарств и ссор с родителями они получили помощь все-таки от Дягилева. Он готовил турне по Америке и решил забыть обиды и вернуть Нижинского. С помощью связей при дворах ему удалось вытащить Нижинских в нейтральное государство — Америку. Но американцы решили сделать Нижинского руководителем гастролей. Дягилев не возражал и с частью труппы уехал в Европу. Турне Нижинского также обернулось провалом и колоссальными тяготами для него. Он конфликтовал с труппой. Оттуда он прибыл к Дягилеву в Испанию, но и там его ждали конфликты. Дягилев заставлял его выполнять договоренность и танцевать. Психические напряжения способствовали проявлению его наследственной психической болезни. Супруги уехали в Швейцарию, где болезнь охватила его и сделала жизнь Ромолы с ним сплошным мучением. Ромола покорно и мужественно несла свой крест. Это все затянулось на 33 года. Эта история показала важность Дягилева как организатора искусства. Нижинский по наущению Ромолы стал было считать, что сам он творец, а Дягилев лишь пользуется его трудами, присваивает славу и заслуги. Его и других артистов. Теперь он убедился, что без Дягилева он обойтись не может.
6. Мясин в военные годы
Благосклонность Дягилева к Мясину скоро переросла в любовь. Когда вспыхнула война, он был с Мясиным в Венеции, а почти все остальные артисты — в России, в отпуску. Там они и застряли, и контракты лопнули. Пришлось восстанавливать труппу вокруг Мясина. Из Мариинки удалось вытащить Ольгу Спесивцеву, некоторых артистов из Польши, других взяли на месте. В таких условиях понадобился и Нижинский. Однако под руководством Дягилева Мясин, только два года как из школы, быстро рос. По характеристике Дягилева, в нем оказался «наиболее блестящий ум в танцовщике». Дягилев возил его по Италии, показывал фрески, картины и архитектуру Возрождения, изучал с ним византийское и средневековое искусство. Готовил его к сочинению балетов, к хореографии. Своей нелюбви к немецкой музыке Дягилев придал милитаристское оформление. В «Дейли Мейл» было напечатано его интервью со словами: «Солдаты, возвращающиеся с фронта в Лондон находят поклонение старым немецким идолам, столь же глупое и некритическое, как всегда…. Брамс — это ничто иное, как окаменелый труп…. Бетховен навязан вам немецкой пропагандой. Бетховен, мои дорогие англичане, это мумия… Прислушайтесь к себе и вы поймете, что в произведениях типа Бетховенского скрипичного концерта, который продолжается три четверти часа, сегодня нет ни искры интереса. Это ужасная огромная мумия. Что до Шумана, то я не вижу в нем ничего, кроме соскучившегося по дому пса, воющего на луну» (Haskell 1935: 280). Получив отповедь от английского критика, он дал еще одно интервью, в котором заявил: «Война это не что иное, как борьба между двумя культурами». Словом, Илья Эренбург времен Отечественной войны имел предшественника. Дягилев выехал с Мясиным в Америку, где тот танцевал в ролях Нижинского. Впрочем, Фавна пришлось умерить: их потащили в суд за неприличные сцены в «Шехеразаде» и «Фавне». Что ж, Мясин поместил шарф нимфы на скалу и уселся рядом. Дягилев сказал: «Ну, теперь Америка спасена». Когда Нижинский с труппой путешествовали по Америке, Дягилев с Мясиным и небольшой частью труппы уехали на гастроли в Испанию. Потом гастролировали сезон за сезоном по Европе. Послевоенные годы были трудными. Сезон 1920-го года провалился, после расплаты с труппой Дягилев с Мясиным остались без денег. Спасла помощь от Шанель. «Весна Священная» в новой постановке Мясина шла успешно. Мясин приглядел островок возле Венеции, купили его и стали строить там дом (Massine 1968). В январе 1921 г. в Лондоне в ресторане «Континенталь» в присутствии Стравинского, Шанель, Пикассо и других Мясин напился, вскочил на рояль и воскликнул: «Все тихо! У меня объявление. Пришло время. Я намерен уйти». Раздались крики: «Давай, продолжай! Скажи, с кем!» — «Нет секрета. Я собираюсь уйти с Соколовой». Соскочил и поцеловал ей руку. Это была англичанка с русским сценическим именем, у которой был свой возлюбленный — Кремнев. Оказалось, однако, что роман у Мясина с другой балериной, тоже англичанкой — Верой Савиной. На следующий день расстроенный Дягилев предложил ей очень выгодный контракт, если она откажется от Мясина. Она не пошла на это. Перед репетицией Григорьев отозвал Леонида Федоровича и что-то сказал ему. Мясин смертельно побледнел и вышел. Репетицию отменили. Было объявлено, что Мясин уволен, а Савина переводится в кордебалет. Она тоже ушла. С ними еще несколько артистов — их друзей. Все вместе они сформировали небольшую труппу, сыграли свадьбу Мясиных и уехали в Южную Америку. Семь лет мясинского периода окончились. Дягилев, который сразу потерял друга, любовника, премьера и хореографа, несколько дней не показывался, потом появился неузнаваемый, с большими черными кругами под глазами. Нувель боялся за его рассудок. Но Дягилев сказал: «Незаменимых нет в этом мире. Я должен найти кого-то».7. Секретарь-сценарист
 Борис Кохно, Париж, 1921.. Рисунок Пабло Пикассо.
Борис Кохно, Париж, 1921.. Рисунок Пабло Пикассо.
В феврале 1921 г. возле него появился 17-летний Борис Кохно. Этот парнишка был эмигрантом без гроша в кармане. Русский, из дворян. Отец был гусарским полковником, близким ко двору, даже крестным отцом цесаревича. Борис учился в императорском лицее Москвы и бежал с матерью и сестрой от революции, как все, через Константинополь. Судейкин, который писал его портрет, послал его с каким-то вопросом к Дягилеву. Сергей Павлович вышел к нему из ванной и, выслушав, сказал: «Извини, теперь расскажи мне не о Судейкине, а о себе». Выслушав, попросил придти завтра. Назавтра вопрос в лоб: «Хочешь быть моим секретарем?» Тот спросил: «Что должен делать секретарь?» Ответ: «Быть необходимым». Дягилев не обещал платить Борису жалованья, но стал кормить, поить, одевать и давать несколько франков в день на сигареты. Борису пришлось ограничить курение — не более 6 сигарет в день. Сразу же купили ему новые костюмы, и через несколько дней Кохно выехал с Дягилевым в Мадрид (Kochno 1971). Там на репетиции Кохно уже обращался к Дягилеву на ты. После отъезда Мясина в труппе не было человека, который бы смел обращаться на ты к Дягилеву. Из Мадрида Кохно вернулся грустнее, чем уезжал туда. И физически и умом он не вполне подходил Дягилеву как любовник. Он не танцевал на сцене и, значит, не попадал в когорту молодцов, непрерывно поддерживающих телесную форму. Он был слишком благороден, слишком интеллигентен. Это делало его незаменимым другом, но уменьшало его привлекательность как любовника. Он был на первом плане, пока не было более под ходящего фаворита, а затем его роль должна оказаться за сценой. Он это сразу сообразил. Кохно был очень начитан, немного поэт, знал наизусть всего Пушкина, также рисовал, понимал музыку. Он написал либретто на сюжет пушкинской «Мавры», а Стравинский сочинил на это либретто музыку. Бакст хотел сделать декорации, но их заказали другому. Бакст обиделся и порвал с Дягилевым. В Испании подготовили к постановке «Спящую красавицу» Чайковского. В художественном отношении она удалась, но на премьере декорации повалились. Дягилев был сломлен и рыдал. С этого времени начались его болезни. Провал означал денежное фиаско. Нечем было платить труппе, и некоторые артисты ушли к Мясину. Стравинский мобилизовал на помощь своих знатных друзей. Одним из средств усилить труппу было объединение с балетом Монте-Карло.
8. Долин и Лифарь
В 1921 г. из России выбралась также Бронислава Нижинская, которая в Киеве создала было школу танца. Рассказала Дягилеву о лучших своих учениках, и он сумел вытребовать их из России. В январе 1923 г. прибыло пятеро парней. Дягилев спросил: «А есть ли среди них новый Нижинский?» Обращал на себя внимание самый юный, 18-летний Сергей Лифарь, которого Нижинская в Киеве даже не приняла в школу — он приехал вместо одного из ее учеников. Невысокий цыганистый парнишка, красивый (высокие скулы, темные глаза, вздернутый нос), но абсолютно необученный. Его первое впечатление от встречи с Дягилевым в отеле «Континенталь» было потрясающим. «Такого царственного холла в зелени тропических растений я еще никогда не видел, — вспоминает он, — … И вдруг: прямо к нам идет небольшая группа. Впереди крупный, плотный человек — он мне показался колоссом — в шубе, с тростью и в мягкой шляпе. Большая голова, румяное, слегка одутловатое лицо, живые блестящие глаза, полные грусти и мягкости — бесконечной доброты и ласки, «петровские» усики, седая прядь в черных волосах… Он подсел к нам и заговорил, обволакивая, подчиняя, завораживая какой-то мягкой лучистостью. Она исходила от него самого и от его темных молодых глаз» (Лифарь 1994: 6–7). Дягилев экзаменовал их и разочаровался, распекал Нижинскую: «Броня, вы обманули меня!.. Ведь это же полные неучи!» До нового Нижинского явно было еще далеко. Живой, привлекательный, но не слишком интеллигентный, Лифарь был, по его собственному признанию, безразличен к сексу, не испытывал влечения ни к женщинам, ни к мужчинам, хотя вызывал желание у тех и других. Он помирал от желания понравиться Дягилеву Как-то на репетиции Лифарь сбегал и по собственному почину купил уставшему Дягилеву пару сэндвичей и бутылку пива. Поставил перед ним, покраснел и убежал. Дягилев был очень тронут. Со своей стороны, Дягилев, как он потом признавался Лифарю, велел своему слуге Василию пристально следить за каждым шагом юноши. Антон Долин. 1924 г.
Антон Долин. 1924 г.
Со временем Лифарем стало овладевать «какое-то странное тревожное чувство, что-то во мне (может быть, то, что его монокль и взгляд постоянно останавливаются на мне) говорит, что Дягилев ищет встречи со мной, хочет со мной говорить, а я боюсь этого разговора, хочу отдалить его» (Лифарь 1994: 23). Как-то Дягилев спросил: «Почему вы так боитесь меня и бегаете от меня?. Вы меня интересуете давно; мне кажется, что вы не похожи на других мальчиков, — вы талантливее их, и любознательнее, а между тем ведете такую же, как и они, серую, бесцветную, пустую, неинтересную жизнь. Я хочу помочь вашему развитию, хочу помочь вам развить ваш талант, но вы этого не пони маете и бегаете от меня, как от страшного зверя… Ну, и чорт с вами…» (Там же, 24). Тогда-то, в ноябре 1923 г., Дягилев поехал в Париж и привез новый объект внимания. Из числа молодых артистов, привлеченных дягилевским другом Жаном Лифарь в балете «Зефир и Флора». Кокто (тоже гомосексуальным), один, из школы Астафьевой, оказался весьма перспективным — юный английский атлет Пэтрик Хили-Кэй. Он и был привезен на проверку в Париж, и Дягилев, глядя на него в автомобиле, был поражен его красивыми глазами и сильными руками. Дягилев немного говорил по-английски и загорелся сделать из этого атлета балетного артиста и друга. Он решил сразу взять его в солисты — без прохождения кордебалета. В ноябре повез его из Лондона в Париж. Тотчас же купил ему одежду, пригласил к обеду. Вечером юноше вручили билет в Монте-Карло. Дягилев был уже в поезде, а Борис Кохно на время оставлен в Париже, чтобы не мешал. Через четверть часа в купе Пэтрика оказался дягилевский багаж, а сам Пэтрик — в дягилевском купе с двойными койками. Принесли роскошный ужин — с мороженым и пирожными. Юноша все понимал: его еще в детстве совратил священник в исповедальне.
 Антон Долин. 1924 г.
Антон Долин. 1924 г.
На балетной сцене Пэтрик появился под русским именем Антон Долин. Дягилев поставил с ним комический балет на спортивную тему, с акробатикой, и балет имел успех (Dolin 1930). Хотя Лифарь пишет, что по-прежнему избегал встреч с Дягилевым, но он признает, что почему-то оказывался всякий раз там, куда Дягилев приводил Долина и Кохно, чтобы развивать их, — в музеях, на концертах. Дягилев примечал это и ронял ласковые слова.. Лифарь задумался. «Мне пришли в голову все ходившие в нашей труппе разговоры о необычной интимной жизни Дягилева, о его фаворитах… Неужели и я для Сергея Павловича его будущий фаворит, неужели он и меня готовит для этого? Я так живо представил себе это, что наедине с самим собой, перед самим собой густо покраснел и сейчас же откинул для себя возможность этого. Нет, все, что угодно, только не это — я никогда не стану «фаворитом»! Но что же тогда делать? Я знал, что если буду продолжать встречаться с Дяги левым, то не смогу грубо и резко оттолкнуть его, не смогу ни в чем отказать ему…». Вот так. Это он уже знал. Решил, что надо уходить из труппы (Лифарь, 1994: 36).
 С. Лифарь с С. П. Дягилевым. 1929 г.
С. Лифарь с С. П. Дягилевым. 1929 г.
В 1924 году Дягилев сказал Лифарю, что хочет его сделать своим основным танцовщиком. «Приходи ко мне в отель Сент-Джеймс, но пока держи нашу беседу в секрете и не упоминай ее никому в труппе». На беседе Лифарь сказал Дягилеву, что хочет покинуть труппу. Дягилев рассвирепел, сбросил все со стола на пол и стал кричать страшным голосом: «Что, что такое вы осмелились сказать, неблагодарный щенок!.. Я вас выписал из России, я вас содержал два года, учил вас, наглого мальчишку… Я уверен, что вы не сами придумали уйти от меня, а вас подговорили, подбили! Говорите, кто из этих девчонок…» и т. д. Но узнав, что юноша собрался в монастырь, заплакал, назвал Лифаря «Алешей Карамазовым», обещал превратить в одного из величайших танцовщиков мира, второго Нижинского. В результате он решил направить юношу учиться в Турин, к маэстро Чеккетти, который обучал многих его танцовщиков. Назавтра повел к портному, выбрал костюмы, купил ему обувь и соломенную шляпу-канотье. Когда Лифарь появился в этой шляпе, все в труппе восприняли это как знак. Когда он же появился в брюках-гольф, англичанка Соколова прошептала Долину: «Your number’s up, chum» («Твоя песенка спета, приятель»). Долин принял свое грядущее поражение без истерики и позже подружился с Лифарем (Sokolova 1989).
9. Лифарь и Долин
В ночь после последнего спектакля сезона Дягилев пригласил Лифаря на ужин, заказал шампанское, дал ему пачку книг для самообразования (Чехов, Аксаков, Блок, Кузмин, Эренбург, Ремизов, Сологуб, Белый, Есенин, Пушкин) и билет в Турин, а 6 июня в 5 утра прибыл лично отвезти его на вокзал. Через день он отбыл с Долиным в Венецию. Первое письмо от Лифаря ждало его в отеле «Эксцельсиор» на Лидо. Лифарь жаловался на пищу в Турине и на трудности обучения у Чеккетти. Дягилев пишет в ответ. «Ты должен хорошо питаться. Это дело первейшей важности, нельзя манкировать этим. Пожалуйста, дай мне знать, как ты продвигаешься со своим чтением. Возвращаешь ли книги в Париж, чтобы обменивать их, и получаешь ли русские? Трехчасовые уроки, конечно, очень длинны, но надо брать быка за рога, и время дорого. Я надеюсь, что Чеккетти будет способен прибыть в Монте-Карло этой зимой, но тем временем постарайся взять от него все, что сможешь. … Здесь, в Венеции, как всегда, все божественно. Нет подобного места на земле как по полноте отдыха, так и потому, что здесь я создаю все мои идеи, которые потом показываются миру». Между тем Пэтрик нежился на пляже, а Сергей Павлович прерывал чтение Пруста и Радиге, чтобы наблюдать за ним в бинокль — сам он сидел подальше от воды, не раздеваясь. За день до дня рождения Долина Лифарь получил известие, что Дягилев едет в Милан и надо встретить его там. Из поезда вышел помолодевший Дягилев, и они совершили двухдневную поездку по достопримечательностям Италии. В конце лета встретились еще раз, на сей раз Лифарю, приехавшему со всем багажом из Турина, показывали Венецию. «Дягилев превратился в дожа-венецианца, с гордостью и радостью показывающего свой родной прекрасный город. Мы пробыли в Венеции пять дней — пять прекрасных и значительных дней… Какое-то давившее бремя спадало с меня, и мне казалось, что я нашел в нем то, что так давно искал, нашел какую-то надежную, твердую и верную опору в жизни». Проехались на гондоле, затем отдых на пляже Лидо, где Лифарь плавал, а Дягилев сидел на берегу в одежде «Сергей Павлович никогда не купался — он органически не в состоянии был показываться на людях раздетым» (Там же, 56–57). Слушали оперу, после нее ужинали с Есениным и Айседорой Дункан. Съездили в Падую, к фрескам Джотто, слились в преклонении перед прекрасным. С этого времени Сергей Павлович стал Сережей для 19-летнего Сергея. Затем Лифарь уехал в Париж, а Дягилев присоединился к Долину и Кохно в Монте-Карло. Долин познакомился с двумя лесбиянками, и Дягилев обвинил его в связи с одной из них. В июне 1925 г. Долин был вынужден со слезами уйти. Вообще Дягилев нередко обрывал дружбу ссорой даже с очень близкими и старинными друзьями, с некоторыми — навсегда. Рассорился со Стравинским. Смертельно обидел Бакста. Разорвал отношения с Равелем. В Париже Лифарю по настоянию Дягилева сделали пластическую операцию носа — стал с легкой горбинкой, но Дягилев сказал, что раньше было лучше. Теперь Лифарь жил повсюду вместе с Дягилевым. Любовь Сергея Павловича к Сереже была всесокрушающей. «Казалось, что мир был создан для нас, и только для нас, — мой «Котушка», мой громадный и нежный «Котушка»… восклицал: «Сережа, ты рожден для меня, для нашей встречи!» И я действительно всеми своими помыслами принадлежал ему» (Там же, 74). Если Лифарь грустил, необъятный Дягилев в ночной сорочке начинал танцевать для него, делал «турчики и пируэтики», имитировал балерин «на пальчиках». Лифарь хохотал и приходил в хорошее настроение. В первые год-два, однако, умилительные «турчики с пируэтиками» перемежались с ужасными сценами ревности. Когда оба друга гостили на вилле д’Эсте у графини Демидовой, хозяйка пригласила Лифаря прокатиться на лодке по озеру (Дягилев смертельно боялся воды). Вернувшись, они обнаружили, что рассерженный Дягилев уехал. Лифарь с трудом догнал его в Милане, прибыв через 10 минут после него. На вилле Кшесинской — аналогичная история. Он сказал Лифарю: «Что-то вы очень развеселились, молодой человек!» — и повел его домой. Ревновал даже к Карсавиной, своей давней подруге. После выступления Лифаря Карсавина подарила ему букет роз. Он поставил их у себя и пошел проводить Карсавину на ужин. Вернувшись, обнаружил розы выкинутыми в окно на двор, а Дягилева застал кричащим: «Я не допущу, чтобы из моего театра устраивали вертеп и выгоню в шею всех этих…, которые вешаются на шею моим танцорам!» Лифарь звал его «Отеллушкой». Кохно было весьма трудно жить рядом с этой парой и выносить их раздоры. Лифарь же мечтал о единении душ, об обмене мечтами. Но он стал замечать, что Сергей Павлович хочет знать все о мечтах подопечного, о своих же весьма молчалив. Что он больше заинтересован в элегантности одежд юноши, чем в его духовном развитии. Что его тяга к физической красоте сильнее, чем романтическая любовь. Язвительные знакомые поговаривали, что Лифарь у Дягилева вроде любимого попугая на плече, которого можно гладить и пестовать легкими поцелуями. В танце Лифарь не стал вторым Нижинским, но он был несомненно звездой, новым премьером. Художник Сомов пишет сестре в Россию об изменениях в труппе Дягилева: «На первом плане великолепный, талантливый Сергей Лифарь, очень юный, маленький, сложенный, как греческий сатир, с симпатичной обезьяней мордочкой. Он произвел сенсацию в публике» (КАС 1979: 279). А в роли советника и наперсника он не мог тягаться с Кохно, которого он возненавидел (отказался выпить с ним на ты). Ему пришлось смириться со вторым местом, рядом с Кохно. Кохно имел теперь большое влияние на Дягилева. Дягилев принимал не только его либретто, но и слушал его советы по декорациям, хореографии, даже музыке. Сценарии почти всех балетов 20-х годов писал для Дягилева Кохно. Лифарь, однако, рос чрезвычайно быстро и впоследствии стал крупнейшим теоретиком балета, написал два десятка книг. Тут старания Дягилева не пропали даром. Из России приехал Баланчивадзе и был взят хореографом, но Дягилев ему сменил фамилию — тот стал Баланчиным. У Дягилева стало меняться отношение к Советской России. С Прокофьевым они подготовили конструктивистский балет «Стальной скок», но он не имел успеха. Дягилев даже планировал поездку в Советский Союз, но отказался от этой идеи, когда советский посол не гарантировал возвращение его с Кохно. В 1925 же году Мясин решил вернуться в труппу и был принят, но только как еще один хореограф. Кохно его встретил и провел к Дягилеву. «Как поживаешь?» — приветствовал Мясин старого друга. «Как поживаете!» — поправил его Дягилев. Мясин перешел на вы, но назвал Дягилева без отчества. Дягилев удивленно оглянулся направо-налево и спросил: «Кого это тут называют Сергеем?» Сергеем он был теперь только для Кохно и Лифаря.10. Последняя любовь и смерть в Венеции
Болезни все больше одолевали Дягилева. Он сильно постарел, терял вес и волочил ноги. Нелеченный диабет проявлялся карбункулами. Дягилев всегда панически боялся болезней и боли — кутался в пледы от сквозняков, закрывался в карете, чтобы не получить заразу от лошадей, не купался. А теперь, когда действительно пришло опасное заболевание, он не верил докторам. Они настаивали, что при диабете необходим инсулин, а его тогда во Франции не было, только в Швейцарии. Дягилев не хотел уезжать. Врачи советовали ему ездить не в Венецию, а на курорт, в Виши. Он не слушался. Ему запретили есть сладкое, белый хлеб, категорически запретили алкоголь, а он по-прежнему ежедневно ел шоколад и пил шампанское. Игорь Маркевич. 1929 г.
Рисунок Кристиана Берара.
Игорь Маркевич. 1929 г.
Рисунок Кристиана Берара.
В 1927–28 гг. он снова влюблен. На сей раз его секретарша Александра Трусевич сообщила ему, что у ее русской знакомой сын очень похож на Мясина. Мальчику 16 лет он изучает музыку. В ноябре 1927 г. юноша, Игорь Маркевич, пришел к Дягилеву с ранцем и поведал о своих занятиях. Дягилев почти не слушал, но когда юноша сыграл свои вещи, встрепенулся. Музыка была подражанием Равелю. «Зачем так увлекаться вчерашним днем?» — спросил Дягилев, «Меня не интересует вчерашнее или сегодняшнее, — ответствовал Игорь, — но то, что вечно». Впечатлил. Дягилев всегда лучше ощущал талант, если он заключен в молодой и красивой оболочке, разумеется, мужской. Он так увлекся Иго рем, что бегом спешил в отель, чтобы увидеться с ним. Щедрые подарки сыпались на юного композитора, и тот не мог устоять. В своей книге «Бытие сегодняшнее и прошлое» Маркевич вспоминает: «Дягилев не был извращенным, скорее сентиментальным. Физическая сторона его любви, которая, конечно, существо вала, была, вероятно, необходима для него». Когда Дягилев имел свидание с ним в Базеле, он назвал ему предшествующих своих любовников: Дима-кузен, Нижинский и Мясин. Остальных не упоминал. Маврин, Кохно, Долин, Лифарь — не заслуживали упоминания? Или просто неудобно было называть тех, кто еще стоял рядом? Тем более, что Долин тоже вернулся. Теперь уже Лифарь ревновал Дягилева к другим. Впоследствии он признавал, что этот «совсем еще юный музыкант… казалось, стал для него на некоторое время источником обретения второй молодости, хотя этот юный Ганимед и не был достоин своего царственного Зевса. В самом деле, он только утомил Дягилева бесконечными путешествиями…» (Лифарь 1994: 35). Строки эти явно дышат ревностью. Но Дягилев думал и о нем: «Родненький. Телеграмма твоя меня несколько успокоила. Однако ни одного письмеца от тебя не получал. Отчего не написал? Забыл, Котя?.. Не забывай Кота, который тебя обнимает и благословляет «. Вместо подписи нарисован кот с задранным хвостом. «Кот» и «Котенок» — это были у Лифаря с Дягилевым ласковые клички. За два месяца до смерти Дягилева большое ресторанное зеркало упало и разбилось у ног Лифаря. Это была дурная примета, и Лифарь немедленно бросил в Сену осколки зеркала: текущая вода должна унести зло. Он рассказал об этом случае Дягилеву и тот, суеверный, принял примету на свой счет. Сезон 1929 г. в Англии был самый успешный после войны. Наконец публика приняла и «Весну Священную». Окончив сезон, Дягилев посетил вечер у Антона Долина. Потом повез Игоря Маркевича в Зальцбург, на родину Моцарта, и 7 августа отвез его в Веве, Швейцария, а сам проехал в Венецию, явно больной. Лифарь приехал к нему и выхаживал его. 12 августа температура поднялась до 39. Дали телеграмму Кохно: «Здоровье не очень хорошее. Когда рассчитываешь приехать?» В тот же день другая телеграмма: «Я болен. Приезжай немедленно». Кохно приехал 16-го (самолетного сообщения ведь тогда не было), и Дягилев его не встретил. Он лежал в лежку, и когда Лифарь выходил, рассказывал Кохно о своей поездке с Маркевичем. К вечеру потерял сознание и к утру тихо умер. Ему было 57 лет. Двое из его последних любовников были возле него, с двумя другими он виделся недавно. Похоронный кортеж провезли на трех черных гондолах на о. Сан-Микеле, в Венеции же, под кипарисы. Похоронами руководила Коко Шанель. Убитые горем Лифарь и Кохно ползли от берега до могилы на коленях, а Лифарь в истерике пытался прыгнуть в могилу к Дягилеву, чтобы остаться вместе с ним. На гробнице высекли слова из дягилевской заповеди Лифарю на французском: «Венеция, постоянная вдохновительница наших утолений». Несколько недель спустя Лифарь с Кохно подписали документ о роспуске «Русского балета». «Дягилев внезапно умер, — говорилось в нем, — он не дожил жизнь и не доделал дела, и дело его нельзя доделать, как нельзя за него дожить» (Лифарь 1994: 47). А через короткое время Лифарь получил приглашение возглавить танцевальный коллектив Гранд Опера в Париже, собрал русских педагогов и несколько десятилетий руководил главным балетом Франции (с 1929 по 1945 и с 1947 по 1958). Потом руководителем стал Нуреев. Русский балет, выпестованный французами в XIX веке, в ХХ-м начал отдавать свой долг. Воздействие дягилевской балетной школы распространялось не только на Францию: Фокин и Баланчин создали славу балету Нью-Йорка, Мясин обучал танцовщиков в миланской Ла Скала, Долин встал во главе Лондон Фестивал Балле, а королевский балет Англии возглавила партнерша Лифаря Нинет де Валуа…
11. Загадочный маг
Так закончилась жизнь великого антрепренера, сложенная из восьми жизней, восьми страстных Любовей. Параллельно каждой из восьми протекала жизнь его молодого любовника, каждый раз другая. Но все эти юноши имеют много общего. У них тоже было по нескольку жизней — Лифарь пишет о своих двух. «Обе мои жизни (я говорю о жизнях, а не о периодах жизни, потому что они органически слишком различны), и до 1923 года, и после, были отмечены владычеством двух людей — и только двух…». Первой была мимолетно мелькнувшая женщина, графиня, скорее ее образ, вторым был Дягилев (Лифарь 1994: 11). Дягилев и женщина (Ромола) заполняли и обе жизни Нижинского. Дягилев «владычествовал» и в жизнях других своих молодых друзей. Как он сумел их завоевать, завербовать в свою непризнанную касту, обратить в свою нестандартную сексуальную веру? И делал это на глазах у всех. В этом смысле Дягилев фигура магическая и загадочная. Если мы рассмотрим придирчиво, одного за другим, восемь его любовников — Философов, Маврин, Нижинский, Мясин, Кохно, Долин, Лифарь, Маркевич, — то убедимся, что гомосексуальным по природе был только первый — кузен Дима, да еще у Нижинского, возможно, были некоторые гомосексуальные задатки. Остальные — либо юноши с сугубо мужскими качествами (впоследствии женились), либо в лучшем случае они не имели отвращения к близости с мужчиной. Приходится также отметить, что все они были людьми незаурядными, талантливыми, часто успешными в своей профессии. Наконец, зная их дальнейшие биографии, их сочинения, их достижения, мы должны признать их людьми высокого нравственного уровня, с большим чувством собственного достоинства. Почему же все они пошли на телесное сближение с мужчиной, причем не красавцем и с каждой новой любовью все более пожилым? За исключением случая Философова, экономический фактор, безусловно, имел некоторое значение, отрицать не приходится, а Нижинский сам этот фактор выдвигает как единственный. Но я уже приводил аргументы против этого. Он не мог иметь решающее значение хотя бы потому, что ни один из юношей, за исключением разве Кохно, не был в бедственном экономическом положении. Он не может быть признан решающим и потому, что никто из этих юношей, за исключением разве Нижинского, не имел другого случая, когда бы он отдался богатому мужчине. Ни один из этих юношей не был причастен к проституированию своей красоты и юности, не этим они добивались своего благополучия. Хотя, конечно, Дягилев поддерживал их благосклонность богатыми подарками и всем образом жизни, который он им обеспечивал. Еще более напрашивается карьерный фактор. Юноши, естественно, заботятся о своей карьере, о жизненном восхождении, и можно пред положить, что они пожертвовали своими чувствами, согласившись на унижение и скверные ощущения ради успеха на своем поприще. Но разве не было, по крайней мере, у некоторых из них другого пути? Нижинский уже был премьером балета в Мариинском театре, Мясин собирался стать драматическим артистом, Маркевичу Дягилев мало что мог обещать. Другие просто не выглядели униженными и страдающими. А вот для родителей и других родственников этот фактор (вместе с предшествующим, экономическим) мог иметь очень важное значение. Остается предположить две вещи. Во-первых, исключительное поклонение личности, роли и заслугам Сергея Павловича, которые поражали воображение юных неофитов во вратах искусства. Это видно по воспоминаниям всех его любовников, от которых такие воспоминания остались — Нижинского, Мясина, Кохно, Долина, Лифаря, Маркевича. Лишь у Нижинского в отрицательных отзывах, обязанных своим возникновением ссоре, проглядывает разочарование в личности Дягилева не только от обнаружения коварства и тщеславия, но и от разоблачительных открытий фальсифицированного внешнего образа: крашеные волосы, два искусственных зуба, нарисованная седая прядь. Для остальных образ сохранялся благородным и обаятельным. Восхищение, граничившее с влюбленностью, создавало основу для принятия также и плотской любви. Во-вторых, в среде искусства жило преклонение перед античностью, в которой сократическая, платоническая, греческая любовь процветала. Сознание этого пригашало в этой среде доминирующую в современном обществе гомофобию, ослабляло страх перед известными гомосексуалами и вызывало у юных, горячих и предприимчивых искушение разок приобщиться, попробовать запретный плод, испытать. Тем более если это несет с собой и дополнительные блага. А далее уже от меры внутреннего противодействия (или, наоборот, склонности) зависело, продолжать ли возникшие отношения или оборвать. В первом случае (и если понравилось Дягилеву) это нашло свое отражение в истории и в данной биографии, во втором — кануло в Лету. Таким образом, любовные победы Дягилева, поразительные, если учесть молодость, красоту и талант его любовников, сопряжены с его творческими успехами, с гигантским размахом предпринятой им кристаллизации явлений искусства. Нижинский попытался обойтись без Дягилева — и потерпел фиаско. Он убедился, что Дягилев был необходим ему — как наставник, советчик, спонсор и организатор. Остальные признавали это всегда. Но Нижинский был не одинок в своей попытке принизить Дягилева. Был и аналогичный эпизод с другим участником Русских сезонов в Париже, композитором Скрябиным в 1907 г. Ему тогда не досталось контрамарок на концерты, и он предъявил Дягилеву претензию — почему тот не позаботился. Дягилев очень возмутился и ответил, что он не обязан, не подрядился обеспечивать контрамарками и билетами каждого в труппе. Не хворы и сами приобрести. На что Скрябин заявил: «Да как Вы смеете обращаться со мной подобным образом! Позвольте мне напомнить Вам, что я-то избранный представитель самого искусства, а вот Вы, Вам пре доставлена возможность баловаться на его окраине…. Но по мне, таким людям, как Вы, трудно обнаружить резон своего существования!» Дягилев на миг потерял дар речи, а потом только и смог произнести: «Подумать только, что Вы, Александр Николаевич, такое…» (Haskell 1935: 152–53). В Испании Дягилев близко общался с королем Альфонсом. Тот как-то спросил его: что же он сам делает в труппе — ведь он не дирижирует, не танцует, не играет на рояле. Дягилев ответил: «Ваше Величество, я — как вы. Я не делаю ничего, но я необходим» (Buckle 1979: 313).Гений и безумие: Вацлав Нижинский
1. Дневник сумасшедшего
За мировую славу всегда приходится платить, и нередко эта плата бывает непомерно дорогой. Звездный период, когда блистательный Нижинский покорял своим танцем лучшие сцены мира, продолжался у него всего 10 лет — с 18-летнего до 27-летнего возраста. Предшествующие 10 лет своей жизни (из первых 18) Нижинский готовился к этому восхождению, а когда звездный период оборвался, великий танцовщик впал в безумие и жил в этом состоянии еще 33 года, отделенный от своей громкой, частью скандальной славы и совершенно неприметный. Всем известно, что в свое звездное время он был любовником Дягилева, и все жалеют юношу — пришлось испытать унижение, хотя признают, что Дягилев приложил немалые усилия, энергию и уникальные способности, чтобы огранить талант Нижинского и вывести его на дорогу мировой славы. Возможно, этого бы не было без их необычной и зазорной любви, так что Дягилеву молчаливо прощают его порок и его проступок: ну, совратил юного артиста, но и поднял его к вершинам искусства. Зато юной венгерской красавице Ромоле фон Пульски, влюбившейся в молодого танцовщика и похитившей его у Дягилева, многие сочувствуют: она-то разрушила их порочную связь ради настоящей любви, вышла замуж за Вацлава Нижинского, воевала за него против своих собственных родителей, родила ему детей и была ему преданной и заботливой женой. Более того, именно на нее выпала ужасная доля жить десятки лет рядом с безумцем, поскольку очень скоро после их свадьбы Нижинский начал уходить в безумие, стал несносен и опасен. За что ей досталась такая беда? Ромола с честью несла свою тяжкую ношу (Nijinsky Т. 1991). Другие говорят, что Ромола сама во многом виновата, что беда была в значительной степени создана ее собственными руками. Они обвиняют Ромолу в бесцеремонной погоне за славой и богатым мужем (она была знатного рода, но бесприданница). Обвиняют в том, что она бездумно разрушила те связи, на которых держалось искусство Вацлава и без которых он оказался бессилен. Она заставила его самого возглавить труппу, к чему у него не было ни сил, ни способностей, и непосильные напряжения психически сломили его. А Ромола еще и поддерживала его зарождавшуюся манию преследования, убеждая его в том, что вокруг враги, тайные заговоры и подвохи, исходящие от Дягилева. Когда одумалась, было уже поздно. Так что ей сочувствуют — и не прощают (Лифарь 1993, 1994). Она трогательно и подвижнически заботилась о нем, сошедшем с ума, кормила и поила, возила его по курортам и святым местам, по врачам и божьим целителям, добывала средства, а добыть их одинокой женщине без профессии было крайне нелегко. Одним из способов добыть деньги была публикация биографических очерков о знаменитом муже (Nijinsky R. 1937; 1952: русск. перев. Нижинская 1996). Но это средство было исчерпано, и Ромола решилась опубликовать Дневник Вацлава (Nijinsky V. 1936/37), который тот стал писать, когда безумие стало охватывать его. Это уникальный документ, захватывающе интересный и важный для психиатров и психологов, даже если бы автором не был великий артист. Но Ромола внесла в Дневник целый ряд изменений, чтобы сделать его приличнее, не столь унизительным для автора и членов его семьи, легче читаемым. Она убрала многие повторы, исправила или выкинула ряд малопонятных предложений, вычеркнула почти все относящееся к сексу, поменяла последовательность основных частей, изменила многие трактовки событий и т. д. Дневник утратил документальность. Это был уже не столько его, сколько ее текст, в чем-то приближающийся к фальсификации. В этом тексте духовно богатый герой сосредоточен на Боге, матери, жене и дочери, его антипод — злобный, порочный и коварный Дягилев, который присваивал его искусство, сковывал его развитие и которого он по-христиански прощает. Из так отредактированных мемуаров совершенно не понять, что его привязывало пять лет к Дягилеву, почему с Дягилевым сопряжен его взлет и почему искусство Нижинского, искусство этого святого, было столь сексуально. В этом виде Дневник не раз переиздавался, переведен на французский в 1953 г., а с французского — на русский (Нижинский 1995), и служил материалом для биографов. Но в 1978 г. Ромола умерла. Уже в 1979 г. оригинал дневника был продан с аукциона Сотби. Из дочерей Нижинского старшая, Кира, также имела умственное расстройство и умерла в 1998 г. А у Тамары французы купили права на издание и в 1995 г. издали полный текст подлинного дневника в переводе на французский (дневник-то писался по-русски с примесью французских и польских фраз). В 1999 г. американцы издали перевод с французского на английский (Nijinsky 1999). Но в свое время муж Киры (последний любовник Дягилева) композитор Игорь Маркевич сделал фотокопии с оригинала. Копии с этих копий его сын Вацлав, внук Нижинского, предоставил Г. Ю. Погожевой, которая решила издать их в России. В 2000 году они были изданы (Чувство 2000). Это аутентичный текст, хотя, видимо, копии с копий были не совсем полны: письмо Дягилеву в этом издании отсутствует. Текстом Погожевой я и воспользовался, кое-где восполняя его по американскому переводу (так, письмо Дягилеву приходится передавать в обратном переводе с английского). Такого источника для проверки и корректировки не имели даже самые подробные и авторитетные биографии Нижинского, русские (Красовская 1974) и иностранные (Buckle 1988). Это, собственно, не дневник, а мемуары, не разбитые по дням и неорганизованные записки на растрепанныхтетрадях. Они были спрятаны Нижинским среди альбомов дочери, там и найдены. Текст написан сумасшедшим, шизофреником и несет на себе все признаки этого. Язык примитивен. Ну, это в большой мере, видимо, вообще свойственно Нижинскому, как видно будет из дальнейшего. Но вот что речь перебивается частыми повторами, это уже признак психического расстройства — рассказчик все время возвращается к одному и тому же. Он злоупотребляет созвучиями, которые кажутся ему удачными, но на самом деле бессмысленны. Он застревает на последних словах фразы и уже не продолжает суть речи, а развивает эту последнюю деталь, а затем, после этого шага, снова задержка на новых последних словах и новый перескок — опять от последней детали уже нового куска текста. При этом основание для перескока — не связь по основному смыслу, а маловажная для него аналогия. Так что нить повествования все время теряется. «Я не индюк в стальных перьях. Я индюк с Божьими перьями. Я булюкаю, как индюк, но я понимаю, что я булюкаю. Я буль-буль дог, ибо у меня глаза большие. Я буль-буль, потому что люблю англичан. Англичане не есть Джон Буль. Джон Буль наполнен в животе деньгами, а я кишками. У меня кишки здоровые, ибо я не ем много денег» (Чувство 2000: 82). Есть сообщения о галлюцинациях — голосах, которые слышны автору. Рассказчик явно страдает манией величия («я — бог»), манией преследования, им манипулируют, явления природы имеют к нему прямое отношение и т. п. У него раздвоение личности: он Нижинский, и он Бог, и его «я» то и дело соскальзывает с одной персоны на другую: во внутреннем диалоге то он обращается как Бог к Нижинскому («я» — Бог, «ты» — Нижинский), то как Нижинский к Богу (см. Чувство 2000: 94–96). Но память его еще жива, он вытаскивает из забытья факты и, хотя их интерпретация навеяна последующими событиями и настроениями последних лет, да и безумием, сами факты излагаются бесхитростно. Часто это факты, о которых человек в здравом уме промолчал бы. Проступают, например, многие подробности сексуальной сферы жизни, неприглядные мотивы поступков. Но в некоторых эпизодах Нижинский выступает не столь наивным, не столь примитивным и… не столь извращенным, каким его рисовали биографии по старым источникам. Да, пожалуй, и не столь нормальным. Можно сказать, перед нами во многом новый Нижинский.2. Диковатый прыгун
Вацлав Нижинский родился в 1890 г. в Киеве в семье потомственных польских артистов, танцовщиков, перебравшихся из Польши в коренную Россию и колесивших с труппой по стране. Так получилось, что ведущие артисты балета России были тогда не собственно русскими: Кшесинская — полька, Анна Павлова — наполовину еврейка, учитель Нижинского Легат — из французов. Вацлав был крещен в католическую веру и с матерью разговаривал по-польски. Позже в Дневнике писал: «Я поляк по матери и отцу, но я русский человек, ибо я там воспитан. Я люблю Россию». Но писал с большим количеством полонизмов. Все время по-польски проставлял «есть»: «Я есть Россия» (Чувство 2000: 101). И отец и мать были отличными танцовщиками, отец еще и чрезвычайно красив. От него унаследованы высокие скулы и раскосые глаза, за которые Вацлава прозвали в классе «Япончиком». Видимо, к польской была примешана и татарская кровь (эта примесь в прежние века шла в польские владения из Крыма). Отец оставил жену и ушел из семьи. Вацлав учился плохо, был тугодумом, не имел друзей. Младшая сестра Бронислава делала за него домашние задания. Он отставал по истории, французскому и математике. Экзамен по истории провалил дважды и сумел сдать только после того, как ему заранее рассказали, какие вопросы зададут. Был не очень начитан, и этот недостаток культурности остался на всю жизнь. Потом в труппе его прозовут «болваном». Сам себя он сравнивал с «Идиотом» Достоевского. У Хаскелла приводится рассказ Озермета (сотрудника труппы Дягилева) о разговоре Нижинского с артистом, погруженным в чтение: «Все книжки? Это что за книги? А, Ньютон. Это что, тот, который стоял под деревом, увидел, как падает яблоко, и это дало ему идею электричества?» (Haskell 1935). В Дневнике Вацлав пишет: «Что человек произошел от обезьяны, не Ницше говорил, а Дарвин. Я спросил жену утром, ибо мне стало жалко Ницше… Дарвин человек ученый. Моя жена мне сказала, что он писал ученые вещи по-французски…»(Чувство 2000: 59). Над Вацлавом в школе посмеивались, и он часто дрался. Его постоянная впоследствии спутница Карсавина признавала: «У Нижинского не было дара ясно мыслить и еще менее ясно выражаться». По словам Лифаря, «Нижинский был беден интеллектом». Как объяснял Лифарь, «Нижинский был рожден великим танцором, всем телом чувствовавшим и переживавшим всякое душевное движение с инстинктом, заставлявшим его быть выше всех в танце. Но природа, щедро одарившая его одним даром, отказала ему во всех других своих дарах; он не обладал ни волей и способностью сопротивления, ни большой оригинальностью мысли, ни умением выражать себя иначе, чем в танце, ни музыкальностью». Узнав его, Игорь Стравинский ужасался: «Его невежество в самых элементарных музыкальных понятиях было потрясающее. Несчастный юноша не умел ни читать нот, ни играть на инструменте». Объяснения Стравинского — он воспринимал с необыкновенным трудом» (Лифарь 1993: 190). У него, как у его отца, бывали приступы бешенства. Поэтому психиатр Оствальд, написавший его медицинскую биографию, считает, что его душевная болезнь была генетически обусловленной, наследственной и лишь дремала до поры до времени как предрасположенность, а когда сложилась обстановка психической напряженности, болезнь проявилась. Старший брат Станислав смолоду был слабоумным, и его сдали в приют, где он и умер. Мать позже уморила себя голодом. Дочь Кира тоже получила душевную болезнь (Ostwald 1991). Еще в Петербурге Дягилев лечил Нижинского у царского врача Боткина, и тот видел грозный симптом в том, что у Нижинского были недоразвиты (не выделены) гланды (Лифарь 1993: 194, прим.). В обществе Вацлав чувствовал себя неловко и не знал, чем себя занять: сплетал пальцы, грыз ногти или играл со своими туфлями. Если его окликнуть, взглядывал исподлобья, как если вот сейчас боднет вас в живот Он неохотно разговаривал с людьми, краснел, путался и замолкал. И вообще норовил поскорее закончить разговор и скрыться. Но танцевал он лучше других. Карсавина вспоминает, что как-то зашла в класс, когда мальчики делали экзерсис «и не поверила своим глазам: какой-то мальчик одним прыжком поднялся над головами своих товарищей, словно повис с воздухе». Это был Нижинский (Карсавина: В. Нижинский 1995: 195). Способность зависать в воздухе, как бы парить, называется в балете баллоном. Нижинский прославился не только баллоном, но и потрясающей выразительностью танца. Странно. Природой он вроде не был создан для того, чтобы быть сказочным принцем на балетной сцене. Невысокого роста, с покатыми плечами и длинной шеей, с очень раздутыми бедрами, он был заведомо обречен на второстепенные роли шутов и чертей, но его сильные ноги обеспечивали ему колоссальную прыгучесть, и он изумительно тонко чувствовал драматизм содержания. А его татарское лицо дышало диковатой красотой и странно зачаровывало публику. И, видимо, с самого начала зрителей захватывала исходящая от него скрытая сексуальность. Как видно из подлинного Дневника, эта сексуальная аура имела за собой реальные основания. В школьные годы мальчик усиленно занимался мастурбацией. Он называет Николая Исаева своим «другом по онанизму». «Я его любил, но чувствовал, что то, чему он меня научил, есть скверная вещь. Я страдал, когда мне хотелось. Я хотел всякий раз, когда ложился в постель» (Чувство 2000: 149). Компаньоном по онанизму был не только Коля Исаев, но и собака Цитра. «Эта собака была хорошая. Я ее испортил. Я ее приучил заниматься онанизмом об мою ногу. Я ее приучил уставать на моей ноге. Я любил эту собаку. Я проделывал эти вещи, когда был мальчишкой. Я то же делал, что собака, но рукой. Я уставал одновременно» (Чувство 2000: 180). «Исаенко (это учитель французского языка — Л. К.) заметил, что я занимаюсь онанизмом, но ничего мне не говорил ужасного. Я заметил, что в школе никто не знает о моей привычке, и поэтому продолжал. Я продолжал до тех пор, пока не заметил, что мои танцы начинают быть хуже…» (Чувство 2000: 149–150). Он начитался и наслушался обычных тогда страхов перед онанизмом. «Я знаю, что девушки и мальчики занимаются онанизмом. Я знаю, что женщины и мужчины вместе и порознь занимаются онанизмом. Онанизм развивает глупость. Человек теряет чувство и разум. Я терял разум, когда занимался онанизмом. Мои нервы были подняты. Я весь дрожал от лихорадки. У меня болела голова. Я знаю, что Гоголь был онанист. Я знаю, что онанизм его погубил… Я большой онанист» (Чувство 2000: 162). Вот поэтому: «Я стал бороться со своей похотью. Я себя заставлял. Я говорил: «Не надо». Я учился хорошо. Я бросил онанизм. Мне было около 15 лет» (Чувство 2000: 150). Но, по-видимому, борьба не была успешной. Потому что и в 19 лет перед ним стоит та же проблема. Только решение на сей раз более ограниченное. «Я был нервен, ибо много занимался онанизмом. Я занимался онанизмом, ибо я видел много красивых женщин, которые кокетничали. Я ярился на них и занимался онанизмом. Я заметил, что у меня стали выпадать волосы. Я заметил, что зубы у меня стали гнить. Я заметил, что я нервен и стал хуже танцевать. Я стал заниматься онанизмом один раз в 10 дней… Я имел (полонизм, вместо русского «Мне было». — Л. К.) не более 19 лет, когда стал заниматься онанизмом раз в 10 дней. Я любил лежать и воображать о женщинах, но после уставал и решил яриться на себя самого. Я смотрел на свой хуй стоячий и ярился. Мне не нравилось, но я думал, что «раз я завел машинку, надо кончить». Я кончал быстро. Я чувствовал, что кровь приливала к голове» (Чувство 2000: 226). Итак, он по природе не гомосексуал, он думает о женщинах, когда мастурбирует, но наличие «компаньона по онанизму», а также нарциссическая идея сделать себя самого объектом своей страсти и привычка смотреть с вожделением на собственный член показывают, что и некоторые гомосексуальные задатки у него изначально были.3. Посвящение в мужчины
Восемнадцати лет, в 1908 г., Нижинский выпущен из Балетной школы с отличием. На выпускном спектакле успех был ошеломительный, юношу взяли в Мариинский театр, и его тотчас наметила себе в партнеры прима-балерина, знаменитая Кшесинская, бывшая любовница наследного принца (а теперь уже царя). Юноша сразу же попал в премьеры — минуя кордебалет и разные ранги солистов. С ним танцуют и другие прима-балерины — Анна Павлова, Карсавина. Жалование, правда, у него небольшое — 65 рублей, но у восходящей звезды берут уроки дети миллионеров и платят по 100 рублей за урок. А Кшесинская взяла его с собой танцевать в Царское Село, где им заплатили за лето по 2000 рублей. Вацлав Нижинский. 1909 г.
Вацлав Нижинский. 1909 г.
В это время юноша и позволил себе некоторые вольности. Со своим соучеником и другом Анатолием Бурманом они побывали у проститутки. «Мы пришли к ней, и она нам дала вина. Я выпил вина и был пьян… После вина у меня закружилась голова, но я не потерял сознания. Я ее употребил. Она меня заразила венерической болезнью (гонореей. — Л. К.)». Вацлав описывает, как ходил к доктору, боясь людей и думая, что каждый знает, что с ним. «Мне было 18 лет. Я плакал. Я страдал. Я не знал, что мне делать. Я ходил к доктору, но он мне ничего не делал. Он мне велел купить спринцовку и лекарство. Он велел мне впускать это лекарство в член. Я его впускал. Я вгонял болезнь глубже. Я заметил, что у меня стали яйца пухнуть». Обратился к другому доктору. Тот поставил пиявок. «Пиявки мне сосали кровь. Я молчал, но ужасался. Мне было страшно… Пиявки шевелились, а я плакал и плакал. Я лежал долго в постели. Я не мог больше…. Я испугался и решил покончить во что бы то ни стало. Я болел больше 5 месяцев этой болезнью. … Я боялся, что моя мать узнает. Познакомился с человеком, который мне помог в этой болезни» (Чувство 2000: 187–188). То ли в доме Кшесинской, то ли через актера Александрова он познакомился с молодым (30-летним) князем Павлом Львовым, богатым и веселым гомосексуалом, блондином с большими голубыми глазами и моноклем. Тот стал приглашать его на вечера и балы травести, где Нижинский блистал в женском наряде. Вот князь и помог, когда Нижинский заболел. Бронислава рассказывает, какую помощь семье князь Львов оказал во время болезни Вацлава: пригласил доктора, приставил к Вацлаву слугу и велел повару готовить для больного специальную пищу (Nijinska В. 1981: 293–94). Любовь к Дягилеву Нижинский впоследствии отрицал — на нее отбрасывала тень их последующая ссора, — зато в дневнике признается беззаветная любовь к князю Львову, хотя тот готов был уступить Нижинского кому-либо из своих друзей. «Я познакомился с князем Павлом Львовым, который познакомил меня с Графом Польским (опять полонизм — прилагательное после существительного. — Л. К.)…. Этот граф (это Тышкевич из Вилъны. — Л. К.) купил мне пианино. Я не любил его. Я любил князя Павла, а не графа» (Чувство 2000: 137). «Он меня любил как мальчика мужчина. Я его любил, ибо знал, что он мне хочет хорошего. Этого человека звали князь Павел Львов. Он писал мне влюбленные стихи. Я ему не отвечал, но он мне писал. Я не знаю, что он в них хотел сказать, ибо я их не читал. Я его любил, ибо чувствовал, что он меня любит. Я хотел с ним жить всегда, ибо я его любил (Чувство 2000: 188)». Таким образом, князь Львов легко и без всякого сопротивления получил любовь Нижинского, который, хотя и вожделел женщин, отдался молодому князю с охотой — он был к этому подготовлен своим нарциссизмом. Вероятно, сказывалась и вся атмосфера светского общества, снисходи тельная к знатным повесам. Все ведь знали о гомосексуальности Чайковского, великих князей К. Р. и Сергея Александровича, читали стихи Кузмина. Кроме того, существенна была и материальная сторона дела — стать фаворитом вельможи означало богатые подарки, вхождение в светское общество, продвижение вверх.
4. Знакомство с Дягилевым
 Дружеский шарж Ж. Кокто. 1912 г. Дягилев и Нижинский в костюме «Шехеразады»
Дружеский шарж Ж. Кокто. 1912 г. Дягилев и Нижинский в костюме «Шехеразады»
Увидав Нижинского в балете, Дягилев упросил Львова познакомить их. Князь свел их. Нижинский: «Он меня заставлял изменять с Дягилевым, ибо думал, что для меня Дягилев будет полезен. Я познакомился с Дягилевым по телефону. Я знал, что Львов меня не любит, а поэтому его бросил. Львов Павел хотел продолжать со мною знакомство, но я понял, что нечестно изменять одному. Я жил с Дягилевым Сергеем» (Чувство 2000: 188). В Дневнике Нижинский уверяет читателя (и себя), что с самого начала невзлюбил Дягилева. «Я не любил Дягилева, а жил с ним. Я ненавидел Дягилева с первых дней с ним знакомства, ибо знал силу Дягилева. Я не любил силу Дягилева, потому что он ею злоупотреблял. Я был беден. Я зарабатывал 65 рублей в месяц. 65 рублей в месяц мне не были достаточны для прокормления моей матери и себя. Я нанимал квартирку с тремя комнатами, которые стопчи 35–37 рублей в месяц… Львов меня познакомил по телефону с Дягилевым, который меня позвал в отель Европейская гостиница, где он жил. Я ненавидел его за его голос, слишком уверенный, но пошел искать счастье. Я нашел там счастье, ибо я его сейчас полюбил (полонизм — в польском tenczas — тотчас, сразу же. — Л. К.). Я дрожал, как осиновый лист. Я ненавидел его, но притворился, ибо знал, что моя мать и я умрем с голоду. Я понял Дягилева с первой же минуты, а поэтому притворялся, что я согласен на все его взгляды. Я понял, что жить надо, а поэтому мне было все равно, на какую идти жертву» (Чувство 2000: 137). На этом субъективном изложении, конечно, сказывается вся история их ссоры, сквозь которую он теперь смотрит на начало их отношений. Это вынуждает его искать неприятные черты в Дягилеве и заявлять, что видел их с самого начала. Нижинский даже не замечает, что тем самым рисует себя в весьма неприглядном свете — как беспринципного и циничного притворщика, готового продавать свое тело за выгоды ненавистному и непривлекательному немолодому господину. Но сквозь эту наносную картину просвечивает другое отношение к Дягилеву в первые годы их дружбы. «Я боялся жизни, ибо был очень молод. Я уже женат пять с лишним лет, я жил с Дягилевым тоже 5 лет. Не могу считать. Мне теперь 29 лет. Я знаю, что мне было 19 лет, когда я познакомился с Дягилевым. Я любил его искренне, и когда он говорил, что любовь к женщинам есть вещь ужасная, то я ему верил. Если я ему не поверил, я бы не мог делать то, что я делал» (Чувство 2000: 144). Нижинского очень тревожило то, что он у Дягилева не первый, а те, кто был до него, получили отставку. Не ждет ли и его та же участь? Он вспоминал Маврина, который, по его словам, «был на службе у Дягилева пять лет» и спрашивал Дягилева: «Отчего ты бросил человека, который тебя любил?» Дягилев отвечал, что это не он оставил возлюбленного, а тот его покинул ради одной танцовщицы. Но Нижинский не верил в эту «выдуманную историю». «Я знаю этого человека, который жил с Дягилевым тем же способом, что и я. Я люблю этого человека. Этот человек не любит меня, ибо думает, что я ему отбил работу у Дягилева. Я знаю, что Дягилев научил этого человека любить вещи искусства… Дягилев ему покупал вещи искусства. Этот человек любил Дягилева так же, как и я» (Чувство 2000: 134). «Тем же способом, что и я». А о характере этой любви сказано: «Дягилев любил этого человека физически» (Ibid. 136). То есть так любил и Нижинский. Это больше похоже на истину. Ведь встретились юный артист, туповатый и застенчивый, сознававший свою недоразвитость и страдавший от нее, и великолепный денди в полном расцвете сил (36 лет), блестяще и разносторонне образованный, распоряжающийся организацией спектаклей и выставок и готовый сыпать деньгами. При этом вельможный меценат изъявляет свою любовь к юноше (в общем уже знакомому с подобными вещами) и готовность помогать ему в жизни, делиться с ним знаниями и развивать его. Словом, предлагает любовь и дружбу. Похоже, что юноша действительно ответил ему искренней любовью. Он видел в Дягилеве не просто богатого господина и хозяина, а свою удачу, свое будущее, свой взлет — все, чего ему не хватало в жизни. В том месте Дневника, где написано «Я дрожал, как осиновый лист», Ромола отредактировала текст очень тонко. Перед этими словами она проставила: «Я тут же позволил ему любить меня» (в русском переводе с английского: «заняться со мной любовью»). В подлиннике было: «Я его сейчас (=тотчас. — Л. К.) полюбил». По прямому смыслу — ответил чувством. Конечно, можно подвергнуть сомнению такой смысл. Нижинский использовал глагол любить и для обозначения физического аспекта любви, сношения. В данном контексте скорее «полюбил» — в смысле «принялся любить», «стал (физически) любить». Тонкость редактирования в том, что Ромола, почти не меняя содержания, заменила активное действие (то есть «принялся любить») пассивным согласием («позволил ему любить меня»). А это очень существенно для определения, было чувство или нет. Ведь если юноша реагировал только пассивным согласием, то можно и симулировать чувство, притвориться. А если «принялся любить», то для этого нужна эрекция, а чтобы ее вызвать, требуется хоть какой-то минимум сексуального возбуждения, а значит, приязни. Без этого Вацлав «не мог бы делать то, что я делал». У Ромолы получается, что юноша дрожал, как осиновый лист, от страха или отвращения. А на деле он, видимо, дрожал от волнения и сексуального возбуждения. Подлинная раскладка оказывается странной для понимания отношений Дягилева с Нижинским. В общем представлении это были отношения мужчины с мальчиком, известные со времен древних греков. И Нижинскому молчаливо отводилась роль мальчика — как было у него с князем Львовым. Это общее представление отражено у Ротикова: «не только Вацлав был идеальным «пассивом», но на его пути появился образцовый «актив» в лице Дягилева» (Ротиков 1998: 126). Но это верно только в психологическом смысле, отнюдь не в физическом. Оказывается, вельможный Дягилев выступал в роли девушки или, если использовать греческие понятия, мальчика, предоставляя роль мужчины Нижинскому. Это пристрастие Дягилева видно и по другим местам Дневника, «… та жизнь, о которой Дягилев мечтал… Дягилев хотел иметь двух мальчиков. Он мне не раз говорил об этой цели… Дягилев хотел одновременно любить двух мальчиков и хотел, чтобы эти мальчики любили его» (Чувство 2000: 227). «Много раз Дягилев хотел, чтобы я любил его, как если бы он был женщиной. Я делал это. Я отказываюсь жалеть об этом» (цит. по: Kopelson 1997: 21). Видимо, бывали, однако, и прочие виды сексуальных контактов. Позже в Дневнике Вацлав запишет: «Я знаю людей, которые лижут. Я сам лизал моей жене. Я плакал, но лизал. Я знаю ужасные вещи, ибо я научился у Дягилева. Дягилев меня научил всему. Я был молод и я делал глупости…» (Чувство 2000: 181). Мать должна была догадываться об их отношениях и не возражала. Она была в Париже с ними. Вечером сын говорил ей по-польски «Dobranoc!» («Доброй ночи!») и уходил ночевать с Дягилевым. Отношения между Дягилевым и его протеже поначалу долго определялись взаимным пониманием ролей: Дягилев — лидер, воспитатель и спонсор, Нижинский — ведомый, воспитанник и протеже. Дягилев возил Нижинского по музеям и спектаклям, старался развить его, но эти усилия пропадали впустую. «Нижинский оставался музыкально глухим, — пишет Лифарь (1993: 191–192). — Нижинский все свое время проводил в обществе Дягилева, громадная фигура Дягилева заслоняла от Нижинского весь мир, но это постоянное общение с таким исключительным человеком не дало бедному интеллекту Нижинского ничего, кроме нескольких фраз, которые он повторял чаще некстати, чем кстати». Признавал это и сам Нижинский: «Я не понимал Дягилева. Дягилев меня понимал, ибо у меня ум был очень маленький. Дягилев понял, что меня надо воспитывать, а поэтому надо, чтобы я ему поверил» (Чувство 2000: 134). «Я пришел к убеждению, что лучше молчать, нежели говорить глупости. Дягилев понял, что я глуп, и мне говорил, чтобы я не говорил. Дягилев умница. Василий, человек, который ему прислуживает, говорил, что у Дягилева нет ни гроша, но ум его есть богатство (опять полонизм. — Л. К.)» (Чувство 2000: 90). Нижинский очень заботился о том, чтобы сохранить расположение Дягилева и угодить ему. «Я работал много над танцами, а поэтому себя чувствовал всегда уставшим. Но я притворялся, что я весел и не устал, чтобы Дягилев не скучал» (Ibid. 138)
5. Петербург — Париж
Ромола пишет, что идею вывезти балет в Париж подсказал Дягилеву Нижинский. Так это или не так, трудно проверить, а общая картина их раннего знакомства говорит скорее против этого допущения. Но Нижинский был в числе ангажированных ехать в Париж — наряду с Анной Павловой и Шаляпиным. Он танцевал там в ряде балетов первого Русского сезона (1909 год): «Павильон Армиды», «Сильфиды» («Шопениана»). Публика бесновалась, когда он делал антраша-дис (десятикратное антраша) — никто не перекрещивал ноги в полете больше шести — восьми раз. Он вернулся в Петербург мировой знаменитостью. Во второй сезон (1910 г.) Парижу были представлены «Шехеразада», «Жар-птица», «Карнавал» и «Жизель». «Карнавал», в котором Нижинский танцевал Арлекина, потом Ромола видела в Будапеште. Она описывает свое впечатление так (она вообще отлично пишет): «Вдруг на сцену вылетел стройный и гибкий, как кошка, Арлекин. Хотя лицо его было скрыто раскрашенной маской, выразительность и красота тела заставляли осознать, что перед вами выдающийся танцовщик. Словно разряд электрического тока пробежал сквозь аудиторию…. Невесомость, непередаваемая отточенность движений, фантастический дар подниматься и застывать в воздухе, а потом опускаться вдвое медленнее вопреки всем законам притяжения сразу же позволили ему обрести магическую власть над публикой…. Забыв обо всем, зрители в едином порыве поднялись с мест…» (Nijinsky 1996: 4). Т Карсавина и В. Нижинский. «Видение розы»
Т Карсавина и В. Нижинский. «Видение розы»
По возвращении в Петербург ему стали поручать в Мариинке все больше ролей и все более ответственные роли. Одной из них была роль принца в «Жизели». Нижинский вышел на сцену в костюме, созданном для него Бенуа и опробованном в Париже — в белом шелковом трико без обычных на императорской сцене трусиков под ним (бандажа или «плавок» тогда еще в театре не носили) и в черном бархатном жилете, который был Дягилевым еще и укорочен на пять сантиметров. Создавалось впечатление едва прикрытой наготы. Директор театра бросился за кулисы и потребовал немедленно сменить бесстыдный костюм, ссылаясь на негодование императрицы-матери («недостаточно одет» — якобы сказала она). Нижинский отказался и был назавтра же уволен. «Что ж, пойду к Дягилеву», — сказал он. Дягилев набирал новую труппу для следующего сезона в Париже. Так Нижинский оказался оторван от Мариинского театра, а вместе с тем — от Петербурга и России. В 1911 г. он уехал в Париж — и навсегда. В Париж повезли «Видение розы», где Нижинский последним прыжком в окно исчезал со сцены, и, так как его опускание на руки коллег) происходило за сценой, у публики оставалось впечатление, что он улетел вверх. Его костюм, имитирующий лепестки розы, приходилось к каждому спектаклю обновлять — позже выяснилось, что слуга Дягилева, приставленный к Нижинскому, обстригал их, продавал поклонницам и выстроил на вырученные деньги дом. Из артистической уборной исчезало и нижнее белье Нижинского — его попросту крали. Критики, однако, отмечали некоторые женские черты в выступлениях Нижинского — плавные движения рук, декольте в костюме, танец на пуантах. Фурор произвел и «Петрушка» Стравинского — в заглавной роли проявились драматические способности Нижинского.
 В. Нижинский — Фавн.
В. Нижинский — Фавн.
Сара Бернар, присутствовавшая на спектакле, сказала: «Мне страшно, я вижу величайшего актера в мире!» (Нижинская 1996: 57). Одежду теперь Нижинскому шил портной принца Уэльского. Дягилев дарил своему любимцу перстни с сапфирами от Картье, Кокто подарил ему золотой карандаш. Отдых Дягилев с Нижинским проводили в Венеции, на Лидо, где Дягилев, боявшийся воды, занавешивал окна отеля, выходившие на лагуну. В 1912 году Дягилев решил выпустить Нижинского как хореографа. Для первого опыта был отобран балет «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси, и на эту двенадцатиминутную миниатю ру Дягилев отвалил Нижинскому 120 репетиций! Такого количества главному хореографу Фокину не давалось. Фокин отнесся к этому с естественной ревностью. Раздражали его и новации Нижинского. Новаторство Нижинского состояло в том, что в балете, собственно, не было танца. Его заменили угловатые движения, имитирующие древнеегипет ские фрески и росписи: ноги и голова в профиль, тело фронтально. Фавн — это из древнегреческой мифологии, и при подготовке балета Бакст с Нижинским пошли в музей смотреть древних греков, но Нижинский перепутал зал и скопировал не греков, а египтян. Ноги опускались на землю не с пальцев, а с пятки. Танцевать так было очень трудно. Но основой скандала явился один момент в исполнении заглавной роли самим Нижинским. Фавн, покрытый пятнистой шкурой-трико, с рожками и хвостиком, с гирляндой на чреслах, похотливо следит за резвящимися нимфами, а когда они убегают, хватает шарф, который одна из нимф уро нила, и прижав его к телу, опускается на него животом, подводит руку под себя и делает конвульсивное дерганье тазом. Только один легкий толчок, но весьма прозрачный намек на мастурбацию. В публике творилось нечто неописуемое. Все повскакали с мест. Одни бешено аплодировали и кричали бис, другие свистели и протестовали. Дягилев велел повторить балет. Неистовство публики возобновилось. Назавтра в газетах мнения критиков разделились. Против выступила влиятельная газета «Фигаро». Ее издатель и редактор Гастон Кальмета выразил протест: «Тот, кто говорит об искусстве и поэзии применительно к этому спектаклю, смеется над нами…. Мы увидели фавна, необузданного, с отвратительными движениями скотской эротики и совершенно бес стыдными жестами. И. все. Заслуженные свистки сопровождали чересчур экспрессивную пантомиму похотливого животного, омерзительного спереди и еще более омерзительного в профиль» (Нижинская Р. 1996: 73). Полиция нравов запретила спектакль, но, явившись на спектакль, не посмела сорвать его. В защиту «Фавна» в газете «Ле Матэн» выступил великий скульптор Роден. По его мнению, Нижинский «обладает красотой античных фресок и статуй; он — идеальная модель, по которой тоскует каждый художник и скульптор. Можно подумать, что Нижинский превращается в статую, когда он лежит на скале, вытянувшись во весь рост, согнув ногу, приложив флейту к губам, и ничего не может быть более волнующего, чем его движение в конце акта, когда он бросается на покрывало, сброшенное одной из нимф, и страстно его целует» (Ibid.). Роден и сам захотел лепить Нижинского, но когда тот разделся донага в студии Родена, скульптор отказался от этой идеи: пропорции Нижинского оказались не для статуи: «Он посмотрел на мое голое тело и нашел его неправильным, а поэтому зачеркнул свои кроки. Я понял, что он меня не любит, и ушел…» (Чувство 2000: 255). По другим сведениям, Дягилев их застал отдыхающими на диване и прервал сеансы.
 И. Стравинский и В. Нижинский.
И. Стравинский и В. Нижинский.
Фокин покинул Русский балет Дягилева, и Нижинский остался единственным хореографом. Он поставил «Игры» и «Весну Священную» Стравинского. В «Играх» все происходит на теннисном корте. Юноша ухаживает за девушкой, потом за ней и ее подругой сразу, а потом подруги обмениваются ласками. Любовь оказывается игрой, в которой и пол неважен. «Весна» имеет предметом славянское язычество. В «Весне» не только танец Нижинского (носками внутрь и с разрушением ансамбля, весь из частностей), но и музыка Стравинского были далеки от традиционных. Публика, привыкшая к мелодиям и четкому ритму, сначала не поняла, что происходит, полагая, что присутствует при настройке инструментов, а потом принялась возмущаться по поводу разрушения музыки, свистеть, топать ногами и даже драться. Дягилев говорил, что публика еще одумается, все поймут, что это великое произведение. Но в глуби не души был озадачен, более того, поколеблен в своей вере в хореографические и педагогические способности Нижинского. Репетиции Вацлава проходили с гораздо большими трудностями, чем работа Фокина. Артисты не могли понять его. Да понимал ли он сам, чего добивался? Всё ему подсказывали Дягилев, Бакст и Стравинский. Бакст не только рисовал костюмы и декорации, но и указывал малейшие хореографические жесты. Дягилев присутствовал на всех репетициях, и после каждого такта Нижинский поворачивался к Дягилеву и спрашивал: «Так, Сергей Павлович? Ну, а теперь что?» (Лифарь 1993: 192). И после всего этого — провал…
6. Разлад
Постепенно между Дягилевым и Нижинским стал намечаться разлад. Этот разлад имел несколько оснований. Во-первых, чисто сексуальное, во-вторых — финансовое, в-третьих — творческое. Что могло бы отвратить Дягилева от Нижинского в сексуальном плане? Дягилеву несомненно было лестно, что его фаворитом является такой блестящий танцовщик, мировая знаменитость, в значительной мере им же самим сотворенная. Разговоры о двух мальчиках зараз показывают, однако, что в чисто сексуальном плане Дягилев мечтал о чем-то еще. Это была либо обычная тяга к обновлению репертуара, либо следствие неудовлетворенности сексуальными качествами Нижинского, которые недолго смогли удержать привлекательность. Некоторые биографы напоминают, что и князь Львов ведь недолго наслаждался Нижинским. Они гадают, не сказалось ли здесь слабое «оснащение» Нижинского. Биограф Нижинского и Дягилева Ричард Бакл рассказывает, что Бронислава Нижинская как-то сказала ему, смеясь и указывая на соответствующее место: «Вацлав очень маленький здесь!» (Buckle 1979: 550, п. 35). Другие это оспаривают. Известный (и скандальный) английский журналист и член парламента Драйберг пишет, что знал мужчину, делившего много лет комнату с Нижинским (кто бы это мог быть, кроме Дягилева?), и тот рассказывал журналисту, что Нижинский проделывал трюк «самофелляции». «Мой информант утверждает, что это было возможно для Нижинского без затруднений благодаря двум дарам, которыми он владел в совершенстве — благодаря гибкости тела танцовщика и пенису чрезвычайной длины» (Driberg 1977: 66). Ввиду спорности вопроса (кто знал гениталии Нижинского лучше — его сестра или мужчина, живший с ним долго в одной комнате?), оставим это без вывода. Гораздо легче судить о факторах, ставших отвращать юношу от Дягилева — помимо существенной разницы в возрасте. Во-первых, он получал от князя Львова более активную ласку и мог желать того же от Дягилева, а вместо того должен был исполнять другую роль, в которой он был более склонен действовать с женщинами. Во-вторых, возможно, ему просто не хватало секса. «Дягилев заметил, что я человек скучный, и поэтому меня оставлял одного. Я один занимался онанизмом и бегал за девочками» (Чувство 2000: 136). «Я любил парижских кокоток, когда был вместе с Дягилевым. Он думал, что я гулял, но я (в тексте ошибочно «он». — Л. К.) бегал к кокоткам. Я бегал по Парижу и искал дешевых кокоток, ибо боялся, чтобы не заметили мои поступки. Я знал, что у кокоток нет болезней, ибо они присматривались полицией. Я знал, что все, что я делаю, ужасно…. Все молодые люди делают глупости…. Я искал долго, потому что хотел, чтобы девушка была здоровая и красивая. Я искал иногда целый день и не находил, ибо мои искания были неопытны. Я любил несколько кокоток в день…. Мои привычки усложнились, и я стал бегать каждый день. Я знал ужасное место, где водятся кокотки. Это место называлось бульвар». Проститутки не обращали на него внимания, потому что он одевался победнее, чтобы его не узнали. Когда один человек, видимо, узнал его, он ужасно покраснел (Чувство 2000: 60–61). «Если моя жена все это будет читать, то сойдет с ума, ибо она мне верит» — он ведь «наврал ей», что не знал женщин до нее. Ну, он и ее обманывал с проститутками. «Я обманывал мою жену, ибо имел такое количество семени, что мне нужно было его выбрасывать. Я выбрасывал семя не в кокотку, но на постель. Я надевал гондон, таким образом не заразился болезнью Венеры» (Чувство 2000: 91). Вторым основанием разлада были деньги. «Я знал, что Дягилеву трудно. Я знал его страдания. Он страдал из-за денег. Он не любил меня, ибо я ему не давал моих денег в дело. Я накопил много тысяч франков. Дягилев у меня спросил один раз 40 000 франков. Я ему их дал, но я боялся, что он мне их не отдаст, ибо я знал, что у него их нет». Вацлав решил больше денег не давать и на новые просьбы Дягилева отвечал, что все отослал матери (Чувство 2000: 189). Третьей причиной разлада были творческие расхождения. Нижинский имел одну особенность, которая отмечается многими и в какой-то мере, возможно, связана с его надвигающейся болезнью. Он был упрямцем. В нем сидел дух противоречия. До поры до времени он подавлял свои внутренние возражения Дягилеву ввиду очевидной разницы в весомости. Но непрерывные восхваления вокруг Нижинского («бог танца!», «гений!») и действия самого Дягилева, продвигавшего своего фаворита — сначала во вторые хореографы, а затем на место первого вместо опытнейшего Фокина, — изменили поведение Нижинского. Он возомнил себя равноправным творцом, поверил в свою гениальность — что ему все дается и без большого ума, интуитивным пониманием. «Я думаю мало и поэтому все понимаю, что чувствую. Я чувство во плоти, а не ум во плоти. Я плоть.» (Чувство, 2000: 65). В. Нижинский в «Шехеразаде». Рисунок Ж. Кокто
В. Нижинский в «Шехеразаде». Рисунок Ж. Кокто
«Дягилев не любил меня, ибо я сочинял один балет. Он не хотел, чтобы я делал вещи, которые ему не по нраву. Я не мог соглашаться с ним во взглядах на искусство. Я ему говорил одно, а он мне говорил другое. Я часто с ним ругался. Я запирался на ключ, ибо наши комнаты были рядом. Я не впускал никого. Я боялся его, ибо я знал, что вся практическая жизнь — в его руках. Я не выходил из комнаты. Дягилев тоже оставался один. Дягилев скучал, ибо все видели нашу ссору. Дягилеву было неприятно видеть лица, спрашивающие, что такое с Нижинским. Дягилев любил показывать, что Нижинский его ученик во всем. Я не хотел показывать, что соглашаюсь с ним, а поэтому часто ругался с ним при всех… Я имел (полонизм. — Л. К.) не больше двадцати одного года. Я был молод, а поэтому ошибался… Я стал притворяться злым» (Чувство 2000: 136–137). Тут он стал очень наблюдательным в отношении недостатков Дягилева. Приближаясь к своему сорокалетию, Дягилев молодился и красил волосы — Нижинский это подметил, потому что наволочки чернели от краски. Подметил он и два вставных зуба спереди, которые тот трогал и шевелил своим языком, напоминая старуху. Прядь волос, которую Дягилев красил в белый цвет, чтобы отличаться от всех, пожелтела из-за того, что он купил плохую краску — Нижинский и это злорадно подметил. Из фатовства Дягилев вставлял монокль в глаз, говоря, что плохо им видит, — солгал, — злился Нижинский. «Тогда я понял, что он мне наврал. Я почувствовал боль глубокую. Я понял, что Дягилев обманывает меня. Я не верил ему и стал развиваться один, притворяясь, что я его ученик» (Чувство 2000: 143). Дальше — больше. «Я его стал ненавидеть открыто и один раз его толкнул на улице в Париже. Я его толкнул, ибо хотел ему показать, что я его не боюсь. Дягилев меня ударил палкой, потому что я хотел уйти от него. Он почувствовал, что я хочу уйти, а поэтому побежал за мною. Я бежал шагом. Я боялся быть замеченным. Я заметил, что люди смотрят. Я почувствовал боль в ноге и толкнул Дягилева. Мой толчок был слабый, ибо я почувствовал не злость на Дягилева, а плач. Я плакал. Дягилев меня ругал. Дягилев скрежетал зубами, а у меня на душе кошки царапали» (Чувство 2000: 143–144). Неоднократно Нижинский отмечает, что его якобы раздражала дягилевская страсть к мальчикам и что он не разделял этой страсти. Он не думает, что Дягилев заслуживает тюрьмы за это, но, чувствуется, что Нижинский, сознавая себя неподвластным этой страсти, ощущает свое превосходство над Дягилевым. Видимо, эта идея развилась у Нижинского вполне уже после его внезапного брака. Раньше она выглядела бы нелепой, поскольку от этой дягилевской страсти зависело благополучие Нижинского, и он никак тогда против нее не возражал. Конечно, это уже задним числом Нижинский выдвигает эпизоды разлада на первое место. В реальной жизни первых лет их союза эти эпизоды были нечастыми («однажды толкнул его» — у всех друзей случаются ссоры) и не определяли их быт. Все вокруг отмечали их близость, преисполненную радостей творчества и успехов, наслаждения богатством и славой. Лучшим свидетелем необъективности Дневника в этом вопросе является… Ромола. В ее биографии Нижинского сказано: «Привязанность Вацлава к Сергею Павловичу становилась все сильнее. Они были полными единомышленниками в вопросах искусства. Вацлав более чем охотно позволял себе быть мягким воском в руках Дягилева. Преданный ученик, он повсюду следовал за учителем до того момента, когда почувствовал, что больше в нем не нуждается, что перерос его (грубая ошибка обоих — его и Ромолы. — Л. К.). Он безоговорочно принимал его убеждения, его стиль жизни, полностью подпав под его влияние. Дягилев в свою очередь лелеял и баловал Вацлава, как мог, всемерно стараясь привязать к себе. Страстная любовь Дягилева к Нижинскому как к другу превосходила даже его безграничное восхищение им как танцовщиком. Они были неразлучны. Моменты раздражения и скуки, встречающиеся в подобных отношениях, никогда не наступали у них, поскольку оба были поглощены общей работой (как видим, не совсем так. — Л. К.). В сущности от Вацлава и не требовалось самопожертвования, чтобы сделаться любовником Сергея Павловича (снова передержка: он был им с самого начала. — Л. К.)… Интимные отношения с Дягилевым являлись просто доказательством его преданности и восхищения Сергеем Павловичем, выраженные тем способом, который доставлял Дягилеву наибольшую радость. В ранние годы их дружбы Нижинский был убежден, что взгляды Сергея Павловича на любовь единственно верные» (Нижинская Р. 1996: 48, 65). Но описанные в Дневнике эпизоды — это были ростки разлада, которые могут объяснить, почему Нижинский так легко поддался искушению порвать свою зависимость от Дягилева.
7. Брак
В 1913 г. Дягилев заключил очень выгодный контракт на поездку труппы в Южную Америку, но сам с ними на корабле не отправился: он панически боялся воды. Зато с труппой отправилась Ромола фон Пульски. Это была дочь венгерского аристократа польского происхождения. Ее прадед служил у Кошута, дядя был министром иностранных дел Австро-Венгрии (во время войны!), отец был крестником Гарибальди и основал Национальную галерею Венгрии, но из-за финансовых неурядиц застрелился. Мать ее Эмилия Маркуш считалась первой драматической актрисой Венгрии. Побывав на спектакле с участием Нижинского в Будапеште в 1910 г… Ромола сразу же влюбилась в него и решила во что бы то ни стало женить его на себе. Она отправилась к Дягилеву и упросила его взять ее в ученицы в балетную студию. Поскольку она была аристократкой и дочерью самой знаменитой актрисы Венгрии, Дягилев согласился. Оказавшись в труппе. Ромола выходила из себя, стараясь обратить на себя внимание Нижинского, но тщетно. Она мчалась обедать туда же, где обедали Дягилев с Нижинским, вертелась перед ними, заговаривала с Нижинским, но он не понимал по-французски, а она не знала ни слова ни по-русски, ни по-польски. Еще одна балерина, маленькая Мириам (Мими) Рамберг, тоже была влюблена в Нижинского, и приставленный к нему слуга Дягилева Василий Зуйков считал ее опасной. Как вспоминает Рамберг, «мы не могли репетировать и 20 минут без того, чтобы Василий не заходил со словами: «Вацлав Фомич, вы бы лучше открыли окошко. Очень душно здесь, это нехорошо для вас»… Но полчаса спустя он заходил снова и говорил: «Вацлав Фомич, знаете, я думаю, сейчас сквозняки, лучше бы вам закрыть окно». Он явно шпионил за нами, хотя шпионить было незачем, потому что как на женщину Нижинский не обращал на меня ни малейшего внимания… (Buckle 1979: 246). А Ромолу в расчет не принимали. Когда труппа отправилась без Дягилева в Америку, Ромола решила, что ее час настал. На палубе Нижинский не обращал на неевнимания и первым не здоровался. Он просто не узнавал ее. Барон Гинцбург (в английском фамилия читается как Гинзбург), российский еврей, банкир, помогавший Дягилеву деньгами, устроил бал-карнавал, и только Ромола и Нижинский оказались на балу без специальных костюмов. Нижинский это отметил. Когда ему в очередной раз представили Ромолу, он поинтересовался, что у нее за колечко. В это время он разговаривал с одной актрисой-полькой по-польски, и та перевела его вопрос. Ромола ответила, что это талисман из Египта, который мать дала ей на счастье. Нижинский по-польски сказал: «Так, przyniesie Pani szczȩście, napewnie» («Наверное, оно принесет Вам счастье»). На шестнадцатый день путешествия к ней подошел Гинцбург и сказал: «Ромола Карловна, поскольку Нижинский не может говорить с Вами сам, он просил меня узнать, согласны ли Вы выйти за него замуж». Ромола приняла это за злую шутку, расплакалась и убежала. Появился Нижинский и сказал на ломаном французском языке: «Mademoiselle, voulez vous — vous et mois?» («Мадемуазель, хотите — Вы и я?»). Она ответила: «Да, да, да!» По прибытии в Рио-де-Жанейро поехали с той самой полькой за обручальными кольцами. Знакомый с семьей Ромолы актер Больм отвел Ромолу на палубе для конфиденциальной беседы. Он выразил свое изумление: «Выйти замуж за человека, которого вы не знаете, совершенно чужого, с которым вы даже не можете разговаривать…» Ромола отвечала, что знает его танец. Больм: «Вы дитя. Вы знаете его как артиста, а не как мужчину. Он очень приятный человек, очаровательный коллега, но должен предупредить вас — он совершенно бессердечен». Больм рассказал, что на известие о смерти отца Нижинский реагировал улыбкой (это было правдой, и это был один из симптомов надвигавшейся болезни — эмоциональная глухота). Ромола отвечала: «Мне все равно». Больм предупредил ее еще об одном: «дружба Нижинского с Дягилевым, хотя вы можете этого и не понять, больше чем дружба. Возможно, он не сможет полюбить вас, и это погубит вашу жизнь». Ромола отвечала, что выйдет замуж, «даже если вы и правы». Больм откланялся. Маленькая Мими Рамберг закатила истерику. После этого она покинула труппу и… под своим новым именем, впоследствии знаменитым, Мэри Рамберт, основала балет Англии. Ромола ожидала, что после помолвки с Вацлавом они соединятся в постели, как это водится в Венгрии. Но жених пожелал ей спокойной ночи. Свадьбу сыграли в Буэнос-Айресе. В свадебную ночь Нижинский отвел ее в спальню, поцеловал руку и ушел, оставив жену думать, не прав ли Больм. Муж явно не рвался к ее телу. Прошло немало дней, прежде чем он решился осуществить брак. Супруги были неимоверно далеки друг от друга не только потому, что разговаривали на разных языках. Ромола была чрезвычайно образованной женщиной, а Вацлав оставался неотесанным и малограмотным. По-французски он писал фонетически — как произносится, но и в русском делал грубые ошибки. «Мне не давали спокоя», — пишет он (Нижинский 1995: 69). Это полонизм у Нижинского (по-польски «спокуй»). Лучше всего его уровень показывает фраза из Дневника: «Речь Френкеля умственная, жены тоже. Я боюсь обоих.» (Чувство 2000: 93). Прямо как разговор прислуги о господах. Сильно различались супруги и по интересам. Ромола мечтала о бриллиантах, приемах, блестящей жизни в обществе. Он охладил ее энтузиазм: «Я артист, а не принц». Ждали Ромолу и другие неожиданности. В поезде Вацлаву стало плохо и он упал без сознания. Потом объяснил ей, что такое с ним бывает, а его брат вообще слабоумный. Тучи над головой Ромолы сгущались. От Дягилева все не было известий в ответ на весьма позднее извещение о бракосочетании. Приехали в Будапешт. Там получили телеграмму от дягилевского режиссера Григорьева. Он коротко сообщал, что поскольку Нижинский пропустил спектакль. Дягилев не нуждается более в его услугах. Супруги не могли поверить. Они считали, что Нижинский незаменим. Ромола расплакалась. Об увольнении сообщили все газеты мира. Посыпались предложения о работе, но все из варьете, ничего серьезного и достойного. Дягилев же, помня о провале двух последних балетов с Нижинским, вернул в труппу Фокина. А на месте Нижинского скоро оказался поразительно красивый 18-летний Мясин. Нижинский же, расставшись с Дягилевым и Фокиным, потерял гораздо больше, чем приобрел. Его соученик Федор Лопухов очень проницательно писал о его творчестве: «Вопреки легендам, Нижинский не ведал, что творит. Его интуиция порождала блистательные находки, которым все дивились. Но интуиция же иногда Нижинского и подводила, делая образы, созданные им, неровными, непостоянными. До сознательного, продуманного в деталях исполнения он не мог подняться. Счастье Нижинского, что рядом с ним находились выдающиеся советчики и наставники» (Лопухов: В. Нижинский 1995: 201). И вот теперь это счастье было потеряно. Нижинский в полной растерянности просил Стравинского проверить, верно ли извещение Григорьева: «Я не могу поверить, что Сережа мог действовать так подло по отношению ко мне. Он должен мне уйму денег. Я не получил ничего за два года, ни за свои танцы, ни за постановку Фавна, Игр и Весны Священной. Я работал для Балета без контракта. Если это верно, что Сергей не хочет работать со мной, — тогда я потерял все» (Buckle 1979).8. Военный психоз
Нижинский принял приглашение из Лондонского «Паласа» организовать свою труппу. Но оказалось, что это театр-варьете. Кроме того, Нижинский совершенно не представлял себе, какие это трудности и какое бремя — управлять труппой, финансировать ее, организовывать и т. д. Он слег, и контракт был разорван. Стоило больших трудов расплатиться с труппой. Тем временем родилась дочь. Узнав, что не сын, он швырнул перчатки на пол, но потом успокоился. Война застала их в Будапеште у родителей Ромолы. Теща и ее новый муж невзлюбили зятя. Эмилия пылала ревностью — она привыкла быть самой крупной звездой в своем окружении. Когда Нижинского с женой и дочерью стали преследовать как подданных вражеского государства, теща стала доносить в полицию о шпионских записях Нижинского — это были его опыты нотации балетных движений. Пришлось покинуть родительский дом. Денег не было: денежные документы французского банка в воюющей Австрии были непригодны. В это время в бедствиях забрезжил просвет: Дягилев, будучи в Америке, решил вернуть Нижинского в труппу. Теперь у него были Фокин и Мясин, и обида, рана от удара по авторитету зажила, а Нижинский был проучен. К тому же из-за войны труппа обезлюдела. Имя же Нижинского было по-прежнему громким и могло привлечь к Русскому балету внимание в Америке. Дягилев приложил все свои способности и силы, пустил в ход все связи и добился разрешения для Нижинских выехать в нейтральное государство — в США. В Нью-Йорке Нижинского с супругой и дочкой встречали с цветами артисты труппы во главе с Дягилевым. Дягилев трижды расцеловал Нижинского. Но их разделял судебный процесс, затеянный, вероятно, не без наущения Ромолы. Нижинский предъявил Дягилеву иск на полмиллиона франков невыплаченных гонораров за два года танцев в спектаклях. Правда, у них не было контракта, но все знали, что спектакли состоялись с участием Нижинского и что это участие было важным для получения больших денег за спектакли. С другой стороны, Нижинский все эти годы жил за счет Дягилева в люксах лучших отелей Европы, одевался у лучших портных и обедал в самых дорогих ресторанах. Кроме того, он получал от Дягилева массу богатых подарков. И когда нужно было расплачиваться с труппой «Палас-театра», оказалось, что миллион франков на это у него есть. У Дягилева же, хотя прибыли от спектаклей и были высоки, но уходило на них еще больше. Суду, однако, было невозможно говорить о подарках и жизни одного за счет другого: это их личные отношения, суду до них нет дела. А работа должна быть оплачена. И суд решил дело в пользу Нижинского. Правда, взыскать эти деньги было невозможно: чтобы послать судебного исполнителя, нужно было указать постоянный адрес, а Дягилев, не будучи резидентом ни в одной стране, не имел такового. Но долг был признан. Когда же на обеде Дягилев стал упрекать Нижинского за все это, перейдя на русский, Нижинский отвечал по-французски: «Сережа, все дела ведет моя жена, и их надо обсуждать с ней». Неожиданно американцы («Метрополитэн») предложили чтобы Нижинский и был руководителем турне, а Дягилева при труппе не было. Имя Нижинского для них звучало громче, у него уже был опыт руководства, и они предпочитали обойтись без двойного управления. Дягилеву пришлось согласиться: он был заинтересован в контракте. В этой поездке снова на плечи Нижинского пали все тяготы, к которым он был совершенно не приспособлен. Отношения с артистами были очень напряженными. Нижинскому и Ромоле во всем чудились интриги Дягилева, они относили на этот счет все несчастные случаи — гвозди на сцене, падающие декорации, а Ромола — также и проповеди двух артистов-толстовцев. Она считала, что Дягилев их специально подослал к Нижинскому. Нижинский был очень податлив на их пропаганду — внимательно слушал их речи об опрощении, отказе от мяса, уходе от искусства пресыщенных людей к простой жизни на природе, к возделыванию хлеба. Он стал подумывать о возвращении в Россию и устройстве в деревне. Они проповедовали и отказ от секса — и Нижинский их слушался, уклонялся от сношений с женой. Она предъявила ультиматум: выбирать между ними и ней. Он нехотя подчинился. Перед отъездом из Америки Нижинский отправил Дягилеву телеграмму в Испанию о согласии выступать с труппой в Южной Америке. В Испании встретились как старые друзья. Дягилев обнял Нижинского: «Ваца, дорогой, как ты поживаешь?». С Ромолой он тоже обошелся приятельски. Обсуждали планы спектаклей. Нижинский говорил жене: «Вот видишь, фамка, я всегда обещал, что он станет нашим другом». «Фамка» — от французского «фам» (жена), так Нижинский называл свою супругу, приноравливая к русскому «женка». Но когда зашла речь о поездке в Южную Америку, Нижинский сказал, что не уверен, что поедет. Дягилев сослался на телеграмму о согласии — в Испании она считается документом. Когда рассерженный Нижинский захотел прервать танцы в Испании и уехать с женой, их арестовали по заявке Дягилева. Нижинскому пришлось подписать контракт; правда, он внес туда требование о выплате гонораров долларами за час до каждого спектакля. В Южной Америке повторились изолированность, подозрения и ссоры североамериканской поездки. Южную Америку супруги и остальная труппа покидали на разных пароходах.9. Безумие
Книга психиатра Оствальда о Нижинском называется «Прыжок в безумие». Но прыжка не было. Было медленное вползание. К концу 1917 г. супруги обосновались в Швейцарии, в горном местечке Сан-Мориц. Еще в Америке, в Нью-Орлеане, Ромола из любопытства захотела посетить бордель. Вацлав отвечал, что ему это совершенно неинтересно, но он подчиняется супруге. Теперь Вацлав начал писать новый балет, действие которого происходит в публичном доме. «Я рисую часто один глаз». Рисунок В. Нижинского.
«Я рисую часто один глаз». Рисунок В. Нижинского.
При этом он стал совершать странные поступки — то вырывал у дочки тарелку с бифштексом (чтобы не ела мяса), то грубо столкнул жену с лестницы. То начинал быстро-быстро рисовать все одно и то же — черно красные личины с пронзительными глазами. «Лица солдат, — объяснил он. — Это война». Вся комната была завалена этими рисунками. А в Дневнике другое объяснение: «Глаз есть театр. Мозг есть публика. Я есть глаз в мозгу. Я люблю смотреть в зеркало и видеть один глаз на лбу. Я рисую часто один глаз. Я не люблю глаз в красной с черными полосами шапке…. Я есть глаз Божий, а не воинственный» (Чувство 2000: 90). Однажды, войдя на кухню, Ромола застала слуг — горничную, кухарку, истопника и прачку — молчаливыми и печальными. «Что случилось?» — спросила она. Молодой истопник объяснил, что до Нижинских в деревне жил господин Ницше, и когда он сошел с ума, то вел себя точно так же, как господин Нижинский сейчас. Он ходит по деревне с большим золотым крестом на шее и уговаривает людей идти в церковь. Ромола побежала и вернула мужа. Затем Вацлав стал делать массу ненужных покупок. Ромола подружилась с врачом Френкелем (по Оствальду — А. Грайбером). Тот стал старательно заниматься лечением, давал Нижинскому большие дозы болеутоляющих средств, но они только усиливали депрессию. Чтобы занять его чем-то творческим, решили организовать представление для знакомых. На этом представлении он поднялся на сцену, уселся на стуле и молча просидел полчаса, как бы гипнотизируя зрителей. Потом стал танцевать очень странно и мрачно, разбрасывая накупленные ткани. Это был его последний танец. Тогда-то он и начал свой Дневник. Писал его по ночам, скрытно, лихорадочно. Его постигло внезапное прозрение относительно своего брака: «Я плакал и плакал горько…. Я понял, что сделал ошибку, но ошибка уже непоправима. Я себя заключил в руки человека, который меня не любит. Я понял всю ошибку. Моя жена меня полюбила больше всех, но она меня не чувствовала. Я хотел уйти, но понял, что это бесчестно, и остался с ней. Она меня любила мало. Она чувствовала деньги и мой успех. Она меня любила за мой успех и красоту тела. Она была ловка и пристрастила меня к деньгам» (Чувство 2000: 172). Но тут же о своей любви к жене — по его словам, не красной, а белой любви, побуждавшей его дарить любимой каждый день белые розы. О сестре жены: «Она мужчина, а не женщина, ибо она ищет мужчину. Она любит хуй. Ей нужен хуй. Я знаю хуи, которые не любят ее. Я есть хуй, который не любит ее» (Чувство 2000: 87).

В марте 1919 г. супруги отправились в Цюрих к учителю Френкеля, крупнейшему европейскому психиатру доктору Блейлеру, открывателю шизофрении. Тот сначала побеседовал два часа с Ромолой, потом десять минут с Вацлавом. Потом, выпустив Вацлава, позвал Ромолу, якобы забыв дать ей рецепт. Закрыв за ней дверь, он сказал: «Моя дорогая, крепитесь. Вам надо увезти ребенка и получить развод. К сожалению, я бессилен. Ваш муж неизлечимо болен… Я исследовал эту болезнь, знаю все ее симптомы, могу поставить диагноз, но не умею лечить ее». Когда она вышла к мужу, он посмотрел на нее и сказал: «Фамка, ты принесла мне смертный приговор». Это по воспоминаниям Ромолы. По записям доктора Блейера, его рекомендации были более оптимистичны. Он советовал не госпитализировать Нижинского, так как это может ему повредить, но действительно считал, что надо освободить его от семейных уз и обязанностей. Пусть занимается своим искусством в санатории. Может быть, болезнь и ослабнет (Оствальд: В. Нижинский, 1995: 236–256). С Ромолой приехали ее родители. Ночью Ромола решила спать отдельно от мужа. Он порывался к ней. Утром купил огромный нож, якобы чтобы точить карандаши. Вызвали полицию, и Вацлава увезли в психиатрическую лечебницу. Это был новый удар для него. Он впал в кататонию — пластичную неподвижность: застывал в той позе, которую ему придавали. Это типичный признак шизофрении. Трагедия коснулась не только супружеской пары Нижинских. Тут образовался треугольник. У Ромолы с доктором Френкелем был роман (ведь Вацлав в это время практиковал целомудрие по Толстому). Френкель серьезно полюбил Ромолу. Он уговаривал ее развестись с мужем и выйти за него, хотя и был женат. Ее отказ побудил его к большим дозам морфина, а затем к самоубийству, но попытка не удалась. Зато он стал наркоманом. Из психлечебницы Вацлава забрали и поместили в отличный санаторий «Бельвью Крузлинген», где он несколько отошел за полгода, но к концу этого периода стал агрессивным и отказывался от пищи. Жена забрала его домой, в Сан-Мориц, нанимала врачей и сестер, возила его по врачам, знахарям и святым местам (например, в Лурд). В Париже в 1923 г. его пришел навестить Дягилев. «Ваца, — позвал его Дягилев, — ты просто ленишься, пойдем, ты мне нужен. Ты должен танцевать для Русского балета, для меня». Вацлав покачал головой: «Я не могу, потому что я сумасшедший». Дягилев отвернулся и разрыдался. По воспоминаниям Ромолы, он якобы сказал тогда: «Это моя вина. Что я наделал!» Ромола видит в этих словах признание вины в совращении и травле. Если эти слова и были произнесены, то они содержали скорее сожаление о непосильных задачах, которые Дягилев возлагал на своего любимца. И, возможно, упрек самому себе за то, что недостаточно ограждал его — не только от трудностей, но и от соблазнов — и не уберег от женщины, в которой Дягилев видел все зло. Видимо, Дягилев винил себя за малодушие, из-за которого отпустил Нижинского одного в морское путешествие, на котором им овладела Ромола… В 1924 г. Дягилев приходил снова со своим новым любовником Долиным. Нижинский молчал и не узнавал никого. Но на прощанье сказал по-русски: «До свидания». В 1928 г. его повезли на «Петрушку» в надежде, что знакомая музыка и танцы его воскресят. Не воскресили. Все только вместе сфотографировались. Этим летом Дягилев умер. В 1936 г. дочь Нижинского Кира, с такими же раскосыми глазами, как у отца, вышла замуж за последнего дягилевского любовника, композитора Игоря Маркевича. Странная семейная связь скреплялась новыми побегами. «Теперь, когда я достаточно взрослая, чтобы понимать, — высказалась Кира о Дягилеве, — я бесконечно благодарна этому великому человеку за моего отца…. Он понимал его, как никто другой, он дал ему шанс развиться и показать свое чудесное творение миру…» (Haskell 1935: 255). В 1936–38 гг. Долин собрал много денег на лечение, и Нижинского подвергли шоковой терапии. Появилось некоторое улучшение — он стал более активен, стал отвечать на вопросы. Когда к нему приехал дягилевский танцовщик Лифарь, пожилой Нижинский даже стал поправлять его танец. Смеясь, подпрыгнул, чтобы показать, что еще может делать антраша, как был — в пиджаке и брюках. В этот момент Лифарь его сфотографировал — в прыжке.
 В. Нижинский в прыжке. 1939 г.
Фото Сергея Лифаря
В. Нижинский в прыжке. 1939 г.
Фото Сергея Лифаря
Но тут снова война — Вторая мировая. Из Швейцарии решили переехать в Венгрию, но Венгрия объявила войну — и опять застряли. Вацлава поместили в больницу. В 1945 г. служащий-поляк предупредил, что психических больных немецкое командование велело наутро уничтожить. Ромола сумела похитить мужа и пересидела с ним несколько недель в деревне под городом Шопрон. Там их и застали советские войска. Когда офицер спросил, что за люди, Нижинский вдруг ответил по-русски: «Не беспокойтесь». С тех пор стал очень активен, даже танцевал с солдатами.. Офицеры знали фамилию Нижинский, супругов переправили в Вену, это оказалась Британская зона, оттуда — в Американскую. Приезжал русский балет с Улановой, Чабукиани, Сергеевым. Нижинский аплодировал им. Но к полному рассудку не вернулся. Так и остался в полусонном тумане.
 В. Нижинский в Меттерсиль, Австрия, 1947 г.
За три года до смерти.
В. Нижинский в Меттерсиль, Австрия, 1947 г.
За три года до смерти.
В Лондоне у него обнаружились болезни — давление, почки. В 1950 г. он умер 60-летним после 33 лет мучений для него и для близких. А его Дневник еще с 1936 года, все более приближаясь к оригиналу, начал свое путешествие по миру, совершенно независимое от автора. Его часто цитируют психологи, философы и литературоведы в работах о литературе «потока сознания», о Джойсе, об экзистенциализме, об искусстве и безумии.
В Дневнике Нижинский обращался со стихами к своему бывшему другу и некогда ангелу-хранителю, в котором он теперь видел своего злого ангела, к Дягилеву (Nijinsky 1995 — в обратном переводе), и это безусловно безумные стихи, но в них видна та же страсть, которая тяготела над Нижинским и в годы, предшествующие безумию — он непрерывно обращался в мыслях к Дягилеву, зависел от него, жаждал и не мог освободиться. От Дягилева и от связывавшего их секса.
«Ты мой. Я Бог.
Ты мой, я твой.
Я люблю писать пером.
Я пишу, я пишу.
Ты не пишешь, ты теле-пишешь,
Ты телеграмма, я — письмо.
Ты безумие, я любовь.
Мой это хуй, ибо Хуй.
Я хуй, я хуй.
Я Бог в моем хуе.
Твой хуй, не мой, не мой.
Я хуй в Его хуе.
Я хуй, хуй, хуй.
Ты не можешь хуить хуй.
Я хуй, но не твой.
Ты мой, но я не твой.
Я не хуй в твоем хуе.
Я хуй в Его хуе…
Есенин и Клюев: малиновая любовь
1. Русские Верлен и Рембо?
В истории русской поэзии Есенин и Клюев связаны почти как Верлен и Рембо в истории французской — творческим союзом, одно время единомыслием и любовью с привкусом скандала. Еще и тем, что оба поэта и здесь и там лирики. Еще и тем, что разновозрастны: один очень юный. Разница почти одинаковая — на 10–11 лет. Еще и тем, что они внешне немного похожи: один — бородатый и лысый, другой — в образе херувима. Но этим сходство и ограничивается. Там поэзия урбанистическая, здесь — в значительной мере крестьянская. В жизни обоих русских поэтов этот союз значил меньше, чем в жизни французских. Там более значителен был старший из двоих, здесь — младший. Он поистине национальная гордость. Это поэт не только великий, но и очень народный и очень русский. Может показаться, что это одно и то же, но это не совсем так. Когда я говорю очень народный, я имею в виду, что это поэт не элитарный, поэт выражающий чувства и чаяния народных масс, можно сказать, простонародья, поскольку тогда Россия был в основном страной крестьянской. Когда же я говорю, что это поэт очень русский, я имею в виду национальную специфику, этничность. Какие-то черты русского национального характера выражены в поэзии и личности Есенина. Правда, вокруг него очень много евреев: — ближайшие друзья — евреи (Каннегисер, Мариенгоф, Повицкий, Эрлих, Берзинь, Шнейдер и др.), любовницы — еврейки (однажды на суде в опровержение его антисемитизма приводился факт: восемь любовниц-евреек — Занковская 301), но тесная связь с евреями тоже входит в русскую специфику. Вообще эти два народа очень тесно связаны своей историей. В русском народе еврейское участие начинается с христианства, продолжается в русском искусстве и завершается в марксизме и русской революции. Хочешь не хочешь, а самый русский художник — это Исаак Левитан, самый известный русский скульптор — Мордух Антокольский, строители русского музыкального образования — братья Рубинштейны, русскую современную поэзию в мире представляет Иосиф Бродский. О вождях революции я уж и не говорю. Но и, с другой стороны, в Израиле русский язык практически второй государственный. Там выходят русские книги, бытуют русские песни. Так что связь с евреями не нарушает русской специфики Сергея Есенина. Сама попытка бросить свет на его сексуальность может вызвать раздражение и негодование части аудитории. Его жизнеописание стабилизировалось в так называемых «голубых биографиях», устраняющих всё негативное и сомнительное. Голубых — то есть идеализирующих и очищающих. Голубых — в смысле «небесных». Попытка рассмотреть «голубой» компонент его сексуальности («голубой» в современном слэнговом значении) тем более может возмутить почитателей поэта, желающих видеть его ангелоподобным. «Копание в грязном белье», «выискивание скабрезных деталей» и т. п. Всякая попытка увидеть в Есенине какие-то элементы гомосексуальности будет расценена не только как попытка его принизить и запачкать, но и как клевета на русский народ. Но сексуальность я не рассматриваю как нечто низкое и грязное. Это необходимая сторона жизни человека, нормальные проявления жизни. А когда речь идет о поэте-лирике, характеристика его сексуальности просто неизбежна, потому что она, несомненно, отражается в его творчестве. Гомосексуальность же сейчас всё меньше людей расценивают как позор. Её принимают как данность. Ну, а для Серебряного века и выросшей из него революционной эпохи готовность воспринять гомосексуальность была чертой времени. Это был дух модерна — отказ от старых норм и традиций. Дягилев, Сомов, Петров- Водкин, Кузмин, Зинаида Гиппиус, Иванов с Аннибал создавали атмосферу, в которой гомосексуальность рассматривалась как экстравагантная, но вполне допустимая особенность личного вкуса. В какой-то мере интерес к ней шел рука об руку с предреволюционным кризисом христианской религии в России, кризисом православия, который так ярко проявился в распутинщине и привел к резкому повышению интереса к православным сектам и к язычеству. На этом фоне выход гомосексуальности на поверхность общественной жизни в конце XIX — начале XX веков можно рассматривать не как новацию, а как возрождение старой русской традиции, подавленной на время христианством и западной цивилизацией. Есть основания полагать, что русское язычество не отличалось по своему терпимому отношению к гомосексуальным связям от греческого язычества. Резкое осуждение их пришло на Русь с иудео-христианской традицией (тут как раз столкновение и противоречие с еврейской культурой) и было законодательно закреплено лишь при Петре I — в подражание западным законодательствам. До этого все иностранцы, побывавшие на Руси, единодушно изумлялись терпимому отношению русских к содомскому греху и его популярности в народе. В Польше его даже называли «русский порок». До нас дошли древние поучения отцов православной церкви, направленные на искоренение этого порока. Но Россия — единственная крупная европейская страна, где никогда не было смертной казни за содомию. Не сожгли ни одного содомита. В традиционной матерной брани выражения, связанные с ней («иди ты на…», «…сос» и др.), имеют унижающий смысл, но само их наличие говорит о том, что ко времени, когда они сформировались с таким смыслом (а это зафиксировано в допетровской Руси и связано с влиянием христианства), явления эти были достаточно широко известны и всем понятны. С. А. Есенин.
С. А. Есенин.
Поэтому если мы найдем какие-то элементы гомосексуальности в личности и творчестве Сергея Есенина, это не только ничем не порочит образа поэта, — во всяком случае не больше, чем его всем известные пьяные скандалы (ряд уголовных дел), — но и никак не противоречит его отождествлению с русским национальным характером. Тем более, что в поведении и облике Есенина гомосексуальные черточки занимали, по крайней мере внешне, явно подчиненное место. Он воспевал любовь к женщинам, к сорока годам был четырежды женат, имел детей. Словом, был гетеросексуален по своей основной ориентации, но порой ему доставляла удовольствие и нетрадиционная любовь. Как и в целом русскому народу. Порой, иногда, кое-где. Вопрос лишь — в какой мере. У Кона и даже Ротикова Есенин лишь нехотя поддавался приставаниям Клюева. Как пишет Ротиков, возможно, даже поколачивал его. Американцы Гордон Маквей (1976) и Саймон Карлинский (1976) гораздо определеннее пишут о гомосексуальной составляющей в жизни Есенина, но и они не могут отрицать гетеросексуальной основы. Иное дело тогдашний вождь крестьянских поэтов Николай Клюев. Этот никогда не был женат, возможно, даже никогда не был близок с женщиной. Был сугубо гомосексуален. Что странно, потому что, по статистике, чем ниже социальный слой, тем меньше в нем распространена гомосексуальность. Меньше всего — в крестьянстве. Это, конечно, не по биологическим причинам, а просто потому, что заложенные в человеке биологические предпосылки здесь имеют меньше возможности проявиться. В низших слоях больше сказывается конформность, скованность сознания традиционными нормами, психологическая оглядка на родных и соседей. Скрытая гомосексуальность здесь, конечно, может проявиться вполне в избиениях жены, в уходах из дому, в пьянстве, но о том, что может быть иное удовлетворение сексуального чувства, человеку просто не приходит в голову, или он гонит от себя подобные мысли как полную несуразицу. И лишь очень смелый и необычный ум может решиться на осознание этого чувства и дать ему волю.. Таким и был Николай Клюев.
2. Начало Клюева
Клюев прежде всего мифотворец, и трудно разделить, что в его нарочито крестьянском образе от реальности, а что придумано. Все вошедшие в справочники сведения о том, что он из древнего старообрядческого рода, что происходит по прямой линии от протопопа Аввакума, что участвовал в хлыстовском «корабле», где слагал сектантские гимны, что готовился к самосожжению, затем что был в Соловецком монастыре и скитался по России и Востоку, — всё это известно только с его слов и никакими независимыми источниками не подтверждается. Может, что-то в этом и правда, но что — неизвестно. Андрей Белый и Алексей Толстой, Брюсов и Гумилев, Блок и Городецкий воспринимали его как крестьянского пророка. Иван Бунин и Максим Горький не доверяли, видели в нем хитроватого мужичка, эксплуатирующего наивную восторженность интеллигенции. А было в нем и то и другое. Крестьянского рода, он происходит из глухой деревушки Вытегорского уезда Олонецкой губернии (ныне Вологодчина), род. в 1884 г. Когда он был уже подростком, семья переехала в деревню покрупнее, где отец стал сидельцем в винной лавке. Так сказать, спаивал народ. Мать была «плачеей» и «вопленицей» (опять же со слов самого Клюева). Николай недолго учился в церковно-приходской школе и двухклассном училище. Неизвестно, слагал ли хлыстовские гимны, но, унаследовав от матери вдохновение, действительно начал слагать стихи, прежде всего о родной стороне, о природе. Противопоставлял ее далекому и чуждому городскому миру.Не найдешь здесь душой пресыщенной
Пьяных оргий, продажной любви,
Не увидишь толпы развращенной
С затаенным проклятьем в груди.
Мы, как рек подземных струи,
К вам незримо притечем
И в безбрежном поцелуе
Души братские сольем.
Белому брату
Хлеб и вино новое
Уготованы.
Помолюсь закату,
Найдем рубище суровое
И приду на брак непозванный.
Ты узнай меня, Братец,
Не отринь меня, одноотчий…
3. Голубой юноша
Сергей Есенин по происхождению ближе к крестьянской массе, но тоже не из рядовых хлеборобов. Дед его Никита Есенин был грамотным сельским старостой в Константинове Рязанской губернии. Отец ушел подростком в Москву и служил приказчиком в мясной лавке у замоскворецкого купца. Семьей, однако, обзавелся в деревне, женившись на Татьяне Титовой, дочери очень зажиточного крестьянина, зарабатывавшего на отхожих промыслах — гонял плоты, владел баржами. В семью этого деда Сергей и был отдан в детстве на воспитание. Старики были богомольны, придерживались старообрядчества, приобщали внука к духовным стихам. Внук был тщедушным. Был ли он озорным, как он сам вспоминает, некоторые биографы сомневаются. Скорее, он хотел представлять себя таким. Вера в бога к нему приставала слабо. Зато пристрастился к чтению, особенно когда поступил в земское четырехгодичное училище тут же в селе. Окончил успешно, затем отец отдал его в Спас-Клепиковское училище — это далеко от дома. Там жил в интернате. Обстановка в интернатах известная, подростки могут там вполне познакомиться с гомосексуальными развлечениями, но никаких признаков воздействия этой стороны интернатской жизни на Сергея нет. Другу он писал, что мечтает «скорее убраться из этого ада», и всем однокашникам раздавал презрительные эпитеты («глупые», «идиот», «дрянь», «паскуда»), ставя их гораздо ниже себя. Именно в Спас-Клепиках, в 16–17 лет, он начал писать стихи. Чтобы развить эти способности, учитель литературы посоветовал ему поселиться в одной из столиц. В 1912 году Есенин окончил школу с аттестатом учителя начальных классов и поехал к отцу в Москву С. А. Есенин в юности.
С. А. Есенин в юности.
Однако жить с отцом не вышло. Отец считал стихи пустым занятием, хотел пристроить сына к практической работе, а сын мечтал о поэзии. Сергей остался без крова и работы. Его приютил тридцатилетний поэт Сергей Кошкарев (Заревой), возглавлявший Суриковский кружок, созданный писателем Максимом Леоновым (отцом Леонида Леонова). Нет никакой надобности подозревать за гостеприимством Заревого какие-то сексуальные мотивы. Есенин вообще нравился людям, так как был обаятельным и легким в общении. Потом юноша устроился в типографию и переселился снова к отцу. Здесь он попал под наблюдение полиции, так как втянулся в забастовочное и социал-демократическое движение. «За мной следят, — писал он другу, — и еще недавно был обыск у меня на квартире». Тем временем он поступил в Народный университет либерального деятеля Шанявского и… женился на А. Р. Изрядновой, которая была на 4 года старше его. Первый брак был каким-то мимолетным, кратковременным, на ходу, и даже не был оформлен. Когда началась война, Есенин организовал вместе с товарищами демократический журнал «Друг народа», но разошелся с ними и покинул редакцию. Решил переехать в Петроград, в настоящую столицу. Жену с ребенком оставил в Москве. Оставил навсегда. Март 1915 г. В Петрограде пришел прямо с вокзала в дом Блока, прочел ему свои стихи, понравился. Блок рекомендовал его другим — Городецкому, Мурашеву. Сергей Городецкий, покровительствовавший крестьянским поэтам, вспоминал: «Стихи он принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи…. Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица». При всем счастье целование двух мужчин при первой же встрече выглядит уж очень экзальтированным, но, возможно, такова была эпоха и среда?
 Есенин с С. М. Городецким, 1915 г.
Есенин с С. М. Городецким, 1915 г.
Нет, Городецкий был определенно гомосексуален, близко дружил с Михаилом Кузминым. В дневнике Кузмина есть такая запись: «…Городецкий предложил вина и, притворясь спящим, заставлял себя будить поцелуями, я стал щекотать ему пятки, он встал и я очутился около него, я не помню, отчего он меня обнял и я его гладил и целовал его пальцы, и он мою руку и в губы, нежно и бегло, как я всего больше люблю, и он сам все прижимал меня и не давал отстраняться, и хвалил ласку моих бровей…». Так что поцелуи Городецкого носили очень определенный оттенок. Городецкий написал письма другим издателям, в том числе Миролюбову: «Приласкайте молодой талант — Сергея Александровича Есенина. В кармане у него рубль, а в душе богатство». Несколько дней Есенин жил у Мурашева, затем у Городецкого. «Я тебе не скажу, что ты для меня, — писал ему Городецкий из Крыма, — потому что ты и сам знаешь. Ведь такие встречи, как наша, это и есть те чудеса, из-за которых стоит жить» (ГИК 2000, 1: 87). Есенин стал печататься во многих журналах. В начале октября начал переговоры о выпуске сборника стихов «Радуница». В числе первых, кто «приласкал молодой талант», был молодой поэт Рюрик Ивнев, на 4 года старше Есенина. Сугубая гомосексуальность Ивнева хорошо известна и подтверждена его дневниками. Ивнев (настоящее имя Михаил Ковалев) учился в Пажеском корпусе, традиционном рассаднике гомосексуальности. Другой гомосексуал, Георгий Иванов, описывает его весьма язвительно: «Рюрик Ивнев — ближайший друг и неразлучный спутник Есенина. Щуплая фигурка, бледное птичье личико, черепаховая дамская лорнетка у бесцветных щурящихся глаз. Одет изысканно-неряшливо… Рюрик Ивнев все время дергается, суетится, оборачивается. И почти к каждому слову прибавляет — полувопросительно, полурастерянно — Что? Что? — Сергей Есенин? Что? Что? Его стихи — волшебство. Что? Посмотрите на его волосы. Они цвета спелой ржи — что?» (ГИК 2000, 1: 90). Ивнев стал интимным другом Есенина. Но ближе об этой дружбе ничего не известно. У Есенина есть несколько стихотворений, посвященных Ивневу. Ивнев дожил до 1981 г., оставил для печати воспоминания о Есенине, но, конечно, ничего предосудительного там нет. Разве что описание первой встречи выдает специфическое влечение: «В антракте подошел ко мне юноша, почти мальчик, скромно одетый… Он тонкий, хрупкий, весь светящийся и как бы пронизанный голубизной. Вот таким голубым он и запомнился на всю жизнь» (Ивнев 1978: 146). Но эпитет «голубой» не имел тогда современного слэнгового значения. И есть еще воспоминание о житье в организованной Есениным «писательской коммуне», где Ивнев оказался без места. «Я завернулся в одеяло и эвакуировался в коридор. Есенин сжалился надо мной, повел в свою комнату, хохоча, спихнул кого-то со своей койки и уложил меня около себя…» (Ивнев 1978: 164). Отрывки из откровенных дневников Ивнева, ныне опубликованные и не задевающие Есенина, относятся к более позднему времени.

Тогда же подружился Есенин и с юным поэтом Леонидом Каннегисером из круга Кузмина, взял его с собой в деревню на лето. Осенью тот пишет ему уже из Петербурга: «Очень жду тебя в Петербурге. Видеть тебя в печати — мне мало… Твой Леня». Марина Цветаева в «Нездешнем вечере» описывает эту пару на собрании поэтов в январе 1916 г.: «Леня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно-разных лицах сошлись, слились две расы, два класса, два мира… Леня ездил к Есенину в деревню. Есенин в Петербурге от Лени не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы на гостиничной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку… Ленина черная головная гладь, Есенинская сплошная кудря, курча, Есенинские васильки, Ленины карие миндалины». Это был тот самый Каннегисер, который через два года, уже после революции, убьет Урицкого и будет расстрелян ЧК. Насколько глубоко окунулся тогда Есенин в однополую любовь? Возможно, он еще лишь заигрывал с ней. Он еще отшатывался от сугубо откровенных ее выражений. В «Бродячей собаке» его испугал сверстник по прозвищу Вурдалак — красногубый и стриженный в кружок мальчик, посещавший князя Андронникова, известного гомосексуала. Как-то Вурдалак и Есенин, отправляясь в кабачок, зашли к Садовскому за галстуком для Есенина. Обычно в кабачке засиживались до рассвета. «Поэтому, — пишет Садовский, — я был очень удивлен, когда часу в двенадцатом ночи раздался резкий звонок и не вошел, а вбежал ко мне Сергей Есенин. На вопрос, что с ним, он ничего не ответил и вдруг повалился на диван в сильнейшей истерике. Он кричал и катался по полу, колотил кулаками себя в грудь, рвал на себе волосы и плакал»… Оказалось, что Вурдалак в кабачке объяснился Есенину в «любви» и, вероятно, вообразив себя содним из андронниковских «мальчиков», дополнил свое «признание» соответствующими жестами» (цит. по: Лукьянов 2000: 128). Истерика Есенина не укладывается в естественную реакцию нормального юноши на приставания сверстника и может найти объяснение только в том, что Есенина и самого мучили желания этого рода. Это явствует из его стихов 1916 года, обращенных к юноше-сверстнику:
Весна на радость не похожа,
И не от солнца желт песок,
Твоя обветренная кожа
Лучила гречневый пушок.
У голубого водопоя
На шишкоперой лебеде
Мы поклялись, что будем двое
И не расстанемся нигде.
Сон избы легко и ровно
Хлебным духом сеет притчи.
На сухой соломе в дровнях
Слаще меда пот мужичий.
 С. А. Есенин, Н. А. Клюев.
Петроград, 1916 год.
С. А. Есенин, Н. А. Клюев.
Петроград, 1916 год.
В еще одном стихотворении того же года («Еще не высох дождь вчерашний») есть новый оттенок:
Брожу по улице и лужам,
Осенний день пуглив и дик,
И в каждом встретившемся муже
Хочу постичь твой милый лик.
Ты все загадочней и краше
Глядишь в неясные края…
4. Дружба-супружество
 С. Городецкий и Н. А. Клюев.
Петроград, октябрь 1915 год.
С. Городецкий и Н. А. Клюев.
Петроград, октябрь 1915 год.
На квартире Городецкого в 1915 г. Есенин и познакомился с Николаем Клюевым. Сразу послал письмо одной московской знакомой: «Сейчас, с приезда, живу у Городецкого и одолеваем ухаживанием Клюева» (Дитц 1990: 70). Тридцатилетний Клюев, старше Есенина на 11 лет, очень походил внешне на Верлена: был лысоват, с пышными усами, бородки тогда еще не носил. К тому времени это был уже известный поэт, автор трех сборников стихов, можно сказать, мэтр. Но работал под мужичка. На вопрос, как устроился в Петербурге, отвечал: «Слава тебе Господи, не оставляет нас, грешных. Сыскал клетушку, — много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь». Ходасевич ехидно замечает: «Клетушка была номе ром Отель де Франс с цельным ковром и широкой турецкой тахтой, Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике» (Ходасевич 1976: 49–50). Клюев создал группу крестьянских поэтов «Краса», в которую и вовлек Есенина. Есенин пере селился к нему. В это время Есенин жил впроголодь, сильно нуждался в деньгах. На его просьбах о вспомоществовании и на договорах стоит адрес: Фонтанка 149, кв. 9. Это клюевский адрес. Уже в конце октября оба выступили на публичном вечере в Тенишевском училище, где обычно выступал Маяковский. Есенин надел белую русскую рубашку с серебряной вышивкой и в руках держал деревенскую гармошку-ливенку. Вечер прошел с огромным успехом, первым для Есенина. С этого времени началось хождение обоих вдвоем по художественным салонам. Клюев — причесанный под горшок, в черном кафтане под степенного мужика, а Есенин в белой рубахе, вышитой крестиками, подпоясанный цветным шелковым шнуром и обутый в сапожки с набором или даже в лаптях. С непременной гармошкой в руках — этакий деревенский Лель, элегический пастушок. Воздействие Клюева на Есенина поначалу было очень сильным, не только в поэзии. Клюев и другие крестьянские поэты, окружавшие Есенина (Клычков, Ганин, Наседкин, Орешин), доводили свою нарочитую народность до уровня русского шовинизма и черносотенного антисемитизма. По воспоминанию подруги Есенина тех лет, Анны Назаровой, Клюев постоянно говорил: «не люблю жидов», а после революции: «Жиды правят Россией» (ГИК 2000, 2: 37). Назарова и другая подруга Есенина, Галина Бениславская, считали, что именно под воздействием Клюева Есенин стал высказываться в том же духе, особенно в пьяных скандалах, что привело впоследствии к публичным разбирательствам и судам. Клюев больше, чем кто-либо, старался придать есенинской дружбе сексуальный характер. Как Клюев рассматривал эту дружбу, видно по его стихам. Это именно реализация его «Брачной песни» недавних лет. Вот строки из одного стихотворения, «Сергею Есенину» (1916). Он описывает в нем сначала себя и свою поэзию, потом явление Есенина.
Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз, —
Даль повыдала отрока вербного,
С голоском слаще девичьих бус.
и дальше уже другим размером:
Пшеничный колос-исполин
Двор осенит целящей тенью…
Не ты ль, мой брат, жених и сын,
Укажешь путь к преображенью?
………………………………
Так не забудь запечный рай,
Где хорошо любить и плакать!
Тебе на путь, на вечный май,
Сплетаю стих — матерый лапоть.
Супруги мы… В живых веках
Заколосится наше семя,
И вспомнит нас младое племя
На песнотворческих пирах.
Мигает луковый уголь -
Зеленый лешачий глаз…
Любовницу ли, супруга ль
Я жду в нестерпимый час
Поцелуем Перовской Софии
Приветствую жениха…
Вспахала перси России
Пылающая соха
Бессмертны колосья наши
На ниве, где пала кровь,
Мы пьем из оцетной чаши
Малиновую любовь.
 Фотография, подаренная Есениным Н. Клюеву накануне призыва в армию.
Фотография, подаренная Есениным Н. Клюеву накануне призыва в армию.
Надпись на фотографии, подаренной Есениным в 1916 г. Клюеву: «Дорогой мой Коля! На долгие годы унесу любовь твою. Я знаю, что этот лик заставит меня плакать (как плачут на цветы) через много лет. Но это тоска будет не о минувшей юности, а по любви твоей, которая будет мне как старый друг. Твой Сережа» (Есенин 1980, 6: 258). Во всяком случае заботы и связи Клюева вскоре пригодились. Есенина призывали в армию. Клюев обратился к полковнику Ломану, начальнику царскосельского гарнизона, со слезным молением о «прекраснейшем из сынов крещеного царства» народном поэте Сергее Есенине. И Есенин получил место санбрата при санитарном поезде госпитальной службы под патронажем придворного полковника. Там и пребывал до самой революции, продолжая выступать в салонах вместе с Клюевым. У Сологуба их видел художник Сомов и записал в своем дневнике: «Был Клюев — мужицкий поэт в поддевке и косоворотке, со своим другом Есениным — «дорогим другом», сообщила Настя мне со своим смешком. Друг очень молод, солдат с личиком белокурого амура или зефира. Оба читали хорошие, но мне чуждые стихи» (КАС 1979: 172). Ломан надеялся противопоставить Есенина Распутину, но поэт, заигрывая с Двором и не отвергая пока этих авансов, сблизился и с Распутиным. Революция отсекла эту есенинскую стратегию продвижения наверх.
 З. Н. Райх co своими детьми
З. Н. Райх co своими детьми
Пути его с Клюевым разошлись. Биографы-литературоведы пишут о его идейном расхождении с Клюевым — тот был религиозен, этот атеист, тот культивировал архаический фольклор, этот революцию. Ну, так уж чужд революции Клюев тогда не был. Писал стихи о красных победах, святотатствовал, называл себя коммунистом. Работал комиссаром по реквизиции церковных ценностей и был обвинен в хищениях, поэтому короткое время сидел в тюрьме, а Есенину сообщил, что по политическим мотивам («жиды посадили»), но его сестра проговорилась, и Есенин узнал правду (ГИК 2000, 2: 38). Да и поэтические идеалы разошлись. Поэт П. Орешин вспоминает тогдашние слова Есенина: «Знаешь, от Клюева ухожу… Вот лысый черт! Революция, а он «избяные песни»… Совсем старик отяжелел. А поэт огромный! Ну, только не по пути…» (Орешин 1926). Что ж, конечно, уход надо было как-то красиво мотивировать. Но может быть, ударение надо сделать не на слове «революция», а на слове «старик»? При очередной встрече Клейнборт (1998: 266) спросил: «— Ну, как с Клюевым? Справляли свадьбу на Покрова?.. Какая-то тень пробежала по его лицу». В марте 1917-го он воспользовался революционной смутой и дезертировал. А затем в редакции эсеровской газеты «Дело народа» познакомился с секретаршей Зинаидой Райх и женился. Райх была из семьи перешедших в православие немцев, но Есенин считал ее еврейкой. Тем больше негодование Клюева. В 1918 г. Есенин писал Клюеву:
Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная мечта
Стихов не расплескала лужи…
И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?
Белый свет — Сережа, с Китоврасом схожий,
Разлюбил мой сказ…
Анафема, анафема вам,
Башмаки с безглазым цилиндром!
Радуйтесь, братья, беременен я
От поцелуев и ядер коня!
Песенный мерин — багряный супруг
Топчет суставов и ягодиц луг,
Уды мои словно стойло грызет,
Роет копытом заклятый живот.
Там тайны чулан, лавка снов и раздумий,
Но горница сердца лобку не чета:
О край золотых сенокосов и гумен!
О ткацкая радуг и весен лапта!
К тебе притекают искатели кладов —
Персты мои — пять забубенных парней,
И в рыжем полесье, у жил водопадов
Буравят пласты до алмазных ключей.
Душа — звездоперый петух на нашесте —
Заслушалась яростных чмоков сверла…
Стихи — огневица о милой невесте,
Чьи ядра — два вепря, два лютых орла.
……………………………………………
Есть берег сосцов, знойных ягодиц остров,
Долины пахов, плоскогорье колен;
Для галек певучих и раковин пестрых
Сюда заплывает ватага сирен,
Но хмурится море колдующей плоти,
В волнах погребая страстей корабли.
Под флейту тритона на ляжек болоте
Полощется леший и духи земли.
О плоть — голубые нагорные липы,
Где в губы цветений вонзились шмели,
Твои листопады сгребает Архипов
Граблями лобзаний в стихов кошели!
……………………………………………
Возлюбленный — камень, где тысячи граней…
5. Нарцисс
Невропатичность Есенина была настоена на болезненном самолюбии. Он жаждал славы, пусть даже скандальной, лишь бы быть в центре внимания. Называл себя «первым поэтом России», но в то же время был неуверен в себе, впечатлителен и обидчив. Поэтому при всей внешней общительности был скрытен и замкнут. Его приятель Устинов писал: «Есенин вообще был очень хитер и очень подозрителен. Он умел замечательно притворяться, знал людей». По словам его переводчика Ветлугина, Есенин «презирал деревню, он видеть не мог луга и равнины, его претило от запаха сена». Но он уловил, чего ждали от «деревенского гения», что было нужно литературной среде и притворился поэтом «от земли». У его любви и дружбы всегда был в основе какой-то эгоистический интерес, перспектива целенаправленности к некой личной цели. «Обычно любят за любовь, — замечал его друг Мариенгоф. — Есенин никого не любил, и все любили Есенина». Никого не любил? Нет любил — себя. Поэта в себе и особенно — себя в поэзии. «Ни к кому я так не ревновала Сергея, — пишет влюбленная в него Надя Вольпин, — ни к одной женщине, ни к другу, как к зеркалу да гребенке. Во мне все сжималось от боли, когда он, бывало, вот так глядит на себя глазами Нарцисса и расчесывает волосы. Однажды я даже сказала ему полушутя (и с болью): — До чего у нас с вами сходный вкус! Я люблю Сергея Есенина — и вы». Лукьянов (2000: 20) с хорошим основанием связывает нарциссизм и женственность натуры Есенина с проблемой его бисексуальности. Нарциссизм вообще может рассматриваться как один из путей к гомосексуальности (Клейн 2000: 501–508). В пьяном виде был совершенно несносен. Тут уж его страсть принижать всех и возвеличивать себя вырывалась из-под контроля осторожности и неуверенности и выходила наружу: «Мне — Есенину — с вами разговаривать не пристало. Я — Есенин, а вы кто? Вы — ничего, нни-че-го!» «Ты кто такое? Говно, а я… я Есенин! Меня знает вся Россия!» (Лукьянов 2000: 206, 338). Дрался и скандалил по малейшему поводу, а если повода не было, находил его. Порой бравировал гомосексуальным поведением. Повицкий вспоминает вечер в ресторане «Прага»: «В зале между столиками начались танцы. Есенин поднимается, подходит к столику, за которым сидели двое молодых людей с дамами. Он кланяется и приглашает на модный танец не даму, а… молодого человека. Тот, польщенный и обрадованный, поднимается, Есенин обнимает свою «даму» и изящно ведет с ней страстный танец. Публика в восхищении аплодирует. А к нам опять бежит встревоженный администратор и в волнении говорит: — Смотрите, смотрите — что он делает! А ведь он дал слово вести себя прилично…». Порою, наоборот, подчеркивал свою непричастность к однополой любви, но делал это не очень ловко. Так, его смущало то, что он живет у Городецкого, чья гомосексуальность была известна. Как вспоминает Лев Клейнборт (1998: 261–262), однажды Есенин при встрече сказал: «— А Городецкому я в морду дал… да… Я раскрыл глаза от удивления… Я считал, что его личная близость с тем же Городецким была ему на пользу. Но он это так принял…». При людях он вводил Клейнборта в курс ссоры и без стеснения убеждал его: «— Нет, с чем подойдут, с тем и отойдут. И затем, уже ломаясь: — Ну их… нешто сами себе не можем сделать удовольствие?» Вполне в нарциссическом духе: гомосексуальности он противопоставлял онанизм. Любой обычный парень сказал бы: «Разве мало женщин вокруг?».6. Есенин и женщины
Очень характерно отношение молодого Есенина к женщине. Хорошо его знавший критик Клейнборт пишет о его почитании Блока. «Однако к «Незнакомке» он был равнодушен. И вместе с тем я вспомнил, что женщиной совсем и не пахнет в стихах самого Есенина, по крайней мере в тех, которые я знал. Место женщины у него занимала родина». «Кажется, женщины производили на Есенина действие отталкивающее», — вторил Борисов-Шерн. «Те, кто знал Есенина хорошо, — подтверждал Ивнев, — понимали, что он никогда не любил по-настоящему ни одну женщину». Это не значит, что он отказывался от услад с женщинами. Да нет, гулял, как говорится. Но как-то физиологично. Клейнборт вспоминает одну поэтессу (видимо, Любовь Столицу), писавшую языческие стихи, согретые страстным чувством. Но это была лишь видимость. «На самом деле из всех строк глядела грусть одинокого существа, та, которая бывает лишь у очень несчастных женщин. Заглянув в стихи, Есенин усмехнулся. — Чему вы? — спросил я. — Знаю я эту… блудницу… Ходил к ней… — Ходили? — переспросил я — Да… Не один. Ходили мы к ней втроем… вчетвером… — Втроем… вчетвером? — с удивлением переспросил я. — Почему же не один? — Никак невозможно, — озорной огонь заблестел в его глазах. — Вот — не угодно ли? Он прочел скабрезных четыре стиха. — И это ее! — сказал он. — Кто ее «меда» не пробовал!» Клейнборту «бросились в глаза очертания его рта. Они совсем не гармонировали с его общим обликом, таким тихим и ясным. Правда, уже глаза его были лукавы, но в то же время всё же наивны. Губы же были чувственны, и за этой чувственностью пряталось что-то, чего недоговаривал общий облик. — Теперь, — не отвечая мне, собственно, на вопрос, он вдруг сказал, — я баб люблю лучше… всякой скотины. Иной раз совсем без ума станешь. И затем, немного погодя: — Но глупей женского сердца ничего нет». Описав далее его сердцеедческие замечания о проходящих мимо женщинах, Клейнборт добавляет: «Он уже был женат на работнице той типографии, где работал, имел ребенка. Но ни одним словом не вспоминал ни о жене, ни о ребенке» (Клейнборт 1998: 258). Брак с Зинаидой Райх продолжался всего до 1919 г., и за это время родились дочь и сын. Семейство переехало в Москву. Но сын родился уже без отца. Тот не ужился с женой и развелся. В последующих браках ему уже мало было, чтобы женщина была просто по-женски привлекательной. Ему непременно нужно было нечто дополни тельное — чтобы она была знаменитой, богатой, престижной. Да и то могла удержать его ненадолго. Что уж и говорить о мимолетных связях (о проститутках речи не было — их он боялся и сторонился). С. Б. Борисов (ГИК 2000, 2: 309) вспоминает: «И презирал же Сергей этих женщин. Ничего тут, конечно, рыцарского не было, честь их он не щадил, да и не скрывал он этого от женщин… Помню, летом в 1923 г. я встретил его на Тверской в обществе элегантной дамы. Знакомя меня, он сказал: — Я ее крыл… Дама, красная, как помидор, крутила зонтик… Сергей бесцеремонно подал даме руку, поцеловал и сказал: — Ну, до свиданья… Завтра приходите. Когда дама ушла, я начал ему выговаривать. — А ну их к черту, — ответил так, или еще резче, Сергей, — после них я так себя пусто чувствую, гадко…».7. В имажинистах
Среди его любовных переживаний определенно продолжались и увлечения мужчинами. Так позже, в 1924 г., он признается в стихотворении поэту Льву Иосифовичу Повицкому:Старинный друг,
Тебя я вижу вновь
Чрез долгую и хладную
Разлуку.
Сжимаю я твою
Мне дорогую руку
И говорю, как прежде,
Про любовь.
 Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф.
Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф.
«— Анатолий всё сделал, чтобы поссорить меня с Райх. Уводил его из дома. Постоянно твердил, что поэт не должен быть женат» (280). Мариенгоф был тоже из провинции — из Пензы. Однако был очень холеным и держался по-барски. Шил костюмы у лучшего столичного портного, стригся у классного парикмахера. Дело в том, что, будучи кузеном руководителя большевистской «Центропечати» Бориса Малкина, Мариенгоф познакомился с всесильным тогда Бухариным. Тому стихи пензенца не понравились, но преданность идеям революции приглянулась. Сразу же Мариенгоф получил место, высокую зарплату, отличное жилье (в квартире «уплотненных» буржуев), связи и возможности. Тогда-то он и организовал новое поэтическое течение — «имажинизм», от франц. «имаж» — образ. Течение якобы аполитичное и экстравагантное, с лозунгами чистого искусства и небывалого образа. Поддержка большевистских верхов им была обеспечена, видимо, потому, что их крикливые и дурашливые эскапады разрушали старую литературу с ее гражданскими мотивами, направленными, однако, не на поддержку режима. Имажинистов поддержал вождь революции Троцкий, его начальник охраны террорист Яков Блюмкин каждый вечер проводил с молодыми поэтами в литературных кафе. Они разъезжали с поездом Луначарского, беспрепятственно издавались. Для эпатажа публики щеголяли по Москве в черных цилиндрах, смокингах, с тросточками в руках. Есенин был им позарез нужен, поскольку уже имел имя. А Есенину очень по душе пришлась аполитичность группы, поскольку он, близкий к эсерам, уже успел разочароваться в благостности большевизма для крестьянства. А больше всего его поразили блага, которыми были осыпаны имажинисты, и их связи в верхах. Ему грозил призыв в Красную Армию, отправка на фронт, а тут — его не тронули. Более того, он мог теперь вести роскошную жизнь, пировать в литературных кафе и ресторанах, пить лучшие вина — это в обстановке, когда страна бедствовала. «В ту пору, — вспоминает Ивнев, — он был равнодушен к вину, то есть у него не было болезненной потребности пить, как это было у большинства наших гостей. Он немного пил и много веселился, тогда как другие много пили и под конец впадали в уныние и засыпали (Восп. 219–220). Но лиха беда начало. Вскоре Мариенгоф вдвоем с Есениным организовали собственное кафе «Стойло Пегаса». Сборник «Звездный бык» Есенин умудрился отпечатать в типографии поезда Троцкого! Поскольку Мариенгоф рисуется в нашей литературе сугубо отрицательно (и не без оснований), этими идеологическими, материальными и утилитарными мотивами обычно и ограничивается объяснение их внезапной дружбы. Но налицо была совершенно несомненная личная симпатия. Приятель Есенина Александр Сахаров, работник издательства, вспоминает: «Дружба Есенина к Мариенгофу, столь теплая и столь трогательная, что никогда я не предполагал, что она порвется. Есенин делал для Мариенгофа всё, всё по желанию последнего исполнялось беспрекословно. К любимой женщине бывает редко такое внимание. Есенин ходил в потрепанном костюме и разбитых ботинках, играл в кости и на эти «кости» шил костюм или пальто у Деллоне Мариенгофу. Ботинки Мариенгоф шил непременно «в Камергерском» у самого дорогого сапожного мастера, а в то же время Есенин занимал у меня деньги и покупал ботинки на Сухаревке» (Сахаров 226–227). Есенин поселился у Мариенгофа. Мариенгоф описал это время в своих мемуарах, первую серию которых он назвал «Роман без вранья» — несомненно потому, что современники могли уличить его во вранье — в умолчаниях, передвижке акцентов, выпячивании своей роли, выдумках и т. п. Мариенгоф описывает, как в начале 20-х они были вынуждены ютиться в одной холодной каморке, денег на дрова не было. Спали на одной кровати, а чтобы согреться, нанимали пышную блондинку (это было дешевле дров). Ее запускали в холодную постель, которую ей надлежало нагреть своим жаром. Затем она удалялась, и оба поэта уютно засыпали в тепле под одним одеялом. Непохоже, чтобы у Мариенгофа не хватило денег на дрова. Еще невероятнее, что блондинка стоила дешевле охапки дров. Всего менее вероятно, чтобы двое молодых и горячих парней вели себя столь асексуально. Некая основа у этого рассказа была (высосать такое из пальца трудно), но завершение несомненно подправлено в угоду пуританскому вкусу издателя. А что же было на деле? Либо блондинка не уходила без любовных ласк (любовь втроем — ужас для советского редактора), либо любовные ласки парни сберегали друг для друга (что еще ужаснее). Когда к ним приехала Зинаида Райх и привезла Есенину дочь, он продолжал спать с Мариенгофом. А ночью, шепотом, в постели — вспоминает Мариенгоф, — «нежно обняв за плечи и купая свой голубой глаз в моих зрачках, Есенин спросил: — Любишь ли ты меня, Анатолий?…» — и уверял его, что жить с Зинаидой не может. — «Дай я тебя поцелую». Есенин ревновал Мариенгофа, напивался, если тот не возвращался на ночь домой. Когда в ноябре 1920 г. Рюрик Ивнев приехал в Москву и увидел их на литературном вечере, «Они сбегали с лестницы, веселые, оживленные, держа друг друга за руки. В ту минуту они мне показались двумя гимназистами, резвящимися на большой перемене». Если прочесть прощальное стихотворение, адресованное Есениным Мариенгофу, то последние сомнения в любовном характере их связи отпадут.
Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств -
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.
Возлюбленный мой! Дай мне руки -
Я по-иному не привык, —
Хочу омыть их в час разлуки
Я желтой пеной головы.
Прощай, прощай. В пожарах лунных
Не зреть мне радостного дня.
Но все ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня.
 Сергей Есенин с Айседорой Дункан и ее приемной дочъю Ирмой. 1922 г.
Сергей Есенин с Айседорой Дункан и ее приемной дочъю Ирмой. 1922 г.
Вообще-то, за границу он собирался с Рюриком Ивневым, своим старым и добрым другом, который к имажинистам не принадлежал. Рюрик был одно время секретарем у самого наркома Луначарского. Благодаря его протекции, даже получили добро Луначарского. Но поехал Есенин всё- таки не с Ивневым. В 1921 г. Есенин познакомился со знаменитой американской танцовщицей Айседорой Дункан, возродившей античный танец и приехавшей на помощь революции. Она создала тут школу, а Советское правительство пожаловало ей особняк на Пречистенке. Осенью Есенин переехал к ней жить, а вскоре они зарегистрировали брак и улетели за границу. Айседора была на 18 лет старше Есенина, была раньше любовницей фабриканта швейных машин Зингера, поэта д’Аннунцио и многих других, но официально для нее это был первый брак. С. Городецкий, не отрицая, что Айседора и Сергей любили друг друга, оговаривался: «Конечно, Есенин был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще он мог влюбляться. Вообще же этот сектор был у него из маловажных. Женщины не играли в его жизни такой роли, как, например, у Блока» (Городецкий 1984: 44). С самого начала брак с Айседорой не задался. Страстные любовные сцены сменялись скандалами. Есенин бил свою пожилую иностранную жену, как крестьянин русскую бабу, устраивал пьяные скандалы в ресторанах и в гостях. Многие завидовали, считали что Есенин не вернется. Особенно злился Мариенгоф. Он считал, что это брак по расчету. Возможно, просто ревновал и завидовал. Но Есенин, пропутешествовав по Европе и Америке 1921 и 1922 годы, вернулся в Россию. Он не мог перенести, что газеты писали только о ней, а он упоминался лишь как ее молодой муж. Дела у Дункан шли все хуже, ее дворцы были проданы с молотка, сама она вела жизнь суматошную. В августе 1922 г. он уже пишет ей из Москвы: «С Пречистенки я съехал…, сейчас переезжаю на другую квартиру, которую покупаем вместе с Мариенгофом. Дела мои блестящи…, мне дают сейчас большие средства на издательство. Желаю успеха, здоровья, и поменьше пить…. Любящий С. Есенин» (Занковская 275). Такие надежды в нем породила встреча с Троцким. От Дункан он сбежал навсегда. Но вскоре наступил полный разрыв с Мариенгофом. Есенин решил, что тот обманывал его в делах финансовых, присваивая себе прибыль от их совместных предприятий — магазина, кафе и прочих. На деле прибыли уже не было, и Мариенгоф был вынужден все продать. Кроме того, Мариенгоф неожиданно женился. Есенин говорил: «— Развел меня с Райх, а сам женился и оставил меня одного» (воспоминания Миклашевской). Есенин хлопнул дверью и ушел. Но найти гостеприимный дом теперь было трудно: мигом ему отказали от своих домов и друзья Мариенгофа. Тем не менее когда Мариенгоф с женой долго не возвращались из-за границы, Есенин пришел к Миклашевской и попросил: «Пошлите этим дуракам денег, а то им не на что вернуться. Деньги я дам, только чтобы они не знали, что это мои деньги». Он возмущался, что Мариенгоф ходит в шубе и бобровой шапке, а жена его — в короткой кофтенке, что Мариенгоф едет в мягком вагоне, а жена его — в жестком. Миклашевская поясняет: «Он любил Мариенгофа, и потому и волновали его недостатки» (1998: 283). Поистине, любовь зла…
8. Путь к петле
Поселился он у молодой журналистки Галины Бениславской, полугрузинке-полуфранцуженке, ранее работавшей короткое время секретаршей в ЧК. Он ей не очень доверял по этой при чине, а она его, вне сомнения, беззаветно любила. Есенин объявил ее своей женой. Ее законный муж, ревновавший ее к Есенину, хотел его зарезать, но покончил с собой. У журналистских расследователей она фигурирует в списке агентов ЧК, убивших Есенина, но ее современница и соперница Миклашевская пишет о ней: «Темные две косы. Смотрит внимательными глазами, немного исподлобья. Почти всегда сдержанная, закрытая улыбка. Сколько у нее было любви, силы, умения казаться спокойной. Она находила в себе силу устранить себя, если это нужно Есенину. И сейчас же появляться, если с Есениным стряслась какая-нибудь беда» (283). Он объяснял ей, что очень ценит ее, но как женщину не любит. Впоследствии она застрелилась на его могиле. А тогда он жил в ее квартире. Потом туда же переехали и его сестры. Тогда же, в 1924 г., в его жизнь вошел новый друг — на смену Мариенгофу — молодой поэт Вольф Эрлих, на 7 лет младше Есенина. Приехавший в Ленинград из Симбирска и Казани в 1921 г., он учился недолго в Петроградском университете, а затем работал связистом и часто ездил по стране (в Москву и на Кавказ). Обожал Есенина и его поэзию. Они жили в разных городах, но тянулись друг к другу. Почему-то именно он оказался самым близким поэту в его последние дни. Он, а не одна из жен или любовниц. А Эрлих был в прошлом личным секретарем Михаила Кузмина, чьи вкусы не вызывают ни малейшего сомнения. В прощальном письме Есенину Галина Бениславская дала жесткие характеристики его друзей и просила относиться к ним настороженно. Клюева она вообще ненавидела и называла отвратительным: «Ханжество, жадность, зависть, подлость, обжорство, животное себялюбие и обусловленные всем этим: лицемерие и хитрость — вот нравственный облик этого когда-то крупного поэта». Только об Эрлихе она отзывалась иначе: «Из твоих друзей — очень умный, тонкий и хороший — Эрлих. Это, конечно, не значит, что ему ничего от тебя не нужно. Но на то, что ему надо, он имеет право. Больше среди них я никого не видела». Прощальное письмо было написано вот по какому поводу. В марте 1925 г. Есенин познакомился с внучкой Льва Толстого Софьей и летом, к огромному и молчаливому горю Галины, женился на Софье, переехал жить в ее большую квартиру. Софья Андреевна была женщина умная, солидная, похожая на своего деда. Но и в этом браке Есенин не был счастлив. Еще перед свадьбой раздумывал, на ком жениться — на дочери Шаляпина или на внучке Льва Толстого. Советовался с друзьями: «Как это будет звучать — Шаляпина, Есенин?» Просил совета у Ивнева: «Скажи откровенно, что звучит лучше: Есенин и Толстая или Есенин и Шаляпина? … на которой из них мне остановить выбор?» Ивнев отказался выбирать и спросил: «А разве тебе все равно, на какой?» После некоторых колебаний Есенин выпалил: «Вот что, Рюрик. Я женюсь на Софье Андреевне Толстой» (Ивнев 1978: 198–199). Перед самой женитьбой на Толстой, будучи с ней в гостях, Есенин позвал Либединского в другую комнату и с испуганным лицом проговорил: «Я поднял подол, а у нее ноги волосатые… Я не хочу. Я не могу жениться… Нельзя же так — волосы, хоть брей». Но одумался и стал говорить, что все выйдет здорово: «Сергей Есенин и Толстая, внучка Льва Толстого!» (ГИК 2000, 2: 139). Софья его любила, но брак был несчастливым. Он быстро возненавидел жену, матерился ей в лицо. Своему последнему избраннику Вольфу Эрлиху писал в июле:Милый Вова,
Здорово.
У меня — не плохая «Жись»,
Но если ты не женился,
То не женись.
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит,
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.
Ночь морозная.
Тих покой перекрестка.
Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.
Где-то плачет
Ночная зловещая птица.
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.
Вот опять этот черный
На кресло мое садится,
Приподняв свой цилиндр
И откинув небрежно сюртук…
«Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу…
Месяц умер,
Синеет в окошке рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один…
И разбитое зеркало…
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
Помяни, чёртушко, Есенина
кутьей из углей да омылков банных!
А в моей квашне пьяно вспенена
Опара для свадеб да игрищ багряных.
……………………………
Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка,
Слюной крепил мысли, слова слезинками,
Да погасла зарная свеченька, моя лесная лампадка,
Ушел ты от меня разбойными тропинками!
……………………………
А всё за грехи, за измену зыбке,
Запечным богам Медосту да Власу.
Тошнехонько облик кровавый и глыбкий
Заре вышивать по речному атласу!
Рожоное мое дитятко, матюжник милый,
Гробовая доска — всем грехам покрышка.
Прости ты меня, борова, что кабаньей силой
Не вспоил я тебя до златого излишка!
……………………………
Только мне, горюну, — горынь-трава…
Овдовел я без тебя, как печь без помяльца,
Как без Настеньки горенка, где шелки да канва
Караулят пустые, нешитые пяльца!
9. Клюев без Есенина
Овдовевший Клюев недолго пребывал безутешным. Были и помимо Есенина поэты, склонные к однополой любви и даже готовые влюбиться в иконописного мэтра.. С 1931 г. Клюев постоянно живет в Москве. И тут влюбился в него не кто иной, как Рюрик Ивнев. Правда, он любил и других, но Клюева, несомненно, тоже. Его дневники 1930–1931 гг. заполнены записями свиданий. Сентябрь. Коля (Клюев) приезжает из Каширы в Москву на время. Какая радость! 29 октября — визит к Коле в Каширу. Своим внутренним огнем Клюев, Есенин и Шергин напоминают Ивневу Распутина. Всё же некоего Анатолия, Тосика, Ивнев любит больше, но — увы! — с ним приходится расстаться. Опять же приехал Коля, на сей раз из Серпухова. Визит к Кузмину и его возлюбленному Юркуну. Ссора с Колей. Далее мирятся («Как он мне дорог!»), Коля читает свои поэмы. «Когда я сплю с Колей, я воображаю себя самым счастливым человеком на свете». 6 мая — вернулись домой и улеглись поздно и, хотя оба были уставшие, — тут следует какое-то шифрованное выражение: емар ба (не начальные ли буквы дают расшифровку?). Неожиданно полный разрыв с Колей. Тот ушел и долго не появлялся. Но потом соседи сказали, что кто-то приходил и спрашивал, кто-то с большими бровями. Узнал: это Коля… (Ivnev 1995). Были и свежие юноши, готовые обратить внимание на стареющего Клюева. Эпизод знакомства 44-летнего поэта с 17-летним выпускником киевского училища живописи Толиком Кравченко до того вкусно описан К. Ротиковым, что я не откажу себе в удовольствии процитировать эти пассажи из книги «Другой Петербург». В 1928 г. студент отправился в Ленинград поступать в Академию Художеств и заглянул на выставку в Обществе поощрения художеств (ныне Дом Художника). Далее по книге: «Его внимание привлек старичок с бородой (напомним, сорока четырех лет), в сапогах и простой деревенской свитке, о чем-то интересно беседующий с окружившей его публикой. Интеллигентного, как отметил Толик, вида. Поглазев на старичка, показавшегося ему похожим на Шевченко, юный художник продолжил осмотр выставки и вдруг обнаружил портрет — того самого старичка, по фамилии Клюев. Об этом мы узнаем из письма, отправленного Толиком в тот же день матери в Киев. Мальчик был, очевидно, начитанный и пояснил маме в письме про Клюева: «знаешь, что Есенина вывел в люди, т. е. в поэты». Не можем удержаться от дальнейшего цитирования письма сообрази тельного юноши. «Подхожу к старику и кружусь, вроде бы на картины моргаю, а куда к черту — на Клюева пялюсь! Смотрю, старичок подходит ко мне, спрашивает название картины и заговаривает об искусстве» (нет, просто наглядное пособие, руководство для начинающих!)… «Проходили мы мимо нарисованного портрета, я возьми и сравни их обоих, портрет и Клюева. Заметил это. Стали говорить, я сейчас же вклинил об Есенине. Вижу, старичок совсем ко мне душу повернул» (учитесь, юноши, учитесь!)… Вскоре уж мальчик стал называть Клюева Коленькой. Через год поэт придумал возлюбленному приставку к фамилии «Яр». На лето оба уехали отдыхать в деревню Потрепухино Вятской области близ Кукарки (ныне г. Советск Кировской обл.). Анатолию Яр-Кравченко Клюев посвящает стихи 1932 года:Моя любовь — в полях капель,
Сорокалетняя, медвежья…
Мое дитя, в дупле рысенок,
Я лысый пень, а ты — ребенок.
Пушок янтарный над губой,
Сорокалетнею судьбой
Я надломлю тебя под корень…
Ты бормотал, что любишь деда
За умный лоб, за мудрый глаз!..
Над свежей могилой любови
Душа словно дверь на засове…
Вкушая, вкусих мало меда,
Ты умер для песни и деда,
которому имя — Поэт.
Ныряя памятью, как ласточки в закат,
В печную глубину краюхи,
Не веришь желтокожей голодухе,
Что кровью вытечет сердечный виноград!
Ведь сердце — сад нехоженный, немятый!
Пускай в калитку год пятидесятый
Постукивает нудною клюкой, —
Садовнику за хмурой бородой
смеется мальчик в ластовках лопарских,
В сапожках выгнутых бухарских…
Уже Есенина побаски
Изменены, как синь Оки,
Чья глубина по каблуки,
Лишь в пасмо серебра чешуйки…
Но кто там в росомашьей чуйке,
В закатном лисьем малахае,
Ковром зари, монистом бая,
Прикрыл кудрявого внучонка?
Иртыш пелегает тигренка —
Васильева в полынном шелке…
Я пил из лютни Жемчуговой
пригоршней, сапожком бухарским,
И вот судьею пролетарским
Казним за нежность, тайну, слово,
За морок горенки в глазах, —
Орланом — иволга в кустах.
Не сдамся!
Семейство Набоковых и гомо сексуальность
Помни, что все, что тебе говорится, по сути тройственно: истолковано рассказчиком, перетолковано слушателем, утаено от обоих покойным героем рассказа.В. Набоков. Истинная жизнь Себастиана Найта.
Он любит говорить вам неправду и заставить вас в эту неправду поверить, но еще больше он любит сказать вам правду и заставить думать, что он лжет.Эдмунд Уилсон о Владимире Набокове.
1. Скандал вокруг «Лолиты»: автор и герой
Набоков оставил три автобиографии («Убедительное доказательство: Мемуары» 1951, «Память, говори» 1951, «Другие берега» 1966), и почти все его многочисленные романы авто биографичны. Но основываться на его собственных рассказах о себе рискованно: он известен тем, что во всю морочит и дурачит читателя, а существенные факты умалчивает. Однако есть немало воспоминаний родных и друзей, вышло по меньшей мере три добротных биографии (Field 1967; Boyd 1990, 1991; Носик 1995). В истории литературы имя Набокова сопряжено со скандалом из-за особой сексуальности одного из его романов, но повод этого скандала — не гомосексуальность, хотя некоторые издательства ожидали от Набокова именно роман о гомосексуальности, и гомосексуальный эпизод в романе есть. «Лолита», двенадцатый роман Набокова, был издан впервые в 1955 году во Франции. Несмотря на то, что Набоков к тому времени был уже известным писателем и жил в Америке, а роман был написан на английском, ни в Америке, ни в Англии издать его поначалу не удавалось. Роман воспринимался как порнография. Дело не в том, что он содержал сексуальные сцены. Во многих книгах акты сношения были описаны гораздо более откровенно. Но в этом романе подробно показывались любовь и половые сношения между взрослым мужчиной и 12-летней девочкой, а это в цивилизованном мире квалифицировалось как половое извращение, педофилия. Поскольку 12-летняя девочка находится в пубертатном возрасте, то есть в возрасте полового созревания, в ней уже можно разглядеть женские формы, и ее привлекательность понятна читателю. Поэтому писателю было не так уж трудно добиться, чтобы влечение, неестественное с точки зрения общественной морали, выглядело в романе как естественное. Но естественность — это то, чего писатель по специфике своего дарования не добивался. Он не реалист и не хотел быть реалистом. Стиль, язык, формалистические изыски для него — цель и смысл искусства. Если тема (педофилия) естественна как реальность, то ее подача в романе совершенно искусственна и надуманна, но изложена столь мастерски в деталях, что надуманность теряется. Вкратце сюжет таков. Герой романа Гумберт Гумберт (надуманность начинается с его имени) провел в прошлом некоторое время в психиатрической лечебнице, то есть он не совсем нормален. Снимая квартиру, он влюбляется в несовершеннолетнюю дочь хозяйки Лолиту (это уменьши тельное от Долорес) и для того, чтобы быть рядом с ней, женится на нелюбимой хозяйке, ее матери. Найдя его дневник и прочтя откровения о его преступной страсти к ее дочери, потрясенная женщина мечется в стремлении обезвредить его и погибает под автомобилем. С ее дочерью (теперь уже своей падчерицей) он отправляется в путешествие по городкам Америки и в одном из мотелей добивается удовлетворения своей страсти или, точнее, охотно поддается инициативе Лолиты. Маленькая Лолита оказывается уже не девушкой: она еще раньше пробовала секс в летнем лагере с угрюмым 13-летним мальчишкой. Впрочем, вскоре после первого сношения с отчимом Лолита заявляет, что у нее «там внутри все болит», что она не может сидеть, что Гумберт разворотил в ней что-то, и угрожает пожаловаться полиции. Гумберта она не любит, и ему приходится задаривать ее, чтобы она соглашалась на сношения, по необходимости тайные, скрываемые от окружающих. Так проходит два года Тут в фабулу вводится явно искусственная конструкция. В очередной поездке за ними все время скрытно следует некий драматург, имеющий ту же страсть к девочкам и ради озорства то и дело оставляющий загадочные знаки своего присутствия поблизости. Ему удается соблазнить Лолиту, и она убегает с ним. Два года Гумберт ищет их. Наконец находит только Лолиту уже беременной, повзрослевшей, поблекшей, замужем за каким-то непримечательным молодым человеком, глухим автомехаником. Почему она ушла от этого драматурга Куилти? Лолита выдает Гумберту, что ее побудило оставить Куилти, который ей, в общем, нравился сексуально. В его ранчо жизнь состояла сплошь из пьянства и наркотиков, и все там занимались ужасными вещами. Она отказалась, и он ее прогнал. Что за вещи? «Ах, страшные, поганые, фантастические вещи. Видишь ли, у него там были и девочки и мальчики, и несколько взрослых мужчин, и требовалось, чтобы мы бог знает что проделывали вместе в голом виде, пока мадам Дамор производила киносъемку». Что именно проделывали? «Ах, гадости… Дикие вещи, грязные вещи. Я сказала — нет, ни за что не стану — твоих мерзких мальчишек, потому что мне нужен только ты». Гумберт поясняет: «она употребила непечатный вульгаризм для обозначения прихоти, хорошо известной нам обоим». Гумберт называет девочек, обладающих для него привлекательностью, «нимфетками» — не столько по античным «нимфам», слывшим сексуально неистовыми (отсюда «нимфомания»), сколько по «нимфе», как называется личинка бабочки. Хоть Лолита и потеряла свое очарование «нимфетки» (бабочка вылупилась), Гумберт, к собственному удивлению, продолжает любить ее и жаждет воссоединения, но она не соглашается. Он отправляется на поиски человека, разрушившего его счастье, и, найдя, убивает его. Все это якобы описано им самим от первого лица в тюрьме перед казнью. Правда, злодей Гумберт в итоге наказан судьбой: любовь осталась безответной, привела к убийству, его ждет казнь. Да и вообще, роман не о сексе, роман о силе любви. Поэтому описание сделано так, что в ряде мест читатель вынужден сочувствовать герою, хотя и сознает неправомерность его действий и даже присоединяется к авторской иронии по его поводу. Ну, естественно, что в пуританской Америке четыре издательства, к которым последовательно обращался писатель («Вайкинг», «Саймон энд Шустер» и др.), отвергли его роман. Одни сочли роман «чистейшей порнографией», другие признали его «прозой высочайшей пробы», но боялись неприятностей от суда и общественного мнения. Одно издательство предложило компромисс. Оно готово было подумать над публикацией, если бы автор переделал Лолиту в двенадцатилетнего мальчика, которого Гумберт, теннессийский фермер, соблазняет в амбаре, с фразами типа «Он парень шалый», «Все мы шалые» и т. п. Забавно, что растление мальчика сочтено было меньшим грехом, чем лишение девственности «нимфетки». Журналы также не брали рукопись, тем более что Набоков хотел опубликовать ее под псевдонимом и остаться в тени, а в этом случае все ожидаемые неприятности падали на редакцию. Тогда Набоков отослал роман в парижское англоязычное издательство «Олимпия», специализировавшееся на выпуске рискованной классики (де Сад), авангардных авторов (Генри Миллер, Уильям Берроуз и т. п.) и просто порнографии. Глава издательства Морис Жиродиа расценил книгу как «проявление гения» и магическое «изображение одной из запретнейших человеческих страстей в совершенно искренней и абсолютно пристойной форме. Я сразу почувствовал, — продолжал он, — что «Лолите» суждено стать величайшим произведением современной литературы, которое раз и навсегда покажет как всю бесплодность цензуры по моральным соображениям, так и неотъемлемое место изображения страсти в литературе» (Классик 2000: 260). Прочтя книгу, известный английский писатель Грэм Грин в ежегодном обзоре в «Сэнди Таймз» рекомендовал читателям «Лолиту» как лучшую книгу года. Журналист Джон Гордон откликнулся так: «По рекомендации Грэма Грина я приобрел «Лолиту». Без сомнения, это грязнейшая книжонка из всех, что мне довелось читать… Всякий, кто осмелился бы напечатать или продать ее в нашей стране, несомненно, отправился бы за решетку». Грин ответил иронически. Разгорелся громкий скандал, сделавший Набокову сильнейшую рекламу. Вышло более 250 рецензий и откликов. Пятитысячный тираж был расхватан в момент. По просьбе британского министра внутренних дел французское министерство наложило арест на книгу и на всю продукцию издательства «Олимпия». На защиту встала вся французская пресса. Это вызвало волну переводов «Лолиты» на разные языки. На долгое время роман был запрещен в Аргентине, Испании, Австралии, ЮАР и, разумеется, в СССР. В Америке был за три недели сметен стотысячный тираж. Набоков сразу стал весьма состоятельным человеком. Журнал «Нью рипаблик» писал: «Владимир Набоков — художник первого ряда… Он никогда не получит Пулитцеровскую или Нобелевскую премии, но тем не менее «Лолита» — вероятно, лучшее художественное произведение, вышедшее в этой стране… со времен фолкнеровского взрыва в тридцатых годах… Он, да поможет ему Бог, уже классик» (Классик 2000: 263).2. Корни «Лолиты»
Сам Набоков, который называл «Лолиту» своим любимым произведением, написал послесловие к нему, где разбирал вопрос о том, порнография ли это. Он рассматривал, что есть порнография, и проводил четкую границу между порнографией и эротикой. «Лолита», разумеется, не подходила под его определение порнографии. В 1959 г. (это год первой публикации романа в Англии) он написал стихотворение, подражающее Пастернаку или пародирующее его. У Пастернака по поводу истории с «Доктором Живаго» было сказано:Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Какое сделал я дурное дело,
я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей?
О, знаю я, меня боятся люди
и жгут таких, как я, за волшебство…
… От солнца заслонясь, сверкая
подмышкой рыжею, в дверях
вдруг встала девочка нагая
с речною лилией в кудрях,
стройна, как женщина, и нежно
цвели сосцы — и вспомнил я
весну земного бытия,
когда из-за ольхи прибрежной
я близко-близко видеть мог,
как дочка мельника меньшая
шла из воды, вся золотая,
с бородкой мокрой между ног.
И вот теперь, в том самом фраке,
в котором был вчера убит,
с усмешкой хищного гуляки
я подошел к моей Лилит…
Двумя холодными перстами
по-детски взяв меня за пламя:
«Сюда», — промолвила она.
Без принужденья, без усилья,
лишь с медленностью озорной,
она раздвинула, как крылья,
свои коленки предо мной.
И обольстителен и весел
был запрокинувшийся лик,
и яростным ударом чресел
я в незабытую проник.
Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде
неописуемый сквозил, —
как вдруг она легко рванулась,
отпрянула и, ноги сжав,
вуаль какую-то подняв,
в нее по бедра завернулась,
и полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался…
…Молчала дверь. И перед всеми
мучительно я пролил семя
и понял вдруг, что я в аду.
(цит. по: Носик 1995: 161–2)
3. Детство Набокова
 Сергей и Владимир Набоковы с Mademoiselle в 1908 г. (Выра под Петербургом)
Сергей и Владимир Набоковы с Mademoiselle в 1908 г. (Выра под Петербургом)
Владимир Владимирович Набоков родился в 1899 г. в Петербурге первенцем в дворянской, очень родовитой и богатой семье. Дед и отец его были министрами, мать — из богатейшего купеческого рода Рукавишниковых, в доме было полсотни слуг. Когда мать выезжала в магазины, на запятках кареты стоял лакей, который потом за ней нес коробки с покупками. В Петербурге им принадлежал трехэтажный особняк на Большой Морской недалеко от Исаакиевского собора. В Выре под Петербургом было имение, где они жили летом. Выезжали ежегодно и за границу — в Италию или Швейцарию. Обучать детей рисованию приходили Бенуа и Добужинский. Семья была либеральная и англофильская. Детей воспитывали английские и французские бонны и гувернантки, так что дети свободно говорили по-английски и по-французски. Когда Володе (в семье его звали Лоди) было 6 лет, отец заметил, что они с братом отлично читают и пишут по-английски, но русской азбуки не знают и по-русски могут прочесть только некоторые слова, совпадающие с английскими по очертаниям букв (например, «какао»). Владимир Набоков и позже писывал «побрекфастать» вместо «позавтракать». Для русского образования стали нанимать учителей, а одиннадцати лет Володю отдали в Тенишевское училище. Подвозил его туда на авто шофер в ливрее (а было у Набоковых три автомобиля — по тем временам редкостная роскошь). В том же возрасте Володя, как писатель весьма целомудренно описывает, познакомился в Берлине на скетинге (катке для катания на роликах) с высокой американочкой. Этому предшествовали увлечения девочками-однолетками на пляжах в Болье и Биаррице: в пять лет — румынкой Гика, восьми лет — сербиянкой Зиной, десяти лет — француженкой Колетт. С нею даже целовались и пытались убежать от родителей. Но теперь, в Берлине, к этому присоединились сексуальные ощущения. «По ночам я не спал, воображая эту Луизу, ее стройный стан, ее голую нежно-голубоватую шею, и удивлялся странному физическому неудобству, которое если и ощущалось мною раньше, то не в связи с какими-нибудь фантазиями, а только оттого, что натирали ретузы». Потом он заметил «в порядке новых отроческих чудес», что любой женский образ, позирующий ночному мечтанию, вызывает то же загадочное неудобство. Об этих симптомах мальчик простодушно справился у отца и получил благодушное успокоение — что это природная ассоциация (Набоков 1991: 151–152). Своими переживаниями Володя обменивался весьма невинно со своим кузеном Юриком Раушем, лежа на траве. «Невинность наша кажется мне теперь почти чудовищной…» — при свете исповедей малюток в книгах Хэвлока Эллиса о всяких греко-римских грехах. На следующий год Володя влюбился в Поленьку, дочь кучера, но дело ограничивалось обменом взглядами и улыбками. Он «и не думал о сближении с нею, да при этом пуще боялся испытать отвращение от запекшейся грязи на ее ногах и затхлого запаха крестьянского платья, чем оскорбить ее тривиальным господским ухаживанием» (Там же, 154–155). Когда обоим минуло 13 лет, он как-то сквозь кусты видел ее с тремя-четырьмя другими подростками — все они купались нагишом, и она спасалась от одной девчонки и «бесстыдно возбужденного мальчишки», которые гонялись за ней, хлеща по воде сорванными лилиями. Она тоже снилась барчуку ночью. Шестнадцати лет ее отдали в дальнюю деревню замуж. Когда Володе было 16 лет, он повстречал в Выре пятнадцатилетнюю дачницу, которую он условно называет Тамарой (на деле Валентина Шульгина). «Она была небольшого роста, с легкой склонностью к полноте, что благодаря гибкости ее стана да тонким щиколоткам не только не нарушало, но, напротив, подчеркивало и живость и грацию. Примесью татарской или черкесской крови объяснялся, вероятно, особый разрез ее веселых, черных глаз и рдяная смуглота щек» (Там же, 158). Володя влюбился с первого взгляда и уверял ее, что женится, как только окончит гимназию. Они устраивали свидания в укрытых местах, а гувернер следил за ними через телескоп, спрятавшись в кустах. Тогда они стали встречаться в закоулках дачных домов, потом в городе в парках и музеях, а на следующий год снова в Выре. В городе были поцелуи, какие-то ласки в музейном чулане и «наша безумная неосторожность». В преддверии большевистской диктатуры, в 1917 г., отец отправил семью в Крым, и там Владимир Набоков снова связался со своей Тамарой, на сей раз по почте. Он мечтал съездить в Петроград под чужим именем и повидаться с Тамарой, но мечтал слишком много и расточительно. «Я промотал мечту». Так и не поехал, а тут Крымская цитадель белых стала рушиться под напором красных, началась эвакуация, и Набоков на греческом судне, груженом фруктами, покинул Севастополь, в котором уже шла стрельба. «Половой опыт» Гумберта Гумберта весьма напоминает собственный опыт Набокова.
 В. Набоков в 1908 г.
В. Набоков в 1908 г.
«Я рос счастливым, здоровым ребенком, — вспоминает Гумберт, — в ярком мире книжек с картинками, чистого песка, апельсиновых деревьев, дружелюбных собак, морских далей и улыбающихся лиц… До тринадцати лет… было у меня, насколько помнится, только два переживания определен но полового порядка: торжественный благопристойный и исключительно теоретический разговор о некоторых неожиданных явлениях отрочества, происходивший в розовом саду школы с американским мальчиком…, и до вольно интересный отклик со стороны моего организма на жемчужно-матовые снимки с бесконечно нежными теневыми выемками в пышном альбоме Пишона La Beauté Humaine … Позднее отец, со свойственным ему благодушием, дал мне сведения этого рода, которые по его мнению могли быть мне нужны…» (Лолита 1997: 9–10). В тринадцать лет Гумберт встретил Анабеллу. «Внезапно мы оказались влюбленными друг в дружку — безумно, неуклюже, бесстыдно, мучительно…». При ночном свидании в саду «ее ноги, ее прелестные оживленные ноги, были не слишком тесно сжаты, и когда моя рука нашла то, чего искала, выражение какой-то русалочьей мечтательности — не то боль, не то наслаждение — появилось на ее детском лице. Сидя чуть выше меня, она в одинокой своей неге тянулась к моим губам, причем, голова ее склонялась сонным, томным движением, а ее голые коленки ловили, сжимали мою кисть и снова слабели…, меж тем как я, великодушно готовый ей подарить все — мое сердце, горло, внутренности — давал ей держать в неловком кулачке скипетр моей страсти» (Там же, 13–14). Очень похоже, что описывая свое свидание с Анабеллой, Гумберт просто более откровенно описал то, что Набоков гораздо скромнее излагал обиняками, описывая свои собственные ласки с Тамарой (то бишь Валентиной). Анабелла умерла, Тамара испарилась. Кроме романтического любовного опыта, Набоков вынес из детства спортивную фигуру (теннис, футбол, велосипед), а также серьезные увлечения шахматами и коллекционированием бабочек, переросшим в научные занятия энтомологией. Он добился больших успехов в классификации бабочек, сравнивая половые органы бабочек-самцов. Тут было какое-то особое сексуальное любопытство, потому что впоследствии, читая роман Жана Жене, где любовники сравнивают свои половые члены, Набоков говорил, что это ему близко — он проделывал это с бабочками (Могутин 2001: 162).
4. Писатель Сирин
Летом 1919 г. Набоковы оказались в Лондоне, а в 1920 г. семейство переехало в Берлин, где отец стал редактировать антисоветскую газету «Руль». Владимир и его брат остались в Англии и посту пили в английские университеты: Владимир в Кембриджский, Сергей в Оксфорд. Но ко второму семестру Сергей перевелся тоже в Кембридж, только в другой колледж: Владимир был в Тринити (Троицком), Сергей — в Джизес колледж (колледже Иисуса). В. Набоков в 1908 г.
В. Набоков в 1908 г.
В 1922 г. в Берлине на митинге либералов отец был убит русскими эмигрантами-монархистами. По окончании университета оба брата переселились в Берлин, где Владимир переводил и писал стихи, которые печатал в эмигрантской русской прессе. Избранный им псевдоним (вероятно, чтобы не путали с отцом) — В. Сирин (сирин — мифическая птица с женской грудью и Ефрем Сирин — сирийский монах-пустынник III века, поэт,автор известной молитвы о целомудрии и любви, молитвы, послужившей образцом Пушкину). Владимир часто влюблялся, несколько раз делал предложения, но всякий раз был отвергнут то самой невестой, то ее родителями: у него не было постоянной солидной работы. Жил случайными заработками, переводил, давал уроки, был приходящим гувернером в семьях богачей. Но в мае 1923 г. он встретился с Верой Слоним, дочерью еврея-лесоторговца и вла дельца издательства (в Петербурге), и влюбился с первого взгляда. Вера также воспитывалась гувернантками, знала с детства английский и французский, писала стихи. Она стала его первой читательницей, критиком, бесплатной машинисткой, музой, вдохновительницей и с апреля 1925 г. — женой. В 1930 г. родился сын Дмитрий. Впрочем, был один долгий роман, опасный для семейного благополучия, — с Ириной Гваданини, но Набоков нашел в себе силы порвать с ней.
5. Писатель Набоков
В Америке удалось с помощью друзей устроиться преподавать русскую литературу в колледже Уэлсли, а потом, восемь лет спустя, в Корнеллском университете. В Америке в 1941 г. писатель издал свой первый англоязычный роман «Истинная жизнь Себастиана Найта». Казалось бы, мотив для смены языка творчества ясен: переезд в англоязычную среду. Но роман был написан еще в 1938–39 гг. Перейти на английский язык заставили два обстоятельства. Во-первых, для обретения массового читателя нужно было переводить романы на основные западные языки, переводчики же не могли удовлетворить взыскательного автора и были очень дороги, а он ведь и сам владел языками. Во-вторых, русская читательская среда постепенно таяла: старые эмигранты умирали, а для молодого поколения основным был уже не русский язык, Советская же Россия была для него закрыта. С этого времени писатель стал писать по-английски и отказался от псевдонима, под которым он был известен русской эмиграции. Предстояло завоевать славу для нового имени — Владимира Набокова. С окончанием Второй мировой войны и началом холодной войны на русские курсы Набокова записывалось все меньше студентов. Ему пришло в голову объявить запись на курсы английской литературы, и проблема аудитории была решена. Теперь у Набокова было постоянное место, хороший оклад, свой дом, автомобиль (жена стала еще и шофером), у сына другой. Поэтому риск, связанный с выпуском второго англоязычного романа, был для него чувствителен. Но скандал принес немыслимый успех и богатство. Сын, Митя, стал переводчиком, служил в армии, на самолете прилетал домой повидаться. Теперь можно было оставить преподавание и даже переселиться куда-нибудь в милый уголок Европы. Набоковы выбрали Швейцарию, Монтре, а Дмитрий стал учиться оперному пению в Милане — у него был мощный бас. За «Лолитой» последовал ряд других книг на английском языке, не только романы, но и книги по энтомологии и литературоведению, в том числе четырехтомный комментарий к «Евгению Онегину». Биография Набокова разделена на четыре почти равных отрезка, каждый примерно по два десятилетия: 1) Россия, 2) Берлин — Париж, 3) Америка, 4) Монтре. В январе 1977 г. классик русской и американской литературы Набоков подвергся операции по поводу опухоли простаты и в июле умер.6. Странная гомофобия
У каждого классика есть свои причуды и капризы. Чайковский, Оскар Уайлд и Верлен с Рембо были гомосексуалами. Достоевский, Рихард Вагнер и Т. С. Эллиот были антисемитами. Михаил Кузмин был гомосексуалом и антисемитом. Льюис Кэрролл был педофилом. Набоков, подозреваемый в педофилии, был гомофобом. Он не любил гомосексуалов. Допускал гомофобные выражения, смущающие современного цивилизованного читателя. В одном письме он описывает городок Таос в штате Нью Мехико как «унылую дыру, полную третьеразрядных художников и увядших гомиков». Русского эмигрантского критика Адамовича он прозвал «Содомовичем» — из-за его очевидной сексуальной ориентации. Философа Маритена он не читал, но говорил, что его тошнит от Маритена уже потому, что о нем «с такой елейной любовью говорят педерасты» (Шаховская 1991: 19). В его романах гомосексуалами всегда оказываются отрицательные герои. В «Лолите» это негативный противовес Гумберту Гумберту — профессор французского Гастон Годэн. Его общество было сносно для Гумберта из-за совершенной безопасности. Лолиту профессор вплотную не замечал — принимал каждое ее появление за новую девочку. Описан он как отвратительный урод. «Это был пухлявый, рыхлый, меланхолический холостяк, суживавшийся кверху, где он заканчивался парой узких плеч неодинаковой вышины, и грушевидной головой с гладким зачесом на одной стороне и лишь остатками черных плоских волос на другой. Нижняя же часть его тела была огромная, и он передвигался на феноменально толстых ногах забавной походкой осторожного слона…. Однако все его считали сверхобаятельным, обаятельно-оригинальным человеком». Он знал по имени всех маленьких мальчиков в своем квартале, нанимал их чистить тротуар и двор, носить дрова к нему в сарайчик и исполнять простые обязанности в доме. В подвале он завел себе ателье, где занимался живописью и фотографией, а мальчики были натурой. Там у него висели портреты Андре Жида, Чайковского, «многолягого» Нижинского (обратите внимание на эпитет) и других выдающихся гомосексуалов. «Он необходим теперь мне для защиты» — рассуждал Гумберт. Вот он, Годэн, бездарный, грязный (буквально: редко принимает ванну), закоренелый мужеложник — и его уважают пожилые люди и ласкают мальчики, он наслаждается жизнью и дурачит всех; а «вот, значит, я». Мне-то почему так плохо? В самом деле, даже не с субъективной позиции Гумберта, а для объективного читателя (и, очевидно, с позиции писателя) Годэн, как он описан Гумбертом, выглядит страшнее, хуже и, главное, неприятнее Гумберта. Гумберт вызывает сочувствие читателя, Годэн — нет. Гомофобия Набокова носит какой-то назойливый и всеобъемлющий характер. Тихо ненавидимые им гомосексуалы вездесущи, они присутствуют почти в каждом его произведении. По К. Ротикову (в «Другом Петербурге») тот факт, что Набоков охотно вводил эту тему в свои романы, как раз освобождает его от подозрений. «Любопытство к курьезам и аномалиям обычно характеризует здоровые натуры» (Ротиков 1998: 157). Осмелюсь не согласиться. Ибо тогда уйму романов, где ничего этого нет, придется приписать именно гомосексуалам. Да нет, глаз Набокова уж очень изощрен в этом направлении. Ганин в «Машеньке» живет в гостинице по соседству с двумя молодыми педерастами. Точно с такими же живет рядом и Лиза в «Пнине». В начале «Дара» представлен любовный треугольник: он влюблен в нее, она в другого, а тот в первого. От хихикающих танцовщиков в его первом романе «Машенька» до сумасшедшего рассказчика-комментатора Чарлза Кинбота в одном из последних романов «Бледный огонь» (он же беглый король Земблы Карл Возлюбленный и ничтожный эмигрант Боткин) — все они пустые, глупые, женственные людишки. Один из критиков пишет, что о гомосексуализме доктора Кинбота рассказано с какой-то дешевой и пошлой игривостью. Его похождения (действительные или вымышленные) с юнцами в туго облегающих джинсах и с зелеными абитуриентами представляются слабым подражанием порочной изобретательности небезызвестного Гумберта Гумберта. Для описания своих гомосексуальных персонажей писатель нередко пользуется словечком «mincing» («жеманные», «манерные»). Писатель часто как бы посмеивается в кулак за их спиной, смотрит на них искоса, прищуренным глазом, подмигивая читателю. Он вообще-то насмехается надо всеми, включая читателя, это его любимая позиция, но гомики — излюбленный объект его иронии. Но какими бы они ни были скверными и жалкими, они есть у него повсюду. Может быть, в этом гомофобы просто аналогичны антисемитам? Антисемиту везде грезятся евреи, засилье евреев, еврейская мафия. «Если в кране нет воды, значит выпили жиды». Разговоры о гомосексуальной мафии ведут гомофобы. Но у Набокова таких представлений нет. Быть может, сказалось то, что его злейшими критиками оказались гомосексуалы Георгий Адамович и Георгий Иванов — «Жоржики»? Но двух гомосексуалов он терпел в общении: своего издателя Фрэнка Тэйлора и профессора Карлинского, который писал хорошие рецензии на его произведения. В. Набоков (конец 1940-х–1950-е гг.)
В. Набоков (конец 1940-х–1950-е гг.)
Это заставляет вспомнить другого писателя с таким же отрицательным отношением к гомосексуалам и гомосексуальности и с таким же обилием плохих гомосексуалов в его произведениях и даже с рассуждениями о всемирном сговоре гомосексуалов — Марселя Пруста. Тот рисовал гомосексуалов в своих произведениях неизменно издевательски, доходя до гротеска, но за этим скрывалась его собственная сугубая гомосексуальность. Он лишь маскировал свои подлинные симпатии и любовные страсти под гетеросексуальные, под любовь к женщинам, а на долю гомосексуальных отношений оставалось все скверное, все низкое и отвратительное, что действительно имеется в них наряду с высоким и благородным, отданным у Пруста гетеросексуальным отношениям. И тут появляется сумасшедшая идея: может быть, Набоков тоже скрытый гомосексуал? Может быть, это русский Пруст? Нет, для такого предположения нет оснований — тут Ротиков прав. Пруста Набоков обожал, потом слегка разочаровался. Сходств у них немало, но есть и существенные различия (Шаховская 1991: 80–81). Хотя в романах Набокова главные персонажи всегда мужчины, а женщины — всего лишь их бледные отражения (Шаховская 1991: 52), сам он всегда и везде интересовался сексуально только женщинами. Может быть, стоит вспомнить здесь, что заядлых гомофобов психологи вообще подозревают в скрытой гомосексуальности? Что эти люди потому и выступают столь агрессивно против гомосексуальности, что подсознательно ощущают ее в себе и стремятся открытыми и агрессивными действиями подавить ее — прежде всего в себе? Это уже ближе к ситуации Набокова, хотя все еще не вполне точно. Но известно, что Набоков считал гомосексуальность на следственным явлением, а у него были основания опасаться, как бы эти гены не проявились в нем самом.
7. Дед-министр
Хотя дед с отцовской стороны никак не связан с гомосексуальностью, стоит здесь остановиться на этом предке, потому что его сексуальные отношения все-таки кое-что проясняют в душевном мире писателя. В «Других берегах» писатель рассказывает только о его последних годах, когда у него было старческое помешательство, но молчит о его более ранних годах. Его кузен Николай Набоков (Ника), однако, передал семейные воспоминания об их деде. Дмитрий Николаевич Набоков был министром юстиции России при Александре II и входил в окружение его брата Константина. Он был одним из творцов судебной реформы 1864 г. и подготовил к 1881 г. проект новой реформы, которая продвигала Россию гораздо ближе к конституции. Проект был подан царю, но тот не успел его утвердить: был убит террористом-народовольцем. Новый царь, хотя и оставил Набокова министром еще на четыре года, к реформе уже не возвращался — он обратился к политике репрессий. Д. Н. Набоков, дед писателя
Д. Н. Набоков, дед писателя
В молодости Дмитрий Николаевич был влюблен в светскую красавицу Нину — жену генерала барона фон Корфа. Для того чтобы общаться беспрепятственно, баронесса выдала замуж за Набокова свою пятнадцатилетнюю дочь Марию. Дмитрий Николаевич оставался любовником тещи и исполнял супружеские обязанности по отношению к ее дочери. Ее первые четверо детей были его, остальные пятеро, по ее намекам потомству, имели других отцов, так как своего престарелого мужа она не любила. Трое детей (в том числе любимец Владимир, отец писателя) якобы имели настоящим отцом некую высокопоставленную особу (можно было понять, что это сам царь), предпоследний ребенок непонятно чей, а последний был сыном учителя старших детей. Не то важно, что Набоков, таким образом, воз можно, родственник царской династии (сам он никогда этим не кичился и этого не признавал), а что в этом семейном предании уже заключен сюжет «Лолиты»: герой предания связан сексуально с матерью и ее дочерью, только здесь треугольник с обратным знаком: не на матери женился герой, чтобы овладеть несовершеннолетней дочерью, а на юной дочери, чтобы беспрепятственно любить ее мать.
8. Отец и его проект
Сын министра Владимир Дмитриевич, отец писателя, был еще более либерален, чем отец. Он учился в том же училище правоведения, что и Чайковский, но позже, и примкнул к оппозиционному буржуазно-демократическому движению. Поступив в Университет, он участвовал в студенческой демонстрации протеста. За это в 1890 г. был арестован и помещен в «Кресты». Сына недавнего министра юстиции начальство решило выпустить, но Владимир отказался уйти без товарищей, и пришлось выпустить всех. В тюрьме они пробыли четыре дня. Елена Ивановна и Владимир Дмитриевич Набоковы. 1897 г.
Елена Ивановна и Владимир Дмитриевич Набоковы. 1897 г.
Владимир Дмитриевич стал известным общественным деятелем, либералом, одним из лидеров конституционно-демократической партии («кадетов») или партии народной свободы. В 1903 г. он выступил с протестом против кишиневского антисемитского погрома. В 1904 г. во время русско-японской войны он отказался на банкете поднять тост за здоровье царя, а после Кровавого воскресенья опять огласил свой протест и был лишен камер-юнкерского чина — что ж, он спокойно поместил в газетах объявление о продаже камер-юнкерского мундира. По образованию юрист, он не стал работать в государственных органах, а в адвокатской практике он не нуждался: был достаточно богат. Он часто печатался, в частности в газете кадетов «Речь», выступал с политическими речами на собраниях, а заседания ЦК партии часто проходили у Набоковых дома. При ходили Милюков, Гессен и другие лидеры кадетов, а вокруг дома дежурили шпики и подкупали слуг. В 1908 году, после рос пуска Думы и так наз. Выборгского воззвания кадетов (с призывом к неповиновению) провел три месяца в «Крестах». Англоман, с подстриженными по-английски усами под орлиным носом, с прической бобриком, слегка лысоватый, он имел типичные набоковские брови — идущие круто вверх от переносицы, но на полпути исчезающие. По этим черточкам он был узнаваем на карикатурах, обвинявших его в продаже России мировому еврейству. По поводу оскорбительной статьи в «Новом времени» он должен был стреляться на дуэли с редактором Сувориным, но дуэль не состоялась: Суворин извинился. Февральская революция возвела Набокова в должность управляющего делами Временного правительства. После Октябрьской революции отец был министром врангелевского правительства в Крыму, а затем издавал в эмиграции, в Берлине, антисоветскую газету «Руль». В 1922 г. на митинге он боксерским ударом свалил одного из монархистов, покушавшихся на оратора Милюкова, и был убит из револьвера в спину вторым террористом. По узкой специализации криминалист, он писал и статьи по юридическим проблемам. Наиболее известным из его сочинений является его анализ проблемы уголовной ответственности за мужеложство (Набоков 1902). Он специально изучал этот вопрос в Берлине у Магнуса Гиршфельда. Когда в России готовилось Новое Уложение (свод законов), Набоков предложил вовсе отменить уголовное преследование гомосексуалов и обосновал свое предложение. В статье о «плотских преступлениях» Набоков (1902: 120–126) писал, что уголовное преследование мужеложства, во-первых, определено очень расплывчато и нелогично. Состав преступления — сношение только мужчины с мужчиной и только в задний проход. Сношения мужчины с мужчиной другими способами почему-то не подходят под определение, женщины с женщиной тоже. Видимо, эти виды сношений не считаются достаточно вредными, чтобы квалифицироваться как преступления. Поэтому Сенат в 1869 году принял постановление, что «противуестественное» (то есть через задний проход) сношение с женщиной тоже есть мужеложство. Далее, если член не введен в анальное отверстие, то преступления нет. А что тогда будет покушением? Возможно ли оно тут в принципе? Во-вторых, этот состав чрезвычайно трудно и неприлично обсуждать в публичном заседании. Юристам приходится либо нарушать принцип публичности расследования, либо самим впадать в преступную грубость и циничность. Наконец, «Какое огромное и богатое поле для шантажа, для безнаказанного вымогательства, если вспомнить, что судебные доказательства в этой области, по самому существу, весьма редко могут иметь характер непреложных фактов! Какой соблазн для врагов, легко могущих злостной сплетней погубить противника!» Набоков также указывает, что на практике этот закон применяется «случайно и неравномерно» — репрессии обрушиваются на слабых и щадят сильных и влиятельных. Отсюда его предложение — вывести эти деяния из состава наказуемых. При обсуждении консерваторы отвергали его предложение. Подготовленный проект в Государственной Думе не стали обсуждать, так как началась Первая мировая война, а революция сделала обсуждение беспредметным: весь свод законов был отринут. Хотя Владимир Дмитриевич Набоков дружил с Дягилевым, нет никаких оснований подозревать самого Набокова-старшего в гомосексуальности, но его интерес к этой проблеме несомненен, и нужно выяснить, не был ли он стимулирован личными обстоятельствами, ситуацией в кругу собственной семьи.
9. Дядя Костя
Как пишет Владимир Набоков в «Других берегах», у отца было три брата: Дмитрий, Сергей (указаны их женитьбы) и Константин, о котором сказано лишь: «к женщинам равнодушный». Констан тин Дмитриевич был худощавый, чопорный, довольно меланхоличный холостяк «с тревожными глазами». Жил он в Лондоне в квартире, принадлежавшей клубу и увешанной фотографиями «каких-то молодых английских офицеров». Он дважды в жизни избег смерти. Первый раз в Москве, когда его предложил подвезти великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. Константин Набоков ответил «Нет, спасибо, мне тут рядом», а коляска великого князя через минуту была взорвана Каляевым. Второй раз, когда он, изменив планы, сдал билет на «Титаник», отправлявшийся в свое последнее плавание. Но в 20-х годах, когда он поправлялся после легкой операции в английском госпитале, он, лежа на сквозняке, простудился и умер. Вот судьба — спастись от бомбы в знаменитом теракте и от катастрофы «Титаника», чтобы умереть от пустякового сквозняка! Местом его службы было русское посольство в Лондоне, и он успел опубликовать свои воспоминания «Записки дипломата». Вместе с Витте он участвовал в подписании Портсмутского мира России с Японией под эгидой американского президента Теодора Рузвельта, и, молодой, с эспаньолкой, он изображен на фреске в нью-йоркском музее естествоведения. После Февральской революции он даже исполнял обязанности посла. Это все, что округло сообщает о своем дяде Косте писатель Набоков. «Равнодушие к женщинам» — это избранный писателем эвфемизм вместо более точного определения, которое явствует из близких отношений с великим князем Сергеем Александровичем. Тот был известным «бугром» (франц. «гомосексуалом»). Это о его назначении в Москву шутили: раньше Москва стояла на семи холмах, а теперь — на одном бугре. Молодой Константин Набоков вращался в свете подозрительно близко к этому бугру. Все это, конечно, косвенные указания на гомосексуальность. Но есть и прямое свидетельство — в воспоминаниях Корнея Чуковского, знавшего лично неимоверное количество знаменитостей разного ранга и пошиба. В 1968 г., лежа в больнице, он вспоминал без всякой связи о разных людях, встреченных на его длинном жизненном пути — в том числе и о Константине Набокове, с которым он дружил перед революцией (Чуковский 1994: 404–406). Знакомство Константина с Чуковским произошло вовсе не через писателя В. В. Набокова, племянника — тот был тогда, в предреволюционные годы, еще подростком. Чуковский вспоминает о дипломате Константине, «полюбившем меня после моих переводов Уитмена». Напомню, что Уитмен был известен своим воспеванием (в поэмах) любви к мужчинам. «Тощая фигура, — таким вспоминал Набокова через полвека после их встреч старик Чуковский, — изможденное измятое лицо, отличный костюм от парижского портного — приехал ко мне в Куоккалу из-за границы, даже не заехав к своей матушке на Сиверскую (вся Сиверская принадлежала Набоковым). Денег у меня не было. Семья большая. Весь наш обед состоял из горохового супа. Я отправлялся в лекционное турне, читать лекцию, кажется, об Оскаре Уайлде». Опять фигура, привлекательная для людей, так сказать, нестандартной сексуальной ориентации — ну, и подбор тем у Корнея Ивановича! Если еще вспомнить его впечатление от молодого Кости Райкина: «глядя на его движения, я впервые (пора!) понял, насколько красивее, ладнее, умнее тело юноши, чем тело девицы. Верно сказал Ал. Толстой: /Девка голая страшна: /Живородная мошна»… (Чуковский 1994: 402). Немудрено, что Константин Набоков обратил внимание на Чуковского. Правда, в молодости Корней Чуковский (Николай Корнейчук) был и внешностью хоть куда — высокий, мужественный, симпатичный. Но это так, кстати. Вернемся к характеристике Константина Набокова. «Он сопровождал меня и в Москву, и в Вильну, и в Витебск и снова и снова слушал мою лекцию — одну и ту же. Причем останавливался в дорогих гостиницах, водил мня по дорогим ресторанам — из-за чего мои заработки сильно уменьшились. Когда мы вернулись в Москву — я по нескольким поступкам Кости понял, что он гомосексуалист, и любовь его ко мне — любовь урнинга. Он любил искусство, был очень учтив, увлекался стихами — потом я встречал его в Лондоне, он был 1-м секретарем посольства — и нашей дружбе наступил конец. А в Питере мы очень дружили». В Стокгольмском Университете хранятся 40 писем от Константина Набокова к Корнею Чуковскому.10. Дядя Василий «Рука»
Дядя со стороны матери, Василий Иванович Рукавишников, описан у Владимира Владимировича более подробно, но столь же осторожно. Это был невысокий худощавый человек со смугловатым лицом и серо-зелеными глазами. Он носил пышные усы и темный бобрик. Вокруг узла светлого галстука было змееобразное, с опалом, кольцо; опалы носил он и на пальцах, а вокруг черно-волосатой кисти — золотую цепочку. Опирался на трость с набалдашником. В петлице пиджака, бледно-сизого или другого столь же нежного оттенка, почти всегда была гвоздика. В лисьих охотах в Европе он участвовал верхом на кобыле — тогда он был одет в розовый фрак. Это пристрастие к изысканным одеждам и драгоценным украшениям говорит о том, что дядя принадлежал к тем декадентским кругам светских франтов, где властителями дум были Оскар Уайлд, Штефан Георге, граф Монтескье. Вдобавок дядя Василий был тоже холостяк. В. Набоков с матерью и В. И. Рукавишниковым. 1907 г.
В. Набоков с матерью и В. И. Рукавишниковым. 1907 г.
У него был молодой приятель, неопытный и небогатый. В каком-то иностранном притоне, где они были вместе, приятеля обыграл шулер. Василий Иванович сел с шулером играть и преспокойно передернул, выручив приятеля. Это поведение, выходившее за рамки принятого в обществе, сильно раздражало Набокова-старшего. Дядя Василий, «Рука», как его звали друзья, сильно заикался на губных звуках. Он сочинял неплохие романсы на свои собственные французские стихи. Работал он дипломатом при российском посольстве в Риме, специализировался на расшифровке тайных шифров. Его усадьба, белая с колоннами, высилась среди деревьев на крутом берегу Оредежа напротив набоковской Выры. Почти каждый день дядя приезжал на коляске и завтракал у Набоковых, а потом задерживался в столовой и, взяв на колени маленького племянника Володю, ласкал его, а Володя почему-то не любил эти ласки и с нетерпением ждал, когда отец позовет его издали. Писатель явно хочет показать, что уже тогда рос с задатками неприятия малейшего намека на гомосексуальность. Дядя ходил, «жеманно переступая маленькими своими ножками в белых башмаках на высоких каблуках» — так Набоков описывает всегда именно гомосексуалов. Когда племяннику было лет одиннадцать, дядя, приехав на дачу и сойдя с поезда, оценил внешность племянника, сказав по-французски: «Как ты пожелтел, как подурнел, бедняга!». Видимо, прежний облик племянника чем-то привлекал его. Тем не менее когда племяннику минул пятнадцатый год, он объявил его своим наследником. Но Владимиру Набокову он завещал только свое имение на Оредеже и миллионное состояние, а свои европейские владения — итальянскую виллу и пиренейский замок — он отдал другим: «какому-то итальянцу» и т. п. Вскоре, в 1916 году, он умер от грудной жабы во Франции, но Владимир Набоков лишь недолго побыл владельцем завещанного имения: революция отняла все, а имения в Европе, которые остались в сохранности, принадлежали другим — видимо, прежним любовникам дяди. Таким образом, гомосексуальные влияния обступили Владимира Набокова с обеих сторон семейной общины — с материнской и с отцовской. Был еще некий Михаил Васильевич Набоков, железнодорожный служащий, который упоминается как «весьма скрытно» действующая «тетка» в полицейском доносе 1889 г., то есть за 10 лет до рождения Владимира Владимировича (Берсенев и Марков 1998; Ротиков 1998: 400). Возможно, это дальний родственник из менее знатной ветви рода Набоковых. Но гомосексуальность была и ближе. Это — тщательно прикрываемый в автобиографии брат.
11. Прикрываемый брат Сергей
Младший брат-погодка Сергей был по возрасту гораздо ближе к Владимиру, чем третий брат Кирилл. Сергей должен был оказаться лучшим другом Владимиру Набокову, но намеренное отчуждение, установленное писателем для их взрослого состояния, так проецировалось и на период детства, что в воспоминаниях брату почти не находилось места. Описывая в автобиографической книге «Другие берега» их выезд в открытом ландо с гувернанткой, писатель помнит мадемуазель на заднем сиденье рядом со своим «заплаканным братцем, которого я, сидя напротив, иногда напоследок лягаю под общим пледом — мы еще дома повздорили; впрочем, обижал я его не часто, но и дружбы между нами не было никакой — настолько, что у нас не было даже имен друг для друга — Володя, Сережа, — и со странным чувством думается мне, что я мог бы подробно описать всю свою юность, ни разу о нем не упомянув (Набоков 1991: 89). Да он и в самом деле почти не упоминает брата в этой книге. Другим персонажам — француженке-гувернантке, еврею-учителю, кембриджскому студенту-соученику — уделены целые главы, а брату Сергею — едва несколько строк. Брат рос полной противоположностью Владимиру. Владимир был бравым, спортивным и речистым, а Сергей — застенчивым заикой в очках с девичьими ужимками. Он учился играть на рояле и беззаветно любил музыку, в то время как Владимиру медведь на ухо наступил, и он с трудом отличал симфонию от простого шума. Их сестра Елена Сикорская вспоминает, что в детстве они никогда не были друзьями. Какое-то отторжение между ними существовало уже тогда. И в заикании, и в любви к музыке брат напоминал дядю «Руку», и, видимо, еще кое-какие гены передались ему по этой линии. Как сообщает Гроссман, опрашивавший старуху Сикорскую о братьях, в их отрочестве, когда Сергею было 15, а Владимиру 16, то есть перед самой войной или в начале войны, Владимир нашел на столе открытый дневник Сергея и прочел его. По другим данным, это была записочка Сергея соученику в Тенишевском училище. Прочтя, Володя счел необходимым показать его их учителю, а тот — Набокову-отцу. Как вспоминал сам писатель, дневник Сергея «внезапно дал задним числом объяснение некоторым странностям его поведения» (Носик 1995: 57; Grossman 2000). Согласно же последней версии автобиографии писателя, — то, что случайно нашел и прочел Владимир, было не дневником или запиской Сергея, а письмом к Сергею от их английского гувернера-тренера. Из письма можно было заключить, что между тренером и Сергеем был роман. Владимир по неопытности не понял смысла письма и отнес его родителям, чтобы те объяснили, почему тренер так пишет. Отец, опытный юрист, сразу все понял и уволил англичанина (Могутин 2001: 161). Но в Тенишевском училище у Сергея тоже были романы. Он влюблялся в товарищей, которые, будучи гетеросексуальными, не отвечали взаимностью. Выйдя наружу, эти тайные склонности вынудили его покинуть училище. В семье Сергей не находил сочувствия, но и не наталкивался на громкое возмущение и скандалы. К его гомосексуальности родители отнеслись с полным внешним спокойствием и соблюдали приличное молчание. Никто и никогда не заговаривал с ним об этом. Он мог вести себя, как ему было угодно. Однако он обожал отца и мать и понимание того, что его склонности их не радуют, доставляло ему страдание. Отца же, надо полагать, появление третьего гомосексуала в собственной семье только поддержало в изучении юридических аспектов этой проблемы. В Кембридже братья играли вместе в теннис и вращались в одном и том же кругу русских эмигрантов. Учебные успехи обоих были одинаковы (четверки по русской и французской филологии), в остальном братья очень различались. Их кузен Николай Набоков пишет: «Редко я видел двух братьев, столь разных, как Володя и Сережа. Старший, писатель и поэт, был тощ, темен, красив, спортсмен, с лицом, напоминающим мать. Сережа… не был спортсменом. Светлый блондин с розоватой кожей лица, он имел неизлечимое заикание. Но он был веселым, немного ленивым и очень чувствительным (и поэтому легкой жертвой поддразниваний)». В семье Николая сохранились воспоминания, что Сергей был самым славным, милым и веселым из всех Набоковых. Люси Леон Ноэль, тоже эмигрантка, вспоминает: «Не было двух братьев, более непохожих друг на друга. Владимир был светский юноша, красивый, с романтической внешностью, немного сноб и с веселым очарованием. Сергей же был денди, эстет и балетоман… [Он] был очень худой и высокий. Это был блондин, и его соломенные волосы обычно спадали на левый глаз. Он страдал серьезным недостатком речи, ужасным заиканием. Помощь только смущала его, так что надо было ждать, пока он сам выскажет, что он имел в виду, и это обычно стоило послушать… Он посещал все премьеры Дягилева, в своей черной ниспадающей складками театральной пелерине, держа в руках трость с набалдашником» (Grossman 2000). Всегда тщательно одетый, в галстуке-бабочке, безупречный джентльмен, неизменно любезный. Когда братья окончили университет, они присоединились к семье в Берлине. Это было в год гибели их отца. В дневнике Владимира сохранилась запись о последнем вечере с отцом: «Мы беседовали с ним через раскрытую дверь, говорили о Сергее, о его странных, противоестественных склонностях» (Носик 1995: 147). Оба брата устроились на работу в банк, но обоих такая работа не устраивала. Сергей уволился через неделю, а Владимир проработал только несколько часов. В Берлине Владимир встретил свою Веру и женился, а Сергей легко вписался в растущую гомосексуальную общину. Он подружился с борцом за права сексуальных меньшинств Магнусом Гиршфельдом, но вскоре переселился в Париж. Здесь, в городе, задававшем тон в модернизме и авангардизме, он оставался следующие два десятилетия. Зимой 1923 г. кузен Николай познакомил его с русским эмигрантом Павлом Челищевым, художником, работавшим для Дягилева и тоже гомосексуалом. Сергей поселился в одной квартире с Челищевым и его любовником Алленом Таннером. Квартирка была столь маленькой, что Челищев называл ее «кукольным домиком». В ней не было ни электричества, ни ванной. Друзья грели воду на газовой плите и мылись в цинковом тазу. Сергей давал французам уроки русского и английского и тем жил. Это были весьма стесненные обстоятельства, но все искупалось средой, в которой он теперь вращался. Он близко подружился с Жаном Кокто, а через Челищева и своего кузена Николая, композитора, он сошелся с Дягилевым, Гертрудой Стайн и другими видными интеллектуалами Парижа. Он свободно говорил на русском, немецком, английском и французском, хорошо знал поэзию всех этих культур, наизусть читал длинные поэмы, и — странное дело — когда он читал стихи, он не заикался. Известно, что заики часто поют без заикания. По-видимому, Сергей воспринимал поэзию как музыку. Он и сам писал стихи, к сожалению, не сохранившиеся, и его стихи, по воспоминаниям тех, кто их знал, были очень хороши. Ярко талантливый, если бы он не был таким скромным и застенчивым, он, возможно, был бы равен Владимиру в литературе. Как пишет Лев Гроссман, парижская жизнь Сергея завершилась концовкой сказки о Золушке. В конце 20-х или начале 30-х он повстречал сына богатейшего австрийского аристократа, они полюбили друг друга, и тот увез его в свой родовой замок Вейсенштейн в Австрии. Биографам Набокова этот магнат был известен только как Герман. Гроссман после трудных изысканий недавно установил его имя и фамилию — Герман Тиме. Правда, Сергей был сам родом не из бедняков, но их богатство было уже в далеком прошлом, и в Париже он жил в нужде и трудах (как, впрочем, л Владимир в Берлине). Герман, был красивым, очаровательным, любителем искусств. Его отец не стал уповать на родовые поместья и разбогател как владелец страховых компаний. Их замок, основанный в XII веке, находился у маленькой альпийской деревушки Матрей в Восточном Тироле, близ Инсбрука. В 30-е годы они разъезжали по столицам Европы, но все время возвращались в замок Вейсенштейн, где разгуливали по окрестностям и играли в теннис и бридж с родственниками, жившими в замке. В письме матери Сергей писал: «Все это такая странная история, я иногда даже не понимаю, как это все произошло… Я задыхаюсь от счастья… Есть люди, которые не могли бы понять это, которым такие вещи были бы абсолютно непонятны. Они бы охотнее видели меня в Париже, едва выживающим своими уроками и в конце концов глубоко несчастным созданием. Говорят о моей «репутации» и т. п. Но я думаю, что ты поймешь, поймешь что все те, кто не принимают и не понимают моего счастья, для меня чужие» (цит. по: Grossman 2000). И Гроссман ставит вопрос, не был ли брат Сергея среди этих чужаков. В начале 30-х годов Владимир побывал в Париже и встретился с братом. К тому времени Владимир был уже давно женат, и Сергея он как-то познакомил со своей женой. Теперь Сергей сказал: «Поскольку я с твоей женой знаком и отношусь к ней дружески, ты должен познакомиться с тем человеком, который для меня главный интерес в жизни, с тем, кого я люблю». Они прибыли в ресторанчик и уселись на террасе. Владимир пришел в ужас: почему на террасе? Ведь будет неприлично сидеть с типичным педерастом, накрашенным, аляповато одетым и манерным. Но когда появился Герман Тиме, Владимир опешил: это был чрезвычайно приличный и культурный человек высшего света, с ним можно быть в любом порядочном обществе. Тут к ним стали подходить другие русские знакомые — уж эти были типичные гомики, манерные и изломанные, так что настроение Владимира было испорчено (Могутин 2001: 163). Своей жене он так описывал эту встречу с «супругом» брата: «Муж, я должен признать, оказался очень приятным, спокойным человеком, вовсе не педерастического типа, с привлекательным лицом и манерами. Все равно я чувствовал себя, пожалуй, неудобно, особенно когда подошел один из их приятелей, с накрашенными губами и завитой» (Гроссман 2000). В 1936 г. Гитлер захватил Австрию, в 1940 году — Францию. На последнем корабле Владимир с женой покинули Европу и отплыли в Америку. Сергей остался в Европе с Германом. Нацисты преследовали и истребляли гомосексуалов почти как евреев, и, чтобы не возбудить подозрений, Сергей виделся с Германом очень редко. Сергей работал переводчиком в Берлине. Он не был воинственным человеком, и бомбежки очень пугали его. Но бежать было некуда, да и невозможно. Как у беженца из России, у него был только Нансеновский паспорт. Охота за гомосексуалами была налажена у гестапо всерьез, и в 1941 г. Сергей был арестован по обвинению в гомосексуальности. Продержав его в заключении четыре месяца, за отсутствием улик его выпустили, оставив под постоянным надзором. Но Сергей, несмотря на свою застенчивость и заикание, не мог удержаться от смелых разговоров с друзьями и коллегами и от критики режима Третьего Рейха. После поражений Гитлера под Сталинградом и Курском он особенно осмелел и в декабре 1943 г. был арестован вторично. На сей раз его обвиняли в «высказываниях, враждебных государству», в подрывной деятельности. Более того, как свидетельствует родственница Набоковых княгиня Шаховская в своих мемуарах, Сергей Набоков был вовлечен в заговор, имевший целью укрыть одного англичанина, бывшего приятеля по Кембриджу. Теперь это был беглый военнопленный летчик, сбитый над Германией.. Сергея бросили в концлагерь Нейенгамме под Гамбургом, где он стал узником № 28631. Этот лагерь был центром медицинских экспериментов над заключенными — проводились исследования туберкулеза. Из 106 тысяч заключенных выжила едва ли половина, а для особенно суровой обработки охрана выбирала гомосексуалов. В лагере Сергей оставался тем же джентльменом, каким он был всегда. Он раздавал пищу и одежду из посылок, которые получал. Посылки были не от Германа. Тот был тоже арестован, но уцелел: его послали на фронт в Африку. По лагерным отчетам, «Сергей Набокофф» умер 9 января 1945 г. от голода и истощения, к которым прибавилась дизентерия. Четыре месяца спустя лагерь был освобожден. Тем временем Владимир Набоков начал в Америке новую жизнь, полную удовольствий. Он загорал на пляже, собирал бабочек для Гарвардского музея сравнительной зоологии, читал лекции студентам в Уэлсли колледже и напропалую флиртовал со студентками. Ранней осенью 1945 г., уже после победы над Германией, он спал в своей квартире в Кембридже (штат Массачусетс) и во сне увидел своего брата больным на нарах в немецком концлагере. На следующий день он получил письмо от родственника из Праги, в котором сообщалось о смерти Сергея в лагере. Герман Тиме после войны жил в своем замке, ухаживая за сестрой-инвалидом, и умер в 1972 г.12. Сиамские близнецы
Все-таки брат есть брат. В то самое время, в 1945 г., когда Набоков получил известие о смерти брата, он работал над своим первым англоязычным романом «Зловещий уклон» (в русск. перев. «Под знаком незаконнорожденных»). Как и Сергей, герой этого романа высказывается против жестокого репрессивного режима; как и Сергей, он платит жизнью за свою смелость. Но гомосексуалом в романе оказывается не симпатичный герой, а как раз погубивший его диктатор. В предшествующем романе «Истинная жизнь Себастиана Найта» также отражена ситуация братьев Набоковых: два брата, из коих один — писатель, отношения между ними отчужденные, встречи в Париже редкие и непростые, и вот после смерти писателя Себастиана Найта сводный брат его по крохам собирает его биографию. Имя Себастиан сразу отсылает к святому Себастиану, гомоэротическому мученику, «Найт» (Knight) означает «рыцарь». О Сергее напоминают его фатовство и неспособность к спорту. Брат настолько вживается в биографию писателя, что перенимает его привычки и интересы и в конце концов становится им! К работе над «Лолитой» Набоков приступил тоже сразу после войны, и можно предположить, что он тогда много размышлял над смертью брата, его судьбой и своими трудными отношениями с ним. Известно, что в те времена он стал писать сразу два романа, но второй — о двухголовом монстре — забросил. От этого параллельного с «Лолитой» романа осталась только одна глава — исповедь сиамского близнеца. Этот человек влюблен в своего брата, но не может осуществить соитие с ним, так как жестко связан с ним у бедра (Могутин, 2001: 159). Видимо, в это время, после гибели брата, в памяти Набокова всплывали те его черты, которые подчеркивали их близость, их сходство и родство. Усиленные до предела, они находят выражение в сиамских близнецах. В то же время сексуальные особенности брата оставались Владимиру Набокову совершенно чужды, недоступны и невозможны. Как невозможно соитие между сиамскими близнецами. Отсюда конфликт этого неоконченного романа. Конфликт романа мог бы осуществляться и между разнополыми сиамскими близнецами — он ничего не потерял бы в силе. Но у Владимира Набокова был гомосексуальный брат — это побудило писателя сделать близнецов братьями, а любовь между ними гомосексуальной. Зинаида Шаховская, наблюдательный критик, подметила, что в произведениях Набокова часто повторяются одни и те же эпизоды, ситуации, детали. Один и тот же жест (по-русски указательным пальцем вверх, а не по-немецки вперед) есть в «Даре» и в «Других берегах». Другая деталь (показ, как ощущать пальцами два шарика вместо одного) есть в «Подвиге» и в «Зловещем уклоне». И т. д. (Шаховская 1991: 48). Советский критик Виктор Ерофеев, структуралистски настроенный, поднял это наблюдение до уровня масштабного обобщения. Он считает, что «устойчивость авторских намерений ведет к тому, что романы писателя группируются в метароман, обладающий известной прафабулой, матрицируемой, репродуцируемой в каждом от дельном романе при необходимом разнообразии отдельных сюжетных ходов и романных развязок, предполагающих известную инвариантность решений одной и той же фабульной проблемы» (Ерофеев 1991: 8). Сюжет этого метаромана, по Ерофееву, — изгнание из рая, которым было детство, а у самого писателя — Россия его детства. Мне нравится это структуралистское обобщение (в Университете я осваивал исследовательскую методологию у Проппа). Но мне кажется, что содержание этого метаромана сложнее, и гораздо заметнее в нем другой пласт: столкновение героя-одиночки, наделенного душевной странностью и неким возвышенным даром, с толпой, обывателями, грубым и тоскливым миром. От этого столкновения нет защиты, и герой гибнет (Михайлов 1989: 13). Этот конфликт ясно виден в «Защите Лужина», «Приглашении на казнь», да и в «Лолите», где у героя дар, не согласуемый с общественной моралью — дар своеобразного эротического видения. Толпу Набоков ненавидит, а общественную мораль презирает — вполне, как Оскар Уайлд. Тут проступает глубинное родство психологических переживаний Набокова, отразившихся в его творчестве, с психологией его брата и творческим настроем всех писателей гомосексуального склада. Все они выделяют в своем творчестве одинокого героя, наделенного странностью и неким эротическим «даром», и описывают конфликт этого героя с чуждым окружением, отторгающим героя и его «дар». Дар у основных героев Набокова другой, но конфликт тот же. В основе этой близости —семейное родство Набоковых, у которых воспитание породило презрение и ненависть к толпе, породило аристократический индивидуализм, проявляющийся и в творчестве, и в эротических чувствованиях, и лишь тонкая игра генов направила эти чувствования в одних случаях на обостренное видение нимф и нимфеток, в других — на любование фавнами и фавнятами. В первом случае возник феномен Владимира Набокова, во втором мы видим его тень, в которой укрыты его дядья и брат. По мере того как дядюшки и брат выступают из тени, в новом свете виден и Владимир Набоков, его творчество, его мир, пронизанный сознанием одиночества, напряженный и неизменно трагический. Б. Носик в своей биографии Набокова приводит любопытное воспоминание критика Раисы Орловой. На издательском совещании в Москве в семидесятые годы она предложила внести в планы какой-нибудь из романов Набокова. Тотчас взял слово идейно выдержанный критик и обратился к ней с пафосом: — Как можете вы, жена и мать, предлагать книгу, написанную автором «Лолиты»! Вскоре этот номенклатурный критик отправился представлять нашу мораль за границей, а при возвращении таможенники изъяли у него самую черную порнуху. Получив такую наводку, милиция вскоре накрыла его на дому за порнографическими съемками. (Носик 1995: 513). Видимо, это был советский вариант Куилти, о котором с таким омерзением говорила повзрослевшая Лолита: «Ах, гадости… Дикие вещи, грязные вещи».Сэр Гей: фантасмагории Эйзенштейна
1. Символ и подтекст
Эйзенштейн — это не просто имя. Это символ, марка, знак качества, типа «советское — значит отличное», «у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока». Эйзенштейн — это воплощенное превосходство коммунистической культуры над капиталистической. Шутка ли — его фильм «Броненосец Потемкин» был в 1958 г. международным жюри экспертов признан лучшим фильмом (самым лучшим!) за всю историю мирового кино, а сам режиссер прижизненно объявлен гением (Аксенов 1935/ 1991: 89). Это несмотря на то, что фильм был несомненной агиткой, средством пропаганды коммунистической идеологии, и в этом качестве вызывал отеческое одобрение Сталина (выраженное Сталинской премией) и профессиональную зависть Геббельса (в недолгие годы советско-нацистского альянса). Эйзенштейн был искренним энтузиастом коммунистической революции и создания нового человека, и все его остальные фильмы — «Стачка», «Бежин луг», «Октябрь», «Александр Невский», «Иван Грозный» — были подчинены этой сверхзадаче, утверждению коммунистической идеологии и поддержке советской политики. Но как же так? Почему идеологическая нагрузка этих фильмов не вызвала немедленного отторжения на Западе? Ведь столь же идеологические фильмы других сильных профессионалов — гитлеровской валькирии Лени Рейфенталь или сталинского четырежды лауреата Ивана Пырьева («Свинарка и пастух», «Секретарь райкома», «Партийный билет», «Кубанские казаки» и др.) — не встретили восхищения и признания элиты мирового кино, канули в Лету. Очевидно, Эйзенштейн далеко превосходил их — и всех других — талантом. Однако этого мало. Чем сильнее талант врага, тем более сильное сопротивление он должен вызвать. Очевидно, в фильмах Эйзенштейна наряду с коммунистической идеологией, высказанной прямым текстом, было нечто еще, некий подтекст, который делал их интересными и приемлемыми для элиты кино и для зрителей во всем мире. Это могут быть общечеловеческие идеи и чувства, понятные и близкие всем, хотя и подавлявшиеся аскетичной коммунистической идеологией. Более того, это может быть некий скрытый смысл, который противостоял господствовавшей идеологии и ускользнул от идеологических заказчиков, некие тайные значения, возможно, даже неосознанные или не вполне осознанные самим творцом, но придающие фильмам неожиданную силу и полноту воздействия. Как известно, Сталин то и дело налагал запреты на те или иные фильмы Эйзенштейна и повергал в опалу самого творца — значит, эта мысль не лишена резона. Среди чувств мастера, которые явно не укладывались в сталинские идеологические нормы, могла фигурировать и сексуальная ориентация Эйзенштейна. Очень рано в печати стали проскальзывать высказывания о его гомосексуальности и намеки на его садо-мазохистские увлечения, а также мнения, что то и другое проявилось в его творениях (разумеется, это высказывания не в советской печати — ср. Аксенов 1935/1991; Эйзенштейн 1974; Шкловский 1976). Называли даже прямо его возлюбленного — его актера и ученика красавца Григория Александрова, впоследствии известного режиссера, поставившего фильмы «Цирк» и «Веселые ребята». А между тем сам Эйзенштейн категорически отрицал свою гомосексуальность. Своему американскому биографу и другу Мэри Ситн (Сетон) он говорил: «Мои наблюдения приводят меня к заключению, что гомосексуальность есть во всяком случае регресс… Это тупик. Уйма людей говорят, что я гомосексуален. Я никак не гомосексуален, и если бы это была правда, я бы тебе сказал. Я никогда не чувствовал подобного желания, в том числе и к Грише, хотя я думаю, что каким-то образом у меня, видимо, есть тенденция к бисексуальности — как у Золя и Бальзака: в интеллектуальном смысле» (Seton 1957: 156). Нет ни единого прямого свидетельства его интимных отношений с мужчинами, как нет ни малейших данных о его садистском поведении или о его мазохистском желании подвергнуться мукам и испытывать боль. Он был дважды женат — один раз с формальным заключением брака и второй раз без оного, но в тогдашней советской действительности признавались и такие браки. Откуда же идут слухи о его гомосексуальности и есть ли под ними реальная почва? Какова действительная природа его сексуальности, была ли она как-то обусловлена его биографией и как сказалась на его творчестве? Основательны ли суждения об особой жестокости его фильмов и если да, то чем она была вызвана — окружавшей мастера реальностью или его психической предрасположенностью? Своими мемуарами он сам хотел ответить на вопрос, заданный ему одним студентом: «Как становятся Эйзенштейном?». Но, конечно, он почти не говорил о своей сексуальности — тогда это не было принято. Между тем формирование и характер его сексуальности, как теперь ясно, является одним из факторов, определившим его уникальную личность и его мастерство. Оказывается, что, несмотря на существующую литературу об Эйзенштейне и об особенной сексуальности его творчества (Fernandez 1969; Marcade 1999; и др.), истинная природа его сексуальности остается загадкой, как и многие секреты его мастерства. Попытаемся рассмотреть те данные, которые могут пролить свет на эту проблему.2. Рижское детство (1898–1915)
В 90-е годы XIX века Юлия, дочь петербургского промышленника Ивана Ивановича Конецкого, владельца пароходства, была выдана замуж за преуспевающего рижского архитектора. Архитектор Михаил Осипович Эйзенштейн окончил Петербургский Институт гражданских инженеров (впоследствии ЛИСИ) и был выкрестом из евреев. Тогда во всех бумагах национальность не отмечалась, только религия, и смена веры полностью снимала вопрос о принадлежности к «инородцам», так что Михаил Осипович весьма успешно продвигался по службе — дослужился до чина действительного статского советника (это аналогично генеральскому чину по военной линии), получал царские ордена и незадолго до Первой мировой войны обрел потомственное дворянство. В Риге есть много домов, построенных им, даже целая улица, состоящая сплошь из его домов. Семейство принадлежало к рижскому бомонду, в гостях бывал губернатор, в доме суетился небольшой штат прислуги — гувернантка, кухарка, курьер-камердинер. Летом отдыхали на даче. Когда Юлия Ивановна была беременна, по соседству произошла пьяная драка, кого-то убили, и архитектор, схватив револьвер, побежал водворять порядок, а его жена смертельно перепугалась и едва не разрешилась преждевременными родами (в мемуарах Эйзенштейн описывает этот эпизод как свой «опыт, пережитый до рождения». — ЭйМ II: 48). Судя по времени, это было за четыре-пять месяцев до срока. Это как-раз тот период, когда, по Г. Дёрнеру, стресс, воздействуя на уровень гормонов в крови беременной, может сказаться на плоде: если это мальчик, то закладывающийся в его мозгу центр сексуального поведения формируется в таком случае по женскому типу (см. Клейн 2000: 375–376). Поскольку это лишь гипотеза и постулирует она лишь возможность, само по себе это ни о чем не говорит. Сергей родился в январе 1898 г. и, маленького роста с большой головой и тонким голосом, рос типичным пай-мальчиком, очень тихим и застенчивым. «Послушный, воспитанный, шаркающий ножкой… Мальчик из хорошей семьи» (ЭйМ I: 31). Немецким владел с трех лет (лучше русского), французским — с пяти, английским — с семи. На всех трех Сергей впоследствии говорил свободно, а в его письмах и сочинениях постоянно встречаются фразы и выражения на всех этих языках. Что-то ему было проще выразить на них, чем на русском. Дружил в детстве с Алешей, сыном начальника гарнизона генерала Бертельса (впоследствии видным генетиком), и Максом, сыном врача Штрауха (впоследствии знаменитым артистом). Эйзенштейн в детстве.
Пай-мальчик из Риги.
Эйзенштейн в детстве.
Пай-мальчик из Риги.
В письмах к матери подписывался «Твой Котик». Письма стали основной формой общения с матерью с 1909 года, когда мальчику исполнилось 11 лет. Дело в том, что внешне благополучный дом Эйзенштейнов скрывал обстановку семейного ада. По характеристике Сергея (в его мемуарах) отец был недостаточно сексуален, а мать одержима сексом (ЭйМ I: 333) и искала удовлетворения на стороне. Отец ревновал мать, та отвечала истериками. Отец называл мать «продажной женщиной», употребляя более точные выражения, а мать кричала, что он вор, казнокрад и пыталась покончить с собой. Впоследствии взрослый Сергей Михайлович в своих мемуарах писал о своих родителях с печальной и странной, чтобы не сказать удиви тельной, трезвостью. «Папенька был очень тщес лавен»; «Папенька был… домашним тираном»; «Тщеславный, мелкий, непомерно толстый, трудо любивый, разорившийся, но не покидавший белых перчаток (в будни!) и идеального крахмала воротничков» (ЭйМ I: 332, 340, 94). О маменьке: «Сегодня в ночь на пятницу умерла эта маленькая нелепая женщина. Ей было 72 года. Из них в течение сорока восьми лет она была моей матерью. Мы никогда с ней не были близки…» (ЭйМ II: 247). Был первоначально в рукописи и список любовников матери: «граф Пален, офицер Богуславский, товарищ прокурора Друри, начальник тюремного управления Новиков…», а в суде был установлен факт адюльтера с родственником отца Венцелем (ЭйМ I: 190). Непрерывная череда скандалов завершилась разводом — в 1909 году супруга уехала к матери в Петербург, забрав с собой всю мебель (ее приданое). Развод был официально оформлен в 1912 году. Сына суд оставил с отцом, так как поводом для развода было «прелюбодеяние» матери (по модели Анны Карениной). Сын приезжал к ней ежегодно на Рождество. О разрыве семьи он позже сказал: «Это из тех разрывов, которые… убивают естественные узы, натуральный инстинкт, ощущение родственной близости» (ЭйМII: 246). И, добавим, создают то бессемейное детство, которое, по современным психологическим исследованиям, затрудняет выросшему ребенку образование собственной семьи. Поскольку папенька определил для сына повторение своего собственного жизненного пути, сын был отдан в Рижское реальное училище, где обучение проводилось на двух языках — русском и немецком. Он был первым учеником в классе, единственный. Затем для него был определена перспектива поступления в Петербургский Институт гражданских инженеров. Сексуальным просвещением сына родители манкировали. Он впоследствии писал, что в Мексике с завистью смотрел на тамошних юношей, которых приобщала к сексуальному опыту 60-летняя проститутка Матильдона (т. е. «большая Матильда», «Матильдище»). В Риге должна была жить своя Матильдона, но никто не надоумил Сергея искать ее. А так как у него не было более опытных товарищей, то все «об этом» он узнал из книг. Ребенком в библиотеке дяди он нашел книгу об эволюции совокупления организмов — от насекомых до человека. Книга произвела на него неизгладимое впечатление. А в библиотеке матери в Петербурге он прочел французскую книжку «Этапы порока» — иллюстрированную фотоснимками историю деревенской девушки, попавшей на парижскую панель, а затем в «дом свиданий». Когда началась война, 16-летний подросток стал ходить в госпиталь и забавлять раненых солдат своими рисунками — карикатурами на врагов. На третий день солдаты стали заказывать ему намалевать девочек в духе настенных рисунков в солдатских уборных. Дома узнали и пресекли этот контакт с народом. Однако ни книжка о пороке, ни солдатские заказы ни к чему реальному не подвигли рижского пай-мальчика «из хорошей семьи» не только потому, что он был пай-мальчиком, но и потому, что он был очень больным ребенком. Он был из так называемых «синюшных детей» — родился на три недели раньше срока, и у него был врожденный порок сердца, недостаточное кровоснабжение. Удивительно, что он прожил свои пятьдесят и сделал так много. Но на сексуальные подвиги он в отрочестве инстинктивно не шел, задыхался и берег себя. Не участвовал он и в обычной возне озорных мальчишек, да их и не было вокруг. Не было спортивных соревновательных игр, не было игры в войну. Не было применения силы. Поэтому понятно, как ужасали пай-мальчика малейшие виды насилия и жестокости. Будучи недоступны ему и далеки от него, они порождали некий сладкий ужас, граничащий с экстазом. Первым впечатлением этого рода были кадры из первого увиденного кинофильма: в нем на обнаженное плечо сержанта ревнивый и мстительный кузнец налагал клеймо каторжника, так что дым шел от раскаленного железа. Из этого фильма «ничего не помню… Но сцена клеймения до сих пор стоит неизгладимо в памяти. В детстве она меня мучила кошмарами. Представлялась мне ночью. То я видел себя сержантом. То кузнецом. Хватался за собственное плечо» (ЭйМ II: 56). На всю жизнь запомнились другие две французские книги из маменькиной библиотеки — «Сад пыток» Октава Мирбо и классическое произведение садо-мазохизма «Венера в мехах» Захер-Мазоха. «…Эти книги старательно запихивались между спинкой и сиденьем кресел и диванов. Для верности еще прикрывались подушками — маменькиного рукоделия в манере ришелье…. Прятались эти книжки не то от неловкости, не то из страха перед тем, что было в них, не то для того, чтобы наверняка иметь их под рукой в любой момент… В книжках этих было чем напугать. Это были, сколько я помню, первые образчики «нездоровой чувственности», попавшие мне в руки» (ЭйМ II: 54–55). В библиотеке отца отыскал альбом гравюр «Знаменитые казни», а также историю Парижской коммуны и расправы над ней. «Пленяет воображение гильотина». Он пишет о «пугающей привлекательности жути» (ЭйМ I: 98). Привлекательность жути обретала остроту сексуальной. Он вспоминает, как его поразило прозвище гильотины — la veuve, «вдова». «Я не уверен в том, что я сразу же ухватил всю неслыханность точности и «обобщенности» этого словесного иносказания, так беспощадно обрисовывающего вечную голодность покинутой самки. Трудно колоритнее обрисовать зияющую и вечно жадную дыру у низа гильотины — ту, в которую осужденный просовывает голову» (ЭйМ II: 138). Так вырастал этот очень образованный пай-мальчик, который был избавлен от реального секса и реальной боли, они возбуждали и пугали его. Но именно потому, что он был полностью лишен чего-либо подобного в реальности, он тянулся к этим запретным страшилкам и обеспечивал себе возможность возобновлять наслаждение ими «в любой момент». Книжное наслаждение, в воображении, не реальное. А в реальности оставался «Котиком», тихим и застенчивым. «Послушный, воспитанный, шаркающий ножкой… Вот чем я был в двенадцать лет. И вот чем я остался до седых волос» (ЭйМ I: 31). Пай-мальчик, далекий от соревновательных спортивных игр, это типичный прегомосексуальный ребенок, но не из всех пай-мальчиков вырастают гомосексуалы, так что это тоже обусловливает только некоторую вероятность, не больше.
3. Военная юность (1915–1920)
В 1915 году Сергей, окончив свое реальное училище, поступил, как и предполагалось, в Петроградский институт гражданских инженеров и переселился к маме в Петроград. Шла война, но он оставался в домашнем уюте и под родительским наблюдением. Со студенческой вольницей не сближался, в выпивках не участвовал. Увлекался двумя вещами — походами в театры и в книжные магазины. Февральская революция помешала ему увидеть «Маскарад» у Мейерхольда (спектакль отменили — он увидел его позже), а Октябрьская застала его за изучением приобретенной гравюры. Это были дела, далекие от его учебных занятий, которые его совершенно не увлекали, хоть он честно выполнял все задания. В революционной обстановке свободы печати он возобновил свои пробы на поприще графики и пошел со своими карикатурами по редакциям. В «Петербургском листке» его рисунок приняли и даже заплатили, потом его рисунки появились и в «Огоньке». Там он стал подписывать их переделкой своего имени на английский лад: Sir Gay — «Сэр Гей». Тогда слово «Gay» еще не имело нынешнего смысла и означало просто «веселый», «беспутный». С. М. Эйзенштейн в молодости.
С. М. Эйзенштейн в молодости.
В интервале между обоими пере воротами Рига была сдана немцам, и связь с отцом надолго прервалась. Отец и сын не только оказались по разные стороны фронта, но и в разных лагерях. Отец, естественно, поддерживал старый порядок, в котором он с таким трудом достиг высокого положения, а сын увидел в революции не только милую его сердцу тень гильотины, но и возможность освободиться от повиновения воле отца, давившей его всю жизнь. Он без сожаления оставил институт, добровольцем отправился на защиту столицы и был записан в школу прапорщиков инженерных войск. В марте 1918 года 20- летний прапорщик был отправлен на Северо-Восточный фронт. Как техник военной службы Красной Армии он проводил инженерные работы на строительстве укреплений, дорог и мостов. С сентября 1918 по октябрь 1920 он мотался в теплушках по военным объектам, но это не был вполне солдатский быт — у него была отдельная теплушка, где хранились его чертежи, рукописи и книги, в том числе по театральному искусству. В одном из мест его военной деятельности он повстречался с бывшей балериной музыкальной драмы Марией Ждан-Пушкиной, тоже мобилизованной. Некоторое время они ездили в одном эшелоне, и Сергей стал ухаживать за ней. В дневнике этого времени возлюбленная фигурирует как МП. Из дневника ясно, что МП оказалась недоступна. В Мемуарах была запланирована глава «Сказка о Гадком Утенке, который так и не стал Лебедем». Краткое изложение: «трагическая любовная история юного фанатичного будущего художника к милой маленькой девушке с плохими зубами, которая предпочла более глупого инженера». Она стала Зеленской (ЭйМ II: 473). Потом вагон с ней прицепили к другому поезду, и пути их разошлись. Этот эпизод его биографии ставит под сомнение спекуляции психо аналитиков. Они вписывают Эйзенштейна в типичную фрейдистскую схему: с детства видя дурной пример своей матери, он проникся чувством солидарности к отцу и отвращением к матери и женщинам вообще. А это под толкнуло его в сторону гомосексуальности. Но ведь и к отцу у него не было теплых чувств и уж тем менее солидарности с ним. И вот ведь влюбился в девушку. А что неудача вышла — с кем не бывает! Уж скорее гомосексуальная тяга могла возникать из его детских чувств пай-мальчика — зависти к сорванцам и восхищения ими. Но пока и проявлений гомосексуальности у него что-то незаметно. Когда его часть расформировали, он не стал восстанавливаться в своем институте, решил даже не возвращаться вообще в Питер к матери, а поступил на курсы военных переводчиков при Академии Генерального штаба в Москве изучать японский язык. Вот и отправился со своим приятелем Аренским, сыном композитора, в Москву, везя и запасное направление в Пролеткульт, чтобы начать новую жизнь.
4. Становление в ЛЕФе (1920–1924)
В послевоенной Москве все двери знакомых немедленно закрывались перед Аренским, когда он сообщал, что прибыл с фронтовым другом. Только бывшая жена его, вышедшая замуж за режиссера Пролеткульта Валентина Смышляева, решилась приютить их, а Смышляев обрадовался Эйзенштейну — они как раз искали театрального художника. Пролеткульт был левацкой организацией, объединявшей энтузиастов полного уничтожения старой, буржуазной культуры и создания новой, чисто пролетарской, взамен. Вместо академического обучения они выдвигали тренировку художников рабочего происхождения, вместо творчества — монтаж реалий. Издавали журнал ЛЕФ — «Левый Фронт». Со Смышляевым Эйзенштейн поставил «Мексиканца» по Джеку Лондону — о юном революционере, нанявшемся в школу бокса мальчиком для битья и выросшем в непобедимого боксера. Смышляев хотел передать эпизод бокса происходящим за сценой и лишь отраженным в поведении зрителей. Эйзенштейн, со своей тягой к жестокости, настоял на реальном боксе — перевел ринг на сцену. Но он понимал, что самоучкой многого не достигнешь. Нужно учиться. И в 1921 г. поступил на выучку к Всеволоду Мейерхольду. Тогда плодились художественные мастерские с зубодробительными аббревиатурами вместо названий. Студия Мейерхольда, где вырабатывалась грамматика новой драматургии, называлась ГВЫРМ — Государственные Высшие Режиссерские Мастерские. Мейерхольд, порвавший со своим учителем Станиславским, отменил занавес, повернул декорации обратной стороной к зрителю, выбросил задник. Но среди этих поисков нового, по принципу — лишь бы оно было противоположным старому, попадались и действительно революционные преобразования. Учениками Мейерхольда были Ильинский, Гарин, среди них занял место и Эйзенштейн. Из женской части слушателей его привлекла красивая девушка Агния Касаткина. В 1921–22 гг. он ухаживал за ней, но за этим, как обычно у него, ничего не последовало. Мейерхольд был яркой творческой личностью и трудно уживался с другими творческими личностями — не только с учителем, но и с учениками. Свою первую лекцию слушателям он, по воспоминаниям своего сотрудника Аксенова (1935/91: 25), начал со слов: «Всех вас я боюсь и ненавижу». Однако Эйзенштейн вел себя чрезвычайно скромно, застенчиво. «Никого никогда я, конечно, так не любил, так не обожал и так не боготворил, как своего учителя… Ибо я недостоин развязать ремни на сандалиях его…». Но он стремился к самостоятельному революционному творчеству. Его приняли режиссером в ПЕРЕТРУ — Первую Рабочую Передвижную Труппу. Его следующей пьесой было «На всякого мудреца довольно простоты» Островского — ее переделали в постановку «Мудрец», введя клоунаду, куплеты, пляски и акробатику — хождение по проволоке (без сетки!) над головами зрителей. Получилось чрезвычайно ново на зависть Мейерхольду, но смысл Островского совершенно исчез. В пьесе «Подвязка Коломбины» (переделка «Шарфа Коломбины») родители Коломбины были одеты в экстравагантные костюмы: Отец выглядел как ватер-клозет с унитазом, на голове его вместо шляпы покоился бачок и с него свисала цепочка с рукояткой и надписью «Потяни», а Мамаша была превращена в ресторанный автомат: на пышном бюсте стояли бокалы, ляжки, напоминающие окорока, были заключены в витринное застекление, а щель для монет была оформлена, естественно, между ними. На одном из занятий затянутая в кожу Зинаида Райх, жена Мейерхольда (перешедшая к нему от Есенина), задумчиво посмотрела на сидевшего напротив Эйзенштейна и протянула ему записку на клочке бумаги: «Сережа, когда Мейерхольд почувствовал себя готовым режиссером, он ушел от Станиславского». Намек был понят. На следующее занятие Эйзенштейн не пришел и исчез из поля деятельности Мейерхольда. Из Академии Генштаба Сергей тоже ушел (хотя и выдержал туда экзамен) и стал заведовать худчастью Центральной Арены при ЦК Пролеткульта (так назывался театр в Каретном ряду). В 1924 г. приехала обеспокоенная мать. Сергей жил в это время вместе с другом детства Максом Штраухом (тот прибыл в Москву раньше Сергея и подался в артисты тоже раньше). «Ты, значит, не женился, Сережа?» — спросила она. — «Нет». — «Я боюсь внезапной женитьбы. Придет чужая женщина…». Сергей успокоил ее весьма своеобразно. «Этого скоро не будет, мама. Этого, может быть, не будет никогда» (Шкловский 1976: 90, со слов Аксенова). Это не встревожило мать. Волновал ее разрыв с архитектурной профессией, авантюрный уход в рискованную театральную карьеру. Материнские уговоры и слезы не помогли. Выбор был сделан. Мать хотела поселиться с ним, чтобы воздействовать на него, держать его под контролем — она уехала из Петрограда насовсем. Но сын настоял на ее возвращении. Мать уехала ни с чем. А Максим Штраух женился на Юдифи Глизер, также впоследствии известной артистке. Они теперь жили за ширмой в той же комнате. Половая жизнь была рядом. У самого Сергея ее по-прежнему не было, хотя ему было уже более 25. В комнате царила театральная жизнь — все были из театра. Но Сергея уже влекла новая перспектива — делать не спектакли, а фильмы. Узнав об этом, Мейерхольд вызвал его и долго уговаривал не оставлять театр. Он говорил, что в театре Эйзенштейн его единственный достойный преемник, предлагал ему свой театр в полное распоряжение — ставь любые спектакли, даже те, которые планировал для себя сам маэстро. Эйзенштейн прослезился от любви к учителю, но на уговоры не согласился. В театре на Каретном он покинул актрису Веру Янукову, которую считали его возлюбленной: когда она ходила по проволоке без сетки, он очень волновался, даже убегал из зала. Но волновался он и когда по проволоке ходил молодой голубоглазый актер Гриша Александров. Кто же был предметом его любви? Если — втайне — Александров, то по проволоке ходил и сам режиссер: это была запретная любовь, правда, уже не столь непристойная, как до революции, еще не столь рискованная, как в 30-е годы и позже, но это время уже не за горами. С. Эйзенштейн и Г. Александров.
Голливуд, лето 1930 г.
С. Эйзенштейн и Г. Александров.
Голливуд, лето 1930 г.
С Александровым (фамилия его предков Мормоненко), который при был в 1921 г. 18-летним из Свердловска (он был младше Эйзенштейна на пять лет), знакомство началось с драки: тот украл краюху хлеба, припасенную Эйзенштейном на трапезу. Но выяснив, что Гриша два дня ничего не ел, Сергей поделился с ним. С тех пор подружились на всю жизнь. Первоначальную резкую реакцию на Гришин проступок психологи фрейдистского толка объясняют подсознательным опасением Эйзенштейна, что красота Александрова слишком притягательна для него и втянет его в гомосексуальные чувствования. Тем временем та девушка, которой Эйзенштейн не решался признаться в любви, хотя и хотел просить ее руки, досталась его другу Александрову, который был проще и не колебался. Те же психологи (в частности писатель Фернандес) считают, что Эйзенштейн был в глубине души даже рад такому исходу: он втайне боялся телесного контакта с женщиной и видел в Александрове свою тень, которая теперь могла наслаждаться любовью за него, так сказать, по доверенности. Его согревала близость с этой любовной парой, так же, как с парой Штраух-Глизер. Что-то в этом есть, хотя было ли первопричиной отчуждение от матери, переросшее в гомосексуальность, не очевидно.
5. Революционные фильмы (1924–1929)
Сценарий грандиозной картины в семи сериях на тему подпольной революционной борьбы написал сам Эйзенштейн, точнее Григорий Александров под диктовку Эйзенштейна. Затем Эйзенштейн и Плетнев, глава Пролеткульта, подали этот сценарий на кинофабрику. Эйзенштейну как режиссеру дали возможность испытать себя в кинопробах. Он снял их серьезно, правдоподобно и скучно. Руководители фабрики, в том числе Тиссэ, написали просьбу к начальству разрешить в порядке исключения третью пробу, потому что хотя пробы сняты из рук вон плохо, но человек интересный. Эйзенштейн снял третью пробу в своем испытанном эксцентричном ключе: свалка, как знамя висит труп кошки, стоят бочки, появляется шкет, и по его знаку из всех бочек выскакивает шпана. Проба понравилась. Она вошла в фильм. Из семи частей длинного сценария выделили одну пятую часть, это и оказалось фильмом «Стачка». В нем масса столь же неправдоподобных сцен — массовых расстрелов демонстраций, полей, усеянных убитыми, и т. п., — но они делают фильм выразительным. В числе эпизодов был белокурый ребенок, которого вот-вот растопчут лошади казаков. Не было такого эпизода в жизни. Но ребенок очень напоминает самого режиссера в детстве. Это его проекция классового противостояния на свое детское восприятие жестокости. Тогда в советском киноискусстве боролись две тенденции. Одну проводили «киноки» Дзига Вертов (Денис Кауфман) и его брат-оператор: показывать только правду, как можно ближе к действительности, почти документально — аппарат точнее глаза. Другую линию, принятую Эйзенштейном, отстаивали «монтажисты». Избирая эффектные кадры, режиссер монтирует их, нарушая истинное течение событий. Так достигается художественная выразительность. Эйзенштейн придумал «беспереходный монтаж» — сталкиваются резко различные, часто противоположные состояния, без показа переходов от одного к другому. Это придает показу динамику. «Стачку» ругали и сторонники Дзиги Вертова (за искусственность, «пережитки мизансцен»), и партийная печать — за формалистические выкрутасы. Но в Париже, где революционное содержание не могло быть плюсом, фильм получил серебряную медаль. В 1925 году Эйзенштейну как показавшему себя режиссеру заказали съемки юбилейного фильма «1905 год». Сценарий был невероятно длинен, но в фильм вошли кадры с 94-го по 135-й. Это и оказался «Броненосец Потемкин». Здесь тоже «беспереходная игра». Сняты мраморные львы у Воронцовского дворца — лежащие, пробуждающиеся и ревущие. Но смонтированы так, что в ответ на выстрелы броненосца спящие мраморные львы вскакивают и ревут. Ребенок здесь в коляске, которая, упущенная раненной матерью, скатывается вниз по широченной Одесской лестнице, все убыстряя ход в отрывках, перемежаемых другими кадрами, навстречу неизбежной гибели. Матросов, зачинщиков беспорядков, перед расстрелом накрывают брезентом. Этого на деле на броненосце не было, но режиссеру нужно было подчеркнуть отделение осужденных на смерть от остальных — и их укрыли. Фильм был снят в рекордно короткий срок — за три месяца. Сила воздействия была такова, что в Америке к властям обратился старик, который в молодости солдатом участвовал в реальном расстреле на Одесской лестнице, с просьбой предать его суду. Наутро после первого показа 27-летний Эйзенштейн проснулся знаменитым. Ему даже выделили отдельную комнату в 2 окна. Грише Александрову, несмотря на его ангельскую красоту, доставались в фильмах Эйзенштейна только роли отрицательных героев: в «Стачке» — это мастер, ненавидимый рабочими, в «Потемкине» — лейтенант, приказывающий расстрелять восставших матросов и сам убивающий их вожака. Опять же исследователи, увлекающиеся психоанализом, трактуют это как попытки Эйзенштейна умерить Гришино очарование, чтобы не поддаться ему. Как борьбу Эйзенштейна с гомосексуальными склонностями в себе. Затем к десятилетнему юбилею 1917 года Эйзенштейн снял «Октябрь», в котором ему пришлось переделывать монтаж еще до показа — убирать Троцкого: как раз в это время демонстрации троцкистов провалились, Сталин победил, и Троцкий был сослан в Алма-Ату. Теперь история революции проходила без своего военного вождя. Зато в фильме значительное место занимает штурм Зимнего — штурм, которого в реальности не было! Не нужно было лезть на знаменитые решетчатые ворота, открывать их и т. п. Зимний сдался куда менее эффектно. Но столь впечатляюще сняты были кадры штурма, что они стали реальностью. Они попали в учебники истории, по местам штурма стали водить экскурсии, появились даже воспоминания участников штурма. Еще раньше этого фильма началась работа над сценарием «Генеральной линии». Это был фильм о благе коллективизации для деревни. Он вышел на экраны только в 1928 году под названием, которое дал фильму Сталин: «Старое и новое». Вместо актеров в фильме типажи. Главный типаж — женщина-беднячка Марфа Лапкина. Впечатляющие эпизоды — сепаратор, превращающий молоко в сметану, и картина ликующей народной свадьбы, в которую превращена случка племенного колхозного быка с захудалой деревенской коровой. Эти кадры создают атмосферу некоего пансексуализма. Появились изменения и в любовных связях самого режиссера. Имея теперь дела с БОКС (организацией для культурных связей с заграницей), он познакомился с Перой Аташевой (Фогельман), журналисткой, по словам Шкловского, «с мужским умом», заведующей секцией кино в ВОКС. В прошлом Пера была актрисой, она тоже владела тремя иностранными языками, и они быстро понравились друг другу. Сергей Михайлович стал часто бывать дома у Перы. Уезжая, он отовсюду стал писать ей письма. Бывали и ссоры, и надолго, но в конце концов он, холостой и неухоженный, поселился в квартире у Перы, где она жила с матерью, а когда он заболел черной оспой и был помещен в инфекционный изолятор, так что еду подавали ему через окошечко в двери, Пера приезжала к нему. Для всех они были муж и жена. Однако близкие друзья уверяют, что это было сугубо платоническое содружество. Им виднее. Режиссера стали посещать видные иностранные гости — артисты, писатели. В числе прочих побывал в 1927 г. Теодор Драйзер. Он описывает этот визит так: «Входя, я заметил, что он владеет самой широкой и удобной кроватью из всех, какие я встретил в России, и я позавидовал ему, так как мне до сих пор попадались лишь узкие и весьма неудобные. Он улыбнулся и объяснил, что эту роскошную вещь он купил в американской сельхозартели под Москвой, куда он попал для киносъемок» (Dreiser 1928).6. Страсти за границей (1929–1932)
Страсти — в обоих значениях: как страдания и как страстные чувства. В сентябре 1929 г. Сергей Эйзенштейн уже как прославленный кинематографист прибыл в Западную Европу вместе со своим оператором Эдуардом Тиссэ и с любимым артистом и (по крайней мере) помощником Григорием Александровым. Путешествие началось с конгресса независимых кинематографистов в Швейцарии, но дальней целью был Голливуд. Чтобы попасть туда и реализовать приглашение американских продюсеров сделать фильм в Америке на американские деньги, нужны были долгие хлопоты и преодоление бюрократических препон. Тем временем советские кинематографисты посетили разные города Швейцарии (сентябрь), Германии (октябрь), Эйзенштейн дважды побывал в Великобритании (ноябрь и декабрь), трижды в Бельгии (те же месяцы, да еще январь 1930), в Голландии (январь). Зиму и весну провел во Франции. В Лондоне вместе с профессором Айзексом осматривали музей Тауэра и обжаловали по инстанции — смотрителю («сторожу зала»), затем хранителям секции и всего отдела, наконец директору — недостаток экспозиции: «у всех лат скрыта одна важнейшая деталь» — между железными штанинами должен торчать железный гульфик («брагетта»), «этот существеннейший атрибут мужественной агрессивности». В Эрмитаже он представлен, а здесь нет (ЭйМ I: 263–64). А жаль — очень хотелось взглянуть на железную эрекцию рыцарей. В веймарской Германии Эйзенштейн спокойно принимал всеобщее поклонение и в шутку интерпретировал свои инициалы (S. М.) как общеизвестную аббревиатуру королевского титула — Seine Majesät («Его Величество»). Он имел короткий роман с актрисой Валеской Герт, но также с любопытством посещал кафе-клуб «Эльдорадо», где собирались гомосексуалы-трансвеститы. Впервые он видел, как люди не стесняются своего пристрастия и наслаждаются полным самовыражением своей личности. Его отношение к этим эскападам уловить трудно, но известно, что в Берлине он посещает Институт сексуальных промежуточных стадий Макса Гиршмана (январь 1930) — то ли из любопытства к психологическим вывертам, то ли с некой личной заинтересованностью — возможно, хочет узнать о себе, как ему быть с тревожащими его собственными склонностями. Посещает также специалиста по психоанализу Ганса Закса, ученика Фрейда. В Париже такой интерес к открытому проявлению половых извращений и научному их пониманию не получает продолжения, зато среди деятелей искусства, с которыми он знакомится, там многие оказываются известными гомосексуалами. Эйзенштейн встречается и ведет долгие беседы с Жаном Кокто, Луи Арагоном, Джеймсом Джойсом (обсуждает возможность поставить «Улисс», где есть гомосексуальные сцены). Но, как и в Германии, этому интересу сопутствует легкий флирт с эффектной женщиной. Он ходит по салонам со знаменитой моделью Алис Ирин по прозвищу «Кики с Монпарнаса», которая позировала многим известным художникам (она есть на полотнах Модильяни и Леже) и являлась музой-вдохновительницей монпарнасских художников и поэтов. Она танцует танец живота на крышке рояля и набрасывает сама портрет Эйзенштейна, скашивая «свои громадные миндалевидные глаза неизменно благосклонной кобылицы из под длинных ресниц» на вошедшего Александрова (ЭйМ I: 204) — и на портрете у Эйзенштейна оказались губы Александрова. Подарив режиссеру свои «Мемуары», она надписала двусмысленное посвящение: «Потому что я тоже люблю большие корабли и матросов» (Ackerman 1999: 183). Эйзенштейн посещал кварталы публичных домов в Марселе и Вердене, в Тулоне коллекционировал открытки девиц, предназначенные для матросов. Разумеется, его пребывание во Франции не сводилось к этому времяпровождению. Он выступал с докладами о советском кино, в том числе в Сорбонне, следил за хлопотами французских друзей о продлении визы. Французское правительство опасалось пребывания «красного агитатора» и все время ограничивало его выступления, запретило показ его фильмов (в Сорбонне полицейский держал проектор за ножку) и в конце концов отказалось продлять визу. Но к этому времени из Америки прибыло разрешение на въезд. В Америке Эйзенштейн встречался с классиком немого кино Гриффитом, Дуглас Фэрбенкс организовал ему встречу с элитой американского кино в сауне, так что опоздавший Чарли Чаплин предстал перед Эйзенштейном голым в облаках пара, как бог Саваоф. Сначала фирма «Парамаунт» заказала Эйзенштейну снять фильм «Золото Саттера» (в некоторых русских транслитерациях «Золото Зуттера») по роману Блэза Сэндерса. Саттер был богатым землевладельцем, но потерял свои земли, когда началась золотая лихорадка: на его землях вырос город золотоискателей Сан-Франциско. Саттер судился с городом, пытаясь оттягать свои земли, но проиграл процесс. Фильм был бы о победе капитализма над правом. Увидев сценарий, компания отказалась от своей идеи. Эйзенштейну предложили вместо этого снять «Американскую трагедию» по Драйзеру. Опять он работал, исследовал преступление главного героя — Клайда Гриффита. Тот ради карьеры должен был потопить девушку, которая мешала его свадьбе с богатой невестой. Он передумал и, уже перевернув лодку, пытается спасти девушку. Но она пугается его и, вырвавшись, тонет. Следователь подделал улики, усилив виновность, и Клайд был осужден. «Виновен или не виновен Клайд в вашей трактовке?» — спросили Эйзенштейна продюсеры. — «Не виновен». — «Но тогда ваш сценарий — чудовищный вызов американскому обществу!». И хотя Драйзер был за эту экранизацию, проект был отвергнут. В ноябре 1930 г. Эйзенштейну было отказано в дальнейшем пребывании в США. Однако по договоренности Союзкино с русско-американским обществом Амкино для Эйзенштейна наметилась возможность снять фильм по соседству с США — о мексиканской истории. Для финансирования этой идеи дружественный Советскому Союзу американский либеральный писатель Эптон Синклер, много печатавшийся в СССР (и единственный, кому за это платили советские гонорары), мобилизовал родственников и друзей, и деньги (25 тыс. долларов) были собраны. Договор подписала жена Синклера Мэри, а ее брат Хантер Кимбро возглавил «Трест мексиканских фильмов Эйзенштейна». Разумеется, в группу вошли Тиссэ и Александров. Все они прибыли в Мексику в декабре 1930 г. Обосновались в деревне Тетлапаяк. «С момента, когда я увидел Тетлапаяк, — говорил Эйзенштейн Мэри Ситн, — я понял, что это то место, которое я искал всю жизнь». Он воспринял эту мексиканскую деревню как рай на земле. Его поразила примитивная и чувственная жизнь индейцев. В Мексике он нашел осуществление давно занимавшей его и неотступно овладевшей им идеи изначальной андрогинности человека, единства в нем мужского, женского и детского начал. «Именно так я чувствую! — пишет он в «Мемуарах». — Это возможно и расово. Возможно и индивидуально-психологически. Дорогая мне «раса де бронсе» — бронзовая раса мексиканского индио — именно такова. Мужественная ярость нрава, женственная мягкость очертаний, скрывающая стальную мускулатуру в обтекающих формах внешних покровов мышц, незлобивость и вместе с тем детская капризность ребенка — это сочетание черт в мексиканском индио делает его или ее — muchacho или muchacha (мальчика или девочку) — как бы на длительность продолжившимся единством monsier, madame et bébé. Взрослые и сложившиеся женщины и мужчины, они кажутся расой отроков и отроковиц в отношении других рас, расой юношества, где юноша еще не утерял первичной женственности, а девушка — мальчишеского озорства, и оба — одинаковой прелести детскости… Иногда мне кажется, что и сам я tout a la fois [всё сразу] — monsier, madame et bébé» (ЭйМ II: 65). Мексика представила ему возможности его «монтажа аттракционов» — тавромахия, экстатические религиозные процессии, истязающие себя флагелланты, уходящие в небо пирамиды ацтеков. Поразили художники революционной Мексики — Диего Ривера, Давид Сикейрос, Хосе Клементе Ороско и другие. По словам Сити, ходили слухи о том, что Эйзенштейн посещал обсценные театрики. Многие его мексиканские рисунки непристойны. Фильм должен был состоять из многих серий, отражающих разные эпохи мексиканской истории, воспевать победу мексиканской революции и называться «Que viva Mexico!» («Да здравствует Мексика!»). Эйзенштейн со своей труппой снял эффектные кадры, в своем любимом ключе жестокости — бунтовщики, закопанные в землю так, что только головы торчат, а по этим головам гонят своих коней плантаторы.
За границей деньгиуходили гораздо быстрее, чем в советской России. Не успели оглянуться, как средства кончились. Трест развалился, и Хантеру Кимбро пришлось заложить свой дом. Теперь его надо было выкупать. Правда, в последний момент Амкино добавило 25 тысяч. Но тут терпение Сталина лопнуло (подумать только — два года артисты разъезжают по заграницам, как какие-нибудь свободные гастролеры!), и, заподозривший неладное, вождь затребовал Эйзенштейна в Москву. 21 ноября 1931 г. он телеграфировал Синклеру, что если Эйзенштейн не вернется немедленно, его будут в СССР считать предателем — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Синклер не показал эту телеграмму Эйзенштейну и ответил Москве сам. Он приводил причины задержки (разрастание материала сверх ожиданий, болезни, дожди, бюрократические препоны — вплоть до ареста группы), ссылался на идеологические заслуги режиссера. «В Голливуде на него яростно нападали местные фашистские элементы. Они называли его красной собакой, подстрекателем к убийствам и т. д…. Когда он пришел ко мне, то объяснил свое желание делать картину в Мексике тем, что не хочет возвращаться к Советскому правительству побежденным…» (Шкловский 1969: 203–204). Отчеты, которые Кимбро посылал своему шурину из Мексики, однако, скорее подтверждали опасения Сталина. Кимбро писал, что Эйзенштейн никак не коммунист и что его поведение просто скандальное (Ackerman 1999: 185). Эти отчеты лояльный Синклер также довел до сведения Москвы. В марте 1932 г. Эйзенштейну и его друзьям пришлось отправиться домой — через США и Европу. В мае Эйзенштейн был уже в Москве. Отзыв режиссера в Москву был выгоден Синклеру: по договору он оставался собственником всех снятых лент! Он обещал Эйзенштейну отправить их в Москву с первым кораблем, но не отправил. Монтаж осуществляли, как и уговаривались, в Америке, но без Эйзенштейна. Это получился не его фильм, хотя и по его материалам. Он оказался бледнее, чем был бы у Эйзенштейна, но все же имел успех у публики. Именно при последнем проезде через США он познакомился и подружился с Мэри Ситн, которая стала его биографом, но и эта дружба с женщиной оставалась на чисто платоническом уровне.
7. «Бежин луг» и первая опала (1932–1937)
В Москве, которая сильно изменилась за годы его отсутствия, как и вся страна (прошла сплошная коллективизация и ликвидация кулачества «как класса»), началось создание идеологических организаций, которые должны были в условиях обострения классовой борьбы дисциплинировать художников, писателей и артистов и жестко поставить их на службу партии. Эйзенштейн был на I Съезде кинематографистов в 1934 году и председательствовал на I Конференции работников кино в январе 1935. Но его выступление разочаровало партийных идеологов. Он говорил об антропологии, о происхождении языка, сравнивал грамматику кино с иероглифами. Сергей Васильев опустил мечтателя на землю: «Я требую от вас сбросить кимоно, покрытое иероглифами, и принять участие в нашей советской действительности сегодняшнего дня!». Эйзенштейн начал работу над сценарием Ржешевского «Бежин Луг», соединявшим тургеневскую обстановку с историей Павлика Морозова. Верный идеалам коммунизма, пионер Павлик донес органам советской власти на собственного отца-подкулачника, и смелого пионера убили кулаки. Отличие от канонической схемы было то, что в фильме мальчика убивал собственный отец — соответственно излюбленной модели Эйзенштейна — конфликт с отцом и притеснение сына, давимого авторитетом демонического отца. То есть классовый, политический конфликт, требуемый иделогическим каноном, подменялся извечным фрейдовским конфликтом. Директор киностудии Борис Шумяцкий, заклятый враг Эйзенштейна, в 1936 г. велел приостановить съемки, пока не утвержден сценарий. Новые съемки 1936–1937 годов были опять остановлены, и Шумяцкий опубликовал в «Правде» разгромную статью, обвинявшую Эйзенштейна в грубых политических ошибках и опасных формалистических вывертах. А шел 1937 год — год «Большого Террора». С ведома Сталина вся работа над фильмом была прекращена, копии отснятого фильма были уничтожены, а негативы погибли во время войны от немецкой бомбы. Остались только отдельные кадры, сохраненные монтажницей Эсфирой Тобак. В этой обстановке Эйзенштейн мог вполне бояться, что ему припомнят и эксцентричное поведение за границей, приплетут и слухи о гомо сексуальности. К этому времени (с 1934 года) в советском законодательстве уже было восстановлено уголовное преследование за мужеложство, и сотни гомосексуалов отправлены в лагеря. В октябре 1934 г. Сергей Михайлович официально оформил свой брак с Перой Аташевой, но вскоре они поссорились. Оставаться холостяком было опасно, и вообще, в это время постоянных ночных арестов было очень тоскливо жить одному. Во время второй серии съемок «Бежина Луга» Сергей Михайлович сдружился с актрисой Елизаветой Сергеевной Телешевой, и она стала его «гражданской женой». За глаза он звал ее «Мадам», а был ли этот брак реализован в телесном плане, неизвестно. Это не подвергалось бы сомнению, если бы о предшествующем браке не было сведений о бестелесности. Телешова умерла в 1942 г., и дружба с Перой восстановилась, но жил Эйзенштейн отдельно. Готовила ему домработница, суровая тетя Паша.8. Государственно-патриотические фильмы (1938–1948)
С января 1938 г. ситуация изменилась. Главный враг, Шумяцкий, сам был сметен Большим Террором. Сталин вернул благоволение Эйзенштейну, и ему был заказан фильм патриотического содержания об Александре Невском. Близилось военное противостояние с нацистской Германией, и необходимо было подготовить народ к этому. Одной социалистической идеи было мало, тем более что нацисты тоже выступали под красным знаменем и вывеской рабочего социализма (национал-социализма). Это неизбежно толкало Сталина на подчеркивание национальных интересов России и на восстановление патриотической традиции. Сценарий Эйзенштейн писал вместе с Павленко, сугубо партийным писателем, а сорежиссером был назначен Дмитрий Васильев. На проверку сценарий затребовал сам Сталин. По сценарию фильм кончался смертью Александра Невского в ставке татарского хана, но в результате высочайшей проверки за эпизодами победы была проведена жирная красная черта, и Эйзенштейну передали слова вождя: «Сценарий кончается здесь. Не может умирать такой хороший князь!». Это был первый звуковой фильм Эйзенштейна. Музыку к фильму писал Прокофьев, и его набатный хор «Вставайте, люди русские, вставайте люди вольные» стал впоследствии чем-то вроде гимна в Великую Отечественную войну. Александра Невского играл Николай Черкасов, бывший до того скорее комическим актером, а на коне его дублировал Доватор — впоследствии генерал и герой Отечественной войны. Центральным эпизодом фильма стало Ледовое побоище. Нужды нет, что некоторые историки сомневаются в обстоятельствах и летописных итогах этой битвы (немецкие реляции противоположны русским, а широкомасштабные поиски доспехов и скелетов рыцарей на дне Чудского озера не дали результатов). Битва была снята не столько как реконструкция прошлого, сколько как предсказание будущего. Сюжет был близок Эйзенштейну. Город его детства Рига был центром тевтонской экспансии на Новгород. Его бабушка Конецкая умерла на паперти собора Александро-Невской лавры. В передаче немецких зверств режиссер использовал свой излюбленный прием — жестокость против детства: гроссмейстер ордена бросает в огонь русского младенца. Для художественной мотивировки русской стратегии разгрома немецкого клина («свиньи») было введено рецитирование русской народной сказки из Афанасьевского сборника заветных (озорных) сказок, изданного за границей. По сказке Заяц перехитрил Лису, и она застряла между двух берез; тогда Заяц пристроился сзади и… «нарушил ее девичью честь». Из этой метафоры якобы Александр вывел свою идею «клещей», впоследствии использованную не раз во время Отечественной войны. Смелой художественной находкой было и оформление вражеской рати не черным, как обычно, а белым цветом (белые плащи, белые попоны коней) — совпадение с цветом зимы, которая в России — злое время. Отснятую ленту тоже затребовали к Сталину. Фильм понравился и был высочайше утвержден. Правда, одну сцену (рукопашную новогородцев на мосту) не успели включить в отправленную к Сталину копию — всё, этой сцены и нет в фильме. Фильм имел огромный успех. В ноябре 1938 г. Эйзенштейн был награжден орденом Ленина и стал доктором искусств без защиты диссертации. В 1940 г. он стал художественным директором Мосфильма. И хотя после заключения пакта с немцами, т. е. после 1939 г., «Александр Невский» был снят с экранов (и не шел до самой войны), в марте 1941 г. Эйзенштейн получил за него Сталинскую премию. Он понимал, что ценой милостей должно быть угождение диктатору и его режиму. В это же время его учитель Мейерхольд был арестован и вскоре расстрелян. Эйзенштейн захватил и, несмотря на ужасающую опасность этого, сберег его архив. Когда он уезжал в эвакуацию, он оставил свои рукописи, но архив Мейерхольда увез с собой. Теперь Эйзенштейну было поручено снять еще более ответственный фильм — об Иване Грозном. Ответственность темы заключалась в том, что аналогии между Сталиным и Иваном Грозным, между их правлениями (войны, террор, массовые казни, пытки, атмосфера доносительства, обвинения в измене и предательстве, ожидание низкопоклонства и т. п.), не только напрашивались в умах сторонних наблюдателей, но и — по другим основаниям — усматривались самим вождем: как и он, Иван поднял государственность России на новый уровень, резко усилил централизацию, расправился с заговорами, добился расширения территории России и т. д. Исходя из этого видения, Сталин считал нужным возвеличить Ивана Грозного как выдающегося прогрессивного исторического деятеля. Эйзенштейну для вдохновения требовалось понять Ивана Грозного, найти в нем нечто близкое, а для превращения его в положительного героя — проникнуться симпатией к нему. И Эйзенштейн нашел в образе Ивана близость не к Сталину, а к себе. Как и режиссер, Иван вырос без родительской любви и заботы, страдал от одиночества, был впечатлен сценами жестокости, тянулся к сексуальным утехам разного рода. В неотправленном письме к Тынянову Эйзенштейн признавался: «Сейчас в «человеческом» разрезе моего Ивана Грозного я стараюсь провести лейтмотив единовластия как трагическую неизбежность одновременности единовластия и одиночества. Один как единственный и один как всеми оставляемый и одинокий. Сами понимаете, что именно это мне стараются и в сценарии и в фильме «замять» в самую первую очередь!» Он не мог, конечно, показать самого Ивана сексуальным извращенцем, но выведен кравчий царя Федька Басманов, который по всем историческим данным был его возлюбленным — сохранились жалобы бояр на его притеснения, и отчаявшиеся бояре стонут, что он творит произвол, пользуясь своим угождением царю содомским грехом. В фильме Федька танцует для царя, переодевшись в женское платье, и у него во время танца есть вторая, искусственная голова — женская. По Эйзенштейну, Федька подменял Ивану жену Анастасию: «Федор = Ersatz Анастасия» (Эйзенштейн 1964, 6: 515). И даже когда сам Малюта Скуратов, глава опричников, подползает к царю в келье, царь его спрашивает: «Ну что, соскучился по царской ласке?» и поскребывает ему бороду (античный жест сексуальной ласки), а тот довольно покряхтывает. Если эротичность этой сцены кому-либо недостаточно ясна (ее не разглядели цензоры — пропустили), дополнительный штрих вносится собственноручным озорным рисунком Эйзенштейна «Малютин костюм»: у Малюты из-под распахнутых пол кафтана вздымается выше головы громаднейший толстенный половой член, красный и увенчанный головой дракона (Ковалов 1998). Съемки велись в основном в Алма-Ате, в эвакуации. Пять лет Эйзенштейн работал над фильмом, который должен был выйти в трех сериях. Вернулся в Москву режиссер в июле 1944 г. В октябре первая серия, говорящая о детстве царя (наиболее искренне и в то же время приемлемо для Сталина снятая) и о взятии Казани, была утверждена и вышла на экраны страны. В 1945 г. Эйзенштейн получил за нее Сталинскую премию и весь год работал над окончанием второй части. В феврале 1946 г. эта вторая часть подверглась острой критике на собрании киноработников. Эйзенштейн на ней не присутствовал, потому что уже несколько дней лежал с инфарктом. Инфаркт постиг его на балу лауреатов как раз во время танца с Верой Марецкой — как он шутил, в ее объятиях. На собрании фильм критиковали как скучный, формалистический и не русский — тяжелое обвинение в те годы уничтожающей борьбы с космополитами и низкопоклонниками перед Западом. К этому времени уже велась скрытая, но ожесточенная травля евреев, их убирали со всех видных постов. Возникло государство Израиль, и евреи сразу стали не внутрисоюзной нацией, а щупальцами иностранного государства и потенциальными изменниками — чем-то вроде немцев или поляков, но хуже — из-за вездесущности. Под космополитами подразумевали прежде всего евреев. Эйзенштейн, полуеврей, никогда не считал себя евреем, но в начале войны переосмыслил это и обратился по радио «К моим еврейским друзьям во всем мире» с призывом помогать Советскому Союзу. Теперь это могло ему дорого обойтись. В Минске агентами Берии был убит председатель Еврейского антифашистского комитета Народный артист СССР Михоэлс; на его похоронах Эйзенштейн шепнул своему другу детства Штрауху: «Следующий — я» (ЭйМ I: 6). Через две недели его и постиг инфаркт. Он попал в клинику и писал там мемуары. К августу 1946 г. Сталин просмотрел сам вторую серию фильма и не одобрил образ Ивана Грозного: царь представлен как слишком неуверенный, охваченный сомнениями и страхами. Таким ли должен быть великий государь? По просьбе артиста Черкасова в феврале 1947 г. Сталин принял его с Эйзенштейном в Кремле и вместе со Ждановым разъяснил им свои виды на образ Ивана Грозного. Эйзенштейн принял предложенные исправления и обещал взяться за работу. Но он был уже тяжело больным человеком. После инфаркта он очень зависел от врачебной помощи. Для надежности в квартире держали тяжелый железный ключ у трубы парового отопления, чтобы сам больной или тетя Паша могли постучать по трубе в случае сердечного приступа. В ночь на 10 февраля 1948 года труба загудела на весь дом, в квартиру сбежались люди и вызвали скорую помощь. Но было уже поздно. Сердце великого режиссера перестало биться. Вторая серия осталась неоконченной и была показана зрителю только четырнадцать лет спустя. Третья серия должна была показать исповедь Ивана — в ней он кается в своих преступлениях, в убийствах и казнях. Материалы, отснятые к этой серии, были уничтожены после запрещения второй. Но некоторые куски уцелели. В частности, остались кадры, в которых на роль королевы Елизаветы Английской пробуется… Михаил Ромм. В кадре он, одетый в роскошное платье королевы с огромным кружевным воротником, склоняется к улыбающемуся Эйзенштейну и треплет его за подбородок — напоминаю: это античный жест сексуальной ласки. Если кому-нибудь гомоэротичность этой сцены недостаточно ясна, ее поясняют два рисунка Эйзенштейна из коллекции Акчуриных. На одном королева (в короне для ясности) треплет стоящего перед ней парня не за подбородок, а за гениталии, залезая к нему в ширинку, а на другом тот же парень отходит от нее с эрегированным членом, оставляя ее в коротенькой нижней юбочке (Ковалов 1998; Молок 1999). Вот что видел Эйзенштейн, стоя перед одетым в платье королевы Роммом, пока тот игриво трепал его за подбородок! Поскольку он как-то отождествлял себя со своим героем, он и гомосексуальность Ивана, возможно, ассоциировал со своими чувствованиями. Во всяком случае, встретившись со Стефаном Цвейгом, он огорошил его бестактным вопросом: Кинопроба Михаила Ромма в роли Елизаветы.
Рисунок Эйзенштейна, подозрительно напоминающий кинопробу с Елизаветой.
Кинопроба Михаила Ромма в роли Елизаветы.
Рисунок Эйзенштейна, подозрительно напоминающий кинопробу с Елизаветой.
— «Смятение чувств» вы про себя писали? И на смятенный ответ: «Ах, нет, нет, это про одного друга молодости…» — он скептически замечает: «Звучит не очень убедительно» (ЭйМ I: 79). Он то исходил из убеждения, что понять и воссоздать такие фигуры можно только из своих собственных переживаний, что пишут в таких случаях о себе. Разумеется, всякие намеки на гомосексуальность Ивана были для Сталина неприемлемы. Но вождь не возражал против показа жестокости царя, он желал лишь, чтобы была подчеркнута необходимость твердости и последовательности. Сталин в беседе с Черкасовым говорил, что у Ивана был один недостаток: он был недостаточно жесток и оставлял некоторых врагов в живых, а кроме того молился и каялся. «Чего, спрашивается, каяться?» — недоумевал диктатор. Однако свои последние годы он провел без врачебного осмотра, и когда его самого в 1953 г. постиг инсульт, врачей не оказалось в окрестности: его доверенный врач проф. Моисеев был посажен, прочие не имели допуска. А соратники не решались войти без вызова. Весь вечер и всю ночь он пролежал в одиночестве и без квалифицированной помощи, что усугубило его состояние и привело к смерти. Не так уж далека от истины была трактовка единовластия Эйзенштейном в «Иване Грозном».
9. Секретные рисунки
Всю сознательную жизнь Эйзенштейн рисовал, особенно интенсивно в 1917–1923 гг. и с 1930 по 1945, и рисунки составляют значительную часть его творческого наследия — их в одном только Российском архиве литературы и искусства (РГАЛИ) ок. 5000. Они собирались и его друзьями (вторым оператором Андреем Москвиным, семейством Акчуриных и др.). Отдельные серии у нас издавались (альбомы общего характера 1961 г. и мексиканских рисунков 1967 г. изд., серия «Безумные видения» и др. в Мемуарах изд. в 1997 г.). Поскольку он после периода юношеских проб в качестве газетного карикатуриста (Sir Gay) никогда больше не предназначал свои рисунки для печати, в рисунках можно найти выражение тех его мыслей, чувств и чаяний, которые он не решался открыть в своих кинофильмах или в статьях и даже, быть может, в письмах. Он сам в мемуарах заметил: «Надо будет когда-нибудь проанализировать и ход «тематики» моих рисунков… Наиболее показа тельные и беззастенчиво откровенные беспощадно рвутся в клочки почти тут же, а жаль — они почти автоматическое письмо. Но боже мой! До какой же степени непристойное!» (ЭйМ II: 126). Ромм выразился еще круче: «Из рисунков его только ничтожную часть можно опубликовать, а большинство непубликуемо. Совсем, никогда не будет опубликовано, это в чистом виде похабель» (Ромм 1989: 82). А поскольку здесь нас интересуют в Эйзенштейне его сексуальность и любовные переживания, речь должна идти прежде всего именно о его непристойных рисунках. Эти изданы также (ну, не мог Михаил Ильич предвидеть нынешнюю степень свободы!), изданы у нас (в эротическом выпуске «Литературного обозрения» 1991 г.) и во Франции (большой альбом Marcadé 1999, коллекция Москвина), но есть и коллекции, выставлявшиеся, но не изданные (см. Ободов 2000). Бартелеми Аменгаль, проанализировав выставлявшиеся рисунки, сделал вывод: «Фантасмагория всех рисунков глубоко гомосексуальна» (Amengual 1980: 283–284). К аналогичному выводу приходит и Жан-Клод Маркаде, добавляя, что многие рисунки стоят «на грани порнографии». Не мудрено: известно, что в начале 20-х Эйзенштейн мечтал снять порнографический фильм, позже он читал статью своего любимого Д. -Г. Лоренса (автора книги «Любовник леди Чэттерлей») «Порнография и непристойность» (1929), где порнография получает некоторое оправдание. Из опубликованных Маркаде рисунков целая серия (114–133) представляет собой юмористические наброски 1943–44 гг. о том, как бы могли выглядеть съемки такого фильма. Однако сюжет этого фильма (если вообще можно говорить о сюжетах в таких фильмах), вполне гетеросексуален. И вообще для меня гомосексуальность Эйзенштейна и даже его бисексуальность, если исходить из рисунков, не очевидна и нуждается в анализе и доказательствах. Из опубликованных Маркаде 152 рисунков непристойного характера только 35 гомосексуальны по сюжету, да один изображает автофелляцию, что можно было бы отнести к задаткам гомосексуальности. Еще в 22 рисунках у мужчин показан большой член, что обычно характеризует гомосексуальный подход художника, но может быть и просто подчеркиванием непристойного характера изображения — ради самой обсценности изображения. С другой стороны, рисунков гетеросексуального характера — изображающих сексуальные контакты женщин с мужчинами, тоже 35, да еще на 10 рисунках изображены нагие женщины в сексуальных позах. Это вроде бы вносит равенство и поддерживает мысль о бисексуальности художника. Но сцены съемок кинофильма надо исключить из сопоставления, поскольку в то время кинофильм, даже порнографический, и не мог мыслиться гомосексуальным. А к этим сценам относятся 12 из названных 35 гетеросексуальных рисунков и 1 рисунок женщины. Тогда остается только 23 и 9 гетеро-против 35 и 10 в пользу гомо-. Однако еще на 16 рисунках изображены женщины, орудующие годмише (дилдо, искусственными членами), но имеющими форму масок, а на двух рисунках изображены лесбийские сцены. С одной стороны, это не может считаться интересом к нормальным гетеросексуальным сношениям, с другой — это все же интерес к женщинам. На 9 рисунках изображена садистская тематика (четвертование, флагеллация, совокупление с хлыстом в руке), на 15 рисунках — минет (этот способ сношения явно пользуется повышенным интересом художника). Остальные рисунки (почти половина всех) непристойным оформлением унижают религиозные сюжеты, как античные, так и христианские — это неприличное святотатство, антирелигиозное озорство, связанное с коммунистическими настроениями режиссера. Рисунок Ж. Кокто. Поваренок.
Рисунок Ж. Кокто. Поваренок.
Вся эта статистика, конечно, не имеет доказательной силы: ведь здесь не репрезентативная выборка рисунков Эйзенштейна, а некий подбор, возможно, связанный со вкусами коллекционе ров. Но главное не это, а то, что во всех гомосек суальных (впрочем, и гетеросексуальных) изображениях не чувствуется гомосексуального (или гетеросексуального) вкуса, любования, похоти. Все истинно гомосексуальные художники любовно выписывают член, делая его как можно более реальным, но преувеличенно большим и массивным. Достаточно сравнить рисунки Эйзенштейна с рисунками Кокто. Эйзенштейн же рисует член очень примитивно и небрежно, как бы неумело, делая его не всегда большим и всегда чрезвычайно обобщенным или искаженным, неправильным. Головка выглядит каким-то сдвинутым довеском или подтреугольным налепом. Создается впечатление, что художник никогда не видел реального члена в состоянии эрекции. Его изображения вульвы тоже далеки от реальности и напоминают рисунки подростков в туалетах — это слегка расширенная в середине щель или дырка, окруженная ресничками волос.

Кроме того, все его рисунки — это не произведения солидарного и заинтересованного эротомана, а ироничные и отстраненные на броски остроумца и насмешника. Он посмеивается над Верленом и Рембо или «четой Геккеренов» так же, как он издевается над архангелом Гавриилом, совращающим солдата, или христианскими миссионерами, соблазняющими детишек. Иными словами, создается впечатление, что его неудержимо тянет к этим темам (рисунков на сюжеты сексуальных контактов и извращений чрезвычайно много и они очень разнообразны, позы и ракурсы хитроумно изобретены — вплоть до вида на гомосексуалов сквозь кровать и снизу — рис. 51 и 52), но в то же время художник то язвительно, то снисходительно иронизирует над своими объектами и над своим интересом, подчеркивая, что это не всерьез, что это не его сфера, что он выше всего этого и лишь озорничает. Такую позицию по отношению к вещам притягательным обычно занимает человек, который не в силах к ним подключиться и вынужден постоянно смотреть воздерживаться от нормальной половой активности. Тем сильнее и более буйно разыгрывалось его воображение. Как в истории с Роммом в костюме королевы Елизаветы, Эйзенштейн смотрел на обыденные кинематографические будни, но видел нечто сугубо сексуальное — и часто прикрывался иронией. Ромм же рассказывает и о споре с Эйзенштейном, находившим, что в картине «Аршин мал алан» есть единый стиль. Ромм озадаченно: «Ну, если серьезно, то простите меня, какой же единый стиль вы находите в этой картине?» Тот отвечал: «А я вам сейчас определю… Это стиль, с вашего позволения, парижской порнографической открытки в бакинском издании. Вот так. Правда, в бакинском издании. Но ведь это национальное искусство… Единственный недостаток, который я нахожу в этой картине, это то, что в ней наблюдается излишество в костюмах. Представьте себе на секунду, что мы снимем со всех героев и с героини в основном — с основных действующих лиц — штаны и вообще нижнюю часть одежды, вот, что получится?» И сразу берет стопку бумаги «и начинает молниеносно, на память рисовать кадр за кадром «Аршин мал алан», но без штанов. Причем рисует такую дикую похабель». Героя в смокинге и барашковой шапке, но без штанов — голые волосатые ноги и т. д. «Мы сидим, мы умираем со смеху буквально» (Ромм 1989: 88–89). Но для Эйзенштейна это было нечто большее чем смех. На основании множества рисунков можно сказать: он так видел. Рисунки были компенсацией за недоступные ему удовольствия жизни. Был ли он гомосексуалом, или гетеросексуалом, или бисексуалом? В воображении он был всем. В реальности — облаком в штанах. Эту особенность Эйзенштейна уловил Леонид Утесов, зло подметивший как-то: «Эйзенштейн — половой мистик». Обиженный Эйзенштейн тотчас и не менее зло спарировал: «Лучше быть половым мистиком, чем мистичковым половым» (ЭйМ II: 68). Гениально спарировал, просто убил Утесова с высоты своего прижизненного пьедестала в мировом кино. Но у Леонида Осиповича, этого талантливого, но безголосого ресторанного певца, забредшего в кино с «Веселыми ребятами», все-таки были жена, дочь, настоящая семейная жизнь, и видимо, настоящие любовные утехи. А у Эйзенштейна в этом плане ничего настоящего — недоступные любовницы, фиктивные по сути браки, платонические жены и лишь воспоминания о будущем. Единственное утешение — недосягаемое мастерство. Когда его попросили помочь Александрову — вывезти «Веселых ребят», он буркнул: «Я не ассенизатор. Говно не вывожу». Что ж, «сподобил Господь Бог остроткою…» — а что он еще мог им ответить?
10. Утаенная любовь
Но нет, он нашел, что им всем ответить — хотя бы посмертно, в мемуарах. Впрочем, и в одном неотправленном письме. Он чуть приоткрыл завесу над своей великой потаенной и утаенной любовью, которая сможет объяснить его сдержанность со всеми остальными любовницами и, быть может, любовниками, его бессилие с обеими женами. До них ли было, когда перед ним неотступно стоял ЕЕ образ! Он старательно подыскивал исторические и жизненные параллели своему потрясающему переживанию. Будучи за границей, он познакомился с Чарли Чаплиным и его ситуацией. У Чарли Чаплина было много жен и уйма детей, свадьбы и бракоразводные процессы. Но влюблен он по-настоящему был, с точки зрения Эйзенштейна, только в одну Мэрион Дэвис — любовницу газетного магната Херста, и Херст всячески препятствовал ее любви с Чаплиным и преследовал его. Чаплину пришлось отступить. Это была великая трагедия жизни Чаплина. «Но меня гнетет моя меланхолия, — пишет Эйзенштейн. — У каждого своя Мэрион Дэвис» (ЭйМ II: 238). Другой аналогичный случай открылся ему в работе Ю. Н. Тынянова «Безыменная любовь» (1939). Составляя свой список любовных увлечений («донжуанский список»), Пушкин скрыл одно имя под инициалом «NN». В других случаях он скрывал любимое имя за буквой «К». Тынянов попытался разгадать эту загадку. Известно, что юный Пушкин был влюблен в почтенную матрону, жену историка Карамзина. Тот, выяснив это обстоятельство, прочел Пушкину назидательную нотацию. Устыженный поэт больше не пытался пробиться к сердцу Карамзиной, но пронес эту любовь через всю жизнь и на смертном одре призвал Карамзину, чтобы именно ее повидать перед смертью. Тынянов считал, что «NN» и «К» нужно расшифровывать как «Карамзина». Есть ряд других разгадок «утаенной любви» Пушкина — М. Раевская (М. Волконская), М. Голицына и др. (Утаенная любовь 1997). По недавнему предположению Л. М. Аринштейна, потаенная любовь Пушкина имела гораздо более недоступный объект — он был с юных лет тайно влюблен в супругу императора Александра I Елизавету Алексеевну и воспевал ее в своих стихах. Но эта трактовка была еще неизвестна Эйзенштейну — она бы ему еще больше пригодилась. Потому что возводила объект любви на еще более высокий пьедестал. Письмо Тынянову, написанное в 1943 г. в эвакуации в Алма-Ате, где шли съемки «Ивана Грозного», осталось неотправленным потому, что пришло известие о смерти Тынянова. Перед тем работу Тынянова кинорежиссеру посоветовала прочесть его давняя приятельница Эсфирь Ильинична Шуб, с которой он флиртовал в 20-х годах. Посоветовала, как раз когда он томился в поисках сюжета для биографического фильма о Пушкине. «Неужели весной 40-го года она видела себя Карамзиной, а меня… Пушкиным? — размышляет он, сидя над мемуарами в 1946 г. — «Однако почему же я так мгновенно, пламенно, безоговорочно и решительно ухватился именно за эту концепцию? Как будто передо мной недавно, совсем недавно прошла картина именно такой драмы. Такой любви. Любви затаенной и запретной. И любви скорее запретной, нежели затаенной. Но любви столь же сильной. Любви вдохновенной» (ЭйМ II: 214). В письме Тынянову режиссер писал и о Пушкине, и о Чаплине. Хорошо его знавший Шкловский замечает: «Что написал Эйзенштейн в письме? Он писал о своей утаенной, неудавшейся любви» (Шкловский 1969: 290). Еще больше Эйзенштейн писал о ней в своих мемуарах. Там в четырех главах («Ключи счастья», «Три письма о цвете», «Любовь поэта», «Мэрион») идет речь о любовных трагедиях Пушкина и Чаплина, а затем в двух главах («Принцесса долларов» и «Катеринки») излагается очень густо завуалирован ная история утаенной любви самого режиссера. Объект его любви назван «Принцессой долларов» — не потому, что она рассыпала доллары, а по названию оперетты, которую Эйзенштейн видел в детстве. Он вспоминает вальс из этой оперетты с немецким текстом, который в переводе звучит без рифм: «Это — принцессы долларов, Девицы, обсыпанные золотом, С бесчисленными стражниками вокруг…» Он вспоминает эту оперетту «по случаю встречи с живой принцессой долларов очень-очень много лет спустя. И особенно потому, что эта встреча совершенно неожиданно раскрыла мне глаза на корни многолетней травмы «гадкого утенка», о которой я говорил раньше. И чуть-чуть не помогла преодолению этой травмы…» Под травмой он имеет в виду свой неудавшийся «эшелонный» роман со Ждан-Пушкиной. В главе «Катеринки» (это название царских сторублевых банкнот) излагается сказка, но перед изложением объясняется «символизация» действующих лиц: «Дочь миллионера становится… Принцессой (заметим: Принцессой долларов). Кинорежиссер, строитель «Полотен», станет — Строителем Соборов. Его неспособность к беседам и к общению мы прев ращаем буквально — в проглоченный язык» и т. д. «Однажды в новейший собор его пришла Маленькая Принцесса… Взяла его за руку и повела его на великий праздник». (Заметим: с этого места «Принцесса долларов» незаметно подменяется «Маленькой Принцессой».) Само изложение начинается по-английски заново: «Жила-была самая богатая на свете Маленькая Принцесса. Никогда не выходившая замуж, испуганная — она распутничала со всеми и особенно с рыжеволосым парнем самого низкого ранга, знаменитым благодаря своему голосу, который летел над океанами, и своей силе…» Затем представлен Строитель Соборов. Далее: «За почетным столом сидели величайшие Владыки мира того времени: Китайский принц рядом с ее Отцом. Граф Венчеслав со своей огненноволосой супругой — Жемчужиной Востока. Сэр Арчибальд, уроженец Шотландии. Они пили за здоровье Строителя…». Принцесса попросила его избавить ее от пьяного отвратительного Барона, пытавшегося совратить ее своими любовными предложениями. Требуя танцевать с ним». Строитель избавил ее от приставаний Барона. «Выпьем за весну в сердце Великого Строителя», — сказал ее Отец, Король». Он был Волшебником, однако не смог сразу разрушить чары, тяготевшие над Строителем. Постепенно слова Волшебника, как зерна, стали прорастать. И Строитель увидел, что чары над ним и над Маленькой Принцессой схожи. «Когда кто-нибудь смотрел на него, он думал, что смотрят на его Соборы. Когда кто-нибудь смотрел на нее, она думала, что охотятся за ее миллионами». Тогда он устремился к ней и захотел предложить ей соединить их судьбы — ведь они страдают от одного и того же. Но он не сумел этого сделать. «И Принцесса удалилась со своим роком» (ЭйМ II: 241–245). Это всё. Вот такая сказочка. Все биографы ищут тут аллюзии к каким-то его встречам с миллионерами и их семьями во время путешествия по Европе и Америке. Таких встреч было немало. Это прежде всего встречи с меценатом Отто X. Каном, французским «королем жемчуга» Леонардом Розенталем, «королем бритв», «жилетов» Джиллетом и др. Встречи эти описаны в главках и очерках «Отто Эч и артишоки», «Миллионеры на моем пути», «Визиты к миллионерам». Никаких намеков на любовные истории там нет. Не было бы и особой надобности так тщательно скрывать и вуалировать этот мимолетный флирт — ведь другие такого рода истории изложены в Мемуарах, иногда с сокращением фамилий, иногда без сокращения. Нет этой истории и в воспоминаниях его спутников по заграничному путешествию, хотя менее значительные его романы (с Валеской Герт, например) известны биографам. Любовь к сказочной героине, Маленькой Принцессе, замаскированной под Принцессу Долларов, была, видимо, гораздо более запретной, и разоблачение ее было гораздо более опасным. Чтобы понять, кто ее Отец, Король, Волшебник, сидящий с Китайским Принцем (ну, этот лишь свидетельствует об иностранных связях и контактах главной персоны), давайте рассмотрим вторую пару за почетным столом. Это пара супружеская. Супругом указан граф Венчеслав. Имя распространенное, и он мог бы быть кем угодно, но названа его супруга — огненноволосая Жемчужина Востока. Такое сочетание за почетным столом может быть только одно — Вячеслав Михайлович Молотов и его жена-еврейка Полина Жемчужина (ЭйМ II: 474). Эта ее партийная кличка, ставшая фамилией, была простым переводом ее подлинной фамилии Перельман. Перемена фамилии не спасла ее от ареста и лагеря вскоре после смерти Эйзенштейна. Если Молотов с супругой были второй парой, то главной персоной за тем же столом, Королем, Волшебником, Отцом, который был, однако, холост и восседал не с женой, а с маститым представителем Китая, мог быть только И. В. Сталин. Тогда Маленькая Принцесса, самая богатая на свете, окруженная охранниками, это, конечно, дочь Сталина Светлана. Ее и в самом деле называли «кремлевской принцессой». Известно, что в 1943 г. она, будучи 17-летней, влюбилась в 39-летнего киносценариста Алексея Каплера и отказалась порвать с ним связь, несмотря на угрозы взбешенного отца. По сценариям Каплера были поставлены такие фильмы как «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Котовский» и другие, так что голос его был действительно слышен всему социалистическому миру. Он был Лауреатом Сталинских премий, но Сталина раздражало то, что возлюбленный дочери был женат и еврей. Она отделалась двумя пощечинами, а Каплер был объявлен английским шпионом и отсидел 10 лет. После войны она вышла замуж за Григория Морозова, опять еврея, сына замдиректора НИИ. Это стоило ее свекру 6 лет лагерей. Потом у нее было еще четыре мужа. Таким образом, роман Эйзенштейна был действительно авантажным, головокружительным и чрезвычайно опасным. Вопрос лишь в том, когда он мог состояться. С 1941 по 1944 г. г. Сергей Михайлович был в Алма-Ате. На приемах в Кремле он мог быть в 1945 г., когда получил премию за «Ивана Грозного», но уже в письме Тынянову из Алма-Аты идет речь об аналогичных историях, интерес к которым навеян собственным романом. Остается предвоенное время. В 1940 г. Эйзенштейн стал директором Мосфильма, в марте 1941 г. получил Сталинскую премию. Загвоздка, однако, в том, что в 1941 г. Светлане было 15 лет. Не случайно идет речь о Маленькой Принцессе. Юная дочь вождя могла, конечно, посмотреть один из фильмов Эйзенштейна, могла присутствовать на приеме в Кремле, могла просить его избавить ее от танца с неприятным похотливым Бароном, возможно, Берией (особая похотливость его была оглашена при его аресте, и есть снимок Светланы на коленях у Берии). Не исключено, что гениальный режиссер почувствовал в ней жар Лолиты, впоследствии использованный Каплером. Однако время приема в Кремле, а вместе с тем и всего романа с принцессой определяется более четко идентификацией того за почетным столом, кто назван следующим после «графа Венчеслава». «Сэр Арчибальд, уроженец Шотландии», — это, конечно, Арчибалд Джон Кларк Керр[2], посол Англии в СССР с января 1942 г. по январь 1946 г. Стало быть, прием, на котором происходили описываемые события, мог состояться только в промежутке между июлем 1944 г. (возвращение Эйзенштейна в Москву) и январем 1946 г. (отъезд Керра из Москвы). Налицо противоречие. С одной стороны, Принцесса названа именно Маленькой и, по намекам в письме Тынянову, роман намечается еще до эвакуации, с другой — голосистый рыжий ухажер, в котором угадывается Каплер, уже остался в прошлом, а прием, на котором Строитель Соборов его заменил, должен был состояться в конце войны или после войны, скорее всего в 1945 г., когда Эйзенштейн получил Сталинскую премию за «Ивана Грозного». Только тогда, видимо, прозвучал из монарших уст тост в его честь, и в танце могла промелькнуть искра сочувствия и понимания между ним и «принцессой». Но скорее всего Строитель Соборов, то бишь, Полотен, «проглотивший язык», вообще ничего ей не сказал, и этим объясняется зыбкость повествования. Все ограничилось прочувствованными взглядами и улыбками. Сексуальные аспекты (ее развратное поведение, спасение от похотливых приставаний Барона и т. п.) были добавлены уже в 1946 г., когда писались мемуары. Все остальное развертывалось в воображении великого режиссера: как все могло бы повернуться, если бы он не «проглотил язык». Действительно, как все могло бы повернуться, если бы Эйзенштейн оказался на месте Каплера. Или Михоэлса. К счастью, не повернулось. Всё это осталось только упоительной и страшной сказкой. Великий режиссер умер в своей кровати. Самой широкой в России, но всегда покоившей его одного.Вторая жизнь Евгения Харитонова
1. Жизнь после смерти

В советское время в Москве жил крупный и оригинальный писатель, про которого никто или почти никто не знал, что он писатель. Жил он недолго, и всё, что он написал, напечатано только после смерти (умер он в 1981 г.). И не сразу после смерти, а когда наступила перестройка и общая демократизация. Первые одиночные, казалось бы, приемлемые для советской литературы произведения проскользнули еще до начала перестройки, в 1981–82 гг., в зарубежных изданиях. Неприемлемые появились только с началом перестройки, в 1985, одновременно в зарубежных изданиях и советском неофициальном «Митином журнале». Через несколько лет, с начала 90-х, когда коммунистический режим рухнул, Евгения Харитонова стали печатать некоторые официальные издания, и замалчивание было пробито. Зато тут уж известность пришла скандальная и ошеломляющая. Василий Аксёнов назвал его «одним из самых дерзких, ярких, талантливых писателей нашего времени» (ХГ 2: 199). «Влияние Харитонова огромно, — пишет Олег Дарк. — Оно расходится по литературе кругами, как от брошенного камня. Трудно найти в «новой прозе» писателя, свободного от Харитонова…. Трудно выговорить «великий прозаик Харитонов», как и — «великий поэт Высоцкий». У Высоцкого много дурных стихов. У Харитонова ни одной случайной строчки» (ХГ 2: 168). «Харитонова можно смело назвать в десятке имен, представляющих русскую литературу XX столетия», — высказался Дмитрий Пригов (ХГ 2: 92), а Виктор Ерофеев сказал: «Его ранняя смерть — это трагедия русской литературы» (ХГ 2: 146). В 1982 г. Василий Аксенов отчеканил императив: «жизнь после смерти писателя Евг. Харитонова должна состояться» (ХГ 2: 96). Она состоялась. Почти полное собрание сочинений вышло в 1993 г. в двух томах, где помещено не только всё, что сохранилось от Харитонова, но и всё основное, что написано о Харитонове. Сейчас готовится более полное собрание сочинений.
2. Две жизни
Оригинальный московский режиссер и писатель, Евг. Харитонов, родился в год начала Великой Отечественной войны, в 1941 г., а умер в первый год войны советского «ограниченного контин гента» в Афганистане — 1981, на год пережив Высоцкого. Прожил всего сорок лет при советском режиме между двумя войнами. Родился в Новосибирске «в деревянном домике на Щетинкина, 38 и был уж во всяком случае добрым мальчиком с мягким сердцем» (ХГ 1: 182). Его новосибирские друзья детства часто фигурируют в его произведениях: Анатолий Маковский — как Толя, Толик, МК, Иван Овчинников — как Ваня. Как пишет хорошо его знавший Пригов, «Харитонов был достаточно честолюбив. Он жил в постоянном ощущении собственной избранности. Он рассказывал, что рос в семье двух женщин, которые его баловали, поэтому он получил воспитание этакого великосветского барчука, демократичного по-барски, снисходительного и доброго ко всем. Он обладал ярко выраженной элитарностью характера» (ХГ 2: 88). Климонтович считает, что именно имперский помпезный шик сталинского искусства (маленького Женю водили в новосибирскую оперу), столь далекий от реальной жизни, породил харитоновскую стилизацию. Это сказалось впоследствии: человек тонкого вкуса, он восхищался грубостью, эстет, он умел на слаждаться вульгарностью. Женя Харитонов с мамой, Ксенией Ивановной. Новосибирск, начало 50-х годов.
Женя Харитонов с мамой, Ксенией Ивановной. Новосибирск, начало 50-х годов.
Он рос, как типичный «прегомосексуальный ребенок» — по его текстам: «Дружить можно было, в основном, с девочками. Где нет грубых нравов и драк. Я боялся перемены в школе, когда толпа неотесанных, свирепых, бездушных, нечутких, душевно неразвитых подростковкидается в потасовки друг с другом, жался к стенке и закрывал глаза или не выходил из класса» (ХГ 1: 235). Приехав в Москву, поступил во ВГИК, окончил как кинорежиссер, но больших фильмов снимать не пришлось. Преподавал актерское мастерство и пантомиму, защитил у М. И. Ромма в 1972 г. кандидатскую диссертацию «Пантомима в обучении киноактера». Известный ученый структуралист и семиотик Вячеслав Вcев. Иванов дал превосходный отзыв. Харитонов имел также полставки на кафедре психологии МГУ, где он занимался логопедией — исправлял дефекты речи.
 На I-ом или II-ом курсе ВГИКа. 1958-59 гг.
На I-ом или II-ом курсе ВГИКа. 1958-59 гг.
В искусстве ему доводилось подвизаться лишь на маргинальных сценах — создал студию пантомимы «Школа нетрадиционного сценического поведения», в Театре мимики и жеста подготовил спектакль «Очарованный остров» в исполнении глухонемых актеров, в Московской консерватории поставил оперу болгарина Божедара «Доктор Фауст». Итак, преподаватель пантомимы и речи, кандидат искусствоведения, малоизвестный режиссер. Этого хватило, чтобы поражать воображение провинциальных пареньков, приезжающих в Москву, но для Московской культурной элиты это была заурядная фигура. Однако с ним знались такие знаменитости, как Белла Ахмадулина, Василий Аксенов, Владимир Высоцкий, водился с ним до своей эмиграции Эдуард Лимонов, дружил Е. Ф. Сабуров, впоследствии советник президента России, а своим учителем считает Харитонова ныне известный артист Ефим Шифрин. Видимо, мало того, что это был интересный и обаятельный человек. Глубину ему придавала его вторая, скрытая от публики жизнь. Всю вторую половину своей жизни, последние двадцать лет, он писал, создавал, творил литературу. Для себя самого и для узкого круга друзей, потому что было совершенно ясно, что то, что он создавал, напечатать невозможно. По крайней мере, на родине. Да и читать было опасно. Во-первых, это был никак не социалистический реализм. «Поток сознания», что-то от Джойса, что-то от обэриутов, что-то сугубо свое, новое, экстравагантное — то, что сейчас называется концептуализмом. Много психологических изысков, много стилизации под простецкого совка. Очень много субъективно-биографических сюжетов с самокопанием, самоиронией, саморазоблачениями. Разные фокусы с подачей текста — изгибание строчек, вертикальные строчки, одно слово на странице и т. п. Во-вторых, в его произведениях никак не отсвечивала казенная идеология, скорее наоборот — было много такого, что явно отдавало диссидентством, с прямыми политическими выпадами. Чего стоит его антиутопия «Предательство-80». «.. Красная площадь была запружена народом. Он шел, шел и шел. «Долой коммунистическую сволочь!» — кричал он. Все несли антисоветские лозунги. Так всем было приказано. На месте мавзолея выкопали яму. Сам мертвец лежал невдалеке. Все ожидали его торжественной казни. Наконец, подъехал каток, которым раскатывают асфальт, и раскатал мертвеца в лепешку… Прибалтике, как Европе, разрешается выйти из состава нового государства. … Кавказ остается нам в любом случае, потому что он несознательный и воинственный. Кроме того, в Баку нефть…. Малая Россия (Украина), Белая Россия (Белорусская республика имени Петра Машерова) — вопрос на их усмотрение. В случае отхода Украины от нас Крым изымается у нее и объявляется нейтральной территорией, как Швейцария… В Кремле открыть лучший, чтобы он был украшением всей нашей территории, платный дом свиданий» (ХГ 2: 52–56). Вперед смотрел, не так уж отклоняясь от того, что реально осуществилось… В-третьих, основным пафосом поэтики и предметом субъективно-биографических размышлений была любовь и притом какая любовь! Любовь гомосексуальная во всех ее проявлениях — как гложущая и всепобеждающая страсть, как цель хитроумнейших и провальных интриг и ссор, как основа дружбы и вражды, как голый секс, как стимул творчества. Всё это до невозможности откровенно, с выворачиванием себя наизнанку. Свои переживания он сделал средством анализа этого явления, искренне и беспощадно.
3. Субъективно-биографический реализм
Сразу же возникает недоумение: как эти произведения воспринимать. Николай Климонтович подчеркивает многоголосие харитоновской прозы, хотя всё и пропущено автором через себя. Автор дирижирует этими голосами, компонует. Слова кажутся непреднамеренными, текст безусловным, словно перед нами личный дневник. Это игра. «Как ни странно, этого зачастую не понимают и пишущие и слышащие люди. Его проза ими читается как отчет о прожитом им, как записная книжка, а в расчет не бралось, что, как и при всяком писательстве, в каждой строке есть зерно взаправду происшедшего. Но это значит мало, ситуация преображена, спедалирована или замутнена, утаена наполовину или рассказана с той детальной откровенностью, которой сама истовость не позволяет оставаться правдой» (ХГ 2: 113). Издатель и поэт Александр Шаталов пишет похожее: «Соблазнительно принять тексты Харитонова за дневник и взяться за оценки, с легкостью переходя с текстов на личность и наоборот…. Соблазнительно пытаться расшифровать его Сереж и Алеш, достоверно зная об их достоверности, общаясь с ними лично и по телефону То есть миф, созданный автором, его «очарованный остов», не развеять умышленно, а разузнать досконально, свершить то, что делать ну никак нельзя… И рядом — главный соблазн — желание отождествить Е. X. с повествователем, вычитать в текстах и меж них подробности биографии, быта, привычки и повадки писателя. Он ли это будет? Ведь всё так похоже… Думаю, что он таким бы и хотел быть, точнее — таким, и хотел быть, но был ли?» (ХГ2: 182–184). Но такое можно сказать о любом дневнике писателя — о Дневнике Кузмина, о дневнике Андре Жида, а мы же пользуемся этими источниками для реконструкции биографии писателя. Да, знаем, что видение автора не всегда и не обязательно адекватно отражает реальность. Но таков всякий источник. Понятна позиция друзей Харитонова: они стремились защитить его от недобросовестной критики — защитить, отделяя автора от лирического героя и персонажей. Имеются в виду упомянутые Я. Могутиным в предисловии к изданию Харитонова статейка «Это я, педичка» в «Русском курьере», такая же критика в «Литературной газете», окрик в «полуживой» «Правде», статья В. Бондаренко «Дьяволиада» в газете «День», издевательская публикация в «Собеседнике» — коллаж из разных произведений Харитонова, аттестованный как монолог «Е. X., 27 лет, литератора, садо-мазохиста, педераста» под общим названием «Обратная сторона любви. Сексуальные маньяки впервые исповедуются в печати»… Линия обороны выбрана неточно. Степень отделенности автора от лирического героя здесь явно не так уж велика, если вообще существует. Если быть последовательным, то надо ставить под сомнение или даже отвергать гомосексуальность автора. Главное в другом: сколь преступны изображаемые чувства и деяния и с каким намерением, как их автор изображает. Можно сразу же отмести возражения, что нельзя путать персонажа с автором. Харитонов не играл гомосексуала, он им был, это общеизвестно. Авторская речь у него строго отделена от стилизованной речи персонажей. Если он и строил образы для эпатажных и критических целей, то строил он их из собственных переживаний, с неимоверной откровенностью и самокритичностью, выворачивал свою душу. В этом секрет силы его воздействия на читателя. Да и не было у него надежды опубликовать свои откровения. Он писал для себя и для одиночного, очень доверенного читателя, читателя по секрету. Всё опубликовано посмертно. Его друг Евгений Козловский писал о нем: «Он был фантастически искренним человеком. О его мыслях и концепциях мало-мальски заинтересованный исследователь может узнать всё из его книги. Всё!» (ХГ 2: 130). Не будем преувеличивать. Не всё. Как раз то, что обычно есть в исповедях гомосексуалов — «Как я стал таким», первое знакомство, становление, осознание и т. п. — совершенный молчок. Ничего. Лишь мимолетное воспоминание по ходу соображений о способах знакомства («Тут надо уметь хитрить. А не так как я когда-то в 19 лет на вокзале подошел и честно попросил одно приятное божество на чемодане. И он воспринял меня как больного». — ХГ 1: 240). Это воспоминание да смутный пересказ Климонтовича. «О своем первом осознании себя в сфере чувственного, внезапном, как обморок, без долгих потных рук и подглядываний сквозь процарапанные замазанные окна, кажется, письменно нигде не упоминал… Позже свои счастливые минуты избегал описывать, нерв его узоров на любовную тему всегда в неразделенности или ненайденности, в любовном томлении» (ХГ 2: 110).4. Деликатный вопрос(длинноносые и курносые)
Искренность Харитонова проявлялась и в том, что он не скрывал от читателя не только своей гомосексуальности (многие интеллигенты могли бы закрыть на это глаза), но и своего антисемитизма (который в глазах российской демократической интеллигенции, да еще в годы официальных гонений на евреев, непростителен). Харитонов отличался идейным антисемитизмом, с этаким патриотическим и почвенническим уклоном. Он признавал благодетельность сталинских препон евреям в продвижении наверх, радовался раскрытию псевдонимов. Впрочем, антисемитизм его был с оттенком уважения и даже преклонения перед евреями и с самокритичным огорчением за русских. «Тонкий вопрос, сложный вопрос, деликатный вопрос. Государство не любит растворенных евреев, а когда они нация как казахи, эстонцы, молдаване, пожалуйста. А они ведь, как известно, не нация среди наций, а что-то совсем, совсем другое. И вот этого боится всякое государство, наше тем более. «Да, я, говорит, не еврей. Я просто гомо сапиенс». Но как же просто гомо сапиенс, если всё же очевидно, что и еврей…. О, не лукавь, что вы такой же народ, как и все народы, уж тут и Иисус Христос по земному воплощению, и апостолы, и всяческие вожди, Марксы, Фрейды, уж тут вам только остается так задрать кверху свой длинный нос, что станете еще курносее нас» (ХГ 1: 262). «Устанавливают порядок Евреи; потом когда он изживет себя сами его расшатывают. А Русские рады любому закону тупому и порядку лишь бы шло как всегда чтобы лень была в покое. Мы ненавидим, жидов. Мы друзья лени и установившегося порядка» (ХГ Г. 185). Антисемитизм его был идейным, не бытовым. У него было много друзей-евреев. «По отдельности многие из них, может быть, и достойны любви, — писал он. — Безусловно. Но вместе они Евреи. И или они или мы…. Не может человек с длинным носом спеть русскую песню» (ХГ 1: 225). Но любовников-евреев не было. Завел себе одного еврея «для коллекции». Точнее, полуеврея, Валеру, «стройный мальчик не развязный». Долго обхаживал его. Когда лежали вдвоем, открыл ему, что заранее имел на него виды. Тот замкнулся: «возможно жидок не хочет пока этого клейма. Затем я развивал любимый взгляд о евреях, почему определяется лет в 30-ть партийность и русские к этому времени должны точно не любить евреев. И юдофобию на почве культуры осмысливать так. Что при нашей культуре, где нужна дипломатия и паллиатив, евреи как правило выйдут вперед; а русский чем исхитряться, лучше вообще ничего не будет делать, так умнее, и про-божьи, а тот русский, кто захочет перехитрить свою душу, все равно хитрее еврея не перехитрит. Там, где нужен товар, хоть товар для душевного употребления, для еврея поле. Все подделки — кино; переводы художеств с других языков, все поле евреям. И по относительным расценкам, по рынку, их товар тоньше, хитрее. В нем больше подмешано души и международной человечности. Но где нужно государственное и партийное, они банкроты. И где нужна только душа, только безумие, только Бог без подмеси и монашеское одиночество, они самые великие банкроты. … И в глазах недалеких жидов и русских с замороченным умом, кто верит по глупости их консервам для бедных, жиды умный народ. А на самом деле народ в основе недалекий, потому что хитрят все равно по недалекому расчету, а самая большая хитрость по самому золотому расчету, когда ее нет и расчета нет ни на что» (ХГ 1: 204–205). Антисемитизм его был странным: он не только признавал за евреями силу (это для антисемитов равносильно сигналу об опасности), но и признавался, что с детства водился именно с евреями, потому что и сам был по воспитанию, по интеллигентности, по удаленности от среды как бы евреем (ХГ 1: 208–209). «Так почему с пионерских лет приходилось больше водиться с еврейскими детьми (с жиденятами). Потому что кое-что было общее. Я был воспитанный мальчик и не уличный. И вынужден был вести себя осмотрительно чтобы не нарваться на драку и грубость. И если мне что-то не нравилось, я не высказывал прямо чтобы не побили. … И с жидами было легче сходиться на почве того что не будут с тобой прямо и грубо. Не поставят в неловкое положение когда необходимо ударить в ответ на прямоту. И смело можно не пить. Но пропасть между нами была из-за их любви к науке и здравого розовощекого жидовского живучего смысла. Поэтому я слава Богу от жидов был гораздо дальше. Хотя и не мог минуты пребывать среди своих душевных фамильярных пьяниц» (ХГ1: 208–209). Националистам заранее отвечаю: да нет, у него чисто русское лицо. Он вообще уподоблял «голубых» евреям (1: 248): та же повсеместность и та же отчужденность. Как и евреи, «гомики» — часто на виду, они — пища для анекдотов, предмет зависти и ненависти толпы (там юдофобия — тут гомофобия). Впрочем, до него эту идею подробно развивал Марсель Пруст (1993а: 27–30): педерасты избегают друг друга, ищут общества людей, которые были бы им во всем противоположны и которые не желают с ними общаться, вместе с тем они окружают себя такими же, как они, потому что их преследуют, потому что их срамят, даже в истории им доставляет удовольствие напомнить, что и Платон был таким же, в чем они опять-таки уподобляются евреям, которые аналогично напоминают о еврействе Христа… О его антисемитизме очень тонко написал Яр. Могутин. Он заметил, что идейный, рассудочный антисемитизм Харитонова («устройство, заведенное евреями», «еврейская опасность») как бы переходит у него в антисемитизм животный, физиологический («жиденок наполовину об одном яйце»). Могутин считает более вероятным обратное: истоки любой фобии, включая юдофобию, легче искать в сексуальной сфере. В случае Харитонова юдофобия может быть объяснена тезисом О. Вейнингера, что для гомосексуала еврейство означает женское начало и поэтому не может вызывать у него положительных эмоций (1: 8). Так было, по-видимому, и у Кузмина. Думаю, что у Харитонова это, как и у Кузмина, усиливалось еще и сознанием собственной похожести на еврея — у Кузмина внешней, у Харитонова — духовной. Ведь эти черты характера — деликатность, сложность, книжность, даже расчетливость (ее отмечает Дудинский — ХГ 2: 133–134) — как раз то, что Харитонов стремился изжить в себе, когда строил свой идеальный облик, выходя на гомосексуальную охоту. Он хотел быть простым парнем. Он старался убить в себе стереотипный облик еврея. Потому что сексуально тяготел к противоположному. Его идеал — это он сам, но без книжности, сложности, интеллигентности. «Послышалось как открывают дверь и вошел я. Я подошел ко мне, мы обнялись сухими осторожными телами, боясь быть слишком горячими и налезть друг на друга, такие близкие люди, знающие друг про друга всё, настоящие любовники. У нас с ним было общее детство. Только не может быть детей» (ХГ 1: 238). Что его антисемитизм не имел бытового, распределенного применения, а проистекал из сексуальных пристрастий, видно не только из его слов о благожелательном отношении к евреям по отдельности, но и из конкретной реализации и даже из его осмысления ее. Так, он писал о своем воспитании: «Как важны были для меня детские пьесы Шварца, черт с ним, что еврей (Бог с ним), с их мягкостью и забавностью, и сердечностью» (XT 1: 245). Плюс друзья-евреи. А вот среди его бесчисленных любовников и сексуальных партнеров нет евреев. Только Валера «для коллекции», да и тот еврей наполовину.5. Этнография робкого племени
Все рассматривают Харитонова как писателя, художника. Но он ведь еще и исследователь, кандидат искусствоведения. Эти его ипостаси неизбежно переплетаются и взаимодействуют. Не может художник, который еще и ученый, видеть мир так же, как тот художник, который чужд науке. Евгений Попов пенял Харитонову за излишнюю физиологичность и бесстыжесть его сексуальных откровений. Он ведь не пишет «этнографию робкого племени русских гомосексуалистов», не пропагандирует гомосексуализм, а «говорит о вещах высших, вечных, Божьих» (ХГ 2: 104). Да нет, как раз пишет и этнографию, потому что он еще и ученый. Этнография этого племени у него дана широко и во многом впервые. Но когда робкое племя подавлено и унижено, писать о нем и есть вещь Божья. А что «педалирование физиологии» может отпугнуть читателя и стать «геройским самоубийством» автора — так ведь писать обиняками можно было и раньше. Критичность и самокритичность взгляда включает физиологию, иначе как раз и будет умилительная пропаганда. «Этнографические» наблюдения Харитонова тесно связаны с его практическими соображениями. В тексте «Слезы на цветах» у Харитонова целый каталог мест, где можно завязать свидание, если исхитриться: бани, вызов полотера, столовые возле студенческих общежитий, еще лучше СПТУ, в столовых туалеты — там записать телефон. Однажды записал свой под чужим именем. Как-то позвонил юный голос, спросил Виктора. Через неделю еще один — тоже Виктора. А рассказчик забыл уже, что оставил именно это имя, и ответил, что здесь таких нет. Потом уж спохватился, да поздно. Подыскать воинскую часть и проследить, когда они уходят в увольнение. Или Суворовское училище… Большой текст (ХГ 1: 240–241). Поездка в Харьков — бытовая сценка. «Поход на Харъкiвскую плешку (пулемет): вначале баня потом позади Л[енина] на пл. Дзерж. в саду туалет выходит один очень приятный мальчик к университету и всё похоже нет потом всё время две бляди потертых неинтересно третий с ними ничего кое-какое выжидание на остановке но упустил не заговорил долго медлил и третий был ничего румяный миловидный вдвоем как будто с натуральным грелись в фанерной закусочной где все греются пулеметчики пьют кофе так называемый слабенький как у всех кто привык видеть к себе внимание вид такой что мне до вас никакого дела нет». И с огорчением: «Так и не было ничего» (XT 1: 194). Вполне этнографическое описание так называемого «анонимного» туалетного секса (с обычной харитоновской стилизацией): «Г. сказал у них в институте есть телевизор кабинка дырочки просверлены в стенке залеплены все бумажками как звездное небо. Когда он входит в ту кабинку надо бумажку одну отклеить посмотреть что он делает. Он тоже со своей стороны смотрит в какую-то неведомую дырочку на тебя, ты начинаешь как будто дрочить. Надо запастись карандашом и бумагой и если он клюнул если дело пошло свертывать трубочкой записку и просунуть в это отверстие чего хочешь? или самому прямо предлагать. А на метр от пола сам телевизор квадратная дырка тоже на слюнях заклеенная газетой с потеками от прежних разов куда он и просунет член если согласится. И вот ты как охотничья собака должен не дыша выжидать когда в ту кабинку кто-то зайдет и что он там будет делать и потом ему предлагать через телевизор тут всё что надо для страсти один так провел весь свой отпуск 30 дней в такой барокамере на пл. Революции вот то что надо честная страсть в уборной на фоне измазанных стен солдат тебя как сл. не видит и ты что не надо не видишь никаких лишних слов никакого молчания после никакой там тягостной человечности отсосал и закрыл телевизор. И риск и защита стенками и что люди снаружи приходят и уходят и что вы не знакомитесь никаких там чееческих бляць отношений и как-то это всё через дырочку и ведь заходют туда в телевизор те кто более или менее знают что это за кабина что там за предложение последует из соседней ведь кто-то ее просверлил и это заведено во многих клёзетах что последняя кабина у стенки для этого значит все кому надо знают что здесь бываит и дзествицельно простому натуральному юноше просто зашедшему подрочить почаму бы ему не согласиться его как раз застают в тот заповедный момент когда он готов и даст отсосать» (ХГ Г. 184). В научной литературе немало описаний этого явления (оно носит название «glory holes» — «упоительные дыры»), но в русской литературе, кажется, это первое. К своим гомосексуальным приключениям Харитонов подходил именно как этнограф, или социолог, или психолог — с исследовательским интересом. Он был очень наблюдательный, тонкий и проникновенный исследователь. У него есть одно чрезвычайно любопытное произведение — Рассказ мальчика — «как я стал таким». Здесь явная перекличка с Уайтовским «Рассказом парня (или, как можно перевести слово boy — мальчика) о себе» (White 1982), хотя Уайт и Харитонов несомненно не слышали друг о друге: Харитонова при жизни не печатали даже по русски, а книга Уайта вышла вскоре после смерти Харитонова. Но если книга Уайта, по общему мнению, полна автобиографическими мотивами, то все же они даны в литературной переработке. У Харитонова же вообще автобиографичность и минимум обработанности входят в основы творческого метода, все его рассказы выглядят как главы его дневника. А этот рассказ — особенно. Он явно написан без малейшей надежды на то, что будет когда-либо напечатан: и тема, и авторская позиция, и нецензурные слова не позволяют сомневаться в этом. Очень похоже, что повествование представляет собою просто запись действительного рассказа приезжего юноши по свежим следам, возможно, даже без каких-либо добавлений из другого авторского опыта. Просто запись для памяти. Персонаж от автора (видимо, сам Харитонов) очень профессионально ведет типичное интервью психоаналитика. Паренек рисуется; интеллигентному, но явно сексуально заинтересованному знакомому хочет представить себя наивным, чистым, совращенным только недавно. Заботится о достойном образе и… набивает себе цену. «Значит, на 8-е марта я поехал в Москву (из Иж-ска). Вот тут я и узнал. Нет до этого была история с этим народным художником. Он пришел к нам в училище, попросил придти к нему попозировать. Ну и потом начал заговаривать на эти темы, но всё так деликатно, и, главное, отношения учителя и ученика <…> да мне бы с ним было противно, ему 60 лет, я его только уважал как человека. Он меня многому хорошему научил. А в постели мы с ним больше просто так лежали, ему просто нравилось погладить меня, он восторгался мной, моей фигурой…». Художник и направил его в Москву, посмотреть музеи. «Ну и в Москве я узнал: в аэропорту в Быково зашел в туалет, там всё написано, загляни в такую-то дырку, и там один поманил меня пальцем, сделал мне минет через дырку». — А откуда узнал что в центре собираются? «А вот мне этот сказал и предложил встретиться. С ним я не встретился, но за эти дни встречался с другими, вот так я всё это и узнал. Ну, стоило мне появиться, все сразу подходят, я с этим не иду, с тем не иду, смотрю кто понравится». Всё выглядит очень просто и соответствует стереотипу. Местный интеллигент начал приобщать простого паренька к гомосексуальному общению, но очень умеренно, а столичные «тусовки» окунули в разврат. Интервьюер подозревает, что это только поверхностное впечатление, что парень лишь приоткрыл свой опыт, и за его монологом следует искусно, осторожно сформулированный вопрос: — Ну а раньше в детстве, что-нибудь такое бывало, наверное, с каким-нибудь школьным товарищем, так, по-детски? — «Да, был один друг, мы с ним друг у друга дрочили». — Часто? «Да как только никого нет, так и подрочим. Но только дрочили, больше ничего». — А девушки у тебя бывали? — «А как же, конечно». — А почему нет постоянной? — «Ну они глупые какие-то все, и постоянной девушки у меня не было, а что, просто ходить с ней, провожать и говорить неизвестно о чем, неинтересно. Они же не стремятся спать, им больше нужна просто любовь и провожания. Ну а так, отдельные случаи, да, мне очень понравилось. В колхозе с одной, я заметил по часам, я ее пахал час десять минут, как эксперимент, я регулировал, чувствую, скоро конец, я придерживаю, она уже истекала ручьями». — Ну а тебе приятней с девушками или с парнями? — «Да, с девушками, конечно, там у нее внутри всё так обволакивает, приятно, мокро всё время». На этой стадии парень предстает сексуально чуть более опытным, но в основе своей гетеросексуальным. Однако знакомство продолжается, интервьюер расположил его к себе, парень проникся доверием, и «постепенно он рассказал больше и о тех днях в Москве и о всех своих связях». И тут выясняются его гораздо более ранние, бурные гомосексуальные приключения, и, что главное, возникшие по его собственной инициативе. «Вообще-то, честно говоря, началось всё не в Москве в Быково; и не с художника. А когда я однажды был проездом в Кирове, я зашел в туалет, и там была надпись перейди в другой туалет на такой-то улице. Я пошел туда». — А не боялся, не было противно? — «А меня никто в городе не знал, я никого не знал. И вечером уезжать. И вот там стоит один такой страшный, правда, молодой, в очках, губастый. И он мне предложил зайти с ним в кабинку, две разные кабинки рядом, он меня оттуда так пальчиком поманил и взял в рот. О! А там еще лучше, чем в п…е, еще мокрее. И рот у него такой большой, зубами не царапает, так всё мягко. Я был прямо в экстазе. И он был в таком восторге, говорит — у тебя такой большой! давай снова встретимся! Я говорю нет не могу, сегодня уезжаю <…> Так вот, когда я приехал в Иж-ск, я стал искать таких людей. <…> Так вот, с народным художником. Когда он зашел к нам в училище, я всё это знал. И сразу понял, что к чему, когда он меня к себе зазвал». Оказывается, народный художник был вовсе не инициатором — парень искал и ждал таких, художник просто подвернулся. В Москве же, когда парень попал в центр, освоился там, «и здесь самое главное было знакомство: подошел ко мне в последний вечер Миша такой, приятный, с усиками, он мне сразу понравился больше всех и мы поехали к нему <…>. Мы зашли с ним в ванную, он там сзади смазал мне, выеб. И он мне так понравился, вот один случай, когда я даже сам захотел взять у него в рот. Но не взял! Как мне не хотелось с ним расставаться! <…> Больше я не мог ни о чем думать, только он был у меня в голове». Рассказал о нем художнику, тот отговорил ехать в Москву. Вместо этого паренек, Сережа, поехал домой в деревню и встретился со своим школьным другом Сашей — тем, с которым раньше дрочился. Ему предварительно написал: «мы должны с тобой увидеться, я тебе такое расскажу! такое! как я съездил в Москву, у тебя дух захватит». Тут Сережа выступает совершенно отчетливо уже соблазнителем. И вот, приехав, он, как он рассказывает, «встретился с Сашей, этим своим школьным другом». Тот «слушал и прямо стонал, потом истопил баню и говорит — делай со мной всё что с тобой делали в Москве! А у меня там в рот брали, что ж я ему должен тоже? Мне этот его х… какой-то кривой с синим концом с детства еще надоел. Ну я так и быть взял у него, прямо чуть не стошнило. Вот единственный раз, больше никогда никому! Он изнеженный такой, всё время дома сидит, любит читать по истории, всё про Русь, западного ничего не признает, такой патриот…». На ноябрьские праздники автор (или тот, от имени которого ведется повествование) сам поехал в Ижевск, увиделся со всеми персонажами. Художник оказался совсем не старичком, каким он виделся по рассказу Сережи. Узнав, что едет один из Москвы, приехал из деревни и Саша. Как пишет автор-интервьюер уже от себя, «И ждал, что из этого будет. <…> Думаю, с замиранием сердца. Но не показывал вида. А уж в кровати такой податливый, нежный. Такой худенький, теплый, молоденький. Так ему сладко было всё что с ним делали. Трогал меня несмелой рукой за х… Опять же, если я сам его руку подвину». Собирается стать попом, хоть отец парторг в совхозе. «И как ему пойдет быть попом. Такие у него выразительные глаза, длинные черные брови, яркие губки; бородка ему пойдет. <…> Пусть идет в церковь» (ХГ Г 229–233). Очень осторожным надо быть, принимая на веру рассказы гомосексуалов о том, кто и когда их совращал, как их вовлекли со стороны в гомосексуальное общение, кого из встречных нужно винить за их гомосексуальную судьбу. Чаще всего это маска, прикрывающая собственную тягу, собственную авантюрность, собственную страсть, и Харитонов это уловил.6. Анализ гомосексуальной натуры
Еще более, чем в этнографических наблюдениях, исследовательский талант Харитонова проявлялся в психологической интроспекции. Мало кто в русской литературе столь глубоко, полно и тонко анализировал критически (на примере собственной личности) особенности психики гомосексуалов. Их суетность, бахвальство друг перед другом любовными успехами, сплетни, ревность. Вот рассказчик, счастливый тем, что у него живет идеальный возлюбленный Алеша, приглашает к себе в гости бывшего своего любовника Сережу, чтобы похвастаться своим счастьем, чтобы тому стало завидно, и даже посылает к нему в постель на пару часов Алешу, чтобы показать свою власть над ним, а тот приникает к Сереже более страстно, чем приникал к нему, и он хочет порвать с Алешей, в итоге он наказан за тщеславие и тягу к унижению ближнего… (рассказ «Алеша Сережа»). Вот он зовет к себе в гости знаменитого Р(устама), чтобы Р. увидел, каким «я» обзавелся роскошным возлюбленным А., и чтобы А. увидел тот круг, до которого ему не дотянуться, но А. стал сближаться с Р, это не входило в расчеты, пришлось выпроваживать Р., но А. захотел уехать с ним, началась форменная драка, в конце концов Р. уехал с А., и вышло всё наоборот по сравнению с гордыми планами, и сам виноват… (рассказ «Р., А., я»). Или, скажем, один из дурных идеалов гомосексуальной любви — безответственность, которая ведет к частой смене партнеров, развивает эгоизм и в конечном счете оборачивается одиночеством. У Харитонова это представлено очень точным образом. Он как-то помечтал: вот бы «завести кошку и заколдовать в 17-летнего десятиклассника. В меня (но покрасивее)…. Я бы ставил опыты на его теле и снимал показания со своего сердца» (XГ 1: 238). Известно, что многие гомосексуалы падки до членов большого размера. Подобно Жану Кокто, специально рисовавшему «поваренка-монстра» — с огромным членом, жирно выделенным на его рисунке, Харитонов останавливается на том же. Вот белый стих из «Вильбоа» (ХГ 1: 40–41):Событие: показали феномена,
такая длина впервые.
При том, что обладатель почти ребенок,
только что вытянулся, в пропорциях не установился.
Но размера такого не видел.
Тоже сначала мылись дети, моложе его, двое,
тоже у них по взрослому развито:
у одного такой крепенький темного цвета,
как будто повидал виды, с прикрытой головой,
у другого потоньше, но по длине хорошо:
если смотреть в отдельности, возраст не
Единственная деталь, по которой годы не
По любой другой можно, а эта и так в морщинах.
Загадка для испытателей.
Мальчик, только что вытянулся,
но размер —
какой-то коленчатый, как бамбук,
как будто дорос до хорошей длины,
и дальше решил, на второе колено,
и зарубка видна, до которой вначале.

А на пределе —
если даже в два раза, непостижимо,
как распрямляется — собственная тяжесть не даст,
закон рычага.
И такой разворот событий:
баня почти пустая, и когда он вошел,
по случайности выбрал скамейку рядом,
какая минута, соседи.
Затем в парилку, я немного спустя за ним,
и там совсем никого, нет слов.
Он сам облегчает подступ,
что-то давай про скамейку, как на нее невозможно сесть,
про пар. Я и не нашел бы. Целый пошел разговор.
Еще про брата, как они тоже в бане.
Сам не из Москвы, здесь в ремесленном,
какой билет в лотерее:
здесь в общежитии, смело позвать,
деревенский и ничего не знает,
выигрыш раз в десять лет —
упустил.
7. Грех и гений
Николай Климонтович, хорошо знавший Харитонова, писал: «Видимо потакая плоти, обнажая грубые формы похоти, он деромантизировал ее и оборачивал против самой себя. Гомосексуализм его был во многом формой воздержания, всякое отступление от обета целомудрия наказывалось самым чудовищным препарированием самого летучего греха, на который эллинский взгляд посмотрел бы как на сладкий поцелуй» (ХГ 2: 114). Нина Садур, которая была еще ближе к Харитонову, подтверждает: Евгений Харитонов нес двойное бремя горя: общее горе советской интеллигенции быть «внуками Ильича» и свое личное горе быть русским верующим — и гомосексуалом. «Я не знаю в мировой литературе примера, когда писатель-гомосексуалист так мучительно переживал бы эту свою особенность…. Читать его бывает невыносимо страшно (Это вам не дурачёк пудренный, маркиз де Сад, французский пакостник с философией на две копейки)…. Дело в том, что Харитонов — не про это, он — про уязвленность души человека. Вот здесь начинается гений» (ХГ 2: 149–150). Это всё по большому счету очень верно (разве что де Сада Садур недооценила), но здесь то отношение к гомосексуальности, которое было естественно для этих авторов, но которого в чистом виде у Харитонова нет. Заглянем в его философский текст «Слезы об убитом и задушенном». Тема названа торопливым шепотом без знаков препинания — «Вера спасение покаяние откровение грех». И сразу же текст огорошивает: «ГРЕХА нет». Автор поясняет — для человека, живущего словом. «Назначение своей жизни он видит в художестве (словесном)…. А грех? грех не выполнить назначения… грех не делать то чего хочу. Я хочу чтобы у меня выходили дивные художества но отвлекаюсь на другое, а жизнь идёт; а художества-то художества-то кто мои выведет трепетной рукой легкой рукой… Какие-то те самые слова в которых что-то поймано. Кто поймает и каждый раз пока живет будет ловить эти прикосновения…. А грех, грех? Жизненного греха за мной нет, потому что всё что там в жизни это так, а на самом деле то, что в художестве…. А в чем ИСПОВЕДЬ, если нет греха. Может быть, исповедь в радости. Самая главная самаянастоящая-то радость и есть, когда слезы и над бездной» (XГ 1: 177). Через Валеру, «полуеврея об одном яйце», Харитонов познакомился с его бывшим любовником Славой, поэтом, собравшим вокруг себя простых ребят, чтобы было перед кем представать в романтическом ореоле. Но Валера пользовался его помощью, а сам его не любил. И однажды, когда Слава пришел в гости к Харитонову, спустил Славу с лестницы. А Харитонов спокойно смотрел на это и не возражал. Мысленно он объясняет это Славе, и это столь важно для него, что он записывает это одними прописными буквами: «ЭТО БЫЛА ДЛЯ МЕНЯ РАСПРАВА НЕ С ВАМИ, А С ГРЕХОМ, ОТ КОТОРОГО Я ХОТЕЛ ОТДЕЛАТЬСЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В ВАС. ЭТО ГРЕХ ИСКАТЬ СЕБЕ ОСОБОГО ПОЛОЖЕНИЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ И ТАК ПОДБИРАТЬ СЕБЕ ОБЩЕСТВО, ЧТОБЫ КАЗАТЬСЯ СТРАННЫМ — ЧТО ЕЩЕ И НЕ ГРЕХ… НО ОН ПОДВОДИТ В А С УЖЕ К САМОМУ ГРЕХУ: ВЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕТЕ СВОЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ТОГДА КАК НАМЕТИЛИСЬ УЖЕ НА НЕГО. А НЕ ВЫПОЛНЯЕТЕ ПОТОМУ ЧТО ПИСЬМО ДЛЯ ВАС ЛИШЬ СРЕДСТВО ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ В ВЫГОДНОЙ РОЛИ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ЗАМЕНОЙ ЖИЗНИ ИЛИ НОВОЙ ЖИЗНЬЮ» (ХГ 1: 207). Он считал, что гомосексуальность не отнимает от его творчества важные составляющие, а наоборот, добавляет. «Самый необыкновенный, самый проникновенный, самого ясного ума чел. на земле был, несомненно, Евангелист Иоанн. А 2-м был Оскар Уайлд. Тут с ним мог бы поспорить Джойс. Но Джойс не был гомосексуалистом, что не дало ему стать столь проникновенным как Оскар Уайлд… И третий — что делать — но это я, я говорю без лукавства» (ХГ 1: 260). Более того, гомосексуальность помноженная на честолюбие в какой-то мере определила и само избранничество Харитонова, его уход в писательство. Или, по крайней мере, так он считал. Он (ХГ 1: 137) записывает: «Я с детства хотел отличиться от всех. Подражал гениям в позе… И больше всего думал о славе. Мое внимание направлялось не на жизнь вокруг, а на себя. Я постоянно смотрелся в зеркало думал как вырасту и похорошею с переломным возрастом, меня сразу отличат. Я сравнивал себя с другими мальчиками, завидовал. Если видел красивого, хотел быть им. Но я вырос, черты установились, и я убедился во мне нет их красоты. Какую я любил. Какую хотел видеть на себе. Я ясно убедился среди моих ровесников есть мальчики убийственного обаяния и им по праву даются первые места. И до умопомрачения будут любить только их. А роли забавных умных добрых мне претили. Влюбиться безоглядно можно было только в тех в кого влюблялся я сам…. От него мутится в глазах. Он дерзкий… Он ради игры мигнет и любой ляжет с ним. Самая сладкая роль на свете. Но она для меня отпала…. Можно достичь счастья, я решил, в том что не делается моим видом (в письме). Никто не будет видеть сколько усилий идет на труд. Будет видна только готовая вещь и прельстятся мной за нее» (ХГ Г. 137–138). У тяги к собственному полу есть несколько объяснений. По объяснению, восходящему к Фрейду, у подростков объект влечения еще вообще не определился. То есть всякий мужчина вначале бисексуален. И только потом постепенно сосредоточивает свои интересы на противоположном поле, в чем ему способствуют социокультурные нормы. Находя в этом самооправдание, Харитонов (ХГ 1: 242) думал именно так: «Знаете, есть такой возраст, когда им хочется ласкаться, а как-то девушки еще нет под рукой, и он поневоле сидит в обнимку с другом или растянется у него на коленях, но это нет, не гомосексуализм. Это некуда деть свое тепло. И хочется временно облокотиться на друга. А я из этого временно больше не захотел выйти. А я в этом дивном временном страстно захотел остаться навсегда». Впрочем, Харитонову больше импонировала мысль, что это всё-таки гомо сексуальность. Свою идею он с увлечением пестовал. «Все вы — задушенные гомосексуалисты», — обращался он к гетеросексуальному большинству (ХГ 1: 248). Но так или иначе, налицо расщепление и противостояние. Харитонов с вызовом, отчасти наигранным, в своей «Листовке», обращенной к гетеросексуалам, противопоставлял им гомосексуалов: это «наш гений процвел в балете» — «нами он и создан». «Мы втайне правим вкусами мира. То, что вы находите красивым, зачастую установлено нами, но вы об этом не всегда догадываетесь <…> Уж не говоря о том, что это мы часто диктуем вам моду в одежде, мы же выставляем вам на любование женщин — таких, каких вы по своему прямому желанию, возможно, и не выбрали бы. Если бы не мы, вы бы сильнее склонялись во вкусах к прямому, плотскому, кровопролитному. С оглядкой на нас, но не всегда отдавая себе в этом отчет, вы придали высокое значение игривому и нецелесообразному» (ХГ 1: 248–249). Евгений Харитонов как-то внес в свои заметки одну о сокровенных «нелживых книгах», которые писались «в стол» и не печатались: «2 главных вопроса в этих книгах: кто виноват? и что делать? И 2 же на них ответа: никто не виноват, а, главное, ничего делать не надо» (ХГ 1: 243). Он явно имел в виду свои книги и проблему гомосексуальности. Не виноваты гомосексуально ориентированные люди в своей страсти, не виноваты. Они от природы своей такие — частью от генов, частью от гормонов, а частью от впечатанной с детства в мозг программы, от которой невозможно избавиться и с которой им приходится жить. Полноценной жизнь представляется им только в гомосексуальной любви. Не виноваты и гетеросексуальные люди в том, что не могут понять гомосексуальных. Гетеросексуальным представляется, что только их вкусы соответствуют природе, а все другие — нет. Поэтому их воротит от одной лишь мысли о гомосексуальной связи. Что уж и говорить о гомосексуальных фильмах, книгах, барах. А что же делать? Ну, если под действием подразумевать какие-то радикальные шаги, способные немедленно изменить ситуацию, то и в самом деле ничего делать не надо. Можно лишь исподволь и спокойно работать над тем, чтобы обе стороны прекратили войну, начали понимать друг друга. Творчество Харитонова — вклад в это дело. «Мы читаем и болеем от Харитонова…, — пишет Олег Дарк (ХГ 2: 167). — Он крайне искренен. <…> Он просто рассказывает, жалуется, любит. <…> Нас наполняет его влюбленность и его стенания. Мы завидуем ласкам его юных любовников. Мы переживаем, когда они нас бросают и мучают. Мы хотим быть гомосексуалистами. Мы уже являемся гомосексуалистами. Мы очень долго, всю жизнь были гомосексуалистами, пока читали Харитонова. Мы перестали ими быть, закрыв книгу. Нам очень жаль, что мы перестали быть ими. Но мы уже никогда не забудем, что ими побывали». «В его углубленной жизни, в его облике, в его отношении с людьми были несомненные черты избранничества, святости» — сказал его друг Николай Климонтович (ХГ 2: 115).8. Конфликты и конец
Пригов так описывал Харитонова последних лет его жизни: «Мне представляется, что разница между его бытом, достижениями и самоощущением избранничества, конечно, очень угнетала Харитонова. Он говорил, что ему уже сорок, а у него нет ни одного опубликованного стихотворения» (ХГ 2: 89). К этому добавлялись всё более накапливавшиеся конфликты — с друзьями, окружением и властями. Л. С. Петрушевская, с которой Харитонов познакомился и подружился на неформальных «читках» у студентов МГУ в 1974, отказала ему от дома, в значительной мере из-за его гомосексуальности. Он записывает: «Уважаемая Л. как я ни объясняй тот разговор с Вами, ничего не объяснить никогда. Крест на мне поставлен. Ну раз вам так нужно, отторгнуть (меня), значит так нужно…. Позвольте любить Вас все равно» (ХГ 1: 210). Была у Харитонова подруга детства Алина Шашкова — познакомились еще в детском саду, затем были одноклассниками. Поступила во ВГИК (позже Харитонова), но работать стала сначала журналисткой, потом регентом церковного хора. Общий интерес к православию объединял их с Харитоновым, вместе крестились. Но она, помогая Харитонову в жизни, считала его гомосексуальность и его творчество, пронизанное этой темой, преступными. Позорными считала их и его мать. Кстати, после его смерти его архив исчез, и подозревают, что его уничтожила его мать. На том же курсе во ВГИК, что и Шашкова, учился Рустам Хамдамов из Ташкента (у Харитонова «Р.»). Его работы рано породили общее восхищение студентов, настоящий культ Хамдамова. Знакомство обоих и творческое содружество закончились ссорой навсегда из-за общего любовника и ревности. После этого Харитонов называл Рустама не иначе, как «Гадина», а эпизод ссоры лег в основу известного рассказа Харитонова «А., Р, я». В 1979 г. руководимый Харитоновым рок-ансамбль «Последний шанс» ездил на гастроли в Новосибирск. Через месяц в ВЦСПС пришло письмо-донос с фотографиями выступления и резюме: «вот чему нас, провинциалов, учит Москва, какие-то студии Евгения Харитонова». О результате Харитонов пишет: «И человек из горкома решил не создавать на нас дела…. Это некоторые глупые заведующие, трусы, дрожа за свои места хотят поскорей показать свою прозорливость и написали на Вас в горком пока их самих не прищучили за потворство вам, а человек из горкома наоборот, он покачает головой в их адрес, а к Вам отнесется с уважением… Но наставит вам на мозжечок колпачок. Но нагоняй за вас даст другим. И, может быть, получит сам» («Слёзы об убитом и задушенном» — ХГ Г. 179). В том же 1979 г. был зверски убит его друг-гомосексуал Александр Волков (у Харитонова «Саша»), сокурсник Шашковой и Хамдамова, подрабатывавший шитьем брюк. Гомосексуальные вкусы ему привил его дядя-садомазохист (у Харитонова «Вс. Н.»), у которого он жил. Харитонов хотел организовать похороны и пришел за этим к следователю. Тот принял Харитонова как подозреваемого и начал допрос, угрожая 121-й статьей и экспертизой. Харитонов упал в обморок. Убийцей был признан дядя, и только когда он отсидел несколько лет, были обнаружены настоящие убийцы — двое парней, с которыми Саша познакомился на вокзале. Художественным итогом этой истории явился текст «Слезы об убитом и задушенном»: «У человека прав нет, запомните. Человек это никто. Любой может быть раздавлен и размазан по полу и след его будет немедленно выброшен в ведро и закопан. Они просто вызвали и припугнули». Разговор уважительный — «О да, в кгб». Разговаривали как с заведомо виновным. Угрожали экспертизой (ХГ 1: 182). Далее иронически обыгрывается некий ответ из «Правды», реальный или воображаемый, о законе против гомосексуальности, как его понимать. Какие-то разговоры этого рода, видимо, были. «— Видите ли, вы же сами понимаете, что мы согласны закрыть глаза и закрываем на подобные действия, когда они делаются тихо, если они при крыты всякими отвлекающими словами. Если, например, это прикрыто искусством; народу объясняется, что пьеса показывает расизм за рубежом; для себя пусть белый умирающий юноша страдает по негру как и у Лимонова] — но для людей в сопроводит, слове должно объясняться только так, что это расизм; или пусть вы там любуетесь голыми танцовщиками и все зрелище ради этого, но для народа это Древн. Греция и борьба за свободу. Пусть там Рихтеру себя в богатом доме делает что он хочет, но если он Рихтер; и для народа это он приобщает молодежь к прекрасному, тут мы, конечно, закрываем глаза. Но если открыто дать волю, и всем, и назвать это как есть, тогда что же будет с мировоззрением как это всё в него войдет. … Нет. Мы можем снять трубку и дело замнут, но закон должен оставаться законом. Для острастки и для поддержания идеологии. И никому открыто со страниц прессы мы не позволим упоминать о такого рода жизни у нас. Её у нас нет. У нас есть, может быть, всё, но на бумаге этого, запомните, нет, иначе мы вынуждены привлечь вас к уголовной ответственности» (XT 1: 183).Перед лицом возможности своей гибели Харитонов стал собирать и объединять свои произведения, свел их в трехтомник «Под домашним арестом», сам перепечатывал их на машинке и роздал на хранение друзьям. У некоторых сотрудники КГБ захватили их, конфисковали и уничтожили. Харитонов начал размышлять над способами переправки своих рукописей на Запад. Паола Волкова, преподаватель-искусствовед, поманила его своими якобы связями на Западе, он загорелся, но это оказалось мистификацией. Зато Высоцкий вроде бы сумел незадолго до своей смерти переправить на Запад рукописи Харитонова. Другой путь проторил Козловский — он передал рукописи Аксенову (за день до смерти Харитонова). Не испугавшись и не научившись осторожности на примере разгрома сколоченного Аксеновым сборника «Метрополь», группа молодых непечатаемых и фрондирующих писателей обратилась в ноябре 1980 г. к властям с предложением издать ограниченным тиражом новый такой сборник — «Каталог». В сборнике приняли участие семь авторов: Ф. Берман, Н. Климонтович, Е. Козловский, В. Кормер, Е. Попов, Д. Пригов, Е. Харитонов. Рассвирепевшая власть решила ударить по наглецам более чувствительно, чем в первый раз. Козловского в КГБ заставили выдать всех, кто ему помогал, и подписать покаяние. У других конфисковали рукописи и машинки. Харитонова, как он выразился, «затаскали» по инстанциям. Когда зимой в его квартиру прибыл милиционер с повесткой к следователю, он упал в обморок и разбил при этом стеклянную дверь в кухню. 29 июня 1981 года он пробегал по Пушкинской улице, неся оконченную рукопись. Без четверти час он внезапно присел на крыльцо и умер «от разрыва сердца» — инфаркт. Листки рукописи, которую он нес, разлетелись по всей улице. Тогда и выяснилось, что те обмороки, которые с ним случались в последние годы, это были микроинфаркты. Он перенес их восемь. Такова была цена за самостоятельность и оригинальность, за независимость от властей, за выбор темы и судьбы. Харитонов остался нашим современником. Из его «Слез на цветах»: «Пошел я как-то посидеть к себе на могилку. Съесть яичко за свое здоровье. И вижу. И что же я вижу. А ничего не вижу. И видеть не могу» (ХГ 1: 234). Всё, что он за свою недолгую жизнь увидел, теперь видим мы — его глазами.
Неистовый Рудольф Нуреев
1. Правда и вымыслы о Нурееве
Имя легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева сейчас знают все даже в России (еще лет двадцать назад оно здесь было под запретом: беглец, изменник). Теперь общеизвестно, что Нуреев был геем и умер от СПИДа. В книгах и статьях о нем, написанных в России, сведения об этом стали проскальзывать с 90-х годов (Рудольф 1995). Но и на Западе далеко не во всех книгах о Нурееве это обсуждается открыто. Тема эта обойдена, скажем, в обеих книгах Александра Блэнда о Нурееве (Bland 1977а; 1977b) и, разумеется, в автобиографии самого Нуреева (Nureyev 1963; Нуреев 1998). В двух биографиях она, однако, раскрыта достаточно подробно: в книге Отиса Стюарта целая глава названа «Миф о «великом гее»: «Я спал с Нуреевым»«(Stuart 1995;), а в монографии Дианы Солуэй эта тема проходит пунктиром через всю книгу (Solway 1998;); обе переведены на русский (Стюарт 1998: 193–214; Солуэй 2000). Источники Стюарта, как можно судить по его неформальным ссылкам, — это опросы геев в гей-барах европейских столиц — он прошел по следам Нуреева. Источники Солуэй — значительно шире — интервью со многими друзьями и родственниками Нуреева и официальными лицами, контакти ровавшими с ним, работа в архивах, в том числе в архивах ЦК и КГБ. Я смог много взять из этих книг. Есть еще одна книга специально о гомосексуальности Нуреева «Руди Нуриев без макияжа», тоже переведенная на русский. Она написана «австралийцем с русскими и японскими корнями» Ю. М. Рюнтю, аттестованным в аннотации как «ученый-биолог», и построена якобы на 29 подробных письмах Нуреева к его другу, австралийскому писателю-гею Пэтрику Уайту, лауреату нобелевской премии (Рюнтю 1995). Но есть все основания подозревать, что это фальшивка. Письма эти, переданные якобы автору книги и хранящиеся у него, содержат откровенные воспоминания об эпизодах гомосексуальных связей артиста с полусотней любовников, и в книге отведено по главе на любовника. Книга целиком посвящена этой стороне жизни Нуреева — ничего о танце, о балетах, только секс. Великий танцовщик оказывается обыкновенной «туалетной мухой» — увивается вокруг общественных туалетов и этим живет. Согласно «письмам к Уайту», он активно жил такой жизнью уже в России, до бегства на Запад. Более того, попал в России в больницу для операции полового члена, якобы просунутого в дыру между кабинками в общественном туалете и «сломанного» ударом ноги некоего злобного гомофоба. Если бы Нуреев лежал с такой операцией в советской больнице, этот факт был бы наверняка использован КГБ для его шельмования после его бегства — можно представить себе, как старательно искали «компромат». Не было у КГБ таких данных. Вряд ли он мог практиковать столь интенсивную «туалетную» жизнь возле училища — это было бы чересчур заметно для товарищей по училищу и слишком опасно. Что касается жизни на Западе, то в «письмах» подробно описано любовное свидание Нуреева с Фредом Меркюри из «Куин». Контакт молодого Нуреева с молодым Миком Джэггером из «Ролинг Стоунз» засвидетельствован их окружением, а знакомство 35–40-летнего Нуреева с молодым Меркюри — нет (в 1973 г., когда группа «Куин» только вынырнула, Нурееву было уже 35 лет). Писатель Пэтрик Уайт существовал и действительно был геем и лауреатом Нобелевской премии (единственным в Австралии), посещал он и Англию, жил там, но знакомство Нуреева с ним нигде более не отмечено. С чего бы это Нуреев стал так подробно описывать в 29 (!) письмах этому старику-писателю свои любовные похождения — одно за другим, — непонятно. Он вообще везде подозревал агентов КГБ и предпочитал не распространяться о своей гомосексуальности, особенно письменно. Более того, он вообще очень не любил писать по-английски, так как был не уверен в своем владении языком и орфографией. Поэтому писем от него (к кому бы то ни было) вообще сохранилось очень мало. Сами «письма к Уайту» не предъявлены и нет прямых цитат из них. А ведь публикация самих писем была бы куда большей сенсацией. Между тем всё дано якобы в переложении Рюнтю, его корявым языком, в смеси с собственными переживаниями Рюнтю, так что порою трудно разобрать где Руди, где Рюнтю. Поэтому вполне правомерно предположить, что письма выдуманы. Итак, остаются две книги с разбором этой стороны жизни Нуреева. В обеих, однако, как и везде вообще, подспудно проходит мысль, что хоть Нуреев и был чрезвычайно эротичен, даже сексуален в своем творчестве, гомосексуальность Нуреева, если и отразилась как-то в его творчестве, то незначительно, в несущественных деталях, и, за исключением смертельной болезни, не сыграла существенной роли в его судьбе. А если и сыграла какую-то роль, то скорее отрицательную — мешала его творчеству, отвлекала от работы, портила отношения с людьми, создавала плохое реноме и в конце концов погубила. Не сказывается ли в этой трактовке традиционная неприязнь общества к гомосексуальности? Более того, в книге Дианы Солуэй весьма настойчиво проводится мысль, что — вопреки тому, как принято толковать психический склад Нуреева, — женщины играли в его жизни гораздо более важную роль, чем мужчины, что он с юности влюблялся именно в женщин, всю жизнь имел любовниц-женщин и к старости его окружали именно женщины. А мужчины были — за редкими исключениями — так, для развлечения, для разрядки и для услужения. Правда, эта концепция основана на показаниях самих женщин, претендовавших на право считаться возлюбленными Нуреева, а таких было немало и они весьма откровенны в своих воспоминаниях — готовы рассказывать всю правду и даже больше чем правду. Тогда как из мужчин вытянуть показания подобного рода, естественно, гораздо труднее — они предпочитают молчать о своих отношениях с Нуреевым и более откровенны лишь в воспоминаниях о его связях с другими. Не приходится спорить с тем, что СПИД погубил танцовщика, и что если бы Нуреев не был гомосексуальным, он вряд ли заболел бы так рано. Но вопрос о том, каково соотношение гомосексуальных и гетеросексуальных компонентов в ориентации Нуреева, как вообще отразилась гомосексуальная сторона его личности на его творческом облике и какую роль сыграла в его жизни, — это все заслуживает более продуманного разбора.2. Уфимское детство
Родившись весной 1938 г. где-то в Сибири, в поезде, мчащемся во Владивосток, Рудольф Нуреев был как бы самой судьбой предназначен к скитальческому образу жизни и космополитизму В детстве его не раз перевозили — из Владивостока в Москву, оттуда в эвакуацию в Уфу. Он был и позже легок на подъем. Перебрался из Уфы в Москву, но не зацепившись там, рванул в Ленинград, учиться балету. К бегству в Париже он был в какой-то мере подготовлен своей натурой. Он не боялся новой среды. В будущем, когда он сказочно разбогатеет, у него окажется семь домов в разных странах и на разных континентах, он будет жить то в Париже, то в Лондоне, то в Нью-Йорке, иметь свой собственный остров в Италии и австрийское гражданство, но у него так и не будет своего отечества. Когда он посетил родину в конце своей жизни, в 1989 г., он огляделся вокруг, посмотрел на обшарпанные дома, на своих замызганных родственников, побывал в убогих квартирках друзей и прошептал своему телохранителю и массажисту Луиджи: «Почему мы не возвращаемся в Италию? Что мы тут делаем?» — «Но это твоя страна», — возразил Луиджи. — «Нет, — ответил Нуреев, — больше не моя» (Солуэй 2000: 545). В своей автобиографии, написанной вскоре после его побега на Запад, он подчеркивает три особенности своего детства — ужасающую бедность, татарские национальные качества (гордость, темперамент, хитрость) и рано проявившуюся любовь к танцу. Все три основаны на реальной действительности, но Нуреев совершенно обошел другие особенности своего детства. У него в детстве сложились те обстоятельства и проявились те качества, которые считаются у психологов характерными для формирования гомосексуальной психики и которые получили название «синдром девчонки в штанах» или «прегомосексуального мальчика» (Клейн 2000: 242–243). Рудольф был одним мальчиком в семье, состоящей полностью из женщин — мать и три старших сестры. Отец долго отсутствовал (был в длительных командировках, а затем на фронте). Появившись, не мог наладить общение с сыном — не одобрял его пристрастие к танцу, считая это женским занятием, обзывал его «балериной». Никак не мог приучить его к «мужским» занятиям — охоте, рыбалке. В дошкольное время Рудик рос слабым и хрупким, а это делало его объектом насмешек для сверстников. Он не мог играть в коллективные соревновательные игры с ними и, обидевшись на насмешки, бросался на землю и плакал. Предпочитал компанию девочек — сестер и их подружек, хотя и они звали его плаксой. В школе тоже ребята потешались над ним, но не за бедность, как он пишет в автобиографии, а за то, что он носил девчоночью одежду — своих старших сестер. Он остался нервным и, если задеть его, готов был упасть, кричать и дико плакать, чтобы показать всем, что его обидели. В школе и во дворе ребята издевались над ним за неспособность к спортивным играм и неумелое выполнение гимнастических упражнений. Единственной отдушиной для него были школьный танцевальный кружок и занятия по танцам в Доме пионеров. Это ему давалось, и тут он чувствовал себя на высоте. Между тем в школе на занятия танцами всегда гораздо легче заполучить девочек, чем мальчиков. Настоящим потрясением было для него посещение балета в Башкирском оперном театре. Он впервые оказался в таком роскошном зале — с хрустальными люстрами и бархатными сиденьями. «Я лишился дара речи… Я услышал «зов» «(Нуреев 1998: 61). Когда его сестра Роза приносила домой балетные костюмы и показывала их Рудику, он был в трансе. «И наступал момент райского блаженства. Я раскладывал их на кровати и разглядывал — просто пожирал глазами… Часами я разглаживал их, обонял их запах. Я был словно в наркотическом опьянении» (Там же, 63). Сейчас мальчики стали более пристрастными к одежде, к «тряпкам», а тогда это было чисто девчоночьей чертой. Для мальчиков, развивающихся по гомосексуальному пути, характерно сравнительно раннее появление сексуальных интересов, реакций и мастурбации. Пока Рудик был в детском саду, баню он посещал по воскресеньям вместе с сестрами и матерью — естественно, женское отделение. Когда же он перешел из детского сада в школу, еженедельно в баню его стал водить с собой отец. Впоследствии Нуреев рассказал Кеннету Греву, в которого был влюблен, как однажды, когда отец мыл его, у сына возникла эрекция. Отец был так рассержен, что по возвращении домой побил его (Солуэй 2000: 44). Это, конечно, глупо, но отец уловил, что тут есть какая-то ненормальность: в мужском отделении эрекции у мальчика возникать вроде бы нет повода — не на кого. В подростковом возрасте он занимался мастурбацией в уборной, которая помещалась на улице. Очевидно, это занятие требовало длительного уединения. Как он рассказывал позже приятелю, однажды он услышал шаги и через щель увидел приближающегося отца. Отец нетерпеливо стукнул в дверь. Рудик специально стал удовлетворенно постанывать, чтобы отец понял, чем он тут занят (Там же, 62). Это был своеобразный бунт против отца. На этом фоне аномалией в развитии подростка можно считать его неучастие в обычных подростковых ухаживаниях за девушками — об этом его равнодушии единогласно свидетельствуют бывшие соседи и друзья. Никаких свиданий, никаких любовных записочек. Девочки его не волновали. Вопрос о юношах остается без ответа. В автобиографии Нуреев пишет, что был в детстве и отрочестве предельно одинок. Однако опросом бывших соучеников и соседей установлено, что с детских лет и до позднего отрочества у него был один очень близкий и верный друг Альберт Арсланов, татарский мальчик, черноволосый с бархатными черными глазами, живший по соседству. Видимо, сочиняя свою автобиографию вскоре после побега, Нуреев умолчал об этой дружбе, не желая подвергать друга неприятностям. Через много лет, Арсланов подтвердил, что оба друга сидели в школе за одной партой и были неразлучны во всем, вместе увлекались занятием танцами, вместе поступали в кружки. В интервью, которое у него взяла Солуэй, приехав в Уфу, Арсланов уверял, что оба никакого представления о гомосексуальных отношениях не имели, и даже что никаких разговоров на сексуальные темы у них с Рудиком не было. Поскольку, по меньшей мере, последнее (то есть показание, что разговоров таких не было — это с 8 и до 17 лет!) маловероятно, очевидно, что Арсланов в своем интервью попросту не был вполне откровенен. Действительно, зная наши провинциальные нравы и представления, можно с полным основанием предположить, что пожилой татарин не собирался выкладывать столь интимные подробности приезжей иностранке для публикации в мировой печати. Уж если Рудольф и от отца-то мастурбацию не скрывал, то, надо полагать, от близкого друга скрывал и того меньше. Зная, сколь необуздан и ненасытен был впоследствии Рудольф в своих гомосексуальных похождениях, можно предположить, что в такой долгой и тесной дружбе с одним и тем же мальчиком — подростком — юношей он должен был раскрыться и в этом плане, но как далеко это могло зайти, сказать невозможно — это зависит и от второго участника. Разумеется, это все одни предположения, основанные на косвенных аргументах. Никаких прямых показаний у нас нет. А близость с женщинами? В женском обществе он чувствовал себя изначально лучше, чем в мужском. Кроме матери и сестер, ему помогали и покровительствовали в это время пожилая танцовщица Удальцова, работавшая в кордебалете у Дягилева и сосланная в Уфу, и другая питерская балерина Войтович, также из ссыльных (дочь царского генерала), преподававшая теперь танцы. Обе женщины внушали ему, что у него есть талант к танцу и что ему надо учиться в Ленинграде, в училище при Кировском театре.3. Юность на улице Росси
В Ленинграде он оказался очень поздно, уже семнадцатилетним актером Уфимского театра. Поселился у дочери Удальцовой и пришел, вихрастый, в коричневом лыжном костюме устраиваться стажером в училище. Шел 1955 год. На просмотре экзаменатор Вера Костровицкая сказала ему: «Молодой человек, вы можете стать блестящим танцовщиком, а можете — никем. Скорее никем». Он был принят. Менее энергичный Арсланов не успел поступить в Театральный институт в Москве и загремел в армию. В училище на улице Росси диковатый 17-летний юноша оказался в одной спальне с 19 мальчиками в возрасте от 9 до 15 лет. На ближайшей койке от него спал 14-летний Сергиу Стефанши из Румынии. Нуреев сразу же утвердил свое доминирование в спальне. Он положил под матрас свои ноты и картинки и велел Сергиу присматривать. «Если кто-нибудь тронет мои ноты — убью». Когда ему было угодно слушать Баха на проигрывателе, мальчики толпились под дверью снаружи. В вошедшего тут же летел башмак. Вернувшись из Кировского театра, он повторял не только мужские партии, но и женские. Зажигали свет, и он требовал: «Вставай, Серж, будешь девушкой, а я твоим партнером». Бывало и наоборот. Когда однажды Серж возвращался в общежитие через «Катькин сад», какой-то мужчина внезапно схватил его за яйца. Ничего подобного о поведении Рудольфа он не вспоминает. В училище Нуреев угодил в класс, который вел сам директор Шелков. Они сразу же невзлюбили друг друга. Шелков занял место отца, выражая презрительное неодобрение, но без отцовской доброжелательности. Он добивался жесткой дисциплины мелочными придирками и находил средства как можно сильнее уязвить самолюбие юноши: оставлял его без талонов на питание, без матраса, вырывал из рук записную книжку с адресами. Шелкова возмущали самовольные уходы юноши в город, его знакомства, его вольная прическа (слишком длинные волосы). Одним из воспитательных средств были долгие беседы в кабинете Шелкова о сексуальных интересах Нуреева (Стюарт 1998: 78). Рудольф подозревал, что за этим кроется нездоровый интерес самого Шелкова к этим вопросам. Когда кубинка Мения пожаловалась Шелкову на приставания одного грузинского студента, Шелков только рассмеялся. «Ну, естественно, он посмеялся. — отозвался Рудольф. — у него любовь с этим парнем» (Солуэй 2000: 95). Вряд ли это было истиной: о Шелкове не было таких слухов, но эта реакция Рудольфа показательна: он видел эти отношения и там, где их не было. Р. Нуреев и Александр Пушкин — преподаватель Ленинградского хореографического училища.
Р. Нуреев и Александр Пушкин — преподаватель Ленинградского хореографического училища.
Хитростью Нуреев добился перевода из шестого класса Шелкова в восьмой класс Пушкина (поводом послужило желание выгадать время для устройства и избежать призыва в армию сразу же после окончания). 48-летний Александр Иванович Пушкин был прекрасным педагогом — спокойным, деликатным и настойчивым. Он продержал Нуреева в восьмом классе два года. Под его руководством Рудольф стал делать быстрые успехи. Он и физически вырос, стал мужественным и очень привлекательным. Красивое худощавое лицо с выдающимися скулами и полными губами, зеленоватые глаза под густыми бровями, на лоб спадают светлые волосы. Широкие плечи, мускулистые руки и узкая талия. Он подружился с кубинкой Менией Мартинес и их часто видели целующимися, но большей физической близости между ним не было. Рудик говорил ей: «Ты еще маленькая. Закончим школу, поженимся». Когда друзья на вечеринке предоставили им одну кровать, они провели в этой кровати ночь, «но наши отношения были абсолютно невинными. Все, о чем хотелось говорить Рудику, это танец, танец, танец» (Солуэй 2000: 94). Из тогдашних учеников училища только Саша Минц, впоследствии тоже оказавшийся на Западе, был женственным и манерным. Он слыл гомиком и флиртовал с другими мальчиками в раздевалке. «Но, — добавляет Мения, — я никогда не слышала никаких разговоров о том, будто Рудик гомосексуалист, и он никогда со мной не говорил ни об одном мальчике». То ли этих интересов у него тогда не было, то ли он был очень скрытен. Его отношения с Менией весьма похожи на типичный для начинающих гомосексуалов маскировочный флирт с девушкой, флирт прикрытия, близкий к целительной любви, на которую они возлагают надежды, что она избавит их от пугающих желаний своего пола. Его соперником среди сверстников был фаворит всего училища Юрий Соловьев — высокий белокурый парень с нежными голубыми глазами. Он танцевал изумительно чисто и легко поднимался в воздух. В погоне за ним Рудольф вставал на высокие полупальцы, удлиняя ноги и весь силуэт, хотя в то время в балете это делали только женщины. Он соревновался в растяжках с балеринами. Все это придавало его танцу некоторую если не женственность, то двусмысленность. А его гибкость, энергия и темперамент плюс выразительность его красивого лица делали его танец чрезвычайно чувственным, сексуальным.
4. На сцене и за сценой Кировского
К окончанию училища его выбрала своим партнером Дудинская, жена Сергеева, художественного руководителя Кировского театра. Нуреева приняли в состав Кировского театра солистом, минуя кордебалет, впервые после Нижинского и Фокина. А Соловьева зачислили в кордебалет, и лишь позже он стал солистом. И, действительно, дебют Нуреева состоялся с Дудинской. Ей было 46, ему 21. Отзывы были великолепными. «Нуреев, — писала известная балерина Вечеслова, — … так захватил нас быстрым темпом танца, элементами полета, точной, порой ошеломляющей динамикой поз, что мы невольно думаем о большом будущем молодого артиста» (Там же, 107). Рудольф ознакомился и стал своим человеком в нескольких семьях ленинградской интеллигенции — у профессора Волькенштейна, специалиста по молекулярной физике; у Елизаветы Михайловны Пажи, работавшей в музыкальном магазине; у близнецов Любы и Леонида Романковых (Леонид был студентом Политехнического). Через много лет, когда один их общий приятель побывал на Западе и повидался там с Нуреевым, тот спросил: «Как поживают Любаха с Лехой?» и добавил: «Это была наверно моя первая любовь, только я не отдавал себе тогда в этом отчета». Когда приятель передал этот разговор Любе, она, польщенная, запротестовала: «Ну что ты, между мной и Рудиком никогда не было нежных чувств…». «Ты что, дура? — засмеялся приятель. — Ведь он имел в виду Леху, а не тебя!» (Рудольф 1995: 113). Но в те годы в Ленинграде он особенно освоился в семействе своего преподавателя Пушкина. Нурееву дали квартиру, но не отдельную, а на паях с другой выпускницей училища, Сизовой, его напарницей по балету. Полагали, что он может на ней жениться («Никогда!» — отреагировал на эти надежды Рудольф). С Сизовой он поместил свою сестру Розу, которая оказалась совершенно чуждой ему и весьма неуживчивой особой. Чтобы не встречаться с ней, он стал останавливаться на ночь у Пушкиных — они жили в доме училища, в однокомнатной квартире. Когда же Рудольф растянул связку и выбыл надолго из танцевальной практики, Пушкин пригласил его пожить у них до выздоровления. Барышников, который тоже жил у Пушкиных потом, описывает уютную и приятную атмосферу. «Стол был всегда полон еды, красиво сервирован — графины с вином, водкой, подсвечники, деликатесы. Атмосфера была очень теплой». Он отмечает, что жена Пушкина была «великолепной кулинаркой. Они с мужем редко ходили в рестораны. Все было свежее, с рынка». Теперь Пушкину был 51 год, а его жене Ксении Юргенсон («Ксане», как ее звал Рудик) 43. Она только что оставила карьеру балерины и свободное время пожертвовала «Махмудке», как они с Пушкиным прозвали Рудольфа. Она готовила, стирала, убирала за ним. Романковы дружили с Пушкиными домами. Люба Романкова видела, что Ксения «любила его деспотичной материнской, а может быть, и не только материнской любовью. Муж был намного старше ее и, по-моему, она была готова сделать для Рудольфа все, что угодно». Сам Рудольф рассказывал друзьям, что она соблазнила его и «была великолепна в постели». Что он часто занимался с ней любовью в гримерной во время антракта. Пушкин, очевидно, знал это и не возражал. Ему присутствие Рудика было приятно при всех условиях. Он в юности увлекался братом одной балерины, так что имел гомосексуальные склонности. Коллег его поведение удивляло. Когда однажды Рудик перетрудил ногу, Пушкин принес таз с водой. Аскольд Макаров вспоминает, что все уставились на него с изумлением. «Мне не трудно, — объяснил Пушкин, — а ему надо беречь ноги». Когда балерина Нинель Кургапкина зашла к ним и увидела крошечный закуток за шкафом, занятый огромной кроватью и диваном, она спросила: «А ты-то где спишь?» — «Я — здесь», — ответил он. «А где же Александр Иванович?» — допытывалась Нинель, видимо, не понимая неловкости своих вопросов. «Не знаю, — замялся Рудольф, — они там где-то спят». А позже, на Западе, он признавался друзьям, что к моменту отъезда из Ленинграда спал и с Ксаной и с ее супругом. Одна знакомая возмутилась: «Какой ты безнравственный!» — «Вовсе нет, — возразил Рудольф. — Им обоим это нравилось». В 1959 г. Мении Мартинес нужно было возвращаться на Кубу. Рудольф, несмотря на запрет отлучки, поехал провожать ее до Москвы. Они оказались вдвоем в купе. Обнимались, целовались, и Мения почувствовала, что Рудольф на сей раз не прочь заняться любовью (он уже имел теперь опыт такого общения с женщиной). «Я была девушкой, и вдруг Рудик сказал: «Нет, лучше не надо. Я слишком тебя уважаю. Не хочу причинять тебе боль». И все, больше он ничего не сказал. Я не видела ничего плохого в потере девственности, но дальше дело так и не пошло» (Солуэй 2000: 14). По-видимому, в общении с женщинами он предоставлял им активную роль. Он не добивался их. Он относился к Мении с максимальной приязнью, но без острого сексуального желания. В аэропорту расплакался: «Я больше никогда тебя не увижу». Возможно, Мения была для него утерянным пропуском на Запад. Он всегда крутился возле прибывающих с Запада на гастроли артистов. Усердно учил для этого английский и неплохо на нем разговаривал. Это не нравилось наблюдателям от КГБ, и, когда в Союз собирались приехать американцы со знаменитым датским танцовщиком Эриком Бруном во главе, а Рудольф очень ждал их приезда, его отправили на это время на молодежный фестиваль в ГДР. Он страшно горевал, в ГДР ему не нравилось, и он говорил друзьям, что впервые задумался о побеге именно в ГДР. Однако познакомился в Восточном Берлине с «очень милым мальчиком» из балетной школы. «В конце концов мы поцеловались, но не помню, кто проявил инициативу». Впоследствии этот мальчик стал педагогом в труппе Западного Берлина. Между тем слава Рудольфа Нуреева росла быстро и неудержимо. Несмотря на запрет, в Кировском театре его забрасывали цветами. На фестивале танца в Вене ему с Сизовой поставили (единственным из всех) высший из возможных баллов, который практически не ставится никогда — 10. Там, в Вене, он неожиданно встретил Мению и предлагал пожениться. Она не захотела. И была у Рудольфа в Ленинграде еще одна любовь, сильная и наиболее потаенная, — 20-летний артист, фигурирующий под именем Алексея, необычайно красивый и похожий на Жана Марэ. Он ездил в Париж за год до выезда труппы, встречался с Жаном Марэ, был приглашен к нему в гости и прибыл вместе с кагебешником (Стюарт 1998: 102–103). Он и сейчас жив, женат, и мы не будем называть его настоящее имя.5. Прыжок к свободе
«Прыжок к свободе» — так этот эпизод называется в автобиографии Нуреева, и под этим или схожими названиями он стал известен во всем мире. Во многих исторических обзорах и биографиях он передан по этому источнику. Между тем источник субъективен и очень ограничен. Нуреев многого не знал и кое-что путает. Так он перепутал даже день, когда это происходило в Парижском аэропорту Ле Бурже. Автобиография указывает 17 июня 1961 г. Понятно, Нуреев родился 17 марта, ехал в Ленинград 17 августа, поступил в училище 17-летним. «Будучи суеверным, не могу не чувствовать, что есть какой-то скрытый смысл в повторении в моей жизни важных событий именно 17-го числа…» (Нуреев 1998: 92). Вот у него в памяти важное событие и сдвинулось с 16-го на 17-е, хотя достаточно было взять газеты того времени, чтобы убедиться: 16-го! Не совсем точно рисует Нуреев и свое поведение в те решающие часы. Он был куда более повергнут в панику и истерику. А о том, что делали другие, включая руководство труппы и кагебешников, он просто не знал и строил догадки, часто неверные. Его не должны были взять на гастроли в Париж в 1961 г.: молод, недисциплинирован, не комсомолец. Но французы выразили пожелание видеть не пожилых Сергеева и Дудинскую, а новое поколение, из молодых же Нуреев был наиболее зажигателен для публики. Он стал козырной картой в колоде, и его в последний момент вставили в список выступающих — как премьера, в ролях Сергеева! С самого начала в Париже Нуреев затеял контакт с французами. На улице он медленно, словно кошка, подобрался к французским артистам и на хромом английском объяснил, что ему не очень-то разрешается разговаривать с ними, но он хотел бы знать, что они думают о Кировской труппе. Те пригласили его пойти с ними, но на это уж точно потребовалось разрешение начальства. Французы обратились к Сергееву и Дудинской (они возглавляли труппу как «консультанты»), и тем ничего не оставалось, как разрешить. Р. Нуреев. 1960 г.
Р. Нуреев. 1960 г.
Нуреев взял с собой Соловьева, а при расставании намекнул французам, что хотел бы продолжить контакты. Так и повелось. Французы каждый вечер таскали его по Парижу, а когда он возвращался, его встречал зам. директора театра Стрижевский и шипел: «Как вы смели возвратиться после положенного часа!» Рудольф, окинув его ненавидящим взглядом, шел к себе в номер. Стрижевский был тем самым замом, который тогда состоял при каждом крупном директоре для политического наблюдения за кадрами. На деле он был капитаном КГБ. При нем был еще один агент от местной резидентуры. Но на сцене Нуреев имел бешеный успех. Критики говорили, что такой рев публики они слышали только на бое быков. «Фигаро» писала о Нурееве как о «бриллианте в короне» Кировского театра. После дебюта Нуреев познакомился с дочерью богатого аргентинца и чилийки Кларой Сент, невестой сына французского министра Андре Мальро. Они стали проводить время вместе, и для Клары это было утешение, потому что в это время погиб ее жених. Стрижевский донес в Москву, что Нуреев «установил тесные связи с политически подозрительными личностями». Соловьев, деливший в течение пяти недель один номер с Рудольфом, очень боялся, что такое поведение Рудольфа отразится на них обоих. Вскоре в их номере разгорелся какой-то скандал. Послышались крики, и Соловьев вытолкнул Нуреева в коридор. Артисты говорили между собой, что скандал получился из-за массажа, во время которого Нуреев стал якобы приставать к Соловьеву. Сам Нуреев гораздо позже навопрос своей бывшей одноклассницы Чернышевой, приставал ли он к Соловьеву, ответил: «Ну, конечно. У него такая прелестная попка». Жена Соловьева Татьяна Легат впоследствии рассказывала: муж «был так ошеломлен приставанием Рудика, что ударил его по лицу». Подозревали, что Соловьев нажаловался кагебешникам в Париже. Сам он под шофе признавался в этом той же Чернышевой (Солуэй 2000: 190–192). Стюарт подозревает, что этот эпизод и послужил основанием для решения отправить Нуреева домой. Однако решение было принято раньше, а в донесении главы КГБ «железного Шурика» Шелепина в ЦК о бегстве Нуреева нет ни слова об этом эпизоде. По-видимому, КГБ придерживался своих принципов не выдавать источник информации, — тем более что Соловьев теперь заменил Нуреева в ранге премьера на гастролях. Единственный намек на то, что КГБ ассоциирует Нуреева с гомосексуальностью была фраза в донесении Шелепина, что Нуреев «установил близкие отношения с французскими артистами, среди которых имелись гомосексуалисты» (Там же, 176). Уже 1 июня Стрижевский и резидент КГБ из советского посольства в Париже сообщили в Москву, что поведение Нуреева становится нетерпимым, и его лучше немедленно отправить домой. ЦК срочно созвал совещание, на которое вызвали ленинградского первого секретаря. Через два дня в Париж ушел приказ: отозвать Нуреева. Этот приказ ошеломил Сергеева и его приближенных: Рудольф только что получил престижную премию Нижинского, и публика шла смотреть именно его. Сергеев, ссылаясь на мнение посольства, сообщил в Москву, что Нуреев стал вести себя лучше, что он своими успехами содействует престижу страны, и с отзывом лучше повременить. 6-го Москва, однако, повторила отзыв. Сергеев опять ослушался, играя с огнем. Нуреев считал его инициатором гонений, тогда как Сергеев отстаивал его, сколько мог. Третья, категорическая, директива Москвы пришла 14-го, за два дня до отлета труппы в Лондон. Пришлось подчиниться. Решено было 16-го, в день отлета, отправить Нуреева в Москву, причем Стрижевский должен был доставить его лично. Когда вещи Нуреева уже погрузили вместе со всеми в самолет на Лондон, его отвел в сторону Сергеев. «Рудик, ты не едешь с нами сейчас, — сказал он. — Хрущев хочет, чтобы ты прибыл в Москву и танцевал на специальном концерте в Кремле». Он объяснил, что Нуреев должен остаться и через два часа на ТУ улететь в Москву, а потом присоединиться к остальным в Лондоне. Рудольф побелел. Он все понял и бросился к своим французским друзьям. Прося помощи, он плакал и бился головой об стенку. Французские артисты боялись что-либо предпринимать: они не хотели ссориться с советскими властями, чтобы не терять гастролей в СССР. Один из них вызвал по телефону Клару Сент, знакомую с министром. Через 25 минут та примчалась на такси и увидела, что Рудольф зажат между двумя крупными мужчинами. Она подскочила к нему якобы попрощаться, обняла и спросила на ухо: «Хочешь остаться во Франции?» Он шёпотом умолял помочь. Она вышла и бросилась к французским полицейским. Те объяснили, чту нужно делать: они в штатском пройдут в бар, где Нуреев находится, и он сам должен будет обратиться к ним. Она еще раз подошла попрощаться с Рудольфом и между поцелуями передала это ему. Через несколько минут он вскочил со стула и, пробежав шесть шагов к полицейским, крикнул по-английски: «Я хочу остаться во Франции!» Стрижевский со своим помощником бросились и схватили его, но полицейские вступили с ними в борьбу, напомнив: «Вы во Франции!», отняли пленника и увели. Примчался советский атташе Михаил Клейменов, прорвался в комнату, где находился Нуреев, и после ряда угроз спросил: «Вы отказываетесь вернуться на свою великую родину?!» — «Да, отказываюсь» — отвечал Нуреев. Тут Клейменов залепил ему пощечину, и его оттащили. Нуреева увезли, и Клара спрятала его у своих знакомых. У ее дома и домов других французских друзей Рудольфа дежурили советские агенты. За самой Кларой везде тащились около сорока фоторепортеров. Побег Нуреева моментально стал новостью номер один мировой прессы и оставался на этом уровне в течение ряда недель. Поскольку это был первый такой случай, в Москве он рассматривался как ЧП. Тоталитарная система пропаганды за границей путем культурных контактов на привязи дала трещину. Недаром сейчас пишут, что Нуреев был предшественником не только Михаила Барышникова, но и Михаила Горбачева. Было созвано срочное заседание Комитета госбезопасности, и за 48 часов Шелепин подготовил донесение в ЦК КПСС. Вот его текст: Совершенно секретно «Докладываю, что 16 июня 1961 года в Париже изменил Родине НУРЕЕВ Рудольф Хамитович, 1938 года рождения, холост, татарин, беспартийный, артист балета Ленинградского театра им. Кирова, находящийся в составе гастрольной труппы во Франции. 3 июня сего года из Парижа поступили данные о том, что НУРЕЕВ Рудольф Хамитович нарушает правила поведения советских граждан за границей, один уходит в город и возвращается в отель поздно ночью. Кроме того, он установил близкие отношения с французскими артистами, среди которых имелись гомосексуалисты. Несмотря на проведенные с ним беседы профилактического характера, НУРЕЕВ не изменил своего поведения. Комитет госбезопасности по согласованию с Комиссией по выездам за границу при ЦК КПСС в тот же день дал указание резидентуре КГБ в Париже об отзыве НУРЕЕВА в СССР». Далее в тексте сообщалось об отсрочках по инициативе посла и о крахе попыток задержать Нуреева.
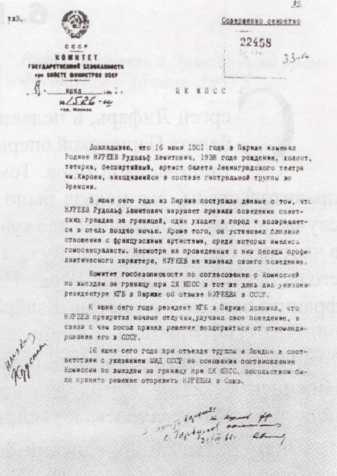 Донесение на Р. Нуреева
Донесение на Р. Нуреева
Между тем измученный Рудольф метался и рыдал в своем заточении. Он боялся похищения агентами КГБ и не знал, что делать. «Я никогда не думал, что так случится» — в слезах сетовал он. Он и позже повторял это корреспондентам. Это явная неправда. Еще общаясь с Менией, он разглядывал фото балетов в иностранных журналах и говорил: «Я в этих театрах тоже буду танцевать» (Солуэй 2000: 91). В Вене он сказал Ролану Пети, что надеется когда-нибудь танцевать на Западе (Там же, 117). Друзьям он позже говорил, что впервые всерьез задумался о побеге во время поездки в ГДР (Там же, 137). «Что бы ты сказал, если бы я остался на Западе?» — спрашивал он Леонида Романкова за неделю до отъезда в Париж. «Это тебе решать», — отвечал тот, и Рудольф завершил: «Забудь эти слова» (Рудольф 1995, 93). Вот сейчас его мечта исполнилась, хотя момент, действительно, выбрал не он. Но он быстро сообразил, что у него теперь есть не только шанс проявить себя в искусстве, но и абсолютно неизвестные ранее финансовые возможности. Уже через два месяца он сказал репортеру: «Здесь, на Западе, я собираюсь просить столько денег, сколько могу получить». Он сразу же стал получать восемь тысяч долларов в месяц, став самым высокооплачиваемым танцовщиком в мире, а еще через несколько лет он будет брать подобные суммы за каждое выступление. Несколько позже по настоянию КГБ родственники и друзья писали ему письма, уговаривая вернуться. Мать Фарида дозвонилась ему на фешенебельный курорт Довиль и умоляла: вернись. «Мама, — перебил он ее. — Ты забыла задать мне один вопрос» — «Какой?» — спросила она. «Счастлив ли я». Она послушно задала этот вопрос. «Да», — ответил Рудольф — ей и КГБ (Солуэй 2000: 190). Тем временем в Ленинграде состоялся суд над изменником Родины. Приговор был сравнительно мягкий — с оглядкой на необходимость продолжать политику разрядки. Статья допускала смертную казнь, но ему дали семь лет заключения с конфискацией имущества. При жизни Нуреева приговор не был отменен. Неизвестно, как оценивал Соловьев свою роль в этой истории, но через несколько лет он покончил с собой.
6. Рядом с Эриком Бруном
Сергей Лифарь, в недавнем прошлом многолетний руководитель балета Парижской оперы, провозгласил Нуреева одним из лучших танцовщиков мира. Тем не менее в эту труппу, субсидируемую правительством, его нельзя было принять: Советы объявили, что в этом случае прервут с Францией все культурные контакты. Рудольфа пригласили в частный балет маркиза де Куэваса, и на первом выступлении танцовщика его вызывали под занавес 28 раз. Но на одно из дальнейших прибыла группа французских коммунистов и забросала сцену помидорами и бумажными бомбами, начиненными перцем. «Предатель!» — кричали они. Зато на следующем спектакле овации поклонников были еще сильнее. Бронислава Нижинская сказала: «Это новое воплощение моего брата». Скандал только подогревал славу Нуреева и усиливал «рудиманию». Знаменитый американский фотограф Ричард Авидон сделал серию снимков Рудольфа, в том числе и полностью обнаженного (эти он долго не публиковал — до 1967 г., когда такой снимок появился в декабрьском номере «Вог»). Другая американка — Мария Толчиф, самая известная американская балерина того времени, нашла Рудольфа, моментально влюбилась и поселилась с ним, ухаживала за ним, массировала ему ноги, в то время как он слушал музыку. Рудольф признавался друзьям, что когда он занимался сексом с женщиной, в голове он воспринимал это как мастурбацию (Солуэй 2000: 207). Для 23-летнего татарина в этой 36-летней американке с индейскими корнями самое интересное было то, что она была в прошлом женой датчанина Эрика Бруна, идола юношеских лет Нуреева. Когда осенью того же года от Эрика прибыло приглашение его бывшей жене танцевать вместе с ним на концерте в Копенгагене, Рудольф поехал вместе с ней.
Эрику было 32 года, и он слыл наиболее совершенным из танцовщиков. Чрезвычайно требовательный к себе, он был воплощением стиля и благородства в танце. «Я поприветствовал Мэри, — вспоминал Эрик, — и тут же сидел этот молодой танцовщик, небрежно одетый в джинсы или слаксы. Я сел, посмотрел на него повнимательнее и увидел, что он весьма привлекателен. У него был определенный стиль… некий класс. Это нельзя назвать естественной элегантностью, но это каким-то образом производило впечатление». В Бруне Рудольф увидел свой идеал. Высокий блондин, элегантный, длинноногий, с отточенной техникой, он танцевал необыкновенно чисто и поэтично. Он тоже вырос в семье без отца, с матерью и тремя сестрами — как нарочно, точно как у Нуреевых. Подобно Рудольфу, он больше тянулся к мужчинам. Они по уши влюбились друг в друга и выразили желание остаться одни. Толчиф закатила истерику, но ей пришлось уехать. Рудольф непрерывно учился у Бруна, старательно копируя его исполнение. Постепенно Брун начал ревновать Рудольфа к публике. Он никогда не имел у нее такого приема, несмотря на все совершенство своей техники. Его изумляла истерическая слава Нуреева. Они были очень разные. Эрик был всегда сдержанным, контролировал все свои поступки, а Рудольф — неровным и спонтанным. Эрик много пил, Рудольф этим не увлекался. Эрик был весьма целомудренным, а Рудольф обладал непомерными аппетитами в сексе и был крайне неразборчив. Эрик не проявлял своих эмоций, а Рудольф требовал полной отдачи и стремился открыть в своем друге такие глубины страсти, которых тот и сам не подозревал. Это тревожило его, и он начал избегать Рудольфа.
7. Уникальный дуэт
В Копенгагене Рудольф брал также уроки у Веры Волковой, ведущего британского педагога русского происхождения. Волковой позвонили от величайшей балерины Англии Марго Фонтейн, чтобы разузнать, где находится и что собой представляет Рудольф Нуреев. «Он здесь», — ответила Вера. Последовало приглашение Нурееву приехать в Лондон и танцевать в концерте с Фонтейн. Он был младше ее на двадцать лет, но такова была и разница с Дудинской, а танцевал же успешно. В Лондон он приехал инкогнито, опасаясь слежки КГБ, но после концерта возникла массовая истерия публики, и две тысячи зрителей подписали петицию с просьбой взять его в Лондонский балет. Ранее было намечено пригласить не его, а Эрика Бруна в качестве партнера Фонтейн, и тот снимал вместе с Рудольфом комнату в Лондоне. Теперь Брун отпал. Партнером Фонтейн стал Рудольф Нуреев. Эрик уехал во Флоренцию, оттуда в Австралию. Рудольф очень горевал. Он помчался в Австралию с пересадкой в Египте и там едва не попал в руки арабской полиции, которая бы его выдала Советам (при обыске самолета прятался в туалете). Нуреев с Фонтейн в Ницце, 1963 г.
Нуреев с Фонтейн в Ницце, 1963 г.
Перед сезоном в Лондоне Рудольфа пригласили дать выступление в Нью-Йорке, но не в прославленном «Метрополитен-опера», а в Бруклине. Он согласился, но потребовал не 400 долларов за выступление, обычный гонорар для звезды, а $2500. Заплатили беспрекословно. Вначале Нуреев по советской привычке не доверял банкам и хранил деньги кучами под ковром, но потом завел себе евреев-консультантов по финансам и по их совету основал в княжестве Лихтенштейн, где наименьшие налоги, подставную фирму, которая и стала получать все его гонорары. Эрик завидовал баснословным гонорарам Рудольфа и его неиссякаемой энергии, а Рудольф беспокоился, как бы Эрик не превратил его в алкоголика. Сотрудничество их иногда возобновлялось, но семейная жизнь более не восстанавливалась. Рудольф очень многому научился у Фонтейн, а она обрела с молодым партнером новые силы и не только восстановила выполнение тех па, которые она выделывала только будучи молодой, но и достигла новых высот. Чему Фонтейн не могла обучить Рудольфа, это хорошим манерам. Руководитель рекламы Королевского балета описывает художнику театра Битону репетицию с Нуреевым так. На сообщение автора письма о паблисити Нуреев «издал нечто вроде рычания, как пантера, швырнул через всю комнату поднос с чашками чая, сорвал с себя рубашку (Вашу) и наступил на нее… Он вообще не пытался танцевать, с ненавистью третировал Марго, бросил ее в сторону, стащил с себя рубашку и кинул в оркестр, заорал на Ланчбери (дирижера. — Л. К.), пригвоздил нас всех дьявольским взором, замахнулся хлыстом на помощника режиссера и в целом продемонстрировал такой набор дурных манер, что мы дрогнули и исчезли с глаз долой в полном ужасе».
 Нуреев с Жаклин Кеннеди, май 1967 г.
Нуреев с Жаклин Кеннеди, май 1967 г.
Глава Королевского балета мадам Нинетт де Валуа все терпела. Терпела то, что не позволяла никому. Потому что млела в его присутствии и потому что Нуреев собирал полные залы. Когда они с Марго появились в Нью-Йорке в «Метрополитен-опера», присутствовала первая леди Амери ки Жаклин Кеннеди. Позже она рассказывала: «Помню их вызывали сорок раз. Руки у людей распухли, стали черно-синими. Глядя на них, можно было компенсировать упущенных Нижинского и Шаляпина. Это было одно из сильнейших художественных впечатлений в моей жизни…» Миссис Кеннеди прислала в Нью-Йорк личный самолет за Нуреевым и Фонтейн для доставки их в Белый дом. Она стала подругой Нуреева. На спектакле в Вене Нуреева с Фонтейн вызывали 89 раз — это попало в «Книгу рекордов» Гиннеса. Были они с Фонтейн любовниками или нет, не совсем ясно. Фонтейн без памяти любила своего мужа, посла Панамы в Британии, Тито Ариаса и даже помогала ему в политических заговорах, за что однажды попала в тюрьму. Когда его подстрелил ревнивый муж его любовницы и Тито остался навеки парализованным, она отрывалась от балета, чтобы ухаживать за ним — и делала это двадцать пять лет. Однако Рудольф хвастал, что Марго нравилась плотская связь с ним. В 1977 г. они провели последний сезон вместе. Без Фонтейн Нуреев по лучал все меньше выступлений в Королевском балете Англии, и после 15 лет работы Нуреев был вынужден покинуть труппу А еще через два года шести десятилетняя Марго Фонтейн дала свой прощальный концерт, и Нуреев был с ней на сцене. Впрочем, в 1981 г., через 20 лет после его побега, Фонтейн и Нуреев снова появились на сцене Метрополитен-опера в «Ромео и Джульетте», но это уже вызывало недоумение публики: почему 43-летний Нуреев, 45-летняя Фраччи (Джульетта) и 62-летняя Фонтейн выступают в ролях подростков и молодых? Танцевать Нурееву было уже трудновато: на правой пятке образовалась шпора, отныне она давала боль при каждом шаге.
8. Женщины Нуреева
Таким образом, если в России его связи с женщинами ограни чивались навязанным ему романом с Юргенсон и, возможно, связью с балериной Кургапкиной, да еще нереализованным ухаживанием за кубинкой Менией, то на Западе его любовницами оказались такие блестящие дамы, как Марго Фонтейн, Мария Толчиф, княгиня Радзивилл. Поклонницами Нуреева были принцесса Фирьял и баронесса Ротшильд. С конца 70-х годов он проводил почти каждое Рождество в замке барона Ротшильда под Парижем. «С женщинами я могу добиваться чего хочу, — говорил он хореографу ван Данцигу, — но мне они не нужны. Они выводят меня из себя». Когда он постарел, по-прежнему его поклонницы ухаживали за ним, хоть он их и третировал. Богатая чилийская наследница Дус Франсуа, влюбленная в Нуреева, коротко остригла себе волосы, чтобы походить на мальчика. Она надеялась пробудить в Рудольфе влечение к себе и стала его добровольной рабыней, сопровождая его даже в ванную. Своей приятельнице Сеймур он как-то, оглянувшись, сказал: «Считают, что я ненавижу этих чертовых баб, а в действительности я ими окружен». Он был если не женоненавистник, то во всяком случае мизогин. «Возможно, я паршивый мужской шовинист, — признавал он, — но я считаю, что мужчины обладают более организованным умом и могут лучше абстрагироваться от своей природы и свойств характера. Мужчины лучше реагируют на музыку. Они лидируют в изобразительном искусстве и архитектуре. Мужчины лучшие солдаты, лучшие повара и вообще лучшие во всем. У них также более высоко развиты интеллект и чувства. Так и должно быть…». Когда Нурееву предложили балет о подростке, который увлечен другом, но и привязан к девочке, Нуреев спросил: «Расскажите о чем балет. Его герой любит мальчиков?» Ему объяснили, что герой еще не разобрался — его тянет и к тем и к другим. «Значит, это глупый мальчик», — отозвался Нуреев (Солуэй 2000: 381). С женщинами он был совершенно бесцеремонен и груб. В Канаде танцуя с Карен Кейн, он показал ей знаком, на какое расстояние она должна пройти на пуантах — на расстояние пениса. Это оказалось значительное расстояние (Там же, 411). Когда она очень устала после занятий, он сказал ей: «Я знал, что вы сможете это сделать. У вас и у Марго есть сила воли. Я родился только с двумя яйцами, а вы обе — с тремя» (Там же, 413). Джоан Тринг была администратором его гастролей. За отказ продать старые билеты (как автографы?) он влепил ей пощечину. Когда они опаздывали на спектакль из-за пробки на дороге, он орал: «Сука! Сука!» За недогадливость (не заказала ему номер на двоих — с Бруном) выругал ее наедине по-русски. Через несколько минут Тринг справилась у обоих, что же это такое «pizdyushka». Рудольф превратил это в ее прозвище (Там же, 298, 369).9. Мальчики Нуреева
Однако Тринг оказалась чрезвычайно полезной ему, так как он любил только настоящих мужчин, не женственных, нередко гетеросексуальных. Присмотрев кого-нибудь, посылал для за вязки знакомства сначала Тринг полюбезничать, а потом она забрасывала нового знакомого на квартиру к Рудольфу и смывалась. Дирижер Ланчбери свидетельствует, что в мире геев хорошо знали Нуреева. Он приходил в гей-бар, выбирал молодого парня, договаривался о цене и уводил его. Когда в Лондоне Нуреев давал обед, пригласив много важных гостей, ему сообщили, что внизу ждут два молодых человека, которым он назначил свидание, но позабыл об этом. Рудольф поднялся с ними наверх, и гостям пришлось ждать. «Он ест их, как блины!» — воскликнула Тринг. Через полчаса Рудольф вернулся, распаренный, с озорным блеском в глазах. Когда кухарка подала ему подогретое блюдо, он сказал: «Это очень вкусно!» — но было непонятно, к чему это относится — к блюду или к только что упомянутым Тринг «блинам» (Там же, 386). Рудольф «любил красивых мальчиков. Если ему кто-то нравился, он выбирал его, словно кусок пирога» (Там же, 370–371). В Париже на обеде у Сен-Лорана, который одевал его бесплатно, Нуреев встретил привлекательного 19-летнего студента-декоратора и тотчас пригласил его приезжать к нему в Лондон каждый уик-энд, велев Тринг оплачивать перелеты. Ждал его с парой комнатных туфель у двери, боясь, что «малыш» мог замерзнуть в дороге. Этот студент, Франс Дюваль, впоследствии видный деятель французской культуры, вспоминает: «Рудольф был очень ласковым и нежным. Он не любил много говорить, но даже немногих слов было достаточно, чтобы понять его желания». Студент спал с ним в большой кровати эпохи Тюдоров, сопровождал Рудольфа на репетиции и в поездки по магазинам, но связь их была недолгой. В 1967 г., в Нью-Йорке взглянув на Хайрема Келлера, недавнего официанта, сыгравшего главную роль в «Сатириконе» Феллини, Нуреев, оценив поразительную красоту юноши со смуглой кожей и голубыми глазами, пригласил его с собой на гастроли. Тот вспоминает: «Он надеялся, что я стану его дружком, и я подумал — почему бы и нет? Когда тебе двадцать один год и… величайший танцовщик эпохи приглашает тебя на гастроли — вперед!» Но продержался он в свите недолго — до следующего города, Бостона (Там же, 365–367). В Нью-Йорке же во время репетиций «Лебединого озера» в «Метрополитен-опера» Нуреев уставился на красивого и талантливого 19-летнего танцовщика Робера Ла Фосс — с мальчишеским лицом, голубыми глазами и длинными светлыми волосами. «Он, — вспоминает Ла Фосс, — смотрел на меня целых пять минут, сидя на троне в роли принца». После спектакля пригласил Робера в свою уборную. Ла Фосс знал от своего брата, что Рудольф хорошо известен в гей-банях. «Я находился в том возрасте, когда мое либидо было на высшем уровне, и приглашение Рудольфа Нуреева, естественно, возбуждало. Это не тот случай, когда можно ответить «спасибо, нет». Когда я вошел, он сидел там обнаженный, желая продемонстрировать мне себя. Ему было что показать, и он явно этим гордился». В тот вечер продолжения не последовало, но через несколько месяцев Нуреев, встретив Ла Фосса, усадил его в свой лимузин и увез на неделю с собой. Однако надежды Фосса на длительный роман не оправдались. «Это было фантастично, но я интересовал его только как привлекательный малыш. Он был в высшей степени сексуален, но нисколько не влюблен. Я чувствовал себя обманутым» (Там же, 461–462). Не все отвечали на его авансы немедленной готовностью. В 1969 г. в Париже Рудольфу приглянулся красивый и талантливый 21-летний танцовщик Шарль Жюд. Рудольф всячески обхаживал его, но тщетно. Когда однажды Жюд не пришел на вечер в клубном ресторане, куда по просьбе Рудольфа его пригласила аккомпаниаторша Элизабет Купер, Рудольф стал орать на нее: «Сука! Я хочу Шарля!» Когда же он сообразил, что ничего не выйдет, он сделал Шарля своим любимым учеником и партнером в танце (Там же, 428). Когда в Вене он ставил «Лебединое озеро», ему приглянулся молодой танцовщик Михель Биркмейер, миловидный с темными кудрями. Чем больше тот отбивался, уверяя, что он гетеросексуальный и это ему не подходит, тем больше это раззадоривало Рудольфа. «Майки, — говорил он, — откуда ты знаешь? Ты же никогда не пробовал». «Но я просто не мог, даже будучи мальчишкой, — говорил Биркмейер, уже став лидером труппы. — А он не оставлял попыток и когда мне подходило к пятидесяти» (Там же, 337). Не брезговал он и просто случайными связями в барах и где угодно. В Австралии во время турне с Марго Фонтейн он в антракте набросил купальный халат и в парике и гриме выскочил к общественному туалету неподалеку. Там, стоя на коленях перед молодым красивым парнем, он выполнил ритуал перед местными зрителями иного пошиба, чем в театре, а затем вернулся в театр, не извинившись за слишком долгий антракт (Стюарт 1998: 205). Сол Юрок учел потребности Нуреева, и по договоренности с ним к Нурееву был приставлен русский старик, обязанностью которого было поставлять ему мальчиков во время гастролей. В переговорах о съемках кино с режиссером Тобаком, Нуреев ожидал, что в договор войдет пункт о поставке мальчиков. «Не думаете же вы, что я смогу обходиться без секса больше десяти — одиннадцати часов». Пункт был отклонен, но время от времени Нуреев удалялся в свой трейлер с одним из сексапильных мальчиков (Нуреев называл их «кусками мяса» — «beaf-boys») и возвращался, полный энергии. Активист движения геев Майкл Келлен вспоминал оргию в нью-йоркской бане, где Нуреев имел дело с четырьмя огромными неграми (Там же, 210).10. Любовники в услужении
 Уоллс Поттс, 1974 г.
Уоллс Поттс, 1974 г.
Эрик был его единственной любовью. Но из остальных не все были «мальчиками на ночь». Дважды привязанность оказывалась длительной и дружба продолжалась годами. Правда, очень односторонняя дружба. Во время турне по Соединенным Штатам в конце 60-х Рудольфу представились знакомые Келлера — предприниматель со своим бойфрендом. На вопрос, примет ли он их, Рудольф только спросил: «А этот мальчик красив?» Мальчик оказался красив: высокий атлет 21 года с темно-каштановыми волосами. Рудольф принял их в комнате с зеркальным потолком и тотчас предложил этому мальчику — Уоллсу Поттсу — сопровождать его. Поттс, учившийся на кинорежиссера, был покорен с первого взгляда. Поселившись в доме Нуреева у Ричмонд-парка в Лондоне, он надолго стал постоянным бойфрендом Нуреева и мальчиком на побегушках. Рудольф деспотически с ним обращался, и Поттс выглядел несчастным. Хореограф Королевского балета Фред Эштон, сам имевший любовника, отвел Нуреева в сторону и сказал: «Слушай, Рудольф, такие хорошенькие мальчики попадаются нечасто, а когда-нибудь даже ты станешь старым и безобразным. Почему бы тебе с ним не поладить?» Но Нуреев предъявлял своим бойфрендам невыносимые требования: он хотел, чтобы они полностью отказались от собственных интересов, жили только обслуживанием его персоны, по сути были даровыми слугами. «Он не понимает, что я должен заканчивать учебу», — жаловался Поттс. Поттс уехал, но вскоре вернулся и продолжал рабски служить Рудольфу. Он отказался от своей карьеры, и Рудольф увез его в Европу. Поттс сопровождал его семь лет, потом удрал, чтобы что-то сделать самому. Но время было утеряно. Он снял гомосексуальный порнофильм, потом психологический триллер, но так и не смог сделать успешную карьеру. С Рудольфом они остались друзьями. На смену пришел другой любовник и помощник.
 Нуреев и Роберт Трейси.
Нуреев и Роберт Трейси.
Нуреев страстно жаждал работать у Баланчина, но мэтр долго уклонялся, говоря, что танцевать в его сухой манере после балетов с принцами и сильфидами трудно. Наконец согласился, но к этому времени заболел. Работать над его балетом «Мещанин во дворянстве» пришлось с его помощниками. Во время работы в 1976 г. Рудольф обратил внимание на одного парня в кордебалете. Роберту Трейси было 23 года и он был сыном учителя английского, смышленым и образованным (изучал латынь и греческий). Хрупкого телосложения, с густыми каштановыми кудрями, свисающими на лоб, он обладал длинными ногами и высоко прыгал, но не считался особо одаренным. Рудольф пригласил его на чай к себе в отель. «Там все и началось, — вспоминает Трейси. — В тот день он меня соблазнил». Ну, не был бы готов к соблазну, не поддался бы (как мы видели, это было вполне возможно). Трейси думал, что он нужен был только для мимолетного наслаждения, но Нуреев пригласил его назавтра и был недоволен, что тот не пришел. Трейси удивился: «Вы действительно хотите, чтобы я пришел к вам? Я?» На следующий день Трейси переселился в апартаменты Нуреева. Рудольф представил Трейси своим друзьям — Жаклин Кеннеди-Онассис, Мику Джэггеру и другим. «Это мой друг Роберт Трейси». Те вспоминали, что Роберт выгодно отличался от других бойфрендов Рудольфа. С ним было можно сидеть за столом. Это был воспитанный и образованный молодой человек с хорошими манерами. Поскольку Дюваль еще приезжал из Парижа, Рудольф спросил Трейси: «Что ты собираешься делать, когда мой бойфренд приедет из Парижа?» — «Исчезнуть», — отвечал Трейси. Но парижанин приехал больной сифилисом. Любовных услад не получилось, и Трейси пришлось присматривать за больным. Нуреев, разумеется, быстро обратил Трейси себе в услужение. «С первого дня — рассказывал Трейси впоследствии, — Рудольф будто проверял меня, прося то заварить и подать ему чай, то сбегать за кока-колой… Он хотел, чтобы друзья по совместительству были ему и слугами, поскольку был слишком скуп, чтобы оплачивать настоящих». Трейси говорил, что когда они встретились, он играл лакея в «Мещанине», и, с горечью добавлял он, я «оставался лакеем последующие тринадцать лет». Но и Трейси извлек пользу из близости с Нуреевым: он многому научился на репетициях с ним и танцевал в хороших ролях. В 1981 г. приревновав Трейси к красивому венесуэльскому юноше, который подвез Трейси к отелю, Рудольф поставил ему синяк под глазом. Потом приревновал к своему новому увлечению — итальянскому танцовщику. Трейси ушел к графине Джованне Августе. Нуреев снял его с роли Голубой птицы в «Спящей красавице».
 Рудолъф на репетиции «Ромео и Джульетты», декабрь 1991 г.
Рудолъф на репетиции «Ромео и Джульетты», декабрь 1991 г.
Через восемь месяцев они помирились, но уже только как друзья. Трейси был поселен в нью-йоркской квартире Нуреева как его управляющий и секретарь по связям. Там он прожил последующие десять лет — почти до смерти Нуреева. Незадолго до смерти адвокат Нуреева выселил Трейси и тот подал иск: вложив труд и потеряв здоровье, он требовал возмещения. Вопрос уладили, и Трейси потом работал в Фонде Нуреева.
11. Директор в Гранд-Опера
Потеряв место в Лондоне, Нуреев был приглашен в Париж. После ухода Сержа Лифаря в 1958 г. с поста художественного руководителя балета Гранд-Опера в Париже труппа сменила 8 директоров и пришла в упадок. Требовалось динамичное руководство. В 1983 г. решено было при гласить Нуреева. Он поставил свои условия: он будет в Париже только 6 месяцев в году не подряд — это чтобы избежать французских налогов. Он приступил к директорству, несмотря на начавшееся странное потение по ночам и участившиеся простуды. Видимо, он понимал, ЧТО это может означать. В том же году обеспокоенный частыми простудами Нуреев посетил врача-венеролога и дерматолога Мишеля Канези. Анализ крови не обнаружил ничего серьезного. Через год рецидивы пневмонии заставили Рудольфа обратиться к врачу снова. Он спросил, не СПИД ли это. В ноябре 1984 г. Канези повел Рудольфа к доктору Розенбауму в больнице Питье-Сальпетриер — единственной, где делали тогда в Париже анализы на СПИД. Анализ дал положительный результат. Да, болен. да, ВИЧ. Инфицированы уже, по крайней мере, четыре года. Но тогда считали, что только каждый десятый из инфицированных заболеет СПИДом. Рудольф посоветовал также Трейси посетить Канези и провериться. Оказалось, что Трейси тоже инфицирован. Частые простуды и потение по ночам показывают, что фактически Нуреев был уже не просто инфицирован — он был болен СПИДом. В театре новый руководитель обогатил репертуар, перевел ряд молодых из кордебалета в солисты, ввел классы по технике новых для Парижа школ. «В моем теле Петипа, в голове — Бурнонвиль (это учитель Бруна), а в сердце — Баланчин». Он сам занимался у станка в классе для младших. Однако он плохо говорил по-французски и предпочитал английский, когда спешил, и русский, когда ругался. Неоднократно разбивал о пол термосы с чаем и швырял в зеркала пепельницы. Летом 1984 г. костюмеры устроили забастовку, так как он запустил бутылкой в одного из них. Известного преподавателя Мишеля Рено он ударил так, что с того слетел тайно надевавшийся парик, тщательно скрывавший лысину. Тот подал в суд за физические повреждения и моральный ущерб. Нуреев заплатил изрядную сумму, правда, из средств театра. Кеннет Грев — датский танцовщик
Кеннет Грев — датский танцовщик
В это время он влюбился в последний раз, побывав в Нью-Йорке. Двадцатилетний Кеннет Грев из кордебалета Америкен балле тиетр, двухметрового роста с вьющимися светлыми волосами и серо-голубыми глазами был похож на молодого Эрика Бруна, да и учился у Бруна в Дании. В четыре часа ночи Кенета разбудил звонок из Парижа. Нуреев приглашал его на звездную роль в своем театре. По приезде Рудольф стал домогаться его. У Грева была девушка, и он считал себя гетеросексуальным, но Рудольф не отставал. «Он продолжал меня убеждать, что мне это понравится, что я на самом деле гей и просто этого не сознаю. Я ответил, что, может быть, осознаю это со временем, но сейчас этого не чувствую. Он сказал, что я глуп». И мотивировал: «Скоро я стану старым пердуном, и у меня уже не будет красивого тела!» Он отказывался понимать, что этот момент уже наступил. Но Кеннет поселился у Рудольфа в Париже, следуя его приглашению: «Забудь про отель — мне нужно, чтобы ты был рядом двадцать четыре часа в сутки». Кеннет спал от дельно, но днем клал руку на колено Рудольфа, тер ему спину в ванне. Однако французские актеры отказались выступать с Гревом и объявили забастовку. Нуреев признал свое поражение. Он создал труппу «Нуреев и его друзья», включил в нее Грева и отправился на гастроли в Мексику, потом поехали в Италию, на его собственный остров близ Венеции. Там веселились и дурачились, но однажды Рудольф признался, что страдает смертельной болезнью. «Это рак?» — спросил Грев. «Нет, это особая болезнь», — ответил Рудольф. Ездили вдвоем и в Канаду. Рудольф приводил к себе молодых мужчин-проституток и шутил: «Ты мог бы сэкономить мне кучу денег». Канадские друзья вспоминают, что Грев «играл на привязанности Рудольфа, прикасаясь к нему и вообще ведя себя с ним как любовник». Может быть, все-таки он зашел дальше, чем вспоминал потом? Ведь в Бостоне за кулисами, застав Кеннета целующим одну балерину, Нуреев сбил его с ног оплеухой. Они стали дико орать друг на друга за декорациями, так что было слышно актерам на сцене. Грев покинул Рудольфа, уехал в Италию и там познакомился с другой балериной, на которой женился. Когда год спустя он захотел приехать к Рудольфу, тот велел не приезжать. «Не хочу снова заваривать эту кашу». Последний полномасштабный балет создал для Нуреева постановщик Флемминг Флиндт — «Смерть в Венеции» на музыку Баха. «Балет обернулся жуткой метафорой жизненной ситуации самого Нуреева», — пишет Солуэй (Солуэй 2000: 543). Нуреев вполне мог отождествить себя с Ашенбахом, Кеннета — с Тадзио, а СПИД — с холерой. Балет был поставлен в 1991 году — за год с небольшим до смерти Нуреева. Он предвосхищал своей игрой свою смерть. Используя российскую перестройку и посетив свободно Ленинград- Петербург, где он выступил со старыми коллегами на сцене Кировского театра (все там было скорее актом ностальгии, чем настоящим показом и истинным восхищением), Нуреев вернулся в Париж и оформил свое расставание с директорством в Гранд-опера. Он хотел щегольнуть перед французами и устроиться содиректором в Америкен балле тиэтр, откуда как раз ушел Барышников, но Джейн Херман, сменившая Барышникова, не могла предложить Нурееву никакой должности: Совет не утвердил бы больного и угасающего Нуреева. Разочарованный Нуреев набросился на нее в ресторане с бранью, обозвав ее «жидовской пиздой». Он вообще не жаловал евреев, хотя и имел много друзей среди евреев (от Волькенштейна до Ротшильдов). Балетного критика «Нью-Йорк Таймс» Анну Кисельгоф, не всегда писавшую то, что ему было угодно, называл обычно «жидовской сукой» и обыскивал залы в Америке, чтобы выяснить, не присутствует ли она и нельзя ли ее побить. Впрочем, он презирал русских тоже, напомнив Сизовой (в разговоре о «моих предках» и «твоих предках»), что русские несколько веков были холопами татар. Хотя, он и татарской принадлежностью не дорожил. Увидев себя на экране, был разочарован: думал, что благодаря светлым волосам не так похож на татарина. Да и русские его друзья не отставали: Пушкины звали его «Махмудкой» (хотя и ласково), Удальцова — «грязным татарчонком». Рудольф вырвался из СССР на свободу, но нес с собой груз советского воспитания, по виду интернационального, а по сути интершовинистического.
12. Последние подвиги
Между тем болезнь прогрессировала. Несколько месяцев доктор Канези лечил его инъекциями НРА-23 и полагал, что вылечил, не зная, что размножение вируса возобновляется тотчас по пре кращении инъекций. Состояние больного стало сказываться на его внешнем виде и возможностях. Нуреев продолжал выступать, но пресса писала, что нестерпимо наблюдать за его тяжеловесными прыжками. Весной 1985 г. во время выступления в «Ромео и Джульетте» началась пневмония. Он танцевал с температурой сорок. А в промежутках лежал за кулисами, дрожащий и закутанный в одеяла. Говорил, что мать его бы вылечила — растерла бы грудь гусиным жиром, напоила бы горячим чаем с лимоном и медом, и все бы утряслось. Зимой 1987 г. он потребовал, чтобы Канези вводил ему АЗТ, новое лекарство от СПИДа. Канези не решался: АЗТ был еще недостаточно опробован. Но Нуреев заставил его делать инъекции — он готов был идти на риск. Ведь альтернативой была смерть. Договорились, что Канези предупредит его, когда надо будет приводить дела в порядок. Он стал тяготиться своим образом жизни, мечтал о семье и наследнике. Но мечты эти были весьма своеобразны. Он предлагал Жюду жить одной семьей, включающей Флоранс (жену Шарля) и детей. «Купим замок в Бордо…». Даже предлагал завести общего ребенка: «Мы наполним нашей спермой пробирку, смешаем все, а потом введем это Флоранс». Но Канези охладил его пыл, указав, что это будет заражение СПИДом и матери и ребенка. Незадолго до смерти Нуреев сделал Жюда наследником своих балетов. Несмотря на свою инфицированность, Рудольф, верный своему эгоизму, продолжал поиски случайного секса в парках и барах. Но, приближаясь к 50, он уже не был привлекательным. Лицо стало морщинистым, волосы редкими и зачесанными на лоб, чтобы скрыть лысину. Хореографу ван Данцигу он пожаловался: «Никто мною больше не интересуется. Даже как любовником. Я слишком стар». В 1988 г. он танцевал снова «Жизель» в Нью-Йорке. После первого акта он вернулся за кулисы изможденным. По воспоминаниям его друга, «он пришел в поту, тяжело дыша… Я подошел и спросил: «Руди, ты в порядке?» Он стоял согнувшись, упершись руками в колени, пытаясь выровнять дыхание. Посмотрел на меня и почти улыбнулся: «Я очень устал сегодня вечером». Когда друг удивился, Рудольф пояснил: «Я трахался всю ночь и все утро, до самой репетиции, у меня совсем не осталось сил». Я спросил: «Рудольф, неужели тебе никогда не бывает достаточно секса?» Он посмотрел на меня и коротко ответил: «Нет». И добавил: «Разница в том, что ночью трахал я сам, а утром трахали меня» (Стюарт 1998: 213). О риске заражения других он просто не думал. В этот период ряд смертей близких поставил его перед проблемой собственного конца. В 1986 г. от рака легких умер Эрик Брун. То, что он умер так быстро, родило подозрение, что он умер от СПИДа. Подтверждением была смерть через два года его последнего любовника Константина Палсаласа при явлениях слабоумия и паранойи, характерных для СПИДа. В 1987 г. в условиях перестройки Нурееву разрешили посетить умирающую мать. Она была парализована и прошептала дочери: «Он настоящий?» Она узнала его: «Это был Рудик» — прошептала она дочери. Умерла она через три месяца после его приезда. В феврале 1991 г. умерла Фонтейн, умерла в нищете, причем Рудольф и не подумал ей помочь. За месяц до ее кончины Рудольф посетил ее, но на похороны не поехал. Он боялся взглянуть в лицо смерти. В последний год перед смертью он вдохновился идеей стать дирижером и стал брать уроки дирижерского искусства. Более того, успел начать дирижерскую карьеру несколькими крупными концертами. Еще раз посетил Санкт-Петербург, но уже как частное лицо. Побывал у друзей, они повели его в Военно-Медицинскую академию: у него опять была пневмония. Едва сел в самолет. В Париже обнаружили перикардит — обычное осложнение СПИДа. Прооперировали. Канези сказал ему, что время, о котором они говорили (приводить земные дела в порядок), пришло. Но «жидовская пизда» Херман, понимая, что это его последние поездки, пригласила его в Нью-Йорк продирижировать прокофьевским балетом «Ромео и Джульетта» в «Метрополитен-опера». Во фраке и белом галстуке он поднялся на подиум и, поддерживая себя левой рукой, правой поднял палочку. Для многих присутствующих не столь важно было, как он дирижирует, сколь то, что он дирижирует вообще. А он еще поехал в Вену дирижировать программой из Моцарта и Россини. Но там он уже не мог размахивать рукой, а только двигал пальцами. На вечере после гала-спектакля поставленной Нуреевым «Баядерки» со своим другом Мари- Элен де Ротшильд.
На вечере после гала-спектакля поставленной Нуреевым «Баядерки» со своим другом Мари- Элен де Ротшильд.
Осталось еще посетить премьеру его постановки балета «Баядерка» в Гранд-опера. Он смотрел премьеру из ложи, где он возлежал на диване. После спектакля его перенесли на сцену и усадили на трон. Там под овации ему поднесли орден и ленту Командора искусств и науки, с благодарностью выступал министр. Затем Рудольф отправился домой в парижскую квартиру, куда к нему съехались его родствен ники (сестра, племянницы), оттеснившие друзей и пытавшиеся лечить его по своим понятиям — жирным куриным бульоном, от которого его тошнило. Он быстро угасал и 6 января 1993 г. тихо скончался. Ему было 54 года, и рядом с ним был его любимец Шарль Жюд. На похоронах был весь парижский, лондонский и американский бомонд, мужчины в черных костюмах и дамы в норках и соболях, а около гроба стояли сестры и племянницы в шерстяных кофтах и косынках. Два мира, сквозь которые он пронесся метеором, сея восхищение, возмущение и скандалы.
13. Эпилог
Он был первопроходец во всем. Первым из мужчин в балете он стал танцевать приподымаясь подобно балеринам, сломав традицию приземленного мужского танца, ориентированного прежде всего на поддержку и поднятие балерины. Первым из звезд балета бежал на Запад (в 1961 г.) и сделал там сказочную карьеру, проложив дорогу другим (за ним устремились Макарова в 1970, Барышников в 1974 г., Годунов и супруги Пановы в 1980-х, художники, как Шемякин, философы, как Зиновьев, музыканты и др.). Это была трещина в советской системе тоталитарной власти, пусть только трещина, но из таких трещин сложился крах режима. Нуреев был, увы, первым из россиян, кто подхватил СПИД, но был, кажется, и первым из мировых светил, кто смог преодолевать СПИД в течение тринадцати лет — до 1993 г., неустанно работая. После него балет изменился. Прежде всего, он стал сексуальнее, а исполнение мужских ролей стало ближе кженскому И другие танцовщики стали тоже становиться на высокие полупальцы, делать пируэты, как балерины, тянуться ввысь. «Когда он танцует, — говорила французская балерина Виолет Верди, — женщина рядом с ним воспринимается порой как излишество» (Стюарт 1998: 198). И это тоже сказалось — в Петербурге даже возник «Мужской балет» Михайловского, где все роли исполняют мужчины. Это, конечно, на грани пародии, но раньше сама возможность этого никому не приходила в голову. До Нуреева большинство танцовщиков носили для благопристойности мешковатые штаны или особые трусы под трико. Нуреев одним из первых в России стал выходить на сцену в одном трико и бандаже. В 1972 году в «Спящей красавице» Нуреев сначала появлялся укутанным в длинную накидку. Потом он поворачивался спиной к залу и медленно опускал ее все ниже, пока она не застывала чуть ниже его четко очерченных ягодиц. В «Корсаре» он появлялся с полностью обнаженной грудью, в «Юноше и смерти» и «Дне фавна» — вообще обнаженным до пояса, в «Люцифере» — в одном бандаже. Все эти нововведения не прошли бесследно. В нынешнем балете одежды стали более легкими и прозрачными. Меньше грузных штанов, больше облегающих трико, создающих иллюзию нагого тела. Больше открытого мужского тела появилось на балетной сцене. Да и балерины укоротили свои пачки. Балетный танец стал ближе к стриптизу. Конечно, гомосексуальность Нуреева имела прямое отношение к этим переменам. Есть все основания говорить о его гомосексуальности, хоть он и был, формально говоря, бисексуален. Он имел любовные приключения с женщинами, но только по их инициативе или по той или иной необходимости. Женщины всегда были у него на втором месте. Не их он жаждал, не их искал. Сам Нуреев задумывался о значении собственной гомосексуальности для жизни и карьеры и о глубинных причинах той стимуляции, которую он, по его впечатлению, получал от этой своей особенности. Он анализировал отношения между Нижинским и Дягилевым, с одной стороны, и Нижинским и его супругой — с другой. «Получается, что ненормальные дали интересный и положительный результат, а нормальные — ровным счетом ничего. Что же тогда считать нормой?» (Солуэй 2000: 471). Всю жизнь он выбивался из нормы. По всем параметрам. Это было основой его жизненных успехов и его поражений, его счастьем и его бедой. Он выбивался из нормы и, добиваясь феноменальных успехов, растягивал норму, создавал новую норму. Делая это в искусстве, стал великим. Делая это в сексе, придавал своеобразие своему искусству и рисковал жизнью — своей и своих партнеров. Его гений — это дарование, умноженное на одержимость. Будучи одержимым в искусстве, неустанно повторяя свои па и передавая свои открытия другим, он создавал из преходящих зрелищ вечные ценности. Будучи одержимым в сексе, он пытался удержать сиюминутные наслаждения, повторяя их неустанно, — и погиб. Но пока он жил, секс и искусство были в его личности нераздельны — как прекрасное лицо и внушительные гениталии в его теле, как щедрое гостеприимство и мелочное скупердяйство в его поведении, как жертвенность и эгоизм в его душе.РУДОЛЬФ НУРЕЕВ В БАЛЕТЕ

Заключение
1. Байрон на судне?
Мой весьма неполный обзор окончен. Перед читателем прошел целый ряд знаменитых личностей, освещенных с неожиданной стороны. Оказывается, у многих из светил науки, искусства и политики была еще и тайная жизнь, в которой проявлялись необычные вкусы, запретные страсти. Теперь мы это знаем. Ну и что? А ничего. Но зачем тогда было всё это разрабатывать и писать целую книгу об этом? Что из этого следует? А в том-то и дело, что «ничего»! Ничего из этих констатаций не вытекает. Никаких сенсационных выводов, анафем и приговоров. Я вовсе не собираюсь восклицать вместе с Чайковским: «Как наши великие люди, кроме Пушкина, малосимпатичны!» (ЧД: 157 — это он после чтения писем Гоголя к другу детства). Наше уважение к Толстому или Пржевальскому не стало меньше, наша любовь к Пушкину или Чайковскому не стала холоднее. Но, может быть, мы стали несколько лучше понимать их творчество. А если мы избавились от чрезмерного и раболепного поклонения титанам, то это тоже к лучшему. Гении оказались не только памятниками, но и живыми людьми. Этим они ближе к нам. Может быть, теперь мы станем внимательнее к своим ближним и за их смешными слабостями и трудными особенностями сумеем разглядеть их талант, ценности их души. Чтобы подвести читателя к этому выводу, и стоило поработать над книгой. Конечно, найдется немало охотников пригвоздить меня к позорному столбу известной цитатой из Пушкина. В письме П. А. Вяземскому из Михайловского в ноябре 1825 г. он писал: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними! слава Богу, что потеряны…. Мы знаем Байрона довольно… — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc. потому, что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы — иначе» (Пушкин ХIII: 243–244). Все, кто цитирует это высказывание Пушкина, исходят из его непреложной правоты и солидарны с ним. И напрасно. Никто не стремится видеть Байрона на судне. Это никому не интересно. А вот узнать, как и кого Байрон любил, составляет важную, хотя и интимную часть его биографии — это отразилось на его общем поведении, на его жизненной стратегии и его творчестве. А Байрон, кстати, любил так же, как герои этой книги. Когда речь идет о живых людях, о современниках, нужно соблюдать их право на укромность и без их согласия не отдергивать занавеску, за которой они хотят провести часть своей жизни. Но когда речь идет о выдающихся личностях прошлого, об исторических фигурах, самим своим выходом на авансцену истории они сами дали нам право дотошно рассматривать их. Эту проблему ясно сформулировал вдумчивый исследователь сексуальности И. С. Кон. «Читатель, не знающий о гомосексуальности Оскара Уайлда, никогда не поймет «Портрет Дориана Грея». Но прилично ли копаться в чужом белье, которое обычно считается грязным, тем более что роман не только «об этом»?… Где границы нашего права анализировать и реконструировать частную жизнь человека, который не хотел выставлять ее напоказ? Спрашивая себя, хотел бы имярек, чтобы его интимные переживания обсуждались посторонними людьми, я большей частью отвечал себе: «нет». Но когда я спрашивал себя, хотел бы он, мучаясь своими жизненными проблемами, опереться на аналогичный опыт другого, заведомо достойного человека, я так же категорически отвечал: «Да!» (Кон 1998: 84–85). Пушкин сердился и бранился, предвидя, что и его жизнь станет достоянием гласности, а в ней, как он прекрасно понимал, было немало не только слабостей, но и ошибок и дурных поступков — такого, о чем он сам потом сожалел. В оправдание он выдвигал принцип двойной морали: что можно Юпитеру, непозволительно быку. Пушкин гордился древностью и знатностью своего дворянского рода и вполне сознавал свое лидерство в русской литературе. Для него типично противопоставление: поэт и толпа, поэт и чернь. Смысл его гневной тирады очень прост: слабости гения (скажем, мотовство Байрона, задиристость и сквернословие Пушкина) имеют одно значение, а такие же слабости у заурядных людишек — совсем другое. Мерзости, совершаемые на высоком уровне (скажем, смертоубийства Наполеона), суть явления истории, а мерзости, совершаемые на уровне обыденном — достояние юридического расследования. Так не освободить ли гениев и крупные исторические фигуры от судебного преследования за преступления? Даровать им привилегии исторического иммунитета. Но тогда пришлось бы убрать из истории этические оценки, аксиологию. Можно придать пушкинской тираде и такое толкование: у гения скверные свойства и поступки приобретают иное качество по сравнению с тем, какое они имеют у простого народа. Это уже не те свойства и проступки. Ведь они включены в общую структуру незаурядной личности, а это им придает иное значение, очищает их, возвышает и поэтизирует. Наполеон демонстративно убил ни в чем неповинного герцога Энгиенского, но это была часть большой европейской политики. Байрону простительно мотовство — ведь наличие колоритного окружения (любовницы, обезьяны, свора собак и дорогие лошади) придавало поэту неповторимый ореол, ставший частью его романтического имиджа. Пушкину можно влюбляться в чужих жен и соблазнять их — ведь он потом создаст из этих переживаний такие стихи! Возмущаться следует мужьями — молдавскими помещиками, которые сдуру вызывали Пушкина на дуэль за такие проказы: ведь они могли в самом деле убить великого поэта почти ни за что! И не было бы «Евгения Онегина» и Болдинской осени. Слава богу, не убили! Но это случайно. Они же должны были понимать, что Пушкину это позволительно. Еще и за честь должны были почитать, что на их затрапезных жен обратил внимание великий поэт. Иное дело повеса Дантес — влюбиться в чужую жену, да еще в чью жену!.. Право, не стоит различать мерзости в зависимости от того, кто их совершает. Они остаются мерзостями. И слабости — они у всех слабости. Кто в чем-то низок и мал, он в этом низок и мал, даже если велик в чем-то другом. Разве что эта низость у него более заметна. И он сопоставим со всеми, кто низок и мал, — как и со всеми, кто так же велик. Конечно, и мерзости бывают разными, но они разные не из-за величия или заурядности тех, кто их совершает, а из-за, так сказать, степени погружения в мерзость и из-за различия сопровождающих обстоятельств. Суть, однако, вот в чем. То свойство, которое объединяет героев этой книги, мерзостью или низостью, по разумению автора, не является. Это вид любви, в котором, как во всякой любви, возможны и низкие чувства и высокое горение, и мерзости и благородство, и пошлость и величие. Они и были здесь продемонстрированы. Этот вид любви необычен и, как все необычное, отторгаем толпой, поэтому труден тем, кому он выпал на долю. Для них, да и для всех других, поучительно познакомиться с тем, как справлялись с этой трудностью знаменитые личности — те, кого называют великими.2. Некоторые обобщения
Тут можно сделать некоторые обобщения — они бросаются в глаза, хотя из-за малочисленности примеров ни о какой статистике не может быть речи. Но примеры показательны, ибо личности крупны и способы, которыми они справлялись с бедами и конфликтами, порождаемыми их сексуальной ориентацией, выражены ярко и, можно сказать, типично. Одни, как Пушкин, Лермонтов, Есенин, не говоря уж о государях Иоанне и Петре, не делали из этого проблемы — у них в самосознании основой была их многократно испытанная любовь к женщинам, на которую наслаивался содомский грех как галантный, куртуазный грех, как порочное удовольствие, позволительное исключительным личностям. В этом они могли опираться на отношение среды и примеры себе подобных. Для других, как Чайковский, Толстой, К. Р., Нижинский или Эйзенштейн, несоответствие их чувствований требованиям социальной нормы составляло предмет страданий (для Толстого непонятый им самим), и они искали прикрытия или исцеления в браке. Это привело жену Чайковского в сумасшедший дом, а Нижинского самого туда же, семейную жизнь Толстого превратило в трагедию, жен Сергея Александровича и Эйзенштейна оставило девственницами, а Чайковского и К. Р. побудило осознать в конце концов невозможность бороться со своей натурой. Пржевальский и Миклухо-Маклай спасались бегством из цивилизованного общества в мир дикой природы и первобытных людей. Набоков и Миклухо-Маклай были больше увлечены обычной педофилией, Набоков — теоретически, Миклухо-Маклай — и практически, но оба как-то причастны и к гомосексуальности, причем Набокова, лично не гомосексуального, тяготила роковая погруженность в гомосексуальную семейную среду. И только Кузмин, Дягилев, Сомов и Нуреев, изначально осознав свою природу, жили по своим собственным законам и сумели навязать свой способ существования окружающему миру. Они воспринимали свою гомосексуальность как свою норму. Связь человека их круга с женщиной шокировала их так же, как обычного мужчину — любовные объятия с мужчиной. Уже расставшись со своим поднадоевшим любовником Павликом Масловым, в феврале 1907 г., Кузмин узнал от приятелей, побывавших в ресторане Палкина, излюбленном месте встреч гомосексуалов, странную новость и отметил в Дневнике: «Наши были у Палкина, где видели Павлика с какой-то женщиной. Хоть я его и не люблю, но был почему-то шокирован этим; с кем угодно: со стариком, с мальчиком, а то с толстой дамой — фу!» (ДК5: 320). Они опирались на культуру Серебряного века или, удалившись в эмиграцию, на культуру зарубежья. Жить по своей природе не удалось Клюеву и Харитонову: оказавшись в иной среде, они были убиты гомофобным государством. По-разному относились наши герои и к отождествлению себя с кланом гомосексуалов. К. Р., Чайковский и Харитонов страшно боялись огласки. Пржевальскому и Миклухо-Маклаю удавалось скрывать свою сексуальную ориентацию не только от современников, но и от последующих поколений. Лев Толстой и Эйзенштейн решительно и убежденно отвергали свою причастность к гомосексуальности, Нижинский тоже, хотя и с гораздо меньшими основаниями, а Набоков изъявлял свое презрение к гомикам. Иоанн и Петр не афишировали свои содомские отклонения, но и не особенно скрывали их. Дягилев, Кузмин, Сомов и Нуреев жили почти открыто в гомосексуальных связях, а Лермонтов, Есенин и Клюев, не говоря уж о Сомове, публиковали гомоэротические стихи. Пушкин, по крайней мере, писал их, хотя при жизни не публиковал, а у Харитонова почти все творчество откровенно разрабатывает гомосексуальные темы, хотя оно было рассчитано на узкий круг друзей и при жизни не публиковалось ничего. Как у наших героев проявляется пресловутое свойство гомосексуальной любви — непостоянство, частая смена возлюбленных (тут даже не сказать возлюбленных — вернее, партнеров)? К удивлению, у них это вовсе не поголовно. Отличались этим Чайковский, Клюев, Кузмин, Нуреев и, вероятно, Харитонов. Из двух десятков пятеро. Однако при Чайковском был постоянно Леня Софронов, у Клюева, даже у Кузмина и Нуреева бывали и очень длительные привязанности. У Пржевальского, Миклухо-Маклая, Сомова, К. Р., да и Дягилева любовников и вовсе было не так уж много. Другие субъекты, причастные к гомосексуальным утехам, славились как раз обилием женщин — Иван Грозный с его «тысячей дев», Петр Первый, Пушкин, Есенин. Я уже отмечал любопытную черту гомосексуальности — тягу гомосексуалов к людям иного социального уровня, иной образованности. Аристократов и интеллектуалов неудержимо тянет к простонародью — банщикам, дворникам, кучерам, лакеям, посыльным и солдатам, а тех — к господам. Я рассматривал это в рамках притягательности разных отличий (экзотическое становится эротическим) и подыскивал психологические объяснения этому феномену: впечатлительный интеллектуал подсознательно ожидает от человека своего круга иронии, высокой требовательности, а это срывает эротическую настроенность (Клейн 2000: 476–481). Здесь этот феномен можно видеть на примерах Петра Великого, К. Р. и Чайковского, заметно это отчасти и у Кузмина, Пржевальского и Миклухо-Маклая. В свою очередь для простонародья перспектива интимной связи с интеллектуалом или аристократом повышает самооценку и усиливает сексуальное возбуждение. Возможно, это сказывалось у Есенина. Любопытна и странная связь гомосексуальности с антисемитизмом — в личностях Петра Первого, Миклухо-Маклая, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, Кузмина, Клюева, Есенина, Харитонова, Нуреева, в какой-то мере Сомова. Доля антисемитов (девять из 20) здесь явно выше, чем в целом по интеллигенции. Странность этой связи в том, что каждый из указанных (кроме Миклухи и Сергея Александровича) имел еврейских друзей или приближенных, а по ситуации евреи — такое же обособленное и часто гонимое меньшинство, как и гомосексуалы. Харитонов даже подмечал свою близость к евреям, а Кузмин был похож на еврея и внешне. Не отделаться от ощущения, что нередкая неприязнь гомосексуалов к евреям имеет эротическую компоненту: любителей мужественности отталкивает обычная для того времени приверженность евреев к комнатным и книжным профессиям, удаленность их от спорта и атлетизма. В то же время северян влекло к южной страстности в облике молодых евреев (это особенно чувствуется у Есенина) и к их «культурности» в общении (у Харитонова). У ряда поэтов и писателей, в той или иной мере затронутых гомо сексуальностью, — Лермонтова, Есенина, Клюева, Кузмина, Харитонова, конечно, Толстого, даже Набокова и Пушкина — сквозь все творчество проходит специфическое снисходительно-пренебрежительное отношение к женщине, которое иногда характеризуется как мизогиния. В нем подчеркивается одиночество лирического героя и у некоторых — его противостояние миру в силу особого романтического дара. У Эйзенштейна в его графическом наследии гомоэротика и отстраненное отношение к женщине столь же заметны, как и в наследии Сомова, Кузмина или Харитонова. У Лермонтова, Есенина, Эйзенштейна и Харитонова проблема одиночества часто становится центральной темой. Во всех этих биографиях гомосексуальность героя тесно связана с его творчеством и оказала огромное воздействие на его жизнь. Без анализа этой стороны светила спектр его света не полон и формирование его облика не вполне понятно. В меньшей мере это касается Иоанна и Петра, хотя приверженность обоих царей содомским утехам бросает дополнительный свет на презрение обоих к нормам общества и неоднозначное отношение к религии и морали. У Пржевальского и Миклухо-Маклая вся карьера, вроде бы далекая от сексуальной психологии, была избрана и направлена под ее несомненным воздействием, равно как и их быт и личные отношения. Вспомним, как Пржевальский выбирал себе сотрудников, как Миклухо-Маклай обходился без сотрудников. Да и опередить Малиновского в изобретении метода «включенного наблюдения» он сумел не без воздействия своих сексуальных вкусов. Похоже, что Чайковский оставил юриспруденцию и предался музыке, именно учитывая свои расхождения с законом и свою уязвимость. А крупнейшие вехи его творчества — «Евгений Онегин», «Манфред», «Пиковая дама», Четвертая и Шестая симфонии — отражают, как мы видели, его мысли и чувства, порожденные гомосексуальностью. Дягилев, Нижинский и Нуреев способствовали изменению искусства балета — повышению в нем роли мужчин, сближению стиля танца премьеров и балерин, облегчению балетного костюма. Особая нежность и задушевность стихов Есенина, видимо, как-то связана с его психической андрогинностью. В фильмах Эйзенштейна как-то проявились особые качества аутсайдера, в которых была и сексуальная составляющая. Это не только тяга к жестоким сценам, но и страстность действий, необычайная смелость монтажа, эротичность видения. Теперь мы знаем, что, глядя на сцены обычных кадров, режиссер, обездоленный своим нездоровьем и скованный предрассудками среды, часто (втайне) видел персонажей совершенно по-своему: без порток и в сугубо сексуальных позах. Закрывая эту книгу, читатели, надо полагать, суммируют свои впечатления также по-разному. Одних откровенность показа шокирует, и им станет больно за героев этих биографических очерков. Другие воспримут откровенность как откровение и проникнутся солидарностью с героями, даже если не разделяют их склонностей. Третьи, подходя к делу философски, постараются извлечь из представленной информации пищу для душе полезных размышлений — о разнообразии человеческой природы, о ценности меньшинств для судеб человечества, о трудностях существования каждого представителя этой категории, о том, каких личностей эти трудности подчас формируют — среди них есть подлинные светила. И о том, что другая сторона светила — это не обязательно темная сторона.Библиография
Адамович Г. 1936. — Последние новости, № 5530, 14 мая. Аксенов И. А. 1935/1991. Сергей Эйзенштейн: Портрет художника. Москва, Кино центр (напис. в 1935, изд. впервые в 1991). Александр Михайлович, Вел. кн… 1991. Книга воспоминаний. М, Современник. Андроников И. Л. 1977. Лермонтов. Исследования и находки. Изд. 4-е. М, Худлит. Анненков П. В. 1874. Александр Сергеевич Пушкин в александровскую эпоху. Санкт- Петербург. Аринштейн Л. М. 1999. Пушкин: непричесанная биография. Изд. 2. Москва, Муравей. Асафьев Б. В. 1972. О музыке Чайковского. Ленинград, Музыка.Безелянский Ю. 1999. Улыбка Джоконды. Книга о художниках. Москва, Радуга. Белый А. 1989. На рубеже двух столетий. М, Худлит. Бенуа А. 1993. Мои воспоминания в пяти книгах. Книги первая, вторая и третья. Изд. 2. М, Наука. Бенуа А. 1990. Мои воспоминания, изд. 2, т. 1. М, Наука Берберова Н. Н. 1936/1997. Чайковский. Биография. СПб, Лимбус Пресс. Берсенев В. В. и Марков А. Р. 1998. Полиция и геи. — Риск III: 105–116. Берхгольц Ф. В. 1993. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого. — Петр Великий. СПб, Пушкинский фонд. «Третья волна». Париж — Москва — Нью-Йорк. Внешсигма. 1993: 173–224. Богданов А. 1998. В тени великого Петра. М, Армада. Богданович А. В. 1924. Три последних самодержца. Дневник. М-Л, Л. Д. Френкель (переизд. М, Новости, 1990). Богомолов Н. А. 1992. Михаил Кузмин. — Россия. Серебряный век. М, Серебряный бор: 83–90. Богомолов Н. А. 1995. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М, Новое Литературное обозрение. Богомолов Н. А. 1996. «Любовь — всегдашняя моя вера». — М. А. Кузмин. Стихотворения, СПб, Академический проект: 5–52. Богомолов Н. А. и Малмстад Дж. Э. 1996. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. Москва, Новое Литературное Обозрение (Научное приложение, вып. 5). Боханов А. Н. 1997. Великий князь Сергей Александрович. — Российские консерваторы. М, Русский мир: 323–371. Боханов А. Н. 2000. Романовы: сердечные тайны. М, AST-Пресс. Бродский И. 1998. Письмо Горацию. Москва, Наш дом — L’age d’Homme. Быть 1992. — Быть честным перед самим собой. — Ты, № 1: 29–32. Бычков С. Голубая кровь великого князя. — Моск. комсомолец, 6 дек. 1998 г.
Валишевский К. 1993. Петр Великий. Москва, Квадрат. Вересаев В. В. 1995. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. Тт. I–II. Санкт-Петербург, Лениздат. Вересаев В. В. 1999. Загадочный Пушкин. Москва, Республика. Висковатов П. А. 1891. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М (переизд. М, Современнник, 1981). Витале С. и Старк В. 2000. Черная речка до и после. К истории дуэли Пушкина. Письма Дантеса. СПб, журнал «Звезда». Витте С. Ю. 1994. Воспоминания, в 3 тт., Таллин — Москва, изд. Скиф Алекс. Волгин И. Л. 1998. Колеблясь над бездной: Достоевский и русский императорский дом. М, Центр Гуманитарного Образования. Вяземский Пав. П. 1880. Александр Сергеевич Пушкин 1826–1837 по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям. СПб, типография И. Цитовича.
Гавриленков В. М. 1989. Русский путешественник Н. М. Пржевальский. Изд. 2.Москва, Московский рабочий. Гавриленкова Е. П. 1999. Неизвестные страницы биографии Н. М. Пржевальского. Смоленск, СГПУ, Дом-музей Пржевальского. Герберштейн С. 1988. Записки о Московии. М, изд. МГУ. Герштейн Э. Г. 1989. Судьба Лермонтова. 2-е изд. М, Худлит. ГиК = Гусляров Е., Карпухин О. 1998. Лермонтов в жизни. Систематизированный свод подлинных свидетельств современников. Калининград, изд. «Янтарный сказ». ГИК 2000 = Гусляров Е., Карпухин О. 2000. Есенин в жизни. Систематизированный свод воспоминаний современников. Тт. 1–2. Калининград, Янтарный сказ. Городецкий С. М. 1984. Воспоминания о С. А. Есенине (1926). — С. М. Городецкий. Жизнь неукротимая. М, Современник: 27–51. Горсей Дж. 1990. Записки о России, XVI — начало XVII в. Москва. Горький М. 1979. Лев Толстой. — Горький М. Собрание сочинений в 16 томах. Библиотека «Огонек». М, Правда: 87–135. Грабарь И. Э. 1937. Репин. Монография в 2 томах. Т. 1. От первых шагов до эпохи расцвета. М., Изогиз: 260–281. Губер П. К. 1923. Дон-жуанский список Пушкина. Петербург, Петроград. Гусарова А. П. (сост.). 1973. Константин Андреевич Сомов 1869–1939. М, Искусство. Гусев Н. Н. 1927. Жизнь Льва Николаевича Толстого. Молодой Толстой. (1828–1862).(На обложке: «Толстой в молодости»). Труды Толстовского музея. Москва. Гусев Н. Н. 1954. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М, Академия наук СССР.
Дитц В. Ф. 1990. Есенин в Петрограде — Ленинграде. Лениздат.
Елец Ю. 1898. История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. СПб, т. I. Ерофеев В. 1991. Набоков в поисках потерянного рая. — Набоков В. Другие берега. Л, Политехника: 5–22. Есенин С. А. 1980. Собрание сочинений в шести томах. М, Худлит.
Жданов В. 1993. Любовь в жизни Льва Толстого. М, Планета. Жданов Л. 1999. Царь Иоанн Грозный. — Иван Грозный. М., Олма-Пресс: 11–334. Жене Ж. 1995. Кэрель. Петербург, Инапресс. Житомирский С. В. 1989. Исследователь Монголии и Тибета П. К. Козлов. М, Знание. Журавлева Е. В. 1980. Константин Андреевич Сомов. М, Искусство.
Занковская Л. В. 1997. Новый Есенин. Жизнь и творчество поэта без купюр и идеологии. Москва, Флинта. Зимин А. А. 1964. Опричнина Ивана Грозного. М, изд. «Наука»
Ивинский Д. П. 1994. Князь П. А. Вяземский и А. С. Пушкин. Очерк истории личных и творческих отношений. М, «Филология». Ивнев Р. 1965. Московские встречи. — Воспоминания о Сергее Есенине. Москва. Ивнев Р. 1978. О Сергее Есенине. — Ивнев Р. Часы и голоса. Москва, Советская Россия: 144–201.
К. Р. 1994. К. Р. (Великий князь Константин Романов). (Роман-газета 19 /1241). Карамзины 1967. Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М-Л. Карлинский С. 1992. «Ввезен из-за границы…»? Гомосексуализм в русской культуре и литературе. — Эротика в русской литературе от Баркова до наших дней. Тексты и комментарии (Литературное обозрение. Специальный выпуск): 104–107. КАС = Константин Андреевич Сомов: Письма. Дневники. Суждения современников. Сост. Ю. Н. Подкопаева и А. Н. Свешникова. М, Искусство, 1979. КД5 = Кузмин М. А. 2000. Дневник 1905–1907. Санкт-Петербург, изд. Ивана Лимбаха. КД34 = Кузмин М. А. 2000. Дневник 1934 года. Санкт-Петербург, изд. Ивана Лимбаха. Кирсанов В. 1999. «Голубое» окружение Александра Пушкина. — Дантес, 1: 70–76. Классик 2000. — Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. М, Новое литературное обозрение. Клейн Л. С. 2000. Другая любовь. Природа человека и гомосексуальность. Санкт- Петербург, Фолио-Пресс. Клейнборт Л. 1998. «В стихах его была Русь». — Кузнецов: 251–274. Клюев Н. 1991. Стихотворения. Поэмы. М, Худлит. Ковалевский П. И. 1893. Иоанн Грозный и его душевное состояние. Вып. 2. Харьков (перепечат. в сб.: Ковалевский П. И. Психиатрические эскизы из истории. Т. I. М, Терра, 1995). Коваленко Г. М. Сообщение М. Клементьева (Русское государство глазами новгород ского дворянина). — Новгородский Исторический Сборник, в. 4 (14). СПб: 128–131. Ковалов О. 1998. Эйзенштейн в Белых Столбах. Интервью (взяла А. Солнцева). — Огонек, 7 (4542), 16 февраля: 48–51. Козлов П. К. 1947. В азиатских просторах. М, Молодая Гвардия. Кон И. С. 1989. Введение в сексологию. Изд. 2-е, дополненное. М, Медицина. Кон И. С. 1998. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. Москва, Олимп — ACT. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях главнейших ее деятелей. М., «Мысль», б. г. [1993]. Красовская В. 1974. Нижинский. Л, Искусство. Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия с обращением особого внимания на извращение полового чувства. Пер. с нем. М, Республика, 1996 (ориг. 1886). Крижанич Ю. 1866. Русское государство в половине XVII века. Рукопись времен царя Алексея Михайловича. Открыл и издал П. Безсонов. М., тип. А. Семена. Ч. 2. Кропоткин П. А. 1988. Записки революционера. М, Московский рабочий. Кузнецов В. 1998. Тайна гибели Есенина. М. Современник. Куракин Б. И. Гистория о царе Петре Алексеевиче 1628–1694. — Петр Великий. СПб, Пушкинский фонд. «Третья волна». Париж — Москва — Нью-Йорк. Внешсигма. 1993: 53–84. Курбский А. 1914. История о великом князе Московском. — Сочинения князя Курбского (Русская историческая библиотека, т. 31). СПб.
Ламздорф В. Н. 1934. Дневник 1889–1892. М-Л, Academia. Лермонтов М. Ю. 1931 а. К Д. (1829). — Полное собрание сочинений. 5-е изд. Москва — Ленинград, ГИЗ: 43. Лермонтов М. Ю. 19316. К Т[изенгаузену] (1834). — Полное собрание сочинений. 5-е изд. Москва — Ленинград, ГИЗ: 134. Лермонтов М. Ю. 1931 в. Ода к нужнику (1834). — Полное собрание сочинений. 5-е изд. Москва — Ленинград, ГИЗ: 133–134 (дополн. см. в Éros 1879: 12–14). Лермонтов М. Ю. 1931 г. Посвящение NN [Сабурову] (1834). — Полное собрание сочинений. 5-е изд. Москва — Ленинград, ГИЗ: 43. Лермонтов М. Ю. 1957. Сочинения в шести томах. М-Л, АН СССР. Летопись — Полное Собрание Русских Летописей. СПб. Либрович С. Петр Великий и женщины. Л., изд. Международного Фонда Истории Науки. Лифарь С. 1993. Дягилев. СПб, Композитор. Лифарь С. 1994. С Дягилевым. СПб, Композитор. Лифарь С. 1995. Мемуары Икара. М, Искусство. Логинов М. 1997. Краткий очерк истории инакоспящих. — Наблюдатель, еженед. обозрение газ. «Невское время», № 18, 28 июня — 3 июля 1997 г., с. 5. Лукьянов А. В. 2000. Сергей Есенин. Тайна жизни. Ростов-на-Дону, Феникс. Ляскоронская О. А. 1953. Илья Ефимович Репин. М, изд. Гос. Третьяковской галереи.
Маржерет Жак. 1982. Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета = La Russie au debut du XVII s. La relation du capitaine Margeret. M., Ин-т истории АН. Мартьянов П. К. Дела и люди века. СПб, т. II. Масси Р. К. 1996. Петр Великий в 3 томах. Смоленск, Русич. Мексиканские 1969. Мексиканские рисунки Эйзенштейна. М, Советский художник. Менделеева А. И. 1928. Менделеев в жизни. М, Изд. М. и С. Сабашниковых. Меняйлов А. 1998. Так кого же любил Толстой? — Наука и религия, 3: 28–31. Мержеевский В. 1878. Судебная гинекология. СПб, Б. Г. Янпольский. Миклашевская А. 1998. «Мы виноваты перед ним» (1970). — Кузнецов: 275–289 Миклухо-Маклай Н. Н. 1990–1999. Собрание сочинений в шести томах. М, Наука. Михаил 1995. Михаил Кузмин (стихи и немного о близких друзьях…). — Пробуждение, 3: 3–16. Михайлов О. Н. 1989. О Владимире Набокове. — Набоков В. Избранные произведения. М, Советская Россия: 16. МКиРК 1990. Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., Совет по истории культуры АН СССР. Могутин Я. 2001. Кучер русской литературы: Интервью с профессором Саймоном Карлинским (февраль 1993). — Могутин Я. 30 интервью. СПб, Лимбус-Пресс: 138–182. Молок Н. 1999. Спецэффектный Эйзенштейн. — Итоги, 4 мая.
Набоков В. В. 1991. Другие берега. Л, Политехника. Набоков В. Д. 1902. Плотские преступления, по проекту уголовного уложения. — Вестник права, 9–10: 105–126 (перепеч. в: Набоков В. Д. Сборник статей по уголовному праву. СПб, 1904). Найдич Э. Э. 1994. Этюды о Лермонтове. СПб, Худлит. Нартов А. К. 1993. Достопамятные повествования и речи Петра Великого. — Петр Великий. СПб, Пушкинский фонд. «Третья волна». Париж-Москва-Нью-Йорк. Внешсигма. 1993: 247–326. Немирович-Данченко В. И. 1989. Рождение театра. М, Правда. Нижинская Б. 1996. Ранние воспоминания. М, «АРТ» (Артист. Режиссер. Театр). Нижинская Р. 1996. Вацлав Нижинский. Москва, Русская Книга. [Нижинский В.]. 1995. Дневник Вацлава Нижинского. Воспоминания о Нижинском. М, «АРТ» (Артист. Режиссер. Театр). Нижинский В. 2000. Чувство. Тетради. М, Вагриус. Носик Б. 1995. Мир и дар Набокова. М, Пенаты. Носик Б. М. 1998. «Парижские» письма Маклая. — Б. Н. Носик. Русские тайны Парижа. Санкт-Петербург, «Золотой Век» — «Диамант». Нуреев Р. 1998. Автобиография. М, Аграф.
Обнинский В. В. 1912. Последний самодержец: очерк жизни и царствования императора Россини Николая II. Berlin, Е. Frowein (переизд.: М, Республика, 1992). Ободов И. 2000. С[екретно]-м[алоизвестный] Эйзенштейн. — Новая Русская Книга, № 2: 81–84. Олеарий Адам. 1906. Описание путешествия в Московскию и через Московию в Персию и обратно. СПб. Орешин П. 1926. Моё знакомство с Есениным. — Красная нива № 52. Орлова А. А. 1987. Тайна жизни и смерти Чайковского. — Континент (Париж), 53: 311–336.
Павленко Н. Полудержавный властелин. М, Современник. Памяти 1926. Памяти Есенина. М, б. и.. Переписка 1993. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М, Наука. Пересветов И. 1956. Сочинения И. Пересветова. М-Л. Петр 1993. Петр Великий: Воспоминания, Дневниковые записи, Анекдоты. СПб. Пушкинский фонд. «Третья волна». Париж-Москва-Нью-Йорк. Внешсигма. Пирютко Ю. 1993. Голубой Петербург. — Ты, 3: 8–9. Пичурин Л. 1995. Последние дни Николая Клюева. Томск, Водолей. Победоносцев 1923. К. П. Победоносцев и его корреспонденты. М — Пг, Госиздат, т. 2. Познанский А. 1993. Самоубийство Чайковского: миф и реальность. Москва, журн. «Глагол», 1993. Покровский М. Н. 1921. Русская история в самом сжатом очерке. Ч. 1–2. М. Госиздат. Порозовская Б. Д. 1895/1998. А. Д. Меншиков. Его жизнь и государственная деятельность. — Петр Великий, Меншиков и др. СПб, Лир — Редактор, Глория, Кристалл: 115–220. Послания 1959. Послания Ивана Грозного. Подг. Д. С. Лихачев, Я. С. Лурье. Пер., комм. Я. С. Лурье. М. -Л., АН СССР, «Литературные памятники». Последний год 1990. = Последний год жизни Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники. М., «Правда». Поссевино А. 1983. Московия. — Исторические сочинения о России XVI в. М., («Московия», «Ливония», др.) / Пер, вст. статья Л. Н. Годовиковой. М, МГУ. с. 182. Пржевальский Н. М. 1870. Путешествие в Уссурийском крае 1867–1869 гг. СПб, изд. автора. Пружан И. 1972. Константин Сомов. М, Изобразительное искусство. Пружан И. Н. (сост.). 1971. Константин Андреевич Сомов. Каталог выставки к 100- летию со дня рождения художника. Л., Искусство. Пруст М. 1993. Содом и Гоморра. М., Республика (ориг. 1921). Пруст М. 19936. Пленница. М., Республика (ориг. 1923). Путилов Б. Н. 1985. Н. Н. Миклухо-Маклай. Путешественник, ученый, гуманист. М, Прогресс. Пушкин А. С. 1937–1949. Полное академическое собрание сочинений в 16-ти томах. М. -Л. (при цитировании обозначены в скобках тома римскими цифрами, страницы арабскими) Пушкин А. С. 1937–1959. Полное академическое собрание сочинений. М. -Л., Академия наук СССР. Пушкин А. С. 1995. Дневник. Записки. Санкт-Петербург, Наука.
Разгон Л. 1990. Непридуманное. Москва, Слово. Расселл П. 1996. 100 кратких жизнеописаний геев и лесбиянок. Москва, Крон-пресс. Розанов В. В. 1990. Люди лунного света. Метафизика христианства. 2-е изд. С. — Петербург (ориг. 1911). Ромм М. И. 1989. Устные рассказы. Москва, Киноцентр. Ротиков К. 1998. Другой Петербург. Санкт-Петербург, Лига Плюс. Рудольф 1995. Рудольф Нуреев: Три года в Кировском театре. Сборн. статей. СПб, Пушкинский Фонд. Рукою 1935. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Подготов, к печ. и коммент. М. А. Цявловская и др. Москва — Ленинград.
Селин А. А. 2001. Новые материалы о гомосексуализме в Новгороде нач. XVII в. — Мифология и повседневность: Гендерный подход в антропологических дисциплинах. Алетейя, Санкт-Петербург: 41–45. Семевский М. И. 1993. Тайная служба Петра I. Минск, Беларусь. Скрынников Р. Г. 1983. Иван Грозный. М, Наука. Скрынников Р. Г. 1996. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. Тт. 1–2. Смоленск, Русич. Скрынников Р. Г. 1999. Дуэль Пушкина. Санкт-Петербург, БЛИЦ. Соболев В. С. 1993. Августейший президент. СПб, Искусство — СПб. Соколов В. С. 1994. Антонина Чайковская: История забытой жизни. Москва, Музыка. Соловьев В. 1974. Стихотворения и шуточные пьесы. Л, Советский писатель. Соловьев Е. А. 1893. Иоанн Грозный. Его жизнь и государственная деятельность. СПб, типография П. П. Сойкина (перелечат, в сб. Иоанн Грозный… Биографические очерки. СПб, 1995, ЛИО Редактор: 5–84). Соловьев С. М. 1907. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других, VII–X. — Вестник Европы, кн. 4 (апрель): 437–467. Солуэй Д. 2000. Рудольф Нуреев на сцене и в жизни. М, Центрполиграф. Стасов В. В. 1980. Статьи о музыке. Вып. 5-Б, дополнительный. М, Музыка. Стоглав 1868. Стоглав. СПб, изд. Д. Е. Кожанчикова. Стюарт О. 1998. Рудольф Нуриев: Вечное движение. Смоленск, Русич. Суворин А. С. 1923. Дневник. М — Пг, Л. Д. Френкель.
Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем. Москва. 1959. Тимофеев А. Г. 1994. Семь набросков к портрету М. Кузмина. — М. А. Кузмин. Арена. Избранные стихотворения. СПб, Северо-Запад: 5–38. Толмачева Н. В. 1996. «Я вас любил» (Пушкин и женщины). Омск, б. и. Толстая С. А. 1978. Дневники. М., Художественная литература, т. 2. Толстой Л. Н. 1937. Полн. собр соч., М, Худлит, т. 84. Толстой Л. Н. 1992. Полное собрание сочинений. М, Художественная литература, 1928–1958 (репринтн. переизд.: М, Терра, 1992). Тумаркин Д. Д. 1999. Николай Николаевич Миклухо-Маклай (Биографический очерк). — ММ 6, 1: 553–673.
Урусов С. Д. 1909. Царские амуры. Господа Романовы и тайны русского двора. Лондон, б. и. Утаенная любовь 1997. = Утаенная любовь Пушкина. Санкт-Петербург, Гуманитарное агентство «Академический проспект».
Феоктистов Е. М. 1929. Воспоминания […]. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. Л, Прибой (переизд.: М, Новости, [1991]). Фернандес Д. 1996. Эйзенштейн. СПб, Инапресс (перев. с: Fernandez D. 1975. Eisenstein. Paris, Grasset; перв. изд. 1969). Фюлёп-Миллер Р. 1994. Святой дьявол. СПб, Печатный двор.
ХГ 1–2. = Харитонов Е. 1993. Слезы на цветах. Кн. 1. Под домашним арестом (Глагол 10 [1]); Кн. 2. Дополнения и приложения (Глагол 10 [2]). Хлысталов Э. 1994. 13 уголовных дел Есенина. По материалам секретных архивов и спецхранов. М, Русланд. Хмельницкий С. 1950. Николай Михайлович Пржевальский 1839–1888. Л, Молодая гвардия. Ходасевич В. 1936. Книги и люди. Чайковский. — Возрождение, № 40056 21 мая 1936. Ходасевич В. 1976. Некрополь: Воспоминания. Париж, YMCA-Press.
Царь-палач 1998. Царь-палач (Грозные времена Грозного) [Сочинения Альберта Шлихтинга и Генриха Штадена]. Казань, изд. Матбугат йорты.
Чайковский М. И. 1900. Жизнь П. И. Чайковского, тт. 1–3. Москва-Лейпциг, 1900–1902. ЧД = Чайковский П. И. 1923. Дневники. М. -П, Госиздат, Муз. сектор (переизд. репринт. 1993, Санкт-Петербург, Эхо — Северный Олень). Черейский Л. А. 1988. Пушкин и его окружение. Ленинград, Наука. Чернявский В. С. 1986. Три эпохи встреч (1915–1925). — С. А. Есенин в воспоминаниях современников. В двух томах. Т. 1. М, ГИХЛ: 198–235. ЧПМ=Чайковский П. И. 1934–1936. Переписка с Н. Ф. фон Мекк в 3 тт. М — Л, Academia. ЧПР = Чайковский П. И. 1940. Письма к родным (1850–1879). Т. 1. М, Музгиз. ЧПС = Чайковский П. И. 1959–1981. Поли, собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. М., Музгиз. Чуковский К. 1994. Дневник 1930–1969. Москва, Современный писатель. Чулков Г. 1999. Жизнь Пушкина. Москва, Республика.
Шаховская 3. 1991. В поисках Набокова. Отражения. М, Книга. Шкловский В. 1976. Эйзенштейн. 2-е изд. М, Искусство.
Щеголев П. Е. 1987. Дуэль и смерть Пушкина. В двух книгах. Москва, Наука. Щербаков В. И. 1996. Неизвестный источник «Войны и мира» (Мои записи массона П. Я. Титова). — Новое литературное обозрение, 21: 130–151. Щербатов М. М. 1898. Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого. — Сочинения кн. М. М. Щербатова. Т. 2. Статьи историко-политические и философские (Под ред. И. П. Хрущова и А. Г. Воронова). СПб., изд. Б. С. Щербатова: 23–50.
Эйзенштейн 1974. Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М, Искусство. Эйзенштейн С. М. 1964. Избранные произведения в 6 томах. М, Искусство. Эй М 1997. = Эйзенштейн С. М. 1997. Мемуары. Тт. 1–2. Москва, «Труд» и Музей кино. Эрнст С. 1918. К. А. Сомов. СПб, Изд. Общины Св. Евгении.
Ackerman G. 1999. Vie et oevre. — Eisenstein 1999: 177–190. Amengual B. 1980. Que viva Eisenstein! Lausanne, Lege d’Homme. Archer B. 1999. Boy’s life. — New York Blade News, Jan. 15, 3 (3): 29.
Baer Nancy van Normann. 1986. Bronislava Nijinska: A dancer’s legacy. San Francisco< Fine Arts Museum. Bianchi T. 1994. Bob & Rod. New York, St. Martin’s Press. Bland A. 1977a. The Nureyev image. London, Studio Visa. Bland A. 1977b. The Nureyev Valentino: Portrait of a film. Ontario, Collier Macmillan. Bleibtreu-Ehrenberg G. 1980. Mannbarkeitsriten: Zur institutionellen Päderastie bei Papuas und Melanesiem. Frankfurt a. M., Ullstein. Boswell J. 1980. Christianity, social tolerance and homosexuality. Gay people in Western Europe from the beginning of the Christian era to the Fourteen Century. Chicago and London, The University of Chicago Press. Boswell J. 1995. Same-sex unions in Premodem Europe. New York, Viking Books. Bourman Anat. 1937. The tragedy of Nijinsky. London, Rob Hala. Boyd B. 1990. Vladimir Nabokov: The American years. Princeton, N. J., Princeton University Press. Boyd В. 1991. Vladimir Nabokov: The Russian years. Princeton, N. J., Princeton University Press. Buckle R. 1955. In search of Diaghilev. London, Sidgewick. Buckle R. 1979. Diaghilev. New York, Athenaeum. Buckle R. 1983. In the wake of Diaghilev. New York, Holt, Rinehart and Winston. Buckle R. 1988. Nijinsky. London, Foenix Grant.
[Cocteau J.]. 1989. Der Zeichner Jean Cocteu. The graphic Artist. Berlin and Amsterdam, VV; Borderline and De Woelrat. Collins S. 1671. The present state of Russia. In a Letter to a Friend at London; Written by an Eminent Person residing at the Great Czars Court at Mosco for the space of nine years. London. Cooper E. 1986. The sexual perspective. Homosexuality and art in the last 100 years in the West. London and New York, Routledge and Kegan Paul. Crompton L. 1985. Byron and the Greek love: Homophobia in 19th-century England. Berkeley, University of California Press.
Dolin A. 1930. Divertissement. London, Sampson Low, Marston. Dreiser Th. 1928. Dreiser looks at Russia. London, Constable. Driberg T. 1977. Ruling pasions. London, Jonathan Cape. Drummond J. Speaking on Diaghilev. London, Faber & Faber. Duberman M. L., Vicinus M, and Chauncy G., Jr. (eds.). 1990. Hidden from history. Reclaiming the gay and lesbian past. New York, Meridian (1991 New York, Hall Books). Duroc P. 1983. Homosexuels et lesbiennes illustres. Dictionnaire anecdotique. Bruxelles, Les Auteurs Reunis.
Eisenstein S. M. 1999. Dessins secrets, avec des textes de J. -C. Marcadé et G. Ackerman. Paris, Le Seuil. Eros russe. Русский Эрот не для дам. Женева, 1879 (Фирма Ольга, С. -Петербург, 1993). Evelyn J. 1906. The diary of John Evelyn. London. Vols. I–III.
Field A. 1967. Nabokov: his life in art. A critical narrative. London, Hodder and Stoughton. Fontain M. 1977. Autobiography. New York, Warner Books.
Garde N. I. 1964. Jonathan to Gide: The homosexual in history. New York, Vantage. Garde N. I. 1969. Jonathan to Gide: Homosexuals in history. New York et al., Vantage Press. Grabar I. 1903. Constantin Somoff. — Zeitschrift fur bildende Kunst, Juli: 239–245. Greenop F. S. 1944. Who travels alone. Sydney (русский перевод: Гриноп Ф. С. 1989. О том, кто путешествовал в одиночку. М). Greif М. 1982. The Gay book of days. Secaucus, New Jersey. Grigoriev S. L. 1953. The Diaghilev Ballet 1909–1929. London, Constable; Penguin 1960. Grossman L. 2000. The Gay Nabokov.
Haskell A. in collaboration with W. Nouvel. 1935. Diaghileff: His artistic and private life. New York, Simon and Schuster. Havelock Ellis. Etudes de psychologie sexuelle. Paris, 1926, t. VI, pp. 101–208: Confession sexuelle d’un Russe du Sud… Hellie R. 1974. In search of Ivan the Terrible. — Platonov S. F. Ivan the Terrible. Florida: IX–XXXIV. Hellie R. 1984. Ivan Groznyi’s paranoia and the problem of institutional restrains. Paper on the Conference devoted to the 400th anniversary of Ivan the Terrible, Chicago 24–25 March of 1984. Herdt G. 1981. Guardians of the flutes: Idioms of masculinity. New York, McGraw-Hill. Herdt G. 1984. Ritualized homosexuality in Melanesia. Berkeley, University of California Press. Herdt G. 1987. The Sambia: Ritual and Gender in New Guinea.
Ivnev R. 1995. Life before article 154. A long-hidden diary reveals the rich sensual life of Russia’s intelligentsia before Stalin’s homosexual purge. — Index on censorship 1/1995 (vol. 24, issue 162): 72–85.
Jolly J. and Kohler E. (eds.). 1995. Gay letters. London, Marginalia Press.
Karlinsky S. 1976. The sexual labyrinth of Nikolai Gogol. Cambridge, Mass., Harvard University Press (2d ed.: Chicago, University of Chicago Press, 1992). Kayy W. H. 1965. The Gay geniuses. Psychiatric and literary studies of famous homosexuals. Glendale, Cal., Marvin Miller. Kejserinde Dagmar. Christiansborg Slot, Kobenhavn 1997 Kochno B. 1971. Diaghilev and the Ballet Russes. Transl. New York, Hayn and Row; London, Allen Lane, Penguin. Kopelson К. 1997. The queer afterlife of Vaclav Nijinsky. Stanford, Stanford University Press. Kowalski J. W. 1988. Poczet papierzy. Warszawa, KiW. Krafft-Ebing R. von. 1982. Psychopathia sexualis, &. Aufl. Stuttgart, Enke. Kropotkin P. 1900. En anarkists erindringer (autoriseret oversaettelse af Emmy Drachmann). Kobehavn, Gyldendalske Boghandels Forlag. Krzeszowiec M. 1996–1997. Mezczyzni w zyciu Chopina. — Inaczej, 1996, 9–1997, 3 (c. 18 или 18–19 в каждом номере).
Lariviere M. 1997. Homosexuel et bisexuel célèbres. Le dixionnaire. Paris, Delétraz. Levin E. 1989. Sex and society in the world of the Orthodox Slavs, 900–1700. Ithaca and London, Cornell University Press. Leyland W. (ed.). 1991–1993. Gay roots: An anthology of Gay history, sex,politics & culture. San Francisco, Gay Sunshine Press. Vols. 1–2.
Mac Vay G. 1969. Nikolai Klyuev. Some biographical materials. — Николай Клюев. Соч. П. общ. ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. I. F. Neimanis: [195–196]. Mac Vay G. 1976. Esenin. A life. NY Ardis. Mac Vay G. 1980. Isadora & Esenin. NY Ardis. Marcadé J. -C. 1999. Les dessins secrets de Sa Majesté Eisenstein. — Eisenstein 1999: 7–47. Massine L. 1968. My life in ballet. London, Macmillan. Moll A. 1910. Berühmte Homosexuelle. Wiesbaden, J. F. Bergmann. Money K. 1994. Fonteyn and Nureyev: The great years. London, Harvill.
Nash J. V. n. d. Homosexuality in the lives of the great. Girard, Kan, Little Blue Books, no. 1564. Nijinska Bronislava. 1981. Early memoirs. Transl. and ed. by Irina Nijinska and Jean Rawlinson. New York, Holt, Rinehart and Winston. Nijinsky Romola. 1933. Nijinsky. London, Gollanz; New York, Simon & Shuster, 1934; London, Penguin 1960; Sphere 1970; Pocket Book, 1972. Nijinsky Romola. 1952. The last years of Nijinsky. Gollanz 1962. Nijinsky Tamara. 1991. Nijinsky and Romola: A biography. London, Bachman and Turner. [Nijinsky Vaslav]. 1937. The diary of Vaslav Nijinsky. Translated and ed. by R. Nijinsky. London, Gollanz; London, Panthar. 1962. [Nijinsky Vaslav]. 1999. The diary of Vaslav Nijinsky. Unexpurgated edition. Transl. from the Russian by Kyril Fitzlyon, ed. by Joan Aevcella. New York, Farrar Strauss and Giroud. Nureyev R. 1962. An autobiography with pictures. London, Hodder and Stoughton; New York, E. P. Dutton & Co. 1963 (under the title: Nureyev).
Ostwald P. 1991. Nijinsky: A leap into madness. New York, Carol.
Poznansky A. 1991. Tchaikovsky: The quest for the inner man. New York, Schirmer; New York — Oxford, Maxwell — Macmillan.
Rancour-Lafferiere D. 1993. Tolstoy’s Pierre Bezukhov. London. Rayfield D. 1976. The dream of Lhasa. The life of Nikolay Przevalski (1839–88). Explorer of Central Asia. Ohio University Press/Elek London. Reid J. 1976. The Best Little Boy in the World. New York, Ballantine Books. Richardson F. 1972. Napoleon, bisexual Emperor. London, William Kimber. Rod and Bob 1994. Rod and Bob Jackson-Paris. Straight from the heart. A love story. New York, Warner Books. Rosen W. von. 1993. Månens kulor. Studier i dansk bossenhistorie 1628–1912, Copenhagen, Rhodos. Rowse A. L. 1977. Homosexuals in history: A study of ambivalence in literature and arts. New York, Macmillan; London, Weidenfeld and Nicolson. Ruitenbeek H. M. (ed.). 1967. Homosexuality and creative genius. New York, Astor — Honor (London, Souvenir Press, 1973).
Seton M. 1957. Eisenstein. Paris, Le Seuil. Shively Ch. 1989a. Big Buck and Big Lick. — Shively Ch. (ed.). Drum beats. San Francisco, Gay Sunshine Press: 71–88. Shively Ch. 1993. Washington’s Gay mess: was the Father of our country a Queen. — Gay roots, vol. 2. An anthology of Gay history, sex, politics and culture. San Francisco, Gay Sunshine Press: 11–68. Sokolova L. 1989. Dansing for Diaghilev: The memoirs of Lydia Sokolova. London, Columbus Books. Solway D. 1998. Rudolph Nureyev: His life. New York and London, William Morrow — Widenfeld and Nicolson. Stern В. 1908. Geschichte der offentlichen Sittlichkeit in Russland, in 2 Bde. Berk, Bd. 2. Stuart Ot. 1995. Perpetual motion: The public and private lives of Rudolph Nureyev. New York et al., Simon & Schuster.
Tobias A. 1999. The best little boy in the world grows up. New York, Random House.
Villebois [G. Е]. 1853. Mémoirs secrets pour servir à 1’hostovre de la Cour de Russie, sous le règnes de Pierre-le-Grand et de Catherrine Ire, rédegés et publiés… par m. Theophile Hallez. Paris, E. Dentu.
Watson P. 1994. Nureyev: A biography. London, Hodder & Stoughton. Weber Ch.-F. 1723. The present state of Russia. Vols. 1–2. London, (нем. изд.: Dia veränderte Russland. Th. 1. Frankfurt, 1721). White E. 1982. A boy’s own story. New York and Scarboro, Ontario, A Plume Book (русск. перев.: Вайт Э. История одного мальчика. Москва, Глагол, № 14, 1992).
Августин Аврелий. 1996. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. Москва, Renaissance.
Источники иллюстраций
Большая часть иллюстраций и фотографий использованы с признательностью автором из источников, указанных в библиографии.Для титулов были использованы: гл. I — фрагмент второго послания Курбскому; гл. II — 58-пушечная «Предестинация», сооруженная в 1701 г. по чертежам и под руководством Петра I. Гравюра А. Шхонебека; гл. III — автопортрет М. Раевская. В черновой рукописи первой главы романа «Евгений Онегин». 1823 г.; гл. IV — илл. к повести А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек», мужские и женские портреты, рис. М. Ю. Лермонтова. 1832–1834 г. г.; гл. V — фрагмент карты экспедиций Н. М. Прежевальского; гл. VI — рисунки Н. Н. Миклухо-Маклая: остров Целебес (Сулавеси), д. Тондано; гл. VII — страница партитуры Первого концерта для фортепиано с оркестром (1875 г.) с автографом П. И. Чайков ского, Симфоническая фантазия «Франческа де Римини» (обложка I издания, 1878 г.); гл. VIII — рисунок Л. Н. Толстого в черновой рукописи к первой редакции романа «Война и мир» (том I, ч. III1860-е г., Старик (в Кавказской записной книжке) 1852 г.; гл. IX — герб дома Романовых; гл. X — фрагмент обложки сб. М. Кузмина «Куранты любви»; гл. XI — фрагменты илл. к повести Лонга «Дафнис и Хлоя». 1930 г.; гл. XII — Л. Бакст. рис. костюма Фавна; гл. XIII — Танец Избранницы («Весна священная») — фрагмент рис. В. Гросс, В. Нижинский в «Карнавале» — рис. А. Бурделя; гл. XIV — «Русь уходящая» и «Русь», беловой автограф С. Есенина; гл. XV — автограф стихотворения В. В. Набокова (1965 г.), экслибрис библиотеки В. Д. Набокова; гл. XVI–La Matildona фрагмент рис. С. М. Эйзенштейна из альбома «Dessins secrets», Éditions du Seuil, 1999; гл. XVII — илл. Вадима Меджибовского к пьесе «Очарованный остров». 1977 г.; гл. XVIII — нарисованный Нуреевым камзол Альберта для II акта «Жизели», парижский ежегодник «Treiangul’ére» 2, «Gendron», 2001 г. — рисунок Дамира Гибадуллина.
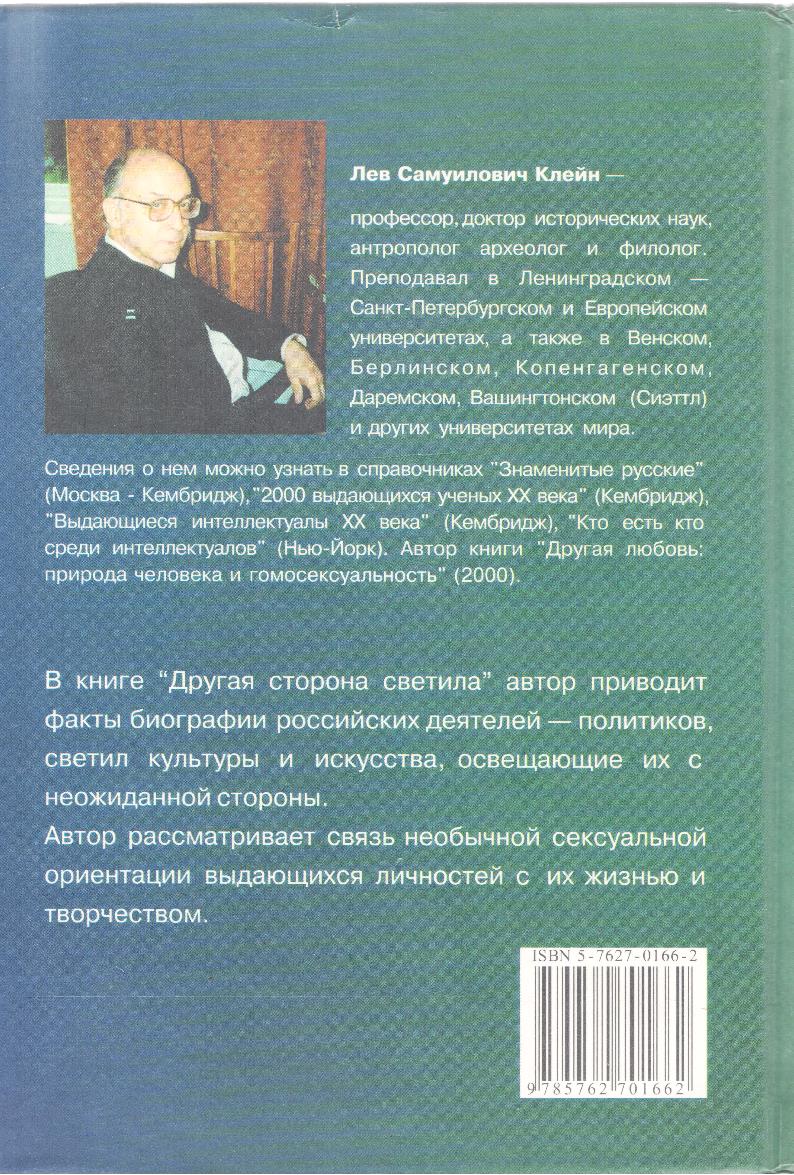
Последние комментарии
8 часов 8 минут назад
8 часов 11 минут назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 18 часов назад
2 дней 20 часов назад
2 дней 21 часов назад