Дача на Петергофской дороге Проза русских писательниц первой половины XIX века

© Составление, вступительная статья, примечания, художественное оформление, издательство «Современник», 1986.
Забвенью вопреки Творчество русских писательниц первой половины XIX века
Сборник произведений женщин-писательниц — чем обусловлен такой замысел? Оправдан ли избранный здесь подход к возрождению некоторых забытых сторон отечественной культуры? Неудивительно услышать подобные вопросы от современного читателя, с молоком матери впитавшего дух равноправия социалистического общества. Но путь к настоящему — социальному, духовному, творческому — равноправию женщины был долог, непрям и суров. Представленные в сборнике имена — яркие вехи на этом пути. Их объединяет не только страна, не только время жизни и творчества, не только литературное направление, но и общность социального мироощущения. Это неспособность мириться с рабским, униженным положением женщины в самодержавной крепостнической России. Здесь собраны широко известные современникам произведения писательниц, заявивших свое право на творчество в ту пору, когда для подавляющего большинства и так называемых «простых» и образованных людей в России эрудированная, социально активная женщина казалась явлением неестественным. Укрывшись под псевдонимом Рахманный, третьеразрядный беллетрист Н. Н. Веревкин опубликовал в 1837 году в «Библиотеке для чтения» опус, содержащий, в частности, такие пассажи: «Женщина, пляшущая на канате, женщина, подымающая тяжести, женщина-амазонка, женщина, играющая на скрипке, женщина, прежде тридцати пяти лет нюхающая табак, женщина, бьющая мужа, наконец, женщина-писательница… — возбудив сперва любопытство, производит потом действие глубокого отвращения. И оно натурально. В этих женщинах нет естественности… Их ли маленьким, огненным шаловливым головкам опровергать теории электричества; выкладывать квадратуру круга; читать лекции о ботанике, черепословии и государственном кредите или развращаться, сочиняя нравственные романы?..» Велик ли спрос с третьестепенного писателя? — можно заметить ныне, — это только стремление сказать нечто «позабористей», произвести впечатление экстравагантностью суждений. Нет, дело обстояло много сложнее. Укоренившиеся взгляды на общественное предназначение женщины разделяли и многие лучшие люди своего времени. Кто не помнит пушкинских строк:Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою,
Красавиц новых поколенье,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
Стихи введут в употребленье;
Но я… какое дело мне?
Я верен буду старине.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.
Пройду своим путем, хоть горестно, но честно,
Любя свою страну, любя родной народ,
И, может быть, к моей могиле неизвестной
Бедняк иль друг со вздохом подойдет.
З. А. Волконская Сказание об Ольге{1}


Песнь вторая
Месяц освещал низкую хижину варяга-перевозчика и зыбкие волны озера. — Наступила пора долгих ночей; давно отлетели в теплые края перелетные птицы, давно вороны и галки слетались стадами из лесов под кровли сельских хижин; снег, окрепший от мороза, хрустел под стопами конских копыт, а легкие сани, едва чертя след, летали. Кончены работы; вот пора гаданья, игрищ и свадеб! Каждый день веселая толпа собиралась в просторнейшей хижине села. Там, на посиделках, молодцы затевали игры, молодицы пряли, пели, славили Вайзгантоса{2}, бога дев, и Ладу{3}, богиню свадеб. Старухи садились у очага; одни гадали, глядя на зажженную березовую лучину; другие, в кругу мужчин и женщин, у которых лица показывают внимание и веру, толковали сны, рассказывали про добрые и злые встречи, про оборотней и про юных рыбаков, пропавших в озеро и унесенных на дно водяным дедом. Девицы и парни, любовь на уме, собирали в деревянное блюдо ожерелья и кольца, вынималипод песни, и песни гласили им то свадьбу, то дальний путь, то богатство, то скорую смерть. Не раз и Ольга, задумавшись, опускала в то блюдо, со вздохом тяжелым, свое запястье или привеску с ожерелья, и не раз песня сулила ей жениха молодого и знатного. Тогда она шла поспешно домой, в свою бедную хижину, и там все дышало для нее надеждою и мечтами. Но проходило время, а не было слуху ни об Игоре, ни об Олеге. Старик не замечал грусти дочери. Она по-прежнему в точности исправляла все дела свои, говорила мало и скрывала тоску от его взоров. Но ее краски бежали с ланит, и слабый ее голос уже не пробуждал отголосков озера. Если, в угодность отцу, она затягивала иногда песнь об отъезде, то частое биение сердца захватывало ей дух, звуки замирали на устах ее. Так водопад, тяжелый, кипучий, шумно валит на камень, заглушая песни рыбака на берегу соседнем.* * *
Снег блестит от солнца. Воздух ледян, воды недвижны, и казалось бы, что смерть все окутала в свой широкий белый саван, если б карканье ворон и крик галок не свидетельствовали еще о какой-то жизни. Но кто ж возмутил безмолвие леса? Отчего вдруг посыпался снег с этих ветвей согбенных? Отчего заяц бросился в глубокий ров? — В сию глушь проникла юная дева. С трудом идет она по глыбам снега, где тонет ее нога, пробирается между густых ветвей, которых еще нс разнимала рука человеческая. Красноватый свет показался глазам ее. «Благословен Перун и Один!»{4} — сказала она, испустив долгий вздох, дотоле сжатый в груди сомнением и страхом; ускорила шаг, легко перескочила через забор, сложенный из набросанных корней сосновых, и очутилась перед старцем, сидевшим у большого огня. Борода его висела ледяными клочьями, и глаза, блестящие, как у волка в темном лесу, уставились на деву. — Чего ты хочешь? Зачем пришла? — спросил он. — За советом, дедушка, — отвечала она и вынула из-под пестрого передника кусок холста, ей самою тканного. — Криве могучий!{5} да виданное ли дело, чтобы девки одни-одинехоньки заходили в эту страшную пустошь? Кто ты такая? — Варяжка, дедушка. Зовут меня Ольгой, а прозвал так молодой князь-богатырь прошлого года на прощанье. Он обещал мне взять меня за себя, и я давно, давно жду его, но его нет как нет. За ним, знаешь, ездит много коней и прислуги. Теперь я пришла к тебе, добрый дедушка… у нас ведь молва слывет, будто что ты умеешь людей оборачивать в кого хочешь. Так дай мне крылышки; полетела б через степи, через леса, реки и города, везде-то бы искала следов моего суженого; прилетела бы в город большой, посмотрела бы на его башни и людей и узнала бы наверное его кровлю… — И тут Ольге казалось, что ее ноги в самом деле поднимались с земли, что она летит лётом по облакам и грудь ее расширилась, словно у птицы. — Что ты это вздумала, неразумная, — отвечал кудесник, качая головою. — Будешь птицей, разве не боишься, неравно стрела нагонит али другая птица, сильнее, заклюет до смерти… — Не боюсь, — отвечала Ольга, устремив на него глаза, в коих изображалась отважность. — Так слушай же, что расскажу тебе. Увидишь, как страшны оборотни, — продолжал старик. — Была одна девка и ту девку полюбил один молодец из судовщиков. Вот она обмани его и отдайся другому. Брошенный жених пожалуйся кривичу-кудеснику. Уж дело было слажено, и молодых вела толпа провожатых в их новую избу, а кудесник прокрался в избу прежде их, да и сунул свой нож под овчину, что была постлана у порога. Вот молодые только ступят на железо, вдруг оборотились в двух волков, что ветром ошибенные, они кинулись на дружек. Поднялась суматоха; мужики, бабы, дети бегут прочь куда глаза глядят. Кудесник махнул рукою, слова промолвил, и все погнали назад в избу; как скоро переступили порог, и тоже так вся свадьба превратилась в волков. С тех пор, что ни вечер, они идут стадом к прежним избам своим, воют, воют, и страсть берет, кто ни послушает. А жаль их, ведь все друзья да братья; пытались отогнать их в лес. Да нет, и тут не унялись: как только вечер, стадо волков идет себе в село, обходит избы и воет. Делать нечего: выбились из сил люди, напущали на них псов голодных, и те псы всех их до одного перегрызли. Видишь теперь? Не боишься ли ты? Не страшно ль? — Нет, — отвечала девица, — та обманула жениха, а я ищу своего. — Так ты думаешь, — продолжал старик, и брови его опускались на сверкающие глаза, — думаешь выстоять все искусы? А ведь по многим придется пройти тебе, и от каких дрожал не один богатырь. — Не побоюсь ничего; только начинай скорее, дедушка, — отвечала девица. — Иди ж за мною, — сказал старик, взял пук сухой лучины, зажег и повел Ольгу в землянку, крытую сосновыми ветвями.* * *
При красноватом свете лучины Ольга молча глянула на рваные вещи, висевшие по черным стенам мудреного жилища. Пучки сухой травы, вороньи гнезда, рога, когти, носы, крылья разных хищных птиц, лосиная шкура, гусиный остов, закривленный жезл, барабан, расписанный какими-то знаками, поражали попеременно ее взоры. Два волчонка играли на полу; но как увидели людей, заревели и бросились бежать. Длинный уж развивался в углу и качал головою над кувшином, полным молока, и он испугался и спрятался в постель кудесника. Между тем Вайделота{6} вышел и скоро воротился, одетый в белую рубаху, держа в одной руке широкий нож, а в другой черную кошку, которая страшно билась и кричала. Из глаз ее, казалось, лились искры дождем, и когтями она как будто хотела рвать воздух вокруг себя. Ольге вздумалось, что сам Чернобог{7} облекся в вид кошки, чтоб испугать ее; но, устыдясь минутной боязни, она победила сию мысль и стала смотреть на страшного старика. Он хранил молчание, и движения и взгляды его выражали досаду; воткнул в землю длинный шест, подле таза с водою, и привязал животное, обреченное в жертву Черному богу. — Поди сюда, смелая, — сказал он девице, — развяжи повязку головы твоей, распусти волосы, разними пояс, ступи на эту змеиную кожу: вот она — и иди по ней без страха. Ольга повиновалась и твердо пошла по змеиной коже. — Стой, — вдруг закричал кудесник, — страшен час нам, услышал Чернобог. Бог Черный! отец всякого зла! ты, что, молвят, живешь внутри земли, а по другим, в водяных омутах. Что на Западе ведан был чудом длинногривым и грозился пастью на небо, а на Востоке являлся исполином страшным, и сохла земля, где ты глядел на нее, и людям давал ты в уста свой сосец студный, и почахнут те люди! Води рукой моей, я обведу круг около девы, а ты сомкни его. Ольга, сложив руки у груди, следила глазом все движения чародея и только одного опасалась, что ее дело не удастся. — Вторь за мною, что говорить буду, — сказал старик. Девица повиновалась, и следующие слова огласили землянку: «Горе, кто не сдержит слова! Чернобог страшный! Ты все можешь, что захочешь, так приведи ж ко мне назад моего суженого-ряженого! А коль он да забыл свое слово, так не знал бы покоя под своей крышей, ни на водах, ни в степях, ни в лесах святых! Мучили б его домовые день и ночь! Не видал бы он хлеба-соли на столе своем, не видал бы огня в печи. А высох бы что нива, когда ведьма заплетет венок из соломы да заклянет его!» Ольга трепещет, нерешима, едва переводит дыхание, но вдруг вооружается всей силой воли и побеждает страх. — Бери теперь нож, — сказал кривич, — зарежь кошку, чтоб капала кровь в этот таз. Девица смело наносит смертельный удар: кровь течет, и кудесник, потрясая над тазом зажженной лучиной, говорит: — Видишь в воде круги этой крови, стань над тазом, чтоб твое лицо виднелось в тех кругах. Тут ты переменишься: глаза твои нальются кровью, пар начнет выходить изо рта и всю тебя обнимет; и тогда, если захочет черная сила, то покроешься перьем и улетишь коршуном. — Тут он замолчал; потом вскрикнул страшным голосом: — Нет, божусь, Криве! что-то не ладится! — кто-то мешает! Говори за мною, да смотри не робей… «Я вольна: улечу, куда вздумаю. Разбейтесь, цепи! сгинь и мать! сгинь и отец! сгинь кто держит!..» — Постой! постой, — прервала Ольга, — отец мой жив! Сохрани его Перун, и Один, и все белые боги! Знаешь варяга-перевозчика, — и дева бросилась вон из круга, оттолкнув кривича, хотевшего удержать ее. Колдун улыбнулся; …закрывая рукою уста, как будто погружаясь в думу, важно возразил: — Полно ж думать о богатырских свадьбах, уйми свою гордость. Не перевозчице быть женою знатного князя. — А коль он обещался, — прервала Ольга твердым голосом, — так, видно, буду. — Ан слушай, девица, упрямая голова, что старый дуб твердый, — сказал кудесник, — коль хочешь только, чтоб тебе был верен твой надёжа да воротился к тебе, так тут дело не до оборотов, не до летания птицею. Научу тебя другому; воротится твой суженый, коль он точно суженый. — Ах! вороти, дедушка! только у меня и думы: когда-то опять увижу его взоры соколиные? когда-то назову его супругом милым? — А сумеешь ли отыскать след его на земле в вашем селе? — Как не суметь, дедушка? Там, у ивы старой, над озером… тогда была пора долгих дней и ночей светлых; земля была сыра, помню, помню… — Возьми ж этот нож заговоренный, и как месяц потянет к Востоку, так ты иди с ножом под иву; ищи, вспомни, где стояли его ноги, снег разбросай и взрежь ту землю, ту самую, где помнится тебе, что его след остался; да приговаривай: воротись-де ко мне, суженый! И увидишь, очутится перед тобою. Тут ты закрой свои очи обеими руками и закричи: чур! Он пропадет, а ты скорым-скорехонько подбери ту землю и хорони у себя. Увидишь: семи дней не пройдет, твой суженый, что ласточка, прилетит к гнезду прошлогоднему, и забудет свет-волю, и так за тобою следом ходить и будет, что цыплята за маткой. Исполнившись надежды, Ольга наконец собирается домой: снова заплетает в косы свои волосы, надевает повязку, опоясывается поясом, засовывает за него чародейский нож и выходит из землянки, провожаемая кудесником. — Вот тропа, иди ею, — сказал он, — та дорога, которой ты пришла, длинна и опасна. Того и гляди, съедят волки: много их голодных таскается в том околотке. Иди ж себе с Бел-богом…{8} Да зверь попадется, так сорви ветку с дерева, переломи надвое и говори: вот твоя дорога, а вот моя! — и убежит тотчас. Ольга благодарит, кланяется и удаляется. — Да выслушай еще, красавица, — закричал ей вслед кудесник, — пройдешь шагов десяток, неравно услышишь: смеются, грохочут, смотри не пужайся, а пуще того — не останавливайся. Ведь в этом лесу водятся лесные русалки, станут заманивать, ты смотри беги себе неоглядной, не слушай их голоса льстивого. Ольга проворно идет тропою, указанною стариком, и без всякой дурной встречи достигает опушки леса. Но все, что она перетерпела противных чувств, утомили ее душу, замучили тело. Она останавливается, садится на ствол дерева, опрокинутого бурею. «Ворочу его, — говорит про себя, — ворочу, следом будет ходить за мною; не будет мне срама! Найду, найду следы его — там, над озером, там он долго стоял… Уж воротится он, уж будет мой!» Ее воображение разгорается, частые вздохи теснят грудь; она, зачерпнув снегу руками, прикладывает к горячему лбу, но снег тает, и лицо пылает по-прежнему. Члены ее тяготеют, глаза смыкаются; в уме образы слабеют, смешиваются, исчезают; она заснула; но вдруг голос Игорев взгремел в ее ухе: «Ольга, Ольга! помни свое имя, жди меня!» Она очнулась и быстро оглянулась во все стороны; встала и пустилась снова идти. А день гаснет. Все скорее идет дева; то поглядит на небо, то на длинные тени от елей по белой дороге, глядит во все глаза и взглядом и желаньем ловит, останавливает отлетающий свет. — Уж вот только белизна снега освещает предметы: куда поздно! Что подумает отец! Но чу! Кажется, шум; да, лай собачий. А там должно быть и село наше. Слава Бел-богу! вот оно, вот село. Еще скорее идет Ольга; она собрала все свои силы. Вот огни, что глаза волчьи, мелькают перед нею; шум все ближе, воздух как будто теплее; вот все живо около нее, она дома. — Но что же это за люди у ворот? и что за наречие у них такое, не чудское, не кривичское? — Кто вы, добрые люди? — спросила она трех молодцев, стоявших у пустых саней. — А тебе что за дело? — отвечал один. — Постой, не молодушка ли какая? — подхватил другой, — Голос-ат тоненький. Ну, так и есть. — Добро пожаловать, красавица! — закричали все. — Не пивца ли несет? Ан наливай скорее, да не пяться, побудь с нами. — Честные гости, — прервала Ольга, узнав варягов по выговору и одежде, — не из Киева ли вы? — Из Киева, голубушка. Видите, братцы, уж и девки-то чудские ведают про стольный Олегов город. — А что ведаете про Игоря? — спросила Ольга. — Про Игоря! — отвечал один. — Так и Игоря-то узнаешь? Так тебе его надобно? — Надобно! — прервала Ольга. — Кому ж, коль не мне? Где он? Неужели приехал? Укажите мне князя Игоря моего, укажите! — Князя Игоря? — сказал один варяг товарищу на ухо. — Это, верно, она! Девица, поди со мной, — продолжал он, — пойдем, все узнаешь. Ольга побежала вперед к отцовской избе и застала отца на пороге в беседе с чужеземцем. — Вот она, — вскричал отец. — Где ты пропадала? Здесь об тебе дело: вот и посланец от Олега могучего. Взойдем в избу, гость почтенный, сам скажи ей все наказанное нашим мудрым Олегом, наследником трех могучих богатырей, Рюрика, Синеуса и великого Трувора, моего брата названого. Тут посланный перешел порог и за ним старик с дочерью. Они оба сели в передний угол, а она стала перед ними. — Вот тебе дары от жениха, князя светлого Игоря Рюриковича. Он тебя выбрал в супруги из всех девиц. Да ниспошлют Перун, Волос{9} и Лада все блага земные на ваш союз! Отец смотрел со слезами на дочь любимую. — Чуяло ли твое сердце, дитя мое, эту новую судьбину? Как же шло это дело и как же я не знал? — А вот, слушай, — начала Ольга тихим голосом. — Помнишь, батюшка, как все наши варяги собрались переезжать на ту сторону, я стала в лодку: Игорь сошел ко мне, и мы поплыли. Он на меня глядит, после вымолвил нежное слово и позвал в Киев с собою. Мне стало совестно, и я отвечала ему, как водится, чинно, по твоему казанью. — Постой, — прервал старик, обращаясь к посланному, — сядем у печи, там теплее; мне и весело и страшно. — Игорь Рюрикович, — продолжала девица, когда все уселись, — опять меня стал уговаривать и вымолвил слово о браке. Тут я припомнила ему, что он не властен, что он ходит по сю пору по Олеге и что он сам себе не боярин. Когда мы доплыли до берега, он уверял, что я одна ему по сердцу, что иной жены не хочет, и сказал на прощанье: «Дожидайся меня или моего посланного и назовись Ольгою по имени и в честь моего дяди родного, как водится на Славяни. Будешь в Киеве, тебе будет и честь, и слава, и богатство: я пришлю тебе выкуп». — Я ждала, молчала, много терпела, но не смела проговориться с тобою, батюшка, ждала, ждала и… дождалась. Вот тебе, отец родимый, прямую правду сказала. Ольга покраснела и передником заслонила глаза свои. Старик взял Ольгу за обе руки, подвел к посланному и, зарыдавши, сказал: — Вот вам дочь моя! Нежьте ее, мое дитя любезное. Отныне она невеста Игоря, сына Рюрикова. Через два дня поедем к нему в Киев! — А ты, батюшка? — спросила Ольга. — Я, — отвечал отец, — я провожу тебя к твоему князю-супругу, погляжу на светлый город, добытый нашими варягами, погляжу еще раз на воинов и на оружье, послушаю шуму городского, а там — увидим.* * *
На другой день во всех дворах узнали, что сын Рюрика выбрал себе невесту, и с той поры на посиделках слышались песни, где повторялись имена Игоря и Ольги. Утро забелелось; Ольга вскочила, посмотрела вокруг себя: все готово. Отец еще спит. Пойдем, сказала себе, проститься с ладьей. На чьи-то руки ее оставить? Лодочка ее стоит, полузанесенная снегом. Ольга подошла к ней и задумалась: «Прости! пришлось нам расставаться. Служила ты мне службу, спасибо! Уж красных ли дней я в тебе не нагляделась? Обильного ли лову не видала? Бывало, как весело меня носит по тихому озеру, словно мои девичьи мысли до встречи с Игорем! А в бурю! В тебе не страшен был ветер буйный. Бьет в лицо, рвет кудри, крушит одежу — мне любо. А нонче на других водах пришлось мне плавать. Те воды будут и чище и шире, но другая ладья понесет ли так шибко? И уж не править мне веслом! Будут возить перевозчики; буду сидеть сложа руки, глядеть на прислужников и сидеть рядом с моим князем. А руку-то на плечо его, и сердцу будет весело. А что коли буря зашумит и завоет ветер? Не вытерплю, возьмусь за весло, управлю ладьей, — и скажет мой свет: „Жена — да выручила!“ Прости, ладья моя!» Ей стало на минуту тяжело; но она встрепенулась, как ласточка перед полетом, и прибежала к отцу. Уже все было готово к отъезду. Лошади запряжены; нетерпеливо бьют копытами и пылят снег. Сани покрыты ковром казарским. Ольге подают лисью желтую шубу. Ольгу покрывают длинною фатою. Отец и киевский посол сели с ней рядом, и варяги с криком бросаются на коней.Песнь третья
Небо мрачно, и звезды едва сыплют искры с синего свода, но снег, верный товарищ людей северных, освещает однообразную дорогу. Вот холмы поднялись над небосклоном: они венчают широкую реку. — Вот Днепр! — вскричал один варяг. — Да это Днепр! Днепр! — отвечал другой, и то имя, громко переходящее из уст в уста, сильно отозвалось в душе юной невесты. — Слава Перуну! — сказал старому перевозчику конюх Олегов. — Мы приехали: вот Киев! — Слава Тору!{10} — прошептал старик с тайным негодованием, которое испытывал всякий раз, как слышал варяга, призывающего богов славянских. — Слава всем азам Валгаллы!{11} — повторил он, взглянув на дочь, как бы для того, чтобы отвратить от нее гнев родных и почти забытых богов заморских. Ольга, пробегавшая все пространство нетерпеливым глазом, первая увидела хижину над берегом. У ворот стоит мужчина. Кому быть ему, как не Игорю? Подъезжают: сердце бьется, но быстрый взгляд скользнул по незнакомому и теряется снова в пустой дали. Вот и Киев, мать русских городов, рисуется на небосклоне: рассеянные огни на противоположном берегу привлекают внимание невесты. Княжие хоромы над крутым берегом и ночью при звездах ясно отличаются от других своей белизною и теремом высоким. На них остановились взоры Ольгины. Сани спустились на лед замерзшей реки, быстро помчались и поднимаются на другой берег. Едут ухабами, сугробами по дороге, занесенной снегом, и въезжают наконец внутрь дубовой ограды. Главный провожатый закричал; голоса откликаются, и вмиг воины, рабы и жены теснятся на тереме и в окнах. Игорь спит. «Вставай, пробудися, — говорила мама новгородская, которая входила к нему, когда хотела. — Лети, мой ясный сокол, лети к своей голубушке. Уж она вон там. То ли дело девица с наших озер! Красавица!» Игорь встает, надевает шубу зеленую, подбитую казарским горностаем, и идет к Олегу, не смея прямо броситься к невесте. Она же ждет в сенях со всеми и в первый раз робеет. Шумная толпа около них теснится. Олег с Игорем выходят из покоев и идут навстречу к нареченной супруге. — Здравствуй под моей кровлей, — сказал государь славян. — Девицы, затяните песни и величайте князя Игоря с княгиней Ольгой! Не так ли ее зовут? — Да, так! В честь и славу твою, — отвечал Игорь. — А вы, жены, — прибавил Олег, — а вы учите ее делам хозяйским да готовьте богатые одежды, как следует супруге сына Рюрикова. Вы же, слуги догадливые, готовьте напитков пьяных: от них веселье в доме, что благодать в стране от реки широкой! Иди со мной, брат! — сказал он, ударив по плечу старого товарища Труворова. — Иди, побеседуем о прошлом, а дочку оставим с новыми подругами: молодежь к молодежи — стариковские толки не в лад с девичьими! Свадебные песни гремели вокруг невесты во все течение дней, предшествовавших свадьбе, и воинский двор Олегов словно превратился в лес, населенный птицами голосистыми, встречающими весну красную.* * *
Между тем жены Олеговы, повинуясь приказу мудрого супруга, готовят одежды юной Ольги. Окруженные рабынями всех возрастов, они беспрестанно смотрят за их работой. Одни, искусные в мастерстве красить полотна и шерстяные ткани, смешивают березовый лист с полевым дроком и выводят из этой смеси краску желтую, как янтарь венедский{12}; а из корня диких пионов краску красную, не менее рябиновой кисти. Другие же нижут восточный жемчуг, бусы синие и вынизывают ожерелья. Славянские жены, не сводя глаз с разного шитья, привезенного из Скандинавии, хитрые перенимать всякое дело, выводят на тканях мудреные узоры. Все кипит делом в женском тереме, по улицам и на площадях киевских. Народ несется толпою к днепровским берегам. Во многих местах на реке прорублены проруби. Одни черпают чистую воду и наливают ее в котлы. Другие шестами беспрестанно мешают в них хмель и ячмень, и проворные парни поддерживают огонь, кипятящий густую брагу. — Живо, ребята! живо! — кричат белокурые варяги. — Подбавьте хмельку, не бойтесь! Уже варить пиво, так пьяное. Крепки у нас головы на шеломы тяжелые: не скоро разберет их, как славянские головы шапочные!* * *
В день, посвященный Ладу, богу согласия, поутру отворяются ворота дома княжеского и хор девиц ведет Ольгу в баню. Идущие впереди стараются удалить всякую зловещую встречу; потчуют ведьм и колдунов, выходящих нарочно к ним, медом и пряниками и приглашают их на вечерний пир, чтобы им не вздумалось навести на молодых порчи и напасти. Входят в баню. Там пол и лавки усыпаны сушеной мятой и душицей. Спутницы невесты разделились на две толпы. Одни беспрестанно поливают раскаленную каменку, от которой валит влажный пар; другие, окружив Ольгу, раздевают ее, берут пахучего болотного цвета, трут им тело невесты, поднимают на воздух молодые зеленые веники и сводят пар на ее гибкие члены. Замужние женщины, не смея войти в эту баню — убежище девиц, остаются у порога и оглашают горницу звонкой песнею.* * *
Настал день торжества. Жители Киева сбегаются на священный холм, глядящий на желтый Днепр. Там стоит огромное капище Перуна. Идет Олег с Игорем и с варягами. Идут и жены и девы. Четверо белых ягнят и бык уже пали под топором жрецов. Головы жертв привязаны к кумирам низших богов, обставленных кругом истукана бога молнии. Жены обступают невесту, разнимают по славянскому обычаю ее девичью повязку, расчесывают на две части ее длинные волосы и заплетают в две косы. Потом надевают на нее богато шитый повойник{13} и накрывают ее покрывалом; а Ольга преунывным напевом произносит слова, ею выученные. Тогда Игорь бросается в средину жен; те на минуту как будто не хотят отдать ему невесты, но скоро разбегаются, и он уводит свою добычу из капища. Легкие сани привозят их на двор княжеский; там зажженные пуки соломы запрещают въезд в ворота. Кони пугаются, пятятся, встают на дыбы; но Рюриков сын встает на ноги в санях, ударяет бичом коней — и они духом пронеслись через пламя. Молодых принимает старшая из жен Олеговых у порога, застланного овечьими кожами. «Войдите! — говорит она, высыпая на юную чету ячмень и просо. — Ступите на этот мех. Да наполнятся чадами ваши хоромы, да призрит на вас Воло´с, да будет обилие в полях и стадах ваших!» Тут она бросила за плечо сосуд, в котором были ячмень и просо, и глядевшие старики сказали, улыбаясь, друг другу: «Быть у них первенцу сыну. Вишь, посудина так в мелкие дребезги и рассыпалась!» Столы уставлены вкусными яствами и чашами, полными вина и пива, и княжеские палаты открыты для всех, кого вместить могут. Лавка молодых поставлена под кумирами богов домашних. Олег приближается к Ольге: «Отдаю тебе свет белый, — сказал он, приподняв покрывало концом копья. — Дай тебе Перун детей-сынов и были б они храбры на суше и на море!» Тогда все гости сели вокруг столов; со всех сторон слышен веселый крик, хохот, шум голосов возрастающий, когда новая полная чаща осушится за здравие Игоря и Ольги. Забыв наказ княжеский, гордые варяги обидными словами раздражают старцев киевских, которых речи и движения дотоле выражали радушное веселье. Жрецы, колдуны, колдуньи, всякий в свою очередь становится предметом дерзкой насмешки варягов. Первым подадут они чашу пива, и лишь только те протянут руку, варяги выплеснут ее в честь богов. Другим велят встать из-за стола, играть им на гуслях и волынке. Колдуний, страшных для славян, заставляют петь, плясать, водить хороводы. «Покажите-ка, бабы, — говорят они, — вашу силу черную. Вот вам костей, соли и ножей! Пропадите невидимками, оборотитесь в волков, сорок али в огненных змей летучих! Подымайтесь на воздух, рассыпайтесь искрами!» Недвижимые колдуньи вперяют в них глаза, в которых видны и досада и страх, и ворчат какие-то непонятные слова. Между тем раздраженные киевляне окружают князя и просят унять наглых воинов; но мудрый Олег, зная, что голос вождя не слышен среди беспорядка пиров, говорит им: — Эх, братцы! неужто вы не знаете, что собор воинов не девичья беседа. Пусть себе девки вниз глядят и поют, поджавши руки, а у волков и забава волчья, а у орлов и орлиная. Ведь у нас сказывается: «На свадьбе-де всякой будь гость, только порядок убирайся прочь!» Да и что скажут про Олега, что он под своей кровлей, да еще в день праздничный, закажет шум и веселье? Идите-ка лучше да пейте вдоволь, веселитесь сами и другим давайте! Наконец Олег кланяется гостям, подзывает чашника-славянина и велит всех выслать из застольной. Толпа уходит, и скоро семейство славянского князя остается одно в замке. Молчаливый город, дотоле как будто опустевший, вдруг оживился. Кучи мужчин, женщин, детей топчут глубокий снег: то сойдутся, то разойдутся, вызывают друг друга взапуски, катаются по льду, борются и забывают сон и прямую дорогу к избам. Те, которые вынесли память из пира, идут отдельно от других и рассуждают меж собою об угощении: — Нечего сказать, тороват хозяин наш, князь Олег: вдоволь накормил; много текло вина, нива и меда; ничего не пожалел на свадьбе молодого свет Игоря. — Еще бы поскупился для Рюрикова сына; разве не все его. Иные сказывают, ему бы шло быть нашим-то князем. — Может, и так, да нашей братьи что до того? Что Олег, что Игорь, что хозары, что угры — ведь всякому плати да служи: Олег тем берет, что на все горазд, куда хитер, и будущее глядит, что мы вперед на дорогу, да и силен: врагов всех под руку взял; захочет, говорят, гору сдвинет, и море ему не страшно, словно степное раздолье. — А и того не забыть, братцы, что никогда не называется князем мери, чуди альбо криви; а вот нашим зовется: славянский князь; а зачем бы то? Видно, затем, что нас над другими всеми жалует. — Оно вестимо так, что Олег и силен, и умен, и разумен, да только эти заморские великаны белоглазые куда тяжелы. Чернобог их попутай, злодеев! Ведь правда, ребята, слышали вы и видели, как над всеми издевались! Уж Борич ли, белокурый молодец? Али Чюрилин сын широкоплечий? Жених ли Владиславы-красавицы, соколиные очи? А им места-то не дали! Уж наругались ли над нашими жрецами, над ведьмами? Да постой, не сносить им голов. Ведьму обидеть не шутка: ее глаз, что жало. — И подлинно так: придет черный день тому, кто над ними подшучивал. Видели, как плясали колдуньи? У меня волос дыбом становится. Экая злость, подумаешь, в ноги прошла. А как запели? Словно вещие псы лаяли, беду накликивали. Два раза обводили круг около наглецов-злодеев, да как-то расходилось: видно, сила Олегова помешала. Он, молвят, сам колдун. Не быть проку в этой свадьбе. — А что нам за дело, — прервал старый мужик, — хоть у них весь огород полынью зарасти! Лишь бы нас оборонил от силы нечистой! Вот они ведьмы, вон спускаются и что-то толкуют. Давайте им дорогу. — Бел-бог вам в помощь, тетушки! — Спасибо, спасибо, мужички вежливые! Мужики стали раскланиваться, величать каждую по имени, а там разошлись в разные стороны, кто в свою дверь, кто в переулок.Песнь пятая
Сидит мудрый Олег на скамье дубовой у широких ворот палат своих, а возле него Ольга, покрытая алою фатою: он и она устремили быстрые взоры свои на послов варяжских. На траве перед ними разостланы золотые ткани и камки{14} узорчатые; а сын Рюрика и молодые его товарищи теснятся вокруг амфор греческих, наполненных по края золотом и серебром. Любимые сподвижники вещего вождя, сложа руки, стоят за ним спокойно и слушают речи новоприезжих из Царьграда. — Порфироносец посылает тебе поклон, — сказал старый варяг, — слава тебе и нам! Слава булату заморскому! Посмотрел бы, вождь наш, премудрая голова, как царь полудня и вельможи его трепещут перед нами в золотых и в шелковых пеленах своих! Вот тебе от них и дары: тут и ткани, и металлы, и тьма всего дивного. Вот тебе и договор, красными рунами написанный: написан он не по-нашему, а по-славянски, для того что варяжский язык им, как храбрость, неизвестен, но все, что тут начертано, нам ясно и понятно. Подписали договор мы, норманны, и имена наши тут стоят в самом начале. — Хорошо, увидим. Ужо ты, Многоуст, мне прочтешь эти славянские каракули, — сказал Олег купцу, богато одетому в шитый восточный кафтан и имя свое получившему оттого, что говорил на разных языках. — А вы, братцы варяги, расскажите мне, что видели в Царьграде? Щит мой прикован ли еще к их воротам? — Щита твоего там нет: они его сняли с ворот, да гвозди твои у них остались: ты в сердце навсегда приковал им страх! — Неужели? — сказал Олег, в глазах коего засверкала радость. — Слышишь ли, Ольга? После нашей вьюги долго будут листья трястись на деревьях. Рулаф, ты поумнее других, скажи, что там внутри города, богато, велико? — Все огромно, князь! Как в пышной Упсале{15}. Правду сказать, у них еще больше всякого дива. Храм их главный сам как город иль как Одинов дворец. Везде пестрота, и золото, и серебро, а на стенах расписаны люди большого росту. Уж что эти греки из красок да из камня сотворяют — так и рассказать нельзя: и мужчин, и женщин, и коней! На площади, меж столбов, как народ золотой стоит: все живо, все блещет! Как соберутся там вельможи в шитых одеяниях, так распознать нельзя живых от каменных мужей. Даже в банях везде лица на вас глядят: точно дразнят живых людей. — Хорошо ли вас угостил царь греческий? — спросил Олег. — Что правда, то правда: на ложь язык не повернется. Царь оказал нам почесть великую. — Как же бы он смел нас не угостить? — прервал пылкий широкоплечий молодец. — Разве он не обещал тебе, нашему вождю сильному, все давать, чего мы ни потребуем? И хлеба, и вина, и всякого добра. Как говорят старики наши: получил добровольно, наступя на горло. Ой, собраться бы нам с силою да идти на них! Уж повеселиться бы тебе, князь, внутри их стольного города! Что двор, то клад. — Ты, наш лоб железный, — закричали другие. — Пойдем на греков! С тобой мы рады и в море, и в землю, и в огонь. Хоть до самого Царьграда понесем ладьи на плечах. То ли будет дело? Не к воротам уж приколотим щит свой, а к груди самого царя! — Молчите, братцы, — сказал Олег, — неужели вы забыли, что между нами подписан договор? — А что нам до него? — возразила вся княжеская дружина. — Киноварь начертила, а кровь смоет. — Нет, дети, — отвечал Олег, — теперь очередь купеческая: пусть люди торговые пекутся на знойном солнце и таскаются по днепровским порогам! Пусть они достают для нас и для жен наших богатых платьев и нарядов! И тебе, Олинька, моя светлая радость, привезут сафьяну алого, голубого шелку да восточного жемчугу; а захотим драться, — так повоюем с соседями. — А где они, отец? — спросила Ольга. — Твои соседи — моря да звезды. Ты своим булатом отодвинул соседства до самого глухоморья морского, до синеты небесной. — Хорошо, — отвечал Олег, — но теперь пора нам с тобой попировать в теплоте в Киеве и пожить по-славянски. Не так ли, Многоуст? — Правда твоя, — сказал Мстислав, вертя нетерпеливо в руках своих хартию греческих условий. — Правда, правда, — повторила толпа киевских и новогородских купцов, жадно ожидавшая объявления договора, от которого зависела свободная торговля славян на южных морях. — Поживем по-славянски, князь! Да вот, что скажет нам грамота мудреная? Не прикажешь ли прочесть ее громки, чтоб все слышали? — После, — промолвил важно Олег, обратя все свое внимание на дерзкие слова, в то мгновение его поразившие. — Стар! Видно, что стар! — говорили меж собой задорные товарищи Игоря. — Совсем забыл отвагу северную. Хочет умереть дома на одре. Его дух засорился славянскою дрянью. — Поди, Игорь, поди, князь, — промолвил резко пылкий воин, — просись на греков! Мы все с тобой и за тебя. — Сам поди, Свенельд, — отвечал Игорь, — скажи сам: разве ты не видишь, как он косо взглянул на меня? Ольга, которая не теряла ни одного слова и страшилась гнева правителя родного, как грома самого, старалась всяким образом, и взором, и голосом, и душою, занять Олега и отвратить его внимание от дерзкого разговора; но брови вещего Олега были нахмурены, а слух направлен на роптавших, как глаз опытного стрельца, на цель устремленный. — Отец! — сказала Ольга, — Хотела бы еще послушать, как ты был на золотой, на греческой стране. Порадуй мой женский слух рассказом славы твоей. Подвиги твои всякий раз мне кажутся милее, как знакомый звук острого гудка или гуслей звонких. — Позови же гусляра моего, — отвечал Олег, смотря пристально на Ольгу сквозь туман внутреннего гнева, — заставь его спеть слово о войне с греками. — Вот он, — промолвила торопливо смущенная Ольга, — и гусли на нем! Пой, брат Вадим! Пой о походе нашего вещего. Певец, взяв в руки гусли, висевшие на плечах, громко заиграл и запел. Как молния на темном небе, глаза Олеговы долго сверкали то на Свенельда, то на Игоря, то на буйных его товарищей. Как устрашенный путник, измученный ненастьем, Ольга долго посматривала то на грозное чело Олегово, то на юношей безрассудных, то на супруга своего, — и только тогда начала дышать свободно, когда выражение лица могучего стало становиться и тише и яснее.Велика звезда взошла напящая:
Что копье, висит она на облаке;
Что Перун, грозит она на недруга.
Из-за холма, холма темносенного
Не орел с орлятами выпархивал:
Диво наше князь Олег Перунович
Со дружиною своей заморскою.
Едет князь по берегу днепровскому:
Вслед за ним рать, как река булатная.
По степям летит, как пыль железная;
Занимает селы, словно злой пожар.
Вот дремучий лес там, как стена стоит, —
А бойцы вперед, как на широкой путь.
Черный лес вздрогнул и про себя гудет:
— Чрез меня не лес ли пробирается?
— Лес, молчи, молчи, — завыла Днепр-река, —
Мне и без тебя здесь тяжко стало течь.
Уж не гоголей, не уток сизых,
На струях несу я стаи ратников.
Крылья их — пернаты калены стрелы,
А плавила их ведь мечи острые.
По порогам идут, бьют по омутам;
Но добро! доплыть вам скоро до беды, —
Тогда Днепр глубокой заревел, как зверь,
А ладьи на волнах раскачалися.
Вот торчит громада поперек реки:
«Нет дороги боле!» Вещий князь в ответ:
— Есть дорога, дети! Разом — на берег!
Богатырски плечи понесут ладьи.
Понесли за князем ладьи влажныя:
То в реку, то на берег взбираются;
То по пояс в Днепр, то вверх на утес.
А вот море, море, море синее!
Они к западу вдоль берегов скользят.
Вот и стольный град! град златокованый!
На стенах торчат греки безумные.
Что за пыль к Царьграду приближается!
Что там веет, веет, разгоняет пыль?
Что саней обозы в пору зимнюю,
На ладьях там скачет рать полночная,
Смерть кровавая там распотешилась:
Люди сыплются со стен, как мерзлый снег,
А за ними золото посыпалось.
Уж под золотом ладьи качаются
И опять плывут по морю синему.
Бух! уж в Днепр противный они ринулись…
Днепр молчит… и лес молчит… утихло все…
А там в Киеве поднялося: ура!
Слава вещему заморскому вождю!
Приделанный мак,
Преширокий мак,
Маки, маки, маковицы,
Золотые головицы!
* * *
Полуденное солнце среброогнистыми лучами изливает на задумчивую природу последний жар утекшего лета. Иссохшие багровые листья шелестят и валятся друг за другом. Там рябина красуется своими тяжелыми коралловыми кистями; тут иглистая сосна, как бесстрастная душа, однообразно зеленеет, пока стоит на здравом корне. Мутные воды своенравного Днепра бушуют по омутам, разливаются то на один берег, то на другой, — и струя за струею желтеет и серебрится. Везде свет; все бело, все сверкает: как будто все тени и мрак укрылись в днепровские мшистые пещеры. Гады выползают на песчаный берег, а прозрачные насекомые спешат блеснуть и приласкать крылом ленивым полуувядшие цветы; но вещее крылатое племя давно летит прямым путем к лимонным рощам. Их теплые гнезда пуховые здесь скоро наполнятся тяжелым снегом: иным уж не согреться под крылом весенней матери. — Вставай, колдун! — кричала толпа варягов, теснившаяся в закоптелую избушку киевского кудесника. — Ступай с нами к князю! Что ты там на полатях ворчишь? Смотри не колдуй, — не то мы тебе заткнем рот твоей же длинной седой бородою. — На что вам меня? — промолвил старик, спускаясь медленно с полатей, и стал перед воинами в темном шерстяном плаще, едва покрывавшем худое и черное его тело. — Что во мне князю вашему? Не сам ли он стал ныне вещий? Он лучше меня знает, чему быть и не быть; он сам, говорят, кудесник такой же, как и я. — Молчи, косматый! — закричали варяги, выталкивая старика из низких дверей, и потащили его в княжьи палаты. Громкий хохот раздался по застольной княжеской. — Добро пожаловать, — закричал Олег, — чудесный, высокий чародей! Зрячий крот! вещая сова! — и после каждого восклицания он прихлебывал из двух огромных роговых кружек то мед, то пиво. — Не бросить ли его из окна в реку! — закричал пьяный варяг, — авось либо он там светлее будет видеть. — Нет, нет, — возопили другие, до безумства упоенные Игоревы товарищи. — Если он сова, то повесить на дереве; если он крот, то в землю его. — А ты что думаешь, Рюрикович? — сказал Олег, обратясь к Игорю. — Что я думаю? — отвечал сын Рюрика, не отходя от очага, у которого он жарил под горячей золою отборный кус конины. — По-моему, его бы здесь испечь да созвать на пир галок да ведьм хвостатых. — Испечь, испечь, — повторил Свенельд и вся молодежь за ним. Но Олег, оттолкнувши от себя обе кружки полные, воскликнул: — Что ж ты скажешь, колдун? Где ж твое предсказанье! Добрый мой конь давно не бьет копытом по сырой земле, а я еще здесь за почестным столом пирую и беседую. — Хлеб да соль, — прошептал испуганный кудесник, — дай тебе наш Перун киевский и житья и бытья… Не всегда язык нам повинуется, — продолжал старик смелее и выше, заметя, что на челе правителя дума заменила выражение строгости. — Где темно, тут немудрено споткнуться, а ведь в будущем, ты сам знаешь, не скоро разглядишь. Видишь черно, а выйдет бело; на уме хорошо, а выскажешь худо. — Подавайте конюха сюда, — сказал князь, как будто пробудившийся от сна глубокого. Конюх вошел — и, по восточному обычаю, бросился в ноги правителю. — Говори, брат хозар, да вставай же, не валяйся, как кляча больная, стой на ногах! Хорошо ли ты ходил за Ателем моим или бросил его, моего коня удалого, как бросают ссылочную неверную жену? Уж не кормил ли ты его жесткой соломой али пыльным, землянистым сеном? Уж не поил ли ты его гнилой водой в соседнем, тинистом пруду? Вы, хозары, ведь ленивы; все бы лежали, а бедный Атель мой, верный, ретивый слуга, от хозарской неги да от слов злорада-старика протянул навсегда свои быстрые ноги. Помните, друзья, как он, бывало, спесивился подо мною, как он круглил свои передние ноги, словно пару упругих натянутых луков. Сказывай, хозар, как Атель у тебя кончил дни свои? — Каган{17} солнцеообразный! Скажи мне: поди, умри! — я пойду и умру. Но не вини меня в смерти коня Ателя. Атель мне был брат, одноземец. Он, так же как и я, воскормлен в изумрудных и перловых лугах моей Хозарии и вместе со мною приведен в Киев лесистый. Я ли его не любил, не лелеял? Его ржание мне было понятно, как наречие красной родины. Не вкушать мне боэмота за божией трапезою, если я не кормил Ателя пшеничной золотой соломой и благовонным сеном, скошенным дочерьми киевскими на поемных лугах. Поил я его водой хрустальной; купал его в проточных ручьях. Но с тех пор как лучи твои яркие потухли для него, с тех пор как каганская рука твоя не стала уж более его гладить по ребрам шелковым, глянцевидным, как волосы девы, выходящей из купальни, Атель стал томнее вдовицы; глаза его оленьи померкли; алые ноздри поблекли, как сорванные розы. Но кто может скрыться от ангела смерти? Однако утешься, каган; крыло смертное не тронуло в твоих теплых конюшнях ни коня, ни жеребца белогривого, ни угорской кобылы. Моим только рабским глазам проливать слезы по Ателе милом, по брате моем, по одноземце моем!.. Да отсечется язык, который промолвил совет ядовитый! Да будешь ты, каган, везде осенен радостию и златом — и одр твой да устелется любовию дев славянских! — Где же лежит теперь мой бедный конь? — спросил правитель, тронутый рассказом восточного конюха. — Оседлай мне угорскую кобылу и повези меня туда, хозар. Я хочу взглянуть на кости моего страшного врага! Пошел Олег с своею дружиной в новопостроенную теремную конюшню и, осмотревши все стойла дубовые и погладя каждого из лоснистых коней своих: «Надобно признаться, — сказал он варягам, — что люди восточные лучше нас знают дело конское». — Да на что нам было и учиться ему! — отвечал бывший король морской, Рюриков родственник. — Наши поля норманнские — лазурное море! А по нему скачут крылатые ладьи. У них степи да луга, а у нас океан да звезды! Правитель улыбнулся, сел на лошадь и поехал вслед за хозаром: за ним же пошла толпа варягов и славян. Игорь и товарищи его потащили кудесника, чтобы еще им позабавиться. Дорога к берегу вела мимо холма Перунова. Славяне ударили челом в землю, а Олег, не сходя наземь, опустил голову до правого плеча коня своего и, поворотясь к своим варягам, сказал: — Преклоните свои главы пред киевским Тором. Но кто там стоит промеж богов, — спросил он у купца Мстислава, — словно образ из дерева? — Это вдова Нариза, — отвечал киевлянин. — И впрямь она! Вот уж сколько раз она мне попадается, — шепнул про себя правитель встревоженный. — Огня нет, а крови много!.. — закричала пронзительным голосом безумная, истощенная горестью женщина и, устремя на Олега неистовые взоры: — Так! — продолжала она. — Ведь вы не князья!.. за то и убили!.. зачем же для меня огня не стало? — Тут вдова перебежала через дорогу и скрылась в дебрь лесную. Слова несвязные помешанной вдовы не в первый раз ударяли в слух Олега; они не были бессмысленны для него. «Ведь я их погубил, — помышлял он у себя на уме, — не для себя одного, а в пользу Рюрикова сына!.. Нет, неправда!.. Но разве месть и война не дают права на жизнь людей? Туг не было ни мести, ни войны…» И стало тяжело и пусто в душе князя варяжского. Спускается толпа с крутого утеса к широкому Днепру. Тяжелые шаги и говор людской раздаются в пещерах: тут голоса заглушают журчание реки; далее они заглушены шумом волн строптивых. — Вот череп Ателя, — сказал конюх Олегу, — вот весь остов его. Я его тут в глазах востока нарочно положил, чтобы восходящее солнце раскрашивало каждое утро его белые кости. — Мир тебе, мой Атель ретивый! приветствую, товарищ побед моих! — промолвил князь, сходя с лошади. — Дома умер! Не на поле! Не от острой стрелы!.. Вещий старичишка! — продолжал князь с насмешливой улыбкой. — Этому ли коню сломить мне голову? И тут приподнял ногою череп. — Возьмите, братцы, да наденьте ему это вместо шапки… Тут Олег замолчал, пошатнулся, помертвел, взглянул на все стороны и указал на ногу. Сподвижники-витязи бросились к нему в изумлении и, устремив глаза наземь, узрели с ужасом медяную змею, обвившую ногу уязвленного богатыря. — Это он! он! — едва выговаривал Олег, указывая на кудесника, а после на реку. — Он! — повторили варяги и, схвативши колдуна, взвили его, как пращу, и бухнули в волны, а за ним растерзанную на куски змею и роковой лошадиный остов. Правитель, изъявив им благодарность движением головы, назвал Игоря… Ольгу… бога Одина, — и пал на песок, как тяжелый камень.Песнь шестая
На уступе горы, висящей над Днепром, кроется землянка промеж златистых высоких коноплей. Вход в нее с севера, а напротив возвышается курган, заросший муравою. В подземной хижине с треском горит лучина, а в средине ее нагромождены венцы из бревен. Возле сей громады, доходящей до низкого потолка, стоит женщина в белой вдовьей одежде, клочками висящей на худощавом теле. — Высоко! Не достану! — промолвила она и стала перебирать и разбрасывать бревна на все стороны и после с глубоким вниманием опять их накладывать, одно на другое. Много раз принималась она за свою бессменную ночную работу и, качая головой, столько же раз разрушала ее с одинаковым терпением. «Вот уже занялись Стожары на небе, а я еще не готова!» — и вдова с новым рвением торопливо продолжала свой труд. — Слава богу Нию! Кончено! — вдруг закричала безумная. — Теперь надо огня!.. — И тут взглянула на догоравшую лучину, протянула к ней руку, но вместо лучины схватила медный котел, пошла к реке, скоро возвратилась… и вылила воду на бревна… Потом задумалась и долго твердила: «Не то! Не то!..» Тогда мысли ее совсем растерялись, и она неподвижно, в изумлении стояла возле мнимой клады[17], ею сооруженной. Таким образом несчастная проводила все ночи; никогда добровольно не вкушала покоя и, как сторож на холме в бранное время, иногда только, стоя, дремала. Когда же члены ее, угнетенные непрестанною мукою, не могли уже более упорствовать против требования природы, она падала наземь; но скоро пробуждалась и вскакивала с ужасом, как будто сон был для нее преступление. — Добрую весть к тебе несу, вдовушка-сестрица, за хлеб твой за соль, — промолвил нищий, входя в землянку, и подбежал к знакомому углу, где возле кружки, наполненной красным квасом, лежали ржаные хлеба и груда яблок и орехов, — врага твоего не стало!.. Олега не стало!.. слышишь ли? — Олега! — повторила Нариза, — Аскольда{18} моего давно не стало!.. Старик!.. Принеси мне ужо сюда огоньку, да побольше… нет, нет, не сюда, а туда, на курган его… Здесь низко, тесно… как ни стараюсь, все не удается. — Послушала бы ты, — продолжал нищий, — какой плач поднялся в Киеве!.. Словно собаки воют!.. а жены его и духа не переводят, говорят да приговаривают: я чаю, слов недостанет на похоронный час. — Жены его? — возразила Нариза. — Поведи меня к ним. — Пойдем, — отвечал старик, наполняя суму съестным запасом, — и я сам рад посмотреть, что там делается, да голод притянул к тебе, сестрица, в землянку… Теперь я сыт… пойдем… Толпа валит со всех сторон и стремится на гору Щековицу; хрупкие и пестрые листья устилают землю в лесах и шерошатся под торопливыми стопами народа. По густой дубраве раздаются женские голоса, сзывающие резвых, игривых детей. На холме шум, крик, суматоха, разнообразие одежд, наречий; все движется, все пестреет… На самой вершине холма качается шатер на дубовых столбах; ветер рвется в натянутую белую парусину; в шатре стоит одр, покрытый узорчатыми коврами, недавно присланными в дар правителю от греческого царя. На них лежит усопший Олег, в железных латах, в шлеме, с мечом у бедра. Жены его теснятся вокруг одра и непрестанным стенанием изъявляют свою горесть. То одна, то другая приговаривает плачевным голосом следующие надгробные речи: «Ах, владыко наш! Наше красное солнышко! На кого ты нас покинул, на кого нас, горемышных? С кем ты думал эту думушку, бросил здесь нас, слезных вдовушек! С кем-то теперь слово нам промолвить? К кому нам чело приклонить? Иль тебе белый свет не мил? Что спесиво так лежишь, не взглянешь? Хоть молодым женам скажи слово ласковое! Как лебедушек, нарядил нас навек в белую фату! Посвети на нас еще красным солнышком! Ты одень нас опять в лазурный, в алый цвет!» В продолжение плача жен Олеговых Ольга, окруженная своими молодыми и старыми прислужницами, неоднократно старалась подойти к печальному одру, чтобы усыпать труп благодетеля мшистой душицей, можжевельником и буковицею, набранною в тени; но вдовы, побужденные согласным чувством негодования, желая сохранить вполне последние права свои, под видом горести каждый раз заграждали путь молодой княгине и грубыми движениями отдаляли ее, как будто в отчаянии своем не примечая ее намерений. Идет Игорь с толпою варягов, а за ним славянские купцы несут медовый пирог в рост человеческий. Тут вдовий вопль раздался громче; но, уважая нового правителя, все с почтением разошлись и пропустили его. Славяне положили возле трупа огромный пирог. — Вот тебе дар от всего киевского купечества, — сказали они с гордым удовольствием. — Будь доволен, дядя, — продолжал сын Рюрика, — вот и еще тебе! Тогда ильменские купцы, поглядя спесиво на киевлян, обставили одр мехами, наполненными кипящим медом. Ольга стала возле своего супруга и тогда только свободно совершила обряд заветный. Игорь с толпою удалился, а молодая княгиня села в ногах усопшего и, погрузясь в глубокую думу, стала мечтать о начинающемся княжении своего сожителя и о тяжком деле, на нем возлежащем. Вдруг поднялся край шатра — и явилась Аскольдова вдова с убогим своим проводником. — Кто из вас хочет умереть? — промолвила она резким голосом. Вопль унялся, и все на ней остановили удивленные взоры. — Кто из вас хочет умереть? — возопила троекратно исступленная вдова. — Я! — закричали единогласно три болгарские славянки, и лица их, отражавшие душевную борьбу, зарделись вдруг и побледнели. — Все три! — воскликнула Нариза. — Довольно и одной. Я за своего Аскольда одна горела. — Так я иду одна, — прервала с усильным восхищением молодая вдова Олегова, привезенная с берегов Дуная. — Давайте же сюда, — закричала безумная, — кур, детей новорожденных и петухов! Натащите бревен да хворосту побольше да огня не забудьте!.. — Что вы ее слушаете? — сказала суровая старуха, выходя из толпы рабынь, окружавших Ольгу. — Она, безумная, не может вас научить! Это дело не легкое. Если в чем ошибешься, так от Чернобога ввек не уйдешь! Все должно идти по порядку, по очереди; а я уж с малолетства привыкла к делу похоронному. У нас на Дунае, у черных болгаров, всегда сжигают трупы на кладах, и мертвых и живых вместе, лишь бы охота была. Я на своей родине уже два раза служила свахою смертною и покажу вам, как все должно исполниться. Первое, смотрите: вы, две землячки мои, отходите от нее, — показывая на молодую болгарку, — чтобы она не передумала, — а то беда! Тут надо соорудить кладу для усопшего, ибо коль уж жене гореть за мужа, то не особливо же, а с трупом его… а не по-киевски зарывать его в землю… Тут поднялся шепот и спор между разноплеменными славянками. — Что они вздумали? — возразили вместе уроженки ильменские и киевские. — Кто им даст волю? Теперь не водится у нас мертвых огню предавать. Наша же премудрость — Олег строго запретил женам погибать с усопшими мужьями: он эту самую сумасбродную вдову Аскольдову милосердно велел вытащить из огня едва живую, когда она бросилась на костер сожителя своего. — Зачем мешать, если охота есть! — сказала смолянка. — У наших кривичей жгут на кладах… Если же болгарочке нашей, любя сожителя, хочется с его телом сгореть, так для чего же ее останавливать? — И в самом деле! — сказала старая Любеда. — У нас на стране черниговской мудрые люди говорят: вдове неприлично в люди казаться, а если покажется, все закричат: стыдно! Муж в могиле, а жена по дворам! Добро нам оставаться в живых, у кого детушек много, а ее дело свободной, ребят не бывало, молода… долго, долго еще ей одной пытаться по белу свету. Пусть ее к нашему кормильцу идет служить рабою; видно, он ее любит, видно, зовет к себе. — Безумные! Не срам ли нам молодушку губить? — возразили новогорожанки и киевлянки. «И впрямь безумные!» — говорила себе на уме княгиня Ольга, не взирая на толпу, ее окружавшую, и закрывая глаза свои руками. — Безумные! — закричали опять все на болгарку. — Безумные вы! — возопила с яростью восточная раба. — Вы червям отдаете любимца своего; а у нас он прямо с клады идет на светлое место; но что мы с ними время тут теряем!.. — и, обратясь к двум болгаркам, — возьмите ее, — продолжала она, указывая на посвященную вдову, которая с судорожной улыбкой стояла неподвижно и оглядывалась кругом с исступленными взорами. — Возьмите ее под руки и водите всюду, куда ей вздумается; несколько раз днем и ночью умывайте ей ноги; подавайте ей почаще пьяного меду и пойте живые песни; да заставляйте ее с вами припевать, а как я кончу все при усопшем, то приду и наряжу ее, как водится; мы наденем на нее ее лучшие кольца и ожерелья, что там у нее найдется… Подите же с Бел-богом… Ты же, — сказала она смолянке, — иди на холм священный, к жрецу Молоху, и вели ему принести сюда божков раскрашенных; их надо будет расставить вокруг клады… да собери молодцов проворных, чтобы они здесь нагромоздили высокий сруб… А ты, княгиня-матушка, поди, скажи своему сожителю Игорю Рюриковичу, что мы собираемся здесь совершить страву по-нашему, по-славянскому, по-старинному! Проси ж его, чтоб он до другого дня отложил похоронный обряд; нам нужно по крайней мере два денька, чтоб все снарядить порядочно. Ольга встала, решась помешать безумному обряду, и строго повелела старой болгарке следовать за собою. За нею пошли ее прислужницы. У подошвы холма, на гладкой лужайке, Игорь пировал с товарищами своими в шумном кругу, обставленном пивными котлами, к которым ежеминутно подбегал народ и черпал в них с жаждою, непрестанно умножавшеюся. Четыре гусляра стоят рядом и при первом знаке готовы заиграть на гуслях и запеть богатырский плач по Олегу. Далее на бугре конюх, хозар в куньей шапке, в азиатском богатом кафтане, с печатью уныния на лице держит за узду черногривого коня; за ним двое темно-русых юношей, в кружало обстриженных, с трудом удерживают ярых жеребцов. Старейшина славянский, тот самый, который с черным жезлом в руках обходил поутру все дворы киевские и окольные места и собрал народ на печальное празднество, доплетает тут лестницу из ремней, творя молитву богу Нию. Усердные рабы теснились вокруг него: одни точили ножи; другие расставляли стеклянные и муравленые чаши; между ними блистали сосуды серебряные, похищенные самим Олегом в греческом монастыре. Возле нагроможденных оружий усопшего лежат два заморские пса; они свирепо глядят и ворчат на проходящих. Но вдруг, приподнявши рыло на мимошедших жен, они замахали длинными хвостами и подошли к княгине. Знакомая им рука ее погладила их по худощавым бедрам. Они приласкались к ней и после долго смотрели ей вслед, прилегли опять и снова стали стеречь Олеговы доспехи и ворчать на прохожих. Княгиня Ольга с прислужницами вошла в круг собеседников Игоря. Варяги, хотя полуошалевшие от крепких напитков, не забывали, однако же, скандинавского уважения к женщинам и, приветливо нагнув голову, улыбнулись ей. — Здравствуй, красавица княгиня, — сказали ей они, — не хочешь ли ты с своими молодушками сесть с нами попировать? Всем молодушкам будет место! — И тут они начали тесниться… Славяне, которые считали женщин рабами, не трогались с места и, поглядывая косо на варягов, продолжали пить и разговаривать. — Братцы варяги! — возопил Игорь. — Оставьте баб и девок, теперь не до них! Выпьем последний кубок в честь дяди Олега, а потом примемся за игры похоронные. — Вздор! — сказал среброусый воин. — Неприлично пить в честь мужа, умершего не на ратном поле! — Как говоришь ты князю? — прервали другие. — Да вздор, конечно! — повторил воин. — Я Рюриков старый товарищ; между отцом княжим и мною было братство кровное, сочетанное после побоища на великом поле-Окияне. Сыну его молодому я все в глаза сказать могу. Ты, князь, не знаешь этого. Ежели б Олег умер от булата, то выпили б мы охотно кубок в честь его; но он кончил дни свои в время мирное. Довольно того, что мы порадуем дух усопшего тризною, играми и пением так, как поминали и Рюрика, отца твоего. — Вот нашел о чем толковать, — отвечал насмешливо на грубом наречии варяжский старый сотрудник Олега, — для чего на тризне не осушить кубка в честь полководца и брата? Он же не своею смертию пал, а ужален злым гадом. Ежели б у нас кто на пиру вздумал петь песню о морском витязе Лодборге, осмелился ли бы ты сказать, что он умер не от меча, не от стрелы, а в сырой тюрьме от ехидных змей?.. Да об чем нам говорить? Мало ли что мы сотворяем против родных обрядов? Какие мы обряды из отчизны сюда привезли? Все пошло по-славянскому, и припевы наши, и празднества наши, и азы наши, и морские сшибки… Все пропало!.. Пропал и Тор-буреносец, пропал и Один-стреловержец, а на место их Перун да Перкун иль Волос какой-то рогатый!.. — Для чего ж, — возразила молодежь варяжская, — теперь, что Олега старого не стало, для чего не завести все по-нашему? Пусть будет все по-скандинавски, и боги и язык! Зачем нам, норманнам, плясать по дудке славянской, кланяться уродливым и нищим их богам да коверкать язык свой на их наречие? Пускай же они говорят по-нашему; они же переимчивы, скоро выучатся. — Да будет так! — воскликнул с восторгом устарелый слепец, сидевший возле Игоря. — Князь, сын мой! С благословением всех азов, построй храм Одину на высшем холме киевском и дай мне прежде смерти ощупать стены, посвященные отцу вековому, отцу кроволития, пожароносцу, богу шумному, бровистому, темному, супругу земли, сидящему над всеми морями северными!.. Тут старец, который в восхищении своем привстал было на дряхлые ноги, запыхавшись, сел на траву и, опустя голову, задремал. — Пропадай их Перун! — закричала вдруг тьма голосов. — Заведем все свое! Да, князь Игорь, быть так. Между тем Ольга, подбежавши к князю и пользуясь умножающимся шумом, стала сильно уговаривать его: — Не слушайся отца и варягов: ты княжишь над славянами: а ведь что сделано Рюриком и Олегом, то все обдумано, все зрело. Можно ли меньшему одолеть большее? Если все славяне соберутся да вздумают обступить вас и выжить, как вы с ними сладите? Ведь вы топчете чужую землю, а не своя земля бежит что вода под ногами! Игорь с видом равнодушия и даже насмешливо улыбаясь внимал советам мудрой Ольги, но внутренне соглашался с ней, тем более что он ни к одному, ни к другому богослужению не имел душевного усердия. Славяне, тараща взоры на иноземцев, ловили иностранные слова, многим из них едва понятные, другим же нисколько. Богатый купец, уроженец ильменский, устарелый в делах торговых и давно изучивший варяжское наречие, сидел нахмуря брови и долго слушал во молчании; но вдруг подозвал своих одноземцев, стал рассказывать им, о чем идет дело и чего им пришлось опасаться. Все славяне обступили его и одногласно закричали: — Так-то они хранят богов славянских! Так-то они почитают обычаи дедов наших! Скорей наши леса станут корнем вверх, чем мы позволим изменить дедовские законы. Предшественник его еще над землею лежит, не кончен еще похоронный пир, а уж они собираются перековеркать то, что для нас свято и мило. Не успел еще вступить в ладью, да вздумал уже ее опрокинуть. — Да постойте, погодите! — прервал киевлянин Мстислав Многоуст. — Ведь еще Игорь Рюрикович ни слова не промолвил. Увидим, что он скажет; а варяги его пусть себе каркают. Без головы ноги не ходят, а я его знаю… он не хуже будет отца и дяди… — Заступайся, заступайся, краснобай, — закричали новогородцы, — вам хорошо, киевлянам! Вы привыкли кланяться князьям! Хан хозарский научил вас творить низкие поклоны, а у нас на Ильмене спина жестка: боимся переломить. Небось у вас не являлся свой Вадим-богатырь? Да что с вами толковать? Ведь не с вами дело шло, не вам обещано было! Это наша забота! Дотронься-ка он до отца Перуна, так ему и в глаза не видать нашей дани!.. — Э! братцы! — закричал Мстислав. — Чего вы боитесь? Хоть бы он и захотел нас обидеть, так у него жена баба умная… не допустит! — Слышите ли вы, что еще вздумал этот краснобай! — сказал новогородец, — жена не допустит. Давно ли бабы в совет пустились? Разве у вас уж наседки закудахтали громче петушиного? — Да! ему можно за княгиню стоять, — возразил киевский купец, — эта курочка накудахтала ему клад порядочный. Она немало от Олега золотца достала, а он ей то из-за моря, то из Чуди парчицы да бисеру и всякой всячины, чем бабы любят охорашиваться. Не слушайте его: мы все в Киеве с вами заодно пойдем… Только тронь они отцов наших Перуна да Волоса, так мы их опять за моря швырнем! — Дело! дело! — закричали все, кроме Мстислава. — Семка, я пойду, — сказал киевлянин, — да в глаза им молвлю, что мы поняли их речи. И все в один голос: — Скажи, да скажи сильнее, скажи, что мы не дети, что с нами не играют, что… — Я пойду, — прервал новогородец. — Нет я… — Да чу!.. Вот уж они другие речи заводят… Постойте!.. Тут славяне, приближась к месту, где сидел Игорь, начали внимать новому раздору, возникшему между варягами, и пристально смотрели в глаза толмачу-славянину. Ольга, видя нерешимость супруга своего, позвала Свенельда и без труда уговорила молодого норманна, воспитанного в славянской земле, которому обычаи и боги скандинавские были чужды, восстать против мнения пожилых варягов, душою привязанных к закону Одинову. — Свенельд! Скажи им, — говорила княгиня, — что теперь не время разбирать богов славянских и заморских, переменять наречие и заводить новизны. Скажи князю, что теперь пришло ему время княжить, воевать… Подите вы, молодцы, заговорите громче по-славянскому, чтоб все славяне вас поняли. Свенельд, который до той поры был немил молодой княгине за то, что старался удалять от нее супруга, возрадовался в душе своей и возгордился тем, что он стал ей нужен; поглядел на ее милую улыбку и с той поры был ей уже предан по гроб. — Будет по-твоему! — сказал он ей, пошел и сел возле нового властителя, и вся молодежь стала за ним. — Что вы затеяли, старики? — закричал он. — Где ваши головы? Князю нашему теперь не до заморских богов! Игорю, сыну Рюрикову, скоро придет дело бранное. Где ему теперь копаться дома? У нас дух молодецкий: хочется побороться! Уж довольно князь у вас насиделся! Теперь наша пора пришла! — Правда твоя, Свенельд, — промолвил Игорь, — правда, правда; да что вы, братцы, приуныли? Выпейте-ка еще по чарке, да примемся за погребальный обряд: мы было дядю совсем забыли. Старые воины промолчали; но с той поры возымели тайное негодование на молодого Свенельда. Славяне же, все вдруг забывши, с веселым духом подошли к котлам и пивом стали заливать свою минутную досаду. Между тем старая болгарка, погруженная в одни и те же мысли, ежеминутно подходила к своей княгине. — Теперь-то время, — шептала она, — доложи князю про наше дело. Как скоро все замолкло в собрании, Ольга объявила своему супругу о намерении молодой Олеговой вдовы и рассказала ему, что при ней произошло в шатре. — Пустое, — возразил князь, — уж и так много времени потеряно: все приготовлено иначе. Неужели для нее опять расходиться да собираться и новый пир учреждать? Тут опять поднялся шум и спор о похоронных обрядах, и слепой отец княгини стал было длинно рассказывать, как прекрасная Нанна горела на костре златовласого бога Балдера{19}; как древле был век огня; как после начался век курганов; но Игорь, потеряв терпение, вскочил вдруг, опрокинул порожнюю посуду, стоявшую перед ним, и, подозвавши купца Мстислава, препоручил ему очистить место для исполнения надгробных игрищ. Сам же помчался на холм со всем народом, и все окружили белый шатер. Там вдовы с недоумением ждали возвращения молодой княгини. Лишь только услышали говор приближающейся толпы — они все выбежали из шатра и стали вопрошать у Ольгиных прислужниц, что было решено. — Князь хочет, — отвечали киевлянки, — чтоб все исполнилось, как водится у нас на Днепре, в славянских землях. Вот как послушались этой бабы сумасбродной, — прибавили они, указывая на рабу-болгарку, — полетела будто бы с делом, а воротилась пешком с пустым мешком! — Растерзай тебя леший! — шептали все на старую болгарку, которая взорами своими охотно бы их всех сожгла на месте нареченной вдовы. — А вот наш батюшка князь, видно, разумом пошел по отцу нашему, по хозяину!.. — И опять все бросились в шатер и снова начали приговаривать слова нежные и горестные, теснясь кругом трупа усопшего витязя.* * *
Начинается обряд похоронный. Шатер разобран; староста расставил всех по местам и, раздавши погребателям сосновые лопаты, повелел снести в сторону одр с усопшим и тут же посередине вырыть яму. Игорь и Ольга подошли к трупу, приподняли ему голову, подложили изголовья лазурного цвета, любимого у норманнов, и, посадивши бездыханного витязя, стали его потчевать крепкими напитками и тучными пирогами, приговаривая: «Умерший! имей пищу и питие!» Между тем вдовы не переставали стенать и плакать: старейшина вручил им стеклянные сосудцы, чтобы, по славянскому обычаю, в них капала каждая их слезинка. Труп опускают в рыхлую землю; вдовы Олеговы острыми стрелами царапают себе лицо, а особливо молодая болгарка, та самая, которая хотела гореть с трупом супруга своего; она почитала себя предреченной жертвою и, воображая, что долг велит ей не щадить своего тела, терзала свою грудь, рвала черные волосы и клочками метала их в могилу. Старшина стоит с пасмурным видом и опускает в землю все, что было поднесено усопшему вместе с оружием его и разною посудою, и так говорит при каждом действии: «Глада не бойся: вот тебе пища! вот тебе посуда! Врага не бойся: вот тебе булат! Коль высоко взбираться, — вот лестница ременная! Коли встретят псы, — вот тебе дубина!» — Без твоей дубины обойдется Олег! — сказал с насмешкой варяг. — У кого меч булатный, тот псов не боится. А старшина продолжал свое дело, не смущаясь словами иноземца. Ольга подходит к нему и подает пук из розовых лоз. — И это положи в могилу, — сказала княгиня, — белозерские старухи вон там говорят, что тогда злая сила не прикоснется к нашему дяде. Набрасывают землю, и мало-помалу возвышается бугор. Ведут на привязи псов Олега. Они, приклоня рыло, узнают по чутью место погребения — и сами туда тащат проводников своих; дошли и проворно стали рыть ногами свежую землю. По повелению старшины, слуги схватили их, связали и закололи над курганом, а они, умирая, воткнули рыло свое в могилу и так испустили верный дух свой. Старейшина поднимает свой черный жезл; конюхи вскакивают на коней, пускаются вскачь и так прытко кружатся вокруг могилы, что в глазах составляют как будто целый круг. Пот льет с усталых лошадей; конюхи остановились, спрыгнули и тихо подводят коней к погребателям. Кони дрожат, становятся на дыбы, фыркают, пятятся назад, но сильные руки их удерживают; железо их пронзает — они с судорожным движением падают на землю. «Кровь! кровь!» — кричит народ; а конюх хозарский рвет с себя шапку, рвет волосы, усыпает свою голову землею и не знает, что тяжелее ему, утрата господина или смерть коней любимых. — Что вы сделали? — закричал строгий воин, пробиваясь вперед сквозь толпу. — Что вы сделали? — (То был тот самый варяг, товарищ Олега, который во время пиршества противоречил князю Игорю.) — Какая радость усопшему Олегу в животных убитых, коль они будут лежать поверх кургана? Их бы следовало спустить туда, в яму. Разве вы не ведаете, для чего это делается? — чтобы мертвец радовался беседе любимых им во время жизни. Конь ему там нужнее, чем вся ваша поклажа. А вы, новогородцы, неужели забыли, как, погребая нашего Рюрика, мы его любимого жеребца с ним зарыли в землю? — Помним, помним, — сказали ильменцы. — Если же так, — произнес Игорь, — то и теперь приказываю, чтоб все исполнилось, как на тризне моего родителя. Разрывайте бугор скорей! Старшина повиновался князю, шепча бранчливые слова, которые повторяемы были усталыми погребателями. — Похороните же с каганом черногривого его Сама, — промолвил сквозь рыдания хозарский конюх. — Он был его любимец с той поры, как не стало Ателя. Смотрите на него, как алая благородная кровь его гордо течет, не мешаясь с другою кровью! Княжего коня и псов заморских толкнули в разрытую могилу, — и снова медлительно стал возвышаться острый курган на вершине холмовой. Унывный звон раздался на гуслях. Варяги, опершись на мечи, повисшие с пояса, а киевляне и новогородцы, поджавши жилистые руки, внимают гармонии слов и звуков, между тем как дикие славяне другого племени и грубые финны разлеглись по косогору и храпят, как животные.НАДГРОБНАЯ ПЕСНЬ СЛАВЯНСКОГО ГУСЛЯРА
Уж как пал снежок со темных небес,
А с густых ресниц слеза канула:
Не взойти снежку опять на небо,
Не взойти слезе на ресницу ту.
У Днепра над горой, высокой, крутой,
Уж как терем стал новорубленый:
Ни дверей в терему, ни окна светла,
А уж терем крыт острой кровлею.
Кровля тяжкая на стенах лежит,
А хозяин так крепким сном заснул,
Как проснется он, — то куда пойдет?
Как захочет он на бел свет взглянуть,
Пожелает он гулять по граду, —
Ан в глазах земля и в ногах земля!
Как прозябнет он — где согреется?
Сыро в тереме, — а ни печи нет,
И не высохнут стены хладные.
Ах, вы, хладные стены, тесные!
Для чего вы тут, для чего у нас?
Зима-бабушка! ах, закрой ты их
Своей рухлою, белой шубою!
Ты, млада весна, зеленой фатой!
НОРМАННСКАЯ НАДГРОБНАЯ ПЕСНЯ
Олега-варяга
Не знал Один:
Вдруг оком единым
Сюда взглянул…
Олега-варяга
Не знал Один:
Вдруг оком единым
Сюда взглянул, —
И стало завидно
Отцу-горе,
Там, в Валгалле.
* * *
Довольно ты славы
Себе набрал!
Ты наш — так пожалуй
Ко мне на пир!
И вот за тобою
Пришла змея:
Олег, сюда!
Не пеший убогий, а гордый ездок
К Одину спешит во дворец:
Наш брат прешагнул за валгаллский порог:
— Давай ему пива, отец!
* * *
Острый, новый курган возвышается одиноко на горе Щековице, господствуя над волнистым Днепром и над любимым городом усопшего правителя. Сама природа как будто бы заготовила здесь заморскому витязю предреченную могилу.
Н. А. Дурова Угол{20}


В ясный солнечный день первого мая тьма карет, колясок, ландо и кабриолетов быстро катилась к месту гулянья. Стекла опущены; в окнах экипажей видны прелестные лица дам, миловидных детей и то там, то сям важные физиономии военачальников, градоначальников и всех других начальников. Пешеходы идут густою толпою по тротуарам, толпятся и теснятся близ качелей, балаганов, подходят к экипажам, рассматривают красоту их, красоту упряжи, красоту лошадей; есть из них и такие, которые мыслят возвышеннее и смотрят только на красоту сидящих в экипажах. Но вот мчится карета прекрасная и дорогая; все так отлично: лошади картинные, упряжь блестящая, кучер красавец, форейтор, как Купидон! Что же после этого должно быть внутри кареты? Уж, верно, что-нибудь такое, для чего не подобрать ни сравнений, ни выражений. Карета въехала в ряд; началось важное, плавное, церемонное гулянье, развлекаемое разного рода представлениями на площади. К окну прекрасной кареты то и дело подлетали на бодрых конях ловкие, а иногда и лихие наездники с белыми перьями на шляпах; иногда подходил какой нибудь пешеход в сюртуке, по сукну и покрою которого можно было узнать или, по крайности, заключить, сколько тысяч годового дохода укладывается в его карманы. И кавалерия и инфантерия раскланивались очень учтиво с сидящими в карете, но легкая, чуть приметная усмешка, которою сопровождался поклон их, была как-то неуместна, судя по блистательной наружности экипажа тех особ, к которым относилась. Кто не видал бы кареты, а видел только поклон и усмешку, тот подумал бы, что особы, принимающие подобные знаки вежливости, едут на наемных дрожках. После этого простительно уже заглянуть в окно кареты и вместе послушать, что говорят эти шалуны, которые с полчаса уже как заставляют делать то курбеты, то лансады{21} своих английских кобылиц, почти вплоть у окна красивого экипажа. — Ecoutez George![18] Отъедем немного подалее. — Зачем? — Как зачем? Неужли же нам тут оставаться до конца гулянья? — Почему ж нет? Разве не все равно, где ехать? И разве можно иметь лучшее место, как теперь наше? — О, уж очень можно; у всякого свой вкус, посмотри на четвертую карету впереди нас, видишь ли, какой блестящий рой окружает ее; а кажется, внутри ее… — Несметное богатство! — отозвался молодой гусар, князь С***, и, дав шпоры арабскому жеребцу своему, вмиг присоединился к толпе кавалеристов, красующихся близ кареты с несметным богатством. — Видишь, Жорж! отъедем же и мы; пожалуйста, отъедем, хоть для того, чтоб я мог говорить с тобою не вполголоса. Я хочу рассказать тебе кое-что о твоей очаровательной Уголлино. — Стыдно тебе, Адольф! — Pardon! Mille pardone, mon ami![19] Но, право, я предпочитаю назвать ее Уголлино, хоть это тебя и сердит, нежели истерзать слух и выломить язык, выговаривая: «Фетинья Федотовна». — Что правда — то правда, Жорж; имя твоего кумира приводит в замешательство всякого порядочного человека; его нельзя выговорить, не покраснев до ушей и не сделавшись смешным самому себе. — А фамилия! Верно, Мефистофель думал целые три дни, пока подобрал такое гармоническое соединение имени с фамилией: «Фетинья Федотовна Федулова, дочь Федота Федуловича Федулова!» Дивная поэзия! — Однако ж это очень жаль, что такое миленькое существо так смешно называется. Молодые люди, говоря это, отъехали довольно далеко от прекрасной и богатой кареты; один только Жорж не оставил своего места у окна ее, пока не завидел вдали великолепного ландо, едущего прямо к тому месту, где он был. Молодой человек заставил лошадь свою сделать два или три мастерских лансада, которые, дав ему возможность выказать ловкость свою и искусство, отдалили его на значительное пространство от кареты. В это самое время ландо поравнялось с нею. Пожилая дама величавого вида с досадою и пренебрежением отвернулась от прелестного личика, радостно и скоро выглянувшего из окна кареты. — Счастье совсем неразборчиво! Справедливо изображают его слепым, — сказала компаньонка графини Тревильской в ответ на ее неприязненную пантомиму. — Что вы называете счастьем? — Счастьем называю я — осужденная положением моим на всегдашнюю зависимость — полную независимость, которую дать может одно только богатство. — И наш образ мыслей, прибавьте; мы счастливы и несчастливы от способа, каким судим о вещах. — Ах, графиня! Нет способа, который бы сделал горькое несчастье — счастьем! Смотрите на него, судите о нем как угодно, оно все будет не что иное, как злополучие! Графиня имела столько ума, чтоб понять справедливость слов своей компаньонки и внутренне согласиться, что нет ничего легче, как философствовать и считать всякое несчастье сносным, сидя в покойной карете, имея в распоряжении своем пять или шесть тысяч душ, два огромных дома в столице со всеми возможными выгодами и удобствами, тьму бриллиантов, двадцать ниток жемчуга, крупного и круглого, как горох, и, наконец, полмиллиона в ломбарде. Все это удивительно как помогает переносить всякое несчастье!.. Графиня, однако ж, не сказала ничего из того, что думала, она только спросила: — Что ж вам дало повод к заключению, что счастье неразборчиво? — А вот эта блестящая, дорогая карета, что сию минуту проехала мимо нас. — Вы думаете, что особы, в ней сидящие, не стоят быть богатыми? — Ведь вы богатство считаете благополучием. — Да, графиня, и я думаю, что счастье взыскало их без заслуг; думаю, что они ни почему не имеют на него права. — Я не вашего мнения. Богатство, приобретенное трудом, хорошо веденным расчетом, неусыпностью, служит достойною наградою тому, кто умел нажить его; но употребление или, лучше сказать, злоупотребление богатством предосудительно и заставляет сожалеть, что случай так худо поместил его. — То есть злоупотреблением богатством хотите вы назвать лишнюю роскошь? — Да! Неуместную, неприличную им роскошь. — Я что-то худо понимаю вас, графиня. Какая ж роскошь неприлична им? — Роскошь утонченная, роскошь высшего круга, изящная, которой они не могут ни понять, ни оценить и которой следуют как будто по инстинкту, наугад, но в душе она им совсем не нравится и очень не по вкусу. — Извините, графиня; если я попрошу вас изъяснить мне эту разницу между роскошью утонченною и неутонченною, — имейте снисхождение к моему провинциализму. — Fi donc, ma chère![20] Что за выражение «провинциализм»! Пожалуйста, отвыкайте от него в обоих смыслах. — Постараюсь, графиня. Но, сделайте милость, — о роскоши утонченной; что она такое? — А вот что; замечаете ли вы какую разницу между каретами моею и Федуловой? — Замечаю, графиня. Карета Федуловой лучше. — Хорошо. Замечание ваше справедливо. Теперь, каким кажется вам наряд ее и дочери? Вы, я думаю, успели рассмотреть его. Чем отличается он от наряда знатнейших дам наших? — Самой Федуловой — ничем; убор ее одинаков с вашим, княгини Орделинской и многих других. Тоже бриллианты, бархат, блонды, все дорого, пышно, красиво, высокой работы и модного покроя. Но дочь ее отличается от всех, и если сказать правду — очень выгодно для себя: она одета с какою-то пленительною простотою, что делает ее восхитительно прекрасною. — Вот это-то все и называется роскошью утонченною. Например, фасон и отделка кареты, стати лошадей, высокая работа упряжи есть роскошь утонченная, на которую разбогатевший крестьянин Федулов не имеет права и которая ему совсем нейдет. — Боюсь показаться вам бестолковою, графиня! Но, из милости, позвольте сделать вам еще вопрос: почему нейдет Федулову сидеть в щегольской карете и почему он не имеет на это права, когда он теперь купец первой гильдии и вместе именитый гражданин? — Вы в самом деле, милая, немного беспонятны; однако ж нечего делать с вами, буду рассказывать по пальцам. Именитый гражданин Федулов и семья его имеют полное право ехать в карете; но недавний мужик Федулов не должен бы, кажется, предпочитать изящное, высокое — прочному и полезному, по крайности, так говорит здравый смысл. Я не знаю, как он сам чувствует себя в этой карете, но уверена, что толстая Федулова каждую минуту вздрагивает, чтоб ее легкий, красивый экипаж не опрокинулся от собственной ее тяжести; чтоб эти воздушные, статные кони не взвились с нею под облака; и верно, ей до смерти неловко, что она своего наряда не слышит на себе; ей кажется, что она раздета, что на ней вовсе ничего нет. Она даже худо знает название всего того, что носит, но тем не менее бросает десятки тысяч, чтоб иметь все самого лучшего фасона и достоинства: наряд ее, в высокой степени изящный, делает ее смешною (потому что в ней самой ничто ему не отвечает) и служит доказательством дурного употребления богатства, хорошо приобретенного. Эта девочка, эта ничтожная Фетинья Федотовна, которой своенравная природа дала род красоты совсем ей неприличный и вовсе бесполезный, эта девочка, говорю, не должна бы так одеваться; такая прелестная простота показывает тонкий вкус и принадлежит одному только высшему сословию… Смешна была эта выходка природы! Девчонка Федулова получила в удел красоту, приличную одним только владетельным княжнам!.. В ней есть что-то благородное, гордое, величавое и вместе милое до очарования… Это нестерпимо! К тому же эта хитрая постигла, что столько совершенств не надобно портить лишним нарядом, и вот она одета так, что даже женщины находят ее прекрасною! Но всего хуже и всего досаднее для меня, что она и не думает стыдиться смешного имени — Фетиньи Федотовны. — Другие за нее стыдятся. — О, если б так было! Авось тогда и мой… Графиня, завлеченная досадою за пределы осторожности, вдруг спохватилась и замолчала. Простодушная компаньонка этого не заметила; но, не желая, чтоб разговор, столько ее интересующий, прекратился, спросила опять: — Отчего ж, графиня, вам досадно, что девица Федулова не стыдится своего имени? — Оттого, — отвечала графиня, снова уступая чувству, не дающему ей времени обдумывать слова свои, — оттого, что это показывает силу ума, а есть ли что в свете могущественнее, как ум и красота вместе? Царства трясутся в основании своем от соединения этих двух необоримых сил. — Мне кажется, графиня, что вы слишком уж резко изображаете два драгоценнейшие дара природы; вы говорите об них, как будто о какой-нибудь всеразрушающей буре! Графиня молчала. Взор ее беспокойно переносился чрез всю линию экипажей, медленно движущихся один за другим. Подождав с минуту, компаньонка, хорошо знавшая слабость графини в избытке чувств высказывать все, что их тревожит, начала говорить: — Впрочем, если вникнуть хорошенько, то описание ваше верно. Точно ум и красота, когда они вместе, побеждают, созидают и разрушают все, смотря по тому, чрез кого, на кого и в каких обстоятельствах действуют. Но я только не могу понять, графиня, что вам до того, хороша или дурна, умна или глупа Федулова; мне кажется, для вас это должно быть все равно. Ответ на этот вопрос был довольно затруднителен, и лучше всего было бы не отвечать на него, но графиня имела несчастную и вместе смешную слабость непременно отвечать на всякий вопрос, и исключительно на такой, который ставит ее в затруднительное состояние открыть то, что непременно должно было б быть скрыто. Графиня отвечала: — Что мне до того, говорите вы? О, очень много, моя милая, очень много! Я все теряю: мои планы, замыслы, надежды могут разрушиться невозвратно именно от того, что своенравная судьба дала Фетинье ум и красоту вместе. Компаньонка открыла большие глаза. Но графине трудно уже было остановиться, да и поздно; она столько сказала, что надобно было продолжать, что она и сделала. — Да, милая! Неуместное соединение ума и красоты в молоденькой мещанке Федуловой будут причиною, что лестнейшие надежды мои не сбудутся!.. Посмотри, где карета Федуловых? — Вон в том ряду, графиня, наискось против нашей. В самом деле, как хороша молодая Федулова! — Кто из наших молодых людей едет близ ее кареты? — Много, графиня! Я не всех знаю: но вот из знакомых: два брата Лелевых; конногвардеец Рагоцкий; лейб-гусары: Верхоглядов, Мазовецкий, Сербицкий и Урбанович. Все они то подъезжают к окну кареты, то опять отъезжают и, как будто показывая пред красавицей Фетиньей удальство коней своих, беспрестанно делают скачки и курбеты; один только граф Жорж едет шагом и вплоть у окна… Компаньонка вдруг замолчала: новая мысль озарила ум ее. — Так неужели, графиня, думаете вы!.. — воскликнула она и опять замолчала, как будто не смея кончить своего вопроса. Графиня горько сожалела, что навела ее на эту догадку. Восклицание компаньонки показывало, что она только сию минуту поняла причину нерасположения графини к Федуловым.
Вся гуляющая процессия остановилась на несколько минут, потому что переднему экипажу встретилось какое-то затруднение. Остановкою этою спешили пользоваться многие, в том числе важный и сановитый купец Федулов, так скоро, как позволила ему толщина его, выставляется в окно кареты, чтобы позвать лакея, и вот дверца блестящего экипажа отворилась, тучный Федулов, с окладистою бородою, в сюртуке самого дорогого сукна, в бобровой шляпе, вышел из кареты. — Прощай, Матрена Филипповна, воротитесь, пожалуйста, к чаю домой. Прощай, Фетиньюшка. — Купец хотел уж идти, но в эту минуту увидел графа Тревильского, который, чтоб оставаться близ кареты Федуловых под благовидным предлогом, заставлял свою лошадь то прыгать, то становиться на дыбы. Покачав неодобрительно головою, купец, казалось, был в раздумье, не сесть ли опять в карету; с полминуты стоял он в нерешимости на одном месте, однако ж благоразумие взяло верх, и Федулов удовольствовался только повторить жене своей просьбу воротиться к чаю домой. После этого он уж, не раздумывая и не разглядывая прыжков графского коня, стал пробираться чрез площадь на тротуар. Однако ж маневр графа не спас его от разлуки с прекрасною Фетиньей. Графиня, тоже очень обрадованная этой остановкой, тотчас воспользовалась ею и приказала человеку позвать к ней сына. — Милый Жорж! Поезжай, пожалуйста, к княгине Орделинской, вон ее карета в том ряду; скажи от меня, что я очень интересуюсь знать, какие вести получила она из Мадрита. Когда граф оборачивал уже лошадь, чтоб ехать, куда его посылали, графиня прибавила: — Ответ ее перескажешь мне после, а теперь, сделай мне удовольствие, останься близ нее до конца гулянья. Графиня говорила все это тоном столь ласковым и кротким, что компаньонка, не видевшая лица ее, закрытого широкими полями шляпки, никак не подозревала, чтоб слова и голос Тревильской были в величайшей противоположности с выражением глаз ее и физиономии; в том и другом молодой граф видел угрозу и упрек. Хотя приказание матери было как нельзя более неприятно юному Тревильскому, однако ж он исполнил его ловко, непринужденно и, по наружности, охотно. Искренность заменилась вежливостью, и престарелая Орделинская приняла за чувство сердца те выражения, какими учтивый граф передал ей желание матери своей узнать о том, что пишут княгине из Мадрида. — Много радостного, любезный граф! Я надеюсь, что скоро все мы будем очень счастливы. Невестка моя возвращается сюда. Она пишет, что Целестина совершенно выздоровела и очень поправилась: выросла, пополнела, похорошела, стала бела, румяна, как кровь с молоком! О, путешествие — спасительное средство для больных и приносит великую пользу! Старая дама была чрезвычайно довольна, что молодой человек не отъезжал от окна ее кареты и постоянно поддерживал любимый разговор княгини о выздоровлении и возвращении внуки ее, малютки Целестины, которой, мимоходом сказать, минуло уже двадцать три года и которой красота приводила в восторг одного только турецкого посланника, и то тогда, когда Целестина сидела, но если вставала или ходила, Ибрагим восклицал с прискорбием — разумеется, мысленно: «О, аллах! За что мудрость твоя наслала такое поношение на красоту этой прелестной, полной луны!» Княжна Целестина Орделинская, малютка, по словам ее бабки, и полная луна, по мнению паши Ибрагима, была, в глазах всей остальной массы людей, дева гораздо более нежели полная, с красивым ростом флангового гвардейца. Эту Пелегрину, в своем роде, желала приобрести графиня Тревильская для своего сына, единственного ее наследника, графа Георга Тревильского. Князь Орделинский, отец Целестины, давно уже находился при испанском дворе в качестве посланника; но княгине почему-то не нравилось жить в Мадриде, и она, верно, не вздумала бы ехать туда, если б мать князя не потребовала настоятельно от своей невестки, чтобы она отправилась сперва путешествовать, а после присоединилась к мужу. — Давно бы тебе, мать моя, — говорила недовольная свекровь, — давно бы надобно подумать об этом! Посмотри на Целестиночку, на что она похожа! Настоящий заморыш, совсем испитая, ни цвету, ни роста, ни полноты! Поезжай; пусть ее подышит воздухом чужих земель, авось расцветет. Разговор этот был за три года до того гулянья, о котором теперь идет речь. Целестине было тогда девятнадцать лет и она точно была сухощава, тонка и не слишком высока; и хотя не похожа была на испитую, как называла ее бабка, однако ж по виду в самом деле казалась больною: цвет лица ее редко когда оживлялся; во всех движениях заметно было какое-то бессилие, изнеможение и лень, как то бывает у людей, непомерно растущих; но как тогда не предвиделось еще гигантского роста для Целестины, а просто приписывали ее вялость, леность, слабость, неповоротливость болезненному телосложению, то бабка, любившая ее до чрезвычайности, встревожилась и, полагая, что одна только перемена климата и движение могут укрепить силы захиревшей внуки ее, употребила столько убеждений, просьб, упреков, угроз, ворчанья, что княгиня, невестка ее, готова была уехать от них в Камчатку, не только в теплые и прекрасные стороны юга. Три года прошли, и старая Орделинская с торжеством рассказывала всем, кто хотел и кто не хотел слышать, то же самое, что рассказывала молодому Тревильскому, то есть что ее Целестиночка сделалась как кровь с молоком, выросла, пополнела, похорошела и что скоро возвратится радовать всеми этими совершенствами ее, свою бабку. Впрочем, как это радостное известие пришло накануне гулянья вечером, то и неудивительно, что она не успела сообщить его той, которую оно более всех должно было интересовать, — графине Тревильской. Задолго еще до отъезда княжны Орделинской в чужие края положено было между семействами Орделинских и Тревильских выдать Целестину за Георга и чрез то соединить имущества обеих фамилий. Молодой Тревильский, не находя, что сказать против выбора, сделанного его матерью, не противился этому распоряжению и очень покойно готовился сделаться мужем Целестины. По этому ходу вещей и безусловному повиновению графа предполагаемый союз давно бы состоялся, если б малютка Целестиночка не стала хиреть от часу более, может быть, от тех усилий, которые делала натура вытянуть ее трехаршинный рост, а может быть, и от беспрестанной неги, пестованья, шнурованья, танцеванья и двадцати других причин, мелочных, неприметных, но тем не менее успешно разрушающих здоровье. В три года, проведенные в чужих краях, княгиня Орделинская-мать с испугом увидела, какую великую, неожиданную, а всего более нежеланную перемену произвело путешествие в ее дочери: рост княжны сделался просто страшен; ее можно было б показывать как чудо; полноту же ее без церемонии позволялось бы назвать толстотою, если б она не скрадывалась несколько ее огромным ростом, при нем только она казалась сносною, но не более, однако ж, как сносною. Лицо молодой девицы, прежде бледное, желтоватое, худое, но со всем тем довольно приятное, теперь сделалось кругло как месяц, бело как молоко, гладко как мрамор, цвело самым смелым здоровьем, кожа на нем светилась как под лаком и ко всему этому во всех чертах ни искры чувства, ни тени ума! Это была колоссальная статуя, прекрасно отработанная; большие голубые глаза, красиво оправленные, не выражали никакой мысли; казалось, что это фарфор разрисованный; уста ее, румяные и хорошей формы, улыбались всегда очень бессмысленно, и, сверх того, улыбка эта придавала еще какую-то противность лицу ее, и это было единственное изменение, какое делалось в ее совершенно неподвижной физиономии. Молодой Тревильский хотя и не знал еще ничего о том богатом приращении в вышину и ширину, какое получила его нареченная невеста, малютка Целестиночка, от благословенного климата теплых стран, начал, однако ж, почему-то чувствовать смертельное нехотение сделаться ее мужем. Не раз уже приходило ему на мысль, что он слишком скоро и безусловно покорился воле матери в важнейшем случае своей жизни. Его видимо беспокоил и приводил в замешательство всякий разговор о княжие Орделинской, ее скором возвращении, свадебных приготовлениях и бесчисленных планах в отношении к их общей будущности, обо всем этом графиня толковала с наслаждением, часа по два сряду, не замечая, что сын ее в это время отирал холодный пот с лица и мысленно призывал на помощь все препятствия и затруднения, какие только существуют в мире, чтоб расстроить союз, который он начал считать гробом своего счастья. Судя по этим чувствам, можно угадать, чего стоило графу исполнить приказание своей матери оставаться близ княгини Орделинской до самого конца гулянья и слушать, улыбаясь радостно, нескончаемый разговор о малютке Целестиночке. Но вот наступила пора разъезжаться. Экипажи пустились в разные стороны, карет от часу становилось менее, и, наконец, молодой граф вздохнул свободнее, услышав, что старая Орделинская, пожелав ему доброго вечера, приказала кучеру ехать домой. Как птица, вырвавшаяся на волю, полетел Тревильский мимо остающихся еще экипажей в надежде увидеть в ряду их карету Федуловой; но как лучший тон оставил уже место гулянья, то что ж могло удержать там Федулову? Что она будет делать между теми, которым гулянье в такую диковину, что они как можно позже с ним расстаются? Нет, наперекор всему Федулова постоянно копирует поступки людей высшего тона; она приезжает и уезжает в условное время, никогда, ни одною минутою не продолжит своего визита долее, нежели позволяет приличие; одета всегда богато, со вкусом, с изяществом даже; она дорого платит, чтоб быть так одетой, потому что у нее самой вкус только ее природный, и если б она последовала ему, то вместо эфирных газов, тонких, как паутина, кружев прелестных цветов она охотно бы надела парчу, которую нельзя согнуть, как будто она выкована, а не соткана; на шею повязала б сорок ниток жемчуга; на голову платок, такой, от которого блистало б, как от солнца, и, облеченная во всю эту лепоту, любовалась бы ею пред старинным туалетом столько же, сколько и своею роскошною толщиною, которую теперь она, скрепя сердце, без милосердия стягивает шнуровкою. Итак, кареты Федуловых нет… Граф теперь только способен видеть вещи как они есть и, чувствуя, что смешно оставаться среди толпы людей, с которыми он не имеет ничего общего, притрогивается легонько шпорою к крутому боку своего арабского коня и улетает, несясь галопом стройным, ровным, быстрым.
— Маменька! Что такое угол? Ничто не могло быть в такой ужасной противоположности с мыслями, которым предавалась теперь Матрена Филипповна Федулова, как вопрос ее дочери, прелестной Фетиньи Федотовны. Купчиха вздрогнула, хотела перекреститься, но — это не в моде! Хотела сказать: с нами сила крестная! Но это выражение тоже не в моде; хотела по крайности назвать дочь дурою, но ведь и это не в моде!.. Что тут делать? То не в моде, другое не в моде!.. Высший тон не крестится в изъявление того, что удивляется чему-нибудь; не призывает святых на защиту от глупцов и не бранит людей, сказавших без намерения что-нибудь для него неугодное, — высший тон благочестив истинно и благоразумен во всех случаях жизни. Федулова не понимает: что, как, почему и отчего делается у них так, а не иначе, но копирует верно. — Какой угол, милая? Что ты говоришь? Где видишь его? — Да вот, маменька, вот сейчас проезжаем мимо; видите, на окне бумажка с той стороны стекла приложена? Теперь худо видно, а как мы ехали на гулянье, то я хорошо рассмотрела и прочитала слово «угол», написанное на этой бумажке. Что это значит, маменька? Я почти все гулянье думала об этом слове. — Надобно, чтоб голова твоя была очень пуста, милая Фетинья, когда ты целое гулянье думала об одном слове, написанном на лоскутке бумаги, приклеенном за окном! Это не стоило минуты размышления; и как можно обращать внимание на какой-нибудь уличный вздор! Не люблю я этого, Фетинья! И прошу тебя, если не можешь мыслить о чем-нибудь лучшем, то хоть не говори мне о тех пустяках, которые лезут тебе в голову!.. Угол! Г-м! И это сказала мне дочь моя? Федулова с досадою отвернулась и стала смотреть в окно кареты, противоположное тому, близ которого сидела пленительная Фетинья. Так доехали они домой. Федулов ждал уже их, чтоб вместе пить чай. Заметя унылый вид дочери, он стал было спрашивать, отчего она так невесела, но Матрена Филипповна упредила ответом, что у Фетиньюшки разболелась голова: «Она сегодня слишком рано встала; ей надобно успокоиться; поди, милая, в свою комнату, я пришлю тебе туда чаю, выпей чашечки две погорячее и ляг спать. Прости, дитя мое, ступай с богом». Говоря это, Федулова шла с дочерью до дверей залы и, кликнув девку, велела проводить ее в спальню, а самой тотчас прийти за чаем. Управясь с этим делом, тучная Федулова роскошно уселась на пышном диване, пододвинула к себе поднос, положила в чайник чаю, совсем седого, и, подставив его под кран серебряного самовара, стала методически наливать, переставать, опять доливать и наконец поставила его на конфорку. Настал антракт. Время, в которое чай на конфорке получает приличную крепость, посвящается обыкновенно кой-какому мелочному разговору; Федулова начала: — Заметил ли ты, Федот Федулович, сколько знатных молодых господ ехало близ окна кареты нашей? И как все вежливы; сколько ловкости! Какие молодцы собою! А граф Георг Тревильский? Он остался бы при мне до конца гулянья, если бы эта старая Орделинская не подозвала его к себе. — Остался бы при тебе, говоришь ты, Матрена Филипповна! Вот чему я никак уже не верю, хотя и желал бы, чтоб он точно ехал при тебе только. — Это что еще за загадки такие? Нельзя ли говорить по-людски. — Изволь, очень можно: Тревильский ехал подле твоей кареты совсем не для того, чтоб быть при тебе — ты была не одна, и так гораздо правдоподобнее заключать, что его привлекало то, что молодо и красиво, нежели… однако ж мы заговорились, не пора ли снять чайник с конфорки? Федулова сняла чайник и, отлив из него до половины, долила опять и тогда уже, дополнив чашки, снова поставила его на конфорку и подала мужу чашку. Вся эта церемония не помешала ей продолжать начатый разговор. Прихлебнув из чашки, она поставила ее перед собою на поднос и, облокотясь на подушку дивана, стала опять говорить: — Какой ты нынче сделался хлопотун, Федот Федулович! Нельзя уж и в одном слове ошибиться, ну что за беда, что сказала «при мне», пусть будет: при тебе, при карете, при окне кареты; не все ли равно? Довольно, что ехал с нами, пока ему было можно. — Федулова взяла свою чашку. — Кушай же чай, об чем ты думаешь? Ведь простынет. — Я думаю, почему ты не хочешь сказать, что граф ехал с той стороны кареты, где сидела наша дочь? Это было бы всего справедливее. — Я думала, что нет надобности говорить о том, что нам с тобою так хорошо известно. Для кого ж, как не для Фетиньюшки, граф Георг так учтив с нами, так ласков, почтителен, так ухаживает, прислуживает мне при каждом случае? Разумеется, что все это делается для нее. — Лучше было бы, если б все это делалось для тебя; я был бы покойнее и, право, первый смеялся бы этому, да и ты тогда была б уже в точности похожа на знатную и модную даму. — С тобой сегодня мудрено говорить; господь помилуй тебя! Что за слова: он смеялся бы, если б за мною гонялся всюду молодой, красивый офицер… Граф!.. Безбожник ты, Федот Федулович! — Полно, Матрена! Мы из пустого в порожнее переливаем, а к делу не подвигаемся ни на шаг. Налей-ка мне еще чашечку. Есть вода в самоваре? — Есть немного; прикажешь подбавить? — Нет, довольно будет: сегодня мы званы на именинный вечер к Викулу Терентьевичу. Супруги выпили еще по чашке, молча; но жене Федулова очень хотелось говорить и как будто допытаться чего-то. Она опять начала: — Ну, а я все-таки спрошу тебя, Федот Федулович, уж мне это любопытно стало: почему тебе приятнее было бы видеть графа Георга угождателем моим, нежели дочери нашей? Скажи, пожалуйста. — Потому, друг мой, что волокитство за тобою было бы просто глупость молодого человека, которая возбуждала бы один только смех и не давала б никакого повода к злоречию; потому что в нашем быту и с нашим воспитанием жены купеческие и во сне боятся увидеть изменить мужу; и так дурачество Тревильского смешило б только всех, но не имело никакого худого последствия ни для кого, тогда как постоянное ухаживание его за Фетиньей дело совсем другого рода: дочь наша молода, красавица, по твоему настоянию дано ей прекрасное воспитание, а велением судьбы имеет она отцом — бывшего крестьянина Федулова, а матерью — отпущенницу Матрену Вертлякову. Первые обстоятельства влекут к ней сердце молодого графа; последние лишают его возможности согласить это чувство с честью и своими обязанностями. — Хоть бы слово поняла!.. Скажи просто. — Графу нельзя быть любовником нашей дочери, ему надобно жениться на ней, иначе она не может достаться ему; но на эту женитьбу никогда не согласится мать его, которая высокое происхождение считает дороже богатства, хотя б это богатство было в десять раз более моего. И так пойми все это, моя добрая жена, и устрой так, чтоб Тревильский не появлялся у нас ни под каким предлогом, тоже и в обществах постарайся устранять его от Фетиньи. — Ну, теперь-таки понимаю: ты боишься, что будут дурно говорить о Фетиньюшке? А что скажешь, если граф посватается за нее? — Ничего не скажу, потому что этого никогда не будет. Не посватается Тревильский за нашу дочь, могу тебя в этом уверить. — Женится, хотела я сказать, посвататься нельзя, он не смеет; женится на Фетиньюшке. Что тогда? — Что тогда, Матрена? — сказал купец, вставая. — Тогда вот тебе мое честное купеческое слово и вот свидетель Спас Нерукотворенный, что я прогоню тебя и на дорогу больно побью — в первый раз в жизни побью и, разумеется, в последний, потому что во всю остальную жизнь нашу мы уже никогда с тобою не сойдемся. Теперь подумай же об этом обещании и постарайся, чтоб Тревильский не женился на нашей дочери!.. Федулов допил двадцатую чашку чаю и ушел в контору отдохнуть до того времени, как надобно будет ехать на званый вечер к Викулу Терентьевичу.
Слово «побью» было так несообразно, в такой противоположности с местом, видом и обстоятельствами, при которых было сказано, что посторонний свидетель, если б он мог тут случиться, расхохотался б от души. Прекрасная, богато убранная комната, накуренная благовониями, вазы с цветами, атласный диван, на нем, небрежно облокотясь, сидит женщина в прелестном роскошном пеньюаре, волосы ее по-домашнему подобраны и приколоты просто на голове бриллиантовым гребнем, и этой-то женщине, так величаво сидящей на ее диване, окруженной стольким богатством, такою изящною роскошью, говорят, что ее побьют. Нельзя опомниться после этого. И точно Федулова долго сидела в раздумье; чашка чая осталась недопитою, правда, что, вопреки тону высшего круга, она была пятнадцатая, но все-таки Матрена Филипповна не допила ее, потому что была ужасно ошеломлена словом, до сего времени никогда ею не слышанным от своего сожителя. «Осердился же он!.. Вот несчастный день выбрался! Давеча должна была слышать о проклятом угле, сердце у меня так и замерло от этого слова; а теперь тоже не легче: „побью“! Вот что повернулся язык его выговорить! Ну, пусть бы уж „прогоню“! Это еще не так прискорбно; это водится у знатных. Прогоню, значит, разойдусь с тобою! А то: „побью“! Точно простой мужик говорит работнице, безбожник, безбожник!..» Матрена Филипповна отерла слезы и пошла одеваться на званый вечер, она уселась против своего дорогого туалета, и несмотря на то, что слово угол заставляло ее вздыхать, а от другого слова: побью — щемило ее сердце, она оделась блистательно и по последней моде. Через два часа Федуловы отправились в гости, и через четверть часа по их отъезде резвая Маша, горничная девка Фетиньи, с хохотом рассказывала в девичьей, что хозяйская дочь расспрашивала ее, что такое значит «угол». — Уж не слыхала ль она чего, моя голубушка! — сказала заботливо старая ключница Акулина. — Ты смотри, Маша, не проврись, сохрани бог, сама узнает, так святых вон понеси, а уж тебе беда бедой! — Вот, нужда мне говорить ей! Небось услышит не от меня: ведь все знают, что шила в мешке не утаишь. — Ну как же она начала, бедненькая? Видно, сердце-то слышит, что угол близок ей! — Вот, видишь, Акулинушка: как вышли они из кареты, я заметила, что сама-то была что-то пасмурна, а Фетиньюшка как будто оробела и шла за нею потупя глазки. Не знаю, что они там говорили в зале, только хозяйка скоро выпроводила дочь в спальню и осталась одна с хозяином пить чай, а мне приказала отнести к Фетиньюшке другой прибор чайный; вот я и отнесла; прихожу, а она сидит подгорюнившись. Я говорю: «Вот, сударыня, матушка прислала вам чаю; прикажете налить?» Молчит. Я поставила перед нею поднос: «Угодно самим наливать?» Молчит. Я уже хотела идти вон, думала, что на нее нашло что-нибудь, — вдруг она очнулась. «Ах! Это ты Маша! Что, раздеваться пора?» — «Вот как вы задумались, сударыня! Об чем бы это так? Кого видели вы сегодня на гулянье?» Она покраснела, как и всегда при этом вопросе; я притворилась, будто бы по вижу этого, и стала расспрашивать обо всем, что там было хорошего. Ведь ты знаешь, Акулинушка, хозяйская дочь не то, что сама хозяйка, та ведет себя очень деликатно, так что иногда уж и смех возьмет, а особливо как вспомнишь угол. — Да полно болтать-то, говори дело, Маша! Ведь ты хотела рассказать, как у вас зашло об нем. — Дай же мне дойти до всего по порядку; Фетиньюшка рассказывала мне, что на гулянье много было знатных господ в каретах; красивых молодцов верхами; много всякого народу толпами; но я приметила, что она рассказывала мне все это так, из доброты, а сама нисколько не занималась тем, что видела, и все как будто задумывалась. — Да что с вами сегодня, Фетинья Федотовна? Вы грустны… Граф Тревильский был на гулянье? — Полно, Маша, я не люблю этого; к чему ты спрашиваешь всякий раз о Тревильском? Был не был, что мне до этого! — Ну, ну, бог с ним! Пусть нам до него дела нет. Скажите ж, отчего вы так задумались? — Послушай, Маша, полно тебе говорить вздор; скажи вот лучше, что такое значит угол? Это слово я видела написанное на лоскутке бумаги, прилепленном к стеклу окна изнутри горницы, так чтоб проходящие могли прочитать его. Я захохотала. — Ах, господи твоя воля! Так неужели вы об этом задумались? Есть об чем! Угол! Что значит? Да я думаю, то и значит, что есть — угол и более ничего. — Но к чему ж писать это слово на бумаге и приклеивать к окну напоказ? — А, так вы не знаете, для чего это делается? Отдается внаймы угол комнаты. — Как, угол комнаты внаймы? Этого я не понимаю. — Его нанимают точно так же, как и всю комнату; как целый дом, нанимают для того, чтоб жить в нем. — В угле жить! В одном угле! Неужели это правда, Маша?.. Ты совсем некстати шутишь. — Божусь вам, что не шучу; в углах живут точно так же, как и в целых домах: так же ложатся спать, так же встают, обедают, ужинают, работают, смеются, плачут, молятся, бранятся; ну, одним словом, вся жизнь точь-в-точь идет так же, как и во всех домах, замках и — дворцах, пожалуй, все одно и то же. — Маша! — и Фетинья обняла свою красноречивую горничную. — Как бы мне увидеть угол и войти туда!.. Для меня это такая дивная вещь!.. Пожалуйста, Машенька, придумай, нельзя ли как-нибудь это сделать, чтоб я взглянула на чудо собственными глазами, чтоб я уверилась, что точно люди живут в этих углах, и живут, как живем мы! Ветреную горничную очень забавляло желание Фетиньи, и она охотно доставила бы ей возможность побывать в угле, то есть посмотреть его, если б это не было сопряжено с большими затруднениями. Фетинья выезжала только с матерью или с надзирательницей, которую Федулова важно величала гувернанткой; однако ж просьбы хозяйской дочери и собственная охота пуститься на шалость заставили Машу работать умом, и наконец она выдумала средство, по ее мнению очень успешное и нисколько не опасное. — Знаете ль, Фетинья Федотовна, как можем мы с вами побывать в одном из этих углов, что отдаются внаймы? Я выдумала. — Скажи, Маша, скажи! Ах, как я буду рада! Ну, как же? — Завтра отпустите вы меня в публичный сад гулять и попроситесь сами покататься за городом или тоже в который-нибудь из садов, где обыкновенно гуляют господа, но приезжайте в этот, куда отпустили меня. Надзирательница ничего не скажет, я уже знаю, что она любит этот сад более других. Вы поедете туда в два часа, в самый жар, тени тут мало, да хотя б и была, не замечайте ее, а пройдите широкую аллею три раза во всю ее длину, этого за глаза довольно, чтоб толстой госпоже Зильбер задохнуться насмерть; тогда вы попросите ее отдохнуть в тени под колоннами и прикажете, чтоб ей подали мороженого, лимонаду, бисквитов, апельсинов; она придет в восторг от всего этого и будет только заботиться о том, что вам неприлично сидеть под этими колоннами во все то время, пока она будет поглощать такие изящества; тогда я подойду к вам как будто невзначай и вы скажете ей, что пройдетесь со мною два раза еще по широкой аллее и после дождетесь ее на лавочке у пруда. Я знаю, что при этом предложении она и лапки сложит от удовольствия; мы пойдем и при повороте аллеи будем уже на свободе: тут два шага до ворот сада, а от них через улицу только дом и в нижнем этаже его, на одном из окон, приклеен лоскуток бумажки, на котором написано крупными слогами: «угол». Мы будет там менее нежели в минуту да десять минут можем употребить на то, чтоб его рассматривать и, если угодно, нанимать, для того чтоб хозяйка думала, что мы за этим только и пришли. Фетинья не спала ночь от удовольствия. «Угол! — думала она. — Какая это диковинка!.. Не комната! Не целая комната, а один только угол, и в нем живут! В нем можно жить! Целую жизнь, со всеми ее изменениями, проводить в одном только углу!.. Завтра увижу эту необычайность собственными глазами; дай бог, чтоб ничто не помешало. Беда как пойдет дождь или приедут гости!» Перед рассветом Фетинья заснула и видела во сне «угол», раззолоченный, увешанный цветочными гирляндами и убранный серебряным газом. Она проснулась в восторге и не знала, как дождаться того часа, в который обыкновенно ездила гулять.
Со вчерашнего дня Федулов непокоен духом; на вечере у своего товарища по торговле он не был так весел, как обыкновенно, и даже при самом жарком разговоре о выгодах такого или другого торгового оборота он часто отвечал невпопад оттого, что совсем не слушал, что говорили: вчерашний его поступок с женою тяготил его совесть. «Никак черт мне подсказывал весь это вздор, — думал он, — к чему обидел я свою бедную бабу, назвавши ее отпущенницей? Ведь это мать ее была крепостная, ей же что до этого!.. Эх, Федулов! Глупо ты сделал, вот теперь и придется покориться; не могу видеть, что она как будто грустит: пойду мириться». Федулов, кончив беседу с самим собою, бросил счеты и выкладки, над которыми без пользы просидел часа два, и пошел к жене. — Здравствуй, Матреша! Ты дома? А я видел, что поехала со двора наша карета, и думал, что это ты отправилась в магазины; видно, Фетиньюшка поехала гулять? Да? — Да. На этот лаконический ответ Федулов отвечал тем, что сел подле опечаленной жены, обнял ее одною рукою и, приклоня голову к плечу ее, стал говорить вполголоса: — Ты все еще сердишься, жена? Полно, милушка! Прости! Я был дурак, что наговорил тебе дерзких слов, и еще более дурак, что смел давать честное купеческое слово в таком деле, к которому никогда бы не имел сил приступить. Забудь, пожалуйста, все это, я виноват, очень виноват и прошу у тебя прощение от чистого сердца… По мере как муж говорил, Федулова поворачивала понемногу лицо свое к нему, и крупные слезы с каждою секундою более скоплялись в глазах ее, и при последних словах: «Ну, прости ж меня, Матрешенька, друг мой, мир!» — сказанных Федуловым чуть не со слезами, она зарыдала и упала на грудь мужа, не имея сил сказать ни одного слова. С четверть часа Федулов безмолвно прижимал к груди своей плачущую жену и был растроган до того, что с трудом удерживался от слез; наконец сильное волнение духа обоих утихло. Федулов поцеловал жену свою и еще раз просил ее забыть его грубость. — Милая моя жена, — сказал он, — я человек, немудрено, что иногда погорячусь безрассудно, наболтаю вздору, но никогда ничего не сделаю противного священной клятве, которую дал тебе в страшную минуту… — Пораженный воспоминанием, Федулов со слезами и стоном целовал колени ей. — Как мог я, безумец, забыть хоть на секунду, что ты для меня сделала!.. Жена моя! друг мой! Прости же меня! ради бога, прости! — Да полно же, сделай милость! Вот расплакался! А еще мужчина! Все это уже так давнобыло, да и что мудреного было в моем поступке? Всякая на моем месте сделала бы то же, ведь ты мне приглянулся тогда… ну, полно ж, пожалуйста, успокойся. Вот лучше скажи мне… ведь мы уж помирились, так можно говорить об этом деле без досады, — скажи мне, почему не хочешь ты, чтоб наша Фетиньюшка была графинею Тревильскою? Вопрос этот был наилучшим успокаивающим лекарством взволнованным чувствам Федулова и тотчас возвратил ему силу ума и твердость воли. — Для того, мой друг, — отвечал он уже спокойным голосом, — для того, что она не может быть ею с согласия его матери. — Но он совершеннолетний, может жениться без согласия. — Если он это сделает, прочный ли он будет муж для нашей дочери? Не уваживший мать свою будет ли любить жену! И благословляет ли бог когда-нибудь детей непочтительных? Будет ли Фетинья за ним счастлива? Матрена нахмурилась; в последних словах ее мужа было нечто такое, чего она не могла покойно слушать. Однако ж как ей очень хотелось поставить на своем, то она продолжала: — К чему предвидеть тотчас худое? Не мы первые, не мы последние: бывали примеры, что знатные господа женились на купеческих, а еще более примеров было, что женились против воли своих родителей, и всегда оканчивалось хорошо: посердятся, посердятся да и простят! — Но Тревильская, если верить слухам, не из числа тех, которые прощают, — она не простит. Скучно и долго было бы описывать дальнейшие суждения и споры супругов о деле, которое его жена хотела совершить, что б то ни стоило. Довольно знать, что продолжительный разговор супругов кончился ничем и что Федулов не смел нарушить своей мировой теми истинами, которые из глубины сердца его и разума рвались на уста. Да, впрочем, к чему б это и послужило? Ровно ни к чему. Когда им не внимали тогда, когда были моложе, сговорчивее, робче, уступчивее, когда и в то время истины эти принимались как досадное брюзжанье и оставались без внимания и исполнения, то как ждать, чтоб теперь вняли им, когда уже самовластное управление всем и беспрепятственное исполнение своей воли, обратилось не только в привычку, но даже в нечто должное и неотъемлемое. Федулов ушел в контору, благодаря внутренне сам себя, что не обратил мировой в новую ссору. «Нечего делать, — думал он, — Матрену не убедишь и не переспоришь, уступлю по наружности, пусть она думает, что Тревильскому можно жениться на нашей дочери или тихонько от матери, или явно против ее воли, но, по крайности от этого дня, я буду неусыпно стараться, чтоб такого несчастья не случилось. Вся моя надежда на дочь: скажу ей просто, что она сделает мне удовольствие, если будет избегать самомалейших сношений с графом Тревильским и что никогда не будет ни согласия моего, ни благословения на то, чтоб она вступила в чужую фамилию, которая не хочет принять ее». Между тем как благоразумный Федулов решается на такие успешные меры отклонить от семьи своей неприятное событие — прекрасная Фетинья давно уже в саду; уже она сделала по совету Маши — умучила свою надзирательницу и усадила ее в тени под колоннами, приказала уставить столик перед нею всем, что только палатка имела усладительного и прохлаждающего, и попросила позволения погулять еще с Машею, которая, как будто из земли выросла, тут очутилась. — Хорошо, хорошо, милушка! Поди, побегай, погуляй, дитя мое, но только вот по этой аллее, в сторону не ходи; смотри за нею, Маша. В одно и то же время, когда прелестная Фетинья, усадив надзирательницу свою за маленьким столиком, летела как зефир вдоль широкой аллеи, и тем отважнее, что сад был почти пуст, граф Георг Тревильский в красивом и щегольском тюльбюри{22} мчался вихрем к воротам этого ж самого сада. Тот и та прибыли в одно время, и вся разница была только в том, что граф входил в сад через большие ворота, а молодая Федулова выпархивала из него через маленькую калитку. В первую секунду граф закипел восторгом от этой встречи и бросился было к своему светозарному гению, от которого казалось ему, что весь сад заблистал лучами радужного огня; однако ж другая секунда заставила его несколько утихнуть и остановиться: он дал свободу одним только глазам своим, и эти-то два прекрасные черные глаза проводили миловидную Фетинью через всю ширину улицы прямо к угольному дому и даже последовали за нею в чернеющуюся глубь ворот или арки, под которую проворно вошла стройная, воздушная Фетинья Федотовна и вкатилась малорослая, кругленькая Маша. Неподвижность Георга, как будто прикованного к месту, на котором остановила его неожиданность и странность этого явления, начала уже привлекать на него внимание проходящих; многие также останавливались и ждали, что будет далее с молодым красивым барином, так надолго остолбеневшим. Другие проходили, но беспрестанно оглядывались и сказывали об этом случае встречающимся, которые тотчас прибавляли шагу и, приближаясь к Тревильскому, начинали идти тише, всматриваясь ему в лицо! «Тревильский! Не сошел ли ты с ума?» Это восклицание и вместе вопрос сделаны были гусаром Сербицким. Он проезжал мимо и, увидя тюльбюри Тревильского, сошел поговорить с Георгом, удивляясь, что ему вздумалось гулять в таком месте, куда никто почти никогда не приезжал из лучшего круга. Странное положение Георга, стоящего неподвижно на одном месте и не спускающего глаз с ворот углового дома, прямо против сада, удивило его чрезвычайно. Заметя, что проходящие начинают останавливаться, возвращаться, нарочно проходить мимо его остолбеневшего приятеля, он поспешил к нему и обязательным вопросом: «Не сошел ли ты с ума?» — возвратил ему употребление его. Сербицкий повлек почти насильно Георга вдоль аллеи к противоположному выходу из сада. Он взял его под руку и шел с ним прямо к тому столику, за которым праздновала тучная надзирательница Федуловой. — Какой ты чудак, Георг! Что ты там рассматривал так внимательно? Я, право, испугался; вообрази, что люди уже начали было собираться около тебя, как около прекрасной статуи! Что с тобою было? Уж не носился ли пред тобою призрак твоей Уголлино? Кого ты видел там, под воротами? Сербицкий был прекрасный молодой человек физически и морально, то есть: хорош собой и превосходных правил. Несмотря на ветреность, свойственную его возрасту, он способен был к сильной привязанности и верил, что люди более хороши, нежели дурны. Георга любил он всею душою, и хотя позволял себе называть прекрасную Фетинью «Уголлино», но тем не менее признавал, что она милая, скромная девица, редкая красавица; и хотя шалун уверял друга своего, что дивная красота Фетиньи сделает имя ее первым между самыми благозвучными именами, что называться Фетиньею будет значить называться красавицею, но вместе с этою шуткою он уверял непритворно, что по редким преимуществам своим девица Федулова достойна быть если не на престоле, то, по крайности, хоть — графинею Тревильскою. Пред ним одним только не скрывался Георг с своею любовью к дочери Федулова; ему одному только сообщал свои опасения, что мать его никогда не согласится на его союз с Фетиньей и никогда не простит, если он в этом случае поступит по своему произволу. На вопросы Сербицкого Георг отвечал рассказом о встрече с Фетиньей и о том, как поспешно и таинственно перебежала она улицу в сопровождении одной только девки и ушла в дом довольно ничтожной наружности. — Воротимся, Жорж! Посмотрим; надобно узнать, что это такое? Что за дом? Кто там живет? Зачем она ходит туда? К кому? Пойдем, пожалуйста! — Я, право, не знаю, Адольф, можно ли это; мне бы очень хотелось войти в этот дом, да под каким же предлогом? Зачем?.. Боже мой! Боже мой! Я теряюсь в догадках! Как это могло случиться, что она одна здесь, с девкою только, без человека, без надзирательницы, ходит по улицам, входит в дрянные дома!.. Пойдем, Сербицкий! Чего б то ни стоило, надобно узнать, что она там делает? Молодые люди повернули назад и поспешно шли к воротам сада, но за ними раздался визгливый голос: — Граф Тревильский!.. господин Сербицкий!.. господа!.. остановитесь на минуту! Они оглянулись: за ними спешила, переваливаясь, как утка, надзирательница Фетиньи, провожаемая двумя лакеями без ливреи. — Вот дура, — шептал Сербицкий своему другу, — твою Уголлино пустила бегать одну, а сама ходит под охранением двух человек, тогда как самым верным охранением могла б служить ей ее наружность!.. Здравствуйте, Катерина Ивановна! Что это вам вздумалось здесь гулять? Теперь это место заброшенное. — Фетиньюшка что-то вздумала сюда ехать, да вот не знаю, где она; пошла с Машею, я, видите, устала, а она, дитя молодое, побегаю, говорит, с Машуткой, да и пошли, будет с полчаса уже; не знаю где? Подите-ка, — она оборотилась к лакеям, — поищите Фетинью Федотовну: ты в эту сторону, а ты поди около пруда. Надзирательница опять села в уверенности, что молодые люди останутся с нею, как будто это могло случиться, когда Фетинья не при ней; но бедная Катерина Ивановна увидела себя совершенно уединенною, как пустынницу: ее окружали одни только кусты сиреней, потому что граф и друг его исчезли с первых слов ее приказания своим людям.
— Как же мы войдем, Маша? Зачем? Что скажем, когда спросят: «что вам надобно»? — Скажем, пришли смотреть угол. Ведь всякий может прийти посмотреть то, что отдается внаймы. Говоря это, храбрая Маша отворила дверь, близ которой они стояли, и вошла первая. — Бог в помочь, бабушка! — сказала она старой женщине, которая сидела у окна в креслах старинной формы, обитых трипом{23}, и что-то шила. Старуха, взглянув на пришедших, поспешно встала. В хижину ее не заходили такого рода гости; впрочем, она не Фетинью сочла особою высшего разряда, прекрасная Федулова была одета, по обыкновению, очень мило, но просто; а это Маша, расцветившаяся как можно больше, показалась ей не менее как герцогинею. И вот владетельница угла в недоумении поклонилась низко и ожидала в молчании, что угодно будет сказать этому существу, на котором блестят всевозможные яркие цветы, светится бронза и веется старый газ. На Маше была розовая шляпка с светло-голубым подбоем, под нею через весь лоб бронзовый гладкий обручик; на шее лиловый газовый платочек, придерживаемый чудовищною брошью в ладонь величиною; батистовый воротничок, палевое гроденаплевое платье, черный передник, вышитый красными цветами, и малиновые башмаки, унизанные блестками. Малорослая горничная, заметя, какое действие производит попугайный наряд ее на старуху, села важно в оставленные ею старинные кресла, приглашая Фетинью поместиться на ближнем стуле. — Отдохнемте здесь, Фетинья Федотовна. Что, добрая старушка, этот угол у вас никем еще не занят? — Занят, сударыня, но только до вечера, завтра будет свободен, жилица съезжает, — отвечала старая женщина, опять поклонясь низко и почтительно. Потом она оборотилась к Фетинье — с ней смелее можно говорить: на ней ничто не блистало и не было ничего ни красного, ни желтого, ни голубого. — Разве ее милость хотят поместить кого в моем углу? Я отдала бы недорого. Фетинья не отвечала и даже не слыхала вопроса старухи; все ее внимание было занято этим углом, в котором она так нетерпеливо желала быть. Молодая девица не понимает чувства, которым полно сердце ее; не может дать себе отчета в том необыкновенном впечатлении, какое производит на нее вид этого угла. Он нравится ей — мало этого: мрачный приют бедности трогает ее до умиления; ей кажется — и она несколько пугается столь странного ощущения, — ей кажется, что она охотно бы поселилась в нем навсегда. Между тем как она молчит, взор ее задумчиво переносится с одного предмета на другой: простой деревянный стол, несколько стульев, тоже простых, одно старинное кресло, занятое теперь Машею и бывшее единственным остатком и вместе напоминанием давней роскоши; широкая лавка с изголовьем, в самом углу сундучок маленький, на нем чинно поставлена пара башмаков розовых; на стене между двумя окнами небольшое зеркало в зеленых рамках, стекло его темно и в крапинах; над ним на большом деревянном гвозде висит шляпка гроденаплевая, коричневого цвета, с малиновою подкладкою, убранная светло-голубыми лентами и закрытая от пыли худым кисейным платком. В переднем углу образ старинной живописи, то есть темный до того, что нельзя разглядеть лика изображенного на нем святого. Перед ним лампада, медная, посеребренная, повешена на медных тоненьких цепочках; в нее вставлен небольшой хрустальный стакан, наполненный до половины водою, сверх ее масло, поплавок и зажженная светиленка. Огонь этот, символ любящего сердца, горит день и ночь перед изображением угодника!.. Молодой Федуловой что-то так отрадно, так легко в этом угле! Она вся отдалась мыслям: «Так вот где живут, проводят дни и ночи, имеют все потребности жизни помещенные не в двенадцати или пятнадцати комнатах, но близ себя, на пространстве четырех шагов! Здесь, не делая шагу никуда, работают, молятся, обедают, отдыхают, размышляют, плачут, смеются, любят, ненавидят, одеваются, раздеваются, надеются, отчаиваются! Все, все ощущения сердца, разума, все действия воли происходят здесь! Ни с каким чувством, ни с каким поступком, ни с какою мыслью даже нельзя остаться без свидетелей! Все видит, на все смотрит, за всем следит тусклое око этой седой старухи: она хозяйка здесь; око ее устремляется на светлую слезу горести и на веселую улыбку радости; оно рассматривает быстрый внезапный румянец, и оно же созерцает мертвенную бледность того существа, которое ведет жизнь свою, со всеми ее радостями и печалями, в маленьком углу ее комнаты!» Мысли эти не заняли и столько времени, сколько надобно, чтоб прочитать их: они пролетели молнией; и так резвая Маша тотчас же отвечала на вопрос старухи, сделанный ею Фетинье: — Да, бабушка, вот эта девица хочет сама нанять его; она, как видишь, не богата, за целый покой платить не в состоянии; так что бы ты взяла с нее за свой угол? — Да что с ее милости! Возьму то же, что и с других; мне лишнего не надобно; вот уже сорок лет, как я отдаю его внаймы, и никогда не был он и двух дней без жильца или жилицы. Вот и теперь жила в нем вдова молодая; угол мой удивительно счастлив; она прожила здесь не более года и уже выходит замуж за богатого мещанина, торговца какого-то. Завтра она оставляет мой угол, чтоб переехать в одну из порядочных улиц, не главных, разумеется, но и не из последних, там наняла она две горницы с кухнею и чуланом, да еще сарайчик для дров; о, из моего угла выгодно перемещаются!.. Маша встала. — Пора нам идти, Фетинья Федотовна! Старуха спешила извиниться в своей болтливости: — Простите, матушка! Заговорилась!.. виновата: ведь уж осьмой десяток доживаю; память плоха; иное раз двадцать перескажу… так что ж — угодно девице уголок мой нанять? Цена недорогая, четыре рубля в месяц; дрова общие. Как порешитесь? Кажись, сходно. Маша с трудом удерживалась от смеха; Фетинья ничего не слушала; она сидела на лавке, приставленной к стене, и была так довольна, так покойна, как никогда не бывала в своей великолепной спальне, ни в прекрасной гостиной, ни и роскошном будуаре. Старуха, для которой убранство Фетиньи казалось очень обыкновенным, потому что изящество его и дороговизна не могли быть ей понятны, спросила ее: — Ну что ж, девица красная, надумалась ли? Приглянулся ль тебе уголок? Переезжай, красавица, жалеть не будешь: цена не велика, я хозяйка добрая и баба веселая, со мной не соскучишься; а уж как счастлив угол мой! Сколько человек вышло из него на такое большое счастье, что и во сне-то им не снилось такого! И ты, моя лебедушка, поживешь, поживешь у меня да и выпорхнешь себе за графа! Слово «граф» было магическим для слуха Фетиньи; его уже она не могла не услышать; вздрогнув, устремила она удивленный взор свой на пророчествующую Сивиллу… Вдруг Маша вскрикнула: — Уйдемте скорее! ради бога, уйдемте! Посмотрите, люди ваши бегают то туда, то сюда по аллее, ведь это они нас ищут!.. Ах, господи, твоя воля! Взгляните, взгляните, Фетинья Федотовна! Вот стыда-то, стыда не обобраться! Что теперь скажем!.. Маша то указывала в окно, то тянула за руку Фетинью к дверям, говоря: «Убежим, спрячемся!» — то металась по горнице, сама не зная, что делать, одним словом, ветреная девка, казалось, совсем вздурилась от испуга, и сама Фетинья несколько смешалась, и правду сказать, было от чего: из ворот сада чинно выступала дебелая надзирательница, за нею шли люди Федулова, по сторонам ее, справа и слева, граф Тревильский и молодой гусар Сербицкий. Все они направляли путь свой прямо к убежищу нищеты, к счастливому углу, откуда выходят на большое счастье и выпархивают за графов. Пока так тревожатся внутри покоя бедной старухи, пока она сама крестится от удивления при виде беспокойных движений и сильного испуга блистательной дамы, одетой так великолепно в красно-желто-зелено-голубые ткани, флеры и газы, — процессия подходит к воротам и приятель графа говорит ему на ухо: — Образумься, Тревильский! Куда ты идешь? Зачем? С какой стати хочешь быть свидетелем какой-нибудь сцены, которой после сам не рад будешь. Граф не слушает, идет и с напряженным вниманием смотрит на окно, на котором приклеена бумажка с роковым словом «угол» — виною всей этой тревоги. Наконец все уладилось. Фетинья, сказав Маше, чтоб она перестала бросаться из угла в угол, просила старую женщину отворить двери и пригласить подходящую толпу войти к ней. — Это все мои знакомые, добрая женщина, скажи им, пожалуйста, что девица Федулова здесь у тебя. Хозяйка, начавшая понимать, что расцвеченная Маша не такая великая особа, как ей было показалось, шла уже к дверям, чтоб исполнить приказания молодой гостьи своей, но, услыша последние слова, вдруг остановилась: — Девица Федулова! Неужели дочь Федота Федуловича?.. Неужели!.. О, судьбы божьи! Судьбы неисповедимые!.. — Старуха забыла, о чем просила ее Фетинья; она подошла к ней ближе, смотрела на нее и протирала глаза, на которых беспрестанно навертывались слезы: — Так это ты, мой цветок прекрасный! Моя лебедь пышная! Как это я, старуха глупая, не узнала тебя? Фетиньюшка, ангелочек мой, какая же ты красавица стала!.. Сядь, моя матушка! Сядь, мое сокровище ненаглядное!.. И ты пришла сюда! Ко мне! Ты отыскала меня! А я-то думаю, вот пришли нанимать угол мой. Ха, ха, ха, милочка ты моя! Восклицания старухи, ее слезы, нежные наименования, какие давала она Фетинье, привели эту последнюю в величайшее изумление; но удивляться некогда, требовать объяснения также, потому что вот входит почтенная Катерина Ивановна одна (граф имел благоразумие уступить настоянию своего друга и не пошел за надзирательницей). Вид ее пасмурен, она смотрит на Фетинью, можно было бы сказать — укоризненно, если б ее маленькие, серые, чуть видные из-за щек глаза способны были выражать какую-нибудь мысль или чувство; итак, она смотрит просто, как смотрит обыкновенно. Но ведь Фетинья знает, что она не права, что надзирательница может досадовать и что хотя взор ее устремлен на нее бессмысленно и стекловидно, однако ж устремлен для того, чтоб выразить неудовольствие. — Извини меня, милая мамушка, — говорит ей ласково юная воспитанница ее, обнимая своими маленькими, деликатными ручками огромную, тучную массу плеч и груди Катерины Ивановны, — извини, что я зашла сюда тихонько от тебя. Мне до смерти хотелось знать и видеть, что такое «угол», а ты бы ведь не позволила идти, если б я попросилась у тебя. Не сердись же, добрая моя Катинька. Толстая рука Катиньки обвилась около стройного стана милой, ласкающейся девицы; она прижала ее легонько к себе: — Ну, ну! так уже и быть! Что сделано, не воротишь! Да в другой раз, милушка, не ходи, ради бога, в такие места… Девица молодая, красивая, богатая, воспитанная и ходит бог знает где, одна или, что еще хуже, как одна, вот с этою вертопрашкою… видишь, как расцветилась! Говоря это, надзирательница, или, приличнее назвать, мамушка Фетиньи, подходила к дверям, держа ее за руку; но старуха, молчавшая в продолжение этого переговора, теперь заступила им дорогу. — Взгляните же на меня, матушка Катерина Ивановна! Так не уходят от старых знакомых… А вас тотчас узнала я, диво, что вы-то меня как будто не признаете; уж когда бог привел вас опять в мой угол, так посидите у меня с минутку, дайте поглядеть на себя!.. Ну садись же, садись, Катя! Полно смотреть-то на меня как на чудо, я все та же, давняя хозяйка твоя, мещанка Степанида Прохоровна; садитесь, мои голубушки сизые, дайте моим старым глазам порадоваться на вас в последние… ведь уж скоро… — Старуха не договорила, она отерла слезы, усадила почти насильно Катерину Ивановну, поцеловала в лоб Фетинью, которая сама добровольно опять села, и побежала на погреб принести меда попотчевать милых гостей, которых привел к ней сам бог милосердный. — Ну вот, Фетиньюшка, на какую беду навела ты себя и меня, — говорила шепотом надзирательница, усаживаясь неохотно на широкую лавку. — Какая же тут беда, мамушка? Что худого побыть две минуты у доброй женщины, твоей знакомой? Она, видно, и меня знает? — И, полно, милочка! Где ей знать тебя! Так, вклепывается; да ты, ради бога, и не расспрашивай; отведаем уже, когда нельзя миновать, ее меда да и уедем поскорее. Вот, право, беда какая сделалась! А все ты, коза дикая, Машка! Поплатишься ты мне за это! Маша и ухом не вела, слушая эту угрозу. Теперь только угадала она, куда завела свою госпожу, и наперед восхищалась, какую диковинную новость сообщит своим подругам, а особливо ключнице Акулине. «Пропадет с дива старуха, — думала нелепо разряженная повеса, — побегу скорее домой!» Маша неприметно выкралась за дверь и пошла так скоро, как только можно идти скоро, не бежа бегом. Старая Степанида принесла в хрустальной кружке мед, который она сама варила с неподражаемым искусством. — Отведай-ка ты моего медку, солнце мое красное! Лебедь ты моя белая, красивая! Степанида налила меда в стаканы и поднесла прежде Фетинье, а после Катерине Ивановне: поклонилась этой последней, сказав: «Прошу выкушать на здоровье, матушка Катерина Ивановна!» — и остановилась против Фетиньи, не спуская глаз с нее. — Ну уж одарил тебя господь, мою пташечку! Хороша ты, как серафим шестикрылый! Розан пышный! Красавица ты писаная! И не думала я, ввек не думала, чтоб ты вышла такая красовитая!.. Надзирательница поспешно допила свой стакан, встала и, взяв старуху за руку, отвела ее подалее от Фетиньи. — Степанида Прохоровна! Не забывай уговора; ты ведь побожилась перед образом, так удержись же от лишних слов; ты столько наговорила, что мне теперь покою не будет от расспросов Фетиньи. — Ну, ну, Катя, полно хлопотать-то о пустяках, я ведь побожилась только, что к вам не приду никогда; ну, я сдержала свое обещание: двенадцать лет я не знаю, где и дом ваш стоит; а когда уже вы сами пришли ко мне, так что за беда, что я похвалила такого ангелочка! Кто не похвалил бы ее, мою красавочку!.. — Нет, уж нет, Степанида Прохоровна, неосторожна ты!.. И хвалишь, и смотришь, и плачешь, и причитаешь бог знает что!.. Как тут не подумать чего-нибудь! А все это проклятая Машка! Надобно ж было привести ее сюда; добро ты, негодная девка! Счастлив твой бог, что я сама тут виновата, позволила Фетинье ходить одной, а то досталось бы тебе на орехи! Не забыла бы до новых веников! — Да что ж вы слишком тревожитесь, Катерина Ивановна? Нет еще большой беды, что Фетиньюшка… Фетинья Федотовна зашла ко мне… — сказала старуха громко и с досадою. — Не выводи меня из терпения, дура! — прибавила она едва слышным шепотом, сурово взглянув на надзирательницу. — И за то, что ты смела наговорить мне столько пустого, приводи всякий месяц на полчаса ко мне мою Фетиньюшку — слышишь! Да непременно же! И прежде нежели Катерина Ивановна, испуганная таковою неожиданной выходкой старой Степаниды, могла образумиться, маститая владетельница угла подошла к Фетинье: — Я стара, моя бесценная жемчужинка, очень, очень уже стара, не долго мне любоваться светом солнца красного, приходи же изредка радовать собою сердце мое и веселить очи, ты для них милее и краше солнца яркого, мне на душе легче, мое дитятко, когда я смотрю на твою красоту чудную. Сделаешь это для меня, Фетиньюшка… Фетинья Федотовна? Будешь приходить ко мне. — Буду, буду, бабушка! Непременно буду! Старуха затрепетала. С минуту колебалась она; казалось, ей хотелось что-то сказать, однако ж она удержалась и удовольствовалась только поцеловать Фетинью в лоб. Она еще раз отерла слезы, говоря: — Куда как слабы стали глаза мои, на что посмотрю пристально, так слезы и побегут; дай бог тебе здоровья за доброту твою, моя красавица ненаглядная! Теперь прощайте, господь вас благослови, поезжайте домой! Фетинья во весь обратный путь думала о старой Степаниде: «Какая добрая женщина и как сильно она полюбила меня! Угол!.. Милое жилище, угол!.. Как мне было покойно, отрадно, когда я сидела там; почему не жить в угле? Почему не быть там счастливою?.. „Выпорхнешь за графа!“…» Окончание мысленных восклицаний Фетиньи заставило ее покраснеть; но вдруг оборотилась она к госпоже Зильбер: — Мамушка! Почему не дали мы ничего доброй Степаниде? Ведь она бедна. Как это досадно! В другой раз… да зачем в другой раз? Я завтра же поутру отошлю ей с Машей!.. — Что вы хотите послать ей? Денег нельзя; она не возьмет. — Как не возьмет! Почему? Ведь она бедна? — Не столько, чтоб брать в подарок деньги. У нее есть дом, она получает с него доход. — Помилуй, мамушка, что за доход, четыре рубля в месяц! Столько, кажется, ей платят за ее угол! чем тут жить? — Этих углов у нее много. Фетинья тотчас вспомнила, что Степанида называла себя бывшею хозяйкой Катерины Ивановны, однако ж промолчала и сказала только, что она и не думала давать денег старой женщине, но что пошлет ей тот темно-зеленый атлас, который отец подарил ей на занавес. — Вот кстати: что ж она будет делать с таким подарком? — Сошьет себе юбку и шугай. — Как будет мила! Э, эх, милочка, Фетинья Федотовна! Ребячий разум у тебя! Ну к чему старой, простой женщине такое богатое платье? Ведь кроме того, что это лучший атлас венецианский, по осьмнадцати рублей аршин, если не ошибаюсь, он еще и вышит цветами внастилку с золотом, серебром и блестками; его приготовили уже, как должно для занавеса. — Однако ж, мамушка, он вышит так, что его можно употребить на что угодно; на нем нет тех узоров, какие приличны одному только занавесу. Степанида не будет смешна в моем атласе. — Мудрено не быть смешною осьмидесятилетней старухе, крестьянке, одетой царски великолепно. Госпожа Зильбер остановилась вдруг; она боялась, чтоб воспитанница ее не обиделась этим заключением; но как кроткая Фетинья не имела странных притязаний своей матери и сверх того ни минуты не сомневалась, что отец ее от самой колыбели — именитый гражданин и первой гильдии купец, то даже и не заметила, что было колкого в словах, намекающих на то, что пышность и великолепие нейдут простолюдинам. Наконец карета остановилась у подъезда огромного дома Федулова. Фетинья выпорхнула как зефир и взлетела на лестницу, прежде нежели дебелая Катерина Ивановна, или, как Фетинья звала ее, мамушка, поставила прочную ступень свою на щегольскую подножку кареты, чтоб выйти. «Господи, твоя воля! Не миновать беды! — говорила надзирательница, спеша, как могла, взойти на лестницу. — Вот теперь побежала вперед стремглав, встретится с матерью, смешается, сконфузится и при первом вопросе все расскажет… а тогда уже и беги вон… Заговорилась я об этом проклятом атласе да и забыла… о, господи, задохлась! Эдакая ветреница, улетела!» Однако ж опасения надзирательницы не оправдались, и вся беда прошла стороною. Федуловой не было дома; и так Катерина Ивановна успела вразумить Фетинью, что если она уже от нее ушла тихонько к старухе, то от матери и подавно надобно скрыть этот визит. Молодая девица на другой же день отослала с Машей свой атлас к старой Степаниде, которая, получа такой неожиданный подарок, и плакала и хохотала над ним; называла Фетинью своею доброю милочкою и вслед за этим маленькою дурочкою. «Ох ты, моя крошечка ненаглядная, прислала какое богатство!.. Дитя ты мое глупенькое! Ну к чему мне, старухе, простой бабе, такой наряд?.. Молодо, зелено, не понимает! Думает, что, ей-же, можно вырядиться и мне… хороша бы я была!.. Ха, ха, ха, ой, дети, дети! Всегда-то вы таковы…. Ну, спасибо, моя Фетиньюшка, спрячу это, хоть не на платье, а все-таки придет время, что эта материя пойдет в дело». Старуха вздохнула, отнесла подарок в чулан и спрятала в сундук, говоря: «Не надолго я запираю».
Через неделю после этого происшествия приехала княгиня Орделинская с мужем и дочерью; еще через неделю, в пятом часу утра кончился великолепный бал в доме их, данный старою княгинею по случаю возвращения детей своих из чужих краев. Молодой Тревильский, прижавшись в угол кареты, притворился дремлющим, хотя ничто менее не шло ему на ум, как сон. Разум его и сердце более нежели бодрствовали — они были в сильнейшем волнении. Мать по временам взглядывала на него, но, видя бледность лица и сомкнутые глаза, сочла молодого человека очень утомленным и решилась оставить до завтра или, лучше сказать, до вечера то объяснение, которое она обдумывала с той минуты, как села в карету. Поутру компаньонка графини не знала, что подумать о необыкновенно дурном расположении ее духа. Ни в чем нельзя было угодить, все не нравилось: то шоколад слишком горяч — в рот взять нельзя; то опять совсем простыл — как можно подавать такой… Стекло туалета вовсе затускло… За чем же смотрит горничная и почему не напомнит ей об этом!.. Кучер громко кричит на лошадей, слышно даже в уборной; глупое расположение комнат; спальня во двор окнами; и в гостиной и в зале нет возможности ни сидеть, ни разговаривать; пыль и стук от экипажей не дают минуты покойной… башмаки жмут! Чепец не к лицу! Пеньюар гадок, уродлив и беспокоен! Сделавши это последнее замечание, как самое справедливое, графиня бросилась на диван, подперла голову рукою и отдалась глубочайшей задумчивости; досада ее превратилась в грусть; нахмуренные брови пришли в прежнее положение, чело разгладилось, и на глазах, все еще прекрасных, навернулись слезы. Компаньонка молча приготовляла завтрак. Прошло четверть часа; кофе готов был простыть так же, как и шоколад. «Прикажете, графиня?» — компаньонка держала кофейник над чашкой, в готовности по первому мановению наполнить ее ароматическим напитком. — Что, милая? Ах, да!.. Но Жорж! Где Жорж? Неужели все еще спит? Пошлите узнать, встал ли граф, и просите его сюда. Компаньонка позвонила и, передав приказание графини вошедшей горничной, снова спросила: «Угодно кофе вашему сиятельству?» Но графиня уже опять погрузилась в свои мысли и не сводила глаз с двери. Наконец вошел камердинер Тревильского. — Его сиятельство поехал прогуливаться верхом тому уже более двух часов. Графиня взглянула с удивлением на компаньонку: — Как же вы давеча сказали мне, что граф спит еще? — Полагали так, графиня, потому что дверь его спальни была заперта. — Все так думали, ваше сиятельство, что граф почивает, но уже кучер сказал, что его сиятельство сам оседлал свою лошадь и уехал в шесть часов утра. Это донесение дало понять графине, что Георг совсем не ложился спать. «Итак, он обманывал меня! Он притворялся дремлющим в карете, для того только, чтоб избежать необходимого отчета в странности своих поступков у Орделинских. Жорж познакомился с притворством, с обманом и употребляет его против матери! Неужели он имеет в этом нужду?.. Неблагодарный!..» Между тем компаньонка, нисколько не постигая душевного беспокойства встревоженной матери и приходя в отчаяние оттого, что кофе простынет, налила его в чашку графини с какою-то смешною решимостью, как будто совершила бог знает какое важное дело, и пододвинула чашку под самый подбородок графини. В другое время знатная дама нашла бы этот поступок странным или, по крайности, неуместным, но теперь она не обратила на него даже и внимания, покойно отодвинула чашку на середину стола, сказав, что не будет завтракать, что чувствует себя очень утомленной и пойдет успокоиться. Она приказала, когда возвратится граф, тотчас просить его к ней и, если она в это время будет спать, — разбудить ее. Говоря: «если я буду спать», графиня очень была уверена, что не будет наслаждаться сном и одной минуты; до сна ли уже ей! Вся душа ее занята опасностью видеть разрушение многолетнего труда, давних надежд и любимых мечтаний! Этот союз с Орделинскими, столь пламенно ею желаемый, так издавна приготовляемый, к которому она все так искусно приспособила, от которого так многого надеялась, который дал бы столько блеска ее фамилии, — этот союз может не состояться!.. Мучительная мысль! Она не позволяет Тревильской оставаться на месте; графиня с беспокойством то переходит из спальни в кабинет, то из кабинета опять в спальню, то садится на диван, то приляжет на постель; но воспоминание бала княгини Орделинской не оставляет памяти ее ни на минуту. Но куда ж уехал Тревильский так рано и не дав себе ни получаса отдохновения после бала, столь продолжительного и столь утомительного? Чтоб узнать это, надобно опять воротиться к тому дню, в который граф так живописно представлял статую в широкой аллее публичного сада.
От той минуты, в которую Сербицкий убедил его не следовать за госпожою Зильбер в укромный домик старой Степаниды, Георг день и ночь думал об этом домике и все его время проходило в беспрестанной борьбе с тем неодолимым влечением, какое чувствовал он идти туда и узнать, что за связь существует между им и Фетиньей? Зачем она ходила туда? Кто там живет? С кем виделась? Пока он делал себе эти вопросы, пока думал и передумывал: «Идти? Не идти? С какой стати пойду я, я, граф Тревильский, знатный и богатый господин, в бедный мещанский дом разведывать, кто, зачем ходит туда?.. Почему же не зайти на минуту? Что за беда? Разве я непременно должен сказывать свое имя? Пойду просто, будто искать кого-нибудь». Пока все это роилось в разуме юного Георга, время шло своим чередом и, наконец, привело тот день, в который давался бал у Орделинских. Был уже восьмой час вечера; Тревильский, по обыкновению, мечтал о своей Федуловой и вдруг вспомнил, что в заветном домике видел на стекле приклеенный лоскуток бумажки, на котором было что-то написано. «Вот благополучие! Верно, тут что-нибудь продается или работается; завтра же посмотрю! О, непременно посмотрю и тотчас войду! Прекрасно! Прекрасно! Завтра же узнаю эту странную тайну!.. Но зачем же завтра? Почему не сегодня? Почему не сейчас? Еще довольно рано». Граф позвонил. Слуга вошел. — Заложить коляску. «Да, поеду, узнаю, что за дом такой? Что заставляет ее ходить туда? И так таинственно, тихонько от надзирательницы, с одною только горничной! Ах, Фетинья!..» Размышления графа прервались сами собой при этом имени; он покраснел. «Вот досадное имя, — сказал он вслух, — мне кажется, сам ангел покраснел бы от него! Когда я женюсь на ней, мой круг будет звать ее Фанни. Но прежде всего тайну, тайну надобно разведать». Вошел человек, докладывая, что коляска готова и что ее сиятельство графиня прислала просить графа пожаловать к ней немедленно, она ожидает его в библиотеке. — Скажи, иду сию минуту. — Граф взглянул на часы, стрелка стояла на восьми. «Еще рано, — думал он, — у матушки пробуду четверть часа да столько же употреблю на езду; прежде девяти часов тайна посещения бедного домика будет мне известна!.. Но хорошо ль я делаю, — спрашивал сам себя молодой граф, и при этом вопросе шаги его становились медленнее. Он почти нога за ногою шел по коридору, ведущему от лестницы, по которой он только что сбежал к дверям библиотеки, — хорошо ль я делаю, что хочу разведывать? Может быть, Фетинья благодетельствует кому в этом жилище!.. А если?.. Нет, нет! Надобно узнать непременно! Не могу быть покоен! Я не буду разыскивать, зачем она была там, но только посмотрю, кто живет в этом доме». С последним словом граф взялся наконец за скобку двери и отворил ее. — Долго заставляешь ждать себя, любезный Жорж, садись. Я звала тебя, чтоб сказать о приглашении старой княгини Орделинской, она дает бал, празднует возвращение семьи своей из чужих краев. Бал будет блистательный, приглашена вся столица, но главное дело в том, что нас с тобою просит она приехать часом ранее, как таких людей, которых она не считает уже чужими, говорит, что хочет на досуге показать редкости и вещи дивной красоты, привезенные ей сыном; пишет, что всего этого такое множество. Озабоченный вид графа показывал, что он не слышит слова матери своей; графиня это заметила, и кровь бросилась ей в лицо. — Мне очень странно, Георг, что ты всякий раз, когда я начну говорить об Орделинских, слушаешь меня рассеянно или и совсем не слушаешь! Удивляюсь, что сын мой позволяет себе такое обращение со мною! — Маменька! Милая маменька! Не думайте так, ради бога: я слушаю вас всегда с почтением, о чем бы вы ни говорили мне, но теперь я задумался на минуту оттого, что мне надобно сейчас ехать со двора. Так я рассчитывал, успею ли возвратиться к назначенному времени, чтоб сопровождать вас на бал. Простите же меня, маменька! Граф с нежностью целовал руки графини; а как мать — всегда мать, то госпожа Тревильская была тронута до слез ласками юноши и, поцеловав его в лоб и глаза, назвала своим сокровищем, неоцененным благом, единственным счастьем в жизни и сказала, чтоб ехал, куда ему было надобно, но чтоб постарался, если можно, возвратиться через час. — Потому, мой милый Жорж, — прибавила графиня, сжимая сына в объятиях, — что старая княгиня имеет какие-то планы именно для этих двух часов, которые останутся свободными между приездом нашим и прочих гостей. Графиня занялась своим туалетом, а граф, бросясь в коляску, приказал ехать к публичному саду и, оставя экипаж свой у ворот его, пошел скорыми шагами двадцатилетнего влюбленного к смиренному домику старой Степаниды.
Задумчиво смотрела престарелая владетельница нескольких углов на экипажи, беспрестанно подъезжающие к воротам публичного сада, нисколько не заботясь узнать причину такого необыкновенного съезда, необыкновенного потому, что сад этот никогда не был любимым местом гулянья модного света; сюда приезжали изредка подышать чистым воздухом, полюбоваться свежей зеленью, помечтать, а иногда и увидеться с кем-нибудь без помехи; но прогулки парадной, открытой, многочисленной здесь никогда не было. Итак, этот съезд мог бы обратить на себя внимание Степаниды, если б любопытство ее не было притуплено преклонностью лет ее и теми тьмочисленными случаями видеть всех родов гулянья и собрания, вовремя и не вовремя; ничто уже не было ново для осьмидесятилетней старухи, и теперь один только взор ее следил кареты, катящиеся одна за другою, но душа была полна ощущения, сколько радостного, столько и нового для нее: она приводила себе на память все обстоятельства недавнего посещения, сделанного ей Фетиньей. «Милочка ты моя, — говорила она сама с собою, — как расцвела… как пышный мак! Как роза столиственная! Как гвоздика махровая! Что за агнел!.. А я-то, старая дура, сочла было Машку, эту верхоглядку пеструю, за знатную даму, да и не гляжу на моего херувимчика прекрасного! Оглупела! Истинно оглупела на старости! Фетиньюшка, дитя мое! Пусть бог даст тебе счастье на всю жизнь! Пусть исполнит лучшее из твоих желаний за то, что светлый взгляд твой возвратил мне мои минувшие радости! Мою некогда столь прекрасно цветущую молодость! Да, дитя мое, ты живой потрет мой! Когда тусклые глаза мои вгляделись в тебя, то мне показалось, что это мое когда-то пятнадцатилетнее лицо отразилось в зеркале… И душа моя исполнилась неизъяснимою радостью!..» Неизвестно, долго ли старая Степанида разговаривала бы сама с собою и жила в давно минувшем, если б пронзительный скрип двери не возвратил ее опять к существенности: к ее осьмидесяти летам и бедному состоянию женщины, живущей отдачею внаем углов своего дома. Итак, перелетев в один миг от пятнадцати лет к осьмидесяти, от молодости и красоты к морщинам и безобразию, Степанида вздрогнула, оглянулась и с поспешностью встала: перед ней стоял молодой человек пленительной наружности, одетый просто, но которого все приемы и самый даже поклон показывали знатного барина и имели в себе что-то увлекающее, что-то обязательное, чего никогда не бывает у людей низшего класса. Старуха хотела было спросить: что ему угодно? Но он упредил: — Позвольте мне узнать, что продается здесь? Вот, я вижу приклеенную бумагу на окне, это, конечно, объявление, я не мог рассмотреть хорошенько, что на ней написано? — На ней написано, батюшка, одно только слово: «угол», и он отдается внаймы; а изделий здесь никаких нет, исключая, когда угол мой занимает какая рукодельница, так она продает свою работу, но и то не на дому, а относит в магазин или гостиный двор. Пока старуха объясняла Тревильскому значение бумаги, наклеенной на окне, он с любопытством рассматривал комнату, и ему так же, как юной девице Федуловой, было что-то покойно, отрадно здесь… «Угол, — думает он, — один только угол! Но сколько счастья, — о боже всемогущий! — могло бы поместиться в этом углу!.. Для чего я не родился в том состоянии, которое позволяло бы жить здесь, не унижая себя, не делаясь посмешищем, сказкою, не слывя чудаком, оригиналом, сумасшедшим; одним словом, для чего я не бедный, неизвестный человек!» Велемудрствуя так нелепо и не понимая сам, отчего эта дичь идет ему в голову, потому что вовсе не было цели желать бедности и неизвестности, как таких обстоятельств, которые нисколько не могли сблизить его с Фетиньей, ни уравнять дороги к соединению с нею! Напротив, дочь купца-миллионера скорее могла быть приличною партией графу Тревильскому, нежели бедняку, скромно и благочестиво проживающему в каком-нибудь очаровательном угле! Как бы то ни было, но только граф не налюбуется на этот угол, в котором все ему так мило, так что-то необыкновенно трогает его душу; что-то приводит на память; есть что-то родное для него в этом месте, в этом приюте бедности! Между тем как граф все это думает, чувствует и вместе удивляется, зачем он это думает и чувствует, старая Степанида, встревоженная его молчанием, неподвижностью, а более всего тем, что во взоре его, плавно переносящемся с одного предмета на другой, рисуется какое-то чувство, которого она не умеет объяснить себе и которое готова счесть помешательством, — подходит к нему ближе и говорит громко: — Что ж вам угодно, сударь? Я докладывала уже вам, что здесь никто ничем не торгует и ничто не продается. Тревильскийочнулся: — Ах, извини, добрая женщина! Но… я видел!.. Граф совсем не знал, как приступить к разведыванию, потому что хотя сначала он и дал себе слово только посмотреть домик, ни о чем не расспрашивая, но теперь желание узнать, зачем была здесь Фетинья, какие сношения может она иметь с этой старухою, овладело им так сильно, что разведать обо всем этом сделалось его главною и единственною целью; но как начать? Чем? Он и то уже наводит сомнения на старуху тем, что минут с пять стоит на одном месте, молчит и все осматривает; а прерывистый вопрос его, которым он приступил было к делу, вовсе не способен был успокоить ее — напротив, он еще более утвердил ее в подозрении, что к ней вошел сумасшедший. И вот, желая избавиться такого неприятного гостя, Степанида с большим присутствием духа тотчас подхватила слова Георга: «видел». — Конечно, большой съезд видели вы? Да, это очень любопытное зрелище, для которого теперь съезжаются: будет бегать какой-то скороход; хотелось бы и мне посмотреть; не угодно ли, батюшка, вместе? Сказав это, Степанида торопливо накинула сверх своего ситцевого шугая темно-коричневой шелковый платок и спешила отворить дверь, надеясь, что гость выйдет вслед за нею, но она не успела еще распахнуть совсем двери, как вдруг впорхнула в нее Маша, а за нею плавно вступила пожилая Акулина. Обе старухи с полминуты смотрели молча одна на другую, наконец молча же, но только со слезами бросились друг другу на шею и обнялись. Сцена эта, конечно, возбудила бы величайшее удивление в Маше и ни малейшего в графе, если б они обратили на нее внимание, но они оба были заняты более друг другом, нежели тем, что делали или говорили две старухи. Маша вскрикнула от изумления, увидев графа, а он, сделав ей знак молчать, расспрашивал о чем-то вполголоса, но только с живостью и приметным нетерпением. Все четверо говорили потихоньку и с большим участием, но только обе пары отдельно и совсем не замечая одна другую. Старухи, взявшись за руки, сели на лавку у окна; они смотрели одна на другую, и слезы беспрестанно навертывались на глазах их. Граф и Маша стояли у самых дверей; первый держался рукою за скобку, и нога его была на пороге; Маша стояла перед ним и то усмехалась, то потупляла глаза и ощипывалась. У окна говорили: — Ах, матушка ты моя, Степанида Прохоровна, не думала уже я свидеться с тобою больше на этом свете. Вот когда бог привел сойтись! И как ты постарела! Как похудела! А ведь была как лебедь белая, как кровь с молоком! Степанида всхлипывала и усмехалась вместе: — Вот что вспомнила, Акулинушка, да тебе когда же знать меня молодою, ты была, сколько я помню, девчоночка тогда, как я кормила маленькую княжну Мазовецкую, а мне было уже двадцать восемь лет. — А мне десять; ты ровно восемнадцать лет старше меня; да все-таки я помню, что ты была молодица красовитая, белая, полная, чернобровая! Как теперь, гляжу на тебя, как ты, бывало, гуляешь в этом самом саду: сарафан штофной, малиновый; кокошник золотой, жемчугу полна шея, руки белые, что снег, рукава кисейные, тонкие, что твой дым! Уж куда ты хороша была тогда: не один, бывало, остановится, поглядит вслед; не один скажет: вот красавица-то! — Ну, Акулинушка! Что уже поминать былое; прошло и не воротится! Были молоды! Были хороши! Пожили свое, порадовались на белый свет, довольно! Пора думать о душе! Об ответе за грехи!.. Я вот все думаю о Матреше… виновата и перед богом, да уж даст же и она ответ перед страшным судом его! Слыханное ль дело!.. Старуха не договорила и, казалось, не совсем довольна была жалобами, которые вырвались у нее… — Да что это, — сказала она весело, — никак я из ума выживаю! Пришла гостья дорогая, а я потчую ее оханьем да аханьем! Посиди минуточку, Акулина Ивановна, я сбегаю на погреб, принесу медку; ведь ты, я думаю, помнишь, каков мой мед? — Как не помнить! Ты первая мастерица чуть ли не в целом свете варить мед… Такой-то, я думаю, в старину пивали цари наши! Степанида не слыхала уже этого последнего замечания, доказывающего, как хорош должен быть мед ее. Оставшись одна, Акулина вспомнила, что вместе с нею пришла Маша. Но ее уже не было. «Видно, шмыгнула в сад ветрогонка, — бормотала про себя старая ключница, усаживаясь ловчее под окном и рассматривая беспрестанно прибывающие толпы народа. — Эка, подумаешь, тьма валит! А чего смотреть? Что за невидаль? Бегает кто-то! Ведь, чай, и деньги дают! Чем-то люди не промышляют, как подумаешь». Наконец мед принесен. Седая осьмидесятилетняя Степанида Прохоровна угощает и припрашивает «кушать во здравие» свою старую знакомую. Выпив один стаканчик с обычною церемонией и оговорками, как водится, велось и будет вестись в простом народе, Акулина выпила другой, несколько уже с меньшими затруднениями; по третьему огромному стакану обе старухи поставили подле себя, чтоб пить из них с расстановкой, отдыхом, понемногу и тем продлить эту усладительную приправу к своей беседе, которая с каждою минутою становилась живее, и, наконец, обе старые женщины, отдавшись воспоминаниям и возвратясь мысленно и душевно к цветущему времени своей жизни, стали говорить так, как говорят люди, полагающие, что их никто не слышит. В их припоминаниях, рассказах, восклицаниях, сожалениях высказалась наконец важнейшая тайна Федуловых, и высказалась именно тому, от кого ее более всего надобно было скрывать. Старухи не подозревали, что третье лицо присутствует невидимо при их сердечных излияниях и воспоминаниях былого.
«Это истинное несчастье, что молодая Орделинская так чудовищно потолстела и разрослась! Как мне требовать от моего бедного Жоржа исполнения его обещаний?.. Да и каких обещаний? Он их не давал, а просто повиновался моей воле… Милый, благородный, чувствительный сын мой! Бог наградит тебя счастьем за эту покорность… Правда, с последнего гулянья майского замечаю я, что он чем-то очень занят и что при всяком намеке о союзе с Орделинской так искусно переменяет разговор, что я даже не вижу возможности укорить его за это… Опасна мне эта Фетинья! Хороша! Очень хороша!.. Надобно ж быть такому несчастью! Для чего насмешливая судьба делает все навыворот! Как бы кстати было поменяться княжне Орделинской своей наружностью с мещанкой Фетиньей; тогда обе они были б наделены тем, что им прилично! Надобно, однако ж, кончить начатое: союз с Орделинскими — единственная цель моей жизни и верх моих желаний. Что делать! Жорж не первый будет, у которого жена великан и богатырь вместе. Ко всему можно привыкнуть!.. А если он влюблен в Федулову?.. Прочь! Прочь, досадная мысль! Графу ли Тревильскому унизиться до женитьбы на дочери мужика, хотя б она была прекраснее самой Венеры!» Мысленный разговор графини был прерван боем часов. — Как, уже половина десятого! Пошлите узнать, возвратился ли граф, и прикажите подавать карету. Компаньонка отдала приказание графини людям ее, и через пять минут пришли доложить, что граф еще не возвратился, а карета готова. — Какой ветреник! — говорила графиня, сходя с лестницы, — скажите, милая, когда он возвратится, чтоб сейчас приезжал к княгине Орделинской; скажите, что я буду ждать его, чтоб поторопился! — Графиня говорила все это скоро, отрывисто и с приметной досадой. Между тем как графиня Тревильская едет одна и, несмотря на власть матери, несколько тревожится тем, как примет сын ее решительное требование, чтоб он женился на княжне Орделинской; и тогда, как волнение мыслей заставляет ее ехать тише, чтоб выиграть время и хотя немного успокоиться, — Жорж, обрадованный встречею Маши, совсем забыл, что он зашел в незнакомый дом; то, о чем он хотел узнать, перестало беспокоить его после объяснения с Машею, и он, не обращая никакого внимания на двух нечаянно свидевшихся приятельниц, поспешно вышел вместе с Машею. Не заботясь о странности идти рядом и разговаривать с горничной девкой, он дошел с нею до самых ворот сада, говоря ей что-то с видом убеждения и ласково держа за руку. У ворот он оставил ее, бросился в коляску и приказал ехать во всю прыть домой. Маша вмешалась в толпу. Граф так был занят тем, что говорил Фетиньиной горничной, что и не видал кареты графини Тревильской, матери своей, которая в это самое время проезжала мимо ворот сада и домика Степаниды. Графиня видела, как он вышел из него с какою-то девкой, перешел дорогу, беспрестанно говоря с своей спутницей; видела, как дружески он расстался с нею, как бросился в коляску, и даже слышала, как он сказал кучеру: «Ступай скорее домой». Довольно было этого! Графиня забыла, что она графиня, знатная дама, что всякое разведывание о поступках сына унизительно для нее, а особливо о поступках этого рода, что она нарушит всякое приличие, если даже сделает вид, что заметила его, что всего лучше забыть эту встречу, как будто ее никогда не было. Тщетно разум графини говорил ей все это; сердце и воображение, подстрекаемые любопытством и подозрением, делали свое: графиня приказала остановиться, вышла из кареты и, не приказав человеку следовать за собою, пошла к маленькому домику, из которого вышел граф. Домик Степаниды был в одно жилье или этаж; войдя в сени, можно было видеть трое дверей с одной стороны и двое с другой. Сказано уже было выше, что старуха разделила свой дом для отдачи внаймы на углы; лучший из них был на улицу, по соседству с ним жила и сама хозяйка, то есть в этой же комнате, но другие два были в той половине дома, которая выходила во двор окнами; впрочем, эти два угла от главного отделялись одной тонкой перегородкой. Вошед в сени, графиня отворила наудачу дверь среднюю; она увидела себя в горнице пустой и без мебелей и в ту же секунду услышала голос женщины, которая говорила: — Да, милая Акулина! Я была большая грешница! Княгиня Мазовецкая и не подозревала, когда отдавала мне кормить маленькую дочь свою, что я любовница ее мужа, что моя Матреша не только что молочная сестра ее дочери, но вместе и родная по отцу; все это так хорошо скрыли от нее, что она до самой смерти ничего не знала и подписала мою отпускную не читавши, а то было бы хлопот, кабы прочитала. В отпускной-то сказано мое настоящее звание: «Дворовая девка Степанида Прохорова, дочь Зорина, отпускается на волю». А ведь княгиня-то считала, что я вдова того плотника, что умер от ушиба бревном. — Диво, как все это спрятали от барыни-то! И таки никто и не намекнул? — Никто, ни одна душа не смела и заикнуться! Ведь с князем-то шутить не приведи бог! Челядь тряслась от него! — Ох, да! Лют был покойник, царство ему небесное; наслышалась и я. Ну что ж, как отпустили тебя на волю? — Ну что? Ничего! Что мне воля, тогда я и без воли была барыня! Князь души не слышал во мне… Думаю, если б бог продлил ему веку, он женился б на мне, как жена его умерла. — Правду ли говорят, Степанида Прохоровна, будто он отказал тебе много денег? — Нет, хотел было он для Матреши положить в ломбард сто тысяч, да не успел. Ведь ты знаешь, что он умер скоропостижно. Я осталась только с тем, что дала мне покойная княгиня за выкормление дочери. На эти деньги я купила себе домик и с тех пор все и живу доходами с него. — Ну, как твоя вскормленница вышла за графа Тревильского, так неужели она ничего тебе не подарила? — Она даже не знает, живу ль я еще на свете. Я никогда к ней не показывалась с того дня, как передала ее на руки нянькам. — А почему? Кормилицы обыкновенно любят тех, кого выкормили, да и дети их любят также. — С нами не так было, Акулинушка! Видишь, я была хороша собой, так и задумала о себе много. Барыня видимо хирела, таяла: я почти уверена была, что заступлю ее место, как только она умрет, мысленно я считала уже себя княгинею; Матреша моя росла вместе с маленькою княжною и была девочка буйная, часто обижала мою воспитанницу, и когда ребенок приходил ко мне жаловаться, то я, по слабости материнской, всегда обвиняла самую княжну и, каюсь перед богом, была жестоко несправедлива. До пяти лет граф не брал своей дочери от меня, и в эти пять лет неправота моих поступков поселила в маленькой княжне такое сильное отвращение к моей дочери и боязнь ко мне, что впоследствии она с плачем и испугом убегала в комнаты своей матери, когда ей говорили: «кормилица пришла». По смерти князя и княгини опекуны их дочери дали мне понять, что мне нечего более делать в их доме; я удалилась сюда и, оставя все греховные помыслы, жила трудами рук своих и тем доходом, который и теперь дает мне домик мой. Взрастила дочь, выдала ее замуж за молодого крестьянина, приехавшего из отдаленной губернии для того, чтоб с небольшим капиталом своим наняться в приказчики к какому-то богатому купцу. Пока до чего, он остановился у меня… Но тут было страшное дело: об деньжонках его проведали какие-то мошенники, да и забрались в чулан, чтоб, как парень заснет, убить его; моя Матреша увидела, как они подходили уже к постели его, и бросилась прямо под нож! Уж, видно, богу угодно, чтоб душегубы испугались молодой девки; они выбили окно и бросились из него на улицу, а молодой человек просил меня отдать ему его спасительницу в жены. Так я отдала мою Матрешу и думала было, что найду в ней утеху и опору моей старости; но бог не дал мне этого счастья; богатство ожесточило сердце моей дочери — муж ее теперь один из первых богачей, и именно это ваш Федулов. Акулина вскрикнула от изумления: — Как! Так хозяйка наша твоя дочь, Степанида Прохоровна?.. Слышала я, что она из бедных; что выросла в наемном угле, но ни в жизнь бы не подумала, что она твоя дочь… А смотри какое диво!.. Ну, а Фетинья-то Федотовна? Ведь и об ней также говорят, что она будто бы родилась и выросла в бедном уголке. Стало быть, твоя Матрена долго еще жила у тебя? — Да, пока муж ее ездил за море со своим хозяином, она жила у меня; здесь родилась Фетиньюшка и была уже четырех лет, когда Федулов возвратился с довольным прибытком. Тогда они переехали от меня в хороший дом. Я со слезами просила, чтоб оставили мне Фетиньюшку, говорила, что у них будут другие дети, а эта пусть была бы мне на утеху. Нет, не согласились, и именно Матрена. После Федулов начал богатеть с каждым годом более, успехи его в торговых оборотах дивили всех; не было такого замысла, который бы ему не удался и не принес барыша сто на сто: я не успела осмотреться, как зять мой был уже купец и капиталист-миллионер. Вместе с богатством бог наслал затмение на разум моей дочери; она вообразила себе, что может отдать свою Фетиньюшку за первого вельможу, за князя, за графа, воспитала ее как принцессу; себя и дом свой повела на знатную ногу и в довершение всех беспутств своих вырвала у меня клятву никогда, никому не говорить, что я мать ей, и никогда не искать видеть Фетинью. Я плакала, сердилась, говорила, что бог накажет ее за такое беззаконное требование, но ничто не помогло, она настояла на своем, грозила уехать совсем вон из государства, если я не уступлю ее желаниям. Нечего делать! Я обещала, что никто и никогда не услышит от меня о моем близком родстве с нею. После я слышала от многих, что, говоря о Федулове, они рассказывали, что он женат на богатой купеческой дочери из Ярославля; как она успела распустить этот слух, не знаю; но думаю, что ложь перед богом преступление, а перед людьми не может быть прочна. — Уж и очень не прочна! Почти никто не верит ее выдумке, а все говорят, что она была бедная крестьянская девочка, и чем больше она силится выйти на барскую стать, тем более нападают на ее низкое происхождение. Бывает ли она когда у тебя, Степанида Прохоровна? — Никогда! С того дня, как она заставила меня поклясться перед образом, что я не буду мешать ей выдать Фетинью по ее желанию за знатного господина, она рассталась со мною навсегда. Безжалостная сказала мне, что как я дала ей жизнь не таким образом, как требуют законы чести, то чтобы и не жаловалась, если она постарается забыть об этом обстоятельстве и не приводить его себе на память бесполезными свиданиями. Вот уже четырнадцать лет, как я никогда не вижу и даже нигде не встречаюсь с Матреной. Сначала сердце мое очень болело; я любила ее, ведь мы жили вместе долго; двадцати лет я отдала ее замуж и зятя приняла к себе; вот этот лучший угол я отделила им; они жили в нем лет восемь, пока муж ее расторговался; у них что-то долго не было детей, и уже в тот год, как Федулов поехал за море, она сделалась беременна; я было не вспомнилась от радости, думала: слава тебе господи! Дождалась утехи на старость, буду нянчить внучка! Не тут-то было!.. — Ну что ж, Степанида Прохоровна, ведь и нянчила, нечего бога гневить; сама говоришь, что Фетиньюшка до четырех лет жила у тебя. — Оно так, Акулинушка! Благодарю создателя и за эту милость, да ведь больно же, как оторвут от сердца, что к нему близко! Хоть бы исподволь это сделали, а то вдруг, как переехали от меня, как взяли из рук моих моего херувимчика, так уже и не дали мне ни разу взглянуть на него!.. Не позволили души отвести! Чуть было я не пропала с горя! Вот что река лилась, плакала месяца три!.. Ох, Матрена, Матрена! Тяжел твой ответ будет перед богом!.. Старуха горько рыдала, говоря эти слова. И Акулина отирала слезы передником, тщетно стараясь укрепиться, чтоб начать говорить обыкновенным голосом. Обе старухи предались горести, одна от истинной боли сердца, другая по сочувствию. Пока старухи горюют и всхлипывают, графиня Тревильская неужели все еще дежурит за перегородкою? Неужели знатная, образованная дама слушает вранье и пошлые доверенности двух старых мещанок? Да! Дежурит и слушает; четверть часа уже, как она играет роль шпиона в этой пустой горнице, рискуя всякую минуту быть кем-нибудь усмотренною. Это уже из рук вон странность! Графиня сама это чувствует, краснеет от неприличности своего положения, зевает от скучного разговора старух, но не может оставить своего притона; она и сама не понимает, чего ждет, что держит ее в этой каморке? Однако ж всякий раз, как хочет выйти, что-то как будто останавливает ее. Графиня остается, с беспокойством посматривает на дверь, в которую вошла, и прилежно слушает не слова уже, но рюманье{24} старух. Графиня наконец готова расхохотаться сама над собою и над сумасбродством, которое позволила себе в свои лета. Впрочем, таинственное заседание ее не совсем было напрасно: она узнала то, чего еще не знала, то есть что ненавидимая ею Федулова есть та самая некогда маленькая злобная девчонка, Матрешка, кормилицына дочь, за которую ее ставили в угол, лишая завтрака, и которая, пользуясь тем, что была сильнее и сверх того всегда права, отнимала у нее конфеты, игрушки, щипала ее и дергала за косы, не внимая плачу и не страшась никакого наказания! Узнала еще и то, что она с ней в близком родстве, то есть ее родная сестра по отцу; но этому последнему обстоятельству графиня не хочет верить. «О детях этого рода, — думает графиня, — и сама их мать не может наверное сказать, кто их отец. Матрена так же хорошо может быть дочерью какого-нибудь крестьянина, как и моего отца». Наконец самоотвержение графини получило свою награду. Старухи порядком проплакались, и Акулина стала говорить: — Полно, матушка Степанида Прохоровна, предоставь все господу богу, авось он и утешит тебя еще при конце дней твоих. Маша говорила мне, что Фетиньюшка была у тебя и как, дескать, полюбила она старушку. Теперь уже она будет похаживать к тебе. — Ради бога, не проговорись дома, Акулинушка! Сделай милость, не отними у меня последнюю радость!.. Пока я не видела Фетиньюшки, так было уж и перестала грустить, а теперь… нет, оборони царица небесная, если теперь мое дитятко ненаглядное не будет приходить ко мне — живая в могилу лягу!.. Уж что за красавица моя крошечка! Царевна! Ни дать ни взять царевна! Правду говорят, что бог сотворил человека по образу и подобию своему! Уму непостижима красота человеческая, когда уже она дойдет до своего верха! Придумать нельзя лучше лица, как лицо моей внуки милой!.. Что за глаза! Ну вот точно как солнцем светило на меня ими! А уста!.. Ну вот даже дышат розой, не только что цветом похожи! — То правда, матушка Прохоровна, что внука твоя красавица писаная, ну да и судьба ей будет по красоте… В доме у нас все говорят, что она выйдет за графа Тревильского, сына твоей молочной дочери, бывшей княжны Мазовецкой. — В самом деле? О, милочка ты моя, благослови тебя господи! Как только она выйдет замуж, тогда уж я не погляжу на Матрену, тотчас пойду к моему херувиму ненаглядному; хоть за неделю до смерти, да нагляжусь на нее вдоволь!.. Когда же будет свадьба? — Ну, о свадьбе-то еще нет ничего верного. Вот видишь, Степанида Прохоровна, молодой граф очень влюбился в Фетиньюшку, часто бывает у самой, такой вежливый, услужливый; за самою так и ухаживает; на Фетиньюшку, правда, только смотрит, ну да уж как смотрит, так вот так сердце и тает, чего-то в них нет!.. А она, милушка, потупит глазки да и зарумянится, что твой мак махровый… Один раз, что и за диво, Прохоровна, один раз сидели они двое в зале, сама-то вышла за чем-то на минуту; а я пришла звать девок обедать да и стала за стеклянною дверью, приподняла уголок занавески и смотрю, с кем сидит хозяйская дочь; в это время они оба смотрели друг на друга, не долго, так вот, как раз пять минут глазом, да зато уж как смотрели!.. Я навзрыд плакала, как пришла в кухню… Не жить им на белом свете, если их разлучат! — Да кто ж их разлучит? — Может быть, и не удастся разлучить. Сама-то очень хлопочет, чтоб эта свадьба состоялась, и уж, верно, сделает по-своему, только я думаю, что твоя молочная дочь, графиня Тревильская, не согласится и не даст сыну благословения на эту женитьбу. — Так и не надобно идти против воли матери! Глупа Матрена, что сводит молодых людей, тогда как матери его это не угодно. Эка дура! Господи прости! Наделает она кутерьмы! — Да таки наделает, Прохоровна! Я знаю стороною, что она подучает молодого графа жениться на Фетинье тихонько. Разумеется, она это не сама говорит ему, да уж у нее есть люди, которые работают за нее. — Кажется, почему бы графине Тревильской не хотеть, чтоб моя Фетюньюшка была ее невесткою? Ведь никто не знает, что бабка ее отпущенница княгини Мазовецкой. Отец — миллионер, воспитана она, как все знатные воспитываются; собою красавица такая, какой под солнцем не сыщешь другой! Чего ж бы еще хотеть графине Тревильской? — Знатной породы, матушка Степанида Прохоровна! Знатной породы хочет и ищет твоя молочная дочь! Графиня горда чрезвычайно, нас, простых людей, не считает ни за что и говорит, что если б мещанин имел не только миллионы, но даже богатства великого Молоха, то и тогда она не хотела бы породниться с ним! Проговоря это, Акулина с важным видом охорашивалась с полминуты, верно полагая, что, окрестя Могола Молохом{25}, она показала великую ученость; но как простодушная Степанида не обратила на это слово ни малейшего внимания и продолжала сидеть, подгорюнившись и покачивая седою головою, то и собеседница ее рассудила оставить претензии на отборные фразы и стала опять говорить просто: — Ну так вот видишь, матушка, графине не надобно богатства никакого, а надобна знатная порода; она сама барыня большая, и в роду ее все были графы да князья, может быть, лет тысяч двадцать назад. — Что ж Федулов думает обо всем этом? — Ничего; он не знает, что жена старается навести графа Тревильского на женитьбу с Фетиньей; однако ж хмурится, когда видит, что граф приезжает к нему, и, раскланявшись с ним, проходит прямо на половину к ней. — На половину? Так моя Матрена живет на манер знатных дам; не дивлюсь теперь, что она отреклась от матери; простая старуха, да еще и отпущенница, много портила б ей в мыслях ее знатных знакомых. — И, матушка! Не беспокойся; как не великатится хозяйка, а ни одна знатная дама к ней и не заглянет, а к себе-то уж и подавно не пригласит; к нам только и ездят из знатных одни мужчины, потому что Федот Федулович задает банкеты на славу; а на балы наши приезжают свои братья купцы с женами и дочерьми да кой-кто из мелких дворяночек, вот и все. — Я не успела, да и нельзя было ни о чем расспросить мою глупую Зильбер, она торопилась от меня, проклятая, как будто от чумы, чтоб уйти поскорее. Каково живут Федуловы между собою? — Хорошо; она делает что хочет; он во всем уступает; она бросает его деньги направо и налево, за все платит втридорога, нисколько не торгуясь; он выдает деньги, не говоря ни слова; у нее карета не карета, платье не платье, шали не шали! Все заморское; жемчуга, бриллианты целыми коробками покупает и ни в жизнь не посоветуется с мужем, не спросится: «Позволишь ли, Федулович, купить вот это или это?» Куда тебе! Все деньги у нее, берет себе, сколько угодно. А уж как одевается!.. И не дай тебе бог, Прохоровна, увидеть этого, не вытерпит твое материнское сердце, проклянешь ты ее: ведь совсем как… стыдно сказать… как голая! Плечи выставит на целые два вершка без платья, и спина чуть не вся!.. Бедный хозяин всякой раз хмурится, как она в таком виде проходит мимо него, чтоб садиться в карету… А еще как перетягивается шнуровкою! Что твоя молоденькая девочка!.. Как она не задохнется, такая толстуха!.. Я вот уж сухопарая старуха, а и тут как подвяжу передник покрепче, так и полчаса не выдержу… А она целые дни в тисках, да, кажись, ей и нужды нет… Одолела ее охота представляться знатною барынею! Ведь так и пильнует{26}, что как у них делается, так и она! Не белится, зубов не чернит, бровей не подводит карандашом, умоется себе просто водою да вытрет лицо каким-то кузмотиком{27}, и только: знатные, де, дамы никогда не пачкают лица ничем. — Шнуруется! Ходит полунагая! В сорок пять лет!.. Отступился от тебя бог, Матрена!
Задолго до окончания беседы двух старых женщин графиня Тревильская вышла из своей засады. Карета ее летела по гладкой мостовой; близок уже был дом Орделинских; через четверть часа графиня будет в кругу всего, что так блистательно, так остро, так любезно; через час загремит музыка, разольется ослепительный свет, посыплются фразы, одна другой тоньше, острее, умнее, вежливее! Как ей управиться с собою? Как победить грусть, которою так полно ее горделивое сердце? Графинею поминутно овладевает задумчивость; беспрестанно мысль ее возвращается к тому, что она слышала: хотя она стыдится, вспоминая, где и от кого она слышала то, что столько тревожит ее, однако ж невольно благодарит судьбу, что она открыла ей этот заговор вовремя. «Георг! неблагодарный сын! Тебе ли изощрять кинжал для сердца твоей матери!.. Скрываться! Сговариваться! Действовать заодно с презрительною тварью, с дочерью бывшей служанки! Желать унизить славный род свой супружеством с внучкою отпущенницы, и какой еще отпущенницы? Девки дурного поведения! Ужасно!» Графиня забыла, что сын ее не знает того, что она узнала сию минуту, что он считает Федулову дочерью ярославского купца и слухам об угле совсем не верит, — забыла и горько попрекала на его неразборчивость. Карета графини и коляска графа в одно время остановились у подъезда дома Орделинских. Мать и сын всходили на лестницу. Георг не переставая целовал руку графини, прося ее простить ему продолжительность его отлучки. Графиня не могла выговорить ни слова; сила чувств теснила дыхание в груди ее; нежность и покорность сына с воспоминанием того, что она слышала, едва не повергли ее в обморок; она готова была залиться слезами и броситься на грудь сына, умоляя его не отворять ей преждевременной могилы унизительной связью с отродием служанки. Однако ж сила характера благородной дамы была так велика, что она овладела своими чувствами, победила их, на покорные ласки и просьбы сына отвечала нежным поцелуем, ласковой усмешкой и словами: «Об этом после, милый Жорж!» На доклад официанта: «Граф и графиня Тревильские!» — слышно было, как дряхлая Орделинская говорила едва понятными словами: «Проси, проси сюда прямо в уборную». Граф остановился было в дверях; он увидел, что Целестина в прелестном пеньюаре сидит перед туалетом и ей убирают голову. Но старуха позвала его, говоря: — Войди, дитя мое! Чего ты остановился! Тебе не запрещен вход в это святилище! Как он всегда мил у тебя, графиня! Целестиночка! Оборотись, душенька! Вот граф Георг пришел присутствовать при твоем туалете. Пожалуйста, милый граф, прикажи убрать ее по твоему вкусу… Ха, ха, ха! Покраснел, как монастырка! Ну, ну, добро, садись подле туалета; Целестиночка расскажет тебе, сколько грандов подавали ей шпильки, цветы и булавки… О, в Мадрите долго будут помнить прекрасную Диану, одетую по-русски! Ха, ха, да! Представь себе, милая графиня, что мою Целестиночку при дворе гишпанском единодушно прозвали: la belle Diane Moskovite. Majestueuse Diane Moskovite![21] Между тем как старуха-княгиня говорила, хохотала, выхваляла внучку и приказывала принести разные редкие драгоценности, вывезенные из чужих краев, графиня с досадой и стыдом смотрела то на сына, который сидел подле уборного столика и не только что не смотрел на Целестину, но даже и не слыхал, что она говорила ему, то на княгиню Орделинскую-мать, которая после первых приветствий села у окна и, казалось, ни о чем так мало не думала, как о том обществе, в котором находилась. Наконец уборка головы кончилась. Целестина открыла коробочку, в которой лежала одна только нитка жемчуга, но такого, которому не могло уже быть равного. Она вынула ее и, приближая к глазам графа одною рукою, другою тронула его легонько за плечо, потому что граф был неподвижен, как статуя; мысли и душа его витали где-то далеко от уборной княжны Целестины Орделинской. — Посмотрите, граф, вот жемчуг, который подарила мне королева и взяла с меня слово, что я надену его в день моей свадьбы; видали ль вы что-нибудь прекраснее? Слово «свадьба» и прикосновение Целестины разбудили графа от его летаргии; но разбудили очень неприятно. Взгляд его холодно встретил бессмысленную улыбку румяных уст княжны, и вопрос ее: «видали ль вы что-нибудь прекраснее?», на который вежливый и остроумный граф мог бы отвечать очень лестным образом для Целестины, не получил теперь другого ответа, как одно равнодушное и совсем неуместное: «да». Графиня вся вспыхнула и, встретив насмешливый взор княгини-матери, совсем потерялась; однако ж, стараясь выйти из этого, столь нового и столь унизительного для нее положения и желая отвлечь внимание обеих княгинь от четы, сидящей близ уборного столика, Тревильская начала делать очень оживленное описание минувшего гулянья. Но говорится же, что беда одна не приходит! Средство, употребленное графинею, вместо отдаления неприятности приблизило ее. — Да, графиня, говорят, что это гулянье было блистательнейшее из всех, какие мы можем помнить. И я слышала, что не было экипажа великолепнее кареты купчихи Федуловой и не было красавицы, равной ее дочери; правда это? Говорят еще, что наши молодые люди лучшего тона и первых фамилий в государстве не отъезжали от окна ее кареты. Неужели и это также правда? Графиня не вдруг нашлась, что отвечать; но старая Орделинская подоспела ей на помощь: — И, мать моя! Ты уж чересчур строга! Ну что за диковина, что молодежь вертится перед хорошеньким личиком! Девочка Федулова таки точно недурна; немудрено, что лишний раз проехали мимо ее кареты; может, кто-нибудь и ехал подле нее во все время гулянья, а вот мой милый Жорж так ехал подле меня! Подле девяностолетней старухи! Не так ли, любезный граф! Граф, совершенно наконец возвратившийся из области мечтаний в общество, его окружавшее, отвечал утвердительно, вежливо намекая, что занимательность ее разговора овладела до такой степени всем его вниманием, что отвлекла от всего другого. — Да, да! — подхватила с торжествующим видом Орделинская. — Мы все время говорили о тебе, Целестиночка. Граф решительно испугался, но, к счастью его, не было времени для старой княгини, чтоб одним шагом стать вплоть у цели. Когда она говорила, горничная приколола последний цветок на голове Целестины, — уборка кончилась совсем, и все общество встало, чтоб идти в залы ожидать приезда гостей. Минут через десять начали греметь экипажи и останавливаться у подъезда; звонок возвещал неумолчно о беспрерывно прибывающих гостях. Более часа гром экипажей не утихал; наконец гости съехались все. Оглушающий гром экипажей сменился согласным громом музыки; начался бал. Тревильская подозвала к себе сына: — Жорж, надобно быть кавалером Целестины весь вечер! Хочешь ты сделать это для меня? — В голосе и виде графини было нечто, чего граф не мог себе объяснить, но не мог также и вынести равнодушно; хотя быть кавалером Целестины в продолжение всего бала значило идти к одному концу с матерью и старой Орделинской; значило согласиться на союз, признать себя женихом, потому что кто ж, кроме жениха, может исключительно завладеть девицею на весь бал. Однако ж Георг и подумать не смеет отказать матери в ее требовании; ему кажется, что при первом слове отказа графиня расстанется с жизнью тут же: столько видит он чего-то непостижимого в глазах ее, виде и голосе. Граф в знак согласия поцеловал руку матери и тотчас пошел к княжне. Точно необходимо было приказание матери и сознание собственной вины перед нею, чтоб заставить Тревильского ангажировать Целестину, без этого никакое в свете приличие не заставило б его танцевать с девицею-гигантом. Для всех тех, кого интересовало замечать поступки молодого Тревильского, было очень забавно видеть, как он краснел всякий раз, когда ему приходилось выступить на сцену с своей дамой. Хотя бездушная красота княжны Орделинской была все-таки красота, хотя огромная масса тела ее была самая стройность; но при всем том рост ее, целою четвертью превышавший прекрасный высокий рост графа, приводил этого последнего в невольное замешательство; ему было ужасно неловко всякий раз, когда он скользил по паркету, держа за руку княжну; он не смел поднять глаз не только на свою даму, но и ни на кого; ему казалось, что на каждом лице увидит он насмешливую улыбку; сверх того он слышал, как говорили вокруг него: «Вот прелестная великанша!» — «Издали она точно восхитительна!» — «Да, только издали. Но ни любовником, ни кавалером ее в танцах быть не лестно». — «Разумеется! В обоих случаях будешь смешон и себе и другим!» — «Правда, правда!» — «Жаль, что она так велика!» — «Скажи лучше, жаль, что она так хороша». — «Ну, об этом нечего жалеть; красота ее под стать ее росту». — «Как это разуметь?» — «Очень просто: и то и другое хорошо только для статуи». Такие разговоры не способны были улучшить положение бедного графа, ни расположить его к вежливому вниманию к своей даме, беспрестанно ему что-то говорившей. Сверх всего этого графиня, не спускавшая глаз с него, заметила, что он беспрестанно смотрел на дверь и всякий раз, когда она отворялась, вздрагивал и приходил в видимое беспокойство. Была уже половина второго часа; гости перестали съезжаться, не слышно экипажей, с громом подкатывающихся к подъезду; звонок замолчал. Краса и веселость бала достигли своего верха; гремит мазурка, все кипит жизнью, все блестит, все цветет, все усмехается, все в восторге! Юность в своей стихии! Живет двадцатью жизнями в один миг. Среди всеобщей безотчетной радости один граф сидит пасмурный подле Целестины и радуется только тому, что, будучи в последней паре, не так скоро выйдет на сцену со своим Голиафом{28} и сверх того имеет время обдумывать дело, его обеспокоивающее. Но как всякое дело и всякое обстоятельство имеет свой конец, то и работа всех пар, составляющих мазурку, кончилась; настала очередь графу выступить на сцену со своею дамою; уже предпоследняя пара села на место, уже граф с удержанным вздохом встает, берет Целестину за руку, хочет что-то сказать ей, вдруг гремит карета, катится, останавливается у подъезда, звонок ударяет два раза, отворяются дверей обе половинки, входит — Федулова с дочерью. Вид их произвел действие Медузы{29} на графиню: она окаменела от удивления; ей казалось, что преставление света в эту ночь было б гораздо естественнее, нежели появление Федуловой в доме княгини Орделинской. Граф, только что начавший было небрежно скользить по паркету, увидя прибывших, затрепетал, бросил руку княжны, сделал два шага к Фетинье, но, вдруг опомнясь, воротился, пробормотал какое-то извинение, которое Целестина приняла с тою же нарисованною усмешкою, с которою принимала все, что ей кто говорил. Граф продолжал начатый тур, но уже не с той неподвижностью физиономии и пасмурностью взора, теперь лицо его сияло радостью, которую он видимо старался скрыть или хоть умерить, но не мог успеть ни в том, ни в другом; он сделался любезен, развязен, сказал много приятного Целестине и оставил ее в ту же минуту, в которую кончилась мазурка. Ни строгие взгляды матери, ни неблагоприятный шепот старых дам, ни насмешливая и презрительная мина графини Орделинской, матери Целестининой, не удержали графа подойти к Фетинье и просить ее на следующий танец. Это была опять мазурка. Сама зависть замолчала минут на пять, когда Тревильский повел свою даму на место и когда начал этот чарующий танец, сотворенный для юности и красоты. Столь прелестной четы, каковы были граф и Фетинья, не могло и само воображение представить, особливо девица была прекрасна выше возможности описать ее. Итак, зависть замолчала; но, боже мой, как засвистали змеи ее, когда прошли пять минут ее невольного изумления! — Старуха Орделинская, видно, стала из ума выживаться: к чему это она пригласила мещанку в наш круг?.. Богата! Так что ж? — Ну, оно не худо, богатство, только надобно б употреблять его приличнее — например, толстая Федулова была б очень красива, когда бы унизалась жемчугом с ног до головы; надела б перстней бриллиантовых на все пальцы до самых ногтей… Почему не так? У нее сотни тысяч беспереводно! Прекрасно и благоразумно поступила бы, если б в именины мужнины, свои или другие случаи семейные делала праздники пышные, роскошные, обеды, балы, ужины на славу, но только на славу купеческую! То есть с целью угостить, доставить удовольствие знаменитым гостям своим, а не с тем чтоб затмить, блеснуть, ослепить, унизить их! А то вообразите, что затевает всякий раз, как дает пир какой… — Да что тут до того, как она кормит, чем кормит и на чем кормит? У нее всегда собрание одних мужчин, а они мало обращают внимания на ее пышность и изысканность; на это пусть бы она разорялась как угодно; но, по моему мнению, нельзя простить расточительности на такие вещи, на которые она нипочем никакого права не имеет! Вот, посмотрите на нее, может ли что быть дороже, изящнее, прелестнее ее наряда? Посмотрите на ее склаваж, диадему, фермуар, пояс, браслеты, — все это выписано из Парижа, все это самой высокой работы, изящного вкуса, и все это из самых лучших бриллиантов! Взгляните на ее ток{30} или берет! Это ведь прелесть, от которой нельзя глаз отвести! Если и можно простить ей подобную роскошь, так только потому, что все эти прекрасные вещи на ней теряют свою цену. Ее грубое, лоснящееся лицо, толстые руки, неуклюжесть всего корпуса и неловкие движения выказывают ее тем, что она есть, и блистательный наряд не введет никого в заблуждение — почесть ее знатною дамою; но что я считаю дерзостью, переходящею все границы, так это то, что она одевает дочь свою как принцессу крови! За это я затворила бы ей дверь моего дома навсегда, если б была на месте княгини Орделинской. — А ведь на первый взгляд ее Фетиньюшка покажется одетою очень просто: одно только белое платье и бриллиантовая нитка в волосах, на шее нет ничего; браслеты тоненькие золотые, поясная пряжка тоже просто золотая без каменьев; перстней и колец ни одного; серьги не что иное, как тонкие колечки золотые! Ну, одним словом, все так просто кажется, а как хитро между тем! Видите вы эту повязку бриллиантовую на голове, как будто род венка, сходится на затылке; видите, как она закрыта кудрями? Ведь уже, верно, для того, чтоб между черными волосами блеск бриллиантов был заметнее и заманчивее. — А между тем и та выгода, что припишут это скромности. — Право, не припишут, нынче мудрено обмануть кого б то ни было притворною скромностью. — А какие, однако ж, бриллианты! И что за отделка непостижимая! Знаете ли, чего стоит вся нитка? — Тысяч сто, не менее. — Что вы это! Помилуйте! Неужели вы думаете, что сумасбродная Федулова считает за что-нибудь сто тысяч, если дело идет о том, чтоб затмить и превзойти великолепием знатных, которых она, как обезьяна, со всевозможным тщанием копирует день и ночь? Худо вы знаете ее!.. Миллион, ровно миллион стоит нитка бриллиантов на голове Фетиньи, и девчонка, о сю пору уже хитрая кокетка, сейчас постигла, что даст им более цены, если сделает вид, будто хочет скрыть несколько их непомерный блеск. — Какая цель всех этих проделок? — Известная: старая Федулова только тем и дышит, о том день и ночь думает, чтоб выдать дочь за графа или князя. — Вот как! За чем же дело стало? У нас много князей, которые очень охотно дадут титул сиятельства ее Фетиньюшке, не только за эту нитку бриллиантов, но даже и за один из них. — Я то же думаю и очень удивляюсь, почему никто не попробует своего счастья в этой лотерее. — Извините! Я не вашего мнения, Федулова не будет так благоразумна, чтоб отыскать какое-нибудь сговорчивое сиятельство, присоединить его к несметному богатству своему и окружить всем этим блеском и счастьем дочь свою. Нет! Она непременно хочет породниться с высшим дворянством, не заботясь, что оно этого не хочет. — Я думаю, она останется при одном желании. — Ну, нет! Легко может быть, что мы услышим, и очень скоро, возглас у подъезда театра или другого какого этого же рода места: «Карета графини или княгини (такой-то) готова!» И в то же время увидим, что в эту карету с пышными гербами и коронами впорхнет миловидная Фетинья. — Разве есть какое основание подобной догадке? — Да, и очень прочное. Всмотритесь хорошенько в лицо графа Тревильского да также взгляните и на его гордую матушку. Видите ли, как худо повинуются ей глаза ее и цвет лица? Видите ли, какая тревога, стыд и досада изображаются в первых и как быстро и беспрерывно меняется последний? Заметьте восторг, совершенное забвение всего, что не она, которые поглотили, так сказать, молодого Тревильского! Посмотрите, пожалуйста! Это становится сценою, спектаклем! Это любопытно до бесконечности! И в самом деле, Георг, в первый еще раз видевший Фетинью вместе с девицею Орделинскою, принял твердое намерение отказаться от союза с княжною и, чтоб ознакомить мать свою с возможностью этого разрыва или, лучше сказать, с неизбежностью его, он не скрывал предпочтения, какое делал Фетинье. Граф не видел (то есть умышленно не видел) ни беспокойства своейматери, ни презрительных взглядов княгини Орделинской-матери, ни насмешливых мин некоторых знаменитых красавиц (бывших); ничего этого не видел молодой Тревильский и всею душою отдавался очарованию смотреть в прекрасные глаза своей милой Федуловой и говорить ей вполголоса все, что только внушало ему плененное сердце его. В это время мазурка была в величайшей моде и считалась самым грациозным танцем, тем более что знатоки и аматеры{31} танцевального искусства оставили ему одни только его приятности, а шум, стук и размашистые прыжки осудили на вечное изгнание. Итак, мазурка модный танец, и точно как теперь пятьдесят раз в вечер протанцуют французскую кадриль, точно так тогда чаще всего являлась на сцену мазурка. Сообразно с этим господствующим вкусом раздалось снова: «Dziabet Komu do tego…»[22]. И вот старая Орделинская подзывает свою внуку и спрашивает, где ее кавалер. — Я еще не ангажирована, ma grande mère![23] — Да на что ж тебя всякий раз особливо ангажировать? Ведь граф Георг твой кавалер на весь вечер. Целестина не имела времени отвечать; к ней подлетел какой-то улан, и она оставила бабушку свою протирать глаза от удивления, потому что перед нею рисовалась уже прелестнейшая пара из всего бала: Георг и Фетинья; они à pas glissants[24] пролетели мимо княгини, как два светозарные гения. Старая княгиня не могла прийти в себя: «Что ж это значит? Не сошел ли с ума граф Тревильский? С чего он взял предпочесть эту мещанку княжне Орделинской! Это глупость от него еще первая, но зато уж и мастерская! Каково выдумал: оставить без внимания знатную девицу, почти уже невесту свою; взять мещанку, да еще и в первую пару! Он помешался! Решительно помешался!» В самом деле, Тревильский возбудил против себя негодование всех дам: — Федулова в первой паре! какая дерзость! Эта Федулова имеет наглость быть так прекрасною, что не только нельзя затмить ее, но даже и сравняться с нею нет никакой возможности, и ко всему этому обладает сатанинским искусством так одеваться, как никому и никогда не может прийти на мысль. Тонкая кокетка! В такие лета, и уже столько соображения, столько утонченности! Кому б пришло в голову закрывать кудрями бриллиантовую нитку? Да еще какую! — Что до этого, то пусть бы она хоть вся, с ног до головы, унизалась бриллиантами, но это не дает еще права на предпочтение; за это не следовало бы графу ставить ее в первую пару, тогда как с начала бала он танцевал с княжною в последней паре! Странно, право, как это нынче все сходит с рук этим ветреникам! В наше время несравненно строже наблюдалось приличие! — Взгляните, пожалуйста, как они блаженствуют! Можно держать пари на что угодно, что эта мазурка окончится вместе с балом; видите, как сделался изобретателен молодой Тревильский, фигура за фигурою так и летят! И все какие замысловатые! Все с целью: каждая требует времени; а как он в первой паре, то, пока дойдет до последней, ему-таки довольно времени высказать своей даме все то, что придет на мысль. Тревильский, казалось, нарочно хотел вывесть из терпения мать свою и старую княгиню Орделинскую, потому что с величайшим злоупотреблением пользовался своим правом первой пары. Более часа уже продолжалась мазурка; молодые люди совсем не досадовали на это: на долю каждой пары доставался такой длинный антракт; а известно уже всем, когда-либо танцевавшим мазурку, что он даром не теряется. Графиня, разрываясь от досады и поминутно покушаясь подойти к сыну, сказать, чтоб он кончил свой бесконечный танец, вынуждена была воспрепятствовать сама себе сделать эту неизвинительную глупость тем, что ушла в уборную старой княгини под предлогом кружения головы. Сев на диван и поддерживая голову рукою, графиня минут пять уже занималась придумыванием способа поправить дело, так видимо портящееся, как вдруг дверь отворилась и вошла старая княгиня Орделинская. — Кажется, сынок твой, милая графиня, сегодня не в полном уме! Неуважение его к моему дому переходит все границы!.. По милости его на меня смотрят с насмешливым любопытством! Да, правду сказать, как и не смотреть, всякому хочется видеть, какую мину имеет княгиня Орделинская тогда, как нареченный жених ее внуки при глазах этой последней ухаживает за мещанкой и расточает ей всевозможные угождения? Я должна быть для них очень забавна!.. Ну что ж, графиня? Говори, ради бога, влюблен твой сын невозвратно, или это просто одно дурачество? Я не хотела б рисковать счастьем моей внуки. — Не знаю, княгиня, не знаю! Не спрашивайте! Я не могу опомниться, у меня голова идет кругом от сегодняшнего вечера! Но скажите мне сами, на какой грех пригласили вы эту крестьянку с ее дочерью? Я даже и не знала, что вы знакомы с нею; ведь известно, что она в нашем кругу не принята. — Это сделалось случайно; сын мой занимал деньги у Федулова, и вежливый купец привез сам эту сумму; я в это время была в кабинете сына. Упредительность добродушного Федулова так мне понравилась, что я спросила его о семействе, изъявила сожаление, что мы еще не знакомы, я просила привести их на мой бал, никак не воображая, что добрый человек примет это за настоящее желание видеть у себя его полновесную супругу и смазливую дочку, и, признаюсь, была очень неприятно удивлена, когда они вошли; мне стыдно было смотреть на мою невестку: ее изумление, неловкий вход самой Федуловой, ее смешная рекомендация чуть было не сделали сцены; к счастью, невестка моя нашлась сказать ей холодно: «прошу садиться» — и оставить на все остальное время без малейшего внимания; но дело не о том теперь, графиня! Не будем обманываться и не будем несправедливы: красота Фетиньи точно не имеет себе равной, и если сын твой считает неравенство породы химерою, то он пропал для моей Целестины; будь уверена, что он женится на дочери Федулова. — Прежде ему надобно будет проводить меня в могилу! Не думаю, чтоб сын мой захотел быть моим убийцей! До сего времени он любил меня и во всем повиновался. Я еще не отчаиваюсь, княгиня! Он не до такой степени философ, чтоб власть матери и ее согласие считать за ничто. — Ну, хорошо, графиня! Действуй, как найдешь за лучшее; я ничего так не желаю, как отдать мою Целестиночку твоему Жоржу… Бесценная моя княжнушка! Я думала, она рассердится, что твой ветреник вертится около Фетиньи; ничуть не бывало! Мой агнец неповинный все так же мило улыбается, как и всегда; нет и тени неудовольствия на этом покойном, кротком лице. «Бездушном, — подумала графиня. — О Георг! Надобно, чтоб ты был примерный сын, когда из любви ко мне будешь мужем Целестины! Целестина и Фетинья! Статуя и прелестный гений света, полный жизни! Неспохватчивая{32} старуха! Вздумала приглашать так слегка! Да Федуловой и не надобно более… Она рада случаю попасть каким бы то ни было образом в знатный дом. Ей только этого и надобно было; и я уверена, что теперь эта баба получит тьму приглашений именно для того, чтоб расстроить свадьбу — давний предмет моих желаний и стараний! Да, теперь они наперерыв будут доставлять случай моему сыну сравнивать княжну Орделинскую с дочерью мещанина!» Размышления Тревильской были прерваны дружескою ласкою княгини; она обняла ее: — Полно, милая графиня! все еще уладится; что много думать! Это просто одна ветреность; Целестиночка ею не обижается, так и мы простим; нет ничего хуже, как придавать чему-нибудь важность, тогда оно в самом деле становится чем-то значащим. Всего лучше не замечать. Пойдем к обществу. Обе дамы возвратились в залу и нашли все в том же виде, как оставили: мазурка еще продолжалась; Целестина вместо досады, что Тревильский в восторге, вторила ему как нельзя лучше в изобретении разных премудростей мазурочных. Группы дам то там, то сям почти хохотали при виде необыкновенной веселости княжны; молодые мужчины сожалели, казалось, что Тревильский позволяет себе столько явных глупостей; Сербицкий, танцевавший тоже в этой нескончаемой мазурке, тщетно выжидал, чтоб граф взглянул на него; он хотел каким-нибудь знаком его образумить; но Жорж смотрел только на Фетинью, которой казалось, что они танцуют не более четверти часа. При таком положении дел трудно было старой Орделинской остаться твердою в своей решимости не считать за важное поступок графа. Она приказала сказать музыкантам, что, как только последняя пара кончит свой тур, в ту же минуту перестать играть. Графиня была близка к обмороку. По счастию, Федулова, воображая, что она скопирует в точности знатную даму самого высшего тона, если уедет до ужина, отправилась тотчас по окончании танцев. Княгиня не просила ее продолжать знакомство, но эта холодность хозяйки была с избытком заменена ласками и приглашениями многих знатных дам. Графиня была права: как пропустить случай повредить, расстроить? Целестина была первая невеста по знатности рода и богатству, Тревильский завидный жених по происхождению, прекрасной наружности, отличному воспитанию и, наконец, тоже по богатству. На что ж допускать соединиться стольким выгодам вместе, когда есть возможность расстроить все это? А сверх того, сколько сцен будет! Сколько предметов для разговора! Как любопытно следить за ходом всего этого и как любопытно тоже видеть, долго ли Целестина будет улыбаться. За ужином Тревильский был очень любезен, внимателен к княжне. Он не сел за стол, но по временам стоял за стулом Целестины и смешил ее описанием странностей разных лиц, тут же присутствующих, иногда уходил с Сербицким в зал, где уже никого не было, и, поговоря с ним минут пять, опять возвращался на свой пост — к княжне Орделинской. Графиня не была обманута этою проделкою; она читала в сердце своего сына. Но старая Орделинская таяла нежностью, смотря на Целестиночку, улыбающуюся миловидному графу. — Какая чета, милая графиня, — говорила она почти вслух, — какая прекрасная чета! Милые дети! Как они заняты друг другом, не правда ли? Не правда ли, что они сотворены один для другого? Графиня притворилась, что не слыхала этого вопроса; не могла она вопреки истине согласиться с княгинею. Наконец мучительный вечер прошел. Утомленные гости отправились по домам. Тревильский пожал руку Сербицкому, сказав ему на ухо: «В девять часов я у тебя». После этого он свел мать свою с лестницы, сел с нею в карету и, чтоб избежать объяснений, которые были необходимым следствием поступков его на бале, притворился утомленным, дремлющим и даже заснувшим. Пришед в свою комнату, он выслал камердинера, приказав ему ложиться спать. Писал часа полтора; после этого сошел в сад, походил с полчаса, чтоб освежиться. Наконец возвратился в комнату и, приведя в порядок все свои бумаги, письма, стихи, рисунки, совершенно, однако ж, без нужды, а только чтоб чем-нибудь занять время до семи часов. Услышав бой этого желанного числа часов, он поспешно сошел вниз и отправился в конюшню седлать свою лошадь, чрезвычайно радуясь, что кучер не слышит этого; хотя он, однако ж, все слышал и видел, как то видно было из донесения его графине.
Итак, граф уехал в семь часов, а графиня пошла спать в ожидании его возврата. Но вот уже и четвертый час пополудни — графа нет! Графиня сказала, что обедать не будет. Компаньонка и прочий причет{33} сели за стол одни и пообедали молча и грустно. Наступил вечер — графа нет! В другое время это ничего бы не значило: граф мог уехать прогуливаться, быть приглашен кем-нибудь на завтрак, уехать на дачу обедать, пробыть целый день и даже два, и все это ничего, все это очень обыкновенно и часто бывало; но теперь! После вчерашнего бала! Это обстоятельство не кажется уже обыкновенным графине, напротив, она предчувствует беду; она приходит в ужас!.. Хотела б послать искать графа, но куда? Кто знает, куда поехал он? Графиня с трудом удерживает слезы; беседа компаньонки ей в тягость, она отослала ее и, мучимая непонятною тоскою, идет на половину сына своего; ей хочется взглянуть на все, что окружало его! Притронуться к вещам, которые были у него в руках, сесть на диван, на котором он сидел! Одним словом, графиня идет в комнаты графа с такими чувствами, как будто она навек его лишилась и должна жить одними только воспоминаниями. Первое, что представилось графине при входе в его гостиную, была записка, незапечатанная и положенная на колени бронзового амура, пробующего острие своей стрелы. Казалось, граф не сомневался, что мать его придет к нему в комнаты: если б записке этой назначено было перейти через руки лакея, то, верно, соблюдено было бы приличие, она была бы запечатана, адресована и положена просто на столе, а не на колени амура. Итак, граф знал, что графиня придет к нему. Это же подумала и Тревильская, и мысль эта была бальзамом целительным больному сердцу ее. Она взяла записку. Вот ее содержание: «Милая маменька! Не гневайтесь, я оставляю вас на целые две недели. Сербицкий пригласил меня на дачу, мы будем с ним ездить на охоту и сделаем посещение баронессе Лохвицкой. У нее будет какое-то трехдневное празднество, именины, кажется, ее трех дочерей или что-то похожее на это. На коленях целую ручки моей милой маменьке». Подписи нет. Но ее и не надобно; успокоенная графиня прочитывает несколько раз записку, называет Георга шалуном, ветреником. Но вид ее весел, сердце покойно. Графиня приказывает подать к чаю поболее сухарей и пораньше готовить ужин. Вечная, но любимая нами обманщица наша — надежда заставляет графиню думать, что опасения ее были неосновательны, что граф мог быть в домике Степаниды с целью невинною и благородною: известно, сколько он благотворителен. О близком родстве ее с Федуловыми ему нельзя знать, они тщательно скрывают его от всех; а что вместе с ним вышла какая-то девка? «Фи! Как можно мне хоть минуту думать об этом». Прилежное ухаживанье за Фетиньей на бале Орделинских легко могло быть следствием какой-нибудь размолвки между ним и княжною. Может быть, он хотел досадить ей: «Ветреник, и не подумал, что вместе с этим досаждает и мне». Графиня боялась остановиться мыслью на невозможности иметь с Целестиной какую бы то ни было размолвку. «Теперь я вижу, — продолжала она говорить сама с собой, — что встревожилась напрасно! Вот теперь он поехал на дачу К***, там тоже три девицы, молодые и прекрасные, если б он был влюблен в Фетинью, так не поехал бы на столько времени в общество дам, опасных для нее…» Графиня всею силою воли старалась оттолкнуть досадную мысль, что для Фетиньи нет дам опасных; что она сама опасна всем им, а более всего вечно улыбающейся колоссальной княжне Целестине Орделинской. Наконец графине удалось управиться со всеми бунтующими силами своего воображения: она уверила себя, что все сделалось случайно, без важных причин, что посещение домика Степаниды и лишняя внимательность к Фетинье — такие два обстоятельства, о которых не стоило и думать. «Впрочем, если б грозило уже такое несчастие, что Георг захотел бы жениться на Федуловой, тогда мое открытие остановит его; не унизится он до того, чтоб войти в родство со слугами: в деревнях моих есть близкие родственники Степаниды». Две недели прошло, но граф не возвратился; он писал к матери, что как настало уже время разъезжаться по дачам, то он и не видит надобности приезжать в город на какой-нибудь день или два; но что приедет уже прямо на дачу. Получа это письмо, графиня имела новую причину радоваться, что сын ее так мало думает о Фетинье. Через неделю она уехала на дачу. В продолжение этого времени ничего заметного не случилось, исключая, что Федулов отправил дочь свою в дальнюю северную губернию к ее родному дяде, тоже купцу и тоже Федулову, хотя не так богатому, однако ж и не бедному. Это сделалось вдруг; и слухи носились, что мать Федота Федуловича перед последним концом своим хотела непременно видеть внучку и писала к сыну, чтоб он прислал ее. И вот отец Фетиньи собрал ее и отправил в один день. Маша поехала с нею. Замечали еще, что со дня отъезда дочери Федулов постоянно был холоден с женою, которая хотя и казалась несколько обеспокоенною этим, однако ж не унывала, наряжалась по-прежнему и копировала знатных до самомалейшего обстоятельства. Разумеется, что в таком случае она не могла оставаться в городе и тоже отправилась на дачу. В половине июня граф возвратился к своей матери. Графиня, обрадованная возвратом милого сына, не хотела нарушать своего семейного счастья разговором об Орделинских: хотя она и думала иногда, что граф может иметь склонность к Целестине, но чаще уверялась, что княжна сотворена удивлять — в юности и пугать — в старости; но нравиться — никогда, никому и ни в какое время. Поспешный отъезд Фетиньи в провинцию к дяде был событием незаметным для высшего круга. О нем нигде и не говорили, исключая, однако ж, молодых людей и молодых девиц. Первые сожалели, что лучший цветок пересажен в землю далекую; а последние радовались, что некому затмевать красоты их. При девице Федуловой они все казались равными, но теперь появились степени красоты, и прекраснейшие были очень довольны, что закат яркого солнца возвратил блеск звездам. Итак, графиня живет на даче и ни слова с сыном об Орделинских. Княгиня живет с семьею на даче и тоже предоставляет все времени, то есть до наступления осени; изредка только посматривает на княжну-исполина, в раздумье качает головою и зовет внучку просто: «княжна», иногда: «Целестина, друг мой!», но никогда уже: «Целестиночка». Федулова живет на даче с госпожою Зильбер (которая не поехала с Фетиньей, бог знает уже, добровольно или Федулов не позволил; об этом никто ничего не знал), живет точь-в-точь так, как живут знатные дамы. Ей ведь нет другого занятия, как копировать свои образцы. Настал июль; пора жары, купанья, мороженого, лимонадов со льдом, чаю в одиннадцать часов вечера. Все употреблялось, как водится и будет водиться. Граф ездит каждую неделю в город: дом графини поправляют, то есть снова штукатурят снаружи, да еще внутри идут важные переделки; к половине, занимаемой графом, прибавлено много комнат. Графиня все-таки не может расстаться с мыслью женить сына; итак, надобно приготовить для его семейной жизни комнаты со всеми удобствами. Графскую половину всю переделывают и убирают великолепно: это будет чертог. Графиня в шутку сказала: «Позаботься, Жорж, чтоб приют твоего будущего семейного счастья был по твоим мыслям». И Жорж, поцеловав руку матери, тотчас отправлялся в город и точно с большим участием толковал с архитектором и другими, от кого зависело расположение и украшение комнат. Иногда граф оставался в городе дня на три сряду, приезжал к матери на один день, давал ей подробный отчет в работах и уезжал опять на несколько дней. Графиня от часу становилась покойнее и от часу более уверялась, что тревога ее материнского сердца была напрасная: что ее Жорж никогда не любил Фетиньи. Вот ее нет, она уехала, может быть, там выйдет замуж, а он нисколько не грустит, весел, как и всегда; скрытной печали предполагать нельзя: лицо его цветет здоровьем… Есть какая-то томность в глазах, но ведь это красота и совсем не признак грусти; мой Жорж пленителен в минуты, когда томность эта смягчает обычный блеск его прекрасных глаз. Прошло лето, настала осень, пасмурный сентябрь! Кончились работы в доме графини Тревильской; но ей надобно еще прожить на даче недели две лишних, пока комнаты графа хорошенько просохнут и все приведется в должный порядок. Прошли и две недели; все готово, остается переехать и снова водвориться в городе: снова ездить на балы, собрания, концерты, в магазины; спать до полдня, смотреть на мелкий дождь, слушать городские новости; одним словом, жить, как и прежде. Завтра отправится графиня, но граф едет сегодня. На вопрос: «Для чего не вместе?» — отвечает, что еще не отданы деньги работавшим и что он хочет сделать это сам.
— Много, много благодарен вашему сиятельству! Теперь, по милости вашей, работа моя кончена навсегда; поеду домой и буду торговать. Дай вам бог здоровья и счастья на всю жизнь! Так говорил один из работников, кланяясь графу в ноги. Осматривая вновь отделанные комнаты сына своего, графиня была в беспрерывном восторге. — Сколько вкуса, — говорила она, — какая изящность во всем! Это замок феи! Среди такого великолепия, неги и роскоши, милый Жорж, грех жить одному; подумай об этом! Присоедини к тем радостям, которыми ты красишь жизнь мою, еще одну и величайшую: женись; пусть я вновь расцвету в твоих детях. — Все будет по-вашему, милая маменька, — говорил граф, с нежностью целуя руки матери, — все будет по-вашему, но только дайте мне время. Разговоры эти повторялись часто. Иногда графиня говорила: — Дать тебе время! Но ведь оно-то и дорого, Жорж! Его-то и не надобно упускать; правда, что оно приводит многое; но сколько ж и уносит! Великий боже! Не оно ль отнимает нашу красоту, силу, здоровье, богатство! Наши черные локоны, румянец, блеск очей, полноту, живость, радостный смех, милые затеи! Все, все берет у нас то время, которого ты не перестаешь просить у меня. Ах, Жорж! Кто поручится тебе, что я дождусь того дня, в который ты решишься исполнить мое желание! Когда разговор графини принимал такой оборот, граф изменялся в лице, слезы навертывались на глазах, он целовал безмолвно руки своей матери и уходил поспешно. Весь тот день он бывал грустен. Чаще, однако ж, совет графини — скорее жениться имел последствия веселые: графиня хохотала, называла сына шалуном, драла легонько за ухо и, смеясь, оставляла разговор, который никак нельзя было продолжать с приличною важностью: граф уверял мать свою, что так рано он не смеет сделать ее ни свекровью, ни бабушкою. — Поверьте, милая маменька, что оба эти названия вам еще не к лицу; никто не поверит, чтоб вы занимали уже эту грустную степень в жизни человеческой: свекровь! бабушка!.. О боже, мне кажется, что с этими двумя именами неразлучны: седые волосы, толщина, солидный чепец, очки и — трясущаяся голова!.. Да сохранит же меня бог предполагать все это в вас, посмотрите сами! Граф обнимал мать свою и подводил ее к зеркалу; графиня смеялась, называла сына ветреником, повесой, но к зеркалу подходила с удовольствием: хотя ей было сорок шесть лет, но она была еще очень свежа и сохранила из красоты своей то, что долее противится времени: глаза ее все еще были прекрасны, физиономия благородна и усмешка пленительна. Если прибавить к этому, что графиня была ветрена, то неудивительно, если этот способ из всех употребляемых сыном для отдаления рокового события — женитьбы был самый успешный и доставлял графу спокойствие иногда месяца на два и более. Круг графининых знакомых, так усердно приглашавший Федулову на свои балы, рауты и собрания запросто, в человеколюбивой надежде расстроить союз Тревильских с Орделинскими, видя, что он и сам собою готов разрушиться, бросил и думать о бедной обрадованной купчихе. Нельзя представить, как велики были ее стыд и замешательство, когда, приехав то к той, то к другой, везде получила ответы: «Не принимает». Зима была уже в половине; близился новый год; со дня отъезда Фетиньи прошло более полугода; редко кто вспоминал о ней не только из дам лучшего тона, но даже и молодые люди, которых восхищала красота ее и заставляла учащать на банкеты Федулова; даже и они давно уже посвятили угождения свои другим и о девице Федуловой вспоминали тогда только, когда речь заходила о знаменитых красавицах, да еще если хотели помучить графа Тревильского. Одна только старая Степанида думала день и ночь о своей милой внучке. Горе ее делила с нею давняя приятельница Акулина, и всякий раз после ее посещения и продолжительного разговора старуха долго стояла на коленях перед иконою богоматери, молилась и плакала. Но что ж значит этот веселый и беззаботный тон, который так постоянно сохраняет со всеми граф Тревильский? В самом деле, забыл он Фетинью? Никогда не любил ее? Но что ж значили поступки его на бале? В чувствах его тогда никому нельзя было ошибиться: он дышал любовью. Отчего ж теперь так покоен, когда его любезную увезли от него в средину холодного севера?.. Чего ж другого ждать от этих ветрогонов? Загорятся, как порох, напроказят, расстроят лучшие планы своих родных и после двух недель отчаянных сумасбродств все забудут и утихнут, а дело между тем испорчено невозвратно. «Да, на Орделинской теперь ему уже не жениться». — «Я думаю, он этого только и хотел». — «В таком случае, не для чего было делать столько глупостей». — «С Тревильскою нельзя иначе. Ее надобно побеждать ее же оружием». — «Эх, полноте, вы не то говорите; Орделинские рады были случаю отказаться; матери Целестины очень не нравился этот союз, и она заставила мужа обратить внимание на явную холодность Тревильского к их дочери: теперь оба семейства почти никогда не видятся». Из всех этих толков последнее заключение было справедливо. Со дня бала между старой Орделинской и графиней Тревильской вкралась холодность, недоверчивость, а затем последовало и отчуждение; свидания их от часу становились реже, разговоры принужденнее, и, наконец, к половине зимы оба семейства совсем прекратили всякие сношения между собою. Прошло три года; о Фетинье слуха нет. В высшем кругу давно забыли, что она существовала. В среднем иногда говорят о ней, что будто она живет в Кунгуре; другие утверждают, что в Иркутске у дяди; иные слышали, что она в Омской крепости замужем. Всякий слух отодвигал ее все далее к Камчатке. В семейном быту Федулова в эти три года многое изменилось, также и внешние дела его взяли другой оборот: торговля его упала; одна из неудачных спекуляций лишила его половины капитала, и с того времени неудачи пошли вслед за неудачами; причиною этого полагали нерадение, в которое Федулов впал после отъезда дочери; говорили, что с того дня никто не видал его веселым, и богатство начало видимо таять. Федулова перестала шнуроваться и понемногу перестает копировать знатных дам; особливо с того времени, как она, желая вытереть лицо каким-то кузмотиком, как говорит Акулина, вытерла его крепкою водкою и испортила до ужаса; с этого несчастного дня она приметно начала отставать от всех прежних привычек: перестала наряжаться напоказ, не разъезжала повсюду, не покупала все, что понравится, и даже в ней начали открываться и добродетели: она продала на большую сумму дорогих вещей, каменьев, жемчуга и вырученные деньги секретно положила в мужнину кассу; правда, что Федулов, увидя это приношение, поспешно и с досадою выбросил его на пол, но бедная Матрена так горько заплакала и так жалобно просила простить ее, что он поднял деньги и опять положил к своим, но все-таки не глядя на жену и не сказав ей ни слова. Сделавшись безобразною, потеряв любовь мужа и утратив богатство, несчастная Федулова предалась сильной горести. Отказываясь добровольно то от того, то от другого, она кончила произвольные эпитимии{34} свои тем, что в один день, когда уже он склонялся к вечеру, пошла одна пешком к матери и, упав к ногам ее, едва не выплакала душу свою от раскаяния. Так-то тяжелая рука несчастья приводит людей к их обязанностям: Федулова, богатая, счастливая, не хотела знать матери, стыдилась принять ее к себе; Федулова, обезображенная, обедневшая, невзмилившаяся мужу, пришла обнять колена оскорбленной матери и ее прощением примириться с небом. В таком положении дел и обстоятельств действующих лиц проходит и близится к концу четвертый год, считая со дня гулянья. Граф достиг совершеннолетия давно уже; давно вступил во владение имением отцовским; графиня поручила ему и свое, которое гораздо больше, и отдала в его волю все доходы с него. Граф всегда покоен, весел, доволен, начинает полнеть. Графиня всегда почти грустна, редко подходит к зеркалу, редко выезжает, проводит много времени в образной и никогда уже не напоминает сыну о женитьбе, но иногда задумчиво бродит по пышным залам вновь отделанной половины для предполагаемой некогда его свадьбы, печально останавливается против огромных зеркал, печально качает головою, говоря: «Неужели дорогие стекла эти никогда не отразят в себе лица юного и прекрасного, молодой графини Тревильской! Неужели всегда только одно мое с каждым днем более стареющее лицо будет представляться глазам моим!» И облако слез покрывало глаза эти и тмило образ графини в зеркале. Княжна Орделинская, к печали своей бабки, радости матери и удивлению отца, пошла в монастырь. Многие нашли, что она благую часть избрала. Федулов из миллионера сделался бедным купцом, но, как был, остался честным и добросовестным человеком. С женой обращение его было все то же, он не говорил с нею иначе, как отвечая коротко и холодно на ее вопросы; но ласки никогда и никакой. Степанида продолжает видеться с ключницей, совещаться с нею и по уходе ее плакать и молиться. Домашний быт ее тоже изменился; она не отдает более внаймы углов своего дома и главный из них, в котором угощала свою милую Фетинью, убрала как могла лучше, сделала из него род будуара, употребя на украшение тот атлас, который назначала было для своей последней постели, но теперь она обила им диван, кресла и сделала занавеси к окну, не заботясь, что ни к чему нельзя будет притронуться не исцарапавшись. Но лучшим украшением и главною прелестью этого угла был, по мнению старой Степаниды, портрет Фетиньи, снятый с нее тогда еще, как она была ребенком и жила с матерью в этом самом угле; портрет этот, хотя очень незавидной работы, был, однако ж, чрезвычайно сходен, и редкая красота маленькой девочки передана холсту верно. В один из лучших апрельских дней графиня сидела в диванной будущей невестки своей, то есть она была на половине графа, в комнатах, назначенных супруге его. Прекраснейшей работы ковер устилал пол во всю длину и ширину его; ничто не могло быть прелестнее цветов, разбросанных по белой земле; казалось, что все эти розы, гвоздики, георгины, леандры, тюльпаны, всех цветов маки лежат на снегу. Графиня долго рассматривала неподражаемую живость цветов. В это время вошел граф. — Посмотри, милый Жорж, как все это прекрасно! — графиня вздохнула. — Знаешь ли, что я думала, покупая ковер этот? Когда купец разостлал его передо мною, то первая мысль моя была: как радостно маленькие творения будут хватать эти цветы своими крошечными ручонками! И вот вместо того я одна — старуха — смотрю на эти восхитительные цветы и прохожу по ним медленно, с чувством горести, с думою тяжелою!.. Ах, Жорж, Жорж! — Милая маменька! — граф стал на одно колено и целовал руки матери с видом человека, вдруг на что-то решившегося. — Милая маменька! Что ж мешает осуществить любимую мечту вашу? Для чего думаете вы, что семейные радости не будут вашим уделом? Графиня с удивлением и радостью смотрела на сына: — Так ты согласен? Пусть бог даст тебе счастье на всю жизнь, милый сын! Дни мои опять просветлеют! Правда, что союз с Орделинскими, сильнейшее желание сердца моего, сделался теперь невозможен; но в государстве много девиц знатного происхождения, которые за счастье почтут иметь мужем прекрасного графа Тревильского. Как я рада, мой бесценный Жорж… Этот день я буду праздновать в продолжение всей моей жизни… Но встань же, друг мой! Полно целовать мои руки! Как!.. Ты плачешь? У графа в самом деле навернулись слезы; восторг его матери был для него ударом кинжала в сердце. — Я надеюсь, маменька, — сказал он тихо, — что вы позволите мне жениться по склонности моего сердца и что знатное происхождение не будет тут необходимым условием. — Боже, защити нас! Неужели опять какая мещанка! Что с тобою делается, граф? Ну, пусть уже Федулова, хоть красотою необыкновенною оправдывала твою неуместную привязанность, но феномен этот давно сошел со сцены, давно затмился, нет его. Кто ж теперь? Кажется, нет никого, кто б славился так, как она! — Я не переставал любить ее! Она необходима для моего счастья! Неужели, любезная матушка, я дорог вам не сам по себе, а только потому, что могу передать потомству имя ваше с удвоенным блеском через супружество с знатною девицею? Если вы любите меня собственно для меня, так что вам до того, с кем я счастлив, лишь бы только был счастлив… Дети мои тем не менее будут графы Тревильские. — Я не так думаю, граф, особливо о союзе с Федуловыми; с ними более, нежели с кем другим, я не согласна породниться. Знаешь ли ты, кто такие мать и бабка Фетиньи? — Знаю. — Вряд ли! Тогда б ты не решился просить моего согласия на союз твой с этою семьею. Кто ж они, если знаешь? — Бабка Фетиньи — отпущенница князя Мазовецкого. — Как! Ты в самом деле знаешь это?.. Знаешь! И хочешь быть также ее внуком! Гнев совершенно овладел графинею. Она встала, высвободила свою руку из рук сына: — Знал ли ты также, граф, что мать Фетиньи незаконнорожденная и что Фетинья тебе двоюродная сестра? Не отвечай! Вижу, что знал! Теперь выслушай же меня: ты совершеннолетний полновластный господин своей воли и своего имения, можешь жениться, на ком рассудишь, даже и на Фетинье, но ни согласия на этот брак, ни благословения ему ты не получишь от меня даже и тогда, когда я буду уже на смертной постели. К престолу всевышнего предстану я оскорбленною матерью. Графиня ушла в свои комнаты и выслала горничную сказать графу, чтоб он не приходил к ней, пока она не пришлет за ним. Дня через три мать и сын были опять вместе; то есть вместе обедали, пили чай, прогуливались в саду; если графиня выезжала в церковь, граф провожал ее; по наружности обращение их ни в чем не изменилось, но только граф был задумчив и бледен, а графиня нежнее и чаще прежнего ласкала его, но уже не ходила более в комнаты молодой графини — так в целом доме звали вновь отделанную половину. Здоровье графини теперь начало видимо расстраиваться. В день пострижения княжны Орделинской с нею сделался первый нервический припадок, от того времени она страдала ими постоянно, хотя и не так часто, чтоб слишком тревожиться; но непредвиденное объяснение с сыном, угасившее последнюю искру надежды, до сего все еще тлевшую в душе графини, что ее Жорж будет иметь супругу, достойную продлить род Тревильских, это объяснение поразило жизненную силу ее в самом сердце; графиня с каждым днем делалась слабее; граф был в отчаянии. Иногда графиня, положа голову на грудь сына, обнимала его обеими руками, говоря: «Ты ребенок, милый Жорж! Ну, отчего так грустить? Я похвораю и выздоровею; а если б и умерла, так ведь ты в этом не виноват; ты не хотел жениться так, как я требовала, правда, и это не хорошо! Но ты не женился и так, как сам хотел, несмотря, что закон давал тебе это право; успокойся же, сын мой! Все еще может поправиться, много времени впереди не только для тебя, но даже и для меня: я могу еще многого дождаться; мне только пятьдесят лет». Врожденное легкомыслие графини было ей великим пособием; она стала как будто укрепляться в силах; объяснение с сыном, столько ее огорчившее, казалось ей уже нестоящим, чтоб его принимать так близко к сердцу; и она точно, как говорила, начала ожидать многого. Так продолжалось недели три; вдруг пронесся слух, что графиня Тревильская умирает, что она исполнила уже все, требуемое религией перед вечным успокоением, и что часы жизни ее сочтены. К этому слуху присоединился другой, совсем уже неправдоподобный, что граф Тревильский едет за границу. Знакомые графини встревожились, бросились к ней толпою, кто из участия, кто из любопытства, и точно, оба слуха справедливы: графиня при смерти, граф едет за границу. Когда графиня, думая и передумывая, как принять слова графа, какой смысл дать им, решила наконец, что все им сказанное, может быть, не так было чувствовано, что время возьмет свое, что года через четыре еще он забудет Фетинью и все-таки будет в самой поре жениться (графу тогда было б ровно тридцать лет), то эта беседа и совещание самой с собою сделали то, что она снова начала ходить к сыну в комнаты молодой графини, любоваться белым ковром и мечтать о внучках, которые будут на нем играть и хватать его цветы крошечными ручонками. В один день вздумалось графине ехать прогуляться; она приказала заложить карету и сказать графу, что просит его ехать вместе. Граф пришел уведомить, что будет готов через четверть часа, что ему надобно кончить письма, не терпящие отлагательства. Когда карета, письма и граф были готовы, графиня передумала: — Останься, милый Жорж, я поеду одна. Граф ушел, а графиня пошла было садиться в карету, но еще раз передумала: — Велите отложить. Не понимаю, — говорила она своей компаньонке, — отчего мне сегодня так не по себе! Какое-то беспокойство овладело мною, то хотела б я уехать, сама не знаю куда, то опять не хочется с места тронуться. — У вас кровь в волнении, графиня; выпейте воды с сахаром, я прикажу подать. Да если вам не угодно ехать, так позвольте мне, я имею надобность быть в магазине мадам Корбелль. Компаньонка поехала. Графине подали воды с сахаром, и она, взяв стакан, пошла с ним ходить по горницам. Переходя машинально, без всякой цели из одной комнаты в другую, она прошла их все и вышла в коридор, ведущий в графскую половину; прошла и его точно так же, как проходила свои комнаты, без мыслей, без цели, без сознания даже, вошла в прихожую, прошла переднюю и, идя все прямо перед собою, перешла залу, гостиную, каминную и наконец очутилась в любимой диванной, где был прекрасный белый ковер. Графиня остановилась в изумлении, в ужасе, трепетала, как лист, не верила глазам, мысленно призывала всех святых на помощь, умоляя, чтоб это была мечта. При виде графини, бледной, помертвевшей, сложившей руки с выражением скорби и отчаяния, можно было б подумать, что глазам ее представилась грозная смерть собственною особою. Однако ж это было совсем напротив. Это было прелестное годовое дитя, истинное изображение Амура и Фетиньи Федотовны Федуловой… Дитя играло на ковре, ползая проворно от одного цветка к другому, хватая их маленькими ручонками. Увидя вошедшую графиню, дитя радостно всплеснуло ручками и, залепетав: «Бабуця, бабуця!» — поползло к ней как могло скорее; на половине своей дороги дитя остановилось, видно рассмотрев, что это не та «бабуця», которую оно привыкло видеть. Остановилось, оперлось ручками на ковер, подняло головку и, смотря пристально на графиню, повторило еще раз свое: «Бабуця?» Но уже это было не восклицание радостное, а вопрос, сделанный голосом, готовым к плачу. В это ж самое время из другой горницы слышался мелодический голос — графиня не могла не узнать его, и он при всей приятности ужасал ее, как рев тигра. — Маша! Прибери обломки фарфора. Зачем ставить так, что дети могут доставать! Где Верочка? — В диванной, ваше сиятельство! Играет на ковре. — Диванная заперта? — Нет-с. — Боже мой, какая неосторожность! — отозвался граф. — Поди сейчас запри. — Не тревожься, милый Жорж, ведь маменька уехала. — Правда; но все-таки, милая Фанничка, смотри сама за этим, чтоб дверь диванной всегда была заперта, когда дети там играют… Боже мой! Что такое… Вопль Маши заставил графа и Фанничку бежать опрометью в диванную.
Когда граф Тревильский после бала уехал в семь часов утра на дачу Сербицкого, тогда намерение его жениться на Фетинье было уже твердо принято. Он не обманывал матери, когда писал, что поедет с Сербицким к баронессе Лохвицкой на ее трехдневное празднество. Он точно туда поехал, но туда же приехала после него и Фанничка с матерью и Машей. Верстах в тридцати от имения Лохвицких было село, куда съезжались для поклонения мощам; не было ничего удивительного, что благочестивая купчиха приехала помолиться и отслужить молебен; на этот раз она имела благоразумие не выказывать всей своей пышности; никто не удивился приезду особ в наемных каретах, так же как и венчанью двух молодых людей и позднему времени, для этого выбранному. Все это было там очень обыкновенно. Впрочем, для предосторожности церковь была заперта и лицо невесты закрыто флером. Свидетелями были: Сербицкий и графский камердинер, которого тут же обвенчали с Машей. Супруги разлучились тотчас по выходе из церкви. Граф прижал к сердцу милую жену и, поцеловав несколько раз прелестные черные очи ее и розовые уста, посадил в карету. Он поцеловал также руку Федуловой, говоря: «Поручаю вам, матушка, мою милую графиню до того дня, как я приеду за нею; храните мое сокровище». «И я, Машенька, расстаюсь с тобою до того же срока, впрочем, для нас он может и сократиться», — говорил новобрачный камердинер, усаживая свою смуглянку на переднюю лавочку кареты. Наконец обе кареты покатились, каждая в свою сторону. Федулова задыхалась от силы двух противоположных ощущений: от восторга видеть себя тещею графа и от страха, что сделает Федулов, когда узнает о ее новом достоинстве. Первое, однако ж, брало верх; она беспрестанно заботилась о дочери, чтоб только иметь предлог называть ее: «Не поднять ли стекло, милая графиня? Ветер холодно веет. Закрывайся, пожалуйста, графиня, как ты неосторожна! Теперь воздух влажен еще! Смотри, графиня, не введи меня в хлопоты, ведь граф, муж твой, отдал мне тебя с условием: я должна возвратить ему жену его такою, как взяла, здоровою; так берегись же, милая графиня, не раскрывайся так». Маша, тоже в этом случае нисколько не умнее своей хозяйки, не помнила себя от радости, что она теперь жена молодого, прекрасно одетого камердинера графского и что служит не купеческой уже дочери, Фетинье Федотовне Федуловой, а ее сиятельству, молодой графине Фанничке Тревильской. «Странно, однако ж, — говорила сама себе Маша, — это имя: Фанничка. Что-то неловко, кажется, называть так, разве у знатных это ничего: по-нашему, так почти то же, что сказать: графиня Соничка, Лизочка! Ужасно было б смешно и некстати!» Но это размышление пролетало молнией и не мешало придираться ко всякому случаю назвать Фетинью ее сиятельством. «Ваше сиятельство почивать хотите? Не прикажете ль, ваше сиятельство, подать вам большой платок? Позвольте, ваше сиятельство; эта кисть беспокоит ваше сиятельство!» Две дуры не переставали во всю дорогу осыпать Фетинью названиями графини и вашего сиятельства, так что когда новобрачная заснула, то видела во сне, что ее маленькая собачка, тявкая, выговаривала: «Ваше сиятельство!» Юное сердце молодой графини хотя и было полно неизъяснимого счастья, однако ж к нему примешивалось тревожное чувство непокойной совести: отец, столько ее любящий, не знает о важнейшем шаге ее жизни! Правда, супружество ее совершилось по воле матери, под ее благословением, по ее непременному требованию. Дочь не смеет противиться приказанию матери. «Все правда! Но отец! Добрый отец мой! Ему тоже надобно бы знать об этом!» Граф хотел непременно, чтоб его молодая графиня жила у него, именно в тех комнатах, которые для этого случаяпеределывались; но только не знал, как водворить ее там? Надобно сделать так, чтоб не было и вида тайны. Надобно, чтоб графиня-мать могла входить в эти комнаты, когда ей рассудится. В один день, когда граф, осматривая отделываемые покои, более прежнего об этом задумался, к нему подошел работник, знавший в совершенстве слесарное и столярное ремесла. — Не прикажете ль, ваше сиятельство, к двери вашего кабинета сделать замок со звоном? — Как со звоном? — Когда отпирают замок, то он издает звук, похожий на бой часов. — Для чего ж это? — Чтоб слышать, когда кто войдет. — А, понимаю! Но не будет ли такое извещение поздним? Нельзя ли сделать так, чтоб звонок ударял в кабинете, когда отворится дверь в переднюю? — Чего не можно, ваше сиятельство; но только об этом надобно подумать. Это не так легко сделать, как обыкновенный замок со звоном. — Подумай; если выдумаешь, я дам тебе такую награду… Ну, тогда увидишь сам; только помни, что эта работа должна быть секретною. — Разумеется, ваше сиятельство. Если будет известно место, где стоит караул, тогда могут и обойти его. Эту хитрость будут знать только двое: я да ваше сиятельство. Мастеровой, заключавший в себе слесаря и столяра, ухищрялся и умудрялся недели две и наконец выдумал пружину вроде длинной клавиши, которая от дверей прихожей тянулась под полом до самого графского кабинета и была устроена так, что вместе с тем, как отворялась дверь передней, она ударяла в колокольчик, приделанный тоже под полом в графском кабинете, и издавала звук глухой, но довольно внятный, чтоб быть слышным в диванной и гостиной. Комнаты молодой графини были необитаемы; итак, вход в них через парадную лестницу был заперт и можно было пройти в них через коридор; дорога, которою ходила одна только графиня-мать, и, следовательно, дверь с тайною пружиною никем другим не могла быть отворяема, и если колокольчик подпольный звенел, это возвещало приход графини. Итак, граф достиг цели своих желаний. Он наградил мастерового за его бесценную услугу, как сказано выше; и как некоторые из его комнат не были переделываемы, то он и решился поселить в них свою молодую жену. Надобно было видеть, как испугалась сумасбродная женщина — графская теща, когда граф сказал ей, что возьмет жену к себе. Побледнев как полотно, она беспрестанно повторяла: — Что я скажу ему! Что скажу, боже мой всемогущий! Что я скажу ему!.. — Скажите правду, матушка! Имейте твердость сказать ему правду, — говорил граф, — попросите хранить нашу тайну до того, пока я успею склонить графиню утвердить брак мой. — Ах, боже мой! Что вы это говорите, — кричала с визгливым плачем Федулова, — сказать правду Федулову!.. Куда я денусь тогда?.. Ну, скажете ль вы правду вашей матушке? Уж, верно, нет! — Но ведь надобно же кончить тем, чтоб взять к себе жену; милая матушка, перестаньте горевать. — Нет, нет, граф! Ваш совет не годится; сказать мужу я не смею; а вы подождите дней пять, я завтра поеду на всю неделю за город, одна моя приятельница родила, так я поеду к ней, это будет предлогом оставить вашу графиню дома; вы без меня и увезите ее, да и живите с нею в любви и согласии под моим материнским благословением. А с мужем я уж как-нибудь помирюсь: ведь я не могу отвечать за то, что сделается без меня. План Федуловой был выполнен в точности, но только дальновидного Федулова им не обманули: он понял все; но зло сделано, исправить нельзя, осталось взять меры, чтоб не распространился слух об нем. Когда жена его возвратилась и вошла к нему с непритворно испуганным видом (конечно, имея предчувствие, что муж отгадает истину), Федулов сказал ей мрачно и не глядя на нее: — Фетиньи нет! Она ушла! Не хочу знать, где она и для чего ушла, но приказываю тебе говорить везде и всем, что я отправил ее в Иркутск к дяде: дома так думают. Если ж я узнаю, что она замужем, как ты когда-то намекала, уничтожу брак ее, по крайности, буду об этом просить; а тебя выгоню из дому как жену бессовестную и мать бездушную. Теперь же буду терпеть твое присутствие в доме моем для того, чтоб не сделать огласки. Высказав свою волю и намерение, Федулов от этого дня жил с женою, как будто ее не было у него в доме: не говорил с нею, не смотрел на нее, и когда люди на какой-нибудь вопрос его отвечали: «хозяйка приказала, хозяйка послала, хозяйка сама хотела сделать» — он тотчас переставал говорить и уходил. Несмотря на наружную холодность, Федулов жестоко был опечален поступком дочери; он знал Тревильскую, ее образ мыслей, упрямство, презрение к простолюдинам; знал, что скорее согласится она видеть сына мертвым, нежели женатым на мещанке; все это знал он, был уверен, и честная душа его страдала невыразимо при мысли, что его дочь насильно вошла в фамилию, ее презирающую. Дни, недели и месяцы проходили своей чередой; молодые супруги были б счастливее самого счастья, если б их любовь, ласки, восторги не были тревожимы боязнью и упреками совести; особливо эти последние часто наводили облако грусти на прекрасные лица супругов-любовников; без этого обстоятельства опасение и всегдашняя осторожность еще более возвышали бы цену их взаимного благополучия. В безмолвном и пышном приюте своем они жили как будто отделенные от этого мира, исполненного бурь, сует, козней, вражды и бед! С каким восторгом молодой граф прижимал к сердцу свою милую Фанничку, когда она, выдержав двухчасовой карантин в гардеробной, опять приходила к нему. Гардеробная была ее убежищем: при звуке благодетельного подпольного звонка юная графиня как зефир улетала в коридор, оттуда в гардеробную, где и оставалась все то время, пока графиня-мать сидела в ее комнатах. В конце года молодая Тревильская сделалась беременна; это оживило было надежду графа убедить мать свою признать его Фанничку невесткою, но скоро, однако ж, надежда эта угасла. Графиня, как-то разговаривая с сыном о женитьбе одного их знакомого против воли матери и о том, что она простила, когда сын упал к ногам ее и представил ей дитя свое, сказала: «На меня это не подействовало бы; презрение воли материнской тем не менее презрение, хотя и имеет такие приятные последствия для виновных! Я не простила бы, Жорж, уверяю тебя». Фетинья узнала наконец, что Степанида — ее родная бабка; узнала также и то, что она отпущенница; но тем с не меньшею нежностью обняла старуху, плачущую от радости и горя вместе. Степанида ходила очень часто к своей внучке: никому не казалось странным, что к жене графского камердинера ходит какая-то опрятно одетая старушка. Ее провожали прямо в кабинет графа, который служил супругам спальнею и столовою, когда графиня-мать не обедала дома и позволяла сыну по каким-нибудь причинам оставаться дома. При наступающих родах Степанида просила внучку переехать к ней месяца на два. — У меня ты будешь покойна и безопасна, милое дитя мое (она никогда не звала ее графинею), а здесь этот звонок когда-нибудь перепугает тебя насмерть; не может ли он зазвенеть в такое время, когда глубочайшая тишина будет тебе необходимее всего?.. Переезжай ко мне, мой милый друг? Когда все кончится и ты оправишься, опять возвратишься сюда. Само благоразумие говорило устами старой Степаниды; супруги признали необходимость последовать ее совету, и за две недели до родов молодая графиня переехала к своей бабке. Старуха была в истинном упоении, видя свою милую Фетинью, свою красавицу писаную обитательницей ее дома; она поставила для нее кровать в пышно убранном углу. Заколотила наглухо главную дверь, которая вела из коридора в эту комнату, и всякого, кто придет к ней, принимала в маленькой отдаленной горнице, говоря, что она отдала весь дом внаем. Молодая графиня много смеялась употреблению, какое было сделано из атласа. — Ведь это не водится, милая бабушка! Кресла и диваны не обивают материей, вышитой золотом и блестками; это очень неудобно; шитье будет рвать платье. — Э, дитя мое! кто будет сидеть на них? Кому я позволю? Пусть будет так, оставь мне, старухе, это утешение; посмотри, как красиво! Глаз не хочется отвести!.. Ну, а если тебе неловко сидеть на них, потому что цепляются за платье, я закрою их чехлами плотными, вот и все будет хорошо. Степанида застановила окна транспарантами, прекрасно расписанными; на двух столиках поставила две вазы с цветами. Она беспрестанно что-нибудь поправляла, охорашивала, ходила на цыпочках и спрашивала шепотом: — Покойно ли тебе, дитя мое? Все ли по мысли? Не надобно ли чего? Говори, мое сокровище ненаглядное, старая бабка твоя все тебе достанет. Фетинья с нежностью обнимала ее, а граф, скрывая невольную усмешку, говорил: — Как вы добры, милая наша бабушка! Вы столько делаете для моей милой Фаннички, что, кажется, ей уже нечего более и желать. Старуха бормотала про себя: «Фанничка! Фанничка! Охота переиначивать христианское имя на бог знает какое!» Так прошло время до родин. Молодая супруга разрешилась дочерью, столь же милою, как сама. Граф с восторгом заметил, что дитя походит на свою бабку-графиню. «Наша дочь будет залогом нашего примирения с маменькою, милая Фанни! Увидя себя вновь расцветшею в этом прелестном ребенке, она смягчится и простит». В этой надежде они дали новорожденной имя графини: Людмила. Но прежде Фетинья выпросила согласие на это своей бабки. — Хорошо, хорошо, милочка! Делай, как тебе лучше. Хоть гордая твоя свекровь и не стоит, чтоб такой херувимчик назывался ее именем, да уж быть так! К тому ж ведь она графиня, моя крошка, а графинь Степанидами не называют, это имя крестьянское. Пусть уж она будет Людила. — Людмила! Милая бабушка! — Ну Людмила, что ли, все равно. Фетинья сама кормила дочь свою. Степанида советовала жить у нее, пока дитя отбудет кой-какие болезни, свойственные первым неделям жизни их. Граф, уступая справедливости замечания ее, что трудно будет скрываться всякий раз с ребенком, который может иногда сильно расплакаться, согласился, чтоб его молодая графиня осталась на полгода в своем родном приюте. В продолжение этого времени граф делал несколько покушений уничтожить предрассудок матери и истребить ее предубеждение против простого народа, но тщетно. — Ведь они люди, такие ж, как и мы, милая маменька, имеют одинаковые с нами чувства, имеют добродетели, ум, красоту, дары нашего создателя принадлежат им, равно как и нам; пред лицом бога мы все равны! — Неоспоримая истина, любезный граф, и я буду твоего мнения, когда предстанем все перед лицо божие, но пока мы еще здесь, на земле, так я предлагаю тебе верное средство узнать, равны ли мы с ними: поезжай к князю Голирудскому, самому снисходительному из вельмож, поезжай к нему вместе с твоим Егором. Он ведь очень неглуп и хорош собой, дары создателя видны на нем. Прием князем его перескажи мне. Насмешка графини жестоко оскорбила графа. Через полгода молодая графиня переехала опять к мужу. Ее Людмилочка была очень тиха и имела редкое качество в детях — никогда ни от чего не плакать, разве сильно уже болело что-нибудь у нее, тогда она только пищала тихонько, и то изредка. С таким ребенком легко было укрыться от графини, да сверх этого она совсем перестала ходить далее диванной, и это до того осмелило затворницу-графиню, что она часто сидела в угловой комнате с маленькою Людмилою, когда старая графиня разговаривала с сыном в диванной. Через год Фетинья родила еще дочь, и опять ни она, ни Георг не смели назвать дитя именем ее прабабки. «Что нам делать, моя Фанничка! Бабушка твоя, может быть, осердится, но ведь это имя: „Степанида!“ будет одним препятствием больше к получению согласия маменьки; назовем ее Верою». Добродушная Степанида, нимало не обижаясь, что и другая правнучка не будет носить ее имени, с нежностью целовала глаза молодой графини, когда та с замешательством, краснея и прижимаясь к груди старушки, говорила: — Бабинька! Жорж хочет назвать дочь нашу Верою; говорит, что имя это имеет великое значение и всегда приносит счастье тому, кто им называется. — Ох ты моя черноокая лепетунья! Чего ж ты так краснеешь, и жмешься, и ластишься!.. Дитя ты мое бесценное! Неужели думаешь, что бабка твоя на краю могилы будет столько глупа, чтоб досадовать, для чего не назвали ее крестьянским именем графскую дочь? Успокойся, моя милочка! Назовите ребенка, как вам кажется лучше; я все равно буду любить его.
— Сочтите, граф, что я ничего не видала! — говорила графиня, уходя и высвобождая легонько платье свое из рук сына, влекшегося за нею на коленях и тщетно умоляющего остановиться. — Матушка!.. матушка! — говорил он голосом отчаяния. — Троньтесь плачем детей моих! Взгляните на них, они ваша кровь! Простите нас! Неужели вам так трудно подарить счастьем сына вашего! В продолжение этой сцены юная графиня, бледная, с полными слез глазами, стояла тоже на коленях, на этом самом ковре, где за минуту до того играла дочь ее. Обе девочки, прижавшись одна к другой, плакали несмело и смотрели с испугом на свою неумолимую бабушку. Маша стояла на пороге в том самом положении, в котором остановилась, когда вид графини Тревильской-матери, заставив ее закричать от ужаса, приковал на месте. — Сочтите, что я ничего не видала, граф; успокойтесь! Оставьте мое платье, что с вами! Отчего вы так встревожились! Повторяю вам, что я ничего не видала, ничего не знаю! Граф оставил наконец неумолимую мать. Она ушла; Жорж поднял свою Фанни. — Полно, милая жена, не плачь. Конечно, гнев матери моей большое несчастье для меня, но он ничего не может сделать тебе; брак наш утвержден законами. Предоставим все воле божией! Возьми детей, Фанни! Полно же, полно, перестань! Может быть, еще матушка и умилостивится; дадим время утихнуть ее гневу. Утешая жену и обнадеживая прощением матери своей, граф ни минуты не сомневался, что не получит его: брань, гнев, упреки были б ему порукою, что через несколько дней они заменятся ласками и милосердием. Но холодные, равнодушно сказанные слова: «Сочтите, граф, что я ничего не видала», — пронзили ужасом и горестью сердце графа. Он был уверен, что других не услышит. Давняя болезнь графини развилась с ужасною быстротою и в несколько дней поставила ее на краю могилы; но дня четыре графиня была довольно бодра, то есть держалась на ногах; выходила в гостиную, в столовую, обедала, пила чай вместо с сыном. Однако ж видно было, что жизнь потухает в глазах ее и лицо постепенно начинало покрываться бледностью смерти. Несчастный граф с воплем отчаяния бросался к ногам матери, обнимал их и обливал горькими слезами: что уже оставалось говорить ему? Мать его быстро сходила в могилу! На пятый день графиня слегла в постель, в шестой поутру исполнила долг христианский и, видя сына, в немой горести распростершегося у ног ее, положила руку на его голову: — Милый Жорж, сын мой! Успокойся! Я благословляю тебя!.. — Помолчав с минуту, она проговорила вполголоса: — Не плачь же, не плачь! Прости! Живи счастливо! Я ничего не видала! Это были последние слова ее, она более не говорила и в десять часов вечера умерла. День первого мая так же был ясен и тепел теперь, как четыре года тому назад; так же тьма карет катится к месту гулянья; толпы пешеходов теснятся на тротуарах, площади, идут густою массою, шумят, смеются, толкуют, хвалят или осмеивают экипажи и сидящих в них. Вот и кареты Федуловой и Тревильской едут по этой же улице, но только они едут по другой стороне и, по-видимому, совсем не для гулянья: впереди их тянется погребальная процессия и везут два гроба. Один блистательный, с короною и гербами; другой простой, черный, с недорогими серебряными украшениями. В обеих каретах занавески окошек опущены. Внимание толпы было обращено на богатый гроб, пока его провозили мимо. — Не знаете ли, чьи это похороны? — Раззолоченный гроб графини Тревильской; а простой, черный, купца Федулова. — Не того ли, что был очень богат и так скоро обеднел? — Того самого. — Видно, с горя. — Видно, что так. Процессия повернула за угол, скрылась из виду, и толпа, провожавшая глазами блистательный кортеж богатого гроба, забыла о нем в ту же секунду и навсегда. На другой день похорон граф оставил свое отечество с тем, чтоб никогда в него не возвращаться. Он не хотел присутствовать при открытии завещания его матери и просил Сербицкого заступить его место при этом случае. Завещанием графини имение ее в случае женитьбы графа на девице низкого происхождения возвращалось в фамилию князей Мазовецких. По числу видно было, что графиня сделала это завещание вскоре после того объяснения с сыном, которым он дал знать ей, что не женится ни на ком, кроме дочери Федулова. Через год граф писал к Сербицкому, прося его продать часть имения, ему принадлежавшую, и деньги прислать туда, где он решился основать свое пребывание навсегда. Об этом поговорили с неделю и забыли. Степанида, проводя внучку, доживала дни свои схимницей; молилась богу, делала много добра. По целым часам сидела в раздумье перед портретом Фетиньи, иногда плакала, но всегда уже оканчивала мысленную беседу свою с этим портретом словами: «Пусть бог благословит тебя, мое сокровище бесценное! Будь счастлива и здорова, где б ты ни была!» В конце сотого года жизни своей Степанида умерла; свое имущество, деньги и дом завещала церкви, которой была прихожанкою, прося употреблять все это для выгод храма, в котором так долго молилась. Взамен своего приношения предложила одно только возмездие для себя: чтоб богато убранный угол ее дома остался неприкосновенным, чтоб никто никогда не жил в нем; мебель его чтоб всегда оставалась на своих местах; чтоб портрет на стене, над диваном, всегда там и оставался и был закрыт шелковым занавесом и, наконец, чтоб пред иконою богоматери всегда горела, не угасая день и ночь, лампада с самым лучшим маслом. И все это чтоб продолжалось до конечного разрушения дома, который никому и никогда не продавать. Завещание Степаниды исполнялось в точности многие годы, и парадный угол маленького домика привлекал много любопытных. Дряхлая Акулина прихаживала иногда и рассказывала посетителям историю угла, убранства и портрета со всеми возможными прибавлениями. Федулова долго грустила, ездила плакать на могилу мужа и наконец написала к дочери, что одиночество сведет ее с ума; что если графиня сама не может приехать к ней, то хоть бы прислала меньшую дочь, графиню Веру. Это повторение: графиня да графиня! — показало Фетинье, что мать ее все та же и что печаль ее о смерти мужа начинает проходить. Она решилась предложить ей переехать к ним. Бог знает уже, как уцелел последний ум Федуловой, когда она получила это приглашение. «За границу! — говорила она сама с собой, важно расхаживая по комнате. — За границу! В чужие края!.. В газетах будет напечатано, что я выехала за границу! Все знатные дамы ездят в чужие края!» Сумасбродная старуха, не раздумывая, поехала в чужую землю, а родине своей посвятила — вздох и гримасу; первым простилась с могилою своего мужа, а второю почтила угол, мимо которого необходимо надобно было проехать.

Е. А. Ган Суд света{35}
Er ist dahin, der süße Glaube An Wesen, die mein Traum gebar, Der rauhen Wirklichkeit zum Raube, Was einst so schön, so göttlich war.Schiller[25]
Qual cor tradisti Qual cor perdisti Quest’ óra orenda Ti manifista.Romani[26]


— Честь имею поздравить ваше высокоблагородие с походом! — крикнул курьер, пристукнув шпорами и останавливаясь неподвижно у дверей. Поход! Это известие застигло наше маленькое общество в самую поэтическую минуту военной жизни, — разумеется, мирного времени, — в декабрьские сумерки за чайным столом, когда кипящий самовар, нагревая парами морозный воздух хаты, стягивает в один тесный кружок всех присутствующих, а чай, разливаясь горячею струею в окостенелых членах, проясняет мысли, развязывает языки, придает живость и беглость разговорам. В такую-то минуту слово «поход», свалившись к нам будто с неба на чайный стол, потрясло все сердца электрическою силою. Чай забыт, сигары и трубки отброшены, — вопросы, говор, суета, как будто завтра назначено выступление. Не прежде как по прошествии часа тревога утихла, все уселись на прежние места и пустились хладнокровнее рассуждать о будущем житье-бытье. Перемена квартир — эпоха в военной жизни, зато и переход стоит доброго периода, — но о нем в ту пору еще не думают. Офицеры обыкновенно хлопочут, много ли вокруг их будущего жилья богатых помещиков, гостеприимны ли они, любят ли военных? Командир, вооружаясь счетами, раскладывает выгоды и невыгоды квартированья в такой-то губернии, а жена командира мысленно укладывает в обозы свои чепцы и тюрбаны, если она заражена манией мод, книги и ноты — если она имеет претензию на просвещение, — и заранее размещает умственно в огромной походной карете своих детей, нянюшек, горничных и шпицев. Месяца за два начинают приготовления, хлопоты, и вот настает жданная минута, — трубачи, трясясь на серых лошадях, дают сигнал, конные строи трогаются, затягивают удалую песню и с богом выступают на широкий путь! Привалы, обеды, ночлеги, дневки следуют длинной чередой, не разнообразя даже праздного времени; окрестности изменяются медленно, как декорации на провинциальном театре… Питомец Аполлона, искусно из всего выжимающий поэтические сравнения, быть может, уподобил бы и наше шествие какому-нибудь идиллическому случаю жизни человеческой, но мы, знакомые с походом не по живописным описаниям литераторов, вышедших в отставку, а на деле, не можем приискать ему вернейшего сравнения, как с скучной, вялой прозой: ведь и ее разнообразят запятые и точки! Вот последний переход; обетованный край близок! — пришли, расположились, осматриваешься; новые лица, обычаи, новые отношения, всякий шаг в общество — словно шаг по замерзшему льду: ощупываешь и пробуешь, где надежнее поставить ногу. Впрочем, молодым людям не долго освоиться: две-три кадрили, и они знакомы, дружны, влюблены; все затруднения остаются на стороне дам, жен офицеров и командиров. В обществах так любят танцоров с блестящими эполетами, что их не подвергают строгому разбору; помещицы и горожанки принимают их с благоволением, помещики и горожане приглашают их на обеды и вечера, в угождение своим повелительницам. Но жены военных, — о, это другое дело! Судьи женского рода осматривают своих вновь прибывших соперниц не весьма доброжелательным оком, строго разбирают их наряды, черты лиц, характеров. Это две чуждые между собою нации, две разнородные стихии, — не легко и не скоро соединяются они в одно дружное целое. Что же, если, по несчастию, одна из этих налетных госпож отличается чем-нибудь от прочих — красотой, талантами, богатством! Если злодейка-молва, опережая ее, приносит весть о ней на новые квартиры и еще до приезда ее возбуждает любопытство, подстрекает соперничество, язвит самолюбие, задает оскому зависти, — и эта тощая, желтолицая фурия заранее точит зубок на незнакомую, но уже ненавистную жертву? «Но что может так сильно расшевелить страсти женщин? Какое превосходство, какое отличие?» — скажут мои добрые читательницы. Ах, боже мой! повторяю: маленькое отступление или выступление из общего круга обыкновенностей; рельеф на гладкой стене общества. Вообразите себе поручицу чудной, поражающей красоты, капитаншу, уроженку Северной Америки, переброшенную случаем с берегов Миссисипи на берега Оки вместе с миллионом приданого или хоть с приложением какого угодно чина, писательницу, то есть женщину, написавшую когда-нибудь в досужный час две-три повести, которые попались впоследствии под типографский станок. «Что? Капитанша или поручица писательница?.. Да это вздор! Этого нет и быть не может! — возразят мне многие и многие. — Правда, писала Жанлис, так она была придворная, графиня! Писала Сталь, так отец ее был министром, — обе получили высокое образование, но кап…» Однако ж предположим, хоть для шутки, что в толпе вновь прибывших офицеров является рука об руку с одним из них женщина-писательница. Все заранее знают об ее прибытии, собирают об ней слухи, рассказывают вести бывалые и небывалые, — наконец она прибыла, она здесь… Ах! Как бы ее увидеть! Она, верно, носит на челе отпечаток гения; верно, только и говорит о поэзии да о литературе; высказывает мнения свои вроде импровизации, употребляет технические термины, носит с собою карандаш и бумагу для записывания счастливо мелькнувших идей!.. С подобным предубеждением собираются осмотреть прибывшую писательницу. Проходит неделя, две… — Ма chère[27], приезжай в четверг ко мне обедать. — А что у вас, именины? — Нет, у меня обедает мадам*** — знаешь, писательница. — Ах, очень рада, посмотрим, что за писательница. — А вы, Авдотья Трифоновна, хотите познакомиться с ней? — Не то чтоб познакомиться, а так, взглянуть приеду. — Вы читали ее сочинения? — И нет! Есть-таки мне время читать этот вздор. — Да что такое написала она? — Так себе — пустячки, верно, выкрадено из «Revue etrangère»{36}. — Ах, нет, машерочка, чисто подражание Марлинскому{37}. — Хе, хе, хе! Далеко кулику до петрова дня! — Позвольте уж и мне попользоваться в четверг вашим обедом! — восклицает воспеватель всех торжественных происшествий …ского уезда. — Позвольте ради вашей красоты! Я давно желал встретиться с ней, посудить об ее уме и талантах, задать некоторые вопросы, высказать откровенно мое мнение насчет ее творений, — гм… думаю, она примет с благодарностью мои советы! — прибавляет он с блаженным самоубеждением, поглаживая розовые отвороты своего голубого бархатного жилета. — Ах, душонок! Я слышала, что если найдет на нее вдохновение, то где бы ни была она, на балу, в карете или на берегу реки, она тотчас начинает громко декламировать. — Ах, если б в четверг нашло на нее вдохновение! — восклицает наивная уездная барышня. — А знаете, ведь говорят, что все героини ее романов списаны с нее самой. — Как так? — Да просто, кто ни возьмет в руки перо, то, смотри, себя и опишет. — Ну, как же это можно, помилуйте? Ведь ее героини не все в одной форме испечены! Эта — деревенская девочка, та — светская дама, одна восторженна, другая холоднее льда, первая русская, вторая немка, третья дикарка, башкирка что ль?.. — Э… да вы забыли, — восклицает догадливый поэт, — что она не просто женщина, а женщина-писательница, то есть создание особенное, уродливая прихоть природы, или правильнее: выродок женского пола. Ведь родятся же люди с птичьей головой и козьими ногами, — почему ж не допустить, что душа ее, созданная по образу и подобию хамелеона, прикинется такой-то, спишет с себя портрет да и обернется в другую форму. — А… видите… — Ну, разве что… — произносят нараспев две-три барыни, слепо верующие во все сказания великого поэта. — Так скажите ж, пожалуйста, — говорит почтенная старушка, поседевшая в святом незнании вещей мира сего, — скажите, она вот так-таки и пишет, как в книгах в слово печатают? То есть, так сказать, как она напишет, то слово по тому и напечатают? И на утвердительный ответ она изъявляет желание видеть женщину, которая умеет так писать, как в книгах печатают. Настал роковой четверг, бедная писательница едет в невинности души своей обедать, не подозревая, что ее приглашали напоказ, как пляшущую обезьяну, как змея в фланелевом одеяле, что взоры женщин, всегда зоркие в анализе качеств сестер своих, вооружились для встречи с нею сотнею умственных лорнетов, чтоб разобрать ее по волоску от чепчика до башмака; что от нее ждут вдохновения и книжных речей, поражающих мыслей, кафедрального голоса, чего-то особенного в поступи, в поклоне, и даже латинских фраз в смеси с еврейским языком, — потому что женщина-писательница, по общепринятому мнению, не может не быть ученой и педанткой, а почему так? Не могу доложить!.. Боже мой, ведь как подумаешь, как многие всю жизнь свою сочиняют и беспошлинно рассевают по свету небылицы — и никому не вздумается выдавать им патентов на ученость оттого только, что они сочиняют словесно! За что ж, чуть бедная писательница набросит одну из вышереченных небылиц на бумаге, все единогласно производят ее в ученые и педантки?.. Скажите, отчего и за что такое непрошеное талантопочитание? И потом, она ни с кем не может сойтись. Одни воображают, что она тотчас схватит их слепок и так-таки живьем передаст в журнал. Другим вечно мерещится на устах ее сатанинская улыбка, в глазах сатирическая наблюдательность, предательское шпионство — даже и там, где, право, всякое шпионство было б ковшиком, черпающим из воздуха воду, — все в ней будто не так, как в других женщинах… да не знаю что, а истинно что-то не так! Посудите же по этому бледному очерку тысячной доли того, что достается бедной писательнице, каково бродить ей по свету, быть везде незваной гостьей, вечно ознакамливаться. Едва узнают ее в одном месте, едва привыкнут видеть в ней женщину без жесткого прилагательного «писательница», едва приголубят добрые люди, — как вдруг поход, перемена квартир — начинай снова знакомства с азбуки. Впрочем, от последнего неудобства я была избавлена в Новороссийском крае, где нам назначили квартиры в большом казенном селе, вокруг которого, на пространство десяти верст, не было ничего более, кроме степи, болота, песков да таких же казенных селений. Ехать с визитом к людям незнакомым, за пятьдесят верст, — довольно трудно и скучно! Но, не застав дома хозяев, ночевать в их деревне, в грязной хате мужика, рядом с его родными, потомками и домашними животными — это высшая из неприятностей. И вот чему я была подвержена в один вечер, вот чему обязана — сладчайшими минутами моей жизни. При таком сознании как не поместить хоть в скобках: неисповедимы пути всевышнего! Разгневанная моим неудачным посещением, я сидела, прижавшись в угол под образами, в ожидании чая, для которого хозяйка кипятила воду в жирном горшке. Вокруг, на печке и под печкой, копошилось и визжало ее семейство. Подалее у дверей хозяин толковал о чем-то с другим приезжим мужиком. Невольно, уж, конечно, не из любопытства, и стала прислушиваться к их разговорам: хозяин в самых смешных и гневных выражениях жаловался на скупость помещика; приятель его, напротив, осыпал такими благословениями своего владельца, отзывался о нем с жаром, столь несвойственным флегматическому хохлу, что я вмешалась в их разговор, желая узнать имя редкого филантропа-помещика. — Дмитрий Егорович Влодинский, — отвечал мне крестьянин. Влодинский?.. Эта фамилия как будто мне знакома, не знаю, где, когда я слышала ее, но только давно, давно. Разговаривая далее, я узнала, что этот Дмитрий Егорович Влодинский холост, был очень богат, но еще в молодых летах раздал все имение детям сестры своей, оставив за собою не более пятидесяти душ крестьян; что одна из его племянниц, отказавшись, подобно ему, от брака, поселилась с ним, приняла на себя все хлопоты хозяйственной части; нежит и любит его, как отца; и что эти странные люди живут затворниками, совершенно отрекшись от всякого сообщения со светом. Вот что узнала я из запутанных речей крестьянина, когда, вздумав спросить его об имени племянницы Влодинского, услышала имя и фамилию давно знакомой мне девицы, с которой я росла и воспитывалась вместе до четырнадцати лет. В тот же вечер мой собеседник обращен в Меркурия{38} дружеской переписки, и как Влодинский жил верстах в двух от моего ночлега, то на другой же день с рассветом я получила ответ, приглашение и через полчаса очутилась в объятиях моей лучшей, любимой подруги, Елизаветы Николаевны З. Нужно ли говорить, что наше знакомство, наша дружба возобновились, что мы виделись очень часто, хотя я лишена была удовольствия принимать ее у себя в доме. Она более двенадцати лет не переступала за рубеж своего имения, не покидала ни на один час своего отшельника-дяди. Даже в моем присутствии она делила время между мною и им, потому что Влодинский был для меня, как и для целого света, невидим, и в продолжение двухлетних посещений моих я видела его всего два раза, и то мельком, случайно. Да не заключат из этого, что он был человеконенавистник, капризный калека, подагрик или, по крайней мере, натуралист, обративший свой кабинет в кладбище всех родов животных и насекомых. Нет, он не страдал ни одной из хронических болезней; крестьяне, не только его села, но даже всех окрестных деревень, благословляли его щедрость и всегдашнюю готовность служить ближнему; характер его был постоянно тихий, кроткий, без малейшего оттенка прихоти или капризов; и он не имел особенного пристрастия ни к одной науке, хотя был очень сведущ во многих. Он не был даже стар годами — по словам племянницы, ему едва минуло сорок лет, — но страсти или горе устарили его, и по наружности ему можно было дать семьдесят. Лицо его иссохло, изрылось морщинами; черты, чрезвычайно правильные и нежные, казались еще нежнее от матовой бледности и серебристо-седых волос. В его глазах без света и без взора отражалась такая истома, такое мертвое бездействие всех чувств, что с первого взгляда в нем виден был жилец не нашего мира. Восемнадцать лет прошло с тех пор, как он, вышедши в отставку в первом цвете молодости, зарылся в уединении, прервал все сношения с людьми, отдалил от себя все знакомства, все удовольствия общества и с того времени ни разу не изменял своему отшельническому образу жизни. Но, умерши для себя, он, казалось, жил двойною жизнью для других. Самое высокое, чистейшее самоотвержение было законом его бытия; броситься в воду и в огонь для спасения последнего нищего, лишить себя необходимого для обогащения бедняка, являться всегда и везде непризванным по горячим следам несчастия — все это служило пищею, воздухом его жизни. Сколько ни даровал ему господь способностей ума, сил душевных и телесных, сокровищ земных, все, без изъятия, расточил он для других, все отдал другим, как будто собственно ему ничего не было нужно. Он имел одну только сестру, которая давно не существовала; все дети ее были воспитаны и пристроены им, и до какой степени боготворили они его, лучшим свидетельством тому была моя подруга, принесшая ему в дар всю свою жизнь. Девушка эта, в семнадцать лет, созданная телом и душою для украшения общества, отреклась от него, от счастья семейного быта, она облеклась в схиму для того только, чтобы нежными заботами отдалять от дяди беспокойства домашней жизни, вниманием и предупреждениями покоить его измученное тело и порой своею беседой отгонять от ума его страдальческие воспоминания. Лучшего, высшего утешения — врачевать душу скорбящего — она была лишена, не зная, не догадываясь даже о причине вечного горя, точащего его, как червь могильный, и так же глубоко, так же недосягаемо зарытого в груди его. Она не ведала, какая гроза испепелила его сердце, иссушила начало всех жизненных сил; что вытолкнуло его из круга людей, их злоба или собственные преступления, ненависть к ним или к самому себе; не видела, отрады ль или прощения вымаливал он у неба, и слезами, которых одни следы видела она по утрам, поливал ли он язвы своего сердца или силился смыть ими кровавые пятна неизгладимого греха… Все было и оставалось для нее тайною; и, однако ж, она превозмогла все препятствия, вырвалась из объятий родных, презрела приманки света, настойчивостью поборола самое сопротивление дяди, который долго отталкивал ее жертву, и заперлась с ним в его убежище делить с ним тяжесть его душевного бремени. В околотке странно отзывались о Влодинском, приписывали ему много романтических происшествий, поговаривали о каком-то страшном событии, о преступлении. Одни рассказывали, будто в суматохе народов и властей он влюбился ошибкою в какую-то принцессу; чувствительные девы той страны еще наигрывали меланхолический вальс, который, по словам их, он сочинил когда-то в припадке любовного безумия; другие видели в нем сколок Борнгольмского изгнанника{39} и хлопотали только о том, что сестра была гораздо старее его. Отрекись он от света немного позже, когда в области поэзии явился новый, блестящий метеор, изумивший мир дикою гармонией своих песен, Влодинского непременно произвели бы в Чайльд Гарольды, в Лары, но, к несчастью, в ту пору ни Байрон, ни сплин не были еще знакомы степным помещикам, а после все свыклись и с житьем соседа-отшельника и, как водится, забыли о нем. Однажды, зная, что в то время он гулял в саду, я осмелилась войти в его кабинет. Голые стены, в беспорядке расставленные столы и стулья да огромная библиотека — вот все, что представилось моим взорам. Книги лежали всюду разбросанные в странном смешении: философы и риторы, классики и романтики, поэты и прозаики валялись на полу, на столах, на длинном турецком диване. Видно было, что ими занимаются часто, но без цели, не с удовольствием, а для сокращения длинного, гнетущего времени; что берутся за первое попавшееся под руку и нередко отбрасывают, не окончив страницы, как лекарство, слишком слабое для врачеванья столь сильных ран. В остальных комнатах заметно было то же небрежение хозяина ко всем удобствам жизни; в доме, как и в саду, еще проявлялись следы прежней роскоши, но все было запущено, пусто, дико. Словом, в этом жилище всякий угол свидетельствовал о присутствии человека, живущего без цели, без желаний, горемыки, который встречает и провожает череду однообразных дней, как каторжник, осужденный тащить бечевой тяжело нагруженные суда и вечером отправляться не к отдыху, а в обратный путь к тому же месту, откуда завтра должен был начинать тот же труд. Чье любопытство не заменилось бы состраданием при виде столь неутешной, безотрадной скорби? И какое сострадание не перелилось бы в благоговение в присутствии двух существ, идущих дружно рука об руку не на пир жизни, а ко сну могильному; идущих вместе ровными шагами, но разных душой, чуждых в думах, в слезах, всегда с готовою улыбкой, с одобрительным словом для другого, с одинокой, безраздельной кручиной для себя? Однообразны были наши свидания с моей подругой, нешумны и неговорливы наши беседы, но я не отдала бы их ни за какие удовольствия многолюдных обществ. После двухлетнего пребывания в …ском уезде семейные дела отозвали меня на другой конец России, и когда месяцев через пять я возвратилась домой, меня встретили вестью о смерти Влодинского. Тогда чаще прежнего я стала навещать его осиротевшую племянницу. Неутешная в своей потере, она благословляла кончину, успокоившую страдальца после столь долгих, неусыпных мучений. Образ жизни ее ни в чем не изменился: она так отвыкла от людей, что не могла снова сблизиться с ними. Двенадцать лет привычки заставили ее полюбить уединение и одинокую жизнь. Несколько лет еще она исполняла на земле высокое предназначение, начатое ее дядею, благодетельствовать всем и каждому. Казалось, она оканчивала недожитое им существование, шла тем же путем, к той же цели, до которой он достиг только немного ранее; и, подобно ему, сошла она в могилу, не унеся с собой ни малейшего сожаления об отходе своем из света, но с разницей: он жаждал уйти от жизни, он звал смерть, а в ней ни жизнь, ни смерть не возбуждали ни желания, ни страха: обе представлялись ей равно неизведанными. Она была, но не жила в мире. Ее бытие было только дополнением другого бытия, добровольным даром тому, у кого судьба и люди все отняли. По смерти Влодинского под изголовьем его найден пакет с надписью на имя племянницы. То была его предсмертная исповедь — описание его молодости, его страстей, немногих минут, поглотивших всю остальную жизнь, и копия письма, которое всегда хранилось на груди страдальца и по его желанию опущено с ним в могилу. То и другое достались мне и долго таились в моем портфеле, скрытые от всех взоров. Но теперь, когда не осталось на земле человека, близкого лицам, участвовавшим в этой печальной драме, когда все свидетели ее исчезли из круга живущих или, рассеявшись по свету, забыли об обыкновенном в обществе происшествии, теперь я решаюсь представить моим читателям рукопись Влодинского как очерк двойного бытия женщины, картину светлой и чистой души, торжественно сияющей в своем внутреннем мире, и лживого отражения ее в мнениях людей, в этом предательском зеркале, которое, как поцелуй Иуды, льстя нам в лицо, готовит гонения, позор и часто даже смерть за плечами. Вот копия, списанная мною слово в слово с записки Влодинского и с заветного письма. «Настает время нашей разлуки. Я чувствую, близка блаженная минута освобождения моего от уз земных. Конец жизни, страданиям! Душа рвется в обетованную обитель вечного, радостного мира. Но, покидая землю, не хочу остаться должником твоим, мой единственный друг, моя отрада; не хочу уйти из мира, не поделившись с тобою всем, что счастливило, терзало и мучило мою душу. Давно хотел я высказать тебе причину моего отречения от света; не раз в твоем присутствии роковая тайна трепетала в устах моих; мне были укором твое бескорыстное самозабвение, твоя трогательная преданность, твое неведение, кому бросила ты в жертву невозвратимую пору забав, любви, наслаждения, для кого и с кем погреблась заживо в могилу… Прости, прости… Не мог я передать тебе словесно печальной истории моих заблуждений, моего греха; не смел вызывать разом всех воспоминаний моей молодости. Рыданья задушили бы голос в груди моей, кровь, а не слезы хлынули бы из глаз… И еще, прости! Я боялся, чтоб когда-нибудь впоследствии, хоть невольно, не мелькнуло во взорах твоих сострадание или сожаление: они для меня нестерпимы, я навек отринул их от себя… Ни с кем не делился я блаженством моим; не искал ничьей руки для опоры в годину бед и одиночества; не выпрашивал ничьего пособия для совершения черного, страшного преступления. Сложу ли теперь бремя кары своей на чужие рамена?{40} Растоплю ли горе свое чужими слезами? Усыплю ли жало совести на чужой груди чужими софистическими утешениями?.. Нет, нет! Судьба, осиротив меня еще в младенчестве, ясно указала мне путь мой. Одинокий в играх ребяческих, одинокий в жизни, в любви, в заблуждениях, в самой пытке раскаяния, сойду одиноким в могилу с гордым убеждением, что все, чем награждало меня небо, все, чем жалили люди, чем громил порою сам ад, все принимал я в душу свою, все хоронил в ней безраздельно ибезвозвратно. Есть что-то утешительное в добровольном постоянном одиночестве. Пока хоть одна мысль наша сообщается с мыслию другого человека, наши связи с людьми не разорваны: он держит ключ к выражению лица нашего, может предугадать движения нашего сердца, и есть минуты, в которые вы как будто зависите от него. Тот только может назваться полным властителем своим, кто умел зарыться в самого себя, на чьем лице улыбка и морщина остаются для всех иероглифами, чьи слезы в сильнейшем приливе не выступают из берегов души, но отливаются обратно в нее, все так же горькие, кипящие, непроницаемо глубокие. И не легче ль чувствовать слезу, капнувшую на сердце, чем видеть ее замерзшею на холодной груди равнодушного?.. Я свыкся с моим молчанием прежде, чем ты протянула мне руку на вечный союз в горе и отчуждении от света; чувства мои окрепли в своей оболочке, воспоминания вросли в душу: я должен теперь их вырвать с кровью своей, чтоб поделиться ими с тобою!.. К тому ж горе, как лампада, истрачивается в свете, разливаемом вокруг: я хранил свое в погребальной урне; оно тлело без искр, без воздуха, оно было вечно, потому что пища его ничем не истощалась. Да! Я хранил и берег мое горе, я питался, жил им, как некогда жил царь-скиталец, питаясь ядами… Прости же, что я не приглашал тебя на мой одинокий пир, не подносил тебе чаши пития моего. Теперь, когда я допил все, до последней капли, возьми опорожненный сосуд, меру моих страданий; прими последние силы моей памяти, чувств и жизни… Из этих листов ты узнаешь все и порадуешься моему отходу из мира… Тебе известны подробности моего детства, воспитания, раннего сиротства; ты знаешь, что мать твоя, старшая меня десятью годами, давно была замужем и жила в отдаленной губернии, в то время как я, едва спущенный с помочей, очертя голову бросился на поприще, тогда шумное и грозное, военных действий. Перевороты, потрясавшие одряхлевшую Европу, падение царств, неимоверное возвышение Наполеона, его гигантские подвиги, неутолимая жажда славы, его геройство, гений, гордая самонадеянность и постоянные успехи во всех предприятиях доводили до высшей степени напряжения дух молодых людей. Казалось, воинственные времена Греции и Рима воскресли; все, что могло владеть оружием, строилось под реющие знамена; никакое возвышение не казалось невозможным, никакая степень величия недоступною. Увлеченный общим стремлением, я также предался честолюбию, грезам о славе, и душа моя закрылась для всего, что не прославлялось звуками труб, не превозносилось кликами народов. Так прошли первые шесть лет моего вступления в службу до 1815 года, и только с того времени можно считать мое вступление в свет, потому что до той поры жизнь бивуачная не позволяла мне ознакомиться с жизнью света; я видел ее издали, урывками, переносясь из гостеприимных хором русского помещика в неприязненные общества польских панов, из будуара парижанки в чистенькие хозяйские домики Германии. В этой деятельной, полной тревог и разгула жизни, между вчерашней оргией в палатке и приготовлениями к завтрашней битве некогда было философствовать, разбирать людей и свет анатомически, поверять их нравы с теориями великих истин, которых так же много в мире умственном, как мало последователей их в сущности. В голове моей и в сердце не было ничего определенного, самобытного; из моих юношеских, восторженных понятий, перепутанных с холодными образчиками жизни существенной, из анекдотов и мнений товарищей, из чтения первой попавшейся в руку книги образовался самый пестрый хаос в моем разуме. Я шел с завязанными глазами; действовал, не отдавая себе отчета ни в одном из поступков своих; мыслил про себя и вслух, никогда не разбирая, почему так, а не иначе. Остроумие принимал за высшую степень ума; готовность подраться с приятелем, даже убить его из пустого недоразумения, — за доказательство рыцарской храбрости и благородства. С женщинами я был почти не знаком, но, благодаря самохвальству товарищей и нескольким французским романам, имел о них не весьма выгодное понятие. Мужчина был, по моему мнению, венцом всей видимой цепи творения; женщину считал я звеном второстепенным, переходом от мужчины к созданиям бессловесным: она казалась мне красивым, но не стоящим большого внимания цветком, растущим для минутного развлеченья человека в часы его досугов. Что касается до любви, то я ставил ее не выше анекдота, рассказанного за бокалом шампанского, стрельбы из пистолета в цель и чтения тупой эпиграммы… Таковы были мои идеи и мой характер на двадцать втором году жизни; таким застало меня мое перерождение. Во время общего движения войск, идущих частью для занятия квартир во Франции, частью обратно в Россию, наш полк остановился в Германии, в небольшом городке над Рейном. Там я занемог сильною нервною горячкою, и когда полк получил повеление выступить, я не мог отделить головы от подушки. Собрав свидетельства всего медицинского факультета, мой командир решился оставить меня до выздоровленья на месте и поручил попечениям своего приятеля, барона Горха, человека преклонных лет, бессемейного, душевно преданного русскому правительству. Тотчас по выступлении полка барон перевез меня, лежавшего в беспамятстве, в свой загородный дом и там, не прежде как по прошествии месяца, я начал медленно возвращаться к жизни. Едва наступала весна. Поместье барона Горха, расположенное в каком-то ущелье между горами, было окружено со всех сторон лесом и густым парком; ветер выл день и ночь в обнаженных деревьях, туман постоянно застилал окрестность, все было уныло и дико. Самый дом барона, принадлежавший к зданиям времен феодальных, был полуразрушен. Большая половина его стояла необитаемою и поддерживалась только гордостью владельца, который чтил ветхие стены замка как свидетельниц прошедшего величия своих предков. Даже комната, в которой злой медик осудил меня на продолжительное заточение, могла бы служить типом комнат рыцарских времен: высокая, со сводом, с карнизами, в которых оружие и дубовые листья перевивались с гербами баронов Горхов, с окном готической архитектуры, обращенным в сад; с массивною, неуклюжею мебелью и с рядом портретов во весь рост, которые не раз в припадках моей болезненной раздражительности бесили меня важной, надутою осанкой, в особенности женщины, жеманством, с которым стояли они, выпрямившись, перетянутые, как осы, с букетами огромных роз в руках. Все эти предметы глубоко врезались в моей памяти, смешались с воспоминаниями о колыбельной песне, об играх с няней; казалось, будто, возрождаясь к жизни, я вторично начинал бытие с детского возраста; я был слаб, прихотлив, как младенец, и, как он, ни в чем не подчинялся голосу рассудка. Когда мне сказали в первый раз обо всем случившемся во время моей болезни, я едва снова не впал в горячку. Мысль, что я остался один, как подстреленный журавль, на чужбине, когда все друзья и товарищи пошли домой, приводила меня в отчаяние. Я умолял всех и каждого отпустить меня, хотел скакать день и ночь верхом, чтоб догнать полк, когда не мог еще подниматься с постели без помощи другого. Барон и его домашний врач навещали меня регулярно два раза в день, проводили в моей комнате по получасу и, уходя, оставляли меня одного со старым слугою, который очень усердно за мной ухаживал. Кроме этих трех лиц, я не видал ни одной живой души в целом замке. Нужно ли говорить, что я грустил и тосковал невыразимо? Дни тянулись скучною вереницею, бесконечные, как минуты страстного ожидания. Одинокий, всеми покинутый, пригвожденный к постели, не раз метался я в ней, проклиная свой недуг, и в досаде, в нетерпении жаждал перемен хоть в том, что меня окружало, ловил малейший шорох, вслушивался во всякий скрип дверей, изобретал для себя тысячу занятий, чтоб хоть немного сократить время: то вызывал в памяти давно затверженные стихи, то считал мечи в карнизах и букли почтенных бабушек и тетушек барона, но чаще всего сидел, поддерживаемый подушками, против окна, глядел на колебание едва зеленеющих ветвей, и если случалось, что ранняя птичка, кружась и плавая в воздухе, с криком неслась в поднебесье, я провожал ее грустными взорами и завидовал свободе воздушной жилицы. В подобном положении застигли меня однажды сумерки. Темнело; колокол протяжными ударами возвестил семь часов; мой старый слуга Христиан оставил меня, по обыкновению, одного, полагая, что в эту пору я непременно должен спать. Тогда, глядя без мыслей на садовую тропинку, которая, начинаясь под моим окном, терялась вдали между густыми деревьями, я заметил человеческую фигуру. Это явление так было необычайно в замке, что я обратил на него все свое внимание. Фигура приближалась довольно скоро; я мог уже отличить темный цвет ее одежды; еще несколько мгновений, и я ясно увидел женщину, окутанную плащом, с вуалем, небрежно наброшенным на голову. Женщина? Здесь? Одна?.. В стенах шартрезского монастыря не сильнее удивило бы меня ее появление. Я смотрел на нее с напряженным вниманием, напрасно стараясь разгадать загадку ее присутствия. Она долго ходила вдоль тропинки; при исчезающем свете дня я не мог рассмотреть ее лица, тем более что кровать моя стояла довольно далеко от окна; но по ее походке, по быстроте движений я заключал, что она была молода, и в воображении уже приискивал для нее сходство с чертами прежде знакомых мне красавиц. Потемнело; она скрылась в чаще парка; я снова остался один с моими догадками и предположениями. До сих пор не могу объяснить себе причины странного отвращения, которое я почувствовал к расспросам об этом явлении у моего слуги. Он воротился, я не сказал ему ни слова и предпочел теряться в лабиринте моих фантазий. Ночью в лихорадочном бреду не раз казалось мне, будто одна из хорошеньких бабушек моего хозяина отделялась от холста, спускалась через окно в сад, ходила вдоль тропинки и потом, вставляясь в раму, снова принимала безжизненное положение… Конечно, странное впечатление, произведенное во мне появлением женщины в саду, должно приписать расслаблению и болезненной раздражительности нервов. В истоме бездействия душа моя, жадно бросаясь ко всему, что могло принести ей малейшее развлечение, прильнула всей силой воображения к единственной точке, поразившей ее новостью и нечаянностью. Утром я проснулся с мыслию о прогуливающейся красавице: такою я вообразил себе ее; и признаюсь, что, если бы под темным плащом и покрывалом представилась мне безобразная старуха, я счел бы себя хоть на время истинно несчастным. Барон и доктор посетили меня в обычный час; день прошел по заведенному порядку; начало смеркаться, и я с нетерпением стал выжидать минуты, когда слуга оставит меня в одиночестве. Он ушел, и ожидаемая вскоре явилась, на той же тропинке, в той же одежде. Она ходила, как накануне, быстрыми шагами, то приближалась ко мне, то удалялась, но напрасно я утомлял зрение, пытаясь рассмотреть черты ее: она представлялась мне неясно, сквозь двойной туман отдаления и сумерек, как призрак давно виденного сна. Однажды только ветер, сорвав с нее покрывало, вскинул его на сук дерева; тогда она отбросила на сторону плащ и, подпрыгнув, склонила к себе ветку, на которой парусилась кисея. Это движение, легкое, быстрое, не оставив во мне никакого сомнения в ее молодости, еще сильнее раздражило мое любопытство. Как накануне, она ушла с наступлением темноты; я долго следил ее глазами: мне хотелось отгадать по направлению ее шагов, куда скрывается неведомая, откуда появляется; но напрасно. Углубляясь в чащу дерев при мерцающем свете сумерек, она, казалось, тонула в струях вечернего тумана, сливалась с ним, как бестелесное видение, и исчезала, оставив только след безотчетной грусти в душе моей. Ночная пора навеяла на меня новые грезы, окрылила новой силой воображения, и игрой его воскресился старинный, некогда обольщавший меня вымысел германского поэта о лесной сильфиде, очеловеченной избранным любимцем… Не ты ли тот нежный призрак, создание чистейших частиц воздуха и аромата цветов, чувство без плоти, мысль, едва облеченная в прозрачные формы, — не ты ли это являешься страннику, заброшенному в царство дубрав твоих, чтоб свеять с сердца его кручину, чтоб усладить горький для него воздух чужбины?.. Долго занимали меня эти детские мечты; при виде незнакомки я любил забываться, предаваясь им, любил нежить ими огрубелое от возмужалости воображение. Ежедневно видел я ее, мою гуляющую сильфиду, в парке; иногда, если под вечер теплело, плащ заменялся шалью, вуаль откидывался, и ветерок взвевался и взбрасывал на воздух ее длинные локоны, но пора и место прогулки ни разу не изменялись. Не могу высказать, как я привязался, пристрастился к моей незнакомке; с какой тоской ждал вечера, нарочно притворялся спящим и по уходе старого Христиана в каком волнении срывал с себя одеяло, приподымался с подушек и, опершись спиною о стену, вперив взоры в даль, оставался неподвижным, пока не появлялась она. Она! Это название нравилось мне, и я довольствовался им, не любопытствуя узнать настоящего, потому что имена изобретены для отличия людей одного от другого, а она в ту пору одна населяла весь мой мир. От ее ухода считал я часы ночи и дня до ее вторичного появления; ее только ожидал, ею радовался, ее приветствовал мыслию и ласкал глазами; о ней думал, ею грезил в минуты болезненного сна. Прежде, остудившись от пыла юности, я вовсе не был мечтателем, но теперь болезнь и одиночество переродили меня. Оторванный от всех существенных благ, я создавал себе отраду в грезах; утешался в скудности насущной жизни богатством и пестротой моих фантазий и потому полюбил таинственность, которая окружала незнакомку, как поле, где привольно разыгрывались мои мечты. В этом тревожном и вместе сладком состоянии провел я более десяти дней; силы мои укреплялись, но доктор все еще не позволял мне вставать с постели. В один день весеннее солнце блистало в полной красе; я получил вести из России: мне было так легко, так хорошо, как давно не бывало. В обычный час явилась она: голубое платье веялось издали, покрывало спало на плечи, и лицо ее было совершенно открыто. Непобедимое желание взглянуть на черты незнакомки влекло меня к окну: я встал, шатаясь и опираясь на мебель, добрел до противоположной стены и там, склонившись головой к холодным стеклам, притаив дыхание, стал ожидать приближения ее. Она пришла: я увидел молодую женщину милой, но обыкновенной наружности, с физиономией, которая в толпе промелькнула бы никем не замеченною. В первое мгновение, когда мой жадный взор упал на лицо ее, я почти разочаровался, но при втором взгляде она мне показалась привлекательнее. Я следил за ней мыслию и глазами, и всякий раз, когда, дошедши до конца аллеи, незнакомка возвращалась в мою сторону, я открывал в ней новые прелести, лихорадочный трепет пробегал по моему телу, рука костенела на позолоченной головке гвоздя, которым поддерживался занавес, колена подгибались, не раз даже свет мутился в глазах моих, и я не мог оторваться от окна: я стоял, как узник, прикованный к решетке темницы зрелищем давно не виданного, великолепного солнца, стоял и не сводил глаз с нее. По прошествии часа я находил ее почти красавицей: воображение мое создало в ней красоту, незримую для взоров равнодушных, красоту, которую видит и обожает только один, в то время как другие люди, проходя мимо, оставляют ее без внимания или говорят: „Да, она недурна!“ Наконец она скрылась, тогда и я побрел к своей постели и, ослабевший, едва дышащий, но еще полный очарования, бросился на подушку. В эту ночь портреты красавиц уже не оживали в мечтах моих, сильфиды не вились в воздухе, мысли и даже чувства мои получали более существенности, более определенности. Я видел ее, разглядел ее черты; казалось, я высмотрел ее душу, я теперь знал ее, я был знаком с незнакомкой. Но вслед за одним удовлетворенным желанием зародись во мне сотни других: быть замеченным ею, поговорить с ней, сказать… что сказать?.. И снова кружилась голова моя, и снова идеи спутывались, темнели… На другое утро я проснулся поздно, солнце уже сияло, природа будто праздновала пришествие весны: я сидел на постели, и в то время как Христиан убирал комнату, я задумчиво смотрел в окно и чертил мысленно в струях воздуха ее портрет, как вдруг вовсе неожиданно увидел перед собой оригинал. Восклицание невольно вырвалось из груди, и в то же мгновение мне стало досадно на себя, зачем я обратил на нее внимание слуги: мне хотелось скрыть ее от него, от всех, сделать невидимкою, чтобы присвоить одному себе, но поздно! Христиан взглянул в окно, произнес протяжное „о-о“ и, снова принимаясь за щетку, которою сметал пыль, сказал с самодовольным видом: — Ничего! Не бойтесь! Это наша Frau Generalin…[28] — Какая Frau Generalin? — спросил я в сильном негодовании и вслед за моим вопросом должен был выслушать длинную историю о том, как некогда барон выдал дочь свою за русского дворянина, служившего при посольстве, как она уехала в его отечество и умерла и как потом дочь ее, внучка барона, сочетавшись браком с каким-то генералом, которого фамилии он никак не мог выговорить, приехала с ним в Германию и уже недели две как живет в замке, в гостях у деда. Сказать ли? Я с грустным чувством выслушал все эти подробности: они безжалостно обрывали цветы таинственности, которыми воображение мое увило незнакомку! Я дал простор мечтам, дал волю фантазии; старый Христиан себе неведомо развеял их и на место пленительных вымыслов и видений, на место всей поэзии, сладко нежившей мою душу, поставил холодное, тяжелое „Frau Generalin“. Мне тотчас представились супруги многих знакомцев моих полковых и бригадных командиров, в чепцах, в покупных шиньонах, танцующих матрадур с офицерами, подчиненными мужей, по наказу, и мне стало досадно на невинного Христиана. Он до того разочаровал меня, что вечером перед урочным часом я приказал ему задернуть окно занавеской и до ночи пролежал лицом к стене, не подымаясь с подушек. День спустя даже погода, благоприятствуя мне, отуманилась: пошел проливной дождь, и я, лишенный моих мечтаний, снова с праздною головой и пустым сердцем, впал в прежнюю скуку. Между тем здоровье мое приметно укреплялось; я вставал, ходил по комнате и, несмотря на все возражения медика, поговаривал об отъезде в Россию. Однажды вечером барон вошел ко мне с веселым лицом и, потирая руки, сказал: — Ну, мой любезный пленник, — так называл он меня в шутку, — не хочешь ли часа на два оставить свою клетку?.. Доктор позволяет, пойдем; только позаботься немного о своем туалете: ты встретишься с дамою… Я готовлю тебе славный сюрприз. Сердце мое сильно забилось; я отпрашивался от сюрприза, но упрямый старик настоятельно требовал, чтоб я шел за ним, и я повиновался неохотно, предугадывая, что дело идет о встрече с Frau Generalin. Я не обманулся. Мы вошли в гостиную, и я увидел ее… Она стояла у фортепиано и разговаривала с доктором. Меня представили; на ее приветствие я отвечал одним поклоном, желал и не мог оправиться от смущения, овладевшего мной, сбивался в речах, молчал или отвечал некстати. Мне страшно было взглянуть ей прямо в лицо, казалось, она по глазам отгадает во мне лазутчика ее прогулок; наконец барон, верно сжалившись надо мной, сказал своей внучке: — Ну, Зенаида, потешь же нашего пленника, я обещал ему сюрприз… Она села за фортепиано, проиграла знакомую мне прелюдию и запела одну из заунывных песен нашей родины. Давно не слыхал я ни русского слова, ни звуков русского голоса; ретивое запрыгало во мне. Барон со своими гербами и замком, незнакомка и Frau Generalin — все исчезло из моей памяти… Я бросился к фортепиано, с жадностию упивался томными переливами нашей родной мелодии… Зенаида прочла восторг в глазах моих, в отрывистом дыхании. Она поняла, что происходило в душе моей, и, сочувствуя ли мне или просто из снисхождения, долго не разрушала моего очарования. Песни следовали за песнями, изредка только прерываемые вариациями, которые, как горное эхо, вторили тем же напевам. Наконец она запела всем известную, всеми любимую в ту пору песню Среди долины ровныя. В ней было так много сходного с моим положением, с моими чувствами, что всякое слово ее потрясало все фибры моего сердца. Когда, проникнутая этой простой, но глубоко трогательной поэзией, она пропела с невыразимым чувством слова:
Возьмите же все золото, все почести назад,
Мне родину, мне милую, мне милой дайте взгляд… —
КОПИЯ ПИСЬМА ЗЕНАИДЫ Н***
«Влодинский, вы убили моего брата, отца, убили меня, но я пишу не с тем, чтоб укорять вас, а чтобы простить, — простить от всей полноты души, не сохранившей ни одного упрека против несчастного. Да, Влодинский, я прощаю вас. Вы слепец, а не преступник; вы только такой же человек, как все люди: более слабый и легкомысленный, чем злой; вы увлеклись лживой наружностью: да простят вас бог на небеси и ваша совесть на земли, как я вас прощаю! Когда взор ваш упадет на эти строки, мой прах будет уже покоиться с прахом семьи моей, наши души сольются в одну молитву перед господом, и он, милосердный, ниспошлет вам спокойствие, которого не дадут вам более ни шум света, ни мир одиночества. Вот все, что я хотела сказать, что желала бы запечатлеть в душе вашей, когда люди сметут мой прах с земли и имя мое с вашей памяти; вот что начертала я еще в ту пору, когда смерть отца и брата упала обвинением на мою голову и я, чувствуя, как все жизненные начала пресеклись в моем сердце, не думала пережить рокового удара… Провидение судило иначе. В то время как тело, повинуясь закону природы, упорно боролось с тлением, вся сила памяти и чувства вспыхнула во мне в последний раз. Я поняла, как трудно душе, даже отделяясь от тела, оторваться от всего земного, очиститься от всего, что было жизнью ее жизни. Да, Влодинский! На краю могилы я горю еще желанием оправдаться в мнении единственного человека, который умел понимать меня, желанием оставить имя мое незапятнанным хоть в одной благородной душе. К тому ж, мне кажется, когда пройдет ваша молодость, когда стихнут страсти, то даже для вас будет отрадно оправдание мое. Вы любили меня: я это видела и чувствовала. Вы посвятили мне все, что было прекраснейшего в вашем сердце и вашем бытии: не сладко ли же будет вам освятить память о вашей первой, чистой любви сознанием моей невинности? Вот что побуждает меня обратить к вам последний звук моего голоса: требовать от вас уважения хоть праху той, которая была до того горда, что не могла оправдываться при жизни и выпрашивать чувства, отвращенные от нее клеветою. В этих строках заключается исповедь заветнейших тайн души моей. Теперь я могу судить о себе со всем беспристрастием посторонней особы, потому что моя прошедшая жизнь уже отделилась, отошла от меня, готовой кануть в могилу. Верьте же словам моим, Влодинский, выслушайте меня терпеливо, со снисхождением к просьбе женщины, которая ни о чем более никого не попросит. Нас было двое; мы взросли в глубоком уединении. Не знаю, что было причиною отчуждения наших родителей от света и людей; думаю, их счастье. Им нечего было искать вне круга семейной жизни. Наши первые годы протекли под надзором их, охраняемые любовью нашей матери. О! какой любовью!.. Если я скажу вам, что она была нашей кормилицей, няней, наставницей, нашим ангелом блага на земле, то все еще не выражу той бесконечной, бескорыстной, всем жертвующей привязанности, которою счастливила она наше детство. Для меня в особенности тем драгоценнее были ласки ее, что нежность отца вся обращалась к брату. Однако ж я не знала зависти; напротив, когда понятия мои начали развиваться, я полюбила брата двойною любовью, любовью сестры и обожания моего к отцу; потому что я обожала его; потому что уважение всех окружающих нас, его высокое благородство, правдивость внушали мне благоговение, в то время как его строгое, безулыбочное лицо и постоянная молчаливость заставляли меня трепетать в его присутствии. Мать моя по характеру была точною противоположностью нашего отца. Молодая женщина с сердцем доверчивым, любящим, с умом живым и деятельным, она всему сообщала характер своей непорочности, во всех видела отражение собственной доброты; весь мир казался ей светлым и прекрасным, как душа ее. Под лучами этой теплой благотворной души развивались мои чувства и зрел ум, под ее влиянием протекла вся жизнь моя. Я рано начала жить, будто предчувствовала, что мне назначен недолгий век; я торопилась тешиться жизнью, угадывала по инстинкту, что моя прекрасная заря смутится бурями полудня. Мне не было еще тринадцати лет, когда скончалась наша мать; с нею кончились мои радости… Перед смертью она поручила мне брата, гораздо моложе меня, от рождения слабого и больного, и мне завещала спокойствие отца. С той минуты я была предоставлена полной, дикой свободе. Отец, убитый горем, посвятил себя исключительно воспитанию брата: я добровольно присутствовала при всех его уроках, и строгие суждения его об обязанностях гражданина, о чести, благородстве, готовности к самопожертвованию глубоко западали в мою душу. В остальное время я читала без разбору все, что заключалось в нашей библиотеке, бродила в рощах, в полях или, разделяя игры и упражнения брата, объезжала с ним верхом окрестности. Ум мой обогащался познаниями, воображение распалялось изучением геройских времен: я привыкала глядеть на мир в огромных объемах, знакомилась с великими событиями истории, со страстями и деяниями людей, облагородивших человечество, и оставалась чуждою только бледных мозаик вседневной жизни, не знала сказаний и обычаев только наших светских муравейников. Незаметно характер мой образовался по впечатлениям ума, закалившись в гордости, в твердости, в любви к родине и приняв все оттенки мужеских добродетелей. В нашем кукольном свете, так грубом со всей его утонченностью, мой ум и сердце зрели под влиянием понятий золотого века; с ними созрели они и окрепли. В пятнадцать лет я все понимала умом, все постигала сердцем; уже в ту пору мнения и чувства мои были выше всех внешних влияний; изменить их можно было не иначе как переплавив на огне одной из сильных страстей: тогда разве повиновались бы они новым впечатлениям, приняли бы иную форму? Сестра отца моего переселилась из Москвы в город, от которого мы жили верстах в семидесяти. Она навестила нас и, изумившись моей одичалости и неловкости, начала укорять моего отца, представила ему всю важность наружного воспитания для девушки, говорила так много и красно, что убедила его поручить себе мое преобразование. Я переселилась в ее семейство. Она была женщина светская, холодная, ко всему равнодушная, без всякой определенной черты в характере, без воли, без мнения и полагавшая весь ум и все достоинства в исполнении самых мелочных статей уставов общества. Всякая мысль, не прогнанная сквозь цензуру света, не наведенная его лаком, казалась ей преступлением; всякое самобытное чувство — грехом смертельным. Такими правилами вскормила она своих дочерей, и в этот-то омут упала я из моего мирного уединения; однако ж я долго еще не замечала его бездн и водоворотов. Меня, по робости, пугала мысль о вступлении в свет, но в воображении моем он представлялся великолепным театром, на котором разыгрываются блистательные роли, знакомые мне по истории и романам. Все лица, по моему мнению, двигались в нем стройно, согласно; все происшествия клонились к славной развязке. И в этот мир я принесла с собою сердце чистое, исполненное любви и теплого упования на доброжелательство людей, святые понятия об их добродетелях и пламенную веру в мою хоть малую долю счастья на земле. Не прошло и года, как мои невинные верования, мои чувства, для всех открытые, были измяты, раздавлены недружелюбием людей, их злоязычием и злопамятством, их упорным стремлением всегда открывать золото в кармане ближнего и черное зло в его невиннейших поступках. „Отчего это, почему это?“ — твердила я в недоумении, сравнивая сущность с рассказами моей матери, с суждениями отца, и переходила из одной крайности в другую. Я ожесточалась против всех и каждого. Бедные люди! Я винила их в том, что они были людьми, а не небожителями, какими рисовало их мое воображение. Я не могла верить, однако ж, чтобы весь свет был подобен тому, в котором началось поприще моей жизни; в толпе людей, окружавших меня, я не хотела признать человечества и от всей полноты души предавала его презрению. Это было основным камнем всех моих заблуждений. В доме тетки я жила в угнетении и совершенно отчужденною от всех. Никто не умел или не хотел понимать меня; я, со своей стороны, также не могла примириться с их образом мыслей и поступками: меня гнали, осыпали насмешками, на всяком шагу язвили мое самолюбие; и, наконец, мою застенчивость, твердость характера, которую они называли упорством, резкость мнений, нелюдимость мою — все приписывали недостатку ума и определили меня словами: „она глупа, следственно, неизлечима“. Я холодно приняла их приговор и с гордостью отвергла все средства к оправданию. Когда брату исполнилось пятнадцать лет, отец, желая наблюдать за первыми шагами его вступления в свет, определил его юнкером в полк, незадолго до того занявший квартиры в нашем городе. Тогда детская дружба наша с братом возобновилась и затянулась узами, запечатленными его драгоценною кровью. На нем соединила я всю нежность сестры, всю заботливость матери и, еще не исцеленная от ран, нанесенных борьбою с обществом, собрала все силы свои, чтоб указать ему скрытые камни, о которые разбилась в слепоте моей неопытности, чтоб охранить его возлюбленную голову от грозы, измявшей мою душу. Теперь настает пора, о которой мне трудно, больно рассказывать. На краю могилы я примирилась со всеми: не хочу никого обременять обвинениями; но не могу умолчать о главной эпохе моей жизни. Старшим начальником брата был генерал-майор Н***, он искал руки моей; но я так мало знала его, мне казалось так невозможным отдаться человеку нелюбимому, почти незнакомому, что я, не колеблясь, отказалась от предлагаемой мне чести, невзирая на все возгласы моей тетки. Но вскоре обстоятельства изменились. Брат мой сделал одну из тех шалостей, для которых военная дисциплина неумолима. Генерал имел право и хотел показать над ним торжественный пример своей строгости. Все старания наших родных остались безуспешными. И, затаив гордость, я решилась сама прибегнуть с просьбою к генералу! Случай скоро представился; при первом намеке моем о брате он принял холодный вид; на все мои моления, заклинания он отвечал пожатием плеч или протяжным: „крайне сожалею“, ссылаясь на обязанности начальника, наконец, когда, истощив все свое красноречие, я стояла перед ним в слезах, с отчаянием в сердце, генерал, переменяя вдруг тон и голос, начал говорить мне о любви своей и заключил все словами: „Начальник не может ничего извинить подчиненному, но легко простит все оскорбления брату!“ — и он оставил меня с низким поклоном. Участь брата была в моих руках, могла ли я колебаться? Но, размышляя о поступках генерала, я полагала его в заблуждении против меня и считала обязанностию открыть ему истину. „Он любит меня, — так думала я, — желание обладать мною понудило его быть неразборчивым в средствах к достижению своей цели“. Но, настаивая так упорно в своем желании, он, верно, считал меня ребенком с мягким характером, покорным всем новым впечатлениям. Отвергнутый однажды мною, Н*** мог еще надеяться, что привычка заменит чувство, что со временем его любовь вызовет мою взаимность, без того он, конечно бы, не добивался моей руки. Но я, даже для спасения брата, должна ли я была, забыв честь и совесть, оставить его в заблуждении? Не должна ли я открыть душу ему свою, уверить в невозможности его предположений?.. Своей свободой я могла располагать и радостно жертвовала ею спокойствию родных; но обмануть человека, воспользовавшись его слепою страстью, я не могла, не хотела, хоть бы от того зависела даже жизнь брата моего. Едва я вступила в свет, как многие уже искали было руки моей, но я отвергла все предложения, не оставив никому и тени надежды. Привыкши считать любовь и супружество нераздельными, я смотрела на них с особенной точки зрения. Посреди общего крушения моих светских идей одна только сохранилась во всей силе своей — идея о возможности истинной вечной любви. Я уповала на нее, верила в осуществление моей утопии, как в жизнь свою, и, нося в груди зародыш священного чувства, не истрачивала его на мелочные привязанности, берегла как дар небес, который мог осчастливить меня только однажды в жизни. Все изъяснения в прозе и стихах моих писателей казались мне жалко бедными, не стоящими и одной искры моего прекрасного огня. Чувствуя, сколько энергии таится в груди моей, каким раем любви могу я подарить любимого, я не желала продать своего сокровища за бедную лепту неимущего; считала преступлением слить чистое пламя с ракетным огнем, разбрасываемым на всех перекрестках, и лучше хотела задушить в себе неизведанным этот напрасный дар, который не мог ни дать, ни выкупить счастья, чем лицемерно посулить его легковерному искателю и зарыть потом в груди, чтобы довольствоваться его скудными крохами холодной полувзаимности. Вот как я понимала супружество, вот как хотела изобразить его генералу и предоставить суду его, может ли он искать счастья в связи, где нет даже надежды внушить сочувствие, не только любовь. О своем благополучии я и не думала с тех пор, как его бросили на весы с прощением брата. На следующее утро приехал генерал, — я приготовилась к его посещению, — по просьбе его мы остались наедине; тогда, исполняя свое намерение, я открыла ему свои чувства, образ мыслей, всю святыню души моей, недоступную еще ни одному смертному, и ждала его приговора. Н*** выслушал меня не прерывая, со снисходительною улыбкою опытности, потом подвинул ко мне стул свой и сказал: — Все мы тешились в семнадцать лет подобными мечтами; в мои лета смотрят на них, как на хрустальные игрушки: красивы, но не прочны! Вслед за тем он повторил свое предложение, я приняла его; брат получил прощение, не подозревая, какой ценою искупалась вся его будущность. Н*** требовал только, чтобы Всеволод не служил под его начальством, и взял на себя хлопотать о переводе его в гвардию. Всеволод тотчас уехал в Петербург с рекомендательными письмами генерала; отец одобрил мой выбор; я вышла замуж, извиняя решимость опытного Н*** страстью ко мне; но вскоре его заботливость о скорейшем выделе моего значительного приданого рассеяла и эту утешительную мечту. Судьба моя свершилась! Мне не оставалось более ничего желать, ничего надеяться; что могло принести мне время? Между тем тонкий, веселый ум моего мужа, приправленный всею едкостью иронии, ежедневно похищал у меня какое-нибудь сладкое упование, невинное чувство. Все, чему от детства поклонялась я, было осмеяно его холодным рассудком; все, что чтила как святость, представили мне в жалком и пошлом виде. Незаметно, вместе с верою моею в прекрасное, исчезали утонченность и разборчивость моих понятий. Шутки, доводившие меня прежде до слез, теперь не вызывали румянца на щеках моих. Я свыклась с любимым чтением мужа моего, с его суждениями, даже с грубыми каламбурами людей посторонних, которые, стараясь подладиться под тон хозяина дома, сыпали наперерыв остротами, не скрашенными даже его остроумием. Давно, еще до замужества, заметив, что лучшие побуждения мои перетолковывались в дурную сторону, что из всякого поступка, из всякого слова моего люди находили средство выжимать эссенцию смешного, я свергла с себя иго их мнения. Теперь оно показалось мне еще презрительнее, когда особы, называвшие меня глупенькой девчонкой, стали величать умной и любезной женщиной оттого только, что случай набросил на меня чин генеральши. Не связанная почтением к обществу, ни боязнью его приговоров, я жила в свете, как в пустыне, где лишь камни да перелетные облака были моими свидетелями; жила под влиянием собственного уважения к себе и примера моей матери, а людские мнения считала миражем, который никого не прохладит, не утолит ничьей жажды, а обманет тех только, кто смотрит на предметы издали, сквозь этот лживый пар. Никогда мысль преступная не оскверняла меня, но я не принуждала себя строго следовать общепринятым обычаям, не маскировалась перед толпой, не гналась за ее хвалами, не страшилась ее порицаний: словом, во всех чувствах и поступках я отдавала отчет только верховному судье да представителю его на земле — моей совести. Как обыкновенно случается, чем меньше заботилась я о людях, тем более хлопотали они обо мне. Глаза и уши этого вездесущего ареопага тщательно следили за мной; явное пренебрежение мое к его определениям ожесточало общество против меня и наконец посеяло в нем то мнение, которое впоследствии сделалось судом света и причиною моей погибели. Но в ту пору я не предвидела еще ничего грозного, быть может, оттого, что, не ожидая ничего, я вовсе не заботилась о нем. Свет безжалостно подшутил надо мной, осмеяв все понятия моего детства, развеяв все сокровища моих надежд. Ни одна мысль моя о нем не оправдалась, ни одно ожидание не сбылось. Единственный предмет, в котором я не нашла обмана, был ум человеческий — ум творческий, игривый, разнообразный, которому я издавна поклонялась еще в творениях его. В большом свете, где необходимая образованность и беспрестанный прилив чужих идей придают род блеска самым незначительным умишкам, даже истинно гениальный ум не столько поражает своею лучезарностью, как в совершенном мраке малого света. Там он сообщает другим свою живительную силу, озаряет умы других, и при свете его они также красуются, отражая заимствованное у него сияние. И к тому ж там внимание общества так развлечено пестротой окружающих предметов, что тысячи проходят мимо гения и не замечают его. Напротив, в быту, тесно очерченном застарелыми привычками и скудной вседневностью, которые давят и нередко уничтожают все способности в зародышах, в глуши, куда с трудом пробивается только предсветный луч просвещения, человек с высоким умом и познаниями блистает, как дивный метеор. В подобном быту прозябала я, в только эти редко встречаемые метеоры привлекали мое внимание, возбуждали во мне непритворное удивление. Правда, что порою, обрадованная встречей с умным человеком, очарованная силой и блеском его ума, я была рада новому знакомству и случаю перелить свои идеи в светлое воображение, была даже не строго разборчива в предметах наших разговоров; но, свыкнувшись поневоле с свободным изъяснением мыслей плоских, пошлых, как было мне не извинить в умном человеке свободного выражения, увитого всеми цветами остроумия? Тогда, невольно ища в себе того, что так высоко чтила в других, я не могла не заметить сбивчивости и неопределенности моих познаний и потому с новым жаром принялась читать, учиться, размышлять. В обществах начали окружать меня большим вниманием, одобрениями; я отвергла бы с презрением лесть, относящуюся к моей наружности, к прическе, но, долго гнетомая прежде определенным для меня ничтожеством, я была не недоступна хорам, славящим ум мой, хвалам людей, заслужившим мое уважение. Ум сделался моей утехой, гордостью, достоянием моим; и только ему подносимую дань я принимала суетно, даже с наслаждением. И, однако ж, была ль я счастлива? Довольствовало ль меня это бедное торжество?.. Нет! Сто раз нет! Упоение лести действовало только на мгновение, и то действовало на одну голову. Сердце просило соучастия, а не комплиментов; дружества, а не громких похвал. Ум может наполнить существование мужчины: он более живет жизнью внешнею; и свет, который разливают вокруг себя его умственные способности, может отразиться на нем славою, богатством, уважением, даже благословениями людей. Ум женщины, как огонек далекого маяка, блещет, но не рассевает окружающего мрака; и если жизнь обвевает ее холодом, то не голове отогреть ее сердце!.. О, сколько раз, возвращаясь из шумных обществ, где внимание праздных, лесть пустословия и даже желчный ропот завистливых подносили обильную пищу моему самолюбию, сколько раз, отбрасывая с бальной гирляндой все, что охмеляло на время мою голову, обессиленная, глубоко упавшая духом, я проводила остаток бессонной ночи в слезах, в грызущих душу размышлениях! Бог даровал женщине прекрасное предназначение, хотя не столь славное, не столь громкое, какое указал он мужчине, — предназначение быть домашним пенатом, утешителем избранного друга, матерью его детей, жить жизнию любимых и шествовать с гордым челом и светлою душою к концу полезного существования. Не достойна ли зависти и благословений подобная доля? Но жить сиротой, в однообразии, ничем не нарушаемом, в тумане, сквозь который не может пробиться ни луч солнца, ни капля росы утренней; но чувствовать, что единственное счастье, возможное в быту женщины, никогда не было и не будет моим уделом; но не иметь ни одного желания, не лелеять ни одной надежды; не льнуть душою ни к одному завтра и, истратив бессмысленно дни свои, отдать могиле итог бесполезной жизни, как капитал, напрасно вверенный человеку, заброшенному в пустыню, где нужно ему было не золото, а кусок хлеба, — вот положение, остужающее душу, подавляющее в ней всю способность к деятельности, все силы энергии! И в этих тайных беседах с собою я не могла не чувствовать, что природа создала меня для тихой, безвестной жизни; что только в семейном кругу я могла бы познать и различить вокруг себя счастье: блеск, игры, праздничный шум света скользили надо мной, не обольщая во мне души. Что мне хвалы и удивление людей? Что мне мой ум и таланты? Первый дается случаем, второе приобретается терпением: их может всякий иметь. Но сердце мое мне одной дано! В нем хранился источник добра, источник счастья; в нем скрыты были сокровища чувств, рай дружбы и любви, а его никто не видел, не замечал, никто не хотел признать, ни оценить: что ж мне в поклонах, в пряных улыбках без сочувствия? И ни разу суетная мысль не мелькнула в голове моей, ни разу улыбка не оживила лица, чтоб в то же мгновение сердце не залилось скорбью, не поплатилось за миг тщеславной радости грустным отгулом одиночества! В присутствии отца и брата я смеялась на терниях, страшась одной жалобой смутить спокойствие, искупленное ценою моей жизни; но не могла, не находила в себе сил для иссушения слез в ее источнике, для подавления едва возникающего вздоха. Вот единственное чувство, одолевшее во мне все ратоборствования разума и воли; чувство, в котором я горько укоряла себя, желая пламенно нести крест свой не только безропотно, но бодро, с весельем. Богу известно, что никто никогда не бывал свидетелем моего малодушия, но от вас не хочу скрывать его; избрав вас моим посмертным судиею, хочу исповедать перед вами все, до единого трепета, до малейшего помышления… При беспрестанных движениях войск я всюду следовала за мужем; везде, всегда была одинакова, не изменяла ни мнений, ни поступков своих. Люди с умом везде дарили меня вниманием; глупцы сплетали против меня нелепые выдумки. Но есть третий сорт людей, наиболее опасный для всего, что выходит из круга обычного. Часто люди эти обладают умом и многими достоинствами, но ум их ни довольно силен, чтоб укротить владычествующее над ними самолюбие, ни довольно слаб, чтоб, ослепившись дерзкой самоуверенностью, ставить себя выше прочего видимого творения. Они чувствуют свои недостатки и всякое превосходство ближнего принимают за личное оскорбление; они не могут простить другому и тени совершенства. О, эти люди страшнее зачумленных! Над пошлым злоязычием дурака смеются, но их осторожным наветам, их обдуманной, правдоподобной клевете не могут не верить. Эти-то вольноопределяющиеся кандидаты в гении и составляют верховное судилище: они-то наиболее ожесточались против меня, и от них рассеялись ядовитейшие вести. Пришла пора, вести эти достигли и до моего слуха; как всегда случается, они хлынули на меня внезапно, со всех сторон, оглушили, закружили мою голову. Пока шипела клевета у ног моих, пока пресмыкалась в прахе, я смотрела на нее равнодушно; но досягать до моего имени, до моего сердца, приписывая мне поступки, чуждые даже мысли моей, но обвинять меня в совершенном отступлении от моих обязанностей, от заветов веры и чести — вот что больно поразило меня, что облило желчью не одну минуту моей жизни… С тех пор я, сколько можно было, удалялась от общества: я стала еще более чуждаться людей; заменила заботы о блеске ума размышлением; подвергала строгому суду свою былую жизнь; рассматривала свет не сквозь призму прежнего ожесточения, но со всем беспристрастием охлажденного от первой горячки рассудка. И все изменилось в глазах моих! Я увидела тот же свет, тех же людей, но уже с другой стороны, и, судья света и людей, в свою очередь, я во многом оправдала их. Люди — дети, вечно озабоченные, вечно суетящиеся. Торопясь за неуловимым завтра, имеют ли они досуг разбирать и разлагать сущность вещи, поражающей их взоры?.. Мимоходом они бросают беглый взгляд на ее наружный вид и только об этой наружности уносят с собою воспоминания. Не их вина, что взор часто падает на предмет не с настоящей точки зрения: они так видели, так рассудили и осудили. Они правы! Горе женщине, которую обстоятельства или собственная неопытная воля возносят на пьедестал, стоящий на распутии бегущих за суетностью народов! Горе, если на ней остановится внимание людей, если к ней они обратят свое легкомыслие, ее изберут целью взоров и суждений. И горе, стократ горе ей, если, обольщенная своим опасным возвышением, она взглянет презрительно на толпу, волнующуюся у ног ее, не разделит с ней игры и прихотей и не преклонит головы перед ее кумирами! Я поняла наконец эту великую истину и от всей души примирилась с моими гонителями. Освободившись от временного заблуждения, очистив ум от помыслов гордых и суетных, изгнав из сердца все, что заставляло его трепетать враждебными ощущениями, я переселилась духом в годы моей первой юности, воскресила в душе заветы моей матери, пожелала искренно, всем сердцем полюбить ближних моих ее неутомимою любовью, смотреть на мир ее глазами. Если жизнь так бедна сущностью, что человек не может прожить без мечты, то лучше позволь мне, господи, обманываться неведением зла в самом скопище пороков, чем подозрением порока в простой слабости!.. Вот о чем молилась я с верою, со слезами, желая пламенно хотя на других разливать то счастье, которое я знала только по его отсутствию… Милосердный услыхал молитву мою: дух матери осенил меня, я обрела спокойствие в тиши уединения и отраду в собственной душе своей. Но изгладить следы моих прежних заблуждений в памяти людей, но заставить их забыть прошедшее было невозможно. Видно, семя зла плодотворнее семени добра, потому что последнее обыкновенно глохнет и забывается, тогда как ростки первого переживают человека, который их посеял. Вот и вся жизнь моя, Влодинский; жизнь светская и умственная. Я представила ее вам с обеих сторон; и теперь, когда вы знаете все вины, все заблуждения мои, сравните их с чудовищным преувеличением „суда света“ и судите, во сколько раз обвинения превзошли вину. Теперь мне остается еще упомянуть об одной, единственной светлой эпохе моего существования, озарившей меня незадолго до отхода из мира, как бы в награду за мои прошлые страдания, во искупление всех, ожидавших меня в грядущем. То был прощальный дар жизни, залог полного примирения моего с небом и людьми. Влодинский, помните ли время, когда судьба так странно столкнула нас в чужой земле, под чужой кровлею?.. Воскресите его в своей памяти, перенеситесь к часам, когда, забыв треволнения света, мы так безмятежно предавались взаимному наслаждению читать в душе друг друга; когда, под ржавчиной светских привычек и впечатления, я открыла в вас столь прекрасных дарований, столько готовности к великому и это тайное, часто неведомое самому человеку, чувство высокого, изящного, эту тоску по неземному совершенству, которая, принимая форму слова или образа в душах немногих избранных и отражаясь в их произведениях, изумляет мир чудесами поэзии, гармонии, живописи, осуществлением божественного то в мраморе, то на бренном холсте… Я прозрела вас моими духовными глазами, поняла вас сочувствием; и теперь, когда все связи мои с миром разорваны, все отношения уничтожены, теперь могу сознаться, не оскорбляя ни неба, ни чести, я — полюбила вас!.. Да, Влодинский, полюбила всею силою моей первой, девственной любви; прильнула к вам всеми чувствами, отверженными, обманутыми, осмеянными всем, к чему ни прилеплялись они в свете. В приюте, созданном мне вашей любовью, отдохнула и освежилась душа моя, опаленная в знойной пустыне света, измученная постылым странствованием, отжившая и не изведавшая ни одной минуты полной жизни. Ваша чистая, робкая любовь не пугала, а голубила ее, не тревожила моей добродетели, напротив, подкрепляла, возвышала ее новым стремлением к небесному. Страсть охмеляет рассудок, обуревает чувства, мнет и жжет их, как аравийский вихрь жжет нежный цвет, случайно выросший на камне. Страсть не может ни дать, ни упрочить счастья. Ваша прекрасная душа отвергла ее, постигнув истинное блаженство кроткой любви небожителей. И я предалась ей доверчиво, я не вызывала для борьбы с ней ни долга, ни совести: ее святой огонь был лучшим ее хранителем, вернейшей оградой моей от порока. В продолжение четырех месяцев вы ни словом, ни взглядом не изменили моей доверенности; ни на одно мгновение не возмутили моего рая, в котором я дышала такою полною жизнию, забыв мир с его пустотой и неприязненностью, забыв всю скудость и убожество моего существования… Благодарю вас, Влодинский! Благодарю за осуществление моей прекраснейшей мечты! Благодарю за вашу любовь, за мои чувства, за слезы радости, единственной радости, дозволенной мне небом на земле! Не заблуждайтесь, считая лицемерием изысканную строгость моего обращения с вами; не обвиняйте меня в поддельности характера, если в ту пору я не была такою, какой видел меня прежде свет: повторяю, ум мой был развращен, сердце же всегда пребывало в первобытной чистоте своей. С другими я жила одним умом, и они видели его нечистые отблески, но с вами, но при вас воскресли святые понятия моего детства и огонь сердца очистил, просветил ум, еще прежде преобразованный опытом; в вашем присутствии не могла я быть женщиной светской и суетной: я старалась сгладить в душе моей все следы обид, сомнений, ожесточения, изгнать из нее самое напоминание о прежней безгрешной, но слишком переиспытанной жизни. Я желала бы пересоздать себя, облечься в чистоту младенческого неведения, просиять блеском ангельской невинности, чтобы гордо и бестрепетно войти в рай, которого врата впервые разверзались мне. Нашу взаимную любовь, глубоко скрытую от нас самих, я чтила как святыню; я охраняла ее, как мать непорочность любимой дочери. Малейшая шутка, веющая на нее тяжелым воздухом света, немного вольная острота страшили меня, как преступление. Даже для вседневных сообщений наших, для выражения мыслей и чувств я хотела бы приискать новый, не оскверненный пошлым употреблением язык… Знаете ли, что если б в ту пору какой-нибудь случай, возвратив мне свободу, дозволил нам открыть чувства наши перед глазами всего света, я отвергла бы соединение с вами из опасения гласности любви моей, из одной боязни, чтобы двусмысленная речь людей, завистливый взор их не осквернили ее чистоты, чтоб их нескромные улыбки, даже случайная неосторожность не оскорбили ее непорочности? Вот как высоко я вознесла чувство этой любви, каким благоговением окружила его! И в ту минуту, когда заметила, что земные помышления протеснились в нашу душу на золотых крыльях юности, я, не колеблясь, предпочла вечную разлуку самой легкой тени, которую рождающаяся в нас страсть могла набросить на чистую зарю наших первых отношений. Я желала унести с собою чувство любви во всей силе, во всей полноте его, чувство, не растревоженное страстью, не измятое ни единою слезою раскаяния! Я желала, чтоб дума обо мне теплилась в вашей памяти небесною искрой, чтоб минутная встреча со мною запечатлелась в целой жизни вашей светлою полосой, отдельной от всех помыслов о прошлых и грядущих наслаждениях любви — любви, так скоро перегорающей в других женщинах… Не бойтесь же воскресить в душе вашей чувства, посвященные мне. Изгоните скорее из нее страшилища, созданные судом света вокруг образа моего; любите меня прежней, благоговейной любовью: я ни на миг не переставала быть достойной ее! И пусть память обо мне, пусть мое прощение, пусть постоянное стремление ваше к облегчению чужих скорбей, осчастливлению всего окружающего вас снимут с вашей совести бремя отягчающего ее греха, примирят вас с господом, осенят жизнь вашу лучом небесной благодати… Суд света теперь тяготеет на нас обоих: меня, слабую женщину, он сокрушил, как ломкую тросточку; вас, о, вас, сильного мужчину, созданного бороться со светом, с роком и со страстями людей, он не только оправдает, но даже возвеличит, потому что члены этого страшного трибунала все люди малодушные. С позорной плахи, на которую он положил голову мою, когда уже роковое железо смерти занесено над моей невинной шеей, я еще взываю к вам последними словами уст моих: „Не бойтесь его!.. он раб сильного и губит только слабых…“»
Е. В. Кологривова Хозяйка{44}

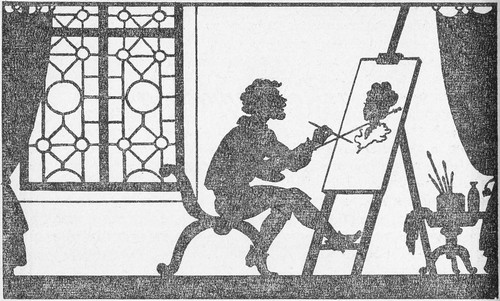
I
— Скучно рисовать этот вечный Колизей! — Тоска! — Надоело! — Несносно! — Охота нашим маэстрам мозолить нам руки и глаза этим вековым скелетом! — Уж подлинно скелет… — С полусгнившими ребрами. — С головищей, поросшей мохом! Так сердито ворчали несколько молодых художников, один за другим бросая работу. Дети!.. Классические красоты Колизея, глубокая художническая мысль, которой дышит это древнее здание и самое обаяние исторических и религиозных воспоминаний, все это слишком мало говорит незрелому воображению юноши, а сердцу еще меньше, да и до того ли сердцу какого-нибудь двадцатилетнего художника, когда он видит над собою великолепный сапфирный свод итальянского неба, когда он вдыхает пламя вместо воздуха, когда в то же время жадный слух его упивается звучными, вкрадчивыми песнями быстрооких трастеверянок?{45} Утро, а уж проходящее солнце облило розовым светом развалины Колизея; сколько раз солнце всходило над ним! Сколько раз отирало с него росу небесную или капли дождя и даже капли крови и наконец из цвета своих лучей, воды и крови дало старому вековеку свой цвет, за которым старики-учителя искони посылают своих учеников. Ученики ли не умеют добыть этого чудного цвета, цвет ли не поддается им — только по большей части Колизей у них выходит не тот. Отчего бы это? Не оттого ли, что на юношей солнце светит чуть-чуть не с вчерашнего дня? Не дается Колизей — прочь старика! Не лучше ли бросить кисти, собраться в кружок и дружно, как водится, побранить наставников, похвастать глазками своих любовниц, — взять волю хоть на короткий срок и дать волю языку, воображению и сердцу? Дело! Единодушие оказалось беспримерное. Только один из артистов{46}, русский по рождению, итальянец по страсти к искусству, не бранил Колизея, не роптал на учителей, не хвалился глазками милой, а трудился молча над заданной работой. Но его не забыли товарищи и закричали ему: — Что ты там зазевался, синьор Кости´! Так обыкновенно превращали они имя Константина Л. Константин не отвечал; в эту самую минуту ему удалось схватить счастливую игру луча в расселине здания; сильно билось сердце юноши, лихорадочная дрожь бежала по телу, между тем как послушная кисть переводила на бумагу портрет седых развалин; но вопрос повторился хором, и вслед за тем раздались веселые восклицания. Константин оглянулся. Что же дальше? Отчего такой припадок радости? Недаром, ей-ей! Вон видите, там, по дороге из В***, идет толпа девушек; они спешат в город, на торг, с плодами, молоком, птицей и яйцами; день воскресный, много надо всего: в праздничный день много едят. Набожные старушки угощают своих аббатов, артисты гуляют, англичане путешественники также особенно торжествуют воскресенье: так мудрено ли, что и девушек много идет по дороге к старому Риму? Хороши римлянки: очи орлиные, классический носик, губки зовут поцелуй, курчавые волосы плотно сжаты в косах и скреплены стрелами, узкий черный корсет, стянутый золотыми шнурками, чудно обрамливает роскошные плечи! Хороши!.. Идут; поравнявшись с ними, артисты забежали дорогу. — Ба! да это Нанета! — А вот моя diva[31] Джулия! — А это миленький чертенок, Терезина! — И она! — И она! — Поди же, да они будто сговорились. То-то будет раздолье! — Пошли бог здоровья нашим маэстрам. — Да здравствует старый хрыч Колизей! Куда девалась усталось, куда скука! Ожила молодежь, закричала, зашевелилась. — Не пускать красных девушек без оплаты таможенной пошлины! — Нужно ли сказывать, что в этом случае пошлину платили не чистые деньги — уста… Так решили молодые люди. Да куда! Не хотят! Как можно? И стыдно, и некогда, на рынок пора, что скажут подруги, что станут говорить добрые люди? И прочая, и прочая. Повесы ни с места, да и девушек не пускают. А солнце, безжалостное солнце все выше да выше, плывет себе, не ждет, чем кончится спор; да и на рынок пора, я чай, торг живо идет; как разберут все места трастеверянки и тиволийские девушки, как распродадут весь свой товар, покупщики разойдутся, придется нести домой опоздалые запасы. Что скажут маменьки? А что сказать маменькам? Что тут делать? Нечего делать — подставили губки, краснеют, а все-таки платят, и платят, право, не лгу, без недоимок, охотно, и вдвое, и втрое! Что ж делать? Солнце, видите, не ждет, а рынок пуще того не ждет. Пошла оценка товаров, и престрогая. Встретился тут, однако же, казусный случай; в толпе хорошеньких знакомок открылось новое личико. — Это кто? Откуда? — Это Беппа, моя сестра, — поспешно отвечала живая смуглянка Мариетта. — Беппа! Беппа! — Что за чудное имя. — И как хороша! Что за глаза — какой стан! Роскошь! Вот открытие. — Вот образец для Венеры. — Нет, для поющей Цецилии. — Нет, это настоящая Геба. — Клад! — Чудо! Прелесть! Безумие! — Беппа, Беппа, anima mia![32] Мне твою плату. — Нет, мне. Я ведь первый тебя увидел. — Нет, мне, mia carina[33]. Ты видела, я давно ожидал твоего поцелуя. — Ко мне, Беппа! — Нет, ко мне! Спор жарче, и вот расплатились все, не платит одна Беппа. Кажись, кто расплатился, шел бы на рынок своей дорогой. Так нет, — красные девушки ни с места; всем, видите, дело: досадно, что Беппа не платит; досадно, что так настойчиво требуют платы от Беппы, досадно, что Беппою заняты все; что за Беппой других позабыли. Не подслушивайте, что ворчат девушки; бог с ними! Но Беппа впервые отправлялась на рынок. Желание синьоров для нее и ново и странно. К тому же ей жаль было своего первого поцелуя: не любо было отдать его первому встречному за право пройти на рынок. Лучше бы ей дома остаться, хоть бы век города не видать! Беппа краснела и бледнела, плакала, умоляла, прижимала к груди свою корзинку и даже покушалась солгать,что у нее нет никакого товару. — Скорее, скорее, Беппа, пора! — сердито кричат подруги. «Мне поцелуй», — «Нет, мне, мне!» — вкрадчиво шепчут синьоры. Беппа не слушается ни тех, ни других, а слезы все пуще да пуще льются, беда ей со всех сторон: и подруги и таможня; там зависть, тут сила — откуда ждать помощи? Бедная девушка бросила свою ношу — порхнула, бежать назад в Вальмарино. Бежать без оглядки. Но за нею следом, будто стая коршунов, понеслись артисты, а за ними торопливо побежали и девушки красные. Догнали. — Misera me![34] — кричала плачущая Беппа. — Что будет со мною! — Тебя поцелуют, и только! — проворчала Джулия. — Глупая плакса! — прибавила Нанета. — Беппа! — грозно прикрикнула Мариетта. — Сейчас, sorella![35] Сейчас, — говорила бедняжка. Ее опять окружили. — Не все, не все! Ради бога! Ведь я должна заплатить… только одному… — Так выбирай же счастливца! Беппа была в нерешимости, на щеках сильнее загорелся румянец, а очи будто хотели спрятаться в землю. — Да где же ей выбирать! — заметили девушки. — Правда; она еще у нас глупенькая, — прибавила сестра Беппы. — Я за нее выберу. Кого-то выберет Мариетта? Синьоры оправились, стали во фронт, приготовились, будто на инспекторский смотр, и каждый с жадностью следил за малейшим движением глаз Мариетты. Эта дева рока выбрала старшего и самого невзрачного из толпы артистов и с приличною важностью подвела к сестре. Счастливец невзрачный протянул было губы, но Беппа вздрогнула, как змея увернулась, стала поодаль, вздернула носик, нахмурила свои темные брови, поворотилась: — Выберу и сама. Вам, синьоры, всем поплатились подруги, а я заплачу тому, кто один не брал поцелуя. — Тут она, краснея, указала взором на Константина. — Кто бы подумал? Видно, у него бабушка ворожила, видно, его в сорочке мать родила! Счастливец! Как порох вспыхнуло его сердце от искры злодейского взора. Поплатилась же и Беппа за свои артишоки и, покраснев до ушей, понесла их на рынок, будто краденый товар; только идучи она была задумчива и, говорят, часто бралась за сердце, будто старалась увериться, что оно на месте.II
И Константин также убежал с поцелуем Беппы, будто с украденным сокровищем. Он спешил в мастерскую; он любил свою скромную мастерскую; все в ней было так хорошо, так чисто, так добропорядочно, что, не будь тут картин да мольбертов и прочая, вы бы и не узнали, что тут живет художник. (Известно, что художники самый домовитый народ!) Месяца за три до начала нашего рассказа Константин Л*** приехал в Рим, куда привез с собой чистое, девственное сердце, смелый ум, обещавший глубокие воззрения в будущем художнике-творце, истинное дарование, преобладающую страсть к искусству и пламенное желание сделаться вторым Рафаэлем — ни больше ни меньше. «Я простой человек, — думал он, — да ведь и Рафаэль был не ангел: возможно — одному, доступно и другому!» Таковы были невещественные сокровища, привезенные нашим героем в Вечный город. Что же до его вещественного состояния, то оно было скромнее — так скромно, что даже о нем не стоит и упоминать. Константин, однако же, не только не жаловался на бедность, но подчас чуть ли не считал себя богачом. Светлые надежды играли около него алмазными брызгами водопада. Он засматривался на них, как дитя, и был счастлив. Отправление в Италию была его первая сбывшаяся мечта и вместе как бы залог, что сбудется все остальное. Его отъезд был торжество, а путешествие — продолжительный праздник. Приехал в Рим; побежал прямо в Ватикан, не отряхнув даже дорожной пыли. Стрелою пронесся он мимо первых картин чудной галереи, не глядя, прошел мимо Иеронима{47}, боясь искушения, и вот он там, куда влекло его жаждущее сердце: перед ним — «Преображение Христа»!{48} Но что у него на душе, того не берусь изобразить: и своего впечатления не сумел бы я высказать, а Константин — был художник; знаю только, что он долго стоял неподвижно, будто окаменелый. Потом зарыдал, как дитя, и долго рыдал; потом сладостное религиозное умиление расцвело улыбкой на устах; потом он как исступленный стал бить себя в грудь, будто все ощущения страшного беснующегося перешли в эту грудь; наконец, он снова залился слезами и с кроткой молитвой на душе тихо вышел из галереи. Целый этот день Константин не ел, не пил и даже не подумал об ночлеге. Ночь застала его у каких-то развалин; он завернулся в плащ и положил пылающую голову на обломок кариатиды. Нет сна. Уныние, как червь, заползло ему в душу, точит ее. «Еду, — думает Константин, — возвращусь восвояси, куплю полоску земли, сделаюсь пахарем: только не живописцем. Пойду в матросы, стану учиться лазить по веревкам. Свалюсь, — тем лучше! Упадет не художник. Не хочу быть маляром. Мне сделаться Рафаэлем! Мне! И я мог на это надеяться, об этом мечтать?.. Недаром же мечту зовут безумием. Не хочу быть маляром, не хочу, тысячу раз нет, нет! Нет!..» Дитя! Так встретил он первое сомнение, которое потрясло великолепное здание его надежд! Где же былая отвага? Где вера в будущее? Где смелые попытки? Где все, все, что прежде лелеяло, нежило, ублажало его беспокойного младенца-вдохновение? Куда скрылась эта баловница няня, надежда! Натворила бед, старая обманщица: нашептала сказок и бросила дитя без присмотру! Игрушка его разбилась вдребезги. Бедное дитя! Что-то с ним будет! Проходит день, другой, а Константин еще в Риме и уже не думает менять кисти на плуг; всякий день ходит он любоваться и отчаиваться перед Рафаэлем, но уже деятельность сменила уныние. Душа его рвется к недосягаемому. «Умру, — думает он, — но не отступлю!» И подлинно! О, он чуть не умирает над работой. Опытные художники дивятся его неслыханным успехам, изумляются перед смелостью его очерков. Не знаем, до какой степени ожили прежние дерзкие надежды нашего художника; только он снова стал глядеть в будущее, как орел глядит на солнце. Товарищи мало видали Константина; он проводил жизнь в своей мастерской. Да и что была это за мастерская! Чудо, да и только! Комнатка, кажется, немудреная, но как все в ней хорошо, как светло, как радостно! Бывали ли вы в мастерских у художников? Видали ли вы этот артистический беспорядок, который, может быть, и неизбежен при условиях постоянного занятия, но который в то же время до крайности разочарователен для случайного зрителя. У Константина этого не было, однако же и он беспрестанно работал и часто от одной работы переходил к другой; и у него везде лежали краски, готовые холстики и прочая; все это было под рукою, но все было как-то у места; все было опрятно вычищено, вылощено на загляденье; простая, более чем скромная мебель его была так искусно расставлена, приспособлена к употреблению и к самой комнате, что вы бы не заметили, чего в ней недостает, чтобы достигнуть идеала роскоши. Хотите ли полюбоваться на какую картину? Она именно стоит в том свете, который выставляет ее лучшую сторону. Ищете ли чего-нибудь на полке, заваленной книгами, оглавление бросается вам в глаза, вытащить каждую книгу всегда можно, не повалив другой. — Чудный человек этот Кости´! Исступленный художник, а порядок ведет, будто брюзгливая старуха-хозяйка, у которой полдюжины служанок пляшут под клюкою! Ну, слыханое ли дело, чтобы наш брат живописец умел порядочно прибирать мастерскую, вычищать свои кисти! Такова была общая молва товарищей о Константине, и часто ему самому задавали затруднительные вопросы. Удивляясь скорости, с какой шла обыкновенно его работа, не раз спрашивали: — Когда же ты успеваешь вести такой порядок? — Ты, никак, обметаешь мастерскую? — Никогда, — был ответ. — Да у тебя — нигде ни пылинки! «Видно, улица не пыльна, на мое счастье», — думал Константин и снова углублялся в свое занятие. Он вел самую беспечную, счастливую жизнь, ни о чем не думал, а вокруг него все делается, что нужно. Краски не переводятся на палитре; нужно ли ему переменить цвет, другая палитра будто под руку подвернется. Иногда он выйдет, оставив все в беспорядке, возвращается, — все на месте, все прибрано, и кисти все вымытые, вычищенные, будто напрашиваются на новую службу; и любо молодому художнику приниматься за работу, в ней для него одна только поэтическая сторона, о вещественной ему нет заботы. Кто же хозяйничает за него? — спросите вы, а он об этом так же мало ведает, как и мы с вами. С тех пор как он поселился в этой мастерской, никто туда не входил в его отсутствие. Он, правда, уговорился было с хозяевами, чтобы иногда присылали почистить и поприбрать его мастерскую, по его востребованию; но вот прошло, как мы сказали, уже три месяца, а мастерская не требовала прибору: чиста, светла, ни пылинки на мебели, ни пятна на полу, а кисейные занавески будто из снега вытканы. Что за чудо! — подумал бы всякий; но Константину некогда думать. У него одна дума — в ней тонут все прочие помышления, за нею гонится он, как другие гоняются за счастьем; да, впрочем, ему ли кручиниться о том, что с его пути счищают грязь, сглаживают неровности, сдвигают камни? Рассеянный, как все художники, в пылу создания он даже иногда и вовсе не замечал странного, неожиданного пособия, какое находил он в порядочном и удобном устройстве его живописного хозяйства, — а когда какое-нибудь обстоятельство и останавливало его невероятною случайностью, то через минуту он или забывал об этом, либо уверял себя, что все это сам приготовил, прибрал. Одним словом, хорошо жилось Константину, и он сдружился с этой жизнью, как беспечное дитя, не исследуя причины всякого действия: это было не по его части. Прибежал Константин в мастерскую. Работа ждет. Да ему теперь не до работы: на устах поцелуй Беппы; в глазах образ Беппы, а на сердце опять-таки Беппа! Что делать? Не приковать ли поскорее к полотну эту безотвязную Беппу? Славная мысль!.. Константин ухватился за кисти, вытащил запасный холстик, натянул и принялся за дело. В раздумье, как всегда, он не глядя взялся за палитру, начал — и плюнул. Тьфу, пропасть! Глаза вышли лиловые, а брови зеленые! Смыл, начал опять, какой-то краски недостало: искал, не доискался. Несносно! Художник разбил палитру, топнул ногою с досады и, забывшись, готов был разворчаться на прислугу, да кстати вспомнил, что вся его прислуга ограничивалась одной его особой. Он дивился своей забывчивости, особенно потому, что с ним этого никогда не бывало, как мы уже сказывали: у него был заведен такой чудный порядок, что он только и знал, что писал, а остальное делалось само собою. «Несносно!» — повторил он в видимом смущенье и с неудовольствием ушел из мастерской прямо на рынок; видно, хотел еще раз взглянуть на миловидную Беппу. Воротился — нашел все в таком же беспорядке, в каком оставил. Порядок не удивлял Константина: ему казалось, что все именно так было, как быть должно; но отсутствие этого порядка жестоко его озадачило. Не будь этого порядка прежде, он бы и не подумал его требовать или, может быть, сам бы приложил, хотя изредка, руку ко всему, что требовало особенных попечений. А теперь баловня-художника будто обдало холодом. Куда девался порядок? — А откуда он брался? Константин бьет себя по лбу, и чем больше думает, тем больше недоумевает. Но дума думой, а дело делом. Работа не ладится; решившись ее отложить, он собрал кисти, краски, палитры — опять беда: не знает, куда положить. «Да куда же я прятал все это вчера, третьего дня, всегда?» — чуть не плачет наш художник. С горя и с досады принялся опять за портрет Беппы; на этот раз он устранил все мелочные препятствия, заранее расправил все нужные краски и с улыбкой на устах при мысли о маленькой Беппе принялся на память чертить ее портрет. О! В этом случае он крепко надеялся на свою память. Начал и вывел черные глазки на диво! Вы бы подумали, что выглядывает живая Беппа. И лоб удался, и брови, и черные волосы в меру облегли свежие щеки и ямки на щеках. Носик чудо! А вот и крошечный малиновый ротик, который раздвоился, будто спелая вишня, и лукаво манит другие уста. Над ним больше всего хлопотал живописец, вероятно из благодарности. Свежее закипело в нем воспоминание о поцелуе, когда он набросал милые черты; забылся: вот, думает, выпрошу другой поцелуй, наедине еще будет слаще… Помутилось в глазах у Константина, сердце таяло в неведомом упоении… вдруг… что-то хрупнуло, затрещало — и мигом Константин очутился на полу. Изумился он, хотя дело сделалось очень просто; под ним изломался стул прапрадедовских времен, купленный им из кучи старого хлама за несколько паолов{49}. Давно ли Константин был убежден в прочности своей мебели, как будто бы она только что вышла из мастерской какого-нибудь римского Гамбса?{50} У него еще никогда ничего не ломалось, нужно же было стулу обрушиться в ту самую минуту, когда он блаженствовал, мысленно целуя Беппу, когда он, может быть сближая ее со знаменитой Форнариной{51}, восхищался этим неожиданным пополнением к цели его рафаэлевских стремлений? Сердито ворча сквозь зубы, Константин встал, оправился, но еще с минуту не решался подойти к портрету Беппы. Он совестился перед ним как перед живой Беппой. Недаром же он был одержим художническим пылким воображением! Наконец собрался с духом, подошел. Взглянул — и руки опустились. Что же бы вы думали? Перед ним на полотне плутовские глазенки Беппы, ее нос, ее вишневый ротик, все черты лица точно ее, изумительно сходные, если рассматривать каждую поодиночке, но взгляните на целое, и вы увидите не портрет Беппы, а карикатуру на бедную Беппу… И какую же злую карикатуру! Удивительно, не правда ли? Каково же было на это смотреть Константину! Протирает глаза, то с той стороны посмотрит, то с другой подойдет; но как ни глядит, все выходит одно и то же, и волшебный сон о Форнарине рассеялся как дым перед горькой существенностью. «Мне ли думать о безнадежной любви, когда я не умею даже намалевать плохого изображения своей красавицы!» — вот что высказывала горькая ироническая улыбка на лице приунывшего художника.III
С той поры у Константина пошла разладица в мастерской: чего ни хватится, во всем оказывается недостаток; за что ни возьмется, везде неудача. Равендук{52} попадается то гнилой, то узловатый; в покупке кармина и ультрамарина{53} его надувают продавцы; масло либо подмешано, либо с отстоем; палитры ломаются в руках, словно сдобные сухари, а кисти лезут, как волосы больного, после горячки да мало ли еще бедствий могут постигнуть живописца в бесчисленных мелочах, которые все, однако же, очень важны для его занятий? Маэстры и товарищи не узнают более ни работы, ни мастерской Константина. Все, что он ни пишет, вяло, безжизненно, будто отражение его тайного уныния; идеи не ясны, колорит подернут каким-то мраком, одним словом, та же кисть — да не та же мысль, а главное, не та же смелость в выполнении. А мастерская Константина? Боже! Какая разница с тем, что она была прежде! Беспорядок, всюду клочки полотна, изорванного с отчаяния, серые слои пыли, лохмотья на мебели, потускнелые стекла, пожелтевшие гардины, и все и вся в самом жалком положении, несмотря на то, что Константин стал несравненно прибористее и уже действительно делал усилия, чтобы поддержать прежнюю славу своей мастерской. Ничто не помогало. Над ним смеялись товарищи. — Видно, брат, тебе надоело хозяйничать. А сгоряча ретиво было принялся! Да невмоготу, — не выдержал! Каково же было ему слушать подобные замечания, которые, как хорошо знал Константин и ведаете вы, мой читатель, были совершенно изнанкою истины! Поневоле призадумывается наш художник, и все как ни думает, не придумает толку. Непостижимо! Надежды его начали гаснуть, а исцеления не предвиделось. Но в то самое время, как дела Константина по художественной части принимали такой печальный оборот, любовные дела его процветали. И он уже мог говорить «моя Беппа», и его Беппа поспорила бы исправностью с красным солнышком, когда Константин по условию поджидал ее у каких-нибудь развалин. Только скоро ни любви, ни поцелуев Беппы недостало, чтобы пополнить ужасную пустоту. Мрачно становилось внутреннее небо художника, яркие звездочки надежд его редели, бесцветность, бесцелье будущего пугали его. Наконец дошло до того, что проходят целые дни и он не ищет Беппы, даже не думает о ней! Ему не до нее. Он чего-то ждет не дождется; что-то зовет не дозовется! Но вот голос его души услышан и снова нахлынули давно небывалые вдохновения. Константин в восторге; он спешит ловить налетных гостей и приголубить их честной, трудолюбивой беседой. И снова повезло Константину; и хотя еще не то чтобы совсем на прежний лад, но жить и работать стало и легче и веселее. И стал он замечать чудные перемены. Посмотрит, то уголок приберется, то другой, то гардина будто выцветится, то между дурными красками начнут появляться хорошие. А там, глядит, и пыль начала пропадать, будто ветерок сдувает невидимым крылышком; а там и комната веселей стала; стекла просветлели, виднее стало работать. Таким образом, постепенно и почти незаметно, все приходило в прежний порядок. Мало того, и мысли стали послушнее ложиться на полотно, краски стали мягче и вообще материальная часть снова перестала озабочивать живописца; но со всеми этими переменами глаза и мысли Константина свыкались не вдруг, в них соблюдалась такая строгая постепенность, что он никак не умел отдать себе отчет, каким образом произошло переобразование, и только тогда успел изумиться, когда все пришло в прежний порядок. «Странно!» — подумал тогда Константин и начал размышлять об этом непостижимом обстоятельстве, да вдруг, откуда ни возьмись, навернулась идея, из которой составился план для большой картины, чудный план, за которым давно и тщетно гонялся наш художник. Вдохновение промолвилось, вспыхнуло. Прочь все посторонние думы! Скорее скромный халат, кисти, краски, живо за работу! Закипела работа. Не успеет художник обдумать фигуру, и она, будто по писаному, стелется на полотно, выдается обманчивым барельефом и, словно живая, вдыхает в себя все страсти, перечувствованные за нее художником. По-видимому, труд начат под счастливым созвездием. Константин видит уже в нем высокое подножие своей грядущей славы. В этой картине, как в микроскопическом зеркале, он провидит себя гигантом, и в то же время, как дитя, он смеется и плачет, и задумывается и пляшет перед своим сокровищем! В картине все его думы, в ней его любовь, в ней его мечты, в ней его божество, в ней его жизнь и смерть также, при малейшей тени сомнения! Внешний мир забыт: что ему до мира? Художник бросается в свое создание, будто в бездну пламени, в ней он погибнет или из бренного пепла возродится бессмертным фениксом. На колени перед таким трудом! То мученический костер, — из него лучами восходит над человечеством золотое сияние гения! Наш Константин, как орел-птенец, пробует размах своих крыльев, картина его приходит уже к концу: восторженные хвалебные речи знатоков журчат ему сладостным потоком счастья, в котором он почерпает новые, упоительные надежды. С лихорадочным волнением поспешает он довершить свой труд. Недостает еще двух фигур в его картине, одна из них женская. Он медлил составлением этой фигуры, ею хотел он увенчать целую работу и силился изобрести для нее такую позу, которая бы открыла нечто новое в искусстве пластической расстановки и в то же время изумила бы верностью с природой. Сто раз уже начертал он ее в воображении и не один раз покушался вылить мысль свою на полотно; но самая важность, какую он придавал исключительной позе этой фигуры, связывала ему руки; он не доверял самому себе и, зная свой пылкий характер, боялся уныния, которое сделалось бы неизбежным следствием первой неудачи. Таким образом, несколько дней прошло в недоумении, работа остановилась. В безмолвии Константин проводил целые дни перед своей картиной, воображение его ворочало вечную скалу Сизифа{54}. Однажды он вдруг схватил себя за голову и опрометью бросился вон из мастерской. «Беппа! — думал он. — Одна Беппа может меня выручить! Как не подумал я об этом раньше!» И с эгоизмом мужчины, помноженным на эгоизм художника в пылу создания, он бросился отыскивать забытую Беппу в пользу той самой картины, для которой он забывал ее! Сначала на него подулись, потом поплакали, потом посыпался град упреков, но увы, в то самое время, когда женский гнев доходит до высшей ноты своей хроматической гаммы, любящее сердце нередко уже подписывает тайком мирный договор. Так уж созданы женщины: не верьте их любви, покуда есть возможность, но раз уверившись — не верьте их гневу! Надувают, голубушки! У них есть сердце только для милого; а против милого — есть только любовь, слова, слезы… и еще любовь… и опять слезы… Константин опять в мастерской, но уже не один; с ним Беппа, добрая, снисходительная Беппа готова покориться всем художническим прихотям своего carino; как автомат под рукою искусного механика, она принимает постепенно все позы, какие хотелось испытать Константину, она старается удерживать дыхание из боязни изменить игру физиономии, одним словом, непритворное чувство любви до того просветило необразованный ум и ограниченные понятия молодой крестьянки, что она в эту минуту будто уразумела идеал изящного и в лице своего милого полюбила его искусство. С восторгом благодарности глядел молодой человек на свою милую натурщицу и, не сомневаясь более в успехе, любил в это время Беппу почти наравне со своей картиной, или, лучше сказать, он в душе своей слил в одно целое эти два предмета своего страстного созерцания: картина служила храминою для его кумира — Беппы, а Беппа, в свою очередь, сделалась для него частью картины. Но вот выбор позы окончательно решен, художник приступил к делу. — Увы, опять пошла разладица: ничто не клеится под рукою живописца. Градом катится пот с озабоченного чела, руки его дрожат, все силы нравственные в напряжении. Наконец, после неимоверных усилий, после отчаянной борьбы со всеми возможными препятствиями, ему удалось набросать роковую фигуру. Грудь его чуть не разорвалась от глубокого вздоха, которым он облегчил ее. Сердце его было переполнено невыразимых чувств; он бросился обнимать свою Беппу и громко зарыдал, приклонив жаркую голову на ее плечо. Прошло несколько минут в упоении почти оконченного труда; но, оглянувшись, Константин увидел, что наскоро набросанные краски слились невероятным образом и уничтожили не только новую фигуру, но и многое другое. Живописец обезумел, свет замер в его глазах, он вскочил и заметался, как опьянелый. В беспамятстве, в чаду отчаяния он и не подумал о возможности исправить беду; но в бешеном порыве, выхватив меч из рук манекена, наряженного рыцарем, изрезал на части огромный холст и потоптал ногами то, что еще недавно ценил выше жизни. Совершив это самоубийство, живописец упал…come corpo morte cade[36].IV
Прошло два месяца. Константин поплатился жестокой нервной горячкой за неосторожность или, лучше сказать, за непостижимое бедствие, разрушившее первую блестящую страницу его поэмы славного будущего. Но нет худа без добра. Долгое воспаление мозга помутило в нем память недавних неудач, и с возвратом к жизни возвращались и надежды. В один солнечный день выздоравливающий Константин сидел утром перед растворенным окном и жадно впивал в себя живительный воздух; следуя тому влечению к нежным семейным воспоминаниям, которое всегда будто освежает добрую душу после долгих физических страданий, он думал о своей далекой России, о матери, о молоденьких сестрах, о других родных и, может быть, — кто знает? — о роскошных каштановых локонах Лизаньки М., милой соседки, чьим благодаря прелестным глазкам его юное вдохновение впервые было согрето сердцем! Давно уже это было, и очень давно, по счислению двадцатилетнего юноши; но все это еще очень живо сохранилось в его памяти: он и теперь будто видит, как белое платьице Лизы развевается в повороте липовой аллеи, как она украдкою оглядывается и будто нехотя встречает восторженный взор молодого поклонника изящного… И вот, как бы в ответ на воспоминание, через земли, через моря, из далекой России ему перебросили письмо. Из письма он узнает обо всем, в письме он прочтет имена всех, которые о нем вспоминают. Минуты с две Константин только смотрел на письмо, как скупец смотрит на сокровище, потом, потом он принялся осыпать его поцелуями с такою же щедростью, как расточитель сыплет деньги в награду за добрую весть. Чувства те же сокровища; только всякий ли знает им цену? Но вот письмо распечатано, взоры летают по строчкам, мысль скороходом забегает вперед, сердце сливается с родными вестями… Все они тут, его близкие; в мертвых черточках пера ему видится живое участие взора, слышатся знакомые звуки; и все нашел он в этом письме. В первых строках строгие, но добродушные наставления отца, потом сердечные ласки доброй матери, ее благословения, ее советы, более похожие на просьбы, в конце множество частых строчек, набросанных сестрами, которые одна перед другою спешили сообщить далекому брату милые вести родной стороны. И вот приветной звездочкой мелькнуло имя Лизы М*, оно повторяется и не раз и не два; о ней и от нее что-то много пишут, взоры разбегаются, следя за частыми повторениями дорогого имени… Как вдруг будто порыв ветра вырвал у него письмо из рук. Молодой человек поднял его и отошел от окошка; кажется, уж тут нет ветра, а письмо опять летит и не дается в руки изумленному чтецу. Он за письмом, — письмо от него, вот, думает, схвачу, нет, ветер опять уносит тоненький листок, и листок непостижимо ускользает от погони нетерпеливого Константина. С досадою побежал он к окну, чтобы затворить его, письмо тоже полетело в том же направлении, и прежде чем Константин успел захлопнуть окно, листок вылетел, и Константин имел несказанную горесть видеть собственными глазами, как мимо ехавший экипаж смолол под колесами драгоценное послание. «Никто этому не поверит», — подумал Константин, когда долго после этого, сидя задумавшись подле открытого окна, он убедился, что на дворе было так тихо, что и самый легкий пушок бы не шелохнулся. «Непостижимо», — повторял он, несколько раз отходя от окна.V
Прошло еще несколько месяцев; новый труд закипел в мастерской молодого художника: забыты прежние неудачи, забыты даже странные обстоятельства, которые с некоторого времени стали иногда тревожить его художническую беспечность. Константин задумал новую картину, мастерски начертил эскиз, смело набросал главные фигуры и принялся обдумывать, как бы вернее выполнить свою мысль в общности плана. Это было летом, ночь была душная, а в сердце художника пылал еще внутренний огонь творчества; в таком состоянии сон ненадолго смежил его глаза, а мысль, видно, проснулась еще прежде и пригрезилась ему разрешением одной затруднительной группы. Константин вскочил, будто на звон призывного набата, взоры его обратились к холсту… Чу! Не сон ли это? Не игра ли больного воображения? Он видит: мастерская освещена каким-то таинственным полусветом, искусно направленным на ту часть картины, где должна была уместиться только что задуманная им группа, и эта группа уже в стройных образах стелется по темному, подмалеванному грунту, и стелется, следуя послушно за движением его мысли, как будто бы эта мысль сама водила невидимой кистью! С художнической отчетливостью черта набрасывается за чертой, и, что еще чуднее, струи необходимого света спускаются и понижаются, подаются то направо, то налево, следуя постепенно за каждою чертою, точь-в-точь как взоры влюбленного за каждым движением вальсирующей красавицы. «Что за диво!» — думает Константин, у которого от изумления ноги приросли к полу. Он протирает глаза, он хватает себя за голову, ему чудится дивное: не собственная ли его мысль порхнула на волю и мимо его изменнически творит то, что он только готовился создать при ее помощи? Но вот бьет полночь, и новое видение рисуется перед нашим художником. Невидимая кисть вдруг делается видимою, и ею управляет также видимая рука… ручка, хотели мы сказать, потому что она принадлежала созданию, облеченному в женский образ, казавшийся сокращенным идеалом всех вообразимых и невообразимых прелестей. Не беремся нарисовать вам его портрет за сущею невозможностью: почему — узнаете ниже. Скажем только, что изумленному взору Константина предстала девушка очень небольшого роста, но красоты ослепительной, но стройная, как творческая мысль гениального художника-поэта. Одежда ее поражала тем белым матовым и вместе как бы прозрачным цветом, который восхищает нас только в чудной ткани облаков и до которого земная наша промышленность никак не может достигнуть. По фантастическому покрою платья незнакомки легко можно было угадать, что это платье не вышло из знаменитых на белом свете мастерских по части модных дамских уборов. Со всем тем этот наряд удивительно пристал к чудной девушке, и она носила его так же свободно, как наши дамы носят свои наряды, на законном основании скрепленные судилищем моды. Девушка стояла на воздухе так же спокойно и непринужденно, как будто бы под ее ножками была подвижная лестница, обыкновенно служащая живописцам для больших картин. Она ловко владела кистью и продолжала начатый очерк, все сообразуясь с мыслью художника. Но вдруг рука ее остановилась, в последних чертах видимо отразился беспорядок идей, овладевших в эту минуту Константином. Неподвижен, как околдованный, он не сводил взора с видения; сто раз пытался подойти к нему или хоть окликнуть его словом, но и голосу не было: изумление поразило его немотою. Несколько минут и девушка оставалась недвижимою. Она в безмолвном нетерпении смотрела на недоконченный очерк и небрежно играла кистью; тут Константин имел случай заметить, что из-за прелестных плеч незнакомки выглядывали крошечные крылышки, белые, как пух лебяжий, и слегка окаймленные нежным розовым оттенком: поэт сказал бы, что это два облачка, увенчанные блестящей полоской едва занимающейся зари! По-видимому, девушка ожидала только нового побуждения, то есть дальнейшего решения мысли живописца, но смущенная мысль не прояснялась; Константин забывал свою картину перед настоящим явлением, и, наконец, потеряв терпение, странная художница решилась, по-видимому, отложить труд до другого времени. Она спустилась с высоты, всплеснула руками, и — новое изумление для Константина: по мановению чудной девы, открылась необыкновенная деятельность в мастерской, все стало прибираться и размещаться по надлежащим местам, как будто бы целая дюжина рук суетливо хлопотала о приведении в порядок всех принадлежностей живописной работы… …………………………………………… …………………………………………… Изумление Константина возрастало, между тем как в то же время странные явления этой ночи объясняли ему многое, что до сих пор казалось необъяснимым. Ясно было, что он видит перед собою ту услужливую хозяйку, которой до сих пор без его ведома держался чудный порядок в его мастерской; ясно, что этот порядок нарушался иногда по прихоти странной хозяйки; ясно, что она покидала его в минуты гнева и снова заботилась о его домашнем спокойствии, как скоро он бессознательно искупал свою вину. Припоминая даже все обстоятельства, Константин убедился и в том, что только одного рода преступления гневили хозяйку… Он вспомнил, что первый поцелуй Беппы произвел первую революцию в его мастерской: явное доказательство, что хозяйка не терпит любовных шашней. — Почему и за что? Ей ли быть ненавистницей любви, когда она сама в сиянии чудных прелестей кажется олицетворением самой любви! Гнать с белого света любовь, негодовать на любящих, морщиться от поцелуев простительно только старухам или дурным! «За что же было сердиться моей хорошенькой хозяйке, если я подчас заглядывался на милую Беппу или с наслаждением ловил поцелуй с коралловых уст… если…» Не знаю, до чего дошли дальнейшие воспоминания Константина, но что они жестоко не понравились хозяйке, это скоро было доказано неоспоримым фактом. Вдруг в мастерской все возмутилось, зашумело, заскакало, как будто туда налетела целая стая ведьм держать свой шабаш: один из клинков выскочил из пялки, равендук покоробился, несколько пузырей с лучшими красками лопнули, муштабель{55} упал и переломился; в живописном ящике заплясали кисти, и из одной перегородки в другую кусками стали перепрыгивать и мешаться краски. Казалось, какой-то враждебный ураган подул на мастерскую и грозил конечным разрушением всему, что в ней находилось. Дрогнуло сердце у художника, он страстно любил свою мастерскую, любил все эти мелочи, как необходимые орудия для достижения великой цели; судите же, что должен был он ощущать в эту минуту ужасного крушения? Отчаяние придало ему силы и возвратило и память и движение; очнувшись, он бросился к странному созданию… Хозяйка стояла посереди комнаты, глаза ее сверкали гневом, холодной иронической улыбкой встретила она умоляющий взор Константина и сердито топнула крошечной ножкой; но она была так очаровательна в пылу своего гнева, нахмуренные бровки ее были так правильно округлены, так бархатны, а быстрые глазки так мило злились, так живо перебегали от одного предмета к другому, что Константин забыл, что видит в ней повелительницу таинственной силы, в эту минуту непостижимо ему враждующей; забыл и о бедственном состоянии своей мастерской: в немом восторге он только сумел преклонить колена перед своею чудною посетительницей, красавицей, колдуньей, демоном в женском образе. Хозяйка захохотала и продолжала смеяться так долго, так непринужденно, так увлекательно, что, глядя на нее, Константину и самому стало весело. Заколдованный, снова обольщенный, он был не в силах свести глаз с очаровательницы: наконец она сама сделала ему знак, он оглянулся — все в мастерской уже приведено было опять в стройный порядок, ни следа не осталось недавней тревоги, ни хаотического смятения всех живописных стихий. Ласковая улыбка сменила злую иронию на устах хозяйки, она милостиво протянула руку на мир. Константин затрепетал при виде этой полупрозрачной ручки, роскошной смеси росы и снега, перламутра и пламени; им овладело какое-то обаяние, и никогда душа честолюбца не стремилась с таким алчным желанием к скипетру или к добыче славы, с каким его рука спешила на призыв хозяйки. Но увы! Он схватил только воздух! Лукавица улыбнулась, потом задумчиво покачала головкой и, приложив указательный палец ко лбу, бросила значительный взгляд на художника, как будто бы усиливаясь заставить его уразуметь что-то очень важное. Несколько крупных слезинок выкатились из ее очей и, канув у ног изумленного юноши, превратились в свежие благоухающие листки розы, вспрыснутой утренней росою. В то же время увлаженный взор хозяйки высказывал невыразимую нежность, чуть-чуть не страстный порыв чувства… Неведомое блаженство лилось обильною струею в душу Константина, и долго, долго еще пламенные взоры их лобзали друг друга, уединясь от всех прочих предметов; наконец хозяйка вдруг опомнилась, вздохнула и указала на начатую картину. Тогда снова искусство сказалось Константину, проснулись прежние порывы к высокой цели, он снова сознал свое назначение, в нем пробудился живописец, и он проникнулся весь сладостным чувством этого внезапного пробуждения. Хозяйка как бы участвовала в его мысли, в самых сокровенных его чувствах, и между тем как его ум погружался в изучение бесчисленных тайн искусства, чудное создание неожиданно поспешило к нему на помощь. В один миг хозяйка сорвала драпировку с манекена и набросила на себя так смело, так удачно, как не мог бы этого сделать самый опытный художник. Восхищенный Константин не мог налюбоваться на удачную складку, да, именно на складку, — верьте или не верьте, а в эту минуту наш художник до того увлекся страстью к искусству, что несмотря на красоту и странные свойства существа, служившего ему на этот раз добровольным манекеном, забывая даже непостижимые отношения их друг к другу, он в эту минуту смотрел на пленительную деву не иначе как на дивно устроенного автомата, посредством которого ему неожиданно открывались новые тайны, неизвестные даже его учителям. Легко вообразить, как жадно следили его взоры за всеми движениями хозяйки. Она постепенно примеряла все костюмы, наваленные в мастерской. То являлась она рыцарем и припоминала собою прекрасное воинственное лицо Орлеанской Девы, то облекалась в багряницу римских цесарей и придавала себе выражение гордого повелителя, перед которым трепещет полмира, то в полупрозрачном хитоне она соперничала совершенством форм с лучшими древними изображениями греческой Киприды{56}. То являлась она седоволосым стариком, цветущим юношей, то младенцем, и, оставаясь в одном положении не более чем сколько было нужно для удовлетворения любопытства художника, она снова преображалась и снова увлекала за собою прельщенные взоры Константина; в то время она казалась ему благодетельным гением, учителем живописи, каких не бывало; наконец, самим вдохновением, облеченным в самый вдохновительный образ! Грудь его то сжималась, то разрывалась от полноты чувств и от бессилия выразить эти восторженные чувства. Наконец превращения кончились, хозяйка снова явилась в прежнем виде, лучистые очи ее блеснули Константину очаровательным взором, и, вместо словесного привета, она послала воздушный поцелуй своему любимцу. Какие-то невидимые струны зашевелил этот поцелуй, потому что вслед за ним вдруг раздались тихие, сладостные звуки, пленительные, как первое слово любви; под звуки этой музыки хозяйка стала носиться по воздуху в стройных роскошных движениях, исполненных невыразимой неги; каждое из ее движений было одушевлено мыслью, согрето чувством и, сверх того, открывало в ней новую прелесть перед увлеченным, очарованным зрителем этого неожиданного балета. Никакому воображению не придумать тех разнообразных, неподражаемых поз, которые в полетах воздушной баядерки сменялись одна за другою с быстротой молнии. Тоны музыки изменялись точно так же быстро по прихоти танцовщицы, как будто какая-то таинственная сила подчиняла эти тоны движения, и те и другие выражали поочередно то шумную радость, то уныние или томную негу, то бурным потоком врывалась страсть в мелодические звуки, и тогда из очей красавицы сыпались искры огня, словно алмазы… Тогда белая грудь ее, как драгоценный опал, загоралась внутренним пламенем, алеющим сквозь нежную полупрозрачную оболочку. Она была невыразимо прелестна, а дивные звуки врывались в душу. Константин слушал, смотрел, дрожал от восторга, изнемогал, замирал и оживал снова, и тогда его дыхание веяло пламенем. В нем наслаждение доходило до степени страдания; но с этим страданием он бы век не расстался, за него бы он готов заплатить жизнью… Но, чу! Утренний воздух пахнул чрез полуотворенное окно, пляшущая сильфида вздрогнула, крылышки ее опустились, она склонилась головкою в ту сторону, где стоял Константин, и залилась слезами. Сквозь неиссякающие ручьи слез она обратила на него такой печальный взор, что казалось, она прощалась навек с молодым художником. Еще миг, и она, отряхнув последнюю слезинку, сделала угрожающий знак Константину, потом издали послала ему прощальный страстный поцелуй, и ее не стало более; видно — она исчезла вдруг, точно так же как появилась. Свет, озарявший комнату, исчез вслед за нею; Константин вскрикнул. Дико прозвучал его голос в пустой и темной комнате. На другой день Константин тщетно искал на картине группу, начертанную таинственною рукою: ее не осталось и тени, но зато, когда он сам принялся за работу, та же группа стала быстро ложиться под кистью, как бы по контуру, проложенному мелом. Нужные краски были расправлены, все было подготовлено, и Константин уже знал, кому он обязан всеми нужными приготовлениями, и в душе благодарил услужливую хозяйку. Но скоро его взяло раздумье, об этом загадочном явлении и о взаимных отношениях между ним и этой непостижимой хозяйкой. Тысячу предположений перебродило у него в голове; то он старался уверить себя, что все это был сон, то опасался за свой рассудок; иногда подозревал даже, что над ним подшутили товарищи. Но когда он припоминал все чудные обстоятельства прошлой ночи, он должен был поневоле убедиться, что в этом явлении было много такого, чего никак невозможно было истолковать, не прибегая к верованию в сверхъестественное. Долго думал Константин и наконец устал думать и благоразумно решился бросить напрасные догадки. Остальную половину дня он не жил, он только ждал ночи. Ночь на этот раз ужасно мешкала. Пришла и ночь, но ожидания Константина не сбылись. Напрасно просидел он с вечера вплоть до рассвета: хозяйка не показывалась, и даже вещи, оставленные им в беспорядке, оставались в том самом положении в продолжение всей ночи. Но утром он едва успел растворить окно и выглянуть на улицу, которая начинала оживляться движением народа, как все зашевелилось в мастерской под надзором невидимой хозяйки; когда он оглянулся, все было по местам и в таком порядке, что лучше и желать нельзя. Константин вздохнул. С приближением многих последующих ночей возобновлялись те же ожидания, и их постигала та же участь. Утомившись наконец напрасными желаниями, Константин покорился грустной необходимости пользоваться благодеяниями невидимой хозяйки, не имея возможности ни полюбоваться ею, ни излить своих чувств, ни расспросить ее о загадочном ее бытии и о взаимных отношениях, вольных или невольных, но явно существующих между ними. Оставив напрасные ожидания, он с новым рвением предался живописи, и скоро оказались необыкновенные успехи. Но вместе с усовершенствованием в искусстве возрастала также и требовательность молодого художника. Теперь он уже не был доволен тем, что прежде привело бы его в восторг; он нередко бросал в огонь работы, которые бы сделали славу любому из его товарищей; какой-то тайный голос шептал ему: «Ты можешь, ты должен сделать лучше!» И в самом деле, каждая новая работа затмевала предыдущую. Но всем этим успехам и начинаниям Константин уже был сам единственным ценителем и судьею, потому что с той незабвенной ночи его мастерская не отпиралась более ни для кого. Она сделалась для него таким сокровищем, над которым он дрожал день и ночь, как скряга над золотом; дозволить постороннему взгляду проникнуть в эту таинственную храмину казалось емупреступлением; а может быть, кто знает, он как ревнивец сторожил свою хозяйку, боялся знакомить ее с своими товарищами, чтобы ей не вздумалось изменить ему в пользу другого. Всякий раз, когда он должен был оставлять мастерскую, он заботливо осматривал все углы комнаты, притворял окно, двойным замком запирал дверь и, положив ключ в карман, беспрестанно его ощупывал. Одним словом, в Константине стали замечать все привычки и ухватки скупого, которому удалось неожиданно приобрести несметное сокровище. В то же время хорошенькая Беппа стала худеть и ее часто можно было встречать в том переулке, где была мастерская Константина, и всякий раз или глаза у бедняжки были заплаканы, или они сверкали гневом. Порог таинственной мастерской оставался ненарушимым даже для Беппы.VI
Прошел год без всякого изменения в поступках Константина, который день ото дня все более и более чуждался общества товарищей и по целым дням безвыходно просиживал дома. Только убедившись в тщете своих ожиданий и в продолжение дня утомляя себя прилежной работой, он уже не сидел по ночам и разве только изредка, по какому-нибудь особенному строю мысли, покушался снова подкараулить свою таинственную жилицу. В один летний вечер, по обыкновению вспоминая о непостижимом явлении, Константин заглянул в календарь и рассчитал, что в этот вечер минул ровно год после той ночи, в которую хозяйка явилась ему в видимом образе. Это сближение произвело сильное волнение и в голове и в сердце молодого человека. Что, если бы?.. Эта мысль вспыхнула как искра и скоро охватила пожаром все его чувства. И вот он опять не спит, он опять ждет, опять надеется. На этот раз его ожиданиям суждено было совершиться. Едва пробило полночь, мастерская стала постепенно освещаться, в полумраке сначала появилось белое облачко, из которого с каждою новою струею света все более и более выказывались знакомые, милые черты; наконец облачко совершенно рассеялось, и хозяйка предстала перед художником во всем блеске своей красоты, во всем очаровании заманчивой таинственности. С ее появлением как будто пламя коснулось взора Константина. Не колено преклонил он перед нею, но всю душу свою сосредоточил во взоре, которым встретил милое видение. В несвязных словах полились речи радости, удивления, восторга, страсти и даже страха, что более ее не увидит или опять с ней расстанется на такой же долгий срок. На все эти пламенные уверения и вопросы она отвечала одними знаками; в выражении лица хозяйки было что-то торжественное и печальное, и когда в первый раз ее взор встретился со взором Константина, очи ее были отуманены слезами. Она снова указала ему на его работы, конченные и неконченные, и опять возобновился странный урок, который давала живописцу в их первое свидание. И потом она опять, по-видимому, забылась, развеселилась, расплясалась и своею милою лаской, резвостью своих приемов, обаянием взгляда опять чуть-чуть не свела с ума Константина. Но перед прощанием на лице ее выразилась такая глубокая грусть, что настоящая радость вмиг замерла на душе молодого человека, а на его лице, как в верном зеркале, отразилась ее печаль. Она не плакала, но в какой-то безутешной скорби прильнула своей воздушной головкой к его плечу и долго, долго смотрела ему прямо в очи, как в минуту жестокой утраты мы смотрим на могилу, готовую закрыться над невозвратимым, и закрыться навсегда. Сердце Константина леденело от ужаса под влиянием этого скорбного, глубоко проникающего взора. — Мы увидимся? — вымолвил он наконец прерывающимся голосом. Она покачала головой. — Не скоро? — прибавил он. — Но когда-нибудь!.. Тот же отрицательный знак, только еще печальнее. — Через год? — прибавил он еще, и голос его замер под гнетом мучительного сомнения. Воздушная девушка содрогнулась, казалось, отчаянный крик готов был вырваться из ее груди, но, видно, ей не дано было выражать свои чувства звуками земного голоса; пораженная горестью и страхом, она только ломала себе руки и без слов возвещала своему любимцу какую-то опасность; взоры ее высказывали поочередно то кроткую мольбу, то нежную угрозу, то мучительное предчувствие близкой разлуки. Испуганный, исступленный от горести, Константин также глядел на нее в безмолвном отчаянии и наконец застонал, зарыдал и повторил решительным голосом: — Да! Через год! Это не в последний раз. Нет, не угрожай!.. Я увижу тебя, хотя бы самая смерть неслась за тобою… клянусь… Хозяйка простерла руку к его устам и не дала договорить последнего слова. Потом, бледная, дрожащая, в страхе и в слезах, она смиренно преклонила колена перед ним, и, долго не изменяя положения, она умоляла его, долго чаровала она его такими взорами, перед огнем которых растаял бы лед, распался бы самый гранит… Он понял, что ему угрожает опасность, что хозяйка за него боится, — стало, он дорог ей; за него трепещет, — стало, любит его; о нем проливает слезы, — стало, полюбила его не на одну радость; для его спасения расточает чары своей красоты, — стало, он счастлив, счастлив невыразимо, невероятно, непостижимо!.. — Она любит меня! Она любит меня! — повторял он в восторге, и все моления прелестного создания остались тщетными. Он решился на все, только бы еще раз ее увидеть. Так они расстались. В это свидание Константину удалось набросать черты своей причудливой посетительницы: когда она скрылась, он радовался мыслию, что, по крайней мере, ее верное изображение останется при нем. Но настало утро, и утешительная мечта разрушилась: хозяйка ушла с полотна, которое оказалось чистым, как будто до него никогда не прикасалась кисть живописца. Это неожиданное обстоятельство огорчило, но нисколько не удивило Константина: воображение его уже вполне свыклось со сверхъестественным.VII
Прошел еще год; известный срок был близок. Накануне Константин чувствовал себя не совсем здоровым, сильное душевное волнение беспрестанно пригоняло кровь то к голове, то к груди, ему стало душно и тесно дышать в запертой комнате; чтобы вздохнуть свободнее, он вышел на улицу и нечаянно столкнулся с одним из своих товарищей, добрым малым, который всегда умел ценить его и, без зависти сознавая его превосходство, питал к нему восторженную дружбу. Странности Константина в продолжение последних двух лет только отдалили от него Лоренцо Сперальди, но не успели еще охладить его чувств. И этот раз, как всегда, он встретил Константина самым дружеским приветом. С двух слов он угадал беспокойное состояние его души и с непритворным участием стал вызывать на откровенность. Константин отделывался общими местами о влиянии нездоровья на расположение духа. — Не обманешь, — возражал ему добрый товарищ, — разве я не вижу, что у тебя давно залегло что-то тяжкое на сердце. Промолвись, друг, четверть ноши спадет, а выскажешь все, может быть, и совсем бремя долой; не то поделимся: все-таки будет легче. Тайна в самом деле душила Константина, но никогда еще так сильно, как в этот день, не чувствовал он необходимости облегчить свое сердце. Его мучили темные опасения; день склонялся к концу… Что-то ожидает его в эту ночь? И чем она кончится? Он помнил мольбы, угрозы и слезы хозяйки. Нетрудно было догадаться, что она приказывала ему, умоляла, заклинала его не караулить ее больше. С другой стороны, неотразимое желание влекло его на ослушание: мог ли он даже в силу ее воли отказаться от свидания с нею? Она так прекрасна, ее взоры были так упоительно нежны, ее радость так заразительна, ее печаль так мила, что поспорила бы с весельем! Константина влекла судьба, жребий был брошен, но в ожидании решительной ночи в одинокой беседе с добродушным товарищем тайна просилась на волю, она металась, как мечется птичка в клетке, чуя ненастье. И он решился дать волю тайне. — Слушай, Ренцо, — сказал он, судорожно сжимая его руку, и увлек его в свою мастерскую, в которую уже два года не впускал никого. Ренцо изумился при виде последней, еще не доконченной, картины Константина. Она до такой степени превосходила все его ожидания, что он долго бы еще любовался ею, если бы художник с лихорадочною поспешностью не напомнил ему, что время уходит. — А мне, — прибавил он с каким-то печальным убеждением, — недолго остается беседовать с тобою. Он пересказал все ему, не скрывая и решимости своей в эту третью ночь опять поджидать хозяйку. — Ренцо сам был молод, сам на его месте готов бы сделать то же и потому хорошо понял, что отговаривать был бы напрасный труд. — Но точно ли сегодня покажется твоя невидимка? — спросил он с участием. — Сегодня двадцать третьего июня, — отвечал Константин, — и два раза уже она являлась из числа в число, хотя я, право, не знаю, почему она выбрала именно этот день, а не другой. — Накануне Иванова дня! — заметил Ренцо, — Так и должно быть, если… Гм, покойница бабушка часто рассказывала нам такие были, и почти во всех замешивалась Иванова ночь. С приближением полуночи волнение Константина заметна возрастало, он был бледен, глаза его сверкали лихорадочным огнем. Наконец он настоятельно и нетерпеливо потребовал, чтобы товарищ его оставил, но едва Ренцо успел взять шляпу, как он сам бросился к нему, остановил его и, прощаясь, обнял с каким-то особенным чувством грусти.VIII
Осенью того же года, однажды утром, кто-то постучался у двери мастерской. Это был русский полковник, уже немолодой и безрукий, с хорошенькой осьмнадцатилетней женой. Услышав стук, молодой человек, черноволосый и смуглый, с некоторою досадой оставил работу и встал, чтобы отпереть дверь. Но при виде прекрасной посетительницы приветливая улыбка и лестный взор, исполненный артистического южного восторга, сменили вдруг прежнее выражение досады. Художник пригласил посетителей войти, расточая им все учтивые выражения, какие только мог припомнить на скорую руку. Он говорил по-итальянски. Путешественники слушали его в каком-то недоумении; когда в первый раз на нем остановился взор молодой женщины, она даже отступила и, сильно закрасневшись, в замешательстве крепче оперлась на руку мужа; тот обратился к художнику и сказал по-русски: — Нас уверяли, что здесь мастерская… Молодой человек объявил, краснея, что ничего не понимает. Жена полковника повторила те же слова на плохом итальянском языке. — Да, здесь мастерская Лоренцо Сперальди, к вашим услугам, bellissima signora[37], — поспешил ответить хозяин, еще раз почтительно кланяясь даме. Тогда полковник прибегнул к французскому языку, чтобы извиниться в напрасном беспокойстве, сделанном художнику, потом с военною скоростью готов уже был и отретироваться, — но жена его, имея как женщина более тонкое понятие о приличии, побоялась оскорбить артиста, оставив его мастерскую без внимания, когда случай привел их туда, хотя бы и ошибкой. К счастью, она умела говорить по-итальянски довольно, чтобы кое-как объяснить свое желание воспользоваться случаем видеть его работы. Он не заставил себя просить и между прочими картинами показал ей одну, которая особенно привлекла ее внимание. Она изображала самый простой ландшафт: в стороне были видны какие-то величественные развалины, на первом плане могильный холм, обозначенный простым камнем, а над камнем плачущая девушка. Мысль картины была не сложная и не новая, подробности дышали трогательною простотою; но лицо девушки было чудно хорошо, и в ее непритворных слезах струилась невыразимая горесть. Русская путешественница восхищалась картиной и теперь уже не из одной учтивости приветствовала художника; но с тех пор как он открыл эту картину, какая-то печаль отуманила живую физиономию итальянца: на все похвалы, усердно повторяемые приятным женским голосом, он отвечал с глубоким вздохом. — Это только слабая копия, синьора. Что бы вы сказали, если бы увидели оригинал! — А его можно видеть? — спросил полковник. — Если угодно будет синьоре; если она прикажет, я могу доставить вам это удовольствие. Предложение было принято с благодарностью, несмотря на то, что художник предложил одно довольно затруднительное условие. Надобно было дождаться первого праздничного дня и до восхождения солнца быть уже у Колизея, где он обещал их встретить. Полковник сначала попробовал было сказать слова два о неудобстве такого раннего похода для дамы, но полковнице это показалось чрезвычайно оригинальным, а потому восхитительным, и в силу последнего прилагательного предлагаемая прогулка поступила в разряд необходимых, самых важных дел; два-три выразительных взора, злодейски брошенные на влюбленного мужа, и дело было решено и скреплено обоюдным обещанием сойтись в назначенном месте. Исправность в выполнении условий оказалась такая, что едва Лоренцо Сперальди успел поравняться с Колизеем, как уже коляска во всю конскую прыть выезжала из Кампотваччино и вмиг поравнялась с пешеходом. — Мы не заставили себя ждать, не правда ли? — спросила у артиста незнакомка, с обворожительною улыбкою подавая ему хорошенькую ручку, покрытую такой перчаткой, которая изменнически выдавала все милые округлости. Ошеломленный художник пролепетал невнятно какую-то глупость, а полковник, вежливо с ним раскланиваясь, весело прибавил: — Ну? Уж наделали же вы нам хлопот, любезный артист; еще с вечера началась тревога, и целую ночь мы сторожили час, как будто готовясь по известному сигналу на пролом неприятельской крепости. Что же делать? Командиром было любопытство женщины! Оно и теперь готово командовать, лишь бы его слушали. Сделайте милость, синьор Лоренцо, ведите нас скорей к вашему оригиналу, я, право, не хочу верить, чтобы он мог быть лучше такой совершенной копии. К крайнему удивлению путешественников, ожидавших, что Лоренцо поведет их в какую-нибудь загородную мастерскую, он от Колизея повернул направо, где не было видно никакого жилья; но удивление их возросло еще больше, когда, поместив их у стены одной расселины, он заставил их обратить внимание и взоры налево: им бросился в глаза тот самый ландшафт, который был изображен на картине. И на таком же могильном холме сидела девушка; она была так же прекрасна и так же безутешно плакала. Изумленные зрители нашли только, что следы страдания глубже выказывались на чертах оригинала; что в позе девушки было здесь более небрежности, красноречиво обличающей горесть; художник сам совестливо указал им на эти оттенки. — Потому-то, — прибавил он, — я часто хожу сюда поверять свою копию и каждый раз, возвращаясь, нахожу нужным тронуть то ту, то другую черту, хотя для другого глаза, может быть, она и показалась бы безошибочною. — А разве эта бедная девушка часто приходит сюда плакать? Кого она потеряла? Чья это могила? Путешественница наделала еще много вопросов: теперь эта девушка и эта могила заняли ее в тысячу раз сильнее картины. Она была молода, а в юности сердце мягко, словно воск, и так же восприимчиво под гнетом впечатлений. Между тем девушка, выплакав на этот раз все свои слезы, поднялась с могилы, взяла лежавшую на траве корзинку с овощами и, перекинув ее через плечо, пошла по дороге в город. — Здравствуй, Беппа! — сказал ей Лоренцо, когда она поравнялась с развалиной, прикрывавшей маленькое общество. Девушка уныло подняла свои большие черные глаза, без удивления и без замешательства обратилась на зов итальянца и, молча ему поклонившись, продолжала идти своей дорогой на торг. Повинуясь убедительной просьбе хорошенькой путешественницы, Лоренцо, после нескольких отговорок, согласился рассказать ей историю могилы и Беппы. Уже три месяца, как в этой могиле покоились смертные останки Константина Л. Наутро после третьей Ивановой ночи его нашли мертвым в запертой мастерской. Доктора решили, что он умер от внезапного воспаления мозга. Все художники, умевшие оценить блестящие начала молодого живописца, жалели о его преждевременной смерти и удивлялись ей как совершенно неожиданной. Один только Лоренцо значительно качал головой всякий раз, как заходила речь о внезапной кончине его бедного товарища. Иногда он жестоко упрекал себя в том, что не отговорил Константина дожидаться бедственного свидания или не остался с ним, чтобы разделить опасность. Когда Лоренцо, приступая к своему рассказу, объявил, что покойный его товарищ был русский, участие слушательницы удвоилось; когда же он назвал Константина Л., она вздрогнула, но, скоро оправившись, просила еще убедительнее продолжать рассказ, и по мере того как живописец Лоренцо высказывал ей странную повесть, внимание ее все более и более возрастало и нередко слезы струились из прекрасных глаз. Между тем полковник, не понимая чуждых слов, бродил кругом развалин, наконец подошел к могиле и, прочитав надпись, сказал: — Лиза, поди сюда, милая. Знаешь ли, кто здесь похоронен? Сын твоих деревенских соседей. Бедный молодой человек! Бедные родители! А мы думали найти его, когда случай привел нас в мастерскую синьора Лоренцо! — Вас не обманули; точно, это была прежде его мастерская, — сказал, задумавшись, Лоренцо, который уже оканчивал свою повесть. — Как? Неужели та самая?.. — прерывающимся голосом спросила Лиза. Лоренцо вздохнул и молча отвечал наклонением головы. В следующий праздник Лоренцо Сперальди пошел еще раз взглянуть на свой оригинал. Неизменная в своем привычном посещении Беппа уже была там; но на этот раз она была не одна. Еще издали возле красного гонеллано{57} итальянской крестьянки Лоренцо увидел широко развевающиеся складки белого кашемирового бурнуса; подойдя ближе, он узнал знакомую русскую путешественницу. Она сидела на гробовом камне рядом с Беппой; нежно обнявшись, как две сестры, они плакали вместе. Изумленный художник едва верил собственным глазам. Что же свело этих двух женщин? Как сошлись они, как поняли друг друга? Одна, воспитанная в неге и в пышности, с утонченными понятиями, с образованным умом и во всем блеске роскошного наряда; другая — простодушная бедная крестьянка, чья целая жизнь однообразно снуется в неизбежных переходах из родной деревушки на ближайший торг и с торга обратно в ту же деревушку; одна — чужестранка далекого севера, другая — дочь юга, взросшая под этим жарким небом; все в них так несхоже; как же слетелись они из двух противоположных полос земли, будто две однородные песчинки, которым суждено одною бурею быть брошенными на один берег, и не могила ли есть тот берег, куда все, что живет, стекается на равных условиях? Самая красота двух плачущих женщин представляла разительную противоположность. Бледное лицо Лизы, ее светло-голубые глаза, подернутые томною влагой, и каштановые волосы мягче шелка служили как бы воздушным, прозрачным оттенком резким чертам хорошенькой итальянки, на лице которой самая печаль имела выражение живой страсти, а чувство покорности гордо скрывалось за фанатическим верованием в неотразимую судьбу. Между тем как души их казались разверстыми друг для друга, как слезы их смешивались и дружно лились на одну могилу, Лоренцо слышал, как Беппа своим звонким, выразительным голосом говорила чужестранной синьоре: «Che volete? Era nato pittore, non era il vostro, ne il mio, benche siamo qui insieme, e piangemmo!» «Что делать! Он родился живописцем! Он не принадлежал ни вам, ни мне, хотя мы обе здесь и обе плачем!» Может быть, некоторым, более прочих взыскательным читателям заблагорассудится потребовать у автора отчет о том, что сталось с хозяйкой после смерти ее любимца-художника? Может быть, иные спросят даже, кто была эта хозяйка? Ответы готовы заранее; вот они: имя и отчества не знаем. Что же касается до дальнейших похождений хозяйки, то до сих пор, к сожалению автора, он ничего не успел разведать, и этого отнюдь не должно ставить ему в вину: эта странная, причудливая хозяйка живет в таком мире, откуда нелегко добыть языка! Не лучше ли оставить ее в покое, а то, чего доброго, как бы не вздумалось ей сыграть новую штуку и сбежать с печатных листов точно так же, как она сбежала с полотна.
М. С. Жукова Дача на Петергофской дороге{58}


I
Это был такой добрый, такой превосходный молодой человек, что, право, невозможно было не интересоваться им. Он был уже в отставке и жил со старушкой-матерью в Петербурге, на Литейной, где нанимал очень хорошую квартиру во втором этаже, ездил в Михайловский театр, обедал нередко в Английском клубе, имел несчетное множество тетушек и дядюшек, значительное имение в Тульской губернии и такое же точно значительное количество — долгу. Что делать! В молодости он служил в гусарах… позашалился, проигрался; мать была в отчаянии, а тетушки?.. Об них нечего и говорить! Особливо одна тетушка, Елена Павловна; эта решительно была уже вне себя. По всему городу, то есть по всем знакомым домам, точно будто бы тревогу били тетушки, и везде слышно было по секрету: «Бедная сестра! Несчастная женщина! Повеса! Погубил бедную мать. Если б был отец, конечно, уж не то бы было», — и тому подобное. При таком множестве тетушек, конечно, было так же много и кузин; кузины также шумели и даже плакали; но они говорили: «Это просто несчастно; Евгений превосходный человек; святая, небесная душа! Он был завлечен, но он исправится… о, это верно!» Собрались все на общий совет, тетушки и дядюшки, и решили заложить имение, но заложить уже все, хотя бы и половины было достаточно для уплаты долга. Тетушки и дядюшки думали так: остальные деньги отдать в верные руки, чтобы процентами уплачивать в совет; явная выгода: совет удовлетворен и капитал остается. Дядюшки, особливо тетушки, были очень расчетливы. Княгиня согласилась… Я забыла сказать, что интересный молодой человек был князь. Дела немного поуладились, и тетушки успокоились. Но жизнь в Петербурге дорога, очень дорога. Общество имеет свои обыкновения, от которых уклониться нельзя иначе как оставя его. Петербург, что ни говорите, — просто маленький городок, где всех и всякого знают; следственно, малейшая перемена в образе жизни неминуемо производит толки. Сейчас начнутся: как? что? отчего? а! скупится, экономничает: видно, пришло плохо. И, стало быть, уже так плохо, что никакого средства нет, когда уже дал всем заметить. Жаль, право! Другие скажут: поделом! А третьи хоть и ничего не скажут, но так вздохнут, как будто бы у них гора с плеч свалилась. Ведь чужое счастье иным, право, гора на плечах! Ну, теперь я спрашиваю, где стоик, который под бременем подобных заключений покойно, равнодушно явится в залах, где прежде бывал, как и все, разумеется? Разорился? Это еще ничего. Мало ли людей, которые в долгу как в шелку, а бросают деньгами, как богатые. — И хорошо. Но признаться, что разорился: следственно, не оставит тысячи на карточном столе, не пойдет в итальянскую оперу, не бросит денег на ужин с приятелями, не возьмет лотерейного билета, потому что… потому что… ему не на что, — вот что превосходит человеческие силы! Вот что требует истинного стоицизма!.. Но такого стоицизма еще никто не имеет, нет. Лишать себя необходимого, лишь бы о том никто не знал, вертеться на железной постели, придумывая, как ускользнуть от кредиторов, скрепя сердце и заглуша еще не уснувшую совесть, обманывать направо и налево — это еще возможно. Но признаться, что обеднел?.. О, нет! И этого-то никто не мог сказать о князе и княгине. У них все было по-старому: карета и лошади, и кресло в Михайловском театре, и раз в неделю обед для дядюшек и тетушек, — все как и прежде! а там… Бог знает как случилось, только вдруг капитал, отложенный для уплаты в совет, исчез так, что и в руках не увидели. А там неурожайные годы, мужиков кормить; а там урожайные, сбыта хлебу нет. Беда за бедой! А квартира, карета и обеды по-старому. Начались недоимки, описи, чуть не дошло до публикаций в газетах. Право, жизнь семейства в подобных обстоятельствах — настоящая драма, полная тревог, опасений, отчаяния и, разумеется, — надежд, небесных утешений, жертв. Никто только не хочет видеть в ней поэзии, потому что главная основа ее — деньги, этот первый движитель нашего века, которого один звук сотрясает все фибры сердца, — и ему отказывают в поэзии!.. Имение было все перезаложено в частные руки; еще кое-какие были сделаны обороты. Одним словом, это был настоящий тришкин кафтан, и, однако, тетушки на семейных съездах толковали о том, как бы его еще поукоротить. Интересны были эти толки. Конечно, это случалось не тогда, когда обыкновенно обедали все родные: княгиня почти никуда не выезжала, — а как она была старшая в роде и в большом уважении, то редкий вечер проходил, чтоб у нее не было трех, четырех сестриц с дочерьми и нескольких братцев; играли в преферанс, и вот тогда-то, между преферансом и разъездом, а иногда и за преферансом толковали о семейных делах. Тетушки предлагали свое имение, рассчитывали, сколько недоимки, когда сроки, сколько дохода в этот год, как бы увеличить его, и проч. При таких разговорах князь, обыкновенно почтительный и добрый сын и племянник, выходил из своего характера, спорил, убеждал, что все подобные разговоры совершенно ни к чему не ведут, и оканчивал тем, что брал шляпу и уходил со двора. Княгиня, слегка раскрасневшись, начинала проворнее обыкновенного вязать свое филе{59}, а тетушки — кто бранить, кто жалеть Евгения, не совсем искренно извиняя его; одна Елена Павловна, его постоянная защитница, чистосердечно брала сторону любимого племянника. Елена Павловна была превосходная женщина и истинно любила его. Она была замужем за генералом… Это был также превосходный человек! От нижних чинов до густых эполет служил он в комиссариате, можно сказать, вырос там и знал дела как свои пять пальцев. Они нанимали в Коломне; жили очень хорошо, — разумеется, не в большом свете: генерал был озабочен, занят, да таки и не любил большого света. У них был свой круг, свои вечера — и преприятные! Говорили, что Иван Григорьевич, его превосходительство Иван Григорьевич, имел состояние, и хорошее; впрочем, никто не помнил, чтоб кто-нибудь из родных или друзей был должен Ивану Григорьевичу, его превосходительству Ивану Григорьевичу — он очень любил, чтоб его так называли. Иван Григорьевич имел одну из тех счастливых физиономий, которые издали еще, кажется, говорят: «Батюшка! рад бы душою! но верите ли? самому до зарезу…» Потому Елена Павловна, при всей своей любви к племяннику и сестре, могла служить им только советами и не скупилась на них. Впрочем, Елена Павловна была не только превосходная женщина, но и превосходная жена и потому, как многие превосходные жены, служила отголоском своему мужу. «Верите ль, сестрица, — говаривала Елена Павловна, — последнюю беленькую бумажку отдал мне сегодня на расход. Нынче ужасно тяжелые годы». Княгиня улыбалась. Бывало, Елена Павловна, толкуя с сестрою, как бы поправить дела, поговаривала, чтоб племянник вступил в службу, если не хочет по комиссариату, то… по какому-нибудь другому ведомству. Но это не нравилось княгине. Странное творение человек! Елена Павловна и княгиня были родные сестры, одинаково воспитанные, а понятия их были так различны, что трудно и постигнуть, как могло это быть. Точно будто они были с разных сторон света. А между тем история их очень проста. Их было девять дочек у батюшки; они жили в Москве, и все были хорошо пристроены; княгиня была старшею. Ее отдали за князя, тульского помещика, богатого барина. Князь по зимам жил в Москве, кормил встречного и поперечного; осенью ездил в отъезжее поле и держал огромную дворню. Он целый век был попечителем какого-то заведения и умер, оставя долги; поэтому княгиня никак не умела и не хотела понять, что службою можно поправить состояние. Она, вследствие горьких обстоятельств, научилась занимать и не отдавать, забывать сроки, водить кредиторов по нескольку месяцев, при крайности продать… человека… в рекруты… Но поправить состояние службою — при этом одном слове краска вступала ей в лицо, а это обыкновенно было знаком сильного негодования у княгини; между тем Елена Павловна приходила почти в такое же негодование при исчислении средств, о которых мы сказали выше, кроме последнего, однако ж, которое казалось очень извинительным. Что же касается до первых, она никак не могла понять, как княгиня, столько щекотливая во всем касающемся до чести, могла быть так равнодушна к подобным средствам и вместе с тем имела столько предубеждения против ее дружеских советов насчет службы племянника. Впрочем, это несогласие в образе мыслей никак не доходило до неудовольствия и все споры на этот предмет обыкновенно оканчивались шуткою со стороны Елены Павловны, которая называла племянника грансеньором, сопровождая это название такою добродушною улыбкою, что не оставалось никакого подозрения в иронии. Что делать! превосходная женщина видела, что напрасно будет настаивать на своем предложении. Елена Павловна была отдана за Ивана Григорьевича не по любви и не за богатство (у него родового не было ни души); но один дядюшка уверил мать Елены Павловны, тогда уже вдову, что у Ивана Григорьевича голова лучше, нежели у другого тысяча душ, и то таких, которые дают пятнадцать на сто. Иван Григорьевич вполне оправдал доброе мнение дядюшки и доказал, что голова у него действительно лучше тысячи душ. Елена Павловна хоть и говорила обыкновенно: «Мы люди простые; куда нам за богатыми да за знатью!» — однако пользовалась всеми выгодами богатства. В обществе мужа она скоро приобрела тот навык, который судит людей с первого взгляда, и потому сама видела, что любимый племянник не то чтоб мог сам собою заменить ценность тысячи душ, которые дают пятнадцать на сто, но что даже он… хуже, чем мертвый капитал, что он как капитал умирающий, то есть который вечно в убытке пятнадцать на сто. Ужасное положение! Особенно для такой доброй тетушки. Княгиня, — это дело другое, — княгиня думала, что Евгению только нет счастия, а будь оно, давно бы оценили его и хоть в министры. Елена Павловна думала было посоветовать заняться хозяйством. Но как сестрице уехать с Литейной? Она, кажется, в другом месте и существовать не может. Оставалось одно — женитьба, и Елена Павловна ухватилась за эту мысль. И спит и видит женить Евгения на богатой. Но и тут препятствие. Сколько раз слыхала она от Евгения по случаю женитьбы на богатых: продать себя! Фи!.. Жить имением жены! Зависеть от женщины из-за куска хлеба и тому подобные, вы согласитесь, романтические бредни. Но вода и камень долбит, говорит пословица; нужда хороший учитель, думает Елена Павловна и не теряет надежды. Сперва шуткою, потом и серьезно, но каждый день говорит одно и то же; ее слушают, и смеются, и опять слушают. Между тем она не дремлет: и о той подумает, и о другой повыспросит; поедет к Чухиным и к Селигеневым и там посмотрит, и в другом месте. Словом, искать невесту сделалось единственною жизнью Елены Павловны, найти — целью, к которой устремилась вся ее деятельность. И вот, что утро, она в карету и из Коломны в Сергиевскую, оттуда на Васильевский остров и т. д. Как лошади только носят! Вот один раз княгиня только что встала и в белом утреннем капоте расположилась, по обыкновению, на своем маленьком канапе, за столиком, на который только что поставили душистый кофе в фарфоровом кофейнике, вдруг — Елена Павловна. Княгиня несколько удивилась. — А! сестра! Как это так рано? — Здравствуйте, сестрица! Каковы вы? А я, представьте, вчера была у Белугиной и играла там до двух часов! Затянулись ремизы… Ну, что будешь делать? — Что же ты сделала? — Проигралась, разумеется, и еще Ивану Григорьевичу даже не сказала. Такое несчастье, что ужас! Да это бы что еще… — Да каково с дачи-то ехать домой в два часа ночи! Ведь она на шестой версте? — Нет, это не те, эти на островах, на Каменном. Да что до этого? Знаете ли что? — Что такое? — Ведь она меня сегодня везет к невестке на дачу. Вот к той-то, что живет на Петергофской дороге. — Ну, что же из этого? — Как что? Ведь на той же даче живет старушка Байданова. Вы знаете ее? — Байданова? Нет. — Ах, как же! Вы забыли. Помните, один Байданов служил в кирасирах и был убит в турецкую кампанию, а другой, — их было два брата, — другой служил в Опекунском совете в Москве; дом у них был на Никитской. — Да, да, да! постой. Кажется, он был женат на… Сумбуровой? — Марье Сергевне, которой брат был женат ка княжне Арнаутовой. Дом у них был на Пречистенке, большой с колоннами. Помните, бывало, тетушка Вера Михайловна еще часто езжала к ним? — Помню, помню. У них-то я и видала Байдановых. Один из них был влюблен в покойницу сестру, Машеньку. — Это тот, что был убит. — Нет, кажется, другой. — Нет, я ведь знаю. Тот так и умер холостым. А другой-то женился на Сумбуровой еще прежде нашего приезда в Москву. — Точно. Теперь помню. Ведь у них, кажется, было двое детей? — Как же! Дочь за князем Бацевым, а сын был женат на Лохиной. — У которых именье в Пензе? — И чудесное. Недалеко от дядюшки Кирилла Петровича. Если от нас ехать к дядюшке, то надобно проезжать большим селом, церковь на горе, большой пруд и плотина премерзкая… Помните, бывало, матушка-покойница, грязь ли, что ли, уж непременно выйдет из кареты. Огромное село! Как бишь его? Ялки… Ялково. Точно, Ялково. Вот видите, оно было дано в приданое за матерью Лохиной, а Лохина отдала его, по духовной, дочери, что вышла за Байданова. Тысяча пятьсот душ — незаложенные. Какие покосы, какие сады! Да ведь, я думаю, вы помните? — Как же не помнить! Да я знаю Ялково, как наше Индриково. Ты, видно, сама-то забыла; матушка с покойной Лохиной жили, что называется, душа в душу, и нас, бывало, детьми еще, почти каждую неделю туда возили, и ночевали мы там, и они у нас иногда дня по три живали. Да, конечно, ты этого помнить не можешь, потому что была очень мала тогда, а после Лохина умерла. Он уехал, и мы с тех пор в Ялкове только и побывали, что проездом. — Видите, сестрица: после этого Байданова, что женат был на дочери покойной Лохиной, осталась одна дочь, единственная наследница. — Неужели же Байданов умер? Ведь он должен быть еще очень молод. — Давно умер, и жена умерла, и осталась только одна дочь, одна-единст… — Как все это умирает! — сказала княгиня задумчиво. — Как теперь помню: он был очень недурен собою, видный мужчина… — Дочь, говорят, две капли воды он и, представьте, одна-единст… — Жена его, Марья Сергевна, была очень дурна; такой огромный нос, да и глупе´нька была… — Ах, сестрица! Да ведь вы это говорите о старике Байданове, что на Сумбуровой был женат. Да тех уже давно нет. А это сын его, что на Лохиной был женат. Вот у него-то осталась дочь, одна-единст… — Точно, я смешала. Так неужели и он умер? — В польскую кампанию был ранен; поехал лечиться за границу и там умер. А жена его умерла года два тому назад у себя в подмосковной; только ее отвезли в Ялково и там схоронили. А теперь вот их-то дочь и живет на даче, на Петергофской дороге, с бабушкой, Марьей Сергевной, которую вы помните. — Как бы я хотела ее видеть! Она была предобрая. Представь себе, я ее не видела… сколько? постой. Мы тогда жили на Фонтанке. — Это когда? Как они в Петербург-то уезжали? — В какой Петербург! В саратовскую деревню. Они приезжали проститься. Мы никогда уж с тех пор и не видались. — Ах, сестрица! Так вы тогда жили под Новинским, у Девяти Мучеников. — Станешь ты меня уверять! На Сретенке, близ монастыря; уж я так это помню. Покойный князь Сергий Васильич был тогда на Кавказе, и я его ждала, а они и приехали прощаться. Я очень знаю. — Ну, может быть. Только мне кажется, что вы жили под Новинским. — Как это ты споришь? Мы под Новинским жили, когда князь Сергий повез Евгения в корпус. — Точно, точно. — Ну, да как же мне не помнить? Ведь это ты все забываешь. — Дело не в том, сестрица. А видите ли: у Байдановой с лишком две тысячи душ, да у бабушки, после которой она одна-единственная наследница, конечно, только пятьсот душ, да денег, говорят, будет тысяч триста, если не больше. — Так что же? — Как что? Надобно на ней женить Евгения. — Да, попробуй-ка, уговори его! — Право, сестрица, я вам удивляюсь. Как это вы никакой власти не имеете над сыном? Помилуйте; да ведь это уже явная польза? Я сказала бы на вашем месте: хочу, да и все тут. — Видно, что у тебя своих детей нет. У него, матушка, своя голова; он уж на своих ногах: так приказания тут не очень у места. — Если и так, то можно уговорить. Что же делать, сестрица? Уж если это пропустим, так ведь уж просто погибель. Он не дурак: как же ему не понять, что надобно же как-нибудь выпутываться из беды! — Поговори с ним, попробуй. — Только бы мне уговорить его ехать со мною к Белугиной, — сказала превосходная женщина, в одно мгновение забыв неудовольствие, нанесенное сомнением сестры в успехе ее предприятия. — У Белугиной он увидит Мери; она очень хорошенькая и, верно, ему понравится. А там… не отказаться же от невесты, потому что она богата? — Ты говоришь об этом, как будто все дело состояло только в том, чтоб захотел Евгений. Да там захотят ли? — Послушайте, сестрица. Белугина знакома с старухою Байдановой и говорила уже ей обо мне. Она у нее сегодня будет и меня познакомит с нею. Я напомню старухе о вас, о старине, и, поверьте, это дело — сладится. — Друг мой! Да невеста-то захочет ли? — Что вы это, сестрица? Да как ей не захотеть? Князь хорош собою, молод; всегда живал в лучшем кругу. Вы согласитесь, уж там что другое, а смотрит барином. Уж я вам говорю — грансеньор… Я вам вот как скажу. Белугина мне говорит, — вы знаете, мы с нею всегда дружны и откровенны. «Алена Павловна! — говорит она вот вчера даже. — Будь у меня дочь, по рукам и по ногам бы связала, а уж отдала бы за вашего Евгения Сергеича». Княгиня рассмеялась. — Да Евгений-то не взял бы связанную. — Вот то-то и беда с вашим Евгением. Но погодите: неволя его исправит. В эту минуту в комнату вошел молодой человек высокого роста, стройный, несколько бледный, с черной бородкой, прекрасными, слегка завитыми волосами и со взором… о, это был взор, от которого сходили с ума все кузины и тетушки, особенно тетушка Елена Павловна. Вся прекрасная душа Евгения рисовалась в этом взоре, со всеми ее неземными совершенствами, которых свет не умел ни понять, ни оценить, как говорили кузины и Елена Павловна. И в самом деле, у Евгения была прекрасная душа. Он любил добро и хотел добра. Но это желание добра было в нем, как и во многих из нас, подобно чужеземному растению, занесенному на неродную ему почву. Само-то оно и взойдет, и красиво, и нравится, но не даст семян, не укоренится, потому ли, что в почве нет силы или что непогоды вредны ему. Зато приятно было слушать Евгения, когда он говорил. Какая чистая нравственность! Какие высокие чувства! Какие превосходные правила! Впрочем, и на деле он всегда был таков: чист, высок, благороден, неизменяемо таков… пока противный ветер не сбивал его с этого прекрасного пути. Впрочем, можно ли его винить? Найдите мне человека, который всю жизнь постоянно был бы верен самому себе… Я не говорю, чтоб это было невозможно; если есть люди, которые всю жизнь постоянно верны эгоизму, которому жертвуют всем, никогда не останавливаясь, то, конечно, могут быть и такие, которые будут верны однажды принятому хорошему правилу. Здесь недостаток, следственно, не в твердости? Этот молодой человек с превосходной душою, которого собирались женить на двух тысячах душ, вошел и поцеловал мать, потом тетку, закурил сигару и обратился с вопросом к Елене Павловне: — Что так рано сегодня, тетушка? — Дел много, — отвечала княгиня. — Племянника хочет женить… — Вот, сестрица, все дело и испортила. — Женить? Опять? На ком же? Я не прочь. — Ну, уж если ты теперь не женишься, Евгений, то я тебе скажу, что это будет уже ни на что не похоже. — Да, пожалуй, тетушка; только скажите на ком. — Нет, я тебе не скажу; а только, если ты сколько-нибудь меня любишь, если ты имеешь ко мне хоть тень дружбы… — Помилуйте! что это за предисловие. — Да, да, если ты любишь меня, поедем со мной к Белугиной. — К Белугиной? Боже мой! На ком же там меня женят? — Увидишь; только поедем. — Смотреть, как она крадет ремизы? — Евгений! Евгений! — сказала Елена Павловна, грозя пальцем. — Но уж так и быть. Все тебе готова простить, лишь бы ты был у меня послушен. Евгений вздохнул незаметно для дам, по крайней мере для Елены Павловны. — Меня, однако же, это интересует, — сказал он. — На кого еще вы метите у Белугиной? — Да не у Белугиной, — сказала княгиня, — а там есть… — Сестрица, бога ради не сказывайте! Я не хочу, чтоб он знал. — И сама скажешь ему, не доехав до заставы. Когда же вы отправляетесь? — Хочешь, завтра? Нет, постой. Я узнаю когда, в субботу или в воскресенье? Ты дал мне слово? — Располагайте мною. — Сейчас же еду. — Да ведь ты хотела вечером? — Нет, теперь я еще не туда. Мне надобно еще теперь в Вознесенскую. Ужасно далеко, а оттуда уж два шага в Почтамтскую, к Вагиной; там у меня есть еще кое-что на примете. Я буду к вам обедать. Она вышла в сопровождении молодого князя. — Как служат эти лошади! — сказал он, возвращаясь. — Ведь она на наемных. Где же бы своим выдержать? — Да и Иван Григорьевич бы не дал. — Куда же ему дать! Он их жалеет больше, чем ее. Оба замолчали. Княгиня вязала филе, не поднимая глаз. Евгений курил сигарку. Обоих внутренне занимали проекты Елены Павловны, и ни тот, ни другая не хотели сознаваться в том, потому что и тот и другая до сих пор принимали, по крайней мере судя по видимому, за вздор все предложения превосходной Елены Павловны. — Ох, уж эта тетушка! — сказал наконец князь. — Вечно с проектами. Вот об ней-то можно сказать, что она только тогда и покойна, когда ей есть о чем беспокоиться. — Все эти проекты происходят оттого, что она истинно любит тебя, друг мой, — сказала княгиня очень серьезно, посмотря на Евгения, но так, что тот не мог угадать, к чему именно клонилось это замечание. — Я это знаю! Тетушка точно превосходная женщина и, я верю, принимает во мне истинное участие… — Он замолчал. — Что же, Евгений? — сказала княгиня, положа работу и смотря пристально на сына. — На этот раз я предложение ее не нахожу не стоящим внимания. Князь молчал. Княгиня продолжала: — Тебе уж тридцать лет. Пора думать о женитьбе. Ведь мне уже давно за шестьдесят, и как посмотрю на себя… то, право, кажется, пора тебе позаботиться о том, чтоб я могла еще понянчить внучков. — Княгиня сказала последние слова с веселою улыбкою, котораясмягчала то, что было в них горького. — Не говорите мне об этом, мой друг, — сказал князь, взяв руку матери. — Вы знаете, что жизнь мне дорога только вами. — Только мною! Ах, Евгений! Я не желала бы слышать этой песни. Вся наша молодежь или по уши в вихре света, так что не помнит сама себя, или тяготится жизнью, как будто бы не было середины! Князь вздохнул. — Вот женишься, эта тоскливость пройдет. Жена и дети привяжут тебя к жизни. — Матушка! Вы знаете мое мнение насчет женитьбы по расчетам, на богатой. — Я не понимаю, почему эти правила, которые я сама всегда старалась тебе внушить и которые оправдываю совершенно, могут быть препятствием тебе к женитьбе, особенно как предлагает Елена. — Я не понимаю вас. — Она хочет тебя женить, между нами сказать… да она, впрочем, сама тебе и сегодня же это скажет, на Байдановой; ты знаешь ее? — Я слышал о ней, но нигде не случалось мне ее встретить; говорят, хорошенькая. — И очень. Ты не встречал ее нигде, потому что бабушка ее, с которой она и живет, простая женщина, даже глупе´нька немного и никогда не умела поддержать себя в хорошем кругу. Покойный отец Мери, невесты-то, имел очень хороший круг, но он умер; жена его была больная женщина, от всех удалилась по болезни своей, и теперь Машенька, которую они называют Мери, решительно никого из старых знакомых не имеет. А бабушка знакома только с Белугиными и с Вагиными да бог знает с кем, — и бедная девушка, разумеется, должна также быть в этом кругу. Но я слышала о ней прежде; говорят, мать дала ей очень хорошее воспитание. Видишь ли, мой милый Евгений, я Байдановых давно знаю и со старухою была знакома, и даже дружески, а невестку-то ее, то есть мать Машенькину, ребенком еще знала. Наши семейства всегда были дружны. И я не вижу ничего неравного в этой женитьбе, если мы забудем то, что ты в лучшем кругу, — я не говорю о княжестве, это пустое дело, однако ж, при связях и родстве, это дает шаг в свете: Машенька, выходя за тебя, будет везде принята как твоя жена, а что ж она теперь? И где? И с кем? — Поверьте, что с ее состоянием она всегда будет иметь мужа, который введет ее в лучший круг. Деньги везде главное. — Не говори этого. Там как хочешь рассуждай, а княжество всегда имеет свою цену, верь мне. И если Машенька всегда может иметь такого жениха, как ты, то и ты уж всегда же будешь иметь такую невесту, как Машенька. Между вами, по моему мнению, дело только в том, чтоб понравиться. А как я Байдановых давно знаю, то, признаюсь тебе, желала бы, чтоб ты увидел эту девушку и чтоб она тебе понравилась. Вся эта речь могла быть переведена так: «Я сама всегда была против женитьбы на богатой; но обстоятельства наши таковы, что должно жертвовать своими правилами. Благородная гордость хороша, но спокойствие еще лучше. Я устала бороться с нуждою и хотела бы умереть с мыслию, что оставляю тебя не во власти ее». По крайней мере, так перевел князь слова матери. Он встал, не говоря ни слова; на лице его отразилась ясными чертами внутренняя борьба, происходившая в душе его. Вот как стала бы смеяться Елена Павловна, если б она узнала о том, как и с какими чувствами принимает племянник благоразумные советы матери! В самом деле, кому же может войти в голову, что можно упираться не то чтоб руками и ногами, а даже и одной рукой при мысли о богатой невесте. Смешное дело! Да как бы ни пришли деньги, лишь бы пришли. Конец венчает дело. Противозаконного тут ничего нет; в уголовную отдать не за что. А ведь только того и должно рассудительно избегать, за что есть ответственность перед судом… Что делать? Князь был немножко чудак: знаете, воспитан в богатстве, до сих пор делал всегда все, что хотел, и, следственно, не бывал или редко бывал в том положении, в которое попадает человек, когда необходимость ставит его в борьбу с принятыми им правилами. Лежа на мягком диване с сигарою во рту, он чувствовал себя хорошо, читая красноречивые страницы умников века: увлекаться их жаром, записываться в их адепты, принимать их правила и верить, что они есть и будут всегда светильниками его жизни. Легко ему было лелеять их, эти правила, пока судьба не вызывала их на поприще борьбы, где противниками им — страсти, нужда, ложный стыд, да еще подкрепляемые примером действительного общества. Однако это случалось, и с некоторого времени случалось часто; зато прекрасные правила и убеждения… как летние гостьи наших рощ при первом морозе разлетаются в разные стороны одни после других, так и прекрасные правила его и убеждения… А хороши были наши гостьи и как мило наполняли уединение темных рощ! Жаль их; также жаль было и князю своих милых убеждений и еще более — веры в свои правила. Но необходимость требовала, и должно было жертвовать. До´лжно было? Почему же до´лжно? — Да… Чтоб наконец быть как и все — как дядюшки, тетушки, как Елена Павловна, эта превосходная женщина…II
Дача, куда ехала Елена Павловна, находилась не помню точно, на которой версте, только это была одна из лучших дач на Петергофской дороге. Когда-то она, как и большая часть этих дач, принадлежала знатному господину и, подобно другим, перешла в руки владельца, которого имя, казалось, само с удивлением видело себя на дощечке, привешенной к воротам, некогда гостеприимно отворявшимся для графов и князей и их дорогих цугов. На этой даче был и пруд, извилистый, как речка, и мостики, и зеленые поляны посреди живописных рощ, и кривые дорожки, теперь глубоко вросшие в землю, и насыпные возвышения, увенчанные храмами, и несколько полуобвалившихся домиков, некогда служивших для помещения многочисленных гостей и проживающих прежних именитых хозяев, а теперь отдаваемых по мелочи внаймы. Но что всего было лучше на даче и, разумеется, менее всего посещаемо, это заречное, — так называлось обширное место, которое отделялось от возделанной части сада прудом и шло до самого взморья едва приметным скатом. Это место было покрыто густым сосновым лесом, частию же оставалось под лугами и болотом. Здесь охотник нередко находил не бедную добычу, а небольшое стадо рогатого скота, пасшееся по полянам, довольно хорошие пастбища. От самого пруда к взморью шла широкая просека и выходила на открытую поляну, на которой росло несколько дубов, может быть современников тем, что некогда падали под ударами ревностной секиры на берегах еще дикой, не закованной в гранитных берегах Фонтанки. Отсюда открывалась часть взморья, плоский остров, покрытый мелким лесом; влево, вдали, весь берег с царственными Стрельною и Петергофом. Тут хорошо было, когда темные тучи облегали горизонт и невидимое за ними солнце, расцвечивая облака, рассеянные по тверди, вдруг разрывало свои завесы, бросало золото на тихие воды залива и снова, скрываясь, преждевременно оставляло вечеру свое царство; хорошо было тогда… особенно когда черный дым парохода, показываясь из-за острова, напоминал воображению широкую картину безбрежного моря. Море было там, за этой одноцветною полосою земли, и душа рвалась к нему, как рвется невольник к милой свободе. На этой поляне пастухи, пасшие поблизости стада, нередко, к удивлению своему, видели двух молодых девушек, как казалось им, вероятно по платью, знатного рода. С ними иногда бывала женщина, пожилая уже, и всегда человек, который, однако же, шел поодаль, как будто боясь быть замеченным девушками. Прогулки их в этом месте, как ни было оно приятно, казались тем более странными, что здесь никто почти и никогда не ходил, кроме, как мы сказали уже, редкого охотника да случайного прохожего. Но это-то, казалось, и нравилось девушкам. Они, видимо, искали уединения, так что даже когда случалось, что на берегу взморья или вдали, по дороге, показывались гуляющие, одна вставала со скамьи, на которой обыкновенно сиживала, и уходила в лес, увлекая за собой и другую, причем легко можно было заметить, что одна из подруг повиновалась другой, как ребенок. Ничто не могло быть различнее этих двух молодых девушек. Одна небольшого роста, с круглыми плечиками, тонкою талией, маленькой ножкой, обутой в щегольской полусапожек, с беленькой ручкой всегда во французской узкой перчатке, одета по последней моде, то есть когда еще эта мода не выходила из аристократических гостиных в мелкие магазины на Гороховую и к Владимирской; с длинными белокурыми локонами, с готовой шуткой на устах и, может быть, с готовою насмешкою, что подтверждал взор живой и несколько лукавый и улыбка, выражавшая презрение чаще, чем благосклонность. Другая девушка была высока, стройна, с темно-каштановыми волосами, гладко зачесанными за уши, с большими черными задумчивыми глазами, бледная и печальная, так что, право, если б кто-нибудь вдруг увидел ее, когда на берегу моря в своем белом платье и белой кисейной мантилье она стоит, опершись на пенек разбитого грозою дуба, и неподвижно смотрит вдаль, этот кто-нибудь принял бы ее за прекрасное изваяние сетования, только что вышедшее из-под чистого резца Кановы{60}. Все черты лица ее были правильны и тонки, движения медленны и благородны. Она говорила мало, улыбалась еще меньше. Немногие могли сказать, что видели улыбку ее, а те, кто видел, жалели, для чего эта улыбка явилась на бледных губах молодой девушки. Улыбка на лице ее была как цветок, забытый поздней осенью, как розы на челе умершей красавицы; она не шла к ней, тем более что тогда глаза ее принимали выражение необыкновенно странное, и улыбка переходила — в дикий смех. Но когда она молчала или, опираясь на руку своей веселой подруги, проходила по темной аллее сада, тихо говоря с нею, она была хороша, но хороша… как тот тихий вечер на взморье, о котором мы говорили, или как воспоминание давно и невозвратно утраченного счастия. Особенностью наряда молодой девушки, постоянно, всегда одетой в белое, была воткнутая за пояс ветка фуксии, той пунцовой фуксии, которой яркие цветки так грациозно склоняются на мелких стеблях своих, как будто желая скрыть от глаз света сокровища красоты своей. Эти ветки обыкновенно оставались по два, по три дня за поясом девушки, пока, свертываясь, засыхали совершенно на груди ее. Тогда девушка становилась задумчивою, печальнее обыкновенного, сидела по целым часам, вертя в руках засохшую ветку, и нередко эта задумчивость оканчивалась одним из тех припадков, которых тайну обыкновенно скрывали от чужих. Впрочем, пожилая дама, которая жила с девушкой, и веселая подруга ее всегда предупреждали подобные явления, и молодая девушка находила утром на туалете своем свежую ветку любимой фуксии, как скоро засыхала та, которую носила она накануне. Такова она была теперь; но весною, когда только что начали съезжаться на дачи, — было совсем другое. Тогда с подругами всегда бывала пожилая дама, и бледная красавица смеялась гораздо чаще, так что по всему берегу иногда раздавался громкий хохот ее, и волны, взбегая на берег, как будто испуганные, убегали назад, унося на сребристых зыбях своих отголосок этого смеха. Взоры девушки были дики, и нередко, сидя на скамье, нарочно поставленной для двух подруг, она обрывала свою ветку и раскидывала около себя грациозные цветки или, необыкновенно проворно вертя в руках нарезанные бумажки, говорила скоро и отрывисто: — Они думают меня обмануть! Не удастся. Вот, видишь, Мери? Всякий кусочек бумажки, что я пущу по воздуху, всякий долетит. О, у меня есть друзья! — Хочешь, я прочитаю что-нибудь, Зоя? — Читать? Очень хорошо читать. Но от этого не разбогатеешь, а мне надобны деньги. Они думают, что у меня нет денег? — Пойдем домой, Зоя. — Домой? Я не хочу. Мне здесь лучше. Здесь у меня друзья. Слышишь, они шепчут? Слышишь, шумят крыльями? Это они слетаются. Я пошлю их к нему. Вот та будет сердиться! Ты знаешь, та? Только тихонько говори, чтоб она не услыхала. О! ведь она хитра! Я вчера видела ее в саду. — Где же? — Ты не знаешь. В моем цветнике, когда мы с тобою сидели на галерее. — Тогда никого не было в цветнике. — Ты думаешь? А я знаю, что там были. Помнишь оранжевую лилию: она как огненная, с черными пятнами, и точно будто дразнится языком, на котором привешен черный уголь. — Тигровая лилия? Знаю. — То-то же. А это не лилия… — И она захохотала так страшно и так дико, что подруга схватила ее за руку. — Зоя, Зоя! — кричала она в испуге. — Если ты не пойдешь со мною, я стану петь, он меня услышит, и я пожалуюсь на тебя. — При этой странной угрозе девушка, казалось, успокаивалась и послушно следовала за своей подругою или начинала плакать, и тогда Мери уводила ее за собою, как ребенка… — Скажите, пожалуйста, какая же родня Байданова этой безумной? — спрашивали на даче. — Она совсем не родня, — был ответ. — Байдановы переехали сюда в конце мая и были совсем даже и незнакомы с безумною, которую привезли сюда еще с самого начала весны, как сказывают. Тогда она была гораздо хуже — не могла никого видеть, особенно незнакомых дам. Один раз, говорят, с нею сделался в саду ужасный припадок оттого, что она встретилась с какою-то дамою в синем платье. Она совсем была помешана, совсем. — Да как же Байданова сошлась с безумной? — Кто ж ее знает! Она сама полоумная; говорят, преизбалованная, делает что хочет; бабушка в глаза ее глядит, никогда и ни в чем ее не останавливает, — она и проказничает себе; насмешница страшная, воображает, что лучше ее никого нет. Всеми пренебрегает, а теперь привязалась к безумной и носится с нею, как с куклою. — Помилуйте, как она ее не боится? Ну как та вздумает драться! — И поделом бы! Жаль только, что та, говорят, смирна. И в самом деле, как было пристраститься — к сумасшедшей? Но что вы хотите? Не было созданья причудливее Мери… Я вижу, вы уже готовы сказать: святое сострадание, сочувствие к страданию, достойное ангела, тайное влечение души, еще незнакомой с горем, к его очистительному соприкосновению… В самом деле, это было бы прекрасно в девушке богатой, счастливой, в любимице судьбы, какою казалась Мери… Представьте себе ее, когда, оставя богато освещенные покои бабушки, она одна, через темный сад, беззаботно и весело идет к небольшому домику, где на галерее, слабо освещенной одною лампою, на диване, окруженном цветами и зеленью, сидит ее печальная подруга… Вот Мери с нею, сбросила мантилью; вот обняла бледную красавицу; вот сидит за фортепьяно и поет, стараясь развлечь свою подругу, забыв и свет и поклонников, которые, вероятно, окружают там ее, веселую, прекрасную, богатую… Надобно вам сказать, что Зоя в самых жестоких припадках своей болезни любила страстно музыку; она певала по целым часам; она говорила, что он слышит ее, что он говорит с нею в музыке. Кто был этот он, она не говорила, да и никто, впрочем, не знал, было ли то действительное существо или создание ее расстроенного воображения. Вскоре по приезде Байдановых… Но для этого вам надобно знать расположение дома, который они занимали. Это был большой, деревянный, довольно старый восьмиугольный дом, в два этажа, с крытыми галереями, с террасами и балконами и до того закрытый густыми липами и березами, что существование его оставалось для вас тайной до тех пор, пока наконец вы подходили к самому крыльцу. Он был построен на берегу пруда, от которого отделялся широкой поляной и двойным рядом деревьев. Пруд на этом месте разливался и образовывал довольно широкое озеро, так что из верхних окон дома это составляло довольно приятный вид, особливо когда месяц, вставая над вершинами, смотрелся в неподвижных водах пруда. Несмотря на ветхость, этот дом был — не скажу удобен, но очень оригинален, что должно было нравиться своевольному воображению Мери. Огромная зала с двумя балконами по концам занимала всю середину дома и, конечно, первоначально была назначена для праздников. Она освещалась сверху и была окружена широкими хорами, с которых разные выходы вели на три разные галереи. Впоследствии хоры были забраны и образовали ряд комнат, которые, окружая залу, составили верхний этаж. Главную приятность этих верхних комнат составляли галереи, с которых взор господствовал над зелеными полянами и густыми рощами или терялся в чаще древесных вершин. Вид особенно был хорош с западной галереи, откуда была видна просека и в конце ее светлая точка, в которой любитель величественных красот природы открывал море, предаваясь при этом открытии восторгам и чувствам à la Byron[38]. Мери занимала большую часть верхнего этажа; нижний же был оставлен бабушке, кроме залы, которая была совершенно отдана в распоряжение Мери. Здесь, в одном конце залы, против самых дверей, отворявшихся в сад, она поставила свой флигель; спрятала колонны под целыми пирамидами гортензий, рододендронов и померанцевых деревьев, обставила миртами и жасминами полуобломанных амуров и фавнов, оставленных прежними владельцами дачи; и здесь-то, одна-одинехонька, между тем как бабушка в маленькой гостиной играла в преферанс со своими гостями, она пела, разыгрывала своих любимых композиторов или, утонув в подушках атласного дивана, окруженного зеленью, читала… В один вечер, — это, как я сказала, уже было вскоре после приезда их на дачу, — бабушка играла в карты, кажется, у Белугиной; Мери сидела за фортепьяно; компаньонка ее, англичанка, работала поодаль на диване. Алебастровая лампа освещала этот хорошенький уголок, бросая странный свет на широкие листья кактусов, между которыми раскидывалось легкими опахалами финиковое дерево, между тем как гелиотроп, гиацинт и резеда, притаившись между гигантскими растениями тропика, разливали свои упоительные ароматы. Двери были отворены; в саду было тихо; деревья дремали в полусне, одетые легким сумраком северной майской ночи… Мери пела… У Мери был хорошенький голос; она пела верно и иногда с большим чувством… по крайней мере, так находили в обществе бабушки. В этот вечер она была особенно одушевлена… Вдруг довольно явственный вздох возбудил внимание певицы; она взглянула на свою англичанку с некоторым чувством самодовольствия, думая: «Как? я так хорошо пела, что даже и она?..» Но самолюбие Мери должно было испытать небольшой толчок: англичанка со всею британскою важностью вытягивала нитки шерсти над натянутою канвою своих пялец, и лицо ее было так важно и так покойно, что не обличало ни малейшего волнения. «Мне так показалось», — подумала Мери и опять запела… Еще вздох, и явственнее прежнего. Мери опять взглянула на англичанку: та сидела бесстрастно, как неподкупный судья. Мери оглянулась на обе стороны. Олеандры неподвижно стояли, обращая пышные цветки свои к дверям, как бы приветствуя светлую ночь; аганантусы{61} величаво поднимали свои голубые короны, но так же неизменны, покойны, невозмущенны, как и лицо молодой мисс, которая все шила, шила, как будто бы ни пения, ни светлой ночи, ни цветов, ни серебристого света лампы не было для нее. Однако ж, вдруг заметив какое-то изменение в окружающей ее сфере, она догадалась, что один из чувственных ее органов, еще недавно занятый, наслаждается спокойствием; она подняла голову и увидела, что Мери не поет… Мисс, вспомнив, что по окончании пения начинается хлопанье в ладоши или, по крайней мере, комплименты, хотела сказать что-то, вероятно вроде «прекрасно!», как вдруг лицо ее выразило необыкновенное изумление, и она приподнялась, устремя большие глаза свои на отворенную дверь. Мери, в свою очередь удивленная движением своей собеседницы, оглянулась… В дверях, из-за густой зелени рододендрона, у самого порога, стояла девушка в белом платье. Руки ее были сложены на поясе, по бледной щеке катилась слеза. Она так была хороша, и эта слеза так красноречиво говорила в пользу таланта Мери, что она, забыв странность и неприличие такого появления незнакомой почти в ее комнате, поспешно подошла к двери; в ту же минуту навстречу ей с балкона вышла пожилая дама и на французском диалекте (что, мимоходом заметим, необходимо было в таком странном положении, чтоб предупредить в свою пользу и не быть принятой бог знает за кого) и довольно хорошим языком просила Мери извинить странность поступка их, говоря, что племянница ее, больная, проходя мимо, была поражена прелестью пения и, как будто каким-то очарованием привлеченная на балкон, остановилась неподвижно, так что она, тетка больной, не могла никак увести ее. Такое ясное свидетельство силы и дарования, заключавшегося в пении Мери, польстило ей, тем более что, имея постоянною слушательницею своею англичанку, она, несмотря на все свои старания, начинала уже отчаиваться в возможности произвести какое-нибудь сочувствие в живом существе. Как светская девушка, Мери приняла нежданных гостей своих с самою изысканною вежливостью и подала дружески руку чувствительной своей слушательнице; та посмотрела на нее своими большими черными глазами и молча вошла в комнату. Лицо ее было странно одушевлено; легкий трепет приводил в движение ее бледные губы; грудь ее волновалась. Удивленная Мери взглянула на тетку: та уже сидела на диване и ясно доказывала, что желает привлечь на себя одну внимание хозяйки. Мери села подле своей гостьи и, продолжая говорить, посматривала на девушку, которая в высшей степени возбудила ее любопытство. Мисс, выведенная на минуту из своего блаженного спокойствия этим событием, опять занялась работою. Между тем девушка мало-помалу становилась покойнее, так что тетка, не выпускавшая ее ни на минуту из виду и понимая, может быть, любопытство Мери, обратилась к ней. — Зоя! не правда ли, мой друг, — сказала дама, — что этот уголок прекрасен? — Вы, конечно, любите цветы? — прибавила Мери. — Очень, — сказала девушка тихо. Голос ее был в такой гармонии с кротким и печальным выражением лица, что, казалось, придал новую прелесть всей ее особе. — Мы соседки, — продолжала Мери, не спуская глаз с девушки, — и я надеюсь, что мы будем видеться. — Мне это будет очень приятно, — отвечала та, — особенно если могу надеяться еще слышать ваше пение. — Вы, верно, сами занимаетесь музыкою? — Да, я пою, и часто. Одна музыка только может передавать чувства наши. — О, вы правы! — сказала Мери с живостью, обрадовавшись случаю показать, что она умеет чувствовать и понимать искусство. — Самая неопределенность чувства, выражаемого музыкой, придает ей прелесть, потому что она позволяет применять выражение ее к тому, что занимает душу. — Неопределенность? — повторила девушка с некоторым изумлением. — Нет. Я знаю, что меня понимают, и понимают так, как я хочу, чтобы меня понимали, и как я понимаю сама, как понимала теперь, когда вы пели… — Сколько ни приятно мне ваше общество, — сказала дама, прерывая племянницу и поспешно вставая, — но должно оставить вас. Вы позволите мне, — продолжала она вполголоса и взяв за руку Мери, — прийти завтра к вам поблагодарить за ваш милый прием и дать вам объяснения, — прибавила она еще тише, — на которые вы вполне имеете право. Мери поняла, что не должно было удерживать странных гостей своих, потому что пожилая дама видимо желала увести свою племянницу и казалась беспокойна, когда та говорила. Мери простилась с ними и, подавая руку молодой девушке, сказала ей ласково: — Я надеюсь видеть вас у нас? — О, да, да! — отвечала больная, оживляясь. — И мы будем вместе петь. Не правда ли? В глазах ее было что-то необыкновенно странное. На другой день дама была у Мери. Она рассказала ей о странной болезни Зои. Это были нервические припадки, всегда сопровождаемые умственным расстройством, которое уменьшалось со временем и возобновлялось с каждым припадком, и тем сильнее, чем сильнее был припадок. Мери просила позволения посещать новую свою знакомую и была принята с непритворным удовольствием. Больная девушка встретила ее, как старинную знакомую. Казалось, минута удовольствия, которою она обязана была Мери в тот вечер, когда слышала ее, заменила для сердца бедной девушки действие привычки. Воображение ее, раздраженное болезнью, в одно мгновение наделило Мери всеми совершенствами, которых сердце ее желало в подруге, и она полюбила ее всею силою души своей. С тех пор Мери чаще и чаще виделась со своею подругою. Ее занимала и эта странная болезнь, столько неизъяснимая в своих явлениях, и странный разговор девушки, которой все чувства, напряженные болезнью, разрывали, как слабый оплот, условия светских приличий и свободно вырывались из души ее в потоке одушевленной речи. Это явление для Мери, привыкшей к стесненному разговору гостиных, где все выкроено, прилажено, как разные составные части узкого корсета, — это явление было странно, ново для нее и потому нравилось ей. К тому же надобно вам рассказать, что такое было положение Мери в обществе, где она была. Старая бабушка утром за гранпасьянсом и при ней две или три гостьи не гостьи, а так — женщины в дареных чепцах и дареных капотах, которые вяжут на продажу ботинки, шьют коврики для лотерей, которые разыгрывают в их пользу, являются с утра в гостиную своей благодетельницы, целуют ее в плечи или в руку и сидят подле нее, при каждом появлении гостей пересаживаясь на другое кресло, подальше, всегда готовые по удалении их опять приблизиться, подсесть, чтобы продолжать ремесло свое — занимать… Да, занимать; ремесло их — занимать благодетельницу, то есть жужжать ей в уши городские новости, домашние сплетни, свои горести, свои нужды, как прежде нашим бабушкам жужжали в уши сказки об Иване Царевиче, слушали ли их или не слушали, — и за это благодетельница дарит обыкновенно свой старый капот, пришлет мучки к празднику, ветчинки… После обеда начинается съезд; приезжают Белугины, Булигины, рассказывают, как вчера проиграли восемь в червях, и между тем берут уже поданную карту, и вот все уселись за несколькими столами… и только и слышно: «играю», «пас», «без одной»… Вы согласитесь после этого, что со стороны Мери оставить подобное общество для бедной Зои — было не слишком большою жертвою. А приятельницы? А обожатели? Первых нет у светской девушки, вторые… вторые казались Мери пошлыми, потому что все были слишком похожи один на другого, то есть все одинаково пусты. Впрочем, узнав Мери покороче, мы увидим, как судила она об обожателях. Ей нравилась в Зое ее оригинальность, — конечно, следствие болезни. К концу лета припадки Зои совсем оставили ее; но в ней осталась чрезвычайная впечатлительность; в немногие минуты — необыкновенная восторженность и всегда задумчивость, которая делала ее чуждою всему, что происходило вокруг нее. Она не знала городских новостей, не знала, кто живет с ними на даче; не знала, какие моды господствуют в свете, не завидовала, не искала похвал, не льстила. Никакие желания, никакие прихоти светской девушки не занимали души ее. Она проходила между людьми как ангел, ничего не заимствуя у людей. Что занимало душу ее? Этого никто не знал, ни даже Мери. Она никогда ничего не рассказывала о себе; но любила говорить о красотах природы, о жизни, о бессмертии, о высоких чувствах человеческого сердца, но всегда говоря вообще и как бы забывая себя или стараясь забыть о себе. Более всего любила она музыку и по целым часам предавалась ей совершенно.III
Между тем на дачах начали говорить о помолвке Мери. Дача на Петергофской дороге — это настоящий маленький городок, колония, куда съезжаются со всех концов Петербурга, знакомятся хотя и не скоро, стараются узнать одни о других: кто, откуда, кого принимают, как живут? И таким образом, за недостатком собственной жизни, живут жизнью соседей. Тут завязываются интриги, хотя большею частью в воображении наблюдателей; тут ум изощряется на догадки, тут разыгрывается притворная невнимательность, тут на несколько времени накидывается барская важность, и все это до тех пор, пока к концу лета все узнают друг друга. Любопытство, на минуту пополнившее своими тревогами пустоту, которою все мы и вечно страждем, удовлетворено, и все говорят: «пора в город». Дачи пустеют. И точно пустеют, потому что пропала новизна, наполнявшая их. Нам непременно надобна новизна, будь то детские погремушки, лишь бы что-нибудь заняло наше внимание, отвлекло нас от нас самих, от нашего врага — пустоты… Прекрасная Мери с этой стороны была очень полезна жителям дач Петергофской дороги. Она занимала не одну дачу, но все окрестные и даже на довольно большое расстояние. И как могло быть иначе? Хороша, невеста и богата! К тому же насмешлива, резва, одета по последней моде: судите поэтому, могла ли быть в человеческом сердце струнка, которую Мери не задела бы, и чувствительным образом! Ее хвалили, бранили, превозносили до небес, о ней рассказывали тысячу анекдотов, ее хотели видеть; одним словом, Мери пользовалась на Петергофской дороге такой популярностью, какая только возможна в нашем степенном и благоразумном мире. Вдруг говорят: Мери выходит замуж! Как тут не взволноваться всем дачам? Каждая оставила на время свои частные интересы и занялась будущей свадьбой. Кто жених? богат ли он? военный? придворный? хорош ли? — вопросам не было конца. Слава богу! на несколько дней было о чем поговорить, потолковать. Между тем и действительно дело о свадьбе довольно подвинулось. Князь был представлен бабушке; через несколько времени после того и самая княгиня приехала к старухе напомнить старинное знакомство, а Елена Павловна сделалась почти ежедневною гостьей в доме. Она играла с бабушкой в преферанс, ездила по магазинам с Мери; с ней советовались о шляпке; ей рассказывали маленькие домашние тайны… Есть люди, которые умеют сделаться везде и в одну минуту своими и необходимыми. Елена Павловна обладала этим талантом в высшей степени. Только в одном доме это ей решительно не удавалось — в своем; зато Иван Григорьевич говорил иногда, когда подчас взгрустнется ему о том, что некому будет передать ни заслуженного имени, ни нажитого состояния: «А что? Может быть, оно и к лучшему, что бог не дал мне детей». Посторонние говорили напротив: «Вот кому не дает бог детей: какая превосходная мать была бы Елена Павловна, когда она о племяннике печется, как о сыне!» И точно, Елена Павловна пеклась о князе, как будто бы он был ей ближе, чем племянник. Казалось, он был ее единственной мыслью. Надобно было видеть все, что делала она, чтоб достичь своей цели — его благополучия, то есть женитьбы на Мери. Она была за него влюблена, за него нежна, внимательна. Что только Мери просыпалась, уж от Елены Павловны записка. «Я увижу тебя через час, моя бесценная Мери, — писала превосходная женщина, — мне надобно теперь же, сию минуту знать, какова ты, как провела ночь. Мне это непременно надобно знать. Бога ради, мой ангел, напиши хоть одно слово, не ленись… Право, это будет доброе дело». И слова «доброе дело» были подчеркнуты. Через час превосходная женщина действительно являлась сама, и Мери предоставляла ей угадать, почему известие о ее здоровье часом ранее было добрым делом. Потом ездят по городу. «Что ж, Мери, а к M-me Ch…?» — «К M-me Ch…? Зачем?» — «Да ведь мы вчера условились». — «Разве вам нужно что?» — «Нет, но ты хотела». — «О, нет! я раздумала». — «Бесчеловечная!» — «Это почему?» — «Там целое утро ждут». — «Право?» — «Не веришь?» — «Если нечего лучшего делать, то, право, мне не жаль». — «Однако, Мери, посуди, каково же смотреть в окно, прислушиваться к стуку экипажа!» — «Знаете ли что? Если кто-нибудь в серьезных летах был бы способен так ждать». — «Мне был бы он смешон. Говорят, все влюбленные смешны». — «А ведь верите во влюбленных?» — «Хорош вопрос! Право, я дорого бы дала, чтобы не верить, уверяю тебя». — «И дорогая плата! Зачем же? Посмотрите только повнимательнее». — «Мери! чем можно уверить тебя в любви?» — «Меня? Боже мой! вы знаете, что нас, женщин, так легко уверить!» — «Только не тебя». — «Оттого, быть может, что я не имею высокого мнения о своих достоинствах». И Мери потупляла глазки так мило, так предательски простодушно… «Ах! — (несколько поклонов), — бедный!» — «Кто это?» — «Евгений, мой племянник». И Елена Павловна сидит безгрешно, как новорожденный младенец… А между тем до какой степени причастен был Евгений нежностям, какие приписывала ему Елена Павловна, и до какой степени трогала она Мери? О первом не могу сказать, второе узнаем из следующего разговора. В одно утро, прекрасное летнее утро в конце августа, две девушки сидели на небольшой галерее, обставленной цветами, и обе работали. Солнечные лучи, проникая в галерею сквозь густые ветви старой липы, играли на полу, прядая светлыми пятнами, и, окружая легким полусветом лица девушек, придавали им ту прелесть полутонов, которая так неподражаема, так незабвенна для тех, кто раз видел, как умел ею пользоваться творец берлинской Jo{62} или Данаи дворца Боргезов!{63} Право, посмотря на эти серебристые переливы тонов, на эту прозрачность легких теней, убегающих по округлости белой шейки под распущенные локоны, артист, забывшись, остановился бы, ища взором, не играют ли где у ног прекрасных два амурчика с полными щечками, с улыбкою, какие только умел находить Корреджио… Здесь амуров не было. Зоя, всегда бледная и печальная, вышивала на руках какую-то оборочку; Мери в пяльцах выводила контур цветка, предназначенный для представления столиственной розы. — Ты знаешь, Зоя, — сказала Мери, вздевая иголку, — что здесь ведь говорят, будто я помолвлена? — Ты, Мери? Нет. Да ведь это неправда? — Почему? — Хорошо же! И ты мне не сказала, что… что ты любишь? — Что я люблю? Да что же это значит, прошу покорно? Откуда же это ты вывела? — Да ты так говоришь… как будто бы слухи о твоей помолвке были верны. — Ты допотопная девушка, Зоя, бесподобная моя Зоя. Разве мне непременно надобно влюбиться, чтоб идти замуж? — С твоим состоянием, Мери? Да как же иначе? Я понимаю, что бедность может заставить выйти замуж, если сердце свободно, и без любви. Но ты… независима, богата, хороша! Нет, Мери, нет, ты не выйдешь, не любя. — Не любя, то есть ненавидя? Между ненавистью и любовью, как ты ее понимаешь, ужасное расстояние! — Не играй словами, Мери. Ты знаешь, что я хочу сказать. Я разумею ту любовь, которая выше всякого другого чувства, которая не допускает никакого расчета, которая исключительно обладает душою нашею, — ту любовь, которая забывает бедность, ничтожество, которая не замечает презрения людского, населяет уединение, с которою зимняя вьюга лучше весны, с которою в снежной степи не вспомнишь о нежном солнце, — ту любовь, Мери, которая все для нас и без которой жизнь — сон, тяжелый, долгий сон… Мери посмотрела на подругу с некоторым беспокойством, ей очень хотелось захохотать, однако она удержалась. Ей показалось, что Зоя немножко сбивается, заговаривается и что, того и гляди, быть беде. Кто же, в самом деле, в полном уме заговорит так, как будто целиком из романа? Да и щеки девушки, слегка покрытые непривычным румянцем, и оживленный взор… нехорошо! — Сама эта любовь — прекрасный сон, — сказала Мери с самою кроткою улыбкою, мечтательным взором, откинувшись к спинке кресел и склоня головку к правому плечику. — Сон? Он возможен. Любила ли ты когда-нибудь, Мери? — Ты хочешь меня исповедовать! Пожалуй. За этим у меня дело не станет. — Мери нарочно говорила протяжнее, чтоб выиграть время и дать успокоиться волнению Зои. — Мне, мне многие нравились, милая Зоя. — Нравились! Это не то. Мне нравится человек, его наружность, его обращение, его ум; но любовь — это другое. Мы любим не наружность, не ум, не ловкие приемы; мы любим… Я не знаю, что мы любим; это сочувствие, Мери… душа… — А ты веришь сочувствию? — Верю ли? Но вся природа полна сочувствием. Посмотри: когда солнце так ярко светит и воздух так тепел и живителен, что грудь наша, кажется, расширяется и как будто бы, чувствуя недостаток одной жизни, мы хотим обнять всю природу или слиться с нею, — подойди тогда к цветам, посмотри, не кажется ли тебе, что жасмин, эта бедная резеда сочувствуют тебе… Мне кажется, я вижу, как трепещут их чашечки, открывая свои бесценные ароматы… — Видишь ли, Зоя, мне кажется, что цветы приобрели способность сочувствовать людям с тех пор, как люди потеряли ее в своих положительных целях. — Ах! ты клевещешь на людей. — Нет. Попробуй в подобную минуту поискать сочувствия у людей. Какой взор ты встретишь? Ух! обледенит, как взор воскового автомата. — Но ты не пробовала, Мери; ты осудила не узнавши. — Право? Не угодно ли говорить им о сердце и сочувствиях, тогда как они с ног до головы заняты своими лакированными сапогами. — А они думают, быть может, что ты занята своею шляпкою… — Их особою, Зоя. Поверь мне, они уверены, что ничем нельзя заниматься, кроме их бесценной особы… Вот почему я никогда не могла любить. Когда я рассматривала ближе людей, которые… мне нравились, я находила их та-ними мелочными в их притязаниях, такими пустыми в их фантастическом эгоизме, что очарование мое исчезало, как румяна на лице старой кокетки. Нет, Зоя, люди не стоят любви. — Ты не любила, — шептала Зоя. — И не хочу любить. Я выйду замуж, потому что это необходимо. Видишь ли, Зоя, все мы… я не знаю, как это делается, но в свете никто не доволен положением, в которое поставила его судьба; ты бедна — ты хочешь богатства; богата — хочешь знатности, связей; и это есть — ты найдешь еще что-нибудь, что тебе необходимо надобно. Словом, кажется, что бы ни делала для нас судьба, а все будто не доделывает. Женитьба выдумана для поправления этих недоглядок судьбы. Для мужчин — это часто окончательная попытка, для женщины — всегда единственное средство. Вот теперь, например, говорят, что жених мой весь в долгу; он очень хорошо делает, что ищет жениться на богатой, и что ни говори его тетушка, а я знаю, что он влюблен в les beaux yeux de ma cassette[39], и не осуждаю его. — Мери! Мери! это ужасно! И ты пойдешь за него? — Почему же нет? Мне есть чем жить; но у меня нет ни связей, ни родства. Князь богат и тем и другим. Право, мне кажется, мы созданы один для другого. Он введет меня в лучшее общество, а я дам ему средства поддержаться в нем. Вообще люди немного стоят; но я нахожу, что гораздо лучше их переносить в хорошем оттиске, чем в лубочном. К тому же, знаешь ли? Мне всегда хотелось быть княгинею. — Тебе! А кто же больше твоего смеется над тщеславием? — Потому-то, что эта страсть в людях доходит до смешного и я могу ею пользоваться. Я буду принимать поклоны моему сиятельству, как принимаю теперь от моих вздыхателей любовь к моей шкатулке. — Перестань, перестань, Мери. Нет, ты клевещешь на себя; у тебя не такое сухое сердце. — Узнай жизнь, Зоя, и ты не станешь этого говорить. К несчастью, мы, женщины, выучиваемся считать на счетах, когда уже нечего считать. Я хочу идти другою дорогой — вот и все. И верь мне, это совсем нетрудно. Любовь, сочувствие — все это прекрасные вещи; но если они существуют, то гораздо реже, чем тот цветок, что расцветает один раз в целое столетие, предполагая, что они существуют, разумеется; поэтому я почитаю напрасным трудом искать их. А ты знаешь, стоит только убедиться в невозможности вещи, чтоб перестать желать ее. — Боже мой, Мери! И эта веселость скрывает такое глубокое несчастье? — Несчастье? Что может быть ужаснее известности, что мы должны умереть? А между тем это не мешает нам жить беспечно и весело. Надобно только забыть… эти детские бредни, Зоя; прости мне это слово. — Забыть для того, чтоб жить весело? — Чтоб не страдать. — Чтоб не страдать? И ты это называешь жизнью? Не страдать, то есть усыпить душу? Но что же будет она, когда проснется для вечности, проспав все время, которое дано ей здесь для того, чтоб приготовиться к этой вечности? Блестящая бабочка не вспорхнет свободно и весело, если не перейдет чрез все фазы своего перерождения; душа твоя не вознесется свободно, если не исполнит условий земного своего существования: любить, бороться и страдать. Нет, нет, Мери; оставь мне мое страдание, мою любовь, мои воспоминания; это одно, что я вынесу сквозь все фазы земного моего заключения, одно, что принесу с собою в вечность… Слезы лились по щекам бедной девушки. В первый раз Мери, почитавшая подругу свою уже совершенно исцеленною, говорила с нею свободно; до сих пор она только мало-помалу и слегка пробовала посвятить приятельницу свою в таинства своих понятий и образа мыслей, боясь явным противоречием и слишком новыми для Зои истинами раздражить слишком чувствительную восприимчивость бедной больной. Видя, что с некоторого времени Зоя была несравненно покойнее и казалась с каждым днем яснее и рассудительнее, она позволила себе говорить свободнее и испугалась. Волнение Зои, ее одушевленный взор и отрывистая речь напоминали приближение ее обыкновенного припадка…IV
Зоя родилась в маленьком городке. Мать ее, родом из Лозанны, была гувернанткой в каком-то знатном доме. У нее была на родине мать и множество братьев и сестер. По каким обстоятельствам она была вынуждена вызвать мать свою, до этого нам нет нужды; дело в том, что она вызвала ее в Петербург, где бедная женщина скоро потеряла здоровье, так что дочь принуждена была содержать ее своими трудами. В непродолжительном времени, однако, это положение сделалось довольно затруднительным для гувернантки. К счастью, в это время сыскался жених, отставной армейский полковник, который предложил матери уголок в своем доме, а дочери — почетный пост городничихи в каком-то уездном городе. Полковник был добрый человек, весельчак, немного плешив, но это нисколько его не портило; напротив, открытый лоб его казался оттого только шире, возвышеннее, и хотя до сих пор это никого еще не заставляло предполагать в городничем поэтическое призвание, что, впрочем, быть может, и не шло к настоящему его положению, однако нимало не вредило важности, которую он придавал себе, когда принимал городского главу, ратманов{64} и проч. В обществе он был очень любезен — за картами, иначе его не видали. Человек деловой, он оставлял дела только для бостона и бостон для дел и в потерянные минуты, то есть когда не трудился для блага общества или не сидел за картами, говорил или о ремизах, или о губернаторских предписаниях. Домик у него был хорошенький; в домике всего довольно, и даст иногда вечер, право, любо-дорого смотреть. Враги говорили о нем… но чего же не скажут враги? В городе им были довольны, на притеснения и проволочки никто не жаловался, а дома? Судите: взять бедную жену и в приданое тещу, которая, как говорили, никогда не раскаивалась, что поехала к нему. Впрочем… бедная женщина! ей некогда было и раскаиваться: года через два после ее приезда на конце городского кладбища, в самом углу, ее схоронили, как иностранку, подальше от православных… Тяжела была этапотеря для дочери; но ко всему можно привыкнуть. Швейцарка привыкла и к уездному городу, и к своему важному посту городничихи, привыкла также и к однообразным полям, окружавшим городок, и если когда случалось ей в разговоре занестись в старину и при словах: «ледяные вершины, голубые воды, озера и т. п.» — заплакать, к великому удовольствию и смеху стряпчихи, казначейши и особенно секретарши, которая представить себе не могла, как можно быть так малодушною, — то это было не надолго, мгновенно и редко. Кажется, что под конец самое желание увидеть родину умерло в душе ее. Быть может и то, что желания, не питаемые надеждою, гаснут в сердце человека, как светильник, лишенный масла, — но гаснут не так ли, как гаснет вечерняя заря, предвещая наступление ночи; как падает неразвернувшаяся почка с растения, слабеющего на враждебной почве? Может быть, и так, потому что в непродолжительном времени, однако через несколько лет, близ уединенной могилы в углу городского кладбища возвысилась другая… Как странно! Отчего одинокая могила чужеземца печально поражает душу, тогда как вид одинокого, никем не признанного иностранца не производит на нас никакого впечатления? Но что об этом? Знаете ли, как горьки были последние минуты иностранки? Родное небо, родные горы и резвые воды, как обманчивые призраки марева в знойной пустыне, являлись в часы лихорадочного бреда перед глазами страдалицы. Она звала их; она хотела студеною струею утолить палящий жар груди или вздохнуть легким воздухом горных вершин; потом видела свою Зою, одинокую, в широкой снежной степи, усталую, безнадежную, и, приходя в себя, плакала, призывала дочь, целовала ее бледные щеки, перебирала слабою рукой ее русые кудри и потом смотрела умоляющим взором на Веру Яковлевну, родственницу мужа своего, которая с недавнего времени поселилась у них. Вера Яковлевна, добрая женщина и примерная христианка, понимала немой язык страдалицы, обнимала Зою и говорила, что во всю жизнь никого не любила и не будет так любить, как Зоюшку. Этому-то верила бедная мать. Но когда в минуты облегчения болезни она прислушивалась к голосу мужа, который, обрадовавшись минутному успокоению жены, в другой комнате от всей души хохотал, хлопая картами по столу; или когда обращала взоры на Веру Яковлевну, которая недалеко от нее, сидя с гостьею на маленьком диванчике, проворно вязала чулок и расспрашивала о последней ссоре Варвары Ивановны с Степанидою Матвеевной, — бедная больная тяжело вздыхала, крупная слеза катилась по впалой щеке ее, и, обнимая дочь, она смотрела ка небо, как бы умоляя его не отнимать у бедной сироты единственного ее друга и наставницу… Но не так было суждено. Зоя должна была принять последний вздох матери и закрыть глаза, которые и угасая еще искали ее. Потом… потом в городе начались суета и хлопоты, как обыкновенно бывает при свадьбах и похоронах; потом одна старая девушка — то есть не старая, а в летах, в благоразумных летах, — сшила новый чепец с розовыми лентами и начала ходить к обедне в собор, куда обыкновенно хаживал городничий; потом — в городе забыли о двух иностранках, которые показались, чтоб слечь на городском кладбище, не заповедав ни одному человеку тайны ни горестей, ни радостей, наполнявших их земное существование, и занялись надеждами девушки в благоразумных летах и бюджетом ее на новые чепцы с розовыми лентами, которые она делала почти к каждому двунадесятому празднику, и, между прочим, Верою Яковлевною и ее воспитанницею. О! В провинции люди очень милосердны; дела ближнего им как их собственные. А в столице?.. Знаете, в столице не всегда досужно. Впрочем, о Вере Яковлевне немного приходилось говорить. Это была истинная мать бедной сиротки, и, право, едва ли мать могла когда-нибудь нежнее любить дитя свое. Любимые кушанья Зоюшки, лакомства, ничего она не забудет. Одета Зоя лучше всех. Шляпку надобно — выписывают из губернского города, хоть и у них, даже рядом с ними, жила отпущенница, которая прекрасно шила и перешивала шляпки. Особенно на последнее она была мастерица. Шляпка проносится три зимы, включая конец осени и начало весны, отдадут ей — выйдет точно будто сейчас от Сихлер. Чудное дело! Однако ж Вера Яковлевна никогда не отдавала ей — все выписное как-то лучше. А если б кто-нибудь вздумал сказать что дурное о Зоюшке, посмеяться… но уж этого и вздумать не могла Вера Яковлевна. Зоя ее была совершенство, умна, хороша, воспитанна… да, воспитанна. Хоть Зоя осталась двенадцати лет после матери, но порядочно знала уже языки, рисовала цветы и свободно разыгрывала на фортепьяно экзерциции… Вера Яковлевна, конечно, не могла сама продолжать учения Зои, но, признавая необходимость в том, каждый день заставляла ее читать вслух французские и немецкие книги, и хоть сама не понимала ни слова, однако преприлежно слушала, сидя за своим вязаньем. Блаженное время! Чего не перечитала тогда Зоя! Вся маленькая библиотека матери была почти выучена ею наизусть. И Шатобриан, и Лессинг, и Иффланд, и M-me Gottin{65} и даже Байрон — в оригинале, но этого мало понимала бедная девушка. Впрочем, все это только вполовину занимало Зою; ее любовь, ее душа была — фортепьяно и Карл Адамович… Кто был этот Карл Адамович? А! интересное лицо. Какой-то помещик, у которого было несколько дочерей на возрасте, рассудил, что ему выгоднее взять к себе учителя, чем раздавать их по пансионам да по казенным заведениям. Итак, он поехал в Петербург и привез оттуда мамзель француженку да Карла Адамовича. Сам он под веселый час хвастался приятелям, будто он, узнав от знакомых о чудесном таланте Карла Адамовича, а также и о слабости его упиваться не одною гармониею звуков, напоил его замертво и увез из Петербурга. Впрочем, этому верить не совсем можно. Оно могло быть и не быть: подобными проделками любят часто прихвастнуть помещики. Карл Адамович, человек лет под шестьдесят, страстный музыкант, был петербургский уроженец, весь век ходил в темно-зеленом поношенном сюртуке и весь век свой собирался на весну уехать в Германию. Поношенный сюртук у него был оттого, что Карл Адамович только в крайней уже необходимости шил себе платье; на что было иметь его много? Он уедет на весну в Германию. Он не покупал также ничего тяжелого, громоздкого; на что? Надобно же будет оставлять. Теперь, в деревне помещика, эта мысль также не покидала его. Ученицы его были не без способностей, особенно меньшая; но помещица, как добрая мать, сама надзирала над уроками; она отдавала полную справедливость знанию Карла Адамовича, но не совсем одобряла его методу. Вечно экзерциции, вечно гаммы! Это скучно, долго. Месяцы уходили, а дочери ничем еще не могли похвастаться перед гостями. Она находила, что это нужно было изменить. К тому же приближалось время годовых праздников рождения и именин помещика; вот если б приготовить сюрприз, концерт в четыре руки! Вздумала и засадила Карла Адамовича с дочерьми учить концерт в четыре руки, на славу всему уезду. А там такой же к ее именинам и так далее. Время проходило в сюрпризах и приготовлениях. Там съедутся гости; уроки отложены. Девицы вздумают петь романсы — Карл Адамович аккомпанирует; соберутся танцевать — и Карла Адамовича на целый день за фортепьяно: играй французскую кадриль. После таких дней на Карла Адамовича находил сплин; он припоминал петербургское житье, как в молодости, бывало… Тогда в Петербурге был Мюллер, теперь забытый, тогда известный талант; Боэльдьё — он был с ним знаком; он в обществе их, бывало, проводил целые вечера; не раз аккомпанировал он М-me Fodor-Mainviile, которой имя после гремело на итальянских театрах; он слышал первые звуки этого дивного голоса; он предрекал славу молодой певице… Славные то были дни — дни, когда, полный силы и молодости, он жил искусством и для искусства!.. Потом были другие дни; он был уже в театральном оркестре; он слышал Каталани, он аккомпанировал несравненной Зонтаг… О! эти воспоминания! Карл Адамович решился уехать в Германию, собрал ноты, пересматривал их, назначал, что взять, что оставить; ходил по комнате, напевая какую-то тему и не глядя ни на кого. Помещик замечал и за ужином спрашивал рейнвейну, старого, еще из Петербурга привезенного рейнвейну. «Скучно что-то, Карл Адамыч, — говорил он, — выпьемте-ка. Право, здесь в глуши невольно сгрустнется. Не то что в вашей благословенной Германии. Вы бывали в Германии, Карл Адамыч? А! Нет? Ну, выпьемте-ка за Германию. Ведь вам не миновать ее; когда-нибудь вы улетите от нас туда». Карл Адамович пил сперва нехотя; потом… потом воспламенялся усердием к благословенной Германии и уже не переставая пил в честь ее по целой неделе, пока, наконец вытрезвившись, совестился самого себя, хозяев и людей и начинал еще прилежнее прежнего учить детей помещика, как видно, чтобы загладить вину свою. Обыкновенно в это время Карл Адамович был очень печален, тем более что всякая подобная проделка отдаляла его надежду уехать на весну в Германию — и вот почему: в пылу своего разгула он обыкновенно забирал деньги у помещика, и часто даже вперед. Тот никогда не отказывал, а Карл Адамович изводил их бог знает куда, так что по окончании припадка он оставался с больною головою и очень часто с совершенно пустым кошельком. Случилось, что помещица занемогла какою-то трудною, хроническою болезнью; в городе, где жила Зоя, был чудесный медик, молодой преискусный человек, и с некоторого времени пользовался большою доверенностью в доме помещика, особенно у самой помещицы. К тому же в городе случился заезжий танцмейстер; а как дочери помещика желали усовершенствоваться в полном искусстве танцевания, то вследствие соединения двух столь важных причин все семейство переехало в город на целую зиму, к немалому удовольствию всего общества. Вот случилось, что вскоре после обыкновенных припадочных сборов Карла Адамовича у помещика в доме был танцевальный класс и после девицы вздумали позабавиться пением. Карл Адамович был, как обыкновенно после своих припадков, грустен, обескуражен, убит. Танцмейстер, молодой человек и также любитель музыки, аккомпанировал девицам, которые решительно предпочитали его Карлу Адамовичу, а Карл Адамович, между тем забытый, в своем темно-зеленом сюртуке, сидел один в углу, от безделья перебирая пальцами и смотря в потолок; уши бедного немца страдали еще больше, чем душа его; но он боялся уйти, чтоб не подать подозрения, будто он опять… знаете? Чего тут не пропели! И «Мой друг, хранитель ангел мой», и «Ты не поверишь», и бог знает что. «Браво» так и раздавалось по зале; один приезжий из губернии — кажется, чиновник из канцелярии губернатора, ездивший в прошлом году с его превосходительством в Петербург, — самому танцмейстеру даже прокричал два раза «брава», уверяя, что у итальянцев всегда так кричат; однако же это нововведение не имело успеха, и все остались при прежнем «браво». Вдруг весь шум замолк; Карл Адамович вздохнул свободнее, думая: «Слава богу! кончено». Танцмейстер встал: Карл Адамович не спускает глаз с оставленного стула — и — о, боже мой! вот к нему подходит девушка, в белом платье, с темными кудрями, и садится. Карл Адамович сложил опять руки для продолжения занятия своего — перебирания пальцами и уставил глаза в потолок с безусловной покорностью послушника. Вдруг… резвые персты пробежали по клавишам; чисто, верно, стройно зазвучали струны; Карл Адамович вздрогнул, будто почувствовал удар электрической искры. Пальчики летают… детская игра, но верна, но чем-то задушевным отдается! Карл Адамович развел руки и опустил глаза с потолка на играющую… Заговорили, зашумели: «Браво! Браво!» Девушка, краснея, встала и хотела отойти, но тут еще больше зашумели; она остановилась, робко посмотрела кругом и села. Опять замолчали… Несколько аккордов, и она запела. Это был чистый, полный контральто, нежный, мягкий, бархатный; контральто, которого каждая нота лилась в душу, контральто, который слушаешь и не веришь, чтоб он выходил из груди обыкновенной мелочной женщины… Это было пение без методы, послушное одному верному чувству девушки, и, однако же, Карл Адамович стоял за певицею, уцепясь за спинку ее стула; маэстро слушал; верхняя губа его подергивалась как будто в судорогах, а на реснице что-то светилось, будто как роса. «Каково же? Карл Адамыч расчувствовался!» — закричал помещик, выводя на свет Карла Адамовича, и все: «Какова же Зоя Павловна! А! Каково же? Расчувствовался! Карл Адамыч! Ха! ха, ха!» Карл Адамович что-то бормотал: Зоя Павловна краснела, принимая за комплимент несвязный гул, выходивший из сжатых уст старого учителя… Прошло несколько времени; Зоя Павловна сделалась любимою ученицею Карла Адамовича; у нее проводил он целые часы; с нею вспоминал и Мюллера, и Боэльдье, и Фодор-Менвиль, и несравненную Зонтаг; ей говорил о своем музыкальном прошедшем, но уже не собирался в Германию. Зоя Павловна была для него воплощенною идеей музыки, воплощенною идеей музыкальной Германии, и он привязался к ней, как привязывается артист к своему любимому идеалу, как старик к существу, которое на закате жизни подарило его отблеском утренних его радостей. Золотые то были часы — золотые для учителя и ученицы! Часто и теперь, в те немногие и прекрасные дни, когда теплый ветерок, играя в тихо шепчущих листах, каждой ласкою вызывает из души ее заветные сны, и теперь в подобные дни Зоя с тихою улыбкой встречает эти часы, восстающие из бездны минувшего, святые часы, когда чистая душа ее покорно принимала таинственное учение искусства и трепетным сердцем ожидала, когда поднимется завеса для новопосвященной. Вера Яковлевна очень благосклонно смотрела на это ученье; успехи зальстили ее самолюбию; к тому же, как женщина дальновидная и расчетливая, она видела, что могла извлечь пользу из этих успехов. Так прошли две зимы; помещица все была больна хроническою болезнью и все лечилась у молодого лекаря, а Зоя все пела с Карлом Адамовичем. Вдруг в городе разнеслась весть, что Вера Яковлевна едет в губернский город, и едет — лечиться. Теперь сообразите следующие обстоятельства. В столице кто-нибудь вздумает ехать для здоровья в Карлсбад или Эмс: это никого не удивляет, дело очень обыкновенное: все ездят, стало быть, и странного тут ничего нет. Теперь из уездного города ехать в губернский нарочно для излечения болезни — это требует большого размышления. Известно, что в уездных городах — народ постоянный, любят свои домы, как улитки свои раковины, и вообще неохотно расстаются с ними. Уездный человек не любит ничего, что отвлекает его от серьезных занятий и нарушает привычки его покойной и приятной жизни. Особенно дамы; оставлять дом для них совершенное несчастье. На кого положиться? И как это без них будет? Якова Ефремовича чаем не вовремя напоят; проснется он после обеда, теплого квасу ему подадут, а он теплый квас терпеть не может. И Палашка хлебы переквасит, и Ванька сопьется. Беда, совершенная беда! Ну, как же бы при таких важных опасениях уехать, да еще и лечиться… лечиться? Но, между нами сказать, это ведь в некотором роде вольнодумство, идея, занесенная с гнилого Запада. Разве нельзя лечиться у уездного лекаря? Дома? Если господу угодно, то и уездный лекарь, даже подлекарь вылечит, а не угодно ему, поезжай хоть за границу — мало ли там наших легло? Вера Яковлевна, вообще заклятый враг всякого вольнодумства, особенно держалась этих правил; она посмеивалась даже и над помещицею с ее хронической болезнью и молодым лекарем, и даже иногда зло посмеивалась, и вдруг она, Вера Яковлевна, едет сама — лечиться! Она, враг вольнодумства, патриотка, она, хозяйка, у которой как ни у кого пекли кулебяки с вязигою, она — оставляет дом! Можете сами посудить, какое впечатление должно было сделать на все умы подобное происшествие. Я расскажу только один разговор, который был по этому случаю у секретарши, женщины, особенно уважаемой в городе. В одно утро съехались к ней вдруг четыре дамы: судейша, хорошая женщина, но очень молчаливая; стряпчиха, казначейша и становая, приехавшая накануне с мужем из стана, — как видите, дамы все почтенные. — Слышали ли вы? — говорит становая. — Я так удивилась! Приезжаю к стану вчера вечером с Иваном Семенычем; вдруг мне говорят, что Вера Яковлевна… Стряпчиха. Вот, матушка, как у нас! Не то что у вас на стану. Где вам за нами! Мы люди модные: лечиться едем. Казначейша. Полноте, Варвара Степановна, кто же этому поверит? Все же бывают больны, да не ездят в губернский. Я сколько раз была больна, да еще и в таком положении. Стряпчиха. Не верьте, если хотите, а оно точно так. Вы слышали, Маргарита Ильинишна? Секретарша (с тонкою улыбкою и потупя глаза). Слышала, матушка. Стряпчиха. Как же вы об этом думаете? Секретарша. Верю, матушка. Почему же ей не ехать? Казначейша. Помилуйте, почему? Да что же она за важная такая особа? Почему ей, как другим, не лечиться у Ивана Яковлевича? Знаете ли, что это просто за него обидно. Стряпчиха. Ну, что обидно? его утешат помещицы. Секретарша. Барыни, барыни! ох, злой язычок! Стряпчиха (смеется). Право, не злой, Маргарита Ильинишна; сами согласитесь, если помещицы два года лечатся у него, и с таким успехом, как же Вере Яковлевне не полечиться хоть с месяц? Казначейша. Я всегда скажу, что Иван Яковлич преискусный человек. В последний раз я как отчаянно была больна, да еще после родов, после Николиньки; а он меня спас, точно уж от смерти спас. Стряпчиха (все смеясь). Да вы-то другое дело, Флена Николавна, вы же были в таком положении… Секретарша. Ох вы мне, барыни! А я вам без шуток скажу: я не понимаю, для чего едет Вера Яковлевна. Спора нет, в губернском городе есть искуснейшие доктора, ученые, а ведь нынче век такой, что все ищут ученых. Право, между нами сказать, иной ученый на книгах век сидит, а принялся лечить, уморил как уморил — это я не насчет Ивана Яковлича, хотя и он ученый человек; Ивана Яковлича я не знаю, ничего не могу о нем сказать да и незнакома с ним… Становая. Как незнакомы? Почему это? Секретарша. Так, матушка, незнакома. Он человек молодой, модный; человек ученый; а мы люди простые, староверы, старики. Что в нас? Да, впрочем, что же до этого? У него было какое-то неудовольствие с мужем, да я ведь в это не вступаюсь и всегда готова отдать справедливость. Он человек ученый и, верно, искусный. Я не знаю этого. Стряпчиха. Да вы уж своему Гвоздеву не измените. Секретарша. Что же, матушка, не таюсь. Конечно, Гвоздев не ученый и запрещено ему лечить — разумеется, фершал, нельзя же, а я всегда скажу: он Вариньку мою от смерти спас, и я никому другому не поверю. Стряпчиха. Вот беда, что он испивает-то очень, Маргарита Ильинишна. Секретарша. Ну, уж это несчастие! А могу сказать, преусердный и искусный человек. Я век мой его не забуду. Ну, да об этом в доме городничего и говорить нельзя. Казначейша. А я все думаю о Вере Яковлевне, что тут есть что-нибудь другое. Становая. А что же такое? Судейша. Я слышала от одного человека, что на Павла Яковлича был послан донос; так не уведомил ли его кто под рукой? Становая. Так она просить за него едет? Секретарша (значительно). Нет, не то. Становая. А, быть может, не переводят ли его куда? Я слышала стороной, не знаю, не вздор ли только, будто губернатор обещал его в полицмейстеры. Стряпчиха. Хорош будет полицмейстер! Куда ему! Он и здешними мещанами не справит. Секретарша. Ох вы барыни! Все вы толкуете, а как знать, что оно на самом деле? Подумайте, у Веры Яковлевны племянница на возрасте, невеста; а она ведь женщина дальновидная. Судейша. Очень дальновидная… Становая (прерывая). Так вы думаете, за женихом едет? Секретарша. Я этого не говорю; может быть, повеселить племянницу. Стряпчиха. О, нет! Для этого она денег не бросит. Становая. Маргарита Ильинишна! А сколько Зое лет? Секретарша. Да ведь будет лет шестнадцать. Стряпчиха. Что это, Маргарита Ильинишна! Уж года три я все слышу шестнадцать. Судейша. Да не больше. Ведь еще четырех лет нет, как умерла покойная Луиза Карловна. А она осталась после нее лет двенадцати. Стряпчиха. Четырнадцати, поверьте. Казначейша. Нет, не будет. Луиза Карловна родила ее, когда я была беременна Анночкой. Я очень помню. Я от нее бабушку взяла. Стряпчиха. Ах, полноте, Флена Николаевна; вы смешали; разве Катенькой? Я очень знаю, что когда нас перевели сюда, так Зоя была уже пребольшая девочка. А этому уж восемь лет. Секретарша. Нет, ей не будет больше шестнадцати. Становая. Да за кого же ее отдают, Маргарита Ильинишна? Стряпчиха. Уж тотчас и отдают! Ах, Афимья Васильевна! Казначейша. Маргарита Ильинишна! Помните ли вы, как прошедшею, зимой у Павла Яковлича были гости из губернского города? Я тогда была в таком положении и никуда не выходила… Секретарша. Помню, матушка. Становая. Как же! И я помню, асессор Вакуров да советник казенной палаты, как его?.. дай бог память… Секретарша. Ильин, матушка; человек хороший и с достатком; он вдовый. Тогда они в пустынь ехали и останавливались у Павла Яковлича. Становая. Так, верно, за него? Секретарша. Не знаю, матушка. Казначейша. Я тогда же подумала; я никуда не выходила; слышу: у Павла Яковлича гости… Стряпчиха. Быть этого не может. По нему ли она невеста! Становая. А почему же? Стряпчиха. Помилуйте! Дрянная девчонка, бедная; хоть бы собой хороша, а то и того нет. Секретарша. Что же! Воспитана хорошо. Стряпчиха. Уж не то ли, что читает по-немецки Вере Яковлевне, а та ни аза в глаза не знает? Да как она и мужа вздумает зачитывать? Секретарша. Поет хорошо. Стряпчиха. Я так не могу ее слышать. Для меня она препротивная. И, право, старшая помещикова дочь во сто раз лучше ее поет. Становая. Ее, говорят, танцмейстер очень исправил… Стряпчиха (покраснев). О, нет! Он только аккомпанирует; может быть, советы… а этот Карл Адамыч! Вот антик-то…{66} Мы оставим дам разговаривать об антике Карле Адамовиче; стряпчиха особенно занялась им, кажется, чтоб опять не заговорили ей о танцмейстере, что ей как-то не совсем нравилось. Все разъехались в полной уверенности, что Зою везут отдавать за советника, и становая в этот же день увезла эту новость с собою, чтоб распустить ее по уезду. Впрочем, судьба, кажется, на этот раз вздумала оправдать догадки наших дам… Но оставим происшествия их течению и посмотрим, как собирается Вера Яковлевна. Боже мой! Сколько лепешек, сдобных булок, кренделей напекли! Два пирога, один с курицей и с яйцами, другой с морковью; это очень любила сама Вера Яковлевна. Зажарили часть телятины, пару цыплят да еще кое-что сладкого приготовили. Ведь оно не близко: дорога с лишком сто верст. Вера же Яковлевна ехала на своих, в тарантасе. Она находила необыкновенную приятность останавливаться на квартире, кормить, ночевать, расположиться с самоваром в переднем углу избы, расспрашивать хозяйку о посеве, о снохах. На первом ночлеге у нее была даже знакомая, Семеновна, которая всегда присылала ей рыжичков, груздиков и сама иногда, приезжая на базар, заходила к ней. Вера Яковлевна терпеть не могла почтовых, а о дилижансах или еще о почтовых каретах слышать не могла. «Помилуйте, — говорила она. — Что же это? Разве я почтовый пакет, посылка какая, что меня запрут в карету да и везут? И как же это? Не смей я остановиться где хочу, не смей самовар спросить, не смей на ямщика закричать: как он хочет, мошенник, так и везет. Всего этого набрались в чужих краях. Право, отцы наши не знали почтовых карет, да живали еще и не хуже теперешнего». Когда случалось Вере Яковлевне говорить об этом предмете, она всегда очень разгорячалась и становилась совсем пунцовою, как воротник ее братца, Павла Яковлича. Один раз тот же самый чиновник из губернаторской канцелярии, что кричал «брава» танцмейстеру, при ней на каком-то обеде подал голос в пользу почтовых карет; правда, он еще сказал что-то в пользу наемных слуг и прибавил, что у какого-то князя***, где он бывал с губернатором, в Петербурге (он любил очень говорить об этом князе) все наемные люди. Вера Яковлевна вся побагровела, однако ни слова не сказала и только по уходе чиновника уже облегчила сердце: «Что это? На что похоже? Наемные люди! Сравняться с какой-нибудь коллежской регистраторшей, да и та все старается как-нибудь свою кухарку завести. Наемные! Не смей им слова сказать! Не то чтоб уже щелчком тронуть. На что же я и барыня? И какое же будет ко мне уважение? Все это вольнодумство, нововведения…» Вера Яковлевна была самый упорный тори{67}, и будь она в Англии, прямо бы сделали ее главою партии. Здесь она довольствовалась только явным изъявлением своего негодования и обыкновенно после сильных речей, возвратясь к себе, быть может, чтоб удостовериться, что еще не потеряла своего права давать щелчки своему крепостному народу, наделяла и не одними щелчками, а чем-нибудь пополновеснее свою Агашку. Впрочем, должно сказать правду, она, несмотря на свои громкие речи, на деле, как и ее противники, была не очень ревностна к своим правам и, конечно по нерадению, напоминала о них своей Агашке очень редко и только вследствие какого-нибудь слишком уже явного на них посягательства. На этот раз также обошлось без напоминаний, не всегда приятных для Агашки, и одним утром, рано на заре, простясь не без слез с Павлом Яковличем, Вера Яковлевна, Зоя, Агашка и Даша, горничная Зои, да двое слуг, все поместились в тарантасе, наполненном пуховиками, подушками, ящиками, сундучками, узлами и узелками, и потянулись к заставе, оставя уездным дамам на долю загадку и предмет для размышлений. Между тем Зоя действительно нашла в губернском городе искателя, и именно — в советнике. Вера Яковлевна еще по старинным связям была очень дружна с одною дамою, старушкою, вдовою покойного прокурора. Экс-прокурорша жила всегда в городе и пользовалась величайшим уважением. В светлое воскресенье, в рождество после губернатора и вице-губернатора каждый поставлял себе обязанностью явиться к экс-прокурорше, а бывали даже и такие, что заезжали к ней прямо от его превосходительства и от нее уже отправлялись к вице-губернатору. Вечером она имела всегда свою партию; матушки к ней возили молодых девушек сидеть и молчать у карточного стола, находя это очень полезным для нравов; батюшки посылали к ней своих сынков с рекомендательными письмами. Экс-прокурорша была худенькая, небольшого роста, сутуловатая старушка и замечательна была, кроме необыкновенной худобы своей, непрестанным движением головы, которая сильно потряхивалась, особенно при всяком душевном движении, что особенно было замечаемо за картами. Авдотья Васильевна — так звали ее — сама никуда не ездила, но к ней ездили все. Она не давала обедов, но никогда не садилась обедать без гостей, и не проходило ни одной святой недели или святок, чтоб вся городская аристократия не обедала у нее запросто. На чем было основано такое необыкновенное уважение, этого я не могу сказать. Прежний губернатор, который занимал это важное в губернии место с лишком двадцать лет, был очень дружен с покойным прокурором и особенно уважал прокуроршу; а как губерния, всегда преданная начальству, любит соображаться с видами и расположением его, то, разумеется, уважала прокуроршу по примеру своего начальника и по привычке сохраняла и теперь это чувство. Впрочем, экс-прокурорша была замечательно умная женщина и, между нами сказать, знала дела не хуже покойного прокурора. Она очень ласково приняла Веру Яковлевну и обласкала Зою… нет, больше: она полюбила ее, так что Вера Яковлевна с племянницей сделались почти ежедневными ее гостьями. Советник казенной палаты был также из усердных посетителей экс-прокурорши. Она вообще была ласкова к молодым людям, говорила им истины, драла их за уши, но уж кого драла за уши, за того и стояла грудью в обществе. А советник был из числа любимцев ее. Она знала покойную жену его; крестила у него двоих детей, приняла живое участие в потере его и теперь решилась женить советника, потому что, по ее мнению, жить ему вдовому, имея двух дочерей, никак не годилось. Обратив внимание на Зою, она одним разом делала три добрые дела: сохраняла нравственность советника, давала детям его мать и пристраивала сироту. Знала ли или не знала Вера Яковлевна о намерении экс-прокурорши, когда решилась ехать в губернский город, этого никак нельзя сказать утвердительно; она божилась, что нет; но Вера Яковлевна была очень тонкая дипломатка, поэтому истину мудрено было узнать. Как бы то ни было, искания советника не были противны ни ей, ни Зое. Он был еще не стар и при чертах лица довольно приятных, сохранил розы и лилии юности — свидетельство чистых нравов советника. Не говоря уже о многих достойных качествах его как советника, скажем только, что он знал наизусть «Горе от ума» и даже некоторые элегии Батюшкова, с большим чувством пел водевильные куплеты, писал в альбомах и вальсировал преловко, несмотря на свою кругловатость. На нем был всегда модный жилет, толстая золотая цепочка и светлые перчатки, хотя иногда и подчищенные хлебом. Советник нравился многим городским девушкам, и Зоя с удовольствием видела, что он отличает между ними ее, уездную барышню. Конечно, Вера Яковлевна говорила всем и каждому, говорила на ухо (чтоб не смутить скромной девушки), что Зоя ее превоспитанная, что она знает французский и английский языки, рисует и поет, но Зоя чуть не плакала, слыша подобные похвалы. Она боялась, что все губернские девушки станут ее экзаменовать и уничтожат ее в прах своими знаниями, особенно при советнике, который сам, конечно, должен быть ученейший человек в мире: он учился в Петербурге… Между тем в городе уже поговаривали, что хорошенькая Зоя неравнодушна к советнику, а советник был вполне уверен, что она влюблена в него по уши: самолюбие очень извинительное в таком человеке, как советник. Вера Яковлевна также уже подумывала о карете и белой шали, которую, верно, подарит советник своей невесте. А Зоя?.. Иногда, конечно, в голове ее мелькала мысль, что, если… Но нет; расстояние между советником казенной палаты и бедной уездною барышней было так велико, что честолюбие Зои опускало крылышки: видно, что сердце еще не придавало им силы. Время проходило; наступающая осень привела выборы, балы и офицерские отпуска. К губернскому предводителю приехал племянник жены его, гвардейский офицер и к тому же — князь. В дворянском собрании давался бал, по поводу… верно, по самому благонамеренному поводу. Дворянская зала была недавно окончена и слыла по многим соседним губерниям образцом зодчества. Она была просторна, светла, с хорами и с колоннами. С колоннами — значит уже верх совершенства, до которого дано достигнуть губернской архитектуре. Какого ордена были колонны?.. Позвольте — дорического; точно, дорического; это всякий знал, потому что архитектор, представляя планы губернскому предводителю, сказал, что предпочел дорический коринфскому, как слишком легкому для здания, имеющего такое важное назначение. Бал, о котором мы упоминали, был удивительный бал, блестящий. Губернский предводитель дал для этого случая позволение распоряжаться его собственной оранжереей, и представьте: вся зала была украшена цветами и деревьями, — новость, о которой говорили по всем соседним губерниям и едва ли даже не напечатали в «Ведомостях». Плодов, конфектов — господи боже мой! Многие дамы сшили нарочно ридикюли побольше, и все коллежские регистраторы и госпожи чиновницы in-pello[40] не свыше двенадцати лет, то есть за малолетством не допущенные на бал, запаслись гостинцами дня на три — при благоразумном употреблении, разумеется. А шампанского!.. Следствия изобилия по этому предмету я не могу даже и описывать; скажу только, что все были очень довольны, и только уже на другой или даже на третий день пошли слухи, будто распорядители бала позапаслись провизией для собственных торжественных дней. Но это были злонамеренные заключения, основанные не на фактах, а на возможности их. Надобно сказать, что общество было самое блистательное, наряды дам — чудо. Много было уборов прямо из Петербурга. На Вере Яковлевне был чепец с пунцовыми лентами; она взяла его тут же, в городе, у русской мадамы, но прехорошенький; а мантилья из полубархата, но право, полубархат был так хорош, что никак не отличишь от настоящего. Зоя была одета в белом платье с пунцовою камелией в волосах — подарок экс-прокурорши, у которой была бездна вкуса. Зоя была в необыкновенном восхищении, счастлива, как небожительница. Эта зала, освещенная тремя огромными люстрами и бесчисленным, как казалось ей, множеством бра, привешенных к каждой колонне, оркестр, составленный из всех полковых музыкантов, блеск нарядов, блеск имен, Станиславы и Владимиры на шеях мужчин{68}, а более всего — эта зелень и цветы около колонн… Как хорошо скользил желтый луч восковых свеч по этим темным листьям померанцевых деревьев, трепетал на мелкой мирте или яркой полоской упадал на широкий лист молодого бананового дерева… а эти гиацинты, розовые, белые и лиловые в несколько рядов около базы колонн!.. Но вот возле одной колонны, прямо против портрета императора, деревцо, высокое, стройное, как сама Зоя; гибкие веточки с длинными узенькими листочками и от каждого — алый грациозный цветок на тонком, алом же стебельке, с темно-красной, почти фиолетовой чашечкой, и наклонился, как Зоя, когда, зарумянившись, склоняет она головку на грудь. Деревцо усеяно этими красивыми цветочками. И как гибки его ветви, как легки! Если б малейшее дуновение ветерка — они заколыхались бы… — Кажется, вас очень занял этот цветок? — сказал голос такой приятный, что, казалось, мог быть только голосом грациозно склоненного цветка. Зоя вздрогнула и подняла голову: перед нею стоял молодой человек в гвардейском мундире, бледный, с черными усиками, с черными кудрями и темно-голубыми глазами, но такими приятными, что они, как гибкие ветки цветка, казалось, хотели приласкать ее. — Да-с, — сказала Зоя, покраснев до ушей, — он так хорош! — Это фуксия, дитя многочисленной фамилии… Вы занимаетесь ботаникой? — Я сажаю цветы в моем цветнике и любуюсь ими с утра до вечера — вот все мои познания в ботанике. — Вы любите их; а любить — это лучше, чем знать. — Ах, если б это была правда! — Вы говорите это с такою живостью; можно спросить, для чего нужно вам, чтоб это была правда?. Угодно вам на кадриль? В это время пары становились посереди залы; музыка заиграла кадриль. — Для чего? — сказала Зоя, подавая руку своему кавалеру. — Видите: я люблю, например, музыку… — И, верно, будете музыкантшею, если захотите? — Да, Карл Адамыч мне то же говорит. — А Карл Адамыч должен знать… — Вы знаете Карла Адамыча? — И опять с такою же живостью? Мне кажется, что цветы и Карл Адамыч на одной степени для вас? — Вы согласитесь, что Карл Адамыч необыкновенный артист. Право, если б он был у вас в Петербурге, то его умели бы оценить. Не правда ли? — Если б я был на его месте, то, право, и не думал бы о мнении петербургской публики. Зоя покраснела, — покраснела оттого, что самолюбие ее перетолковало слова молодого гвардейца и особенно взор, с которым они были произнесены довольно странным образом — как говорила она сама себе несколько после… Да, несколько после, потому что на эту минуту Зоя ничего не говорила сама себе. Она была так весела! Посудите: князь, — да, гвардеец был князь, — князь был сам музыкант, и страстный музыкант. Они говорили о Шуберте, Вебере, Моцарте, о Россини, Беллини; все эти имена были не новы для Зои, со всеми ими познакомил ее Карл Адамович. Кадриль давно кончилась; Зоя сидела возле Веры Яковлевны, князь стоял за нею, прислонясь к колонне, к той самой, возле которой цвела фуксия. Они говорили и говорили, не замечая, как из всех углов посматривали на них зоркие глаза цензоров в чепцах и шалях, не замечая и господина советника Ильина, который прохаживался по зале с двумя девицами и всякий раз, проходя мимо новых знакомцев, бросал на них косые, полные неудовольствия взгляды. С начала вечера советник несколько занимал Зою; ей было приятно видеть себя предметом внимания любезного советника; ей было лестно танцевать с ним; она с удовольствием слушала его шутки, смеялась от души его остротам; наконец, ей было весело везде, всюду, куда бы она ни зашла, как бы ни запряталась, хоть нарочно, встречать светлые глаза советника, которые искали ее, следили за нею, как следит лучезарная голова подсолнечника за течением солнца. Ведь это игра же, или, лучше сказать, прелюдия, в которой девушка учится играть — сердцем влюбленного. Первую кадриль Зоя танцевала с советником. В это самое время на диванчике между колоннами и прямо против Зои сидела губернская предводительша; она была в синем бархатном платье, в белой турецкой шали и смотрела в лорнет на танцующих. Подле нее, развалившись небрежно и играя аксельбантом, сидел ее племянник. Оба петербургские, и оба, разумеется, смотрели на веселящуюся публику с не очень человеколюбивым намерением — подсмотреть губернские слабости. — Знаете ли, тетушка, что эта брюнеточка, что танцует там, против нас с этим кругляком, очень недурна? — Прошу осторожнее; этот круглячок — любимец здешних дам. — Хорошая рекомендация их вкусу. Я, однако же, уверен, что брюнеточка делает исключение. — Ошибаешься. Она помолвлена за него. — Это еще ничего не значит. — В провинции ничего не значит? Мы все помешаны на буколиках{69}. — Однако же этот Тирсис{70} не сохнет от любви. — Твоя хорошенькая брюнеточка влюблена в этого Тирсиса по уши. Слышишь ты это? — Влюблена, влюблена! Знаете ли, что мне всегда смешно это слышать? Что значит «влюблена»? Рада, что кто-нибудь за нею ухаживает, вот и все. — Нет, здесь это не то. Эта молодая девушка хорошо воспитана! Говорят, что мать ее была очень умная женщина. — Хотите ли биться об заклад, что ваша воспитанная девушка через две недели… что я говорю! — через несколько дней не станет смотреть на своего советника и влюбится — в меня. — А знаешь ли ты, что мне очень хотелось бы принять это предложение в надежде, что тебя проучат за хвастовство? — Тетушка! вы знаете, что я совсем не шалун, не искатель приключений и даже не лев, а предлагаю вам заклад единственно для того, чтоб показать вам, что значит у женщин влюблена. О! удача не возгордит меня, будьте покойны. Я знаю, что буду обязан ею не моим высоким достоинствам. — Чему же? Твоему сиятельству или аксельбантам? — И тому и другому, а более — новости. В это-то самое время Зоя с такою любовью рассматривала неизвестную ей фуксию. Вера Яковлевна могла бы заметить, если б не так была занята наблюдениями над подносами с конфектами и мороженым, что в мазурке к пунцовой камелии экс-прокурорши в волосах Зои была присоединена красивая ветка фуксии, — могла бы заметить, потому что эта ветка необыкновенно грациозно перемешивала легкие цветки свои с темными локонами Зои; но она не заметила. Не заметила и за ужином, где Зоя, которой прислуживали и советник и князь, была необыкновенно весела. И как было заметить! Представьте, что подавали стерлядь баснословной величины. Стерлядь, для которой не могли нигде найти блюда и потому подавали ее на огромном серебряном подносе, и то еще голова и хвост свешивались… Впрочем… как знать? Быть может, и заметила… Прекрасный вечер! Очаровательный! Таких не бывает два раза в жизни. Танцы, музыка, и шутки, и смех, и еще разговор о цветах, о Карле Адамовиче, и во весь ужин так… Возвращаясь домой, Зоя во всю дорогу напевала то мазурку, то nocturno{71} Шуберта, о котором только что говорила с князем, и вдруг улыбалась, потому что между звуками и нотами вдруг вместо re являлось ей доброе, знакомое лицо учителя с полуоткрытым ртом, с пальцами, вытянутыми по клавишам, и потом, вместо него, грациозная фуксия, и тотчас же за нею — бледное личико с черными усами и со взором… со взором, обещавшим полную гамму звуков, и все задушевных, все полных чувства, как мотив Шуберта… А темно! На небе ни звездочки; фонари на четверть версты один от другого; а грязь? Линейка (Вера Яковлевна боялась всякого другого экипажа), длинная линейка стучит по неровной мостовой, и лошади, вытянув шеи, тащатся, взминая грязь. — Наказание божие эта мостовая! — произнесла Вера Яковлевна. — Угораздило же сделать на лучшей улице! Уж делали бы где в захолустье. А то вот трясись себе. Зоя! Зоя! Да что ты? Точно ты по маслу катишься. Разве тебя не трясет? — Что-с? Трясет, тетенька. Очень бьет. Видно, Алексей с мостовой съехал. По сторонам камни навалены. — Навалены? Уж подлинно навалены. А еще сердятся на твоего батюшку, что мостовых не делает. Вот вам и мостовые! Повезла бы я этого полицмейстера да и с губернатором-то по этим мостовым да еще и в телеге. — (Кажется, довольно было бы для пытки и линейки Веры Яковлевны, но она находила ее очень покойною.) — Алешка! Тише, дурак! Всю душу выбило. — Да нельзя, сударыня. Изволите видеть, какая темь. Ничего не видно. — А еще фонари… Мошенники! Только знают, что деньги собирать. Улучшения! На повороте-то тише, дурак! Слышишь! Тут ведь лужа стоит такая, что и господи упаси… Между тем Зоя носилась в мире звуков. Линейка благополучно перебралась через лужу, въехала на двор и покатилась как по маслу к крыльцу, только грязь хлябает под копытами лошадей. Подъехали, остановились. Длинный малый, в гороховой ливрее с красными снурками, соскочил с запяток, взбежал на крыльцо; стучится: нет ответа. «Эк дрыхнут!» — ворчит малый; опять стучит. На этот раз дверь отворилась, и на пороге показался заспанный лакей с сальным огарком в медном подсвечнике. Малый в ливрее, довольный этим признаком жизненной деятельности в своем товарище, проворно отбросил фартук линейки; Зоя легонько оперлась на его плечо, прыгнула на крыльцо и прямо в горницу; но пола салопа, к несчастью, распахнувшись, задела за подсвечник; тот выпал из рук полусонного лакея. Вера Яковлевна, которая в это время занесла уже одну ногу на ступеньку крыльца, оставшись во внезапной темноте, закричала и уронила ридикюль, из которого посыпались бальные конфекты, и все под ноги лакею в гороховой ливрее. Ужасное положение! Вера Яковлевна, лакей, кучер — все кричат; а Зоя между тем, не подозревая бед, которые наделала, стоит в бальном своем наряде в гостиной перед большим зеркалом,хороша и весела, как молодая жизнь. Перед нею девка в какой-то душегрейке, накинутой поясом на плечи, и со свечкой в руке смотрит с удивлением на свою барышню, не зная еще хорошенько, не сон ли это еще перед нею… А там-то шум, крик! Лакей хлопает дверьми, бежит, крича: «Агафья Петровна! огня! барыня!» А барыня идет, охая и ворча: «Право, хамы; только и знают, что дрыхнут…» Зоя заснула, думая о мазурке, о Карле Адамовиче и — о князе. На другое утро… Зачем после этого другого утра следует еще другое, и еще, и еще, и так далее? Какое может быть лучше этого? Странные люди! Вы стали бы плакать над гробом молодой девушки, умершей в это другое утро. Ужели этот сон, который мы называем смертью, внезапно, как тропическая ночь, постигающий жизнь посреди ее самых роскошных картин, не лучше вашей бледной, бесцветной жизни, слабо, как северный день, освещаемой воспоминанием? Нет; эти слезы напрасны; прекрасен покой на бледном, молодом челе, по которому горесть не провела ни одной борозды; надежды и любовь, кажется, еще улыбаются в душистом венке, которым украшает его дружба, и золотые сны еще лелеют это воображение… Пусть спит, не пробуждаясь более для жизни, где не найдет ни одного луча, освещавшего ее минутный путь! Смерть за смерть: холод гробницы не хуже холода, одевающего прежде времени отжившее сердце… А ведь придет же другое утро, когда каждая скажет: сердце отжило; или, что еще не хуже ли, когда оно отживет, а красавица скажет, смеясь: э! все это вздор! — и пойдет солить грибы… Небо пасмурно; тучи нависли над кровлями; того и гляди, что по лужам пойдут круги да пузыри; Вера Яковлевна в кухне ворчит что-то на повара-лакея в гороховой ливрее, который по профессии своей был повар, а на запятках ездил только в экстренных случаях. Зоя сидела за фортепьяно: то быстро пробежит по клавишам розовыми пальчиками, то повторит вчерашний вальс, то, остановясь на взятом аккорде, задумается, и на лице видно, что не печальны думы те! Нет, игривы, веселы они, как весеннее солнце на лугу, как игры мелких птичек в чаще, проникнутой забежавшим в нее лучом, как полет бабочки над пестрым цветником, как любовь, еще не сознавшая сама себя. «Как он взглянул!.. Как мило он сказал… Ах, как он умен! Как все движения его приятны… уж не то что советник…» Здесь последнее колено вальса, и в воображении целый бал, мазурка, огни, блеск, шум, и везде и всюду он… — Зоя! Ты и не думаешь, что надобно платье приготовить! Разве ты забыла, что мы сегодня обедаем у Авдотьи Васильевны (экс-прокурорши)? Ты надеешься на Дашку — хороша будешь! Нет, матушка, на этот народец не очень надейся; будешь без всего. Уж эти хамы! Дашка! — Приходит девка. — Приготовила ли ты барышне платье? — Не изволили ничего приказывать-с. — Вот, Зоюшка; все-то за тобой надобны няньки. Нехорошо; ты небогатая девушка… — У кого есть добрая тетушка, тому лучше, чем богатому, — сказала Зоя, бросившись на шею Вере Яковлевне, еще несколько встревоженной разговором в кухне. Она старалась сохранить свой сердитый вид, который уступал уже обыкновенному ее добродушию, и тихонько отталкивала Зою. — То-то «тетушка»! Ты настоящая лиса, право, лиса, — говорила Вера Яковлевна. — А выйдешь замуж, кто тогда станет с тобою нянчиться? — Замуж? — Зоя засмеялась и покраснела. Бог знает, с чего ей представилось, что ей идти замуж надобно было только — за князя. Положение князя в эту самую минуту было совсем другое: губернская предводительша, тетушка его, сидела за пяльцами и вышивала какой-то цветок; он возле нее рассеянно резал маленькими ножницами ниточку шерсти. Утром он получил из Петербурга несколько писем, в которых ему говорили о петербургских балах, о возвращении из-за границы княгини Г., графини Д*; о новой танцовщице, между прочим о его делах, так что вчерашний бал совершенно вышел у него из головы и с хорошенькою брюнеточкою Зоею. Предводительша начала искать чего-то на пяльцах. Князь, не обращая внимания на тетушку, продолжал резать. — Так! Вечно схватишь, — сказала предводительша, отнимая ножницы у племянника. — Виноват, тетушка. — И так задумался. Конечно, это резанье была какая-нибудь важная операция? Или воображение было занято другим? — Посудите, каково же бы это было, если б оно было занято ниточкой? — Ниточка или цветок иногда очень дороги. Хочешь, я угадаю, чем оно было занято? — Сделайте милость. — Почему ж бы и не нашим пари? — Пари? Каким? — Уж и забыл? Впрочем, я вчера еще заметила, что ты о нем забыл. — А! Кажется, вы меня уж и во влюбленные записываете? — Чего доброго! Однако ж знаешь ли, что мы сегодня обедаем у Зиньковой (экс-прокурорши)? — Мы? Однако ж не я? — Нет, ты. — Полноте, тетушка; зачем такое страдание? — Я обещаю тебе, что там будет твоя брюнетка. — Это очень хорошо; но… — Что же «но»? — Целый день у этого скелета, экс-прокурорши, и еще надевать мундир… Как можно было видеть, и особливо по жалкой фигуре, которую сделал князь, его сиятельство был влюблен очень, очень посредственно. А между тем… Зоя действительно была на обеде; вечером ее заставили петь; князь ей аккомпанировал, хвалил ее методу, особенно ее голос; сделал несколько дружеских замечаний, как любитель и знаток музыки; сыграл за тетушку целый тур в преферанс с Верою Яковлевною; очаровал ее своей любезностью и просил позволения на другое утро привезти новый романс для Зои Павловны, привезти самому. Вера Яковлевна была без ума от князя и не могла надивиться любезности губернской предводительши. На другое утро она принималась раз пять рассказывать, как губернская предводительша сказала ей, что она очень хорошо играет в преферанс; как хвалила Зою и заметила, что воспитание ее делает честь Вере Яковлевне. Вера Яковлевна почла даже себе за долг сделать визит губернской предводительше и рассказывала потом, что была принята чрезвычайно ласково. О, если б вы видели, что были за хлопоты, когда губернская предводительша приехала отдать визит Вере Яковлевне!.. Но нас занимает другое. Наши молодые люди виделись очень нередко; предводительша любила музыку и пригласила к себе Зою; следственно, Зоя и князь пели вместе и у предводительши, и у экс-прокурорши; иногда, конечно, изредка, князь заезжал к Вере Яковлевне, которую особенно уважал ли, любил ли, не знаю, только тут были, по словам Веры Яковлевны, очень дружеские отношения. Он был, право, очень любезен; шутил с тетушкой, назывался к ней на блины, на преженцы{72}, которые страстно любил; между прочим перебирал ноты племянницы, заставлял ее петь, и нередко после таких посещений на окне Зои появлялась в стакане свежая ветка фуксии. Впрочем, должно сказать правду: у Зои был замечательный талант и голос, какие редко можно слышать и в столице. Это был один из тех редких контральто, которых каждая нота отдается в душе. Что ж мудреного, что князь, как ценитель и знаток прекрасного, привязался только как любитель музыки — не более к развивающемуся таланту молодой артистки? Впрочем, как знать? Быть может, круглые атласные плечи и полная, высокая грудь, тихо волнуемая под легкой кисеею, обтягивающей тонкую талию, и грациозные контуры личика, так хорошо округленного шестнадцатой весною, и огненный взор, по временам выбегающий из-под длинной ресницы, и завистливые складки широкого платья, невольно изменяющие тайне прекрасной ножки, поддерживающей педаль, — быть может, все это, говорю я, независимо от эстетического наслаждения музыкой действовало на чувства молодого светского артиста. Как бы то ни было, только через несколько времени светский артист, князь, сам не зная как, очутился влюбленным, и не на шутку, в уездную барышню. Бедовое дело музыка!.. Влюбленному, то есть ему, надобно было часто, беспрестанно видеть Зою, надобно было обладать ею… Но князь был человек нравственный. А Зоя? Зоя? Она засыпала, повторяя в уме последнюю фразу, переданную в этот вечер голосом, который для Зои теперь заключал в себе всю гармонию мира; она просыпалась, встречая прежде дня взор, который для нее теперь сиял всеми огнями солнца. Сесть за клавикорды и повторять его песни, потом, при малейшем шуме, бежать к окну — не он ли едет?.. Это знакомый стук колес… он!.. Вот его султан играет с ветром… серая шинель… он приложил руку к шляпе… Ну, есть ли что приятнее этого движения, есть ли что милее этой улыбки, этого взора?.. Проехал. Она прижимает руку к груди, как бы желая удержать сердце, готовое вылететь. Смотрит: кажется, небо стало светлее, вокруг нее веселее; как будто небесное сияние осветило комнату. И теперь она просидит целый час, все припоминая эту улыбку, этот взор, это движение руки. И так пройдет целый день, и завтра то же. Видеть его и потом ждать — и так вся жизнь. О! это хорошо… А там, тихонько, без ведома девушки, сколько надежд роится в голове! Недаром вечером, сидя за столиком подле Веры Яковлевны, которая в очках, придвинув свечку к носу, вяжет чулок, Зоя оставляет работу, взглядывает боязливо на Веру Яковлевну, разгибает книгу, опять взглядывает на тетушку и, зажмурясь, замечает наудачу пальчиком строчку на правой стороне; недаром с жадностью читает ее и, закрасневшись, отталкивает книгу; или, нахмурясь, снова разгибает, только на другом месте, и опять смотрит на тетку, и опять читает; недаром… Но, ах! Быть может, были и другие в то же время, которые откладывали в сторону толстый том «Свода законов» и также загадывали, быть может, в элегиях Батюшкова. Советник Ильин не был также покоен; Зоя Павловна занимала собою все свободное его время и занимала так, что даже и по палате было заметно некоторое изменение в образе его действий. Журналы были не помечены, и в самых совещаниях советник не всегда знал, о чем идет дело, и — молчал. Зоя нравилась ему; в продолжение нескольких дней он ласкал себя надеждою, что он может осчастливить ее; уже видел ее советницей, хозяйкой дома, матерью его детей… Но вот уже несколько дней, как все переменилось. Зоя не обращает на него внимания, не ищет его взоров, не слушает его комплиментов, не смеется его шуткам, или, что еще хуже, слушает не его комплименты, смеется не его шуткам. Советник долго думал, не верил сам себе, еще сомневался; наконец решился открыться во всем почтенной благодетельнице своей Авдотье Васильевне, экс-прокурорше, и если она подтвердит замечания его насчет рождающейся склонности Зои к гвардейцу, собрать все благоразумие свое и, как должно рассудительному советнику, предоставить милую ветреницу ее судьбе. Итак, в одно воскресенье советник приехал обедать к экс-прокурорше, и нарочно пораньше, пока еще никого не было, и изложил сколько мог яснее все обстоятельства занимавшего его дела. Старушка выслушала, потрясла головою, и хотя согласилась, что замечания советника были не без основания, однако никак не одобрила мысли его отказаться от Зои. Зоя — ребенок; она, то есть экс-прокурорша, поговорит с Верою Яковлевною, женщиною основательною, вместе побранят Зою и заставят ее выкинуть из головы бред. Таким образом успокоив советника, она сыграла с ним до приезда гостей двенадцать королей в пикет, а дня через три после того советник через экс-прокуроршу просил формально руки Зои Павловны. В жизни народов бывает, говорят, иногда, что они спят по целым столетиям, не рассуждая, не жалуясь, не зная даже, можно ли желать лучшего, и вдруг блеснет искра, и они пробуждаются, мыслят, испытывают и сознают себя и свое настоящее. Так и в сердце девушки; ребенок-Зоя до сих пор жила, не зная, как уходила жизнь, наслаждалась настоящим, не зная, что было оно, и не спрашивая, что вело оно за собою. Вдруг является вопрос: идти ли за советника? Зоя, не думая, отвечает: отказать, отказать. Но для чего? Ответ готов: это образ князя с его прекрасными, одушевленными глазами, милою улыбкою и темными усиками. Но если прежде этот образ отвечал на все движения души, то теперь Зоя спрашивает: отчего же это так? Она любит… Любит! Но любят ли ее? Чему жертвует она счастьем отца, как уверяют ее, выгодным женихом, как говорит Вера Яковлевна? — чему? И на это ответ легко найти. Если б он и не любил ее, если б ей и не быть за ним, то любить его, жить им одним, для него, это уже значит жить. И как идти к алтарю, нося в сердце образ другого; как сказать «да», когда душа полна другой любовью?.. Но все это важные, неотразимые причины для сердца шестнадцатилетней девушки и кажется вздором, бреднями для людей рассудительных. Бедная Зоя! Сама Вера Яковлевна, которая отдала бы жизнь свою для твоего счастья, скажет тебе: выкинь это из головы. Она не подумает, скольких страданий будет тебе стоить эта кровавая операция. Но ничего! Надобно, чтоб другие были счастливы по-нашему, а не по-своему. Зоя просила отсрочки. Она хотела употребить это время, чтобы приготовить победу над сердцем? И! нет! Она об этом и не думала. Молодость полна веры в счастье. Ей все кажется, что завтра оно вынесет ее из пучины. Следственно, выиграть время — этого уже было довольно для Зои. Что говорила экс-прокурорша с Верою Яковлевною, этого я не могу сказать. Только с того времени Вера Яковлевна совершенно переменилась к князю; сделалась с ним очень холодна; называла его мальчиком, дерзким и решительно восставала против его усиков, находя в них признак буйства. Зоя слушала и молчала; она ждала счастья, — но счастье не приходило выручить из беды бедную девушку. Раз (это было при разъезде на бале) весь вечер князь танцевал очень мало, был печален, стоял поодаль, прислонясь к колонне, и молча крутил усы, между тем как она, невольница, выплясывала посреди залы кадриль с советником, летя и взорами и душою к другому. Лишь только под конец бала Зоя случайно, совсем случайно остановилась с приятельницами недалеко от колонны, у которой стоял князь, тогда как толпа кавалеров, и между ними советник, подходила к ним, чтобы ангажировать на мазурку. Князь не выдержал; он завладел Зоею в глазах советника и, не дождавшись ответа, увел ее на другой конец залы. И как он был нежен, как был любезен во всю мазурку! Как много говорили глаза его! Все это заметили, так что Вера Яковлевна притворилась больною и увезла Зою из мазурки, бросив на князя взор раздраженной Юноны{73}. К несчастью, он не заметил этого взора, подал руку Вере Яковлевне, которую, несмотря на гнев свой, она должна была принять. Он проводил обеих дам до подъезда, сам посадил их в кибитку, и Зоя чувствовала… да, сажая ее, он прижал руку девушки к груди своей… Было темно; никто не мог заметить. Во всю дорогу тетушка бранила Зою, сердилась; Зоя не слыхала ничего; она вся была как в огне; она чувствовала еще прикосновение руки… Вера Яковлевна объявила Зое, что запрещает ей не только танцевать, но и видаться с князем и даже думать о нем. И он как будто угадывал волю Веры Яковлевны. Напрасно Зоя ждет у окна: много проезжают саней, его нет как нет; поедет к экс-прокурорше — советник там, его — нет как нет. Зоя плачет тихонько; не спит ночи. Она ошиблась; он не любит ее. — Нынче девицы стали чересчур легковерны, — говорит Вера Яковлевна, между прочим, без намерения, так, к слову, — молодые повесы наговорят им турусов на колесах, притворятся влюбленными, а они-то и верят. Нет, в наше время были поумнее; нас, бывало, так не проведут. Притворяется? Разве так притворяются? Нет! Сама душа говорила его глазами; Зоя это видела; она сама читала любовь во взорах его. Нет, он не обманывал ее; но — он разлюбил ее. Между тем срок приближался. Надобно было дать ответ советнику; отец пишет к Зое и ясно выражает свое желание… В тот же день печальную Зою повезли к экс-прокурорше обедать. Его там не было, но был советник и много еще других. Скучно проведен день. Вечером все сели за карты, Вера Яковлевна и даже советник. Остались Зоя и две молоденькие внучки прокурорши. Они пошли в залу к фортепьяно. Девочки болтали, смеялись; Зоя играла. Все в этой комнате напоминало ей короткий сон любви ее. Здесь она была счастлива; вот здесь он так много говорил с нею… Вдруг… Зоя вздрогнула: он стоял за нею. Зоя не покраснела; но две крупные слезы вдруг выкатились из глаз ее. Она вскочила. — Вы испугали меня, князь. Он взял ее за руку и посадил опять на стул. Глаза их встретились, и Зоя опять верила в сердце его: он любит ее. Как это случилось, не знаю, только понадобились ноты, которые были в учебной комнате. Девочки побежали их искать. Князь сидел возле Зои, положа руку на спинку ее стула. Зоя, наклонясь к клавишам, играла вальс такой быстрый, что, кажется, все земные и подземные духи должны были закружиться в неуловимом вихре; князь слушал внимательно, и вдруг рука его очутилась на белом плечике Зои… вальс тише, тише… замолк, и когда девочки вбежали в комнату, Зоя, алая, как роза, принялась играть последний такт секстуора из «Лучии Ламермур»{74}, а князь шел навстречу девушкам, как будто бы на губах его и не горел еще только что сорванный поцелуй. На другой день Зоя, проснувшись, вскочила с постели и подбежала к фортепьяно. Между нотами лежала искусственная ветка фуксии, но так хорошо сделанная, что обманывала глаз. Зоя объявила Вере Яковлевне, что ни за что в мире не пойдет за советника. Та в отчаянье поскакала к экс-прокурорше, и обе решились вечером же поговорить вместе с Зоей и образумить ее. Ее привезли к экс-прокурорше. Никого не было, и даже сказано под рукою, чтоб никого не принимать — разве уж по необходимости, то есть если б кто поважнее приехал: люди в хороших домах на это примётаны. Начались рассуждения; Зоя сидит ни жива ни мертва; она чувствует, что это решительная минута, что ей станут говорить о князе и что теперь или никогда она должна собрать все силы и сказать, что не может принадлежать другому. Она была уже связана с князем неразрывными узами; он сказал ей, что ее любит; прежде она боялась знатных родных князя; теперь она о них не думает; она сильна любовью князя: не обязался ли он с нею торжественно? Да, торжественно: поцелуем жениха! Вдруг в самом начале разговора, когда Зоя, как преступница, сидела потупя глаза перед своими судьями, двери отворились настежь, и человек доложил о приезде губернской предводительши. Такой гостьи нельзя уже не принять. Губернская предводительша вошла. Она была в том же самом синем бархатном платье, в котором была и в собрании; только теперь на ней была желтая шаль и шляпа с страусовыми перьями. Лицо оживлено обыкновенною улыбкою светской дамы. Сначала разговор как-то не вязался. Хозяйка и Вера Яковлевна были заняты только что прерванным поучением; губернская предводительша начинала и то, и другое; казалось, и у нее было что-то на сердце, что было очень нужно, но не могло высказаться. Подали варенья и для каждого особенное блюдечко, маленькое и очень красивое, с маленькою чайною ложечкою; разумеется, прежде предводительше; та взяла ложкою, кажется, малины; Вера Яковлевна также, говоря притом, что у Авдотьи Васильевны необыкновенно хорошо варят малину. Зоя отказалась, несмотря на знаки тетушки, которая находила неприличным и странным такой поступок. — Зоя Павловна не любит сладкого, — заметила экс-прокурорша с приятною улыбкою и сильнее обыкновенного потрясая головою. — Зоюшка нездорова, — поспешила сказать в извинение племяннице сметливая Вера Яковлевна. — Со вчерашнего дня что-то жалуется, и я советовала ей диэту. — Странное дело! — сказала экс-прокурорша, обращаясь к предводительше. — Нынешние молодые люди стали очень слабы, не то что в наше время. Право, я даже и не помню, чтоб, бывало, нам когда предписывали диэту да осторожность. А нынче только и слышишь, что то вредно да другое. — Уж очень измодничались, матушка, — заметила Вера Яковлевна. — Другое воспитание, все на иностранный манер; а ведь в наше время было попросту. Мы не знали ни корсетов, ни бульонов, ни мазурок; зато и были покрепче. — И не только в здоровье… — сказала предводительша. — Ваша правда, Надежда Сергеевна, не в одном здоровье, а в вере, в нравах — вот в чем люди были покрепче. Теперь и родство, и дружеские связи все меньше уважаются. Живем мы, не думая о завтра; есть отцовское наследство — мы торопимся в столицу, за границу, как будто бы оно тяготит нас. Давай все мотать. Нет у нас, как бывало прежде, привязанности ни к своему дому, ни к деревне, где жили отцы и деды. Точно как будто бы мы все на час и ни за нами, ни перед нами никого у нас нет. — Легкомысленны, легкомысленны стали все, матушка! — сказала со вздохом Вера Яковлевна. — Уж чего тут дом или деревня, покоем своим не дорожат; окружают себя наемными людьми. А какой уж покой с наемными? — Это бы еще ничего, — сказала предводительша, ставя блюдечко и утираясь шитым батистовым платком с кружевами. — Я сама готова была бы окружить себя наемными. Крепостные — это наши оковы. — (Вера Яковлевна поставила свое блюдечко на стол. Краска вступила ей в лицо; однако она смолчала.) Предводительша продолжала: — Я нахожу то дурным, что в самых важнейших поступках наших видно легкомыслие, а особенно в молодых людях. У них совершенно нет ничего святого. Они играют чувствами, спокойствием, счастьем целой жизни, как ребенок своею игрушкою. Я вам расскажу, какой случай был у нас, в нашем семействе. У меня есть племянник… брат того, которого вы знаете. Мы жили в… в Москве. Он приехал к нам, в отпуск, и, разумеется, я представила его во всех домах, где была сама знакома. Он очень недурен собою, ловок, знаете, как человек, который всегда живал в лучшем обществе; ну, хорошей фамилии, в связях и, конечно, с хорошею будущностью. Он был принят как нельзя лучше, а особенно матушками. Невозможно представить себе, что ни выдумывали они, чтоб заманить такого женишка. Просто на руках его носили. У нас были одни знакомые, у которых в доме было всегда множество молодых девиц. Племянник мой часто бывал там и, разумеется, как молодой человек, находил там удовольствие. — Конечно, с молодыми девицами, очень натурально, — заметила экс-прокурорша, покачав головою. — Ничего не может быть натуральнее. Между этими девицами была одна прехорошенькая небогатая девушка и сирота. Мы все знали, что она уже помолвлена. Вот один раз повесе-племяннику моему вздумалось побиться об заклад с приятелями, что он влюбит в себя эту девочку. — Возможно ли это? — Посудите. И что ж вы думаете? Ведь он успел! — Очень верю. Эти молодые головы, как рыбка на удочку. — Да странно-то то, что девочка в самом деле была страстно влюблена в своего жениха. — Что ж тут странного? Помилуйте? Вечная любовь в одних романах. Одни эти дурочки думают, что уж если им кто понравился, то это и ах, и увы, и навек… А все это вздор. — Да такой вздор, что не прошло и двух недель, как она точно так же была страстна к моему племяннику. Право, даже жалко было ее видеть. — А ему смешно, я думаю? — Нет; знаете, девочка была точно хорошенькая. Сперва, быть может, он и притворялся влюбленным, а после, право, кажется, влюбился от души. По крайней мере, мы все смеялись над ним. — Ну да, влюбился; это может быть; только такая любовь никому не делает чести. Влюбился, как влюбляются в каждый фартучек. (Здесь качанье головы сделалось очень сильно.) — Разумеется, не больше; только девочка приняла это иначе. — Глупенькая! Глупенькая! — Посудите сами. Ни воспитание, ни состояние, ничто здесь не соответствовало. Да, я думаю, что и сам племянник мой не мог почитать этого серьезным. Он очень знал, чем был обязан и свету и себе; знал, что всегда мог иметь одну из лучших невест: как же было ему жениться на неизвестной девочке? Этого и быть никогда не могло. Но вот была беда. У племянника моего прекраснейшее, предобрейшее сердце. Представьте же себе его положение, когда он узнал, что девочка влюблена в него не на шутку и из его проказ отказала хорошему жениху, который, верно, составил бы ее счастие… — Неужели же у этой дурочки никого не было, кто бы ее образумил? — Бог их знает. Только я наконец, видя все эти глупости, говорю: «Mon cher, что ты это делаешь? Помилуй! Да уезжай ты бога ради. Ведь ты ее уморишь. Ну, наделал глупостей, так и поправляй же сам». — Что же он? — Послушался, слава богу, и — уехал. — Она взглянула на Зою. — А что же девочка? — Сперва, верно, сердилась на меня, а потом сама же будет благодарна. Этот рассказ оставил тягостное впечатление во всех присутствовавших. Все замолчали. Наконец экс-прокурорша, спохватясь и вспомнив, что невежливо молчать, тряхнула головою и спросила: — А что наше сокровище, князь? Ведь я также влюблена в него, вы это знаете. Скажите, долго ли он еще меня порадует, пробудет с нами? — Племянник мой? Он уехал сегодня утром, и я затем и приехала, чтобы просить вас извинить, что он не мог быть у вас. Дела совершенно непредвиденные и необходимые заставили его поспешить отъездом… — Она опять взглянула на Зою… На другое утро Вера Яковлевна, желая вывести спасительное нравоучение из вчерашнего рассказа, пошла в комнату племянницы и нашла ее — в жестоком нервическом припадке. Послали за доктором, послали за отцом; припадок прошел; отец приехал, а Зоя была — помешана. Но мы слишком занялись Зоею; вы, конечно, не потребуете от меня подробностей ни ее болезни, ни выздоровления. Бедная Вера Яковлевна с горя ли, как говорили одни, от сдобного ли пирога с грибами, как уверял уездный доктор, умерла вскоре по возвращении домой. Умер также дядя Зои, богатый человек, и она сделалась богатою невестою. Отец ее оставил место городничего и переехал в деревню, доставшуюся после брата. Зою лечили в Москве, возили в Ростов, в Воронеж. Наконец, привезли в Петербург, где ей очень помогли, так что казалось даже, будто бы болезнь совсем прошла. Она даже начала брать уроки музыки, как вдруг, последнею зимою, болезнь ее возвратилась, и с такою силой, что потеряли всю надежду на ее выздоровление. Мы, однако же, видели, как дружба Мери возвратила ей тишину и рассудок. Зоя жила на даче с родственницей по матери, которую отец ее взял к себе наместо покойной Веры Яковлевны. Уверяли, что последние припадки Зои начались после какого-то музыкального вечера, где ей показалось, что она слышала голос своего князя.V
На даче все было в необыкновенной тревоге; горничные доглаживали платья, одевались; люди бегали из буфета в кухню и обратно; повара суетились около плит; по аллеям сада мелькали группы гуляющих, большей частью обитателей дачи и соседей, которые, заслыша, что у Байдановых ждут гостей, заключили, что будет помолвка, и ходили около дома, стараясь подсмотреть какое-нибудь движение в комнатах. Одна Зоя сидела покойно на своей маленькой террасе, обращенной на запад, и смотрела задумчиво, как блестящее светило дня склонялось к покойным водам залива. В самих комнатах невесты было тихо, потому что все приготовления к вечеру были кончены. На столах расставлены и цветы, и фрукты в серебряных вазах; несколько дам, родственниц, богато одетых, ходили из комнаты в комнату, тихонько разговаривая между собой, мимоходом передвигая с места на место, для большего эффекта, то вазу, то корзину. Старушка Байданова сидела одна-одинехонька в гостиной и раскладывала гранпасьянс (обыкновенные ее собеседницы на этот вечер были прибраны вместе с чехлами, с мебелью и разными мелочами, которые находили неприличным оставлять при гостях). Сама Мери была еще в своей комнате; туалет ее был окончен, но она казалась им недовольной; две девушки стояли в дверях. Мери подходила к зеркалу, поправляла букли, приказывала девушке приколоть пояс; потом садилась, брала книгу и оставляла ее, чтобы опять подойти к зеркалу. Она хотела казаться покойною, но сердце девушки, при всей рассудительности ее, не хотело слушаться советов благоразумия и билось как бы в груди самой мечтательной из всех провинциальных невест. Между тем Елена Павловна… превосходная женщина! Представьте, что накануне она легла в три часа, проиграла весь вечер со старухою Байдановою у Белугиных; не спала всю ночь: сделались спазмы; встала с головною болью, а надобно было ехать за покупками. Теперь страшный мигрень, опять спазмы; голова обвязана платком; на висках кружочки из почтовой бумаги, намоченные одеколоном, на затылке хрен, а надобно еще ехать на дачу: положено вечер провести у невесты. Это ужас! Право, мы вечно жертвы собственной доброты и привязанности… Ну, а как не ехать? Как отпустить сестрицу и Евгения одних? Княгиня превосходная женщина, но холодна и совершенно неспособна что-нибудь уладить и устроить. А Евгений? Ну, что! Он влюблен… да нет, и не знает ничего. Как-то в нем нет этого дара, чтоб найтись, смекнуть. Ему все было бы готово, все устроено: грансеньор, уж известно! Ну, хоть бы с старухою; где ему подладиться к старухе? Или с другими родными? А на кого надеяться? Другие тетушки приедут только попировать. А хлопотать одна Елена Павловна во всем и везде. Любопытно было видеть внутренность княжеской кареты, когда она отправилась на дачу с женихом, княгинею и необходимою тетушкою. Княгиня, худенькая, бледная, неподвижная в углу кареты, в старушечьем чепчике и закутанная шалью, держится морщиноватою рукою без перчатки за басоны{75} и смотрит в окно, не говоря ни слова. На лице ее, всегда покойном, видны грусть и внутреннее волнение; она, видимо, старается избежать взоров сына, как бы боясь, чтоб он не прочел в глазах ее, что тревожно занимало ее душу. Не о себе беспокоилась княгиня: ей не много уже осталось жить. Но будет ли счастлив он, любимец ее, чье счастье было постоянной надеждой всей ее жизни? Он приобретает независимое состояние, — но какою ценой? Не утратит ли он за него свою собственную независимость? Будут ли поняты и оценены доброта и деликатность его, эти неоцененные качества для тех, с которыми мы живем, и, к несчастью, часто очень вредные для нас самих. Изредка входила ей в голову мысль: как будет и со мною невестка? И он не переменится ли, женясь?.. Но это на одно мгновение. Он, один он занимал ее. Странно! Богатство, которое до сих пор было постоянною ее мечтою, теперь, когда оно было уже почти в руках, казалось ей ничтожным, дорого приобретаемым: княгиня начинала уже смотреть на него с философской точки. В другом углу кареты, на той же лавочке и как бы для контраста с княгиней, сидела Елена Павловна, одетая по последней моде (нельзя же для новых родных!). На висках бумажки, напитанные одеколоном, нюхает спирт и беспрестанно говорит: то дает советы племяннику, то пересказывает княгине свой последний разговор со старухою Байдановой, то крестится и благодарит бога, что он совершил наконец ее желание пристроить милого Евгения и видеть сестру покойною; то рассказывает, какие чепцы и уборы заказали к свадьбе родные невесты: она все это знает, потому что со всеми друг и все у нее спрашивают совета. И вдруг, вспомнив о своем мигрене, говорит, что глаза у нее готовы выскочить от боли, нюхает спирт и перекладывает из-за ушей на руки хрен. Князь молчалив, как мать, иногда улыбается, слушая тетку, благодарит ее, подает скляночку с одеколоном и изредка взглядывает на мать. Ему хотелось бы в ее спокойствии почерпнуть уверенность, которой напрасно ищет в себе… Мери ему нравилась, или, лучше сказать, он в ней ничего не находил такого, что бы решительно не нравилось ему. Еще более: с нею, охотнее, чем со всякою другою, он протанцевал бы целый вечер и даже бесконечную мазурку. Но супружество не танец: там, как ни скучна была бы дама, она кажется сносною оттого уже, что она не навек. А здесь — перестает ли веселая музыка, под которую скрестились руки, перешла ли в печальное адажио{76} или раздирающий душу стон — все надобно идти, идти, пока холодная смерть разожмет сжатые руки. Вместе, неразлучно до гроба — обольстительная перспектива, когда любовь смотрит на нее сквозь свою блестящую призму; ужасная — когда холодный рассудок стоит на рубеже и наводит на нее свой неотразимый телескоп! Конечно, князь был уже не ребенок и не юноша; он давно уже перестал настойчиво толкаться в дверь жизни, требуя у нее счастье; давно покорно принял ее с ее необходимыми утратами, небезусловным добром и злом и холодными вознаграждениями и заменами; давно отказался от пустой мечты в жене найти любовницу; едва смел надеяться найти друга и с некоторого времени даже начал думать, что хорошо, если она будет — не слишком беспокойной придачей к приданому. Но теперь оставался вопрос: в какой степени не беспокойна будет эта придача? Когда-то мысль жениться на приданом и жить имением жены возмущала всю гордость князя; когда-то и он мечтал самостоятельно, с возвышенным челом, прижав одною рукою к груди милое, слабое существо, вверившее себя его защите, идти навстречу судьбе и в неравном бою, покрытому стрелами, но непобежденному, смеяться в глаза утомленному врагу. Это было когда-то… О! люди великие учителя! Посмотрите на коня, дикого сына свободы: необуздан, неукротим, самонадеян! Пройдет год, несколько месяцев даже, и он уже тих, смирен, послушен; покорно принимает удила и даже гордится под седоком. Не знаю, пожалел ли бы он о прежней доле даже и при встрече с прежними товарищами своими, еще вольными, еще не взнузданными, но, быть может, посовестился бы, если б мог совеститься. Князь был утомлен и недостатками, и хлопотами, и неудачами; единственным желанием его было теперь спокойствие; он находил, что не было цены, которой бы нельзя было дать за него. Но в ту самую минуту, когда он был готов дать эту дорогую цену, он был беспокоен. И возвратный взгляд на прежние верования, и надежды, и опасение: действительно ли спокойствие приобретает он, покупая богатство, — все это тревожило его. В подобных рассуждениях время прошло; карета въехала в широкую аллею и остановилась у крыльца; Елена Павловна бросила свои бумажки и хрен, поправила головной убор и мантилью и, пропустив вперед княгиню, пошла за нею… Вошли; торжественная тишина, торжественные поклоны с обеих сторон тетушек, дядюшек и кузин без числа, и все в восхищении друг от друга, как обыкновенно водится даже иногда и недели две спустя после свадьбы. Но скучен церемонный съезд, особливо для невесты. Неужели целый вечер сидеть на диване и целовать ручки будущей свекрови или рассыпаться в комплиментах пред украшенными звездами дядюшками? Нет; Мери усадила весь причудливый народ стариков за карты, а молодых, и, разумеется, Елену Павловну, увела в большую залу… Большая зала, которая, как уже сказано, занимала всю средину дома, пересекая его во всем диаметре, представляла в эту минуту оазис света, зелени и цветов. Яркие лучи, изливаясь из двух огромных люстр, то скользили по блестящей зелени тысячи чужеземных растений, то преломлялись в бесчисленных отливах темно-гранатового атласа мебели, то, лаская грациозные контуры мраморной психеи или капитолийского амура, терялись в густых шпалерниках камелий, которые, раскидываясь по сторонам, искусно подделанным под белый мрамор, привлекали взоры своими большими, блестящими цветками. Мери, следуя прихотливой фантазии своей, разделила всю залу на три части: средняя, и самая большая, оставлена была для танцев; оба конца, образовавшие выпуски с широко отворенными в сад дверями, были обращены в кабинеты, из которых один, совершенно заставленный диванами, козетками, покойными креслами и цветочными вазами, был посвящен разговорам. Там на столиках, на которых возвышались японские вазы с центифольными{77} розами, гортензиями и магнолиями, были разбросаны кипсеки, журналы, иллюстрации, карикатуры; в противоположном конце был кабинет, посвященный музыке. Там было фортепьяно Мери; там матовый свет алебастровой лампы, упоительная атмосфера, наполненная ароматными испарениями цветов, и тихая ночь, таинственно одевавшая высокие лиственницы и темные липы, которых черные массы виднелись в отворенные двери балкона, — все склоняло к мечтательности… Как часто здесь Мери просиживала со своею Зоей по целым часам! Она любила здесь выпытывать эту чистую, незнакомую со светом душу, любоваться этим прекрасным полевым цветком, пересаженным в теплицу, где сохранил он природные красоты, но не развил силы… Зои не было в этот вечер у Мери, во-первых, потому что она сама удалялась от общества, во-вторых, потому что Зоя была, может быть, слишком скромная подруга для такого блестящего общества. Мери вошла в залу об руку с Еленой Павловной; князь шел подле нее; за ними толпа гостей, которые тотчас рассеялись по зале, привлеченные кто прелестью цветов, кто красивыми обертками кипсеков и журналов, которые манили обещаниями и посмешить, и занять картинками, и, если кому нужно, дать средство несколько минут пожить чужим умом. Мери со своими товарищами пошла к фортепьяно. — Я никогда не бывал здесь, — сказал князь, осматриваясь кругом и как бы невольно уступая чувству удовольствия, которое внушало это грациозное соединение всего, что нравится чувствам. — Право, это царство фей, — продолжал он, подходя к дверям. — Здесь лианы, алоэсы, там печальная лиственница и сосна; вы берете дани со всех стран света. — Надобно же как-нибудь обманывать воображение. — Право? Я на минуту забыл было вечные жалобы на бедность нашей существенности. Плутовские глазки Мери блеснули, как две звездочки, но вовсе не благодетельными лучами. — Она вам кажется богатою, полною? — спросила Мери. — На эту минуту. — Вы невзыскательны. — Как хороша эта роза! — продолжал князь, как бы не слыхав замечания Мери. — Теперь не в моде восхищаться розами, потому что это признанное, утвержденное всеми правами владычество; но вы согласитесь, что нет ничего совершеннее этого соединения грации и красоты. Правда, довольствуясь такою существенностью, мы только справедливы. — Знаете ли, что нет ничего скучнее справедливости? Ведь это вечное одно и то же, не правда ли? — прибавила она, обращаясь к Елене Павловне, которая между тем у фортепьяно рассматривала ноты и по временам брала отдельные аккорды. — Справедливости? Я тебе простила бы и несправедливость, только с одним условием. — О! я не люблю условий… Боже мой, князь! Я не знала, что вы такой любитель цветов, вы смотрите на них… как будто переживая с ними все прошедшее. Легкое изменение в лице князя, незаметное для невнимательного взора, не ускользнуло, однако ж, от Мери. — Прошедшее? — сказал он, улыбаясь. — Вы слишком многого требуете, если хотите, чтоб я мог вспомнить о нем теперь… — Когда настоящее так хорошо близ тебя, — пояснила Елена Павловна. — Но, Мери, мое условие? — Посмотрим. — Послушай… это уже без шуток, я обещала сестрице, что ты споешь сегодня что-нибудь. Она никогда тебя не слыхала. — Что вы это? Куда же мне петь при всех! — Вот прекрасно! Помилуй! мне кажется, тебе можно петь при целом мире. — Ни за что в свете! Я же сегодня совсем не в голосе; слышите, как говорю? — Как ангел. Бога ради, Мери, умоляю тебя. Ну, если ты не хочешь при всех, мы никому не скажем; спой только для меня. Слушать тебя — это для меня наслаждение, с которым ничто не сравнится. — Полноте, chère tante[41], ни за что в свете; завтра, если хотите. — Нет, сегодня, сейчас, с Евгением. Мери еще отказывалась, еще кокетничала, хмурила бровки и была очень мила с этою гримаскою своенравного дитяти. Но вот они у рояли. Елена Павловна, сама музыкантша, и берется аккомпанировать. Раздались первые звуки, и со всех сторон сходятся и старые и молодые, составляют кружок, иные садятся на диванах, другие на креслах, поставленных кругом. Мери пела прелестно. Желание нравиться придавало необыкновенную силу и прелесть ее голосу; были минуты, в которые она возвышалась до истинного чувства. Князь сначала пел холодно; гибкий голос его легко, как будто играючи, передавал трудности композиции; но души не слышалось в его звуках. Тетушка Елена Павловна, чувствуя, что племянник готов уронить себя перед новыми родными, превосходила сама себя в блестящем аккомпаньемане, и стучала костями, и бросала на племянника нежные взоры — напрасно: душа его, казалось, не хотела пробудиться, и только под конец, увлеченный, быть может, прелестью и чувством, с которыми пела его невеста, он мало-помалу пришел в себя, и ноты, как оживленные, зазвучали в его голосе… Это было прекрасное соединение двух чистых, свежих голосов, гимн любви, достойный наилучших ее минут, — так говорила, по крайней мере, после Елена Павловна. Сама Мери с невыразимым удовольствием вслушивалась: она приписывала себе перемену в пении князя и, как Пигмалион{78}, любовалась своим творением. Громкое аллегро{79} довершило торжество князя; слушатели не смели дышать, от восторга или из вежливости — это было уже их дело. Вдруг в дверях, широко отворенных в сад, показалась белая фигура. Это была девушка в белом платье, бледная, как мраморное изваяние; глаза ее исполнены необыкновенного огня и устремлены на поющих, уста вполовину открыты, руки крепко прижаты к груди. Она медленно подходила, не будучи замечена поющими и не замечая удивления, с которым взоры всех присутствующих обратились на нее. Подошедши к креслам Елены Павловны, она ухватилась одною рукою за их спинку и, не сводя глаз с князя, на котором остановился неподвижный взор ее, медленно подняла другую, как бы указывая на него. Все с беспокойством встали; многие знали по слухам странную подругу Мери и угадали, кто была нежданная посетительница… Князь, как очарованный силою неподвижно на него устремленного взора, обернулся к незнакомой… Нельзя описать чувства, которое изобразилось в это мгновение на безжизненном доселе лице Зои. Казалось, взор князя, встретившийся со взором ее, проник душу ее, пробудя в ней всю способность страдать. Она с ужасом прижала руки к груди, как бы желая защититься от силы этого могущественного взора, и с болезненным стоном упала на руки Мери, которая, узнав свою подругу, поспешила к ней. Князь, бледен, неподвижен, стоял как окаменелый. В эту минуту довольно было одного взора, брошенного на него, чтоб проникнуть тайну, связывавшую его с несчастной девушкой, которая без чувств лежала на руках его невесты. — Бога ради, уведите всех отсюда! — сказала Мери, обращаясь к Елене Павловне и поддерживая свою подругу. — Спирту! Скорее, скорее! Елена Павловна не заставила повторять просьбы. В одну минуту в зале осталась Мери одна со своею бесчувственною подругой. Со всех сторон бежали горничные. Князь вышел, не замечая взоров, которые бросала на него удивленная Мери.VI
Появление Зои, на минуту прервавшее забавы общества, объяснилось как нельзя проще. В последнее время онапознакомилась с двумя соседками, молодыми девушками, которые, зайдя к ней мимоходом, уговорили ее пройтись по саду. Она услыхала музыку в комнате, где бывала так часто; привлеченная прелестью ее, взошла на крыльцо; пение растрогало ее и довело до обыкновенного припадка — вот и все. Через полчаса Мери возвратилась к гостям весела и любезна, как и прежде, извиняясь, что не очень хорошо припрятала своего опасного друга. Все опять вошли в залу; музыка опять началась, и на этот раз и танцы. На другое утро еще солнце не совсем осушило сильную росу, которая, как серебряная дымка, кинутая на луг, блестела на яркой зелени его, а Мери обежала уже весь сад. Следы внутреннего волнения были заметны на всегда веселом личике; она была бледнее обыкновенного, и глаза, несколько слабые и даже красноватые, показывали, что она провела не совсем покойную ночь. Мери совершенно не знала истории Зои, но по некоторым словам ее догадывалась, что любовь и, может быть, жестокий обман были причиной ее несчастья. Кто был предметом этой любви, где и как началась она, Мери до сих пор напрасно желала узнать. Зоя молчала, как темная ночь, и, как темная ночь, казалось, боялась появления дня. Спрашивать ее было опасно, чтоб не возбудить одного из тех припадков, которые пугали всех окружавших бедную девушку; узнать же от посторонних было невозможно. Родственница Зои или не знала, или не хотела говорить; люди же, бывшие при ней, большей частью были наемные (Веры Яковлевны уже не было!) или доставшиеся после дяди Зои, следственно, новые. Итак, Мери могла знать только одно, что чувство Зои не было одним из тех переходчивых впечатлений, которые начинаются на балу и сменяются другим в спектакле, не изменяя ни одной розы на щеках прекрасной, не туманя грустью ее светлых глаз, не сводя темной тучей ее хорошеньких бровок. Нет, она видела, что это было глубокое, истинное чувство, которое, говорят, живет в одних романах, а в свете появляется как прекрасное, как высокое, как совершенное, редким, немногим знакомым феноменом. И это-то, быть может по странности своей возбуждая любопытство светской девушки, привязало ее к Зое. Как часто Мери, сидя в своей любимой зале между цветами и зеленью, в часы, отданные скуке праздности, думала о странной подруге своей и сочиняла длинные романы, основанные на немногих словах, как на данных, схваченных во время припадков Зои. Какие чудесные развязки придумывала она этим романам, — развязки, в которых главная роль, конечно, принадлежала ей, как благодетельной фее или великодушному другу! Мы все так добры, так великодушны, так совершенны в ролях, которые назначаем себе в драмах, разыгрываемых в воображении нашем… Есть ли хоть один герой любимого романа, которого возвышенные свойства и характер мы не приняли на себя и не прощеголяли бы хоть несколько дней по крайней мере? Дайте какой хотите случай — мы знаем, как прекрасно, как самоотверженно стали бы действовать… Иное бывает на деле; существенность — наш пробный камень; часто на нем разбивался бы прекрасный идеал, под которым мы подписываем свое имя, если б… если б мы при каждом уклонении от черты, определяющей его изящные контуры, как французские судьи, не умели находить des circonstances attenuantes[42]. Что делать! Мы лжем себе, по крайней мере, столько же, сколько другим; мы лицемерим перед собою не хуже Тартюфа, и, может быть, эта ложь, это лицемерие и есть доказательство необходимости нравственного совершенства, от которого ненаказанно не отдаляется человек. Кто бы мог быть покоен, если б непрестанно имел перед глазами, ясно, как в зеркале, все те недостатки, которых сознание — мы все это испытали — так страшно в редкие минуты сознания самого себя. Нам надобно верить в наше хорошее; думать, что дурное в нас есть только минутное уклонение, слабость, не дурной навык или дурная склонность; а то мы ужасались бы сами себя. Сколько ни положительна, ни благоразумна была Мери, но создавать таким образом небывалые романы, в которых она и Зоя были героинями, — она как судьба, Зоя как страдательное существо, — было с некоторого времени одним из любимых ее занятий. Воображение ее играло в этих вымыслах, как в сказках тысячи одной ночи; восток и юг и даже беспредельные степи суровой Сибири, покрытые снежным саваном своим, все ссужало ее своими красками; все, что было нежного, любящего, мечтательного в ее женском сердце, она все перенесла в эти фантазии, и потому-то, может быть, в сердце ее осталось для существенности так мало теплоты; это нередко случается в свете. Теперь судьба, казалось, нарочно хотела доставить Мери случай воспроизвести наяву одну из ее светлых фантазий. Что сделает она? Разыграет ли на деле роль благодетельной феи, или доброго друга, или… Вчера нечаянное появление Зои в кругу веселых гостей, ее припадок и еще более немногие слова, вырвавшиеся у нее в первые минуты, когда она пришла в себя, подали Мери ключ к тайне ее несчастной подруги. Она знала теперь, кто был предметом этой долгой, постоянной любви и, конечно, виновником этого несчастья. Разумеется, недостаточное состояние Зои заставило удалиться от нее князя, которому нужна была невеста богатая; все это ясно; но вот вопрос: любил ли точно князь Зою? Не любит ли еще и теперь? В случае если перестал любить, вчерашнее появление Зои не возобновило ли угасшего или, может быть, худо угасшего огня? Что он любил ее, это верно. Зоя хороша, и хороша именно так, как нужно, чтоб нравиться князю, несколько также склонному к мечтательности, как заметила Мери. На вторые два вопроса как знать ответ? По всем вероятностям, конечно, князь должен был уже давно разлюбить и при встрече с полусумасшедшею девушкою чувствовать одно сожаление… По вероятностям? Но какие вероятности с этим чувствительным народом? Ведь все это более или менее сумасброды, с которыми верного ничего нельзя узнать. Как же поступить Мери? Осчастливить Зою, возвратить ей возлюбленного и сыграть роль благодетельной феи? Но это хорошо было в романах, в существенности же не приходится, потому что князь не вещь и передать его нельзя без воли его. Переговорить с ним, спросить его как добрый друг, откровенно, задушевно, или просто отказаться от него, предоставить его и Зою собственной их судьбе?.. Но… Мери очень хочется быть княгинею; князь выгодный для нее жених; к тому же кроток, добр… или перевести ближе мысль Мери — смирен, уступчив, — ну, словом, муж, каких надобно… Но Зоя, великодушие, блистательные романы Мери… Дружба и высокий пьедестал, на который взгромоздилась было Мери, — вот что волновало душу ее, что не дало ей заснуть всю ночь, что подняло ее с солнцем и согнало розы с ее щек. Но напрасно спрашивала Мери совета у свежести утра, у спокойствия природы, встречающей тихий летний день: небо было ясно, как сердце праведника; воздух, как голубой флер, волновался над лугом; листочки чуть-чуть колебались на деревьях, как бы нежась в прохладе утра; пчелка хлопотала около темно-красного цветка клевера, — ничто не отвечало на вопросы Мери; у природы не было сочувствия к тревожным думам девушки, или, может быть, эти тревожные думы мешали ей понимать ответ природы. Недовольная сама собою, расстроенная, Мери возвращалась к себе; уже она миновала аллею, ведущую к домику Зои, как вдруг, на повороте дорожки, увидела ее горничную, которая медленно шла, переворачивая в руках запечатанное письмо, останавливалась, оглядывалась и вообще показывала какую-то нерешительность. Увидев Мери, горничная остановилась и, казалось, обрадовалась. — Куда ты так рано, Настя? — спросила Мери. — Неужели Зоя встала? — Давно уже, сударыня; изволили послать меня с письмом. — Куда? — Да я и сама не знаю; в город. — Да к кому же? Горничная улыбнулась и вертела письмо, как бы не решаясь сказать. — Что же? Верно, она тебе сказала, к кому отнести? — продолжала Мери. — Конечно, сударыня; вот извольте посмотреть сами. Имя есть, только я не знаю, куда идти и где найти князя. — Князя?.. Сердце Мери забилось. Она взяла письмо. Адрес был на имя князя Евгения Сергеевича, жениха ее, нет сомнения. Мери взглянула на девушку с улыбкою. — Для чего же Зоя не отдала мне этого письма? Я могла бы передать его князю, чем тебе ехать в такую даль. — Не знаю, сударыня. Барышня что-то не совсем в себе-с, так, я думаю, и сами не очень хорошо знают, что приказывают. — Бедная Зоя! Ей нехорошо? — сказала Мери с участием и, кажется, забыв о письме. — Очень нехорошо-с. Всю ночь не изволили почивать. — Я ее непременно увижу, — сказала Мери, отдавая письмо, и сделала вид, что хочет уйти. — Впрочем, — прибавила она, остановясь, — тебе надобно же адрес князя; он живет… но ты не застанешь его. Он будет утром сюда. Не хочешь ли, я отдам письмо, а ты скажешь, что ездила и не застала князя, да и останься у нас, чтоб не встревожить Зои; знаешь, она всем тревожится. — Э, сударыня! да барышня и не заметит, тут я или нет. — Теперь заметит; впрочем, как хочешь. — Мери опять хотела идти. — Нет уж, сударыня, — сказала горничная, останавливая ее, — сделайте милость, извольте отдать князю письмо; а то где же мне… — Пожалуй, — сказала Мери совершенно хладнокровно и взяла письмо, к великому удовольствию горничной, которая, конечно, воспользовалась этим случаем, чтоб повидаться с каким-нибудь братцем или кумом. Мери у себя в комнате, одна; двери заперты; она вышла и возвратилась, никем не замеченная; горничные думают, что барышня еще в постели, и бережно ходят в уборной, приготовляя платье и все, что нужно для утреннего туалета. Мери сидит на диване, прислонясь к обитой бархатом спинке; щеки девушки разгорелись, и странная улыбка, как зарница, то появляется, то исчезает на румяных губках ее. Грудь ее часто вздымается; Мери взволнована. Перед нею, на столе, лежит письмо Зои, и — уже распечатанное. «Может быть, вчерашний мой нескромный приход, — писала девушка неверною рукой, изобличающей душевное волнение, — напомнил вам ничего не значащую для вас старинную встречу, и напомнил неприятным образом. Может быть, вы будете бояться, что когда-нибудь опять бедная больная появится в комнатах невесты вашей. Я пишу к вам единственно для того, чтоб успокоить вас. Здоровье мое заставляет меня сегодня же, много завтра, переехать в город и вскоре даже и совсем оставить Петербург. Я надеюсь, что увижу вас и милую мне Мери при лучших для меня обстоятельствах». Сколько слез стоила эта записка бедной Зое! Сколько раз была написана, переписана, изорвана в клочки и опять написана! Какие, может быть, безумные надежды волновали душу девушки, когда она отдавала ее горничной, во все время, пока ожидала ее возвращения! Сколько предположений, проектов переходило в ее голове, темных, мрачных, убийственных, и иногда — как туча над заливом, на минуту озаренная проскользнувшим сквозь волны ее лучом заходящего солнца, освещенных также мгновенным лучом никогда не умирающей надежды. Другая, более светская, не стала бы писать к князю; менее любящая не стала бы писать такого письма; думаете ли вы, что вместо письма она не хотела послать одну ветку фуксии? Думаете ли, что между изорванными в лоскутки письмами и уже сожженными не было такого, где изливалось бы все сердце ее в словах, которые должны были тронуть князя, возвратить его к прежним чувствам? Думаете ли вы, что она не говорила ему о беспредельной вере своей в его сердце, о надежде, никогда не изменявшей ей, — видеть его и быть счастливою дружбою его, если не любовью? Все это и много другого говорила Зоя; но он помолвлен, помолвлен на Мери; он любит Мери… Зоя ли помешает его счастью и счастью подруги? И однако… Если б посмотрел кто на Зою, когда, бледная, встревоженная, она скорыми шагами ходит по комнате, подойдет к окну, раздвинет рукою частую сетку листьев гераниума и смотрит в глубину аллеи, не белеется ли там платье горничной, не идет ли она! Нет и все нет. Покойно все вдали; бабочка пролетит, виляя над дорожкою; малиновка перепорхнет на противоположный куст, дитя, вдруг выскочив из чащи, перебежит, чтоб спрятаться на другой стороне в кустах сирени, обманывая товарищей, которые с шумом бегут по дорожке, ища его; и вот наконец она… Зоя отскочила от окна, щеки ее пылают, сердце бьется, она упала на колени перед образом… Владычица! Помоги ей перенести эту минуту, которую против воли с надеждой ждало сердце… — Не застала дома!.. И день прошел, и ночь наступила. Зоя напрасно ждет. Не придет ли Мери? Не пришлет ли? Никого. Войдет горничная; Зоя с нетерпеливым ожиданием устремит на нее вопрошающий взор: нет ли чего? Горничная почтительно смотрит на барышню и, не спуская глаз с нее, идет к комоду, а лицо покойно и беззаботно, как будто бы весь мир пообедал и сбирается лечь спать. А между тем Елена Павловна и жених у Мери и все едут кататься в Екатерингоф: там музыка и толпа простого народа: так, посмеяться. Мери весела, как и всегда, любезнее обыкновенного. Толстым немцам с дражайшими половинами и нежно любимыми детьми, старым шляпкам с подновленными лентами и коломенским fanatica per la musica[43], которые пешком, от Большого театра, пришли с сестрицами, а может быть, и с кем-нибудь еще нежнее любимым, наслаждаться при вечерних испарениях екатерингофских болотистых лугов вальсами Штрауса, и модницам в бурнусах и с лорнетками в руках, так же как и Мери пришедшим посмотреть на добрый народ, — всем направо и налево достается от веселой невесты, и, однако, она не забывает жениха и между смехом и шуткою украдкою кидает на него испытующие взгляды. Князь кажется ей задумчивее обыкновенного… Елена Павловна говорит без умолку, восхищаясь от души остротами Мери. — А что твоя бедная больная? — спросила наконец Елена Павловна, подъезжая уже почти к самому дому. Мери не взглянула на князя, не покраснела, не смешалась нисколько. — Моя бедная Зоя, — сказала она, вздохнув. — Ах, не напоминайте мне о ней! Одна мысль о ней прогоняет всю мою веселость. К несчастию, нет никакой надежды. — Как! Ужели ее припадки?.. — Неизлечимые. Прежде надеялись еще ей помочь, но теперь доктора объявили, что это невозможно. У нее падучая. — Ах, какой ужас! — И в такой степени даже, что она потеряла рассудок. — Отчего это с нею? — Это последствия болезни. Мать ее была больна и умерла этой болезнью. Зоя еще и в детстве страдала: но это, разумеется, скрывали. Теперь же невозможно и скрывать. — Какая жалость! Как же это ты, мой ангел, бываешь часто с нею? Знаешь ли, что это опасно. Она может перепугать. — Я не боюсь ее. Знаете, она очень привязана ко мне: так не хотелось огорчить ее, тем более что на днях ее перевезут в город, а там мы нечувствительно расстанемся. — Ты всегда прелесть, чудо доброты! Мери улыбнулась, как улыбается ангел, утешающий страждущего младенца, невластный согнать с чела своего следов святого сострадания… Ужели, скажут мне, князь не старался видеть Зои, которой не мог не узнать? Ужели не понял ее страдания, ее любви и поверил сказке, сплетенной его невестой? На самом деле, по совести, не поверил. Он очень хорошо знал Зою, и потому ни любовь ее, ни ее несчастие не могли удивить его. Он был сначала поражен и долго после того расстроен, убит. Печаль сжала его сердце. Он спрашивал судьбу, за что она преследует его? За что не только сам он, но все, что мило ему, что привязано к нему, что на минуту порадовало его или остановило на нем приветный взор, должно непременно сделаться жертвою неумолимой судьбы. Что это за таинственный, неотклонимый рок, который тяготеет железною рукою над ним во всех привязанностях, во всех радостях его? И за что именно он, а не другой, избран жертвою этого рока? Князь был совершенно подавлен тяжестью этой мысли; несколько раз, прохаживаясь по комнате скорыми шагами, он останавливался у своего письменного стола и чертил карандашом на целых листах слово: «fatalité»[44]. Вечером, на третий день после появления Зои, он решился даже увидеть ее; ночью, простясь с невестою и бабушкою, он приказал кучеру выехать за ворота и остановиться у соседнего сада, а сам, закутавшись в плащ, углубился в темные аллеи сада… Но Зои уже не было. Князь еще раз произнес «fatalité» и на другой день приказал камердинеру осторожно, тайно узнать, куда переехали жильцы из маленького садового домика. Камердинер узнал, но не прежде как через три дня. Князь тотчас же решился идти и узнать все… завтра. На другой день он опять сказал: «завтра»…* * *
Может быть, вы захотите знать, что сделалось с Зоей, с ее блестящею подругой и князем? Спросите о том у этого старичка, который тихонько бредет по Исаакиевскому мосту, возвращаясь со Смоленского кладбища. На нем поношенный темно-зеленый сюртук, картуз бог знает какого года; очки с зелеными стеклами; прежде, бывало, давно уже это было, он хаживал по этому мосту, напевая какой-нибудь мотив Мюллера или Боэльдье; теперь… теперь он ничего не поет и, кажется, ничего и не видит из всего, что окружает его. Лицо его — покойно, но так покойно, как бывает лицо человека, у которого сердце сжато безотрадным, беспредельным горем, как бывает лицо старика, который потерял последнюю радость жизни своей… Этот старик недавно приехал из провинции, но… уже не собирается в Германию. В это время мимо старика проехала богатая карета с гербами и княжескими коронами. В ней были молодая, богато одетая дама и молодой мужчина. — Мы заедем к Римплеру, оттуда к Сихлер{80}. Мне шляпка у нее лучше нравится, чем та, бархатная. Как ты думаешь? — говорила молодая дама.
Ю. В. Жадовская Переписка{81}
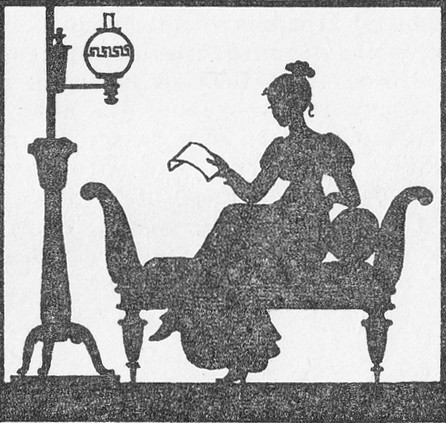

* * *
Иван Петрович! Пришлите мне, ради бога, книг. Скука страшная! Эта скука ледяным гнетом тяготеет у меня на душе. Не знаю, что делать?.. Бывают же такие ужасные минуты, когда человеку все противно! На днях мне принесли горшок роз. Пышно начали они развертываться на солнце; все были свежи и прекрасны, как вдруг одна из них при самом расцвете, бог знает отчего, побледнела, завяла и спала со стебля. Силы жизненной, что ли, у нее недостало или от другой какой причины — не умею разгадать! Боюсь только, и со мной не сделалось бы того же. Прощайте! Заходите к нам на досуге.* * *
Что делать! я сам болен тою же болезнью; у меня у самого душа как деревянная… Не беспокойтесь, это скоро пройдет, особенно у вас… Вот оденутся деревья, зазеленеют луга… Теперь весна похожа на осень, а там ясные дни, теплый воздух произведут на вас благодатное влияние. Берегите прекрасное души вашей, не давайте ему вянуть от жизненного холода… Сегодня не могу быть у вас. Посылаю вам несколько книг. Преданный вам ***ов* * *
Благодарю за книги. Шекспир заставил трепетать меня. Счастлив тот, кому дано разгадать тайну человеческого сердца! Завидую гению, который силою волшебной власти самые страдания превращает во что-то прекрасное и благородное… Перед таким могуществом исчезаешь в своем ничтожестве! Глупые, мелкие огорчения терзают мое сердце, как будто оно создано для них! Бессильная возвыситься над омутом пошлости, я с ужасом вижу, как лучшие цветы сердца гибнут. Пусть бы еще посрывала их буря, — нет, черви подъедают! Грустно! — Прощайте, до свидания!* * *
В вашем письме есть что-то, похожее на желание славы… Полноте! не отягощайте вашу душу этим новым бременем. «Я буду жить в потомстве!» — слова, конечно, громкие и завлекательные, но, бог знает, утешат ли они нас за гробом, а для этой жизни, право, не стоит много хлопотать… Зачем гнаться за неверным и далеким призраком? Сегодня вечером зайду к вам и, может быть, удастся поговорить с вами. До свидания!* * *
Что за вечер был вчера! тихо, ясно, звезд на небе без счета. Мы долго гуляли по набережной; около меня раздавались рассказы о преферансе и изредка равнодушные восклицания: «Какая прекрасная погода!» Мне хотелось утонуть взором и мыслью в бездонной лазури небес, — а я должна отвечать со всевозможной любезностью на глупейшие вопросы. Как желала я встречи с вами! Мне хотелось сказать вам только два слова: «Как хорошо!» — но вас не было!..* * *
Здоровы ли вы? Разные мелочные недосуги по службе мешают мне вас видеть… Проклинаю их! — Посылаю вам «Утреннюю зарю». Прочтите «Медведя» с особенным вниманием. Что сказать вам? Грустно что-то… Раздавшаяся ли под окном моим русская песня навела на меня эту грусть или она тайный душевный порыв? — не знаю. Я судорожно схватился за перо… Писать к вам усладительно, а надежда на вашу доброту заставляет меня забывать, что я пишу нескладно и неинтересно. Простите душевнобольному!* * *
Да сохранит вас бог от необъяснимых болезней души! Наблюдайте внимательнее за ее порывами, иначе и вправду она может захворать. — Сейчас видела я самую здоровую душу в мире — Глафиру Николаевну П… Вечно цветущая и веселая, она засыпала меня городскими новостями, оглушила своим звонким смехом. Это депо вестей и пересказов. В душе у нее нет, кажется, ни малейшего уголка ни для чего возвышенного; ей, как она сама говорит, и грустно никогда не бывает… Мне страшно, Иван Петрович! что, если во мне самой таится будущая барыня или дама, погруженная с ног до головы в визиты и наряды и не видящая ничего, кроме них, в жизни? Сильна пошлость, Иван Петрович! Могуча она… Охватит она мою душу своим всеобъемлющим холодом, увлечет меня в мутные волны свои и поглотит все мое святое и прекрасное! Страшно!..* * *
Как вам не стыдно иметь так мало веры в свою душу и свой ум! Чего вы боитесь? Ваших сил станет и не на такую борьбу… Мне кажется, вы слишком много думаете о будущем: так, пожалуй, настоящее ускользнет от вас, и вы с сожалением оглянетесь на него уже тогда, когда оно сделается воспоминанием. Часто счастье бывает у нас под рукою, а мы ищем его бог знает где… Не рассердитесь ли вы, если я скажу вам: будьте женщиной в высшем значении слова — не ссорьтесь с головой, но не забывайте и сердца… 3 № «Библиот. для чт.» можете продержать до понедельника. Преданный вам ***ов* * *
Вы вчера ушли от нас недовольный и раздосадованный. Мне тяжела мысль, что я неумышленно как-нибудь огорчила вас. Что с вами? В душе у меня вы найдете искреннее участие. — Сегодня мне необыкновенно грустно. Небо мутно; перед окном грязь да старые дома; дали не видно; тесно, душно! — Убежала бы я теперь в страну, где светит солнце, шумят деревья, расцветают цветы!.. Пожалейте обо мне, Иван Петрович! Все окружающее меня так далеко от сочувствия с безумной душой моей… О, дайте мне широкое поле, темный лес, светлую реку с отразившимися в ней небесами: упоенная красотами природы, убаюканная ее песнями, я бросилась бы с восторгом в ее божественные объятия и, может быть, сладко, сладко бы уснула!* * *
На ваше поэтическое желание посылаю вам две немецкие книги; в них много говорится о природе. Я заметил, что немцы вам по душе со своими мечтательными взглядами и своей сладенькой фантазией. На днях вы сказали, что читаете их с особенным, тихим удовольствием. Да и вчера вы так снисходительно — если не сказать внимательно — слушали этого картофельного инженерика, Гартена, который преследовал вас и словами и взглядами. — Простите меня, что я нарушил ваше приятное расположение духа моей неуместной хандрой. Есть минуты, в которые человеку все изменяет…* * *
К чему тут Гартен? Какое он может иметь отношение к моей грусти и моей любви к немецкой литературе? За что вы на него нападаете? — Это добренький и умненький мальчик; от его слов веет на меня всей свежестью неразочарованной души; это натура не глубокая, но светлая. — Полноте, к чему отравлять подобными капризами отрадные минуты нашей дружбы! — Приходите скорее к нам, мы сегодня дома.* * *
Разве я виноват, что вы сделали из меня ребенка? Я завидую всему, что к вам приближается… я один далек от вас — непризнанный и непонимаемый! Могу ли я быть спокоен? Я каждую минуту страшусь потерять вас… я страдаю глубоко. Ненавидящий притворство, я должен притворствовать перед всеми, а более всех перед вами… Вчера я задыхался от счастья вас видеть, а должен был смотреть на вас холодно и бесстрастно… Сжальтесь надо мной, это ужасно! Мне совестно и страшно, когда вы говорите и обращаетесь со мной с благородной уверенностью и не подозреваете, что я готов каждую минуту изменить вам и себе!..* * *
Я плакала, читая письмо ваше: оно было похоронной песнью нашей святой дружбе… Прощайте, бог с вами! Вы усмотрели в вашем сердце только возможность любви и испугались ее: вы разочли, что она вам вместе с отрадою принесет много и грустного, а вы скорей готовы отказаться от счастья, чем купить его страданиями души и болью сердца… Ваше состояние есть состояние ребенка, которому показывают горькое лекарство и кусок сахару… Простите мне, о, простите бедной женщине, которая, думая погреться у огня, охвачена пламенем!..* * *
Мне были горьки не ваши укоры, не ваше старание унизить меня и представить бесхарактерным и недостойным святого чувства, а ваш глубокий эгоизм… Вы ошибаетесь: я не боюсь любви, не бегу от нее, — я ношу ее глубоко в сердце… я готов броситься в неизмеримый океан ее и погибнуть… но никогда недостало бы у меня жестокого эгоизма увлечь вас с собою… А вы!.. что же вы хотели из меня сделать, рассыпая передо мной сокровища вашей души? Неужели вы думали, что я не посмею любить вас? И какое право имели вы думать это? Вы кинули мне слово дружбы и жестоко им воспользовались… Кончаю, не хочу ни обвинять, ни оправдываться, — слишком грустно, слишком тяжело и то и другое! Прощайте! желаю вам всего прекрасного!* * *
Благодарю вас, вы дали мне спасительный, хотя жестокий урок. Вы правы, я поступила безумно… нам следовало бы заключить условия… В самом деле, что такое была для меня эта необходимая потребность передавать вам движения души моей? эта бесконечная и сладкая мысль о вас, как вечность охватившая всю жизнь мою? это безотчетное счастье в вашем присутствии, эта светлая к вам доверчивость? Все это было только дружба, — оскорбительная дружба… Прочь ее! не надо ее! давайте нам любви по форме, с объяснениями, со вздохами, с комплиментами, вроде следующих: «Какие у вас прекрасные глаза!» или «Эта роза — вы!» И вправду, как смеет женщина говорить мужчине прямо и свободно о страданиях души? как смеет не краснеть от каждого взгляда; не потуплять глаз от каждого его слова? Это ужасно, возмутительно! грянем же на нее всеми оскорблениями ни на чем не основанной ревности и намерением обнять и расцеловать ее без церемонии, как скоро останемся с нею наедине.* * *
Благодарю бога за наше вчерашнее свидание! Оно дало нам увериться, что в жизни есть точно высокое, святое счастье, есть минуты, за которые мало целых годов страдания… Благодарю вас! Вам я обязан всем святым и прекрасным в моей жизни. Я чувствую, как ваше присутствие возвышает и облагораживает все существо мое…* * *
Федор Семенович Алексею Дмитриевичу
Любезный друг! Надеюсь, что ты придешь ко мне сегодня вечером перекинуть в картишки… А я сейчас от Ивана Петровича: он хандрит напропалую. Скажу тебе новость: тайна его рассеянности открыта — он влюблен в ***ну, и уж меж ними куры-муры… Beau monde[45], братец, лезет. Это открыла нам вчера Варвара Михайловна. «Третьего дня, — говорит она, — иду из лавок, попадается мне мальчишка ***х с письмом. Спрашиваю его: „Куда ты, Федюша!“ — „К Ивану Петровичу с письмом“. — „От кого?“ — „От барышни-с“. Я так, — говорит она, — и ахнула, — славно, мол, славно!.. знай наших! Бедная Мавра Александровна! ничего не знает, а ведь все на нее падет…» Теперь, любезный друг, я постараюсь следить за ним, ведь такой… боюсь, не случилось бы чего. Прощай, до свидания! Остаюсь преданный тебе ***ин* * *
Марья Антоновна Лизавете Ивановне
Милая Лизавета Ивановна! Зная любовь вашу к Мавре Александровне, спешу вас уведомить о неприятном для нее открытии: вообразите, Ида Николаевна завела любовную переписку с Иваном Петровичем… Вот, нынешние девушки! Бедная старушка еще ничего не знает; но Варвара Михайловна хочет объявить ей об этом завтра вечером, по дружбе… по крайней мере, возьмут предосторожности… Будете ли вы сегодня дома? Я бы к вам на вечерок. Остаюсь навсегда готовая к услугам Марья ***на* * *
Лизавета Ивановна Марье Антоновне
Любезная Марья Антоновна! Ах, какую неприятную новость написали вы мне! Не могу прийти в себя от удивления… Можно ли было ожидать этого от Иды Николаевны! Сегодня же расскажу Анне Петровне; она примет в этом искреннее участие… Бедная Мавра Александровна! наделает ей племянница неудовольствий! Ведь все на нее падет… Благодарю вас, любезнейшая Марья Антоновна, за намерение приехать вечером; к сожалению, меня не будет дома — поеду вечером к Мавре Александровне и предупрежу Варвару Михайловну: я не меньше ее привязана к этому семейству. Прощайте, любезнейшая Марья Антоновна! Остаюсь навсегда преданная вам Лизавета ***а* * *
Ида Ивану Петровичу
Вот какая странная сцена случилась сегодня со мною: незадолго до обеда Таня позвала меня с таинственностью к тетушке и, провожая, шепнула у дверей тетушкиной комнаты: «Тетенька что-то сердиты-с». Несмотря на это, я вошла в комнату бестрепетно, с обычным моим равнодушием. Тетушка сидела в своих больших креслах, от которых еще не были отодвинуты два стула, на которых, за пять минут перед тем, помещались Лизавета Ивановна и Марья Антоновна. Тетушка при моем появлении, видимо, старалась принять позу как можно грознее и величественнее… Я в нерешимости остановилась посреди комнаты. — Пожалуйте сюда, — сказала тетушка. Я подошла. Тетушка устремила на меня один из своих самых проницательных взглядов; голова ее тряслась от удерживаемого гнева; глаза раскрылись во всю их величину; ноздри раздувались. Мне стало неприятно, и я решилась произнести, чтоб прекратить этот безмолвный допрос: что вам угодно? — Мне угодно знать, сударыня, правда ли, что вы завели переписку с этим — (тут она дала вам такое странное прозвище, что щеки мои вспыхнули негодованием) — Иваном Петровичем? — Правда, — отвечала я. Тетушка была совершенно поражена этим ответом. — Ах, бесстыдница! — вскричала она. — Еще и сознаешься! Это удивило меня. — Что ж тут дурного? — спросила я. — Боже мой! Боже мой! — закричала тетушка. — Вот до чего я дожила, вот ведь! Что дурного?! Завести в моем доме любовную переписку!.. Этого только недоставало! Да знаете ли вы, сударыня, что вы срамите вашего отца, не говоря уже о вас самих — вам поделом! Пусть весь город указывает на вас пальцами, пусть девицы бегают вас, как чумы; но я, но бедный брат! Опозорить себя до такой степени! Тетушка умолкла и в страшном волнении металась в кресле; она была вся гнев: шелковое платье ее укоризненно шумело, оборки на чепце трепетали, даже малиновые ленты, мне показалось, приняли какой-то огненный отлив… Старая моська проснулась, вытаращила на меня глаза и заворчала… Мне вдруг стало страшно; какой-то неприятный холод пробежал по мне. — Кто носил ваши письма? — спросила наконец тетушка. Я поняла ее мысль и отвечала: — Тот, кто носил их, не виноват, потому что до сих пор вы не отдавали вашим людям приказания не слушаться меня. — Да, конечно, теперь уж вы заставите меня принять свои меры… Бесстыдница! — прибавила тетушка, выразительно качая головой. — Что, ежели бы была жива покойная мать твоя! Ты бы уморила ее, да и меня сведешь преждевременно в могилу своим поведением… — Тетушка! верьте, что я никогда не сделаю ничего такого, что могло бы оскорбить память моей матери. Я знаю, что в подобном случае она не так бы обращалась со мной… — Как! Вы смеете еще говорить мне дерзости! Вот до чего дожила я! Видно, за грехи господь наказывает! Боже мой! мне дурно, голова кружится… Танька, спирту! Я бросилась было за спиртом, но тетушка завизжала: — Прочь! Оставьте меня! вы решились уморить меня… прочь! Я пришла к себе в комнату в каком-то лихорадочном состоянии. Мне тяжело и неловко; я знаю, что гнев тетушки пройдет, но все неприятно, когда так сердятся… Прощайте, мой добрый друг! Не огорчайтесь этими вестями… Мера неприятностей зависит от того, как мы будем принимать их.* * *
Иван Петрович Иде
Если б вы знали, что со мной делают эти люди, называемые знакомыми и приятелями! Какими невыносимо мелкими, нестерпимо глупыми оскорблениями осыпают они меня под видом бесцеремонного обращения и дружеского участия… Зачем позволено так мучить человека? Дома, в гостях, на улице — всюду осаждают сожалениями, уговорами, приятельскими шутками; со всех сторон брызгают грязью на мою святыню… И нет выхода из этого омута! Но и тут звуки вашего имени обдают меня какою-то горькой отрадой. С восторженною жадностью ловлю я эти незабвенные звуки. Простите ли вы меня? Пожалеете ли обо мне?* * *
Федосья Петровна Авдотье Николаевне
Почтеннейшая Авдотья Николаевна! Слухи насчет неприличного поведения Иды Николаевны, к сожалению, все более и более распространяются; вчера я разговорилась с Евфросиньей Петровной, — вообразите уж и она знает о том, что — помните — я вам говорила?.. Какая безнравственность в молоденькой девушке!.. Пожалуйста, удаляйте от нее вашу Геничку: дурной пример заразителен… Это я вам пишу по дружбе, почтеннейшая кумушка моя, Авдотья Николаевна, с которою пребуду навсегда готовая к услугам вашим. Федосья Н — а.* * *
Ида Ивану Петровичу
Сейчас отошла от раскрытого окна; южный ветер освежил мне ласкою грудь и пылающие щеки. Ветви цветущей жимолости с легким ропотом наклоняются к окну, будто просятся в комнату. Хорош этот мир, жаль только, что счастья в нем нет! Не знаю отчего, мне что-то очень грустно… Не могу удержаться от рыданий. Слезы мешают писать… да и в состоянии ли эти глупые чернила и перо выразить всю горечь отравленной души моей? Прощайте! дай бог вам счастья! Благодарю вас за все! За благородство чувств, за святость любви. Ваша Ида* * *
Иван Петрович Иде
В грусти, как и во всем, у нас симпатия! Когда я вас увижу? Прощальный тон вашего письма навел на меня тоску! Вы обо всем горюете прежде времени… Простите! я сам не знаю, что пишу: мысли в страшном беспорядке. Вы тверже меня! Стыжусь, что я бессилен, что, как дитя, закрываю глаза перед несчастьем. Ваш ***ов* * *
Иван Петрович Иде
Пишу, и на глазах навертываются слезы! Сегодня я получил определение к должности в***. Невыразимо тяжело. По всем правилам рассудка, я должен бы радоваться… Видно, чувство и рассудок — два родные брата, только такие, как Каин и Авель… Могу ли вас сегодня видеть?* * *
Ида Ивану Петровичу
Наконец-то мы пришли к горькой истине — к сознанию нашего бессилия в напрасной и тяжелой борьбе… Вот вы все бранили меня, что я заглядываю вперед, что пугаюсь призраков, созданных моим воображением! Я послушалась вас и предалась всей душой чудесным мечтам о счастье, прекрасным и благороднейшим надеждам… Мне и в самом деле показалось, что я возношусь на небо блаженства… и вот я на земле, обессилена, сокрушена падением. Вам тяжело было вчера говорить о вашем скором отъезде… при этом вы так упорно и странно глядели мне в глаза… вы непременно хотели видеть действие ваших слов? Ну что ж, вы видели, что я побледнела, что я окаменела… Довольны ли вы? О, мой друг, ужели правда, что любовь есть глубочайший эгоизм?.. Но что об этом… Итак — разлука необходима! как знать? Может быть, даже полезна… Не утешайте меня будущим — я не верю ему. Через несколько лет, кто знает, что у нас будет в сердце! Может быть, холод, насмешка над всем, во что теперь так восторженно верим… Что же делать, боже мой? Неужели вправду расстаться. Завтра я целое утро дома и одна, — приходите; хочу наглядеться на вас… а там обещаю быть твердой и благоразумной.* * *
Иван Петрович Иде
Напрасно я взял перо, чтобы сказать вам что-нибудь отрадное; в душе одно только глубокое, непроходимое горе. Страдаю за вас и за себя. Я еду — еду через два дня! В этом письме в последний раз пишу: до свидания! Во мне происходит глухая борьба… Зачем я еду? — неужели это неизбежный приговор судьбы? И вы против меня? заодно с рассудком! — Вечером побываю у вас. До свидания! тысячу раз готов повторить это слово…* * *
Ида Ивану Петровичу
Время покажет, должны ли мы благодарить наше благоразумие или горько укорять себя за недостаток силы и смелости… Путь начат, — не отступать же! — идите смело! Вашему уму, вашим способностям предстоит широкое поле деятельности; вам, может быть, некогда будет оглянуться назад… Идите, — вас сопровождает моя молитва, мое жаркое желание вам счастия! Ида* * *
Иван Петрович Иде
Лошади у крыльца… еду — до´лжно ехать! Я плачу, как дитя… Прощайте, будьте счастливы! не забывайте меня! Я — я весь ваш!* * *
Хорошенькая, черноглазая Надина сидела на диване со своим женихом. Маменька ее была занята чем-то по хозяйству, папенька был у должности. Должность свою он любит не меньше жены и дочери, — да нельзя и не любить ему должности: она его мать и кормилица; по ее милости у его Парасковьи Семеновны и прекрасный салоп, и около трех дюжин чепцов, и платьев и капотов несчетное множество; благодаря ей же и Наденька его одета, как куколка, и воспитана не хуже кого другого: и по-французски знает, и на фортепьяно играет. Посмотрите, как она мила, как грациозно закинула назад головку, как лукаво смотрит на своего жениха. — На что это похоже, Иван Петрович, целый день не быть! Это ни на что не похоже! Этак разве делают женихи? — Я уж вам сказал, что не мог, что хворал, — разве вы не верите мне? — отвечал Иван Петрович — увы, тот самый Иван Петрович, переписку которого с Идой вы имели благосклонность пробежать. — Не верю; не так же вы хворали, чтоб целый день пролежать; а письма — экая важность! Можно было и отложить. — Невозможно. — У вас все невозможно! Она надула губки. — Надина! полноте, дайте ручку! — Подите! противный! — Она улыбнулась. — Право, мне кажется, вы не любите меня. — Не грех ли вам… — Ну, скажите, — перебила она ласково и вкрадчиво, — вы никого больше меня не любили? Он молчал. — Скажите, прошу вас, скажите всю вправду. — Что за вопрос! разве я не люблю вас, разве вы… — Нет, нет! вы мне скажите, любили ли вы кого-нибудь больше, чем меня? — А вы? — Я? Я — другое дело, когда мне любить? — Право?.. Наденька вспыхнула. — Нет, — продолжала она, — вы мне скажите, не вертитесь. Брови Ивана Петровича слегка нахмурились, минуты две он молчал, будто что припоминая, потом проговорил тихо, но отрывисто: — Любил… На лице Наденьки выразилось неприятное чувство. — Так-то; вот вы каковы, — она готова была заплакать. — Вот вы и рассердились на то, что я сказал правду… Зачем вам было спрашивать? Вы непременно хотели, чтобы я солгал? Что ж? Вам было бы легче от этого? Ну да, я любил сильнее, потому что был моложе, глупее… да и притом это было давно; это прошло уж… — он подавил невольный вздох. — Теперь я никого не полюблю, теперь вы для меня единственная женщина. Он поцеловал ее руку. Лицо девушки прояснилось. — Да, да, толкуйте, — заговорила она полусерьезно, полушутливо. — Ах, что это? Верно, цветы от m-me Рей? И она бросилась к вошедшей с картоном девушке. Вслед за девушкой вошла и Прасковья Семеновна. — Что это за мерзавец этот Федька! — негодовала она. — Куда ни пошли, точно за сто верст, — не дождешься. А, здравствуйте, Иван Петрович! Что это? Цветы? Посмотри-ка, Наденька, да выбери себе гирлянду получше. Пусть их выбирают цветы; я воспользуюсь этим временем и скажу несколько слов об Иване Петровиче. Отуманенный и грустный оставил он губернский город, где жила Ида. Тоска и любовь душили его. Всю дорогу носился перед ним милый образ, с глубоким, нежным взором, с этой, ей только свойственной, улыбкой, которая на ее устах была печальней всяких слез. Она понимала, как много должна любить женщина, чтоб найти силу с убитым, растерзанным сердцем улыбнуться милому при последнем «прощай»… Долго грустил Иван Петрович: но не век же тосковать, не век же любить. Увлеченный временем и обстоятельствами, он пришел в себя, начал понемногу расставаться с мечтами и надеждами любви, начал заменять их мечтами и надеждами службы. По какому-то странному затмению, они не продолжали более своей переписки; отчего? — ни тот, ни другой не дали бы в этом отчета. Сперва разлука оглушила их, потом отвлекли разные мелочные, непредвиденные препятствия. Усталое сердце требовало отдыха. И вот он отдыхал долго, долго, а неугомонная память все еще тревожила его подчас картинами прошедшего. В один «прекрасный вечер», зимний впрочем, он познакомился с Николаем Алексеевичем и был представлен его супруге и дочери. Хорошенькая Наденька приглянулась ему; одиночество начинало надоедать. Невеста была хоть куда, с хорошим приданым и с хорошеньким личиком. Поговаривали, что она влюблена в какого-то улана; но улан уехал, а к Ивану Петровичу она чудо как внимательна. Иван Петрович и не заметил, как очутился женихом. Невеста его все еще перебирала гирлянды из померанцевых цветов, а он стоял, нахмурившись, у окна и, казалось, обратил все свое внимание на борьбу двух мальчишек, следя взором за их бесплодными усилиями повалить друг друга на землю. Между тем в душе его пробудилось какое-то странное, давно замолкшее чувство и, будто заживо погребенное, билось и просилось на волю. Как давно никто не напоминал ему о былом; как давно оно не проносилось перед ним светлым облаком! Неужели же обаяние не прошло? Неужели женщина могла сделать такое глубокое, безотвязное впечатление? Где-то она теперь? Что с ней? Может быть, давно забыла его; может быть, замужем… Шесть лет прошло после их последнего свидания, — это был такой же ясный, сентябрьский день… Ах, эта Наденька! Пришло же в голову будить подобные воспоминания! — Что вы тут гримасничаете? — сказала Наденька, подходя к нему. — Уж не рассердились ли? Какой злой! Я пошутила. Посмотрите, хорошо ли? И она примерила к своей головке венчальный венок. Онзагляделся на эту головку, улыбнулся беспечно и весело, и воспоминания его притихли и замолкли.* * *
Прошло около года после женитьбы Ивана Петровича. В одно утро он что-то усердно писал в своем кабинете. Пришла Надежда Николаевна в шляпке и мантилье. — Прощай, Иван Петрович! Вот ключи от шкафа; я не обедаю дома, — Marie звала меня. — Как, опять? Ведь ты вчера была там; что за дружба такая? Я просто тебя не вижу. — Вот, прекрасно! Что же, мне сидеть да слушать скрип твоего пера? Очень весело! — Я кончил. Не езди сегодня. — Какие капризы! Что же, мне целый день глядеть на вас? Нет уж, покорно благодарю, это мне и в девушках надоело. Скажите, ради бога, я даже не могу выехать к моей приятельнице! — Не езди, прошу тебя, — сказал он с какой-то странной настойчивостью. — Да ты с ума сошел! — закричала Надежда Николаевна. — Помешался ты, что ли? Неужели я послушаю тебя? — А Вольский будет там? — И голос его как будто дрожал. — Это что значит? Уж не подозреваешь ли ты меня? Этого только недоставало! Ах ты бессовестный! Разве я подала тебе повод? Вот бы маменька послушала! Господи! Что я за несчастная такая! Она собиралась залиться слезами, — Иван Петрович предупредил грозу. — Ну, полно, не сердись, душа моя, я пошутил, — сказал он. — Это что за глупые шутки! Прошу впредь не шутить так. Ты бы лучше подальше прятал свою любовную переписку… — И она швырнула ему под нос пучок писем Иды. — Какие у них были там нежности! Она величаво вышла из комнаты. Тихо и грустно взял он эти письма. Развернул одно и прочитал, потом другое — и так все. — Слава богу, что хоть уцелело одно светлое воспоминание, — сказал он со вздохом — и долго бы просидел с опущенной на руки головой, если бы вошедший слуга не подал ему пакета, промолвив: «С городской почты». Не глядя на подпись, он распечатал и прочитал следующее: «Обстоятельства непредвиденные занесли меня сюда; если в душе у вас сохранилось желание меня видеть, то завтра я целый вечер, с 8-ми часов, дома и одна. Ида (Следовало название улицы и дома».)* * *
На другой день в восемь часов вечера он мчался по гремучей мостовой, а ему казалось, что невидимая, неодолимая сила влекла его. Наконец пролетка его остановилась у подъезда довольно угрюмого каменного дома. В прихожей встретил его знакомый слуга. — А, здравствуй, Никифор! — Здравствуйте, батюшка Иван Петрович! Здоровы ли вы? Как изволите поживать? — Здоров… А где Ида Николаевна? — А вот, сударь, извольте идти прямо: они в зеленой, я думаю, сидят. Иван Петрович пошел по анфиладе больших, слабо освещенных комнат, в конце которых заметил стройную фигуру молодой девушки. Ида шла к нему навстречу. — Здравствуйте, мой друг! — сказала она тихим, взволнованным голосом, подавая ему руку. — Боже мой!.. — проговорил он. И оба замолчали. Им было тяжело и неловко. — Вы очень переменились… — начала она. — А вы, напротив, нисколько — все те же! Удивительно!.. — Разница только та, что теперь мне двадцать три года, а когда мы расстались, я была очень молода. — Каким образом вы здесь? — Тетушка получила в наследство после своей сестры этот дом и вздумала здесь жить, а тот, что в ***, продали. — Продали? Кому же? — Не знаю, право, забыла фамилию, — помещик какой-то. — Продали! — повторил он машинально. — Да, тот дом, в котором — помните — было нам так хорошо! Он с усилием провел рукой по лицу. — А теперь? — Теперь уж не будет так хорошо; теперь тяжело и грустно… по крайней мере, мне… Она хотела улыбнуться, но слезы закапали у нее из глаз на темное платье. Он взглянул на нее с невыразимой нежностью, сел возле и судорожно прильнул губами к ее руке. Когда он поднял голову, слезы все еще катились у нее по щекам. — О, не плачь, — сказал он, склоняясь к ее плечу, — не плачь, мой ангел! Слезы тяжелы, говорят, и мертвецам… каково же мне, живому?.. И все черты его дышали таким глубоким горем, что Ида затрепетала, взглянув на него. — Нет, ведь это так, — сказала она кротко и нежно, — женщины плачут легко… чем тут огорчаться? — Она с улыбкой посмотрела ему в лицо. — Полно об этом! скажите лучше, как вы поживаете? Как вы здесь устроились? — Устроился… женился… — проговорил он едва слышно. — Что вы?.. И разгоревшееся от слез и волнения лицо ее вдруг стало бледно, как ее батистовый воротничок. — Ну, что ж! — сказала она, помолчав и склоняя голову. — Дай вам бог счастья! Счастливы ли вы? — Нет… — Ну так она счастлива? — Нет… — Боже мой! как это грустно! Прошло около часа в отрывистом, грустном разговоре… Вошел слуга. — Ида Николаевна! — сказал он. — Тетенька скоро приедут. — Пусть ее приедет, — сказала она, — мне все равно… — Ах, нет, — сказал Иван Петрович, взявшись за шляпу, — как можно! Она рассердится… да и мне пора. — Если так, — прощайте! — Неужели это в последний? — Не знаю; графиня Б. предлагает мне ехать за границу; вчера еще я медлила принять это предложение… — А теперь? — Теперь приму его с благодарностью. Он стоял перед ней с полными слез глазами. Ида взяла его за руку и проводила до дверей… Он уехал… и вся жизнь показалась ему тяжелым, безотрадным сном, от которого он не имел власти освободиться…* * *
Прошло около двух лет. В один зимний вечер Иван Петрович лежал на диване, в своем кабинете; сигарка уже давно погасла, не догорев до половины, а он не замечал этого и продолжал втягивать из нее воздух. По всему видно было, что он задумался крепко; задумался до такой степени, что даже лицо его приняло безжизненное выражение, — точно душа оставила его, точно улетела за тридевять земель. Пробило девять; этот звук вывел его из забытья. Он сделал быстрое движение, будто желая разом прогнать безотвязные мысли. — Иван! Одеваться! — Все приготовлено, сударь, — отвечал голос из смежной комнаты. Иван Петрович принялся лениво за свой туалет: надел черный фрак, натянул желтые перчатки, устроил прическу. — Уж эти мне модные вечера! — ворчал он. — Тащись туда — вечно одно и то же… Где это мой голубой флакон с одеколоном? Иван! Где голубой флакон? — Еще покойница барыня разбили его; рассердиться как-то изволили, схватили — да и об пол! Разве вы забыли, сударь! — Я бы желал забыть все на свете… Поди-ка, почисти мне спину щеткой. Иван явился, вооруженный щеткой, строгим взором оглядел своего барина, примолвив: — Лошадь-то готова давно. — Сейчас еду… шубу! Через десять минут Иван Петрович всходил на высокую лестницу довольно ярко освещенного дома. На него пахнуло амброй; мелькнуло несколько темных и светлых платьев, модных фраков и желтых перчаток. Он откашлялся, поправил волосы и свободно пошел по светлым комнатам отыскивать хозяйку. «Все те же неизбежные лица, — думал он, раскланиваясь по дороге с знакомыми, — вон Анна Петровна с дочерьми; вон Лизавета Сергеевна; вот Катерина Михайловна…» — Здравствуйте, Катерина Михайловна! — Здравствуйте, Иван Петрович! «Вон… кто же это, в белом платье, стоит сюда спиной? Здешних я знаю со всех сторон; эта незнакомая турнюра{82}, и очень недурная…» В это время дама в белом платье обернулась в профиль. «Боже! Ида!» — чуть не закричал он и струсил, да, струсил… голос у него замер, губы побледнели. — А, Иван Петрович! Вы нас совсем забыли, отчего это? — Я… был болен. — Больны? И серьезно? — Ездил за город… Она посмотрела на него с изумлением и отошла, не сказав ни слова. Он скоро собрался с духом, хоть сердце у него все еще билось, как у юноши. Наконец Ида заметила его. Спокойно и тихо было лицо ее. Когда гости занялись рассматриванием какой-то знаменитой картины, купленной хозяином с аукциона, она без малейшего смущения подошла к нему. — Здравствуйте, Иван Петрович! Вот мы и опять увиделись. — Давно ли вы возвратились из-за границы, Ида Николаевна? — сказал он наконец спокойным голосом. — Месяца два. — Набрались там новых дум и чувств? — Да, я много передумала в это время; много видела нового и прекрасного. Это путешествие освежило меня. — Я рад за вас. — Вы еще не перестали принимать участия в моих радостях и печалях? — А вы готовы усумниться в этом — бог с вами! — Мой добрый друг! Она незаметно пожала ему руку. Он вздрогнул. — Как ваши дела? — продолжала она. — Не здесь ли ваша жена… познакомьте меня с ней. — Она умерла. Минутное молчание. — О чем вы задумались? — спросил он ее. — Как странно… Вообразите, — и голос ее задрожал, в свою очередь, — я до сих пор не сказала вам, что я замужем… — Идочка! — сказал в это время высокий черноволосый мужчина, отделясь от толпы. — Посмотри, как хорош этот отблеск лучей заходящего солнца, как живо это море, — он указал на картину, — не правда ли, chère amie[46], это напоминает благословенный юг?
А. Я. Панаева Степная барышня{83}
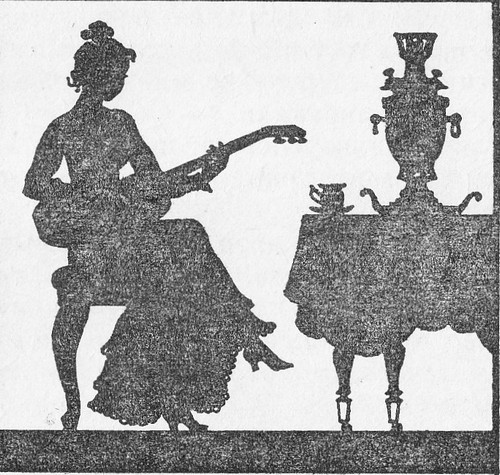

Усталый и голодный добрался я до уездного городка П*** и остановился у гостиницы — лучшей в городе, по словам моего ямщика. Навстречу ко мне выбежал слуга. Я потребовал комнату и прибавил: — Смотри же, только чистую, пожалуйста. — Уж не побрезгайте, окнами на двор, — умильно глядя на меня, сказал слуга. Я заглянул на грязный двор, заставленный различными весьма странными экипажами. Под навесом стояли лошади, коровы, бараны. На дворе толпились мужики; шум был ужасный. Желая хорошенько выспаться после трех ночей, проведенных в телеге, я потребовал комнату непременно с окнами на улицу. — Все занято, — отвечал слуга. — А налево-то от нас, Архип? — раздался мужской голос над нашими головами. В окне второго этажа покоились животами на пуховых подушках в ситцевых наволочках старик и старушка. — Занято! — нехотя отвечал Архип на их замечание. — Ну так пятый номер, что опорожнил сегодня купец, — подхватила старушка. — Исправник взял под кого-то! — грубо крикнул Архип. Благодаря заботливости стариков, мне ничего более не оставалось, как попытать счастья в другом трактире. — Ты поезжай к немцу, может, у него есть! — заметил старичок моему ямщику. — Под гору не езди, а ступай низом — тут ближе: я хаживала пешком, — с горячностью прибавила старушка. Ямщик тронулся, я поклонился старичкам, благодаря за непрошеные услуги. Они отвечали самыми радушными поклонами. По случаю ярмарки даже все харчевни городишка были битком набиты, и я скоро принужден был возвратиться к первому трактиру. Старички, завидев меня, раскланялись со мной уже как с коротким знакомым и с участием спросили: нашел ли я номер? — Нет! — отвечал я, выходя из телеги, и обратился к выбежавшему Архипу: — Давай хоть на двор номер, что делать! Архип торжественно отвечал: — Да и его сейчас заняли. Это известие меня ошеломило. — Ишь какой, мы ведь тебе сказывали: обожди! Барин, может статься, и вернется, — строго заметила ему старушка и, обратясь ко мне, продолжала с чувством обиженного достоинства: — В ярмарку дворянам здесь места нет: купечество все захватывает, хоть на улице ночуй. Это меня нисколько не утешило, я пристал к Архипу, чтоб давал мне номер. Архип наотрез объявил, что нет, — разве не выбудет ли кто к вечеру, да и то бог знает! Я стоял в недоумении, не зная, что делать, как вдруг старичок крикнул слуге: — Архип, Архип! Проси к нам, мы уступим им одну комнату. Пожалуйте, комнатка изрядная, — прибавил он, обратясь ко мне. — Милости просим, мы завтра уезжаем, одну ночь и потеснимся, — ничего! — подтвердила старушка. Я поклонился им, но все еще стоял в нерешимости; старик положил ей конец, дав Архипу приказание тащить с телеги мою поклажу, а сам скрылся; старушка скрылась тоже. — Что это за люди? — спросил я Архипа, принявшегося за выкладку моих вещей. — Тутошные помещики! — не без презрения отвечал Архип и как-то двусмысленно спросил, приподняв чемодан: — Тащить, что ль, наверх? — Как их фамилия? — Зябликовы! — отвечал Архип. — Григорий Никифорыч и Авдотья Макаровна приказали просить вашу милость наверх, — сопровождая свои слова низким поклоном, сказала девушка в тиковом платье, с волосами, расчесанными на две косы. Ей было лет двадцать с лишком. Она имела лицо рябое, некрасивое и сердитое; особенно злобно покосилась она на Архипа, который поглядывал на нее насмешливо. — Да, пожалуйте! — раздался голос старика над моей головой. — Что глядишь-то, тащи вверх чемодан, — повелительно прибавил он своей прислужнице. Эта оригинальная услужливость со стороны незнакомых людей, а также голод и желание отдыха заставили меня последовать за сердитой девой, которая уже успела переброситься с Архипом довольно энергичною бранью. Коридор, по которому я шел за прислугой, несшей мои вещи, был как следует быть коридору в уездном трактире: грязен, пахуч и темен. В продолжение моего шествия все двери номеров раскрывались и из них высовывались любопытные головы постояльцев. Я вошел в светлую и довольно чистую комнату, которой главная меблировка состояла из сундуков, коробок, узелков, а стены были завешаны мужским и женским гардеробом. Явились старички и опять начали раскланиваться со мной, как со своим гостем. — Рекомендую вам мою супругу Авдотью Макаровну, — сказал муж, а жена, заметно готовясь, что я подойду к ее руке, прибавила: — Милости просим разделить с нами уголок и хлеб-соль. Я стал извиняться, что стесню их. — И, полноте! Мы переночуем в другой комнате, это наша тоже, — указывая на соседнюю дверь, прервал старичок. — Не на улице же вам, батюшка, было ночевать! И все это Архип купцу всякому норовит угодить, а для дворянства нет места! И старушка указала мне место возле себя на диване. Я сел. Настало молчание; пользуясь им, я рассмотрел внимательнее моих новых знакомых. Старички имели физиономии необыкновенно простые и добродушные. Я готов был бы держать пари, что в жизни своей они не знавали никакого горя: так спокойно, даже туповато было выражение их лиц. Щеки сохраняли румянец; полнота не переходила еще границ, но животы заметно были развиты, — все не дурные признаки. Волосы у обоих были светло-русые. Туалет старика, вероятно по случаю лета, состоял из серо-черной нанки. Белая косынка обхватывала его короткую и толстую шею. На супруге его туалет также не был роскошен. Темный ситцевый капот — лиф коротенький, рукава с пуфами. Под лифом платья, вместо манишки, была надета белая кисейная косынка. Чепчик тюлевый с рюшью без всяких бантов дополнял этот простенький и чистенький туалет. Григорий Никифорыч прервал молчание следующим вопросом: — Откуда изволите ехать? — Из X*** губернии. — Из своих поместьев? — Да. — Холостые? — спросила Авдотья Макаровна. — Не женат. — Изволите состоять на государственной службе? — спросил Зябликов. — Да-с. — Родители живы? — обратись снова ко мне, спросила старушка. — Давно умерли. Авдотья Макаровна покачала головой с соболезнованием. — Позвольте узнать имя и отчество ваше? — спросил старичок. Я сказал: они раза два повторили его, как бы заучивая урок. — А который годок вам, батюшка Николай Николаевич? — спросила меня старушка. — А сколько у вас душ? — спросил Зябликов, как только я удовлетворил любопытство его жены. — Братцы и сестрицы есть? — сказала Авдотья Макаровна. — У меня нет никаких близких родных! — отвечал я, досадуя на докучливых старичков; но они, кажется, и не подозревали, что их любопытство может наскучить, и продолжали меня допрашивать. — А заложены ли ваши мужички? — спросила меня Зябликова. — Нет, — улыбаясь, отвечал я. — Хорошо вы делаете! Ах, как трудно справляться потом! — с грустью произнесла Авдотья Макаровна, из чего я мог догадаться, что их мужички были заложены. — А каков хлеб в ваших местностях? — не давая мне отдыха, спросил Зябликов. — А скотинки много, батюшка, у вас? — перебила своего мужа Авдотья Макаровна. — Право, не знаю, — отвечал я. Старички встрепенулись и с удивлением глядели на меня, как будто я им сказал что-нибудь ужасное. — Я плохой хозяин, мало живу в деревне, нанимаю управляющего, — прибавил я, желая оправдаться. — Небось немца! — язвительно заметил мне Зябликов, а его супруга с ужасом прибавила: — Как же можно не знать своего добра? Во все время этого разговора сердитая дева в тиковом платье бегала из комнаты в комнату, рылась в сундуках, в узлах и снимала со стены крахмальные юбки, шум которых в другой комнате возвещал мне о новом скором знакомстве. Появление молодой девушки пояснило мне докучливые расспросы стариков и их оригинальное гостеприимство. Ее отрекомендовали мне следующей фразой: — Вот наша дочка, Феклуша! Феклуша, покраснев, присела мне{84} и поспешила сесть в угол. Началось приготовление к чаю; старушка и супруг ее стали хлопотать около стола, на который постлали чистую скатерть. Я этим временем поглядывал на новое лицо. Феклуше было не более шестнадцати или семнадцати лет; она с первого взгляда мне не понравилась; может быть, ее пестрое шерстяное платье, его покрой и украшения были тому причиной; мне показалась она портретом матери, какой, вероятно, была та в молодости: голубые же глаза, такие же белокурые волосы, только, разумеется, с отливом не сероватым, а золотистым; тот же здоровый цвет лица, пышность плеч и простодушный взгляд. Но когда она приблизилась к столу и я порассмотрел ее, то всякое сходство Феклуши с ее родителями исчезло. Ее бирюзовые глаза так были умны, живы и блестящи, что, казалось, искры струились из них. Ее золотистые волосы крутились от природы так изящно, что не могли служить украшением глупому лицу. Черты ее были миниатюрны, ротик дышал такою свежестью, что нельзя было смотреть на него равнодушно. Но что окончательно меня пленило — это ее ручки, форма которых могла бы служить образцом самой строгой правильности и красоты. По загару ее лица и рук видно было, что Феклуша не принадлежала к тем деревенским барышням, которые ведут жизнь в комнатах, боясь солнца и чистого воздуха, как страшных посягателей на женскую красоту. Мне тоже очень понравилась в Феклуше ее бесцеремонность; она кушала чай при незнакомом ей мужчине с большим аппетитом, не заботясь, кажется, о том, какое это произведет впечатление на него. Откушав чай, она молча поцеловала свою мать и снова села в угол. Старики угощали меня усердно, и так как я давно не пил хорошего чаю, то вполне удовлетворил их радушие. Но едва кончился чай, как Зябликов заметил своей супруге, что пора бы похлопотать об ужине. Авдотья Макаровна вышла из комнаты, за ней последовала и Феклуша. Григорий Никифорыч, выпивший очень много чаю, сидел в креслах в изнеможении и дышал тяжело. Полумрак в комнате и молчание хозяина клонили меня ко сну; я уже начал подремывать, но вдруг встрепенулся, пробужденный необыкновенно мелодическими звуками неизвестного для меня инструмента. Заметив, что я прислушиваюсь, старик сказал мне тихо: — Феклуша моя мастерица играть на гитаре. Я люблю ее вечерком послушать. Поди сюда, не стыдись, гость извинит, ведь ты самоучка, — прибавил старик уже громко. Феклуша тотчас же явилась на зов отца с гитарою в руках. Часто тиранили меня игрою на фортепьяно, но женщину с гитарой в руках я еще не видал никогда. Феклуша уселась на окно и без всякого жеманства стала играть русские песни. Я даже не подозревал, чтобы гитара, инструмент, всеми презираемый, могла передавать самые трудные пассажи. Я был в восторге от искусства гитаристки; сон мой прошел, и я подсел к ней поближе. По приказанию отца она стала петь. Голосок у нее был небольшой, но чистенький, верный и такой мягкий, что нравился мне в эту минуту лучше всех женских голосов, какие я когда-либо слышал. Я не сводил с нее глаз… Она или была вся поглощена пением, или слишком хорошо сознавала свое искусство, — только нисколько не конфузилась ни похвал моих, ни удивления. Что касается до меня, то нервы мои от бессонных ночей были слишком раздражены; притом несколько недель перед этим провел я в заключении в деревне со старостой и управляющим, и, может быть, от этого Феклуша произвела на меня такое сильное впечатление. Я в ней видел в эту минуту чуть не музыкального гения, а лицо ее казалось мне замечательным по красоте. Заслушавшись ее, я не заметил возни в комнате, и только когда подали огонь, увидел, что постель мне сделана и стол накрыт. — Полно, Феклуша. Угости-ка гостя хлебом да солью, — сказала Феклуше мать. Феклуша тотчас замолкла, положила гитару на окно, села за стол и принялась кушать. Аппетита у меня не было, — я не ел, а старики дивились, как можно заснуть с голодным желудком. Мне очень хотелось им объяснить, что, смотря на блестящие глазки их Феклуши, не трудно потерять аппетит и сон; однако я не сказал этого. В разговоре моем со степной барышней я не подметил у нее ни одной из заученных, пошлых фраз. Если она чего не понимала из моих слов, то наивно устремляла на меня свои вопрошающие глаза, и этот взгляд приводил меня в восхищение. Ужин, к моему неудовольствию, очень скоро кончился, или мне так показалось, только старики, помолясь богу и принимая мою благодарность, с сожалением сказали: — Что делать, батюшка, верно, не понравилась наша хлеб-соль — так мало кушали! Не взыщите, чем богаты… Я благодарил и оправдывался усталостью. — Пора по местам; Феклуша, полно! — заметил старичок дочери. Но она села на окно, взяла гитару и начала ее настраивать, как бы приглашая меня на мое прежнее место. Я заметил, что приказание отца не понравилось Феклуше, и хотел было просить старичков, чтоб они позволили мне еще послушать их виртуозку, как вдруг вошел Архип с известием, что очистился соседний номер. Хозяева мои, однако ж, воспротивились моему намеренью тотчас перебраться. Они объявили, что перейдут туда сами, чтоб не беспокоить своего усталого гостя переноской вещей. Предупредительность их была трогательная; постель для меня была уже готова на диване. Пришлось покориться. — Когда изволите выехать? — заметила старушка, прощаясь со мной. — А мы до жаров выберемся. — А куда вам ехать, позвольте узнать? — спросил Григорий Никифорыч. — В Уткино, кажется, верст пятьдесят отсюда. — Уткино, Уткино! — радостно повторили за мной старички, а их дочь, игравшая в эту минуту на гитаре, вдруг остановилась, но когда я взглянул на нее, она поспешно опять стала брать аккорды. — Господи! Да мы знаем Ивана Андреича очень хорошо! Такой добрый, хороший человек! — сказал Зябликов, а старушка с грустью прибавила: — Частенько бывал у нас, гащивал по нескольку дней! Мы его любили: скажите ему, что Феклуша скучает по нем. Феклуша заиграла какую-то удалую малороссийскую песню, как бы желая заглушить слова своей матери. — Скажите ему, что мы ума не приложим, какая черная кошка пробежала между нами? — тоскливо сказал Зябликов. — Да, да, — вздыхая тяжело, вторила ему Авдотья Макаровна, — не брезговал нашим хлебом и солью; игрывал, бывало, все на гитаре с Феклушей; а тут вдруг ни с того ни с сего глаз не кажет. Сначала думали, болен, ну, посылать к нему; потом узнали, что в добром здоровье, по соседям ездит. Вот скоро месяц, как глаз не кажет, как будто… — Что ж, Авдотья Макаровна, всякий волен в знакомстве! — остановил с досадою свою супругу Зябликов. — Правда, а все-таки скажу, не след дворянину, и еще соседу, так поступать. Ну, чем мы обидели его? — горячась, говорила старушка. Феклуша поспешно подошла к матери, дернула ее за рукав и что-то шепнула на ухо. — Сейчас, сейчас! — торопливо отвечала она Феклуше и, обратись ко мне, хотела продолжать прерванный разговор. Но Феклуша снова дернула ее за рукав платья: — Да пойдемте. — Ну, пойдем! — с досадой сказала госпожа Зябликова. — В самом деле, мы вас заговорили. Прошу не оставить нас вашим знакомством. Если будете в Уткине, к нам милости просим: всего верст пять, — сказал старичок, пожимая мне руку. — Не побрезгайте нашим приглашением, батюшка, — прибавила Авдотья Макаровна. Я подошел к ее ручке, чтоб иметь право поцеловать также ручку у дочери. Феклуша без застенчивости подала мне свою руку, мягкую и гладкую, как атлас, слегка коснулась своими губами до моего лба и что-то шепнула мне. Я так был поражен этим, что заметно смешался и не мог ничего сказать на приветливые приглашения родителей. Мне уже начинало казаться, не воображение ли обмануло меня; но, уходя, Феклуша бросила на меня такой выразительный взгляд, что не оставалось никакого сомнения. Я долго смотрел на дверь, куда они все скрылись, и досадовал на себя, что придаю важность шалости степной барышни, которую она, может быть, повторяет не с первым со мною. Сознаюсь, мне было неприятно встретить в этой кроткой и простенькой девушке такую смелость, и я поспешил лечь спать, чтоб не думать об ней более… Беготня и шум в коридорах затихли; я задремал. Но стук в дверь заставил меня пугливо вскочить. Сон мой исчез. Я весь превратился в слух; кто-то стоял у двери, ведущей в соседнюю комнату. В тишине я слышал не только шорох, но даже дыхание. Кровь бросилась мне в голову, я спешил одеться и, подойдя к двери, ждал в волнении повторения этого стука. Шорох за дверью усилился, и в щелку просунулась бумажка, сложенная в линейку. Я взял ее и, вообразите себе, чего-то испугался. В эту минуту мне вдруг пришли в голову бог знает какие догадки. Зачем старички препятствовали моему перемещению, почему дверь соседней комнаты, где находилась Феклуша, не заперли на ключ? Трусость моя меня насмешила: я подумал, что нечего рассуждать, а надо действовать, и прочел записку, содержание которой не оправдало мои ожидания. Вот что было написано карандашом на лоскутке: «Ради бога, не передавайте ничего Ивану Андреичу, о чем вас просила маменька, даже не сказывайте ему, что познакомились с нами». Я прочитал записку несколько раз, подошел к двери и кашлянул тихо, потом погромче и еще громче. Не было ответа. Я подумал, что, может быть, нужна осторожность, и стоял у двери, как часовой, по временам возобновляя мой кашель. Мертвая тишина была в другой комнате. Я начал злиться и уже готов был отворить дверь, но вдруг послышался шорох в коридоре — и бросился на свою постель. Досада моя усиливалась; я видел себя одураченным, и обдумывал план мщения; но напрасно я трудился над ним: и признака жизни не было в другой комнате! «Что за странные люди мои новые знакомые! — думал я. — Неужели под этою личиною простоты и радушия кроется какой-нибудь обман? Но они недостаточно умны для этого». Их гостеприимство я нашел неестественным. Чем объяснить их хлопоты и заботливость об мне? Попромотались на ярмарке и рассчитывают, что я заплачу за комнаты, в которых они жили? Это предположение показалось мне еще более вероятным, особенно когда я вспомнил небрежное обхождение с ними Архипа, перебранки его с сердитой горничной и жалобы старушки, что им насилу дали номер. Только под утро заснул я крепко, как спят люди, здоровые телом и душою, притом три дня и три ночи скакавшие на телеге. Проснувшись очень поздно и не заметив никакого движения в соседней комнате, я вспомнил свои предположения и позвал Архипа. — Ну, что, уехали? — спросил я его не без улыбки. — Чуть свет. Приказали вам кланяться. Я велел подать счет, но Архип отвечал мне: — Уплачено все! А если будет милость, так на чай прислуге. Я устыдился собственных заключений. Семейство Зябликовых сделалось снова для меня привлекательным и оригинальным по своей простоте. Через час я уже ехал в село Уткино, и образ Феклуши с ее добродушными родителями ни на минуту не оставлял меня. Мне смешно было, что я так сильно заинтересовался степной барышней, но в то же время мне очень хотелось узнать поскорее от владетеля села Уткино, что это за люди. Его поступок с ними меня не беспокоил, потому что я очень хорошо знал странный характер моего приятеля… вернее сказать, бывшего приятеля, потому что уже несколько лет мы не видались с ним. Позвольте мне сделать маленькое отступление, чтоб познакомить вас с владетелем Уткина. Физиономию его я очерчу в нескольких словах. Когда мы с ним расстались, а этому прошло шесть лет, он был строен, с розовыми щеками, с голубыми глазами и очень густыми белокурыми волосами. Характер его вовсе не соответствовал его кроткой наружности. Он был недоверчив, упрям и так самоуверен, что, пустившись в спор о предмете, совершенно ему незнакомом, не уступал самым очевидным доказательствам и упорно поддерживал нелепость, раз слетевшую с его языка. Может быть, не годилось бы так откровенно говорить о приятеле. Но в наше время каждый сознает и наивно расписывает не только недостатки своих ближних, даже и свои собственные. Мой приятель чуть ли не с детства имел слабость к разгадыванию человеческого сердца. И никто так часто не ошибался, как он, в выборе друзей, даже не исключая меня, которого он признал в самую мизантропическую минуту своей жизни единственным человеком, достойным его дружбы. Он имел хорошее состояние и половину его потратил в коммерческих оборотах, где познал гибельные последствия честного слова людей. Легко понять, как подействовало это на характер, недоверчивый от природы. Убегая общества, Иван Андреич стал впадать в дикие умозрения и по упрямству и самоуверенности не слушал возражений, повторяя одно: «Я горжусь тем, что никогда не изменяю своего мнения». Если б он был умен и деятелен, то упрямство его, может быть, принесло бы ему пользу. Но он учился с грехом пополам, ума особенного не имел, деятелен был только на словах. Итак, я оставил моего приятеля самым отчаянным мизантропом и теперь соображал, какое превращение должна была совершить с ним уединенная деревенская жизнь. Он, вероятно, похудел, одичал; чуждается людей, постоянно молчит и бродит по лесам, оплакивая слабости человечества. Ямщик объявил, что скоро должно показаться Уткино. Дорога пошла между полями и такая узкая, что канавы, выкопанные по бокам, препятствовали разъехаться двум встречным. А между тем навстречу моего экипажа ехали беговые дрожки; ими правил какой-то господин, а сзади его сидел кучер и басил: — Правей, правей! Мой ямщик, оглядясь на обе стороны, сердито крикнул: — Куда правей? Не видишь, что ль, канава! Ну, держи сам правей! И он придержал телегу. Беговые дрожки подъехали близко, кучер продолжал кричать: — Правей! — Ну что же у вас будет? — сказал я. — Да не валить же вашу милость в канаву! Проезжай! — сказал сердито мой ямщик. Тогда сам барин крикнул: — Держи левей! Беговые дрожки едва могли проехать шагом мимо меня. Я имел время рассмотреть господина, правившего чуть ли не столетним рысаком. Рост его был средний, но полнота скрадывала его. Полная его фигура была облечена в белый парусиновый балахон в виде пальто-сак и из той же материи широкие панталоны. На голове пестрый картуз затейливого фасона. Полные его щеки и двойной подбородок слегка обросли бурыми иглами, а усы были желтовато-пепельные. Господин в балахоне, страшась, верно, очутиться в канаве, все внимание свое обратил на вожжи. — Уткинский барин! — сказал мне ямщик. — Как? Не может быть! Иван Андреич?! — воскликнул я. — Да-с, они-с! Я не признал их сначала. — Стой, стой! — закричал я, повернувшись назад и махая руками к дрожкам. Чему я так обрадовался, сам не знаю. Впрочем, в юности дружба так пылка и снисходительна, так проста и горяча, что нет места в уме для анализа. Любишь человека сам не знаешь за что; иногда по привычке. Как часто я видел ужасно суровых стариков, делавшихся мягкими и веселыми при одном воспоминании молодости!.. Подбежав к дрожкам и взглянув на толстого господина с красным лицом, смотревшего на меня вопросительно, я сконфузился. Хоть бы одна черта прежнего моего приятеля; даже ноги, висевшие на воздухе, имели вид копыт, так они были толсты. Я попросил извинения, сказав, что ошибся. — Вы к кому едете? — спросил меня господин в балахоне. — В село Уткино, — отвечал я. — Значит, вы желаете видеть Ивана Андреича? — спросил господин в балахоне. — Да. — Позвольте узнать вашу фамилию? Я потому спрашиваю, что я сам Иван Андреич, — улыбаясь и приподнимая картуз, сказал господин в балахоне. В ответ на это я назвал мою фамилию. Крик радости вырвался из груди господина в балахоне, и он кинулся меня обнимать. Только в эту минуту по звуку голоса я окончательно убедился, что это точно мой приятель. Как бы ни изменился человек в зрелые годы, но голос у него в минуты сильного волнения является прежний. Мы поцеловались и, надо сознаться, слегка прослезились: потом стали разглядывать друг друга, делая обоюдно не слишком лестные комплименты, чего, впрочем, не замечали. — Возможно ли так растолстеть, измениться? — говорил я. — А ты как состарился! Я тебя, право, чуть не за старика принял: сколько морщин на лбу! — вторил мой приятель. — Право, ни одной морщинки нет путной. Понабрал я их от пустоты жизни, — сказал я. — Полно, полно! Ведь ты все над книгами коптел. — Право, не от книг. — Так небось от жизни! Я помню хорошо тебя. Ты, брат, имел счастливейший характер, все тебе казались добрыми и честными людьми. Я рассмеялся и ужасно обрадовался, что хоть взгляд на людей не изменился в моем друге. — А тебе по-прежнему добрые люди кажутся злыми? — сказал я. — Бог с ними! — оставим их. Садись ко мне на дрожки, я тебя довезу домой, — отвечал мой приятель. Долго бился кучер, чтоб поворотить лошадь, не опрокинув дрожки. Я невольно сказал: — Какой дурак придумал сделать такую дорожку? — Я, — ответил мне мой приятель. — Извини! Но по старой дружбе я повторю, что глупее ничего нельзя было придумать. Иван Андреич с жаром принялся доказывать пользу такой дороги. Поместившись за его спиной, я прервал его неожиданным голосом: — Ты женат? Дети есть? — Что ты, с ума сошел? Кто это тебе наврал? Я не одурел еще! — возразил он, разгорячась. — Чем же ты обиделся? Как будто я спросил тебя, не обокрал ли ты кого? И что это значит? Уж ты не влюблен ли безнадежно, а? — Это что за глупости! — так строго вскрикнул мой приятель, что столетний конь его вздрогнул и прибавил рыси. Я и сам, глядя на жирный затылок моего приятеля, едва не расхохотался при мысли, что он влюблен. А впрочем, почему мы привыкли думать, что только худощавые имеют право быть влюбленными? Я кротко сказал: — Отчего же ты рассердился, когда я коснулся любви и женщин? — Ты очень хорошо знаешь, что я никогда не любил говорить об этом пустом предмете. — Ты мог измениться. — Ошибся, я тверд, если раз в чем убедился. — Неужели ты стал даже ненавистником женщин? — Не сделаться же мне селадоном{85}. А ты почему не женат? Я живу в глуши, не вижу никого, а ты в обществе. Почему ты не женат?? а?? — пристал ко мне мой приятель. — Потому, братец, что еще не нашел женщины. — И не найдешь, пока не одуреешь или, лучше сказать, если не наскочишь на ловкую. Как раз обвенчаешься, так все скоро сделается, что только будешь дивиться своей глупости! — Неужели нет женщин, достойных нас? Что мы за перлы такие между мужчинами, — сказал я, смеясь. — Перлы? Да, мы перлы! — горячо возразил он. — Однако ты таки высокого мнения о себе! — Ничуть. Я знаю одно, что, если мы будем мужьями, нас славно и ловко будут обманывать. — Почему непременно нас будут обманывать? Я убежден, что девушка, сколько-нибудь умная и порядочная, замужем за хорошим человеком не станет обманывать его, если сам не доведет ее до этого. — Что я спорю с тобою! Я ведь помню твои идеальные взгляды на женщин… я, признаюсь, думал, что ты давно с рогами!.. Приезд к дому прекратил наш разговор; хозяин ввел меня к себе. Описывать комнаты и меблировку, право, не стоит. Я заметил во всем большой беспорядок; а пыль, лежавшая повсюду слоями, ясно говорила о нетребовательности моего приятеля. Он суетился, бранил прислугу, ворчал себе под нос и расспрашивал в то же время о Петербурге и наших общих знакомых. Обед не замедлил явиться и был составлен если не очень тонко, зато сытно. Иван Андреич ни одним блюдом не остался доволен; однако каждое кушал с большим аппетитом. После обеда, закурив трубку, он повел меня в сад свой, в котором ровно также ничего не было замечательного, кроме разве большого количества ноготков. Но как ни был плох сад и его цветы, это не мешало моему приятелю гордиться обширными познаниями в ботанике. Разостлали ковер в тени под деревом, и мы улеглись. Вид с этого места был очень хорош; сад и дом были расположены на самом высоком месте, которое господствовало над несколькими верстами в окружности. Поля, овраги, леса, деревушки ясно были видны отсюда при ярком освещении полуденного солнца. Я залюбовался видом и сказал: — Право, весело жить в деревне, я бы сейчас переселился из Петербурга. — А я хочу уехать из деревни, — заметил он. — Я думал, что ты полюбил деревенскую жизнь. — За что ее любить? Я живу здесь не для удовольствия. Хозяйство, столько хлопот и неприятностей! Ты думаешь, здесь не найдется дурных людей, как в городах? Право, они всюду одинаковы, везде ими руководит один расчет. — Ты по-прежнему, если еще не более, ожесточен против людей, особенно против женщин. — Ну, оставь их в покое. Я решился, брат, никогда не жениться, значит, мне все равно, бог с ними, с этими фуриями. Эти слова были произнесены грустно и так решительно, что я пристально посмотрел на лицо моего приятеля. Оно, несмотря на свой красный цвет и полноту, было печально. Посидев молча несколько минут, он вдруг уткнул его в подушку. Я не беспокоил его и не возобновлял разговора. Через пять минут приятель мой дышал очень покойно. Я последовал его примеру и, закрыв лицо носовым платком, сладко заснул. Очнулся я от богатырского храпения: возле меня, сняв платок с лица, приятель мой лежал навзничь и на разные тоны варьировал свое храпение. Мальчишка лет двенадцати, одетый в длинный сюртук из домашнего серого сукна, сидел в головах барина, сложив ноги по-турецки и держа в руках ветку березы, листья которой покоились на лице и груди спящего Ивана Андреича, потому что мальчишка, свеся голову на грудь, слегка вторил носовым храпением барину. Я взял травку и пощекотал мальчику ухо. Мальчик, зачесав ухо и открыв глаза, торопливо начал хлестать веткою по лицу своего господина, который, вероятно привыкнув к такого рода ощущениям, даже и не поморщился. — Как ты это очутился здесь? — спросил я мальчишку, у которого лицо было довольно лукаво. — Мне приказано сидеть всегда после обеда за кустами, и как они-с изволят заснуть, я и должен обмахивать ихнее лицо, — отвечал он тихо. — Как же ты узнаешь, что он заснул? — Они кажинный раз изволят захрапеть. Я и сажусь. — А близко деревня Зябликовых от вас? — спросил я мальчишку, который пугливо поглядел на спящего своего барина и едва слышно произнес: — Пять верст, вон за лесом ихняя крыша. — А налево чей барский дом? — Щеткиных! — шепотом отвечал мальчишка. — Бывают у вас? Мальчишка кивнул головой и заботливо начал обмахивать своего барина, храпение которого сделалось отрывисто и грозно… Налитые кровью глаза моего приятеля вдруг открылись; он ими обвел кругом и не без удивления сказал мне: — Ты уж проснулся! — Кажется, пора, смотри-ка, солнце за лес ушло, — отвечал я и, указывая по направлению крыши Зябликовых, спросил: — Что это за крыша, чей это дом? Иван Андреич ничего на это не отвечал, а начал читать мораль своему негру по поводу волдыря, вскочившего на его барской руке от укушения комара. Потом пригласил меня идти в комнаты пить чай и привел в свой кабинет, который, как и другие комнаты, отличался топорной, домашнего изделия, меблировкой, которую покрывал слой пыли. Письменный стол был такой величины, что за ним, право, свободно мог бы поместиться целый департамент. Бумаги, планы лежали на нем грудами, а главный беспорядок делали «Московские ведомости», валявшиеся как попало, чуть ли не за десяток лет. Других книг не было и признака. Я невольно спросил моего приятеля, суетившегося около стола: — Неужели ты никаких журналов не выписываешь? — Когда читать? — жалобно возразил он и, стуча по кипе счетов, прибавил не без самодовольства: — Вот чтение нашего брата помещика, глаза заболят, как начитаешься их. Везде надо самому взглянуть, если не хочешь быть обкраденным. — Есть же хозяева, которые находят время читать, — сказал я. — Да, много их! Займутся книгами, а у них этим временем и тащут и хапают. Нет, я не могу выносить этого. Если взялся за хозяйство, так уж работай как следует. — Да это пытка! — То-то и есть, ты, может быть, думал, что я сижу руки сложа. — Однако от такой жизни можно одуреть! — с наивностью воскликнул я. Приятель мой обиделся и начал прехитро доказывать превосходство своего образа жизни. — Вы людей изучаете по книгам, а я на деле и, могу сказать, так хорошо узнал человека, что, право, не ошибусь, стоит мне только взглянуть на него. Кто хорошо и верно видит вещи, тому не нужно книг. Эта самоуверенность меня уничтожила. Я увидел на диване гитару и спросил: — Это ты поигрываешь? — Да, иногда! — отвечал он и, взяв гитару, стал брать аккорды. По виду гитары можно было заключить, что на ней упражнялись частенько. — Не поёшь ли ты? — спросил я своего приятеля, который что-то мурлыкал. — Если не боишься, изволь — спою, — отвечал он мне. — Ничего. Я довольно смел. Иван Андреич начал настраивать гитару, и это продолжалось почти целый час. Я потерял надежду услышать что-нибудь, но наконец он откашлялся и вздохнул так мощно, что я приготовился услышать громадный голос. Но друг мой, к удивлению моему, запел тихо и сиповато. Поглядев на него, я догадался, что имею дело с любителем, который вполне уверен в приятности своего голоса и уменье владеть им. Верхние ноты улетали у него в нос, как дым в трубу. Вообразите себе плотную фигуру в белом балахоне, гитара подпрыгивает на полном животе при всякой энергической ноте, брови подымаются кверху, глаза закрываются, жилы на шее синеют и как будто припухают. Не знаю, может быть, я был в излишне веселомрасположении духа, только мне очень смешон показался певец, и когда в самом патетическом месте его светло-серые глаза увлажились слезой, я едва удержался от смеха и сказал: — Как ты хорошо поешь! Он не заметил иронии и продолжал петь. Любитель чего бы то ни было — тот же пьяница, стоит ему глотнуть каплю, чтоб забыть о мере. Так точно и мой приятель пропел мне множество романсов и малороссийских песен. Меня удивило, что он пел те же песни, что и Феклуша. Но его пение было жалкая пародия на нежный голосок девушки. В заключение певец пропел: «Ой вы уланы», притопывая каблуками, присвистывая и прищелкивая языком. Я взял поскорее лист «Московских ведомостей» и притворился читающим. Иван Андреич сделался мне противен; в эту минуту Феклуша живо представлялась моим глазам, свеженькая и грациозная! Побродив по комнате, владелец села Уткина уселся опять на диван и стал без толку фантазировать. Удаль прошла в нем, он весь насупился и так погрузился в свои фантазии, что муха, обегав все его обширное лицо, расположилась было уже спать на его носу; но вдруг он словно очнулся: бросил гитару на диван и сказал мрачно: — Я думаю, я тебе надоел. — Ты хозяин дома, — отвечал я. — Спасибо за откровенность, но, право, не знаю, как тебя развлечь… в карты не играю. — Ты и так устал, развлекая меня, — заметил я. — Ты все такая же шпилька, как был. — Нет, право, я был поражен твоим талантом; а кто давал тебе уроки пения и музыки? Иван Андреич сконфузился и с минуту молчал, потом заметил с упреком: — Не нравилось, сказал бы, я бы перестал! Это, брат, не по-дружески! Мы переменили разговор. После ужина я, однако ж, не утерпел и завел опять речь о Зябликовых. — Ах, я и забыл тебе сказать, что в П*** я случайно познакомился с твоими соседями. — С кем? Их много у меня. — С очень добрыми, простыми и оригинальными людьми. — Да с кем же? — нетерпеливо повторил мой приятель. — Зябликов… — Я не успел договорить фамилию, как он разразился насильственным смехом. — Простые, простые, — повторял он иронически, — ха, ха, ха, вот хорошо разгадываешь людей, ха, ха, ха! — Ты меня удивляешь; кажется, они тебя так любят. — А, а, а! Так вы уж коротко познакомились. Небось жаловались на меня, избрали тебя примирителем. — Ты так странно отзываешься о них, что я прежде всего попрошу у тебя объяснения: что они за люди? — серьезно сказал я. — Простые, очень простые. Но только не советую тебе с ними возобновлять знакомство, если ты не намерен в одно прекрасное утро очутиться женатым! Я невольно припомнил чрезмерное радушие и угодливость Зябликовых. — Ты уж не успел ли влюбиться? Видишь, и в степи женщины не лишены хитрости. А какими простенькими прикидываются, чтоб заманить! — Неужели Феклуша притворщица? — воскликнул я с досадою, что очень обрадовало моего друга; он, потирая руки, сказал: — Успела, кажется, поймать на удочку, да еще какого отчаянного волокиту! — Не приписывай мне этого титула, я даже кандидатом в волокиты никогда не был. Прошу тебя серьезно: скажи мне, что было между тобой и Зябликовыми? И, позабыв просьбу Феклуши, я передал ему подробно все знакомство и даже показал записку девушки. Иван Андреич пришел в такое раздражение, что мне стало жаль его; мне показалось, что он влюблен в Феклушу и что моя откровенность слишком неуместна. Наконец я понял из отрывистых его фраз, что простодушные старички чуть было его не женили и что Феклуша самая хитрая кокетка, занимающаяся ловлею женихов. — Ты знаешь, как я осторожен и таки понимаю людей, но они просто приколдовали меня своею простотой. По счастью, приехал ко мне мой сосед Щеткин да и порасскажи мне про них историю. — Что это за история? — с любопытством спросил я. — Такая, что я с этого дня ни ногой к ним. — Может быть, их оклеветали, — заметил я. — Оклеветали! Жаль, что ты не спросил о Зябликовых у любого мужика в П***, все знают эту историю. И эти на вид простодушные старички решаются на все, чтобы ловить женихов. Да эта дочка-то похитрее своей сестрицы, она не останется в дурах! Мало того что научили ее завлекать мужчин, еще привораживают. Травки разные варят. Я тебе скажу, что в столице ты не встретишь таких людей. Будто из почета к гостю, дочку пошлют стряпать, да и угощают потом этой стряпней. — Но скажи мне, для чего Феклуше травы? Она и так может нравиться. Иван Андреич пожал плечами и отвечал: — Пойми, что никто с ними не хочет знаться из соседей. Вот они и ловят новичков, чтобы забрать в руки прежде, чем новичок узнает эту историю… — Неужели ты веришь в колдовство? — смеясь, сказал я, и мне на минуту показалось невозможным, чтоб Феклуша и ее родители были способны на подобные вещи. Иван Андреич, разгорячась все более и более, начал рассказывать свою первую встречу с Феклушей. Они встретились у реки; она его пригласила в дом; он долго был очарован их искренним радушием; но потом ему стало подозрительно слепое доверие к нему стариков; когда же он узнал от Щеткина историю, случившуюся в их семействе, тогда… тогда он все понял! Факты так были ясны, что я сидел повеся голову и решился уж не заезжать к Зябликовым, тем более что Феклуша мне очень нравилась. Придя к себе в комнату, я нашел мальчишку в длинном сюртуке спящего на полу в ожидании меня. Я разбудил его и велел ему идти спать к себе, но прежде спросил его: — Есть у вас верховая лошадь? — Как же-с. — Так вели-ка завтра пораньше утром оседлать ее и разбуди меня. — Слушаю-с, я скажу дяде Прохору, чтоб он ее завтра не посылал за водой. — Так ты мне водовозную хочешь дать? — спросил я, смеясь. — Другие нейдут. На конюшне много жеребцов, да никто на них не садится. У какие! — Отчего же их не попробуют оседлать? — Не знаю-с, барин не желает. Их редко и из конюшни-то выводят, а уж как выпустят, так просто страшно, так вот на дыбы да норовят лягнуть. Я подивился уменью моего приятеля хозяйничать, окутался в одеяло и погасил свечу. Но комары завели такой концерт в комнате, что спать не было возможности. Я зажег свечу. Задремал я только к утру, изжаленный и окровавленный. Но сон мой был неприятен. Я видел во сне Феклушу, подсыпавшую мне что-то в питье, а потом будто я обвенчался с ней. Я проснулся весь в поту, у постели моей стоял мальчишка, повторяя однообразно: — Лошадь готова… лошадь готова. Я оделся и сошел на крыльцо. Было еще рано. Все небо покрывали серые облака, которые низко и медленно двигались; ветра не было и признаков, накрапывал мелкий дождь. После двухнедельной нестерпимой жары такое утро с отсутствием солнца обрадовало меня, и я с наслаждением вдыхал в себя влажный утренний воздух. Лошадь, подведенная к крыльцу, насмешила меня своей фигурой. Она была очень высока, с толстым животом, с выдавшимися костями; ноги передвигала, как палки. К довершению всего седло на ней было казацкое, так что, сев на нее, я очутился словно на верблюде. — Извольте левый повод короче держать, а то она на пристяжке иногда ходит, так и кривит голову, — заметил мне кучер Прохор Акимыч с очень развитым туловищем и на коротеньких ножках, с важным лицом, которое почти сплошь было покрыто искрасна-черными волосами. — Да ходила ли она под верхом? — Куплена была-с для верху еще покойным барином. Стояла, стояла, а там ее в упряжь пустили, замучили. Теперь хуже всякой скотины ее мыкают. А лошадь добрая, славная такая. И кучер ласково провел рукою по морде лошади. Не успел я выехать за околицу, как меня догнал мальчишка и вручил мне нагайку с наставлением только не бить лошадь по бедрам. — Почему? — Неравно как-нибудь зацепите за ногу, так оборони бог, этого она не любит. — Понесет? — Нет, брыкаться начнет. — Да ты скажи лучше все, что за ней водится, я не желаю сломать шею. — Ничего-с, она смирная! — с усмешкой отвечал мальчишка. Он говорил правду: несмотря на удары нагайкой, лошадь и не думала прибавить шагу, а плелась нога за ногу. Потеряв терпение, я стал с ожесточением бить ее и шпорить; она поскакала, но такой убийственной рысью, что я чуть не вылетел из седла и до хрипоты кричал: «птру, птру!» Вняв моему отчаянному гласу, она снова пошла шагом. Маленькая тропинка вела к лесу, — я ехал по ней… или, вернее, по ней шла моя лошадь, никак не желавшая повернуть на торную дорогу, куда я раз десять направлял ее. Наконец я предоставил ей полную свободу, тем охотнее, что пышные облака поднялись высоко и быстро понеслись: солнце стало нагревать, тень леса была заманчива. После нескольких бессонных ночей нервы мои были сильно возбуждены. Тихий шорох, лес, утренний воздух, пение птиц — все действовало на душу живее обыкновенного. Я весь предался природе. Редки у человека минуты полного забвения мелочей, делающих нас рассеянными и равнодушными к лучшему в жизни. А без них, без этих мелочей, как дышится свободно, какое равновесие чувствуешь во всем своем существе, будто вновь переживаешь счастливое детство и в то же время сознаешь в себе силу человека, исполненного энергии… Все, что испытано дурного в прошедшем, тушуется какими-то радужными надеждами в будущем. Вся нежность, уцелевшая в глубине души, рвется на свободу, и вы радуетесь, что вам не нужно душить ее, — вы посреди природы! Ничтожная травка интересует вас и получает значение в ваших глазах. Вы готовы оплакивать муравья, погибшего под вашей ногой, так дорога и прекрасна кажется вам жизнь в эти минуты! Я находился в таком мирном настроении духа. Повод был брошен, и моя кляча шла себе, куда знала, едва передвигая ноги. Я ехал лесом довольно долго; вдруг она неожиданно прибавила шагу и повернула с тропинки в сторону; я очутился на поляне, живописно окаймленной кустарником. Мне вздумалось пройтись по траве, омытой утренним дождем, но едва я начал останавливать лошадь, как она своей убийственной рысью пустилась поперек поляны, и мы очутились у ската пригорка, внизу которого текла узенькая река, извивавшаяся прихотливыми поворотами. Раздосадованный неповиновением клячи, я позабыл наставление мальчика: ударил ее нагайкой по задним ногам и в то же мгновение полетел через голову ее вниз, цепляясь за траву, которая от дождя скользила из моих рук. Я кубарем скатился к самому краю берега и, верно бы, выкупался, но, к счастью, под руку мне попался какой-то сучок — я ухватился за него, однако ж, несмотря на это, весь мой левый бок успел побывать в воде. Выкарабкавшись на сухое место, я проклинал свою прогулку, забыв, что минуту назад был самый счастливый человек. Моя лошадь как ни в чем не бывало пощипывала траву, стуча удилами. — Прохор! Ты? — раздался женский, довольно твердый голос невдалеке от меня. Я стал смотреть в ту сторону, откуда послышался голос; но вместо него раздался плеск воды. Я понял, что попал на свидание. Мне захотелось взглянуть на нимфу, плескавшуюся в реке, и я осторожно сделал несколько шагов. — Ну что морочишь-то, не вижу, что ли, лошади! — раздался снова уже сердитый женский голос. Я смело пошел по берегу речки, которая круто изворачивалась, образуя миниатюрные мысы и полуостровки. На одном из таких мысов в виде сапога, по другую сторону реки, я увидел таинственную нимфу. Подняв высоко свое тиковое платье и заткнув конец за пояс, она словно напоказ выставляла свои красные и толстые босые ноги, следы которых тонули в мокрой траве. Лица не было видно, виднелся только загорелый затылок да белокурые волосы, причесанные на две косы. Возле нее лежала в корзине куча мокрого белья. Нимфа, нагнувшись, усердно полоскала какое-то белье. — Скажи-ка, пожалуйста, какая это речка? — спросил я ее, неожиданно появясь из-за кустов на краю противоположного берега. Незнакомый голос так испугал деву, что она вздрогнула, выпрямилась и молчала, дико осматривая меня. Я повторил свой вопрос. — Брысь! — резко произнесла дева и, подняв свое платье, бухнулась на колени в траву и вальком доставала белье, выпавшее у нее из рук при моем появлении. Но белье, раздувшись, понеслось по воде; течение реки было довольно быстро. — Так не достанешь, — сказал я, страшась, чтоб дева не упала в воду. — Лучше обеги к кусту. Она кинулась бежать по берегу; я тоже, как бы влекомый течением речки. — Уйдет, уйдет! — отчаянно завопила она после нескольких попыток поймать белье и заметалась по берегу, ища палки. — Ах, помогите, помогите, родимый. Помогите! Прохор Акимыч! Она совсем потерялась. Я силился сломать большой сучок от первого попавшегося дерева, но второпях никак не мог этого сделать. — Барышня, голубушка, держите, держите! — пронзительно вскрикнула несчастная прачка и как безумная пустилась бежать снова, простирая руки к белью. Я перестал возиться с сучком и побежал тоже за бельем. Всего было досаднее, что крутые повороты реки беспрестанно подавали надежду поймать, но юбка не давалась, и бедная прачка испускала отчаянные вопли. — Что ревешь так! — сказал я в сердцах. — Бить, что ли, тебя будут за эту дрянь? — Больно жалко! — всхлипывая, бормотала несчастная. Я только тут рассмотрел ее лицо: это была уже знакомая мне служанка Зябликовых. Тронутый слезами бедной женщины, которых был я невольно причиной, я сбросил с себя мокрое пальто мое и бросился в воду. Обрадованная горничная побежала за мной по верху берега и криками поощряла мое рвение. Она беспокоилась не обо мне, а о барском белье. Речка была так быстра, что несла меня, как щепочку. Я проплыл так несколько сажень и стал чувствовать усталость, а главное, страх, потому что плавать я был не мастер, а речка становилась шире и бурливее. Я сделал большое усилие, чтобы приплыть к берегу, и испугался не на шутку. Дна я не мог достать ногами, а берег был обрывистый и глинистый, ни травы, ни сука, за что б удержаться. Я уже готов был кричать о помощи, как увидел вдали картину, которая заставила меня на минуту забыть страх. Впрочем, надо сознаться, что я в то же время заметил вблизи нависший над водою куст, за который удобно мог ухватиться. Мое внимание привлекла женская фигура, которая стояла или, вернее, почти висела на воздухе у крутого берега, держась одной рукой за торчащие кусты какой-то зелени; в другой руке она держала удочку, круто выгнувшуюся от тяжести — только не рыбы, а белья. Занятая пойманной добычей, девушка не заметила меня, хотя я подплыл довольно близко; зато я чуть не вскрикнул, узнав в ней — Феклушу! — Федосья, Федосья! Белье мое! — кричала Феклуша. — Барышня, упадете! Упадете! — умоляющим голосом, едва переводя дыхание, отозвалась босая служанка, бежавшая по берегу. — Удочку сломит! — отвечала барышня и еще ниже опустилась. Маленькая ее ножка скользнула по мокрой глине, куст вырвался из ее руки, и, верно, она упала бы в воду, если бы не Федосья, прибежавшая в эту самую секунду и ухватившая ее за руку. Феклуша, ловко цепляясь своими ножками о берег, добралась до верху и только тогда вскрикнула чуть не в слезах: — Моя удочка, ах! Моя удочка! Федосья вторила ей, приговаривая: — Барышня, ведь это ваше белье! Я уже карабкался на берег, но отчаяние Феклуши так на меня подействовало, что я забыл свою трусость и вновь пустился плыть за удочкой. Вероятно, Феклуша увидела меня, потому что страшно вскрикнула: — Назад, ради бога назад! Я повернул голову и поблагодарил улыбкой. Феклуша манила меня к себе, топала ногами, то жалобно, то повелительно повторяя: — Назад, назад! Федосья в это время дергала ее за рукав и говорила: — Ведь новое! Пусть его! — Там дальше водоворот, остановитесь! — продолжала кричать Феклуша. — А ваша удочка, барышня, — крикнула Федосья с досадою и махала мне рукой, чтоб я плыл дальше. Но Феклуша сделала мне такой повелительный жест, указывая на берег, что я с большим удовольствием повиновался этому грозному приказанию. Пока я подплывал к берегу, пока карабкался, Федосья, вероятно, все успела передать своей барышне; она крикнула мне весело: — Я сейчас побегу домой и пришлю вам дрожки. И она как стрела пустилась бежать. Федосья встретила меня сердитым вопросом: — Измокли? — Барышня твоя не хотела, а я бы поймал белье. И, смотря на речку, я прибавил: — Ишь, как ее тащит! — Прах ее возьми! — плюнув, выразительно произнесла Федосья, провожая глазами плывущее белье. — А ведь вас барышня признала. Сейчас за вами пришлют дрожки. Только надо вам выйти к дороге. И я пустился в путь с Федосьей, которая шагала так скоро, что мокрое платье едва позволяло мне поспевать за ней. Желая завязать разговор, я сказал, глядя на другой берег: — Чтоб еще лошадь не пропала! — Не уйдет! — сердито произнесла Федосья. — Почему ты думаешь? — спросил я. — Всякий божий день ходит за водой! Как ей не знать дороги. Ведь и у скотины хватит разума найти дом свой. — Недалеко ваш барский дом? — спросил я. — Недалеко. — И добрые твои господа? Федосья как-то подозрительно и нехотя произнесла: — Не злые! И потом посмотрела на меня с таким выражением, как будто хотела сказать: «Ну, что еще будешь спрашивать?» — Чего же ты так испугалась, что уплыла юбка? При этом воспоминании все лицо Федосьи пришло в движение; она очень энергически сказала: — Леший бы ее взял! Не в добрый час вышла я из дому! Мы приблизились к месту, где осталась корзинка с бельем, и Федосья, показав мне рукой вперед, сердито сказала: — Идите все прямо! И она вновь принялась за свое дело и с каким-то ожесточением заколотила вальком белье. Я не торопился идти и опять заговорил с ней. — Я никак не ожидал, что ваши господа так близко живут от Ивана Андреича, — сказал я. Она молчала. — А что, бывает у вас Иван Андреич? — спросил я. Федосья, вместо ответа замахнувшись вальком, повернула ко мне голову и грозно осмотрела меня. Потом она грубо спросила: — А вам на что знать? — Я так спросил; я… Не шутя, я смешался. Федосья презрительно посмотрела на меня и, взмахнув вальком, стала колотить им белье, заглушая свое ворчанье. Однако я слышал фразу: — Прах вас всех возьми! Провалились бы и с уткинским-то барином! На рябом ее лице появились красные пятна, и я решил не досаждать ей больше вопросами, чтобы не приобрести слишком сильного врага в камеристке Феклуши. Уходя от нее, я сказал: — Все прямо надо идти? Федосья кивнула головой и крякнула, выжимая мокрое платье, которое скрутила в жгут. Обойдя мыс, где она мыла, я расположился за кустами, чтоб отдохнуть и потом идти далее. Кругом была тишина; ворчанье Федосьи и плеск белья разносились далеко. Не прошло десяти минут, как раздался на другом берегу резкий голос: — Федосья! А Федосья! Я увидел из-за своей засады Прохора, появившегося с бочонком за спиной у берега. Прохор сбросил бочонок с плеч наземь и, подняв теплую шапку кверху, сказал с насмешливою учтивостью: — Наше вам, Федосья Петровна! — Ишь нечистая-таки тебя принесла! — раздался сердитый голос Федосьи. — Какой леший угораздил тебя отдать лошадь-то? — А что? — Пустая голова. Ведь я думала, ты ее выпряг. Смотрю, лошадь пощипывает траву наверху; кричу: Прохор! Глядь, чужой, я загляделась да и упусти новое белье барышнино, только что на ярмонке сшили. — Э, э, э! — протяжно произнес Прохор. — Э, э, э! Козлиная борода, — продолжала Федосья, — вот теперь где ее искать. Так вот и понесло ее, словно кто ей обрадовался. — Ну что ж? Видно, ведьме какой понадобилось ваше белье! — шутливо заметил Прохор. — Так и не удержала? — прибавил он с участием. — Ведь полез было в воду — поймал бы, да струсила барышня! — Что ты? — Вот те Христос! — Вот как! А где он? — Пошел к нам. Барышня побежала домой, чтоб Оську прислать. Прохор умильно сказал: — Ну вот и жених. Федосья плюнула так сильно, что чуть не достала до противоположного берега; вслед за тем посыпалась из уст ее неслыханная брань на Прохора. Я дивился изобретательности прачки и равнодушию кучера, который лег животом на траву и, пощипывая ее, не подымал глаз, пока Федосья бранилась; как только гнев ее стал стихать, он довольно мягким голосом спросил: — Когда стирала? — Вчера! — не так уже сердито отвечала Федосья. — Что-то больно зажились на ярмонке, чай, на корню весь хлеб протранжирили? — И ты туда ж! Рад зубы-то скалить! — с прежним гневом возразила Федосья. — Ну что кричишь? А тебе что? Небось, купили что-нибудь? — Почище вашего богача. Тику, башмаки. — Чай, вздернешь нос, как напялишь башмаки? — насмешливо заметил Прохор. — Известно, на мужика не буду смотреть! — Ишь ты! — Да! Разговор замолк. Через минуту Прохор таинственно спросил: — Поджидала нашего-то? — Только что и свету, что ваш! Так и есть! Плевать мы хотели! И голос Федосьи принял снова раздражительный тон. — Ах, Петровна, Петровна! Упустили вы! Не успели приколдовать-то! — так грустно произнес Прохор, что я не знал, как растолковать его слова. — Как же! Приворожишь его! Волком глядел всегда. — Угораздило его тогда съездить в город; сидел бы в деревне, может статься, и уладилось бы все. — Что попусту болтать, Прохор Акимыч. Лучше до свадьбы все узнал, чем после бы попрекал. Не найти ей жениха, как они ни бейся. Кто захочет знаться с ними! Мы как, знаешь, приехали в город, на нас так и таращат глаза, словно мы с того света пришли. Голос у Федосьи вдруг оборвался; она как будто глотала слезы. — Архипка, окаянный, встретил меня добрым словом. Что, говорит, зачем приехали? В остроге посидеть! Вишь! А! Всякий разбойник зубы скалит! Ведь насилу в трактир пустили. Нет, говорит, у нас порожних номеров. Ах он окаянный, татарин, злодей! Последние слова были произнесены с рыданием, которое, однако, скоро кончилось громким и частым сморканьем. Я смотрел на Прохора: он лежал по-прежнему на животе, только лицо свое уткнул в шапку, которая лежала у его бороды. — Прощай, Прохор Акимыч, — сказала Федосья очень ласково, после долгого молчания. — Идешь! — хриповато произнес Прохор, лениво вставая. — Завтра на лошади приедешь за водой? — спросила Федосья. — Баню приказано истопить. — Чтоб ему задохнуться! — проворчала Федосья и, сказав еще Прохору «прощай», удалилась с ношею мокрого белья. Скрип корзины долго еще слышался посреди тишины. Прохор после ухода Федосьи сидел несколько минут в одном положении, повесив голову на грудь и пощипывая густую свою бороду. Потом он стал потягиваться и снова задумался. Стук экипажа, ехавшего мне навстречу, заставил его вспомнить свою обязанность; он, взяв бочонок, подлез на корточках к воде и начал топить его. Я вышел из своей засады и окликнул его. Прохор тоже несколько испугался, но не выпустил из рук бочонка. Он снял шапку. — Спасибо за лошадь, чуть шею не сломал. Бери ее назад! — сказал я. — Верно, изволили по задним ногам ударить? — равнодушно отвечал Прохор, — Как прикажете, прислать дрожки сюда? — Нет, не надо! Если спросит Иван Андреич, скажи: гулять пошел. Мне не хотелось, чтоб мой приятель знал о моем визите. — Слушаю-с! Оська, эй, здесь! — заорал Прохор, махая шапкой. Я чувствовал смущение от своей невинной лжи. Разговор, подслушанный мною за минуту, смутил меня. Он очень согласовался с подозрениями моего приятеля. Я было начал раздумывать, ехать ли к Зябликовым, как явился кучер с сухим бельем и платьем. Он объявил, что господа приказали кланяться и ждут меня кушать чай. «Лучше сам удостоверюсь во всем», — подумал я и крикнул Прохору, чтоб он сказал своему барину, что я поехал к соседям. Я превратился слегка в Зябликова, надев его костюм. Покачиваясь на старинных дрожках с огромными крыльями, которые годились к любому пароходу для прикрытия колес, я обдумывал, как мне себя держать: неужели поддаться хитростям стариков и кокетству их дочери? Эти мысли навели на меня хандру, и я, подобно моему приятелю, дивился дурным человеческим свойствам. Старики меня встретили с такою добродушною радостью, которая могла тронуть всякого, кто не знал настоящего ее источника. Наружность барского старинного домика примирила меня несколько с их желанием сыскать себе скорее зятька. Комнаты, несмотря на бедность меблировки, отличались и чистотой и уютностью, хотя в передней не обошлось без портного с босыми ногами. Он шил что-то из серой нанки, напоминавшее костюм г-на Зябликова. Меня усадили в гостиную на диван, который, как и вся мебель, покрыт был белым чехлом, и стали усердно угощать чаем, расспрашивая о владельце села Уткина. Феклуша не являлась: я, не церемонясь, спросил о причине. Старики захлопотали, и старушка через минуту привела Феклушу в гостиную. Разгоревшиеся ее щеки и слегка растрепавшиеся золотистые волосы придавали ей что-то особенное. Сделав мне реверанс, она села в угол. — Благодарю вас за ваше беспокойство, — сказал я, кланяясь. — Вы, я думаю, устали? Я не знал, что это так далеко! — И, батюшка, она охотница удить рыбу, в день-то раз пять сбегает к реке! — отвечала за свою дочь г-жа Зябликова. — В горе, что удочку упустила, — глупая! Зато гостя нашла, — усмехаясь, прибавил отец. Улыбка на лицах хозяев неприятно подействовала на меня: даже Феклуша вдруг подурнела в моих глазах. Я подумал: «Они торжествуют, что заманили в сети зверя, не подозревая, что зверь-то бывалый». — Феклуша, покажи-ка гостю сад! — сказала мать. Дочь тотчас же встала, отворила дверь на ветхую террасу и пошла по аллее. — Не угодно ли, — указывая мне на террасу, сказал хозяин дома так покойно, как будто в его предложении ничего не было странного. Едва удерживая улыбку, хотя вовсе не веселый, я отправился за степной Манон Леско{86}. Догнав ее, я не мог найти никакого вопроса и опять повторил: — Вы, я думаю, устали? Ваш дом неблизко от реки. Феклуша улыбнулась и отвечала мне: — Да я хожу оврагом, а не дорогой. И, проходя кусты смородины, мимоходом она срывала ягоды и кушала их. — У вас отличный сад. Феклуша весело отвечала: — Мы сами ходим за ним. В это время показались старички; они тоже собирали ягоды, но, кажется, более наблюдали за нами. — Покажи беседку-то! — крикнула Феклуше мать. Феклуша пошла скоро; я с большею смелостью последовал за ней. Когда мы зашли далеко за кусты, я остановил ее довольно фамильярно за рукав платья, сказав ей: — Нарвите мне крыжовника. Феклуша не обратила никакого внимания на выражение моего лица и на мое обращение и стала собирать ягоды. Набрав полную горсть, она протянула мне руку. Я смотрел ей прямо в глаза; они были так ясны, что я терялся в недоумении. Я нагнулся к ее ладони и, делая вид, что беру ягоды, коснулся губами ее маленьких пальчиков. Феклуша вдруг разразилась превеселым смехом. Я вздрогнул — и догадался… она не умела скрыть своей радости. Продолжая смеяться, она сказала мне: — Вы точно моя Машка кушаете. — А кто такая ваша Машка? Кошка? — спросил я, придерживая Феклушу за руку. — Нет, коза! — отвечала Феклуша. Я расхохотался; Феклуша смотрела на меня вопросительно, все более и более краснея, потому что я крепко сжал ее руку. — Возьмите ягоды! — сердито сказала она. Я невольно высвободил ее руку. Она поспешно высыпала на мою ладонь ягоды и пустилась бежать с крутой горы в овраг, за которым опять поднималась гора. Я бросил ягоды и кинулся за ней. Но Феклуша, как стрела, с размаха взбежала на противоположную гору, в то время как я, задыхаясь и спотыкаясь, чуть не на четвереньках карабкался на нее. На горе стояла беседка в форме гриба; потом шляпку его обнесли перилами и приставили лестницу. Феклуша уже стояла наверху, когда я уселся отдыхать на половине горы. — Устали? — насмешливо спросила она. — Зачем вы не велите сделать мостик? — сказал я. — Зачем мостик? Ведь есть дорожка, можно обойти. Там есть еще такой же овраг, так через него перекинули мост: внизу ручей и очень круто подыматься. Я насилу взобрался, запыхавшись, на верх беседки. Пот катил с меня градом, солнце так и пекло на этом возвышении, ничем не закрытом. Феклуша как будто не замечала солнца, только слегка прищурив глазки, глядела задумчиво вдаль. Я наконец обратил внимание на вид, который мне обошелся дорого. Вблизи овраг с размытым песчаным дном, на отлогостях его группы дерев, небольшие лужайки. Далее — село Уткино как на блюдечке; мне даже показалось, что я узнал в саду то место, где спал накануне. — Это что за дом? — спросил я Феклушу, указывая на дом моего приятеля. — Барский! — отвечала Феклуша. — Чей? — Уткинский! Вот отсюда я хожу к реке! — прибавила она, отвернувшись от меня слегка, но я заметил краску на ее лице. Через минуту она снова повернула ко мне свою голову, которую солнце освещало ярко. Прозрачность и нежность кожи, совершенно синие глаза и, как золото, пушистые волосы в такой были гармонии с тонкими чертами лица, что я залюбовался и забыл о живописных окрестностях, которые мне подробно описывала Феклуша. Я неожиданно прервал ее следующей фразой: — Фекла Григорьевна, чем вы меня наградите за исполнение вашего приказания? Лицо Феклуши приняло вопросительное и тревожное выражение. — Я был там! — указав на село Уткино, продолжал я. — И ни слова не упомянул, что имел удовольствие встретить вас. Вы ведь желали этого? И я придвинулся очень близко к Феклуше, которая ужасно сконфузилась, потупила глаза и тихо произнесла: — Благодарствуйте! Я протянул руку с вопросом: — Вы довольны мной? — Да! — шепотом произнесла Феклуша. — Так дайте вашу ручку? Феклуша быстро подала руку, я поцеловал ее. Феклуша слегка коснулась губами моего лба. Я сжал сильнее ее руку, но встретил ее глаза, полные слез и такого грустного выражения, что я оторопел. Поцеловав еще раз ее руку, я не скоро нашелся, что говорить. Феклуша села далеко от меня и тоже молчала. Наконец она первая прервала молчанье. — Я вам все расскажу в другой раз, — сказала она, все еще не глядя на меня. — О чем расскажете? Она указала головой на село Уткино. Меня тронул ее наивный голос. Я был в очень глупом положении; на каждом шагу мысли мои противоречили одна другой. Но почему все подозрения моего упрямого приятеля так схожи с разговором кучера и горничной? Почему старикам было посылать нас в эту уединенную беседку? Может быть, ее совесть чиста, как ее ясные глаза. Или все это притворство? И, как ни было жарко, по телу моему пробежала дрожь. — Пойдемте, скоро завтракать! — вставая, сказала Феклуша. Я предложил ей свою руку и сжимал ее крепко, пока мы спускались с лестницы. Я шел так медленно и робко, что Феклуша спросила меня: — Вы боитесь, кажется? — Да, — отвечал я со вздохом. — Лестница крепкая. — Хотите знать, чего я боюсь в самом деле? — сказал я с жаром и остановился на половине лестницы. В эту минуту грубый и знакомый голос Федосьи раздался внизу: — Барышня, завтрак готов. Я должен сознаться, что очень испугался в первую минуту, и как дурак дал дорогу Феклуше, которая, высвободив свою руку из моей, побежала с горы. Феклуши не было за завтраком, только к концу она явилась со сковородой. Пылающее ее лицо доказывало, что кушанье было приготовлено ею. Я невольно вспомнил слова моего приятеля. Старики, торжественно переглянувшись, начали потчевать меня этим блюдом. Я просил их самих отведать сначала. — Где же это водится, хозяева прежде гостя? — сказала старушка. Я положил на тарелку стряпню Феклуши и ждал, когда начнут есть старики, а они все угощали меня. — Что, батюшка, не отведаете? — Скушайте, ведь она мастерица у нас стряпать. И оба так внимательно следили за каждым куском, который я клал в рот, что хоть кого сбили бы с толку. После завтрака я хотел идти домой, но в ту минуту, как я готов был проститься, у раскрытого окна, к которому я стоял спиной, раздался крик козы. Я невольно отскочил от окна. Старички и их дочь рассмеялись. Коза передними ногами стояла на окне и продолжала кричать. Феклуша, продолжая еще смеяться, взяла кусок хлеба, посыпала солью, показала козе и пошла из залы. — Феклуша, да ты покажи свою умницу-то гостю. Ах, какие она штуки знает! — сказала старушка. — Верите ли, батюшка, знает то же, что на ярмонке собаки у штукарей{87} делают! — добродушно прибавил Зябликов. Я пошел за Феклушей, вовсе не интересуясь козой, которая встретила свою госпожу прыганьем, боданьем и разными козлиными ласками, за что получала по кусочку хлеба. — За что вы ее любите? — спросил я Феклушу, заметя в ее глазах необыкновенную нежность, когда она ласкала козу. — Она выросла у нас; все понимает, посмотрите, я ей скажу: пойдем, Машка, в лес! И Феклуша побежала к воротам; коза за ней. Феклуша споткнулась и вскрикнула; лицо ее приняло плачевное выражение, и, потирая свою маленькую ножку, она сказала: — Ах, я ушибла ногу! Я кинулся ее подымать, приняв все это за истину, но Феклуша премило улыбнулась мне, а Машка ее забегала около нее и лизала ей руки. Феклуша вдруг рассмеялась, вскочила и, потирая пальцем о палец, говорила, бегая: — Обманула, обманула! Коза догоняла ее, злилась и старалась сшибить с ног. Я стоял посреди двора и, следя за деревенской Эсмеральдой{88}, думал себе о том, что женщина-кокетка может обойтись без салона, кушетки, собачки и прочего. Гибкость талии, маленькая ножка, ловкость — все это сумела выказать Феклуша в игре со своей Машкой. Устав бегать, Феклуша села на крыльце, а коза улеглась у ее ног. Раскрасневшиеся щеки, блестящие глаза столько придали одушевления лицу девушки, что я не мог оторвать от нее глаз. Я забыл о своем намерении идти домой и болтал с Феклушей, наблюдая за краской в ее лице, которая, как зарево, постепенно погасала на нем. В это время я забыл все; я наслаждался красотой, но скоро явились глупые старики со своей неизменной фразой: — Феклуша, что же ты гостю не покажешь огород? — Хорошо-с! — отвечала дочь. Мне показалось, что Феклуша конфузилась нетонких уловок своей матери, и мне стало жалко ее. Однако меня повели в огород. О, сельская жизнь! Как все украшаешь ты! Репа, морковь и другие овощи, как я узнал, были тоже под надзором Феклуши. Она прикрикнула на девчонок и мальчишек, занимавшихся кражею овощей, вместо того чтобы шелушить горох. Только что Феклуша принялась мне показывать свой двухаршинный парник, как сделалось в огороде сильное смятение и детские крики и смех огласили воздух: — Машка, Машка! Коза, как бешеная, бегала по грядам, срывала и ела зелень. Феклуша, я и все мальчишки стали выгонять козу, которая делала уморительные прыжки, сбивала детей с ног, даже меня чуть не уронила. Хохоту и крику не было конца. Солнце страшно пекло мою голову, а я и не замечал, что потерял фуражку. Наконец Машка была выгнана из огорода и мы уселись отдыхать в тень. Моя беготня, кажется, очень понравилась Феклуше, и она заметно стала обходиться со мною смелее, как с человеком уже коротко знакомым. Время так скоро прошло, что я был поражен, когда нас позвали обедать. Правда, было только двенадцать часов, но день у меня начался с пятого часа утра. Отговариваться было глупо, да и, признаться, ехать не хотелось в такой жар. Обед был продолжителен, потому что кушаньям не было конца. Я и Феклуша мало ели. Я был в очень веселом духе, но старики мастера были убивать мою веселость. После обеда они без извинения отправились почивать, оставив меня одного с Феклушей, которая как будто околдовала меня. Я не мог не глядеть на нее, не улыбаться, если она глядела и улыбалась. Мы уселись на ступеньках террасы, Феклуша взяла гитару по моей просьбе. Она пела и играла, сколько я желал. Я увлекся музыкой, нервы мои пришли в сильное раздражение. Голос Феклуши трогал меня до слез. Я начал ее учить романсам Варламова{89}. Рука моя часто останавливала ручку Феклуши, чтоб выдержать такт. Мы глядели друг другу в глаза, голоса наши сливались. Я распевал, как на сцене, чуть не со всеми жестами. Мы так предались музыке, что не вдруг заметили стариков, которые явились с заспанными лицами на террасу нас слушать. Их появление смутило меня, и они, по обыкновению, не замедлили вылить на меня ушат холодной воды своими выходками. — Ну, — сказала старушка, — вот, Феклуша, есть теперь тебе с кем время проводить. — И, обращаясь ко мне, она прибавила: — Вы, батюшка, с нами без церемонии, погостите-ка у нас, если не скучно вам с нашей Феклушей! Дочь покраснела и ушла с террасы. Я проклинал несносных стариков, главное, за то, что они отравили мне несколько приятных часов, редких в моей жизни. Снова голова моя наполнилась подозрениями. Веселость старых Зябликовых казалась мне торжеством их. Может быть, Феклуша рассчитывала, сидя со мной, каждый свой взгляд, каждое свое слово. И как могло быть иначе? Почему такое сильное впечатление произвела на меня степная девушка? Красота ее не так же блистательна. Нет, тут расчет до самых мелочных движений и взглядов. Старики подсели ко мне и, как назло, рассказывали, как Иван Андреич сиживал, игрывал и гуливал с их дочерью. Злоба вдруг охватила меня, я с презрением смотрел на хитрецов и в душе смеялся над ними. Появилась Феклуша, я опять стал весел и очень развязен с ней; затеял играть в кошку и мышку. Я ловил ее по саду. Откуда взялась у меня быстрота, ловкость, право, не знаю, но я овладевал мышкой несколько раз. Глупые старики смеялись беспечно; Феклуша с начала игры бегала весело, но потом стала осторожна и один раз, когда я ее поймал, пугливо вскрикнула: видно, выражение моего лица не уступало кошачьему. Это потревожило нежных родителей и меня не на шутку. Старики, однако, не поняли испуга дочери, и когда мы смирно уселись, они предложили нам идти ловить рыбу. Феклуша отнекивалась, но я стал ее упрашивать, а родители усовещивать. — Что ты, глупенькая, гостю надо угождать, чтоб он не соскучился! — заметила мать. — Небось одна не усидела б дома, десять раз к реке бы сбегала, — подхватил отец. Дорогой я старался успокоить Феклушу и вел разговор об их хозяйстве и деревне. Я дивился, как могли Зябликовы существовать при таких скудных средствах. У реки Феклуша пришла в свое нормальное положение. Она так занялась своими удочками, что, кажется, забыла о моем существовании. Как я на нее ни посматривал, она оставалась покойной. Ее красивая фигура ясно отражалась в воде; я глядел на нее, и грусть охватила меня. Я думал: за что погибнет ее красота, молодость! Нет, упрек не падет на меня! Пусть лучше другой воспользуется хитростями глупых стариков! Радостный крик моей собеседницы вывел меня из размышления, и я увидел в руках торжествующей Феклуши рыбу, которая судорожно била хвостом. — Не тираньте рыбу, выпустите ее! — сказал я, находясь еще под влиянием своих похвальных размышлений. Феклуша иронически посмотрела на меня, как будто я сказал ужасную глупость. Я продолжал: — Ну как вам не стыдно радоваться, что перехитрили несчастную рыбу. Ведь тут ни ума, ни ловкости никакой нет. Крючок должен гордиться, а не вы. — Как же вы говорили, что любите охоту? Разве вы не убиваете птиц? — спросила Феклуша. Я сам рассмеялся своей сентиментальности и, не желая, чтоб деревенская барышня смеялась надо мною, сказал: — Я потому просил вас бросить рыбу, чтобы вы сколько-нибудь занялись своим гостем. Я хочу говорить с вами, глядеть на вас. Феклуша, держа пойманную рыбу, смотрела на меня странно, как будто у меня на голове выросло невиданное растение. Я придвинулся к ней так близко, что она вздрогнула всем телом; рыбка скользнула из руки и, упав к ее ногам, в два прыжка очутилась в воде. Феклуша чуть не кинулась за ней. Я ее удержал. — Не ребячьтесь, полноте! Я рад, что ваша жертва ускользнула! И чтоб вы не могли больше тиранить бедных рыб — пусть все пойдет за ней! И я бросил в воду и удочку, и банку с червями. Феклуша на минуту онемела, следя глазами за своей удочкой. Увидев, что удочка поплыла, она заплакала, как ребенок, и жалобно повторяла: — Моя удочка! Где я достану другую? Кроткий ее гнев меня устыдил; я повторял с полным раскаянием: — Простите, простите! Я чувствую, что моя шутка глупа, дерзка! Если хотите, я брошусь в воду и достану удочку. Я еще и не думал броситься в реку, как Феклуша пугливо схватила меня за плечо и умоляющим голосом просила не делать этого, Я придержал ее ручку и хотел поцеловать. Поцеловав раз, я не ограничился таким ничтожным изъяснением раскаяния и продолжал целовать ручку, повторяя: — Простите, я пошутил. Феклуша сначала улыбалась мне, потом стала выдергивать, наконец жалобно просила меня оставить ее руку. Только что я исполнил ее просьбу, как она убежала от меня. И я не думал о погоне. Я сидел на берегу в странном и приятном состоянии, с ожесточением рвал траву с землею и бросал в реку. Долго я раздумывал, каким образом степная барышня могла так пленить меня, заставить расчувствоваться, разнежиться от одной слезинки, и, наверно, притворной! Уж будто с ней не случалось таких сцен? Она дурачит меня своею наивностью! Поверю я, чтоб глупая рыба сколько-нибудь ее занимала! Это все расчет, и очень ловкий! Жаль! Гибель ее неизбежна. Хорошо, что я и приятель мой так совестливы. Прочитав мысленно себе панегирик, я хотел было идти домой и удалиться от печальной картины страшного лицемерия под личиною наивной простоты и доверчивости к людям; но что же я скажу своему приятелю? Неужели сознаться, что я испугался этой девочки, бежал от ее чар? Мне сделалось смешно. Я пошел к дому Зябликовых. В саду Феклуша робко сказала мне: — Не пугайте меня! Зачем вы так все шутите? — Разве с вами Иван Андреич не шутил так? — спросил я. — Никогда! — произнесла тихо Феклуша. — Я более не буду. Дайте вашу ручку в знак мира. Феклуша не решалась, я засмеялся — она робко протянула руку. Я пожал ее. — Простите, если я вас напугал. Мы снова сделались друзьями, то есть, кажется, Феклуша разочла более естественным верить моим словам. Старики встретили нас с очень веселыми лицами и угощали меня чаем да булочками до отвращения. После ужина они, прощаясь со мной, сказали: — Может быть, вы не привыкли по-деревенски рано ложиться спать, Феклуша посидит с вами, позабавит вас музыкой! Я поклонился за их внимательность и, докуривая сигару, сел на ступеньки террасы, дивясь нецеремонности моих новых знакомых. Феклуши не было в комнате в это время, и я был рад за нее. Я думал, что она инстинктом да и по моему обращению с нею поймет, что ей делать. Но вдруг она явилась с гитарой в руке и села возле меня. Вечер был несколько свеж, сад весь покрыт мглой, небо чисто и усыпанояркими звездами. Я счел за грех тратить время на разгадку характеров и, сев поближе к Феклуше, просил ее спеть мне что-нибудь. Она исполнила мое желание. Песня, которую она пела, была самого грустного напева. Малороссийские слова были полны жалобы на злобу и холодность людей к бедной, обманутой девушке. Голос Феклуши был так трогателен и грустен, что я просил ее перестать и спеть что-нибудь повеселее. — А я так очень люблю эту песню! — сказала Феклуша. И в ее голосе послышались мне слезы. — Почему вы можете ее любить? Разве… — Моя сестра все ее пела, — прорвала меня Феклуша, продолжая брать печальные аккорды. Эти слова дали моим мыслям другое направление. Я взял на себя роль исправителя и сказал: — Часто вы сидели так с Иваном Андреичем? Аккорд замер; Феклуша молчала. Темнота мешала мне видеть выражение ее лица. Я повторил свой вопрос более настойчиво. — Да! Часто… — робко отвечала Феклуша. — Нравился он вам? Долго я ждал ответа. Феклуша сидела как статуя. — Я потому с вами так откровенен, что принимаю в вас большое участие. Не бойтесь меня, я вас спрашиваю для вашей же пользы. Феклуша молчала, да и что ей было отвечать? — Если вы будете молчать, вы обидите меня и докажете тем, что все правда, что говорили мне о вас. — Ах, боже мой, да что же я буду вам говорить? — с досадою проговорила Феклуша. — Отвечать на все, о чем я вас спрашиваю, — с суровостью наставника сказал я. — Вы молоды, недурны собой. К чему вам торопиться искать жениха? — Какого жениха? — тревожно спросила Феклуша. — Ну полноте! Я все знаю. Иван Андреич хотел жениться на вас и, верно бы, женился, если бы… — Я знаю, что все соседи говорят о нас! — с подавленным вздохом прервала меня моя слушательница. — Если знаете, то вам надо быть как можно осторожнее. Не оставаться одной, вот как теперь я с вами. Мои слова, кажется, произвели сильный эффект, потому что я слышал ускоренное дыхание Феклуши. — Может быть, вы уже были бы женой Ивана Андреича, а теперь приобрели в нем себе врага. — Я ему ничего не сделала! — произнесла торопливо Феклуша. — Как ничего! Нет, вы много можете сделать вреда человеку. Вы настолько хороши собой, что даже порядочного человека можете заставить сделать низкий поступок. Сознайтесь, — вы очень хорошо знаете всю силу вашей красоты? Феклуша молчала. Я старался разглядеть ее лицо, но было слишком темно; вдруг мне с чего-то показалось, что сдержанный смех вырвался из ее груди. Я обиделся, потому что рассчитывал на другое впечатление. — Говорите откровенно, — не правда ли, вы рассчитывали меня завлечь, и вам удалось бы совершенно, если бы… Я был прерван воплем, вырвавшимся из груди Феклуши, которая, закрыв лицо, вскочила и убежала от меня. Я остался как дурак один, не зная, что мне делать. Вопль был так естествен… Но, может быть, это была досада, что я угадал и разрушил все планы и надежды ее? Я просидел долго на террасе, поджидая возвращения Феклуши, однако она не являлась, и я, недовольный своей ролью, побрел в назначенную для меня комнату. Через несколько минут явилась ко мне Федосья с двумя кружками; в одной был квас, в другой — вода. Поставив их на стол, она не двигалась с места и глядела на меня так свирепо, что я с досадою ей сказал: — Мне больше ничего не надо. Федосья, заминаясь, грубо пробормотала: — Барышня… Я догадался, что передо мной стоит поверенная Феклуши. — Ну что твоя барышня? — Плачет! — мрачно отвечала мне горничная. — Что же мне делать? Разве я могу идти утешать ее? — Да вы ее обидели! — злобно и с упреком сказала Федосья. — Чем я ее обидел? Разве она тебе жаловалась? — Жаловаться? Мне? Нет, барышня отцу родному не скажет ничего! Чем она виновата! Приехали оттуда затем, чтоб смеяться тоже над нами. Ей-богу, грешно так обижать людей! Федосья меня пристыдила, я покраснел и, как бы оправдываясь, сказал: — С чего же ты взяла? Я ничего не знаю о твоей барышне, и за что я могу ее обидеть? — Один каторжник скажет про нее худо! Вот что! — грубо прервала меня Федосья и с грустью продолжала: — А всяк норовит ее обидеть! Знаем мы все, ума-то своего не хватило у уткинского, и уши развесил, как баба какая, а разве на каждый роток накинешь платок. — Да я ничего дурного не слыхал о твоих господах. Федосья искоса поглядела на меня и, злобно улыбаясь, произнесла медленно и несколько тише своего обыкновенного голоса: — Небось нехристь, разбойник Архипка в трактире не понасказал про нас турусы на колесах? — Ни слова, право! — И уткинская дворня не уступит любой шайке воров, тоже небось молчала? — продолжала она. Глаза Федосьи блестели гневом; побелевшие губы судорожно дергались. — Божусь, что я ни от кого ничего не слыхал. Ты расскажи-ка мне лучше сама. Если кто будет говорить что-нибудь про твоих господ, я хоть буду знать, правду ли говорят или нет. Федосья задумалась и, вздохнув тяжело, мягким голосом произнесла: — Господи, господи! Кажись, иной раз думается, лучше бы на чужой стороне в сырой земле лежать, чем сраму-то столько выносить. Да, видит бог, барышня без вины виновата стала на весь божий свет. — Расскажи-ка мне все, что было. Может статься, я и помогу — злоязычников заставлю молчать. Ведь что худая, что хорошая слава, все от людей расходится. — Известно! Как бы от бога, так нашу барышню не обегали бы. Ведь, батюшка, последняя мещанка задирает перед ней нос, а соседи-то просто и рыло воротят, словно она виновата в чем. На что я, какая анбиция у холопки, а и то сердце кровью обливается, как какой-нибудь каторжник Архипка начнет скалить зубы: так бы, кажись, глаза выцарапала разбойнику. Ведь вор, мошенник! В скольких скверных делах был замешан! А живет да над честными людьми тешится. Федосья пришла снова в сильное волнение. Я старался ее успокоить и просил скорее рассказать семейную тайну ее господ. — Ну вот! Так же как и ноньче, приехали мы на ярмонку, — начала она, — теперешней барышне было всего годочков десять, да такая маленькая, худенькая была. Она вот на последних прытко зачала расти да добреть, а сестрица-то ее была уже в поре, невеста. Упокой ее душу! — растроганным голосом заметила рассказчица… — Ну вот! Стояли мы на квартире, а насупротив наших окон стоял тоже жилец. Верст шестьдесят от нас его имение. Злодей! Ну вот, он, окаянный, целый божий день, бывало, лежит себе на окне да все на барышню-то нашу и глазеет. На грех аль нечистый попутал, барин наш купил козла, да такого шутника. Ведь Машка — это его дочь!.. Козел ходит по улице, а цыган-то и ну его приласкивать, заприметя, что наша барышня с козлом играет. Наколет на рога бумажки ему да и пошлет к нашим окнам. Так вот каждый день козел с бумажками домой и придет. Знать, и наша барышня не брезгала этим. Ну вот, день за днем; колдун лакея своего подсылает, а тот говорит: барин наш знакомство хочет завесть с вашими господами. А потом, душегубец, и стал таскаться в дом. Живем мы словно важные помещики, и в комедию, и в лавки злодей водит барышню и барыню тоже. Ну вот, стали собираться по домам. Барышня горюет. Уж успел обойти нечистый ее. Приехали домой, не успели разобрать сундуков, глядь, катит гость во двор, татарин небритый! Уж его наши господа чествовали, как какого князя. А он, озорник бессовестный, добром отплатил за все. — Хорош он был собой? — Волчья ехидность, змеиная душа. Кажись, на что я холопка, а глаза ему выцарапала бы, если бы он подъехал ко мне. Просто совиная рожа. Глазища словно в масле: так и бегают. Смотреть страшно, как он, бывало, сидит с нашей барышней. Она, бедненькая… Ах он злодей, злодей! И Федосья заскрежетала зубами и стиснула кулаки. — Что же дальше? — сказал я. — Ну вот! Так же, как вы аль уткинский, бывало, приедет к нам, гуляет с барышней, поют: она больно жалостливо пела, и он начнет басить с ней. Бывало, гащивал по неделе. Ну вот наша барышня и невеста, приданое шить начали. Жених сидмя сидит у нас. Да вдруг ни с того ни с сего стал реже да реже, проклятый. Барышня наша плачет, худеет. Стали ее уговаривать, что насильно мил не станешь. Куды тебе, так вот и воет. А жених-то окаянный совсем пропал, ни ногой. Поехал барин сам к нему. Вернулся такой бледный, что мы все перепугались. Видим, дело плохо, жених на попятный двор. Говорит, родственники запрещают жениться, что молод еще. Злодейская душа, змеиная порода!.. Ну вот, наша барышня, как узнала, что жених-то на попятный двор, чуть разума не потеряла и бросилась было в реку, да вытащили. Уж так напугала, так напугала, что мы все земли под собой не слышали. Бывало, душу надрывает, как целехоньку ночь проплачет да простонет. Просто извелась вся, одни косточки. Ну вот, раз она так и заливается, плачет; я спала в ее горнице, встала, перекрестилась да и говорю ей: полноте, барышня, не убивайтесь, другого найдете жениха; а она, бедненькая, говорит мне: «нет», говорит… Федосья захлебнулась слезами и замолкла. Я смотрел на ее лицо и дивился быстрым переменам, резко проявлявшимся на нем. То оно покрывалось краской и слезы являлись в глазах, то вдруг бледность сменяла краску, а глаза сверкали диким гневом. — Ну что же тебе отвечала барышня? — спросил я рассказчицу, которая встрепенулась и, тяжело вздохнув, таким свирепым голосом произнесла свое «ну вот», что дрожь пробежала у меня по телу. — Ну вот, барышня мне все и расскажи. Поплакали мы с ней вдоволь да и рассудили с горя бежать. — Ты-то зачем бежала? — спросил я. — Как зачем! Барышня захотела бежать, не пустить же ее одну! — Куда же вы решились бежать? — А бог знает, про то знала барышня. Ну вот, мы как задумали это, барышня стала пободрее. Господа-то обрадовались и повеселели. Никто в доме не знает сраму, кроме меня, ни единая баба во дворе. Барышня все заготовляет в дорогу. Тихонько взяла у барина какие-то старые паспорты, и в одну темную ноченьку, когда все улеглись, помолясь, мы вышли из дома родного. Не чаяли и вовек его увидать. Она пошатнулась и присела на стул. Но, как будто опомнясь, вскочила на ноги и, вытирая слезы, продолжала рассказ: — Ну вот, шли мы, шли и бог весть сколько недель. Отдохнем денек да опять идем. Барышня одета, как я же. Так вот всем и выдает себя за холопку. Бывало, гляжу на нее, а сердце точно кто давит. И боже упаси величать ее барышней! Заплачет; ты, говорит, лучше оставь меня одну! А если, бывало, стану расспрашивать, куда идем и что будет с нами, у ней один ответ: «Вернись, если боишься, а я туда уйду, где б меня не отыскали». Пока деньжонки у нас водились, все как-то легче было идти, а тут на ночлеге нас обокрали. Котомки обменили. Делать нечего. Все идем да идем. Ну вот, пришли мы на ночлег в деревушку. Денег-то не было, так мы со всяким сбродом легли спать. Наутро хотим идти, не пускают. На дороге нашли убитого купца. Глядь, стража кругом, становой. Всех поодиночке допрашивают. Дошла очередь и до нас. Барышня моя точно полотно, вся дрожит. Я за нее перепужалась. Взяли паспорты от нас, глядели, глядели да и ну нас допрашивать, так мудрено, раз до пяти одно и то же. Потом становой стал кричать на барышню, она, знать, испугалась да и проболталась, только взяли нас под стражу и повели назад в город. Ну вот, посадили нас врозь. Стало мне жаль барышню, я во всем и созналась, сказала, что я уговорила ее бежать из родительского дома. Повели нас с солдатами назад. Барышня моя уж идти не может. Ножки распухли, не ест, не пьет; ну вот, вернулись мы и в наш город, посадили нас в острог и послали за господами. Барышню увезли домой чуть живую, а меня… Федосья ничего не произнесла более, но я угадал остальное по выражению ее лица и поспешно спросил: — Неужели о тебе она не похлопотала? — Дай им бог здоровья! Много истратились даже. Ну выпустили меня. Да что! Ведь уж все-таки острожная осталась. Ведь всякий мальчишка знал это!.. — Что же твоя барышня? — Я уж ее не застала в живых! Царство ей небесное! Сказывали наши, как она мучилась долго и все просила, чтоб повидать этого нехриста, злодея окаянного! — Ну что же, видела? — Как же! Душегубец, разбойник! Посылали, посылали к нему, не едет. Барин поехал сам просить его христом-богом проститься с умирающей. А он, колодник клейменый, ускакал из дому, выпрыгнул в окно. Сама барыня поехала к нему, говорят, как плакала, валялась у него в ногах, только бы простился и облегчил бы барышню. Ну пообещал и даже крикнул: лошадь подать! Да так вот до сих пор, черная душа, все едет к нам. А она, сердечная, не пережила — богу душу отдала. И Федосья горько стала плакать. — Неужели ничего не сделали с ним? — сказал я, сильно взволнованный. — А что с ним сделаешь? От наших так вот рыло воротят, точно чума у нас какая. Вот уткинский гащивал сначала, а тут — и ни ногой! То же вот и вы сделаете! Да за что обижать нас? И она пуще заплакала. Этот несколько бестолковый рассказ произвел на меня сильное впечатление. Всю ночь я думал о том. Неужели проступок бедной девушки, искупаемый такими страданиями, бросает до сих пор тень на все семейство?.. До чего мы дошли: потеряли такт отличать простоту от хитрости, обленились так, что принимаем на веру чужие слова, хотя бы они касались чести и жизни нашего ближнего, и действуем по чужому влиянию? За что я обидел бедную девушку? Из лени, из невнимания к чужим страданиям. И какое я имел право исправлять ее, если бы даже все нелепые подозрения моего приятеля были справедливы? Я в нетерпении ждал утра, чтоб как можно скорее вразумить Ивана Андреича, доказать ему его жестокость, которая и меня вовлекла в непростительную дерзость. Чуть забрезжило утро, как я уже ехал на крестьянской телеге в Уткино. Приятель мой спал еще, когда я приехал, но, горя нетерпением его видеть, я разбудил его. Увидев меня, он пугливо спросил: — Что случилось? Что с тобой? Укор на совести, плачевная драма, хотя бестолково переданная, вероятно, все вместе оставило следы на моем лице. — Ничего печального! — отвечал я, садясь возле кровати. — Уж не наделали ли они тебе каких неудовольствий? — с ужасом воскликнул мой приятель. Эта выходка меня взбесила; я сердито отвечал: — Да, по твоей милости я много наделал глупостей. Я оскорбил девушку, которая… — Боже мой! Что с тобой? Верно, успели приколдовать? — суетливо вскакивая с постели, прервал меня Иван Андреич. — Ты просто сделался бабой. Я всю историю узнал от Федосьи. Волосы дыбом становятся за вас. Чем бы защитить, а вы!.. Приятель мой разразился смехом и, снова кинувшись на свою постель, отрывисто произносил: — Вот одолжил… ха, ха, ха! Вот одурачили-то молодца!.. Расчувствовался от сказки, сплетенной девкой, которая на весь околодок слывет самой пропащей головой! Да я запретил своему Прокопке жениться на ней. Его бы просто со свету сжили мои люди. — Послушай, ты выводишь меня из терпения, — прервал я грубо. Приятель озлобился и с презрением возразил: — Даже и об острожной девке Зябликовых непозволительно мне говорить? Да ты бы лучше с самого начала предупредил меня о близких своих отношениях с барышней. — По какому праву ты так бесчестишь несчастную девушку? — едва сдерживая дыхание, перебил я. — Так ты желаешь знать, на чем основаны мои права? — Да. Приятель мой, иронически смотря на меня, произнес выразительно: — Э! да ты сам знаешь лучше меня, но не хочешь сознаться, или самолюбие тебе не позволяет этого сделать. Я вышел из себя и, сам не знаю как, выговорил: — Только подлецы способны так чернить женщину. Я опомнился, но уже было поздно. Иван Андреич побледнел, и я тоже, и мы с полчаса просидели молча, повеся носы, не шевелясь, не глядя друг на друга. Наконец он, вероятно желая прекратить скорее наше глупое положение, спрятал лицо под одеяло и оттуда глухим и нетвердым голосом сказал: — Я не ожидал, чтоб наши дружеские отношения так нарушились. И за кого ты оскорбил преданного тебе человека, бог знает! Я желаю одного, — прибавил он, открыв лицо свое, все еще бледное, — чтоб только не здесь окончилась наша история. Для этой барышни слишком много чести! Странно! Меня вдруг обдало как бы ушатом холодной воды. Вся горячность моя исчезла. Мне показалась смешной и неуместной моя защита угнетенной девушки. И кто разберет их? Может быть, мой приятель точно прав. А если и нет, что же мне-то такое? И с чего я разгорячился, разве в первый раз в жизни приходится мне видеть и слышать несправедливость? Я так сильно погрузился в эти размышления, что мой приятель приосанился и сказал уже с некоторым эффектом: — Что делать! Против определения не пойдешь! Мне просто сделалось совестно, что я обидел его. И я сказал с полной искренностью: — Послушай! Я чувствую всю вину свою и всю глупость своей раздражительности. Ты вправе требовать от меня всякого удовлетворения; но если я буду просить у тебя извинения, то надеюсь, что ты не сочтешь мое искреннее сознание за трусость? Приятель мой молчал, но я заметил, что он был тронут моими словами и тоном моего голоса. Я не замедлил воспользоваться этой минутой и продолжал в том же тоне и как бы рассуждая сам с собою: — Драться! Нам!! Из-за девушки, которую всего я знаю один день… — И об которой не стоит говорить, — подхватил злобно Иван Андреич и с грустью прибавил, взглянув на меня в первый раз после глупой моей фразы: — Больно мне подумать, что такая госпожа могла быть причиной… Я взглянул на моего приятеля и тяжело вздохнул; он сделал то же, и мы, посмотрев с минуту друг на друга с грустью, с нежностью, молча, но очень выразительно обнялись. Через полчаса мы с аппетитом пили утренний чай и я преравнодушно выслушивал от моего приятеля разные возмутительные факты и подозрения насчет Феклуши. Не то чтобы я верил всему, но из предосторожности и спокойствия, переходящих иногда в человеке за пределы здравого смысла, я дал себе слово более не видать Феклуши, — не потому, чтобы я боялся быть пойманным ее родителями, но мне как-то жаль было ее, а жалость в этих случаях иногда бывает опасна. Приятель мой был в восторге от моего решения и вздумал рассказать мне поучительную историю одного близкого своего приятеля, долженствовавшую окончательно убедить меня в лицемерстве Феклуши. Вот его рассказ. Один молодой человек с прекрасными телесными и душевными качествами приезжал в Варшаву для получения денег из казны. Знакомства ровно никакого не было у молодого человека, и он развлекал себя одними прогулками по городу и его садам. По утрам он каждый день расхаживал в знаменитом городском саду, где есть, между прочим, источник минеральной воды, которым многие лечатся. Молодой человек не любил многолюдства, потому избрал себе самую уединенную аллею, где гулял или сидел по целым часам. Один раз он нашел свое место уже занятым, дама в трауре сидела на скамейке и прегорько плакала. При виде мужчины она поспешно опустила вуаль и скрылась. Вероятно, уединенная аллея гармонировала с грустным настроением дамы, потому что на другое же утро она явилась с книгой в руках и так была задумчива, что только тогда заметила молодого человека, сидящего на скамейке, как поравнялась с ним. Неизвестно отчего, но дама испугалась, вздрогнула, на минуту приостановилась и потом уже продолжала свою прогулку. Молодой человек на этот раз хорошо разглядел даму. Она была молода, красива и высока. Тип ее лица резко доказывал польское происхождение. Она уронила носовой платок — молодой человек поспешил поднять его и отдать ей; она поблагодарила его по-русски с польским акцентом. Голубые, ясные и выразительные глаза дамы сделали очень приятное на него впечатление; он с большим удовольствием встречал ее в саду, и они раскланивались как знакомые. Так прошла неделя с тех пор, как молодой человек в первый раз увидел красивую даму в слезах. Однажды, задумчиво идя по своей аллее, он услышал позади себя умоляющий женский голос: — Спасите меня, пан! Молодой человек обернулся, перед ним стояла красивая полька в трауре, бледная и со сложенными на груди руками. В ее голубых глазах столько было мольбы, что молодой человек с участием спросил: чем может быть ей полезен? — Дайте мне вашу руку, пан! — отвечала полька и поспешно схватила под руку ошеломленного человека, с ужасом сказав: — Он идет сюда, ради бога, пан, не погубите меня, сделайте вид, что я ваша дама! В это время высокий, плечистый, белокурый господин прошел мимо них, свирепо оглядывая польку и ее кавалера, который по чувству сострадания к бедной женщине отвечал ему таким же свирепым взглядом. — Ах, пан, вы спасли меня от страшной неприятности, и я буду признательна вам всю жизнь! — с чувством произнесла красивая полька, освобождая руку молодого человека. Но он вызвался довести встревоженную женщину до дома. Она радостно приняла предложение и как бы в знак признательности рассказала ему вкратце свое бедственное положение. Это была вдова, приехавшая в Варшаву, чтобы укрыться от преследований родственника, который завел с нею процесс о наследстве после ее мужа. — Я сирота, была выдана силою замуж за старика, который был добр, но ревнив до безумия. Я много страдала при нем, но после его смерти подверглась еще большим оскорблениям: родственники моего мужа знают, что за меня некому вступиться! Молодой человек очень обрадовался, узнав, что его угнетенная спутница стоит в одной с ним гостинице. Она пригласила его к себе в номер выпить чашку кофе. Их встретила девушка, маленькая, вся в веснушках; несмотря на дурноту, она имела большое сходство с своей госпожой, которая объявила, что это единственная ее прислуга и нянюшка ее малюток, которых тотчас привели в комнату. Красивая полька с нежностью расцеловала детей и, посадив их на колени к гостю, велела его обнять и благодарить за мать, которую он защитил. После этой трогательной сцены мать приказала Юзе, то есть нянюшке, увести детей, и затем панна Розалия, как назвала ее Юзя, сняла шляпку и мантилью и предстала молодому человеку во всем блеске своей красоты. Прощаясь с панной Розалией, он обещал быть ее покровителем. Скоро общество умной и красивой польки сделалось ему необходимо. Она передала ему подробную повесть о жизни своей и страданиях и так была доверчива, что даже давала ему читать письма, которые ей писали родственники покойного мужа; но, к несчастью, молодой человек не только не умел читать, но даже ни слова не понимал по-польски, что, впрочем, ему не мешало сочинять для нее бумаги по процессу, которые она с ним переводила на польский язык. Молодой человек был встревожен в одно утро: он получил анонимное письмо, где его предостерегали насчет панны Розалии; но, вспомнив, что у нее есть враги, он пренебрег низким их мщением, тем более что преследования свирепого господина снова начались; панна Розалия иначе не выезжала из дома, как только по вечерам в карете, в сопровождении молодого человека, который был вооружен карманным пистолетом. Ночные прогулки в тенистых аллеях садов с восторженной панной Розалией очень действовали на молодого человека; только роль покровителя удерживала в границах его страсть. Анонимные письма продолжали его предостерегать. Однажды молодой человек нашел панну Розалию в величайшем расстройстве. При виде его она в слезах бросилась к нему на грудь и на все его вопросы отвечала одними рыданиями. Шум в передней и мужской голос, говоривший с Юзей, заставил прийти в себя панну Розалию; она вскрикнула: — Это опять он пришел меня оскорблять! И она упала без чувств на руки молодому человеку, который бережно положил ее на диван, а сам кинулся загородить дорогу свирепому господину, появившемуся в дверях. — Я родственник панны Розалии и желаю с ней говорить по делу, — с горячностью сказал свирепый господин молодому человеку, не пускавшему его в комнату. — Извольте идти вон, сударь, или я позову лакеев, чтобы вас выгнали отсюда! — закричал вне себя от бешенства молодой человек. — Вы кто? Муж панны Розалии, что ли? — грозно крикнул свирепый господин и поднял палку. Молодой человек отшатнулся, — в эту минуту панна Розалия кинулась между ссорящимися, и удар достался ей. Молодой человек как лев ринулся было на свирепого господина, но панна Розалия обхватила его ноги и, целуя, говорила с рыданием: — Я вас не пущу, пан! Я не хочу, чтоб вы погибли за меня! Свирепый господин убежал; такое самоотвержение и нежность в красивой женщине привели молодого человека к тому, что он готов был идти за панну Розалию в огонь и воду. Он успокоил ее, как мог, и решился ей сказать об анонимных письмах. Панна Розалия страшно побледнела, губы ее задрожали и глаза так страшно заблестели, что молодой человек испугался. Как мог, он успокоил ее уверением, что ничему не поверит, что бы ему ни писали и ни говорили о ней. Уходя, он решился с особенною нежностью поцеловать ручку у панны Розалии, которая сама его проводила до дверей, нежно ему шепнув: — Не оставляйте меня! Не успел молодой человек сделать двух шагов по коридору, как раздался пронзительный крик в номере панны Розалии. Он поспешно вернулся, боясь, не случилось ли чего опять с бедной женщиной. Отворив дверь, он остолбенел. Панна Розалия своей величавой и красивой рукой била по щекам Юзю, которая защищалась и страшно кричала. Заметив свидетеля, панна Розалия зажала рот Юзе, толкнула ее в комнату и заперла дверь на ключ. Сделав все это, она кинулась к молодому человеку и, рыдая, стала рассказывать, что Юзя была в заговоре с ее родственником и что она автор анонимных писем. Молодой человек — находясь под влиянием некоторой робости и почтения к атлетической силе панны Розалии — молчал. Тогда панна Розалия воскликнула: — Боже мой, пан! Я беззащитная, слабая женщина, они меня погубят в ваших глазах! Нет, лучше смерть! И панна Розалия схватила столовый нож, лежавший на тарелке; молодой человек, к счастью, успел выхватить его и принять в объятия панну Розалию, с которой сделался истерический припадок, виденный в первый раз молодым человеком. С этого дня панна Розалия слегла в постель, явился доктор и какая-то пожилая полька. Юзя исчезла. В бреду больная более ни о чем не говорила, как о своем покровителе, которого называла самыми нежными именами. Пиявки, лед и лекарство привели панну Розалию в память; она сейчас же потребовала к себе молодого человека, который не выходил из ее номера, хотя не был допускаем доктором к больной. Молодой человек оправдывал поступок панны Розалии с Юзей энергической натурой полек, и как страсть была сильна в нем, то он очень снисходительно забыл все. Выздоровление совершилось быстро, благодаря попечению искусного врача и необыкновенной натуре больной. Молодой человек не переставал получать анонимные письма и не мог удержаться, чтоб не читать их; тем более что они заранее уведомляли его, о чем панна Розалия будет говорить с ним и что сделает. Одно письмо его испугало. Вот его содержание: «Последний раз я пишу к вам, потому что завтра ваша участь будет решена. Чтоб удостоверить вас в справедливости моих предостережений, я вам скажу заранее все, что вам будет говорить панна Розалия. Вы ее найдете спящею на диване, который стоит у дверей в соседний номер. Не садитесь на диван и избегайте ласк панны Розалии. Все готово, чтоб вас погубить. Если вы заметите шорох за занавеской, то не бегите в переднюю, там будут стоять свидетели, а прямо бросьтесь в спальню, там есть дверь в коридор». Молодой человек решился тотчас же показать письмо панне Розалии, чтоб с общего совета наказать скверную Юзю. Когда он вошел в номер к панне Розалии, то невольно приостановился: она спала на диване у дверей. В комнате горела одна свеча и та была с абажуром. Молодой человек решился уйти, но панна Розалия проснулась и остановила его нежным голосом: — Пан, это вы? А я заснула и видела очаровательный сон. Сядьте здесь! — прибавила она, указывая на диван. Молодого человека стала бить лихорадка; он не решался сесть на диван; но панна Розалия, оттолкнув кресла, усадила его возле себя и, глядя на него с нежностью, спросила: — Что это, пан, какие у вас холодные руки? При этом она прижала руку молодого человека к своему сердцу. Молодой человек вскочил; ему послышался шорох за занавеской. Он неожиданно рванул ее — и увидел, что дверь раскрыта. Панна Розалия вскрикнула, но молодой человек был уже в спальне и потом в коридоре, по которому бежал как сумасшедший. Прибежав в свой номер, он почти без чувств упал на диван и не скоро опомнился. Анонимные письма не лгали; Юзя на другой день объяснила ему все. Эта Юзя была родная сестра панны Розалии, которая обращалась с ней грубо и дерзко. Юзя из мщения, а вернее, из зависти испортила план своей сестры и спасла молодого человека. Сильная досада овладела им, когда он узнал, что мнимый преследователь мнимой вдовы был с ней заодно и что дети были взяты напрокат. Панна Розалия была фигурантка польского театра, исключенная за рассеянность в туалете. Свирепый господин потерпел тоже неудачу и тоже по рассеянности: он передернул карту, его побили и лишили средств продолжать карьеру. Взаимное несчастье соединило их. Узнав о приезде молодого человека с деньгами, они приняли похвальное намерение обобрать его: панна Розалия должна была разыграть несчастную жертву страсти, а свирепый господин злобного ее родственника. Предполагалось, что этот родственник, будто бы из желания погубить панну Розалию, явится к ней в критическую минуту со свидетелями и потребует от молодого человека денег, чтоб не опозорить несчастную. План был хорош, но конец не удался, хотя молодой человек все-таки недосчитался не одной тысячи злотых, — он и сам не замечал, как платил по счетам панны Розалии магазинщикам, как давал ей деньги на процесс, не говоря уже о мелких тратах. Эта история, с большим жаром рассказанная моим приятелем, вовсе не произвела на меня желаемого действия. Я догадался, что герой забавного похождения был сам рассказчик: так вот вследствие какого разочарования видит он во всех женщинах грязные расчеты и обман… Я устыдился, что хоть на минуту поддался глупым его подозрениям насчет Феклуши, и ломал голову, как бы мне половчее и не упоминая прошедшего высказать ей свое раскаяние, разумеется взвалив всю вину на приятеля. На другое утро рано я отправился к реке, где ловила рыбу Феклуша, и не ошибся — я нашел ее на том же месте. Долго я любовался грустно-задумчивой позой ее. Мне даже казалось, что она не обращала внимания на поплавок, глаза ее следили за быстрым течением воды. Солнце и комары не беспокоили ее. Она была вся закутана в белом и очень походила на красивую и печальную статую на какой-нибудь гробнице. Я вышел из своей засады и стал ломать сухие сучья, будто не замечая никого, но между тем я глядел в воду, где ясно отражалась вся фигура девушки. Феклуша вздрогнула, завидев меня; хотела встать, но потом, вздохнув тяжело, перекинула свою удочку так тихо, что это движение можно было принять за плеск рыбы на поверхности воды. Долго мы притворялись, что не замечаем друг друга; наконец мне это надоело. Я раскланялся с Феклушей, она отвечала мне не ласковым, но и не сердитым поклоном. — Вы давно здесь? — спросил я. — Давно. — А я вас сейчас только заметил. — А я вас давно видела. Я покраснел. К чему лгать даже там, где вовсе нет нужды? Разговор наш прекратился, и к возобновлению его я не придумал ничего лучшего, как спросить: — Григорий Никифорыч и Авдотья Макаровна здоровы? — Здоровы. — Встали? — Давно. Снова настало молчание. Я бросил попытку поддерживать разговор, уселся на берегу и стал смотреть, как Феклуша ловит рыбу, которая — от моего глазу, что ли, — часто срывалась. — Не мешаю ли я вам? — спросил я. Феклуша покачала головой, осмотрела внимательно червя и закинула так ловко удочку, что чуть не коснулась другого берега реки, где я сидел. — Значит, вы не верите в дурной глаз? — спросил я. — Нет. — А есть дураки, которые всему верят, например, ваш сосед; да он скоро будет бояться, чтоб его не обратили в волка недобрые люди. Феклуша молчала и внимательно слушала меня; ободренный этим, я продолжал: — И такие люди, право, очень опасны, они могут сбить с толку человека и заставить его наделать тысячу глупостей, которые тот готов бог знает чем выкупить. Красноречие мое иссякло, тем более что слушательница моя ровно ничего не возражала; она по-прежнему смотрела и слушала с грустью. Я замолчал, недовольный собой. Посидел, повертел прутиком, сломанным с ближайшего куста, наконец встал, простился с Феклушей и пошел домой. Я еще никогда в жизни не находился в таком неловком положении перед женщиной, как в эту минуту. Заметь я малейший расчет со стороны Феклуши — мстить мне своей холодностью или тешиться моим раскаянием, — дело другое. Нет! Она так просто и глубоко была оскорблена мною, что ей и в голову не приходило извлекать из своего положения какие-нибудь выгоды или рисоваться. Однако мне от этого не было легче; я желал уловить что-нибудь невыгодное для Феклуши и тем облегчить свою совесть. Приятель мой не подозревал цели моей прогулки и, видя, что я скучен, вздумал меня развлечь. Он предложил мне ехать с ним к Щеткиным, единственным соседям, где были взрослые дочери и куда ездил мой приятель. — Я тебе скажу одно об этом семействе, что их простота и радушие не чета Зябликовым. Дочерей своих держат строго, не стараются сбыть с рук да так воспитывают, что им и в голову не приходит смотреть на каждого заезжего как на жениха. Такой панегирик Щеткиным меня заинтересовал. Я согласился ехать. Приезд наш, по-видимому, не имел никакого влияния на домашнее течение дел, но зато подземные, глухие раскаты слегка заколебали весь дом, наружностью своей очень похожий на петербургские дома среднего сословия, имеющие претензию на роскошь и моду. Роскошь состояла в том, что повсюду на спинках стульев и диванов из драдедаму{90} гостинодворской работы были развешаны дырявые лоскутки, называвшиеся антимакассарами{91}. А мода в расстановке мебели — в таком беспорядке и тесноте, что вы рисковали десять раз ушибиться и отдавить другим ноги, прежде чем усесться. При этом диваны и стулья так были низки, что входившему в первую минуту казалось, будто все общество сидит на полу. Разговаривать тоже было трудно, потому что модная расстановка мебели имела еще то удобство, что все общество сидело спиной друг к другу. Господин Щеткин радостно принял нас. Позвольте мне слегка описать наружность его. Это было маленькое, сморщенное, седое существо, с лицом красным, как мак. Подбородок, выдавшийся вперед, составлял единственную характеристическую черту его сморщенного маленького лица. Впрочем, его крошечные глазки неизвестного цвета очень плутовато и быстро бегали. Разговор его был приятный и деловой. Он часто повторял фразу: — Слава богу, пожил в свете, всего видел. Он был вдовец и отец трех не только взрослых, но уже зрелых дочерей, хотя меньшую водили как ребенка и стригли ей волосы, подвивая их в пукольки. Воспитание трех своих дочерей г-н Щеткин поручил гувернантке, которая, по собственным его словам, заменяла его дочерям мать. Гувернантка, вероятно чувствуя собственное свое достоинство, держала себя в доме как глава семейства; она даже, как говорили люди, управляла не только всем домом, но и самим Щеткиным и его деревней. Наружность гувернантки в самом деле была очень величава для простой роли. Росту она была страшно высокого. Толщины такой необъятной, что когда являлась в комнату, окруженная своими невысокими питомицами, то они казались перед нею точно детьми. Анна Егоровна (так она называлась) приняла нас очень приветливо в столовой за завтраком и дала приказание лакею, одетому в серый суконный фрак с гербовыми пуговицами, «позвать из класса барышень». Явились три грации: Жюли, Лиз и Мари. Все три маленькие ростом, наружности пошловатой; черты лица неправильные. Наивно натянутое выражение лица и детски резвые движения делали их похожими на марионеток, взятых из театра. По их гладким и жирно намазанным волосам, из которых выделаны были разные замысловатые штуки, по их кисейным разглаженным платьям трудно было себе вообразить, чтоб они сидели за классами. Я забыл еще сказать о их цвете лица. Они все были белы, и румянец не играл, а лежал как-то мертвенно на их щеках. Французский диалект был так усвоен ими, что они в забывчивости иногда обращались с ним к лакею. Застенчивости и тени не было в этих трех барышнях. Они, напротив, старались показать передо мной, как петербургским приезжим, свое искусство в любезности и светской болтовне. После завтрака Анна Егоровна извинилась перед нами и пошла давать в гостиную уроки своим миниатюрным воспитанницам. Кто из них пел, кто играл. И это продолжалось два часа. Хозяин дома, как бы не замечая домашнего концерта, оставался за столом, куря и занимая нас разговорами про свою службу в Петербурге, свое значение у одного из важных лиц и проч. Он говорил также о своей честности, о своей дальновидности, и я заметил, что эта старая, сморщенная фигурка преловко льстила на каждом шагу моему приятелю. После уроков барышни надели шляпки с зелеными вуалями и перчатки с отрезанными пальцами и под предводительством Анны Егоровны, которой приличнее было бы дать палку тамбурмажора{92}, чем иголку, все уселись на террасу, уставленную тощими цветами и деревцами, и принялись вышивать. Господин Щеткин пригласил нас принять участие в домашнем разговоре, который вертелся бог знает на чем. Но надо отдать справедливость, что барышни очень искусно поддерживали его и ни на минуту не давали ему прекратиться. Анна Егоровна ухаживала страшно за моим приятелем. Она за обедом так его угощала, что даже противно было видеть. Но мой приятель, казалось, был доволен всем этим. После обеда он без церемонии пошел спать, хозяин тоже. Анна Егоровна осталась со мной и барышнями, которым для моциона приказано было поиграть в серсо{93}. Я принял участие в их игре. Анна Егоровна сидела на террасе в больших креслах и дремала, а может быть, только делала вид, что дремлет. Барышни так были затянуты в корсеты, что очень скоро пришли в изнеможение и предложили мне обойти их сад. Только что мы скрылись за кустами от террасы, как лица барышень изменились; выражение их из веселого и наивного превратилось в зрело кокетливое. Старшая потребовала, чтоб я подал ей руку, и жалась ко мне очень близко то от пчелы, то от паука. Остальные сестры шли рядом, давали мне нюхать цветки, которые так подносили к моему носу, что я касался губами их пальцев. Свою даму я не забывал и слегка пожимал ей ручку. Скоро начал я замечать некоторый раздор между сестрами. Две сестры скрылись, и мы остались одни. Разговор вдруг прекратился, и моя дама, томно потупив глаза, стала вздыхать. Я спросил ее, не скучает ли она деревенскою жизнью. — Ах, очень! Вообразите, соседей нет решительно. Мы просто дичаем здесь каждое лето. — А вы знакомы с Зябликовыми? — спросил я через несколько минут молчанья, которое становилось неловким. При этом вопросе моя дама вздрогнула и пугливо спросила меня, в свою очередь: — А вы видели ее? — Кого? — Их дочь. — Как же, даже имел счастие провести с ней целый день. Рука моей дамы слегка высвободилась из моей: она со вздохом сказала: — Мы ее не видали, папа´ нам не велит даже упоминать о ней. — Почему? — спросил я с притворным удивлением. — Не знаю! — с наивностью, не менее притворною, отвечала барышня. И вдруг спросила меня кокетливо, играя своим зонтиком: — А вы будете часто к нам ездить? — Это будет зависеть от расположения вашего папа. Если он… — О, он очень, очень будет рад. Мы будем делать парти де плезир{94}. Одним дамам, не правда ли, очень скучно? — А разве Иван Андреич редко у вас бывает? — Да он все сидит с папа да о делах толкуют. — Какой он странный, не правда ли? Я сделал этот вопрос очень выразительно и слегка прижал ручку барышни, которая покраснела и томно потупила глаза. — Жюли! Жюли! — раздались пискливые голоса барышень с разных концов. Жюли, или моя дама, сделала недовольную мину. — Жюли! Жюли! — еще пронзительней запищали ее сестрицы, и меньшая, выскочив из-за куста, сказала по-французски: — Тебя зовет Анна Егоровна. Жюли сделала гримасу своей сестре и, оставив мою руку, с необыкновенною любезностью сказала мне: — Подождите здесь, я сейчас приду! — И она побежала с сестрой. Не успел я сделать двух шагов, как словно из земли выросла средняя сестра, крича: — Жюли! И потом, как бы удивясь, воскликнула: — Вы одни? Где же сестра? — Она ушла. — Вы соскучитесь здесь! Мы так отвыкаем от общества в деревне, что когда зимой приезжаем в Петербург, то наши кузены называют нас дикарками. Вы выезжаете на балы? Любите танцы? Я ужасно люблю вальс. — И я нахожу, что это самый приятный танец, — отвечал я. — Кажется, идет Жюли! Ах, давайте прятаться от нее! — схватив меня за руку и с силой таща за собой, сказала барышня. Я последовал за ней, и мы прятались довольно долго от поисков Жюли, которая с досадою крикнула сестре: — Анна Егоровна тебя зовет! Мы вышли из засады и были встречены Жюли очень сердито. Все трое мы отправились к террасе, на которой нашли Щеткина, моего приятеля и Анну Егоровну в дружеской беседе. Анна Егоровна строго спросила сестер, разумеется, все на французском диалекте: — Где Мари? Я ее послала за вами. Но в эту минуту принесли ягоды и фрукты, и все занялись ими. Между разговором я упомянул о Феклуше. Как лица у всех вытянулись! Сморщенная фигурка хозяина дома, злобно усмехаясь, подмигнула моему приятелю на меня и сказала: — Уже успели! Точно вороны ждут своей добычи, никого не пропустят, чтоб… Приятель мой сделал недовольную гримасу, а Анна Егоровна заметила отцу семейства, что не следует в порядочном обществе, том более где есть девицы, упоминать о такой девушке. Приятель мой посмотрел на меня так, как бы желая сказать: «Видишь, не я один отзываюсь дурно о Зябликовых». Желая удостовериться в своем подозрении, я начал подделываться под общее мнение о Зябликовых и сказал две-три плоские остроты на их счет, что доставило большое удовольствие как моему приятелю, так и всему обществу. Наивные барышни премило кусали губки, чтоб скрыть свои улыбки, на этот раз вовсе непринужденные. Феклуше все вменялось в преступление. Ее одинокие прогулки в лесах, рыбная ловля. Они, то есть г-н Щеткин и Анна Егоровна, знали все, что делается в деревне Зябликовых, и доброту степныхпомещиков толковали в дурную сторону. Игра Феклуши на гитаре приводила в ужас наставницу. Спорили о ее годах, прибавили ей чуть ли не пять лет. Одним словом, все общество в продолжение двух часов только и говорило, что о Зябликовых, даже барышни принимали участие в разговоре. — Я бы умерла от страха, если б очутилась одна в лесу, — сказала Жюли. — И я бы! — подхватила меньшая. — У ней руки и лицо, говорят, как у крестьянки. Она никогда не носит ни перчаток, ни шляпки. — Mesdemoiselles, mesdemoiselles! — воскликнула строго, как бы опомнясь, Анна Егоровна своим воспитанницам. «Так вот где нашел мой приятель простоту и радушие!» — подумал я, и мне захотелось отомстить ему. Когда стало темно, я успел по очереди каждой сестрице пожать ручку и дать ей заметить, что я всякий день хожу на охоту около их деревни рано поутру. На возвратном пути приятель мой, очень ловко подметивший впечатление, сделанное на меня семейством Щеткиных, лукаво спросил: — Ну что, похожи они на твоих хитрых простаков? Небось сам смеялся своей глупости сегодня. Я тебя уверяю, что если ты чаще будешь бывать у них, то я не поручусь за твое нежное сердце. Я от души захохотал, и друг мой, не поняв моего смеха, вторил мне очень искренно. На другое утро я отправился с ружьем бродить в лесу около деревни Щеткиных и вовсе не был удивлен, встретив Анну Егоровну с воспитанницами; они ужасно испугались меня. — Здесь такая глушь, что один вид мужчины наводит ужас, если он внезапно явится, как вы! — сказала Анна Егоровна. Барышни все одеты были в утреннем наряде и так показались мне противны, что я недолго оставался с ними и поспешил к речке, где надеялся найти Феклушу. Боже мой, как она похорошела для меня после дня, проведенного с благовоспитанными барышнями! Как умен и прост ее взгляд, сколько в ней наивности, самой искренней! Как оригинальны ее вопросы и ответы! Я подъехал к речке, привязал лошадь к дереву и поспешил к знакомому месту. Мне показалось странным, почему сердце мое сильнее забилось и краска бросилась в лицо, когда я нашел пустым место, где сидела Феклуша последний раз. Мне так захотелось посмотреть на ее личико, редкое по своему простому выражению, что я побрел по берегу речки к дому в надежде встретить ее. Малейший шорох на другом берегу заставлял меня радоваться, но напрасно. Я почти подошел к оврагу, которым Феклуша имела обыкновение ходить домой; но ее тут не было. Я рассердился на самого себя и быстро вернулся домой, вновь удивляясь своему капризу. На памятном месте первого знакомства увидел я рябую Федосью за тем же занятием, то есть за полосканьем белья. Я ужасно обрадовался и на этот раз не испугал ее своим неожиданным появлением, а предварительно кашлянул. Федосья подняла свое сердитое лицо от работы и поклонилась мне низко, когда я приподнял фуражку свою и сказал: — Здорова? — Нешто! — Господа здоровы? — Бог милует! — отвечала отрывисто рябая девка и занялась своей работой. Помолчав, я спросил, стараясь как можно более придать равнодушия своему голосу: — А барышня отчего не ловит рыбу сегодня? — Мне, что ль, она сказывает, когда не ловит! — Да она здорова? — Нешто! Федосья была самая несносная из горничных, каких я знавал. Обыкновенно они на один вопрос отвечают всегда в десять раз более, а эта так была скупа на слова, что от нее ровно ничего не добьешься. — Скажи-ка мне, Федосья, не сердится ли твоя барышня на меня? Рябая девка, вывертывая чулок, дико посмотрела на меня и очень бесцеремонно произнесла: — Знать, замарал хвост? Я-то почем знаю! — Я приехал бы к вам, да боюсь… — Сам не знаю, как я взял ее в поверенные к себе. — Что бояться! Небось не съедят! — шумя в воде чулками, отвечала Федосья. В эту минуту я вздрогнул, Феклуша явилась из-за куста, неся на плече удочку и все остальные снаряды в плетеной корзинке. Печально-насмешливая улыбка на ее губах ясно доказывала, что она слышала мой разговор с Федосьей. Я так потерялся, что не поклонился Феклуше, она первая мне поклонилась. Федосья, указывая презрительно на меня головой, сказала своей барышне: — Спрашивал меня… Я чуть не кинулся на Федосью, чтоб зажать рот глупой болтунье, но Феклуша предупредила меня, вероятно поняв мое жалкое положение, и обратилась ко мне с вопросом: здоров ли я? — Почему вы так поздно сегодня пришли ловить рыбу? — спросил я. Феклуша пошла далее. — Позвольте мне сегодня ловить рыбу с вами? — спросил я. — Я взяла одну удочку, — как бы смешавшись, сказала Феклуша, остановилась и посмотрела на меня. Моя фигура выражала такую кротость и мольбу, что, верно, тронула девушку. Я робко заметил, что могу сделать удочку из хорошего сучка, если только у нее есть лишняя леса. — Есть, нельзя без запасной лесы идти ловить рыбу. И она указала мне дорогу, как ближе можно перебраться на другой берег. Когда я прибыл к Феклуше, то она уже сидела с удочкою в руках и для меня готова была другая. Я сел возле, и из страха напомнить ей о моей дерзости с ней при первом моем знакомстве я так вел себя осторожно, что даже ничего не говорил. Феклушу это заметно ободрило: она учила меня, как ловить рыбу. — Вы не видали никогда Щеткиных барышень? — спросил я. — Очень часто в церкви. Даже они раз были у нас за семенами наших дынь, — отвечала Феклуша. — Скажите, пожалуйста, почему вы не продолжаете знакомства с ними? Сказав это, я раскаялся: лицо Феклуши вспыхнуло; я испугался, что опять оскорбил ее, и поспешил сказать: — Впрочем, вы хорошо и делаете. Вы знаете, они из числа ваших врагов. — Право, не знаю, за что они все нас не любят, — отвечала довольно равнодушно Феклуша. — Я думаю, вас очень возмущает, что все ваши соседи такие глупые и злые на язык. — Мне все равно, вот только папеньку и маменьку огорчают; особенно когда придешь в церковь: все сторонятся, возле кого ни станешь. Мне показалось, что глаза девушки увлажились слезами, но я не заметил и тени озлобления в ее лице и голосе. Каждое слово ее, движение, взгляд я невольно сравнивал с воспитанными в строгости девицами Щеткиными; сравнивал нашу настоящую беседу за три версты от дома, с глазу на глаз в лесу и прогулку мою вчера в саду в двадцати шагах от террасы, где сидела страшная блюстительница нравственности; сравнивал и живой румянец на щеках Феклуши с краской на лоснящихся лицах наивных барышень… Их руки, хотя белые и с выточенными ногтями, никуда не годились в сравнении с загорелыми ручками степной девушки. Гибкость талии Феклуши, пушистость волос ее — все в ней дышало неподдельностью и роскошной простотой. Сколько нежности, веселости и часто грусти в ее взгляде; улыбка на ее губах, не смазанных розовой помадой, так была увлекательна. Я просидел очень долго с удочкой в руках, и если бы Феклуша не собралась домой, я готов был бы хоть целый день смотреть на нее и слушать ее голосок. Провожая ее, я даже не осмелился предложить ей свою руку и удовольствовался тем, что нес снаряды рыбной ее ловли. У сада я простился с ней, искренно благодаря ее за снисхождение ко мне. Она просила меня завтракать, но я чувствовал сильное волнение и отправился домой. Дома я нашел гостя — г-на Щеткина, который объявил мне, что приехал собственно ко мне с визитом, насказал мне кучу комплиментов и просил меня быть домашним человеком в его семействе. — Мои дочери еще дети и не могут вас занять, как петербургские дамы, но если вы будете невзыскательны к ним, то я надеюсь, что будете нас посещать. Ваш товарищ, — и Щеткин указал своими плутовскими глазками на моего приятеля, — вот он понял наше семейство. Мы ищем в деревне отдыха. С придворными нужна политика, а здесь я хочу простоты, радушия, хочу дышать чистым воздухом да пожимать благородные руки таких редких молодых людей. И он пожал руку моего приятеля, потом мою. Когда уехал гость, настоятельно прося нас приехать после обеда к нему, приятель мой очень лукаво начал поглядывать на меня, потирал руки, кряхтя выразительно, даже пощипал на гитаре, мурлыча какие-то слова, наконец не выдержал и спросил меня: — Что, ты завтра намерен также идти рано поутру на охоту? — Да! — отвечал я очень серьезно, и приятель мой предался необыкновенной веселости, так что его смех надоел мне; я спросил его, что находит он смешного в моих прогулках. Приятель мой, смеясь, сказал мне: — Ну, которая! Неужто во всех трех? Ах ты Сердечкин! Ну, где тебе подметить что-нибудь! Эти слова были произнесены с сожалением. Я был очень доволен на этот раз проницательностью моего приятеля и, не стараясь его выводить из заблуждения, сказал сердито: — Какие у тебя шпионы! Все тотчас тебе пересказывают. — Ишь хитрец, подслушал, что едут гулять, и махнул с ружьем, будто нечаянно! Ха, ха, ха! — продолжал Иван Андреич. Мне было хотелось разочаровать его в дальновидности и объяснить, что не я, а его наивные барышни приезжали в лес для свиданий со мной; но я удержался: мне хотелось покороче узнать пугливых барышень, которые готовы были умереть от страху, очутясь одни в лесу. Мы приехали в этот вечер очень поздно к Щеткиным. Иван Андреич по своей врожденной проницательности открыл во мне страшное нетерпение ехать в гости, откладывал как можно далее поездку и тешился моими страданиями. Самовар давно был на столе, когда мы приехали к Щеткиным. Жюли разливала чай, все семейство сидело вокруг стола. Я поместился между двумя сестрами и так был неловок в этот день, что мои ноги часто встречались с ножками барышень. Когда мы пошли сделать несколько туров в саду по случаю теплой лунной ночи, то Мари успела мне тихо сказать: — Какой вы злой! Почему так поздно приехали? Жюли, в свою очередь, упрекнула меня и ловко дала заметить, что она завтра рано встанет и будет в поле собирать васильки. Одна Лиз была молчалива; но когда я ей подал нечаянно уроненную ею перчатку, то она очень выразительно пожала мне руку. Анна Егоровна, как я заметил, еще не совсем отказалась от надежды на перемену своей судьбы. Она, кажется, была заинтересована моим приятелем. Но надо отдать ей справедливость, что в то же время она содействовала очень усердно завербованию женихов своим воспитанницам. Она рассказывала нам со слезами о кротости, послушании их, о их дружбе между собой и прочее. — Ах, как они дружны! Это поразительно! — восклицала она. — Очень часто Мари приходит ко мне, целует меня и говорит: «Как я счастлива, что у меня такие сестры!» Они меня так любят, что я не знаю, как благодарить судьбу, и, вообразите, они все поклялись не разлучаться и умереть с папа. Не правда ли, какие они еще дети? Я даже боюсь, хорошо ли я делаю, что оставляю их в этих понятиях. Как вдруг резок будет переход к действительности! Впрочем, пусть они блаженствуют, зачем пугать их юное воображение! Слушая Анну Егоровну, я думал, что подобных барышень можно напугать только одним, именно предсказанием, что они не перейдут к действительности, то есть не выйдут замуж… Каждое утро я виделся с Феклушей и скрывал это от моего приятеля. По вечерам же мы ездили с ним к Щеткиным. Я, впрочем, скоро сделался причиной раздора между сестрами. Каждая поверяла мне тайны сердца другой сестры, так что я узнал все секреты трех барышень. Особенно поражала меня Мари своей хитростью и смелостью; старшие сестры из ревности мешали друг другу говорить со мной, видеться в беседке по вечерам. Мари всему была причиной: она ловко разжигала самолюбие их, и пока те ссорились, Мари смеялась и острила на их счет, гуляя со мной по тенистым аллеям сада. Успехи мои так быстро шли вперед, что я почувствовал некоторое отвращение ко всему семейству Щеткиных и в одно прекрасное утро рассказал моему приятелю кокетство со мной барышень, плутовство отца и мнимую строгость Анны Егоровны. Вследствие этого между нами чуть не повторилась ссора, бывшая за Феклушу; но на этот раз мы ограничились деликатными колкостями, сдержали свой грубый гнев и с этой минуты разделились на две партии. Я за Зябликовых стоял горой, а мой приятель превозносил семейство Щеткиных. Я открывал ему глаза насчет лицемерства смелых девиц, а он возмущался моей слепотой и страшился за мою будущность. Между тем семейство Щеткиных, разгневанное моим предпочтением семейству Зябликовых, к которым я начал ездить всякий день, а у них перестал бывать даже с визитами, — это семейство занялось распусканием самых несбыточных сплетен насчет меня и Феклуши, а я с каждым днем все более и более открывал в Феклуше богатства самородного ума и поэзии. Я был влюблен, и притом так сильно, что приходил в отчаяние, не замечая в степной дикарке взаимности. Кончилось тем, что Щеткины распустили такую историю о наших прогулках в лесу, что мне более ничего не оставалось, как жениться на Феклуше. Несколько дней я ходил мрачный, нося в себе великодушную решимость на геройский подвиг, который, в сущности, был очень естествен; я смотрел сам на себя как на человека, приносящего жертву. Я уже составил план, что, женясь на Феклуше, немедленно увезу ее за границу для придания ей того лоска, отсутствие которого в ней так пленяло меня. После моего решения мне даже стали казаться неприличными ее страсть к рыбной ловле, ее пренебрежение к своей красоте. «Надо, чтоб она хоть надевала шляпку и перчатки, ловя рыбу», — пресерьезно думал я, утомленный более важными мыслями. «Ну, а если она не оставит свою гитару?» — задавал я себе неожиданно вопрос и краснел, воображая Феклушу, свою жену, играющую в нашем салоне на гитаре. Какая мука быть нерешительным! Я десять раз начинал свое объяснение с Феклушей и все откладывал, но не потому, чтобы я боялся отказа, — подобная мысль и не приходила мне в голову. Она, бедная девушка, всеми презираемая, без денег, без светского образования, не могла отказать человеку, который носил фамилию довольно старинную, был не без состояния, молод и не безобразен собой. Если я до сих пор видел равнодушие со стороны Феклуши ко мне, так это очень было понятно. Запуганная девушка, может быть, не позволяла себе увлекаться. Но когда она услышит о возможности взаимности, то, верно, радость, чувство благодарности пробудят в ней любовь… Одним словом, я воображал себя рыцарем угнетенной красоты и невинности. Я дал заметить Ивану Андреичу о моем намерении, чтоб несколько насладиться своим благородным поступком. Его ужас за мою будущность, мольбы одуматься и т. п. удостоверили меня еще более в героизме моего замысла, и я избрал наконец день объяснения. Феклуша была на реке за своим занятием. Я подсел к ней. Мое встревоженное лицо, нетвердый голос — я был уверен — обратят на меня особенное внимание девушки и дадут мне повод начать поэффектнее мое предложение; но рыба ловилась как назло очень удачно, и я должен был не только начать разговор, но даже напомнить о своем присутствии. — Фекла Григорьевна! — сказал я довольно трагически и тем обратил на себя внимание девушки; она посмотрела на меня вопросительно, я продолжал в том же тоне: — Скажите мне откровенно, будете ли вы искренно отвечать мне на все мои вопросы? — Я разве когда говорила неправду? — с удивлением спросила она. — В сию минуту откровенность ваша необходима, вопросы мои слишком близки моему сердцу. И я наслаждался заранее, какое должны впечатление произвести мои слова на слушательницу, не подозревавшую о предстоявшем ей счастии. — До вас, вероятно, доходят сплетни насчет наших прогулок? — продолжал я. Феклуша вся вспыхнула, судорожно сжала свои губы и сдерживала ускоренное дыхание. — Вас это не возмущает? — спросил я ее, желая пользоваться всеми выгодами своего положения. — Чем же я могу пособить! — с грустью спросила Феклуша и, верно не желая продолжать разговора, оскорбительного для ее самолюбия, осмотрела червя на крючке и хотела закинуть в воду — но я не допустил ее до этого и, возвыся голос, сказал гордо: — Неужели вы думаете, что я спокойно могу это слышать? Феклуша, закидывая удочку, отвечала: — Что же делать! Я знаю, вы не верите ничему! Пусть их говорят, что хотят! Но мне только досадно и больно, когда моя мать плачет об этом. На днях приезжала нарочно к нам попадья всякие глупости пересказать про нас, слышанные у соседей, — и так огорчила отца и мать, что я… Феклуша не окончила речи и отвернула личико от меня. Я был доволен. Она должна была сильнее почувствовать мой благородный поступок. — Я давно имел намерение заставить молчать дураков ваших соседей, но боялся, — (я лгал даже в самую важную для меня минуту жизни: как глубоко сидит в нас привычка лгать!) — чтоб вы не сочли мое предложение вынужденным… Я… я хочу жениться на вас! Произнеся эту страшную для всякого мужчины фразу, я так оробел, что мне даже пришли на память снова многие подозрения моего приятеля насчет Феклуши. Меня удивило молчание Феклуши и еще более спокойствие, с каким глаза ее были устремлены на поплавок, колыхавшийся на воде. — Что же вы молчите? — спросил я обиженным голосом. — Что же мне отвечать на шутку? — Как шутка! — воскликнул я с жаром и, забыв свою заученную роль, старался показать искренность моих чувств и слов. Феклуша наконец прервала меня и очень серьезно сказала: — Если все это не шутка и вы твердо решились жениться, то я вам скажу прямо: замуж я не пойду! — Значит, вы любите кого-нибудь другого. Неужели Иван… Феклуша не позволила мне выговорить все имя моего приятеля и сделала знак рукой, чтоб я замолчал. В ее взгляде я заметил сильное презрение, но оно скоро исчезло, и она твердым голосом произнесла: — Я ни за кого не пойду замуж, никогда, никогда! Последние слова резко раздались по реке. Я вздрогнул и спросил о причине такого решения. Феклуша с грустью отвечала: — Я была еще ребенком, как моя сестра страдала и умерла. Я тогда же дала слово никогда не быть ничьей невестой. — Но это ребячество! — воскликнул я. — Может быть, но до сих пор я не изменяла себе. — Неужели вам никто не нравится из мужчин? Вы не дитя, — горячась, заметил я. — Я так мало вижу их, а тех мужчин, которых я знала… Феклуша остановилась и продолжала весело: — Оставим этот разговор, я не люблю вспоминать старого! — Нет, я хочу знать одно. Вы равно всех презираете? Я едва мог верить своим ушам, что получил отказ. Феклуша необыкновенно мягко и нежно произнесла: — Я никого не люблю! Я убежал от Феклуши; слезы приступили к моим глазам. Не знаю, отчего я плакал: от угрызения ли совести, что и я был участником тех жестоких оскорблений девушке, которые, может быть, навсегда лишили ее всей поэзии жизни, или от более естественной причины — от глубоко уязвленного самолюбия? Я долго не мог опомниться. Мне казалось невозможным такое равнодушие девушки к моим жертвам. Я страдал, готовился так долго, думал найти искреннюю благодарность и безумную радость… И что же? Презрение мне было наградой за все. Мне казалось невероятным, чтобы слова Феклуши были искренни. Я думал, что ее гордость жаждала мести, насытилась и теперь, через несколько дней, Феклуша сама даст мне заметить, что оценила и взвесила всю важность и благородство моего поступка… Когда я вернулся домой, мой приятель встретил меня с такой печальной миной, что, я уверен, не более печально встретил бы он мой холодный труп. В его голосе и движениях замечалась грустная покорность судьбе, против которой человек сознает все свое ничтожество. Я был так раздражен, что на его плаксивое поздравление отвечал бранью. Он ни слова не произнес, а только тяжело вздохнул. Но когда он узнал, в чем дело, то кинулся радостно обнимать меня и к нему возвратилась тотчас способность говорить чушь. Я снова обругал его на чем свет стоит и назло ему, Щеткиным и всем соседям дал себе слово возобновить свое предложение, и возобновить — гласно! Для этого я избрал посредником одного помещика, страшного сплетника, который поражен был моим намерением и все твердил: — Вот счастье-то людям! Да они одуреют от радости! И, забыв, что очень часто доставлял моему приятелю сплетни об Феклуше, он принялся выхвалять ее мне на чем свет стоит. Меня самого поразило спокойствие, с каким выслушали старички Зябликовы мое предложение. Или они знали решение своей дочери? Но этому противоречило их удивление, когда была призвана она и они услышали отказ ее. Итак, я вторично выслушал отказ. — Что делать, батюшка, не судьба нам с вами породниться! Благодарим за честь! — сказал Зябликов, пожимая мне руку. Старушка, казалось, так была удивлена отказом своей дочери, что не нашлась мне ничего сказать, как только, вздохнув, тяжело произнесла: — На все воля божья! Феклуша удалилась тотчас, как объявила свое решение. Я побрел в сад, чтоб проститься с ним навсегда. В одной из его аллей меня догнала Федосья, бухнулась мне в ноги и от волнения и слез могла только повторять: — Господи! Господи! Я велел ей встать. — Спасибо, спасибо! Теперь ее не посмеют обижать, — вытирая слезы и улыбаясь в то же время, сказала Федосья и стала ловить мою руку, чтоб поцеловать. Защищаясь от этого выражения радости, я сказал: — Да твоя барышня не хочет, чтоб я был ее мужем, она мне отказала. Федосья вздрогнула и как ошеломленная вытаращила на меня свои глаза. Я продолжал нетвердым голосом: — Скажи своей барышне, что я более не увижу ее, но всегда буду помнить об ней. Скажи… Я был еще тогда молод, господа, и потому очень извинительно, что не мог продолжать говорить, слезы мне помешали. Федосья вытерла передником пот, выступивший на рябом и побледневшем лице, и глухим голосом спросила меня: — Так-таки и сказала: не хочу замуж?.. Я кивнул головой. Федосья злобно усмехнулась и, с упреком смотря на меня, произнесла сквозь зубы: — Знать, повернули ей все сердце злые языки! И она низко поклонилась мне, пошла по аллее, плача и бранясь в одно и то же время… В этот же день я расстался с моим приятелем. Из гостиницы П*** я написал Зябликовым письмо, в которое вложил другое — к Феклуше. Черновое к старикам я нарочно оставил в номере на столе. В нем я сожалел, что не мог породниться с ними, получа отказ от их дочери, и порядочно обругал всех их соседей, распускавших сплетни. Потом я узнал, что мое письмо ходило по рукам в губернии, но все-таки не спасло Феклушу от злословия; ее отказ приписали бог знает каким нелепостям. Года через три я уже забыл не только о существовании моего приятеля, но даже редко вспоминал и о Феклуше, которую оценил еще более, когда оставил ее. Я должен сознаться, что чувствовал теперь большую благодарность за ее отказ. Какой я семьянин, когда хандрю страшно оттого, если поживу с годок на одном месте, и без ужаса не могу себе вообразить детского писка и суетливости в комнатах. Мой приятель изредка писал ко мне. Я мог заключить по этим письмам, что он оставался все таким же нелепым человеком. Его обокрал наглым образом управляющий немец, выписанный им прямо из Германии для улучшения хлебопашества и вообще сельского хозяйства; его обманывал староста; камердинер морочил его десять лет своей мнимой честностью и преданностью. Но это все до сих пор было только смешно… Наконец получил я письмо, которое заставило меня искренно пожалеть о бедном Иване Андреиче. Вот его содержание: «Зная твою лень, я не сержусь на твое упорное молчание. Но я хорошо уверен в твоей любви ко мне и искренном участии во всем, что до меня касается. (Вот и ошибся.) Я считаю обязанностью уведомить тебя о перемене моей судьбы. Я женат! В выборе жены я был осторожен. Не месяц, не год я знал ту, которую избрало мое сердце. Я изучил до мелочей ее характер. Сознаюсь, что когда мне пришла мысль жениться, то я употребил разные хитрости для испытания ее свойств и увидел несомненные залоги семейного счастья. Кротость ее характера редкая, воспитание она получила отличное и направлена к тому, чтобы быть хорошей женой. Привязанность ее ко мне тоже не одно разгоряченное воображение девушки, жаждущей перемены своего положения. Нет, она доказала мне ее на фактах. Вот тебе пример. Когда она была в Петербурге, то за нее сватался генерал, богатый и из высшего круга, но она отказала ему. Другие еще были женихи. Никто не знал причины ее отказов, и когда я сделался ее женихом, все уже открылось. А как запала мне мысль жениться на этой девушке, которую я видел почти всякий день в продолжение нескольких лет и не замечал ее любви ко мне? Очень странный случай! Я знаю, ты не веришь в предсказания, но почему же так случилось? В П*** появилась гадальщица, которая заочно предсказывала, если только ей принесут волосы того человека, который желает узнать свое будущее. Анна Егоровна ехала в П*** и попросила у меня волос моих, чтобы спросить гадальщицу обо мне. Она, то есть гадальщица, изволила мне сказать, что я близок счастья, но дурные люди омрачили меня и я его не вижу. Я посмеялся. Раз мы тоже поехали в город П*** и уж на обратном пути домой Щеткин (я был с ним) предложил мне заехать к гадальщице, жившей на выезде из города. Вот мы и вошли к ней. Щеткин первый пошел гадать. Ну, право, то, что она ему говорила, никто не мог знать, кроме его самого или очень близких людей к нему. Я спрашивал о себе. Она тоже мне удивительные вещи насказала. И под конец прибавила: — Ну, судьба твоя была горькая от людей, зато все скоро окончится для тебя. Мы поняли, что она предсказывает мне смерть, и Щеткин очень рассердился на гадальщицу, которая, отозвав меня в сторону, шепнула мне: — Ты недалек от своей судьбы, есть особа, очень, очень о тебе думающая. Я засмеялся. Гадальщица погрозила мне и продолжала: — Хочешь, так испытай, правду ли я говорю? — Ну, хорошо, хочу! — сказал я. — Смотри, запомни. Когда уйдешь от меня, то первая девушка, которая встретит тебя, она-то и есть. — Ну, если я встречу крестьянку? — спросил я, смеясь… — Полно! Полно! Увидишь, что на ней розовое платье будет. Поговорив еще с гадальщицей, мы уехали. Я даже забыл о ее словах насчет своей судьбы, но, приехав к Щеткиным, я увидел первую Жюли: сидит за роялем и в розовом платье! С этой минуты я стал наблюдать за ней, что же? Открыл тайну, которую она так долго скрывала от всех!.. Я и тут не скоро поддался, ты знаешь, как я осторожен. Но она доказала свою привязанность, оставшись на зиму с отцом в деревне и отказав, как я уже говорил, жениху; отец, не подозревавший ее любви ко мне, стал сердиться на нее и хотел было уже просить ее претендента в деревню, чтоб кончить дело, но тут я помешал неожиданным своим предложением. Помню, ты некогда очень не жаловал семейство Щеткиных, но я понимаю, ты был ожесточен против всех, кто не был согласен с тобой. Кстати, о прошедшей твоей страсти, то есть Фекле Григорьевне. Она вышла замуж недавно и сделала себе партию приличную. В нашей губернии появился землемер, которого принимали многие помещики. Уверяли, будто он говорит на трех языках и очень умен и красив собой; но, по правде сказать, у нас здесь всему нельзя верить. Как новичка его и женили. Я было хотел предупредить его, послал пригласить его к себе, будто хочу дать ему работу, а он изволил отказаться да еще очень дерзко отзывался обо мне в одном доме. Разумеется, ему хотелось сделаться помещиком. Зябликов умер, а старуха живет с дочерью. Преуморительная, говорят, была их свадьба: обвенчались, никто даже не знал из соседей; визитов никому не делали, как важные лица, и нос подняли страшно. Прощай, будь настолько любезен, что отвечай мне на это письмо. Я очень желал бы видеть тебя в деревне теперь. Ты бы порадовался, — я помирился с женщинами». Увы! Я скоро узнал очень печальные подробности о женитьбе Ивана Андреича, которые, впрочем, предвидел. Жюли, тщетно искавшая себе в Петербурге мужа военного и молодого, решилась за неимением другого жениха завлечь моего приятеля. Разумеется, все делалось с общего согласия отца и Анны Егоровны. Ухаживали, льстили страшно, пугали небывалыми женихами, но, видя упорство своего соседа, начали употреблять более сильные средства: повезли его к гадальщице, подучив ее заранее. Жюли осталась на зиму с отцом в деревне и рассыпалась мелким бесом перед моим приятелем, которому заронила мысль о женитьбе. Одним словом, много времени и труда потратили, зато поймали дикого зверя. Капитала, положенного на каждую дочь в ломбард, о чем часто упоминал г-н Щеткин в мое пребывание, не оказалось. Зато приятель мой должен был заплатить в первый же год супружества в опекунский совет проценты за деревню своего тестя. Когда я узнал, что мой приятель намерен переселиться на житье в Петербург, я от души желал ему сделаться простаком, бросить свою дальновидность и не видеть, что будет делаться у него под носом! Я видел их в Петербурге. Жюли все так же была затянута в корсет, цвет лица ее еще стал ярче, а лоб, покрывавшийся морщинами, еще сильнее лоснился. Она очень часто нежничала со своим мужем, не стесняясь никем, и в то же время кокетничала перед каким-то юнкером, годившимся ей в сыновья. Через год Жюли очень расстроила свое здоровье и мой приятель должен был везти ее лечиться за границу. Вскоре по возвращении он отправился жить в деревню, а Жюли постоянно оставалась в Петербурге будто бы для излечения какой-то серьезной болезни, не мешавшей ей, однако же, зимой танцевать на различных балах…

Н. С. Соханская Из провинциальной галереи портретов{95}


Так жила Анна Гавриловна у государя своего батюшки, когда неожиданно с нею случилось маленькое обстоятельство такого рода. На светлых праздниках, под качелями, барышни пели весенние песни, пашеньку пахали и просо сеяли, разумеется, в приличных костюмах, и им помогали добрые молодцы в зеленых и синих кафтанах; полы, подбитые красною шелковою объярью{96}, у кого были обе отворочены и заткнуты за пояс, у кого одна пола поднята на колено, а черная шляпа сдвинута на ухо. Сомкнулся хоровод, и после многих других песен запели в хороводе вот эту:
Я по сенюшкам хожу, млада хожу;
Сквозь стеколушко на милого гляжу.
Мой милый друг и хорош, и пригож;
Душа моя, чернобров, черноглаз.
Я не знаю, к чему друга применить?
Применю друга к золотому перстеньку;
Золот перстень на руке, на руке,
Мой милый друг на уме, на уме.
Золот перстень на руке, на руке,
Мой милый друг на уме, на уме… —
Не туман в поле расстилается;
Добрый молодец во беседушку,
Он во ширь идти собирается.
На пиру сидит, голова болит;
Во беседушке не слыхать речей.
Ой, чем соколу
Лечить голову?
Ой, чем ясному
Ретиво сердце?
Лечить голову
Перепелкою,
Ретиво сердце
Корострелкою,
Добра молодца ль
Красной девкою.
Отдал меня батюшка
За смердова сына.
Дал мне батюшка
Приданого много:
Село с крестьянами,
Церковь с колокольнею,
Сокола с сокольнею,
Коня с конюшнею.
Не умеет смердов сын
Он мною владати,
Крестьянами посылати,
Назвал он, смердов сын,
Меня — немкинею,
Село — пустынею,
Церковь — часовнею,
Сокола — вороною,
Коня — коровою.
Чара моя
Серебряная,
На золотом блюде
Поставленная!
Кому чару пить?
Кому выпивать?
Пить чарку Марку-свет,
Пить Петровичу…
На здоровье,
На здоровье —
На здоровьице ему!
Чтоб головушка не болела,
А сердечушко не щемило.
Тебя, мой друг, дожидаючи,
Свое горе проклинаючи, —
На что было умываться,
Когда не с кем целоваться?
На что хорошо ходить,
Когда некого любить?
Но чтобы и нам было вдомек, куда и зачем ехал Гаврила Михайлович, — для этого надобно знать и сказать: кто и что такое был этот Влас Никандрович? Был он лицо чрезвычайно занимательное само по себе — по роду попович и по чину своему «с приписью подьячий» в отставке. Влас Никандрович был бездетен, холост — не женат; приютился к семье своего единственного крепостного или даренного ему за какое дельце человека и жил в этой семье не то старшим, не то наимладшим членом ее. Жил он в собственном домике при огороде. Домик и огород, оба вместе, выходили на одну и ту же улицу, которая была большою проезжею дорогой к уездному городу и единственною улицей пригородной слободки Погореловки. Худ был Влас Никандрович, как щепка; ничем пьющим не занимался; ходил в пестрядинном халате; копал гряды вместе с своею бабою на огороде, и баба то и дело кричала на Власа Никандровича, что он вовсе гряд не копает, а только ворон по сторонам оглядает! И права была баба. Влас Никандрович совершенно наклонен был к созерцательной жизни, а того не понимала дюжая баба и подпоследок вырывала заступ из рук у Власа Никандровича и едва не тем же заступом выпроваживала его из огорода вон. Влас Никандрович шел, нахмурясь, в виду своей бабы, как бы глубоко огорченный своим изгнанием; но едва только он поворачивал за угол (что баба с заступом не могла более видеть своего барина), лицо у Власа Никандровича мгновенно прояснялось. Он был остр носом, как пигалица, и этот невелико-острый нос тотчас вздергивался кверху и начинал нюхать на все стороны. А живые, разбегающиеся глазки созерцали все, решительно все. Влас Никандрович видел и тучку на небе, и встающую пыль на дороге, и что делала его соседка, пригнувшись у себя в сенях, видел он свою курицу хохлатую у ног и чужих детей, плескавшихся далеко в луже, как плещутся молодые утята. Влас Никандрович настояще знал, в какой день какая из его соседок хлеб пекла и в какой праздник поросенка жарила. Но чего не могли дознать все соседи миром — это с какой стороны шли вести к Власу Никандровичу. Полагали даже, что едва ли не сороки служили на вестях у него. И это предположение было тем вероятнее, что на углу домика Власа Никандровича в огороде стояла большая дуплистая верба и не было того часа времени, чтоб одна-две и больше того рябоперых сорок не прыгало и не щебетало на вербе. А Влас Никандрович все больше сидел в своей светелке под окошечком и сторожил дорогу, как ласый кот{101} сторожит пронюханную мышь. Кто бы ни шел, ни ехал, Влас Никандрович никого не пропускал даром. В окошечко обзовет, за ворота навстречу выйдет; человека своего отправит, даже бабу вдогонку пошлет, — а уже Влас Никандрович достодолжно узнает: кто это едет и зачем? куда и откудова? Но этого мало, что он знал все эти вести: Влас Никандрович еще писал их. К календарям подшивал он помесячно листы синей бумаги и под одним общим названием: «Описание житию, дел, бедствий и разных приключений». Влас Никандрович вносил сюда все происшествия, все, чем малейше шевелилась соседская жизнь. В книгах у Власа Никандровича достовернейше значилось: кто когда по соседству умирал, женился, родился, крестился, кто восприемниками были и даже что попу за крестины заплатили. Влас Никандрович обстоятельно вел метеорологические наблюдения. Записывал дожди, грозы, бури, метели, небесные явления, какие были, мертвые тела, какие находили; в какой цене хлеб стоял, что во сне видел Влас Никандрович и что, проснувшись, он видел наяву. Случались такие происшествия, что, казалось бы, никоим путем не дойти им до Власа Никандровича! А они доходили, и Влас Никандрович знал их и подробно записывал в свое «Описание житию, дел, бедствий и разных приключений». Теперь понятно, почему Гаврила Михайлович, не встретя никаких следов Марка Петровича и получа донесение, что и розыски других в той же степени не нашли их, сказал собеседнику: «Ко Власу Никандровичу едем». Было еще рано, только начинало светать, и Влас Никандрович стоял на утренней молитве, когда, поклоняясь за крестным знамением, он вдруг привычным взглядом перехватил что-то движущееся на дороге. При таких случаях искушения Влас Никандрович обыкновенно крепко жмурил глаза, поднимал свое незрячее лицо к образам и старался как можно внятнее и громче, на церковный распев, читать молитвы, чтобы тем предохранить себя от рассеянности. Но это обыкновенное, очень верное средство оказывалось теперь не действительным. Искушение не отставало. Влас Никандрович если не видел, то явственно слышал, как подъехали лошади; стали они у его ворот, отворили им ворота; зашлепали лошади во дворе по лужам, и чей-то голос, которого не узнавал Влас Никандрович, громко спрашивал: «Дома?» И Влас Никандрович напрасно затыкал себе уши и клал земные поклоны: он вдруг услышал пронзительный визг и причитыванье своей бабы. Баба Власа Никандровича терпеть не могла гостей своего барина и называла их довольно громко «дармоедами». И вот не успел еще путем день белый объявиться, как несет нелегкая одного и двух еще! Баба с ухватом в руках стала на самом пороге сеней и решилась коли не делом не пустить гостей, то хоть своим видом показать им, как бы она их ухватом выпроводила, коли бы на то ее воля бабья была! Но, вглядевшись попристальнее в одного гостя, баба вдруг увидела, что это был не только не дармоед, а сам Гаврила Михайлович, который его барскою милостию кормил бабу, и детей ее, и мужа ее, в лице ее барина, отставного с приписью подьячего, которому Гаврила Михайлович, как и заштатному пропившемуся попу, только что не посылал сапог, а давал все прочее, что дается: муку, сало, пшено, крупу, и даже к празднику присылал московской синей выбоечки на халат. Баба с ревом повалилась в ноги Гавриле Михайловичу. — Кормилец ты наш, милостивец! — завопила она. — Жалуй в сени… Где ему, родимый, деться, коли с голоду не помрет без твоей, кормилец, милости? — отвечала баба на вопрос, дома ли Влас Никандрович. И Влас Никандрович все это слышал с зажмуренными глазами, с заткнутым одним левым ухом, потому что правою рукою он крестился и спешил всемерно докончить свою молитву. Наконец он, кладя на себя последнее крестное знамение, оборотился к дверям, и в эту самую минуту Гаврила Михайлович, отворяя, вошел в двери. — Что ты это, Влас Никандрович, от меня открещиваться стал? — Сумнение взяло, — отвечал с робостию Влас Никандрович. И точно могло взять сумнение: был ли это Гаврила Михайлович перед глазами? Так он был малоузнаваем, в грязи весь, два дня не умытый, не спавший, не евший; даже голос его был не его и осип, как от перепоя. — Ну, — шагал по светелке Гаврила Михайлович, — сослужи службу, Влас Никандрович. Повек того не забуду… Чай, тебе рассказывать нечего. Ты сам знаешь. Влас Никандрович отвечал смиренно, что он точно знает. — И записал? — И записал, — отвечал Влас Никандрович. — Чтобы тебе руки отсохли!.. Не погневайся, братец, — добавил Гаврила Михайлович. — Так помогай беде. Следу нет. Вор Марк след затаил… Не в примету ли тебе: не проезжал ли, не минул ли кто? Не прослышал ли ты чего? Ведь говорят же, что тебе сороки на хвостах вести носят! — Оно, пожалуй, и говорят, — в смущении соглашался Влас Никандрович. — Так, ну же ты, говори! — наступал Гаврила Михайлович. Влас Никандрович подался к своему окошечку и, почти припертый к стене, ухватился за «Описание житию, дел, бедствий и разных приключений». — Ну, читай, что написано… Что тебя лихорадка бьет? — доступал еще ближе Гаврила Михайлович. Власа Никандровича истинно била лихорадка. Дрожащею рукою он перевернул два листа плотно исписанной синей бумаги и спросил: — С покрова читать? — С покрова читай. Что там у тебя настрочено? Влас Никандрович зажужжал, как муха жужжит, пойманная большим пауком: — «Месяц октомбрий, по-словенски именуемый „паздерник“, полагает изначала своего праздник пресвятыя богородицы покрова, ныне попущением божиим за грехи наши не погож есть: мгла с небес и зеленое ветра устремление». — Ну, дальше! — остановил Гаврила Михайлович. — Что там еще за устремление? — «Искушение найде на мя, — жужжал дальше Влас Никандрович. — Ворочающуся из заутрени, промчалась Танька-Ванька: сие есть девка, мчущаяся на лошади, простоволоса и продерза…» Влас Никандрович поднял глаза на Гаврилу Михайловича и уставил их с полуоткрытым ртом. — Что? — глянул на него Гаврила Михайлович, и у Власа Никандровича душа в пятки ушла… — Ума ты рехнулся, чтоб моя дочь была простоволоса и продерза! — ударил по столу кулаком Гаврила Михайлович. — Читай дальше. — «Воротившуся из обедни, — читал Влас Никандрович, — и вкушающу праздничное учреждение, пироги именуемое, узрел я на дороге чумацкий обоз и, изшед во сретение тем чумацким людям, испытывал первее о горении земли. Есть горение, якоже и в Писании говорится: „земля и вся еже на ней дела сгорят“. Потом вопросившу ми, что везут сие чумацкие люди хохлы (они же и малороссы, по стране своей Малороссийстей нарицаются), один из сих малоросских людей, яко бы посмеваясь мне, ответствовал: А хто его знае, пане! Може, борошно, а може, и барышню. Сие есть яко бы они везут или муку, или барышню…» — Что? — спросил Гаврила Михайлович, и в воспоминании его мгновенно предстал тот чумацкий обоз и те хохлы, которых он опросил, выезжая на большую дорогу, и вспомнил Гаврила Михайлович, как хохлы молча показали ему след пустой коляски Марка Петровича. — Так вот где угораздило его спрятать концы: в кулях с мукою! Гаврила Михайлович тремя шагами ступил, а четвертым уже был на крыльце. Баба Власа Никандровича вела его лошадь с водопоя. Гаврила Михайлович вырвал у нее повод, вскочил на лошадь и поскакал к городу. Там он скоро отыскал постоялый двор, где преимущественно останавливались обозы. — В обед на покров был у тебя чумацкий обоз? — спрашивал Гаврила Михайлович. — Был, — отвечал дворник. — С чем был? — С мукою. — Не заметил ли чего особенного? Не был ли кто другой при обозе? Дворник отвечал, что быть никто не был и особенного он ничего не заметил, кроме разве того, что пить чумаки много пили и он им сдачу давал: золотом платили… Чумаки платили золотом! Большего удостоверения не требовал Гаврила Михайлович… «Где Марк, там золото, чертов след!» — ударил он кулаком по верее ворот. Но Гаврила Михайлович хорошо понимал, что не станет же Марк Петрович все на волах везти свою покражу, и потому, оставив в покое чумацкий обоз, Гаврила Михайлович бросился разыскивать по городу: не видал ли кто, не встретил, не знал ли чего? Все было безответно на вопросы Гаврилы Михайловича. Да и как было отвечать? Кому бы пришло в голову следить: зачем и для чего один воз выделился из чумацкого обоза и, не въезжая на постоялый двор, поехал глухою улицей между садами и огородами на самый конец города. Два мужика шли возле воза. Один погонял волов — хохол с своим чумацким батожком в руке; другой — русский молодец, видно, купил эти кули с мукою и провожал покупку к своему двору, держась неотступно за край широкого воза. А далее и видеть было некому в глуши совершенно пустынных, облетелых садов и высоких пригородных ветл, хлеставших по ветру голыми вершинами, — как этот воз въехал на двор к молочному брату Марка Петровича, отпущенному на волю, и крепкие ворота затворились за ним. Через час они опять отворились и из ворот выехала доброконная кибитка парою, с опущенною белою полостью. На облучке сидел русский молодец и слегка подгонял пристяжную, между тем как коренной конь забирал крупною рысью, и ветлы, огороды, галки сновали как основу в глазах. Кибитка своротила наперерез пахотных полей и, оставив позади себя большую дорогу, быстро скатила в овраг. Там она понеслась невидимкою по окрепшему песчаному руслу некогда бывшей, безымянной речки, теперь только сочившейся дождевыми ручьями и кое-где изредка стоявшей лужами. Версты на четыре ниже кибитка вынырнула, как утка, из оврага; метнулась, как заяц, в густую опушку леса, и только ее видели. В лесу, на опустелой пасеке стон стоял; от ветра, ходившего вверху ходенем по голым вершинам, и внизу от топота не стоявших на месте восьмерика коней, запряженных в карету. Простой молодец в мужицкой сермяге суетился вокруг кареты и кого-то усаживал в нее; затем, сам бросившись в середину кареты, он закричал не мужицким, а прямо барским голосом: «Пошел!» А Гаврила Михайлович с своих безуспешных розысков воротился к Власу Никандровичу. Он видел, что искать было больше нечего. Третий день уже был… — Домой, — сказал он своим людям, хлопотавшим вокруг лошадей. — Влас Никандрович, как изволишь? Сам приезжай или свою бабу пришли: что там тебе нужно на зиму?.. Съезжай! что по сторонам ворон ловишь, как баба? — заметил своему кучеру Гаврила Михайлович и съехал со двора Власа Никандровича. — Баню! — сказал он, ступая на первую ступень своего барского крыльца, и затем вошел в опустелый дом. — Обедать! — сказал он точно таким голосом, как всегда говорил: «обедать!», возвращаясь с осмотра конюшни, хозяйственных работ, псарни или летом воротившись с объезда полей. В доме все, от первого до последнего, со страхом и недоумением ожидали приезда Гаврилы Михайловича, и стол был накрыт; обедать тотчас подано. По обыкновению выпив серебряный стаканчик водки и закусив коркой ржаного хлеба, Гаврила Михайлович почти не обедал. — Что ж баня? — спросил он. По счастию, это была суббота: следовательно, баня с утра топилась, и Комариная Сила доложил немедленно, что баня готова. Тотчас из-за обеда Гаврила Михайлович отправился в баню, и часа два с половиною он пробыл в ней; наконец показался Гаврила Михайлович из бани. Пар клубом валил с его распахнутой груди, и Гаврила Михайлович в своих туфлях на босу ногу шествовал поперек двора. — Обедать! — сказал он таким голосом, каким царь зверей дает знать, что он голоден. — Народы, обедать! — повторил Гаврила Михайлович, и все подвластные ему народы пришли в неописанный ужас. Можно ли было ожидать такого требования: обедать! Пообедавши уже раз. Где взять обеда? Щи холодные, жаркое простылое, ничто не разогретое… Но дожидаться третьего рыкания льва было невозможно. И перед Гаврилой Михайловичем несли и ставили что попало — различные приливные холодные: индейку и осетрину, ветчину и жареного гуся. Гаврила Михайлович ел, как должен был есть человек, двое суток с половиною ничего не евший и в течение этого времени только залпом выпивший кувшин молока, позабыв даже, что то была пятница. — Принимать! — сказал Гаврила Михайлович. — Да поставить квасу, — добавил он, отправляясь в кабинет, и едва только склонился к подушке крепкий старик, как уже спал непробудным сном. И долго спал Гаврила Михайлович. Комариная Сила, няня Анны Гавриловны, староста и еще несколько почетных лиц, столпившись у дверей кабинета и притаив дыхание, смотрели на Гаврилу Михайловича, а он спал. В доме не было ни шелеста, ни звука; словно все мертво затихло, занемело, и одно богатырское дыхание Гаврилы Михайловича, как с прибоем морская волна, ходило и отдавалось по комнатам. — Эй, Комариная Сила! — воззвал, пробуждаясь, Гаврила Михайлович, и, как в околдованном замке, все вместе с ним ожило и пробудилось. Няня, крестясь и читая молитву, пошла от дверей; староста вошел в кабинет за приказаниями; дворецкий поспешил готовить чай. В лакейской и девичьей слышно было одно и то же обрадованное слово: «Барин проснулся; барин проснулся!» Гаврила Михайлович спал беспробудно двадцать четыре часа! Как заснул в субботу перед вечернями, и только проснулся в воскресенье, когда к вечерням пора было звонить. Все домашние его находились в неописанном страхе. И разбудить Гаврилу Михайловича никто не смел, и всех приводил в ужас и недоумение этот богатырский сон. — Кой ляд! — сказал Гаврила Михайлович, отряхивая, как лев гриву, крепкое забвение своего суточного сна. — Что это на дворе деется? Не то светает, не то смеркается? — Смеркается, батюшка Гаврила Михайлович! — отвечал Комариная Сила. — Вчера об эту пору милость ваша започивать изволили. — Что?.. — своим обычным коротким вопросом спросил Гаврила Михайлович, поднимая брови. — Ну, значит, хорошо спал, коли сутки проспал. Обедать давай, и пора, значит, опять спать. Гаврила Михайлович встал, умылся, богу помолился, подали обедать. Он пообедал совершенно один (собеседник его вчера уехал после обеда), и опять лег Гаврила Михайлович. Спал ли он или целую осеннюю ночь пролежал в темноте с открытыми глазами, этого никто не мог знать. Только в обычное время своего пробуждения Гаврила Михайлович кашлянул, как он всегда кашлял, и на вопрос появившегося Комариной Силы: «Что прикажете, батюшка Гаврила Михайлович?» — он отвечал другим вопросом: — Что ж охота? — точно как бы между приказанием об охоте не прошло ничего другого и самое это приказание отдано было вчера. — Сбор! — прибавил Гаврила Михайлович и в большом охотничьем сборе съехал с своего широкого двора. Удивительно сиротлив и пустынен оставался его барский двор! Мелкий дождик кропил его, пометала молодая пороша; зяблики стадами слетались на широкую площадь его, и только две-три искалеченные собаки блуждали в опустелом подворье. Домашняя челядь забилась по своим теплым углам, спасаясь от осенней непогоды. Не для кого было сенным девушкам выбегать постоять на крылечке и помахать девичьим передником в сизую мглу прохваченного морозом вечера. Все мужское народонаселение скочевало за Гаврилой Михайловичем. Остались одни женщины, и веретена прилежно жужжали по всем тихим углам, и в этой тиши, в жужжании рабочего веретена, кто разве не хотел, тот бы только не услышал, как часто поминалось здесь все одно и то же, все милое, всем равно дорогое: Анна Гавриловна! Анна Гавриловна! Гаврила Михайлович только накануне Михайлова дня изволил пожаловать домой, пробыв в отъезжем поле месяц и со днями. С ним наехали охотники, собеседники; прибыли на вечер старухи помолиться в праздник в церкви Гаврилы Михайловича; со старухами наехали молодые, и дом по-прежнему зашумел и наполнился по всем углам и закоулкам. Гаврила Михайлович был все тот же величавый барин, оставлявший своим гостям хлебосольное право: жить и веселиться у него в доме, как кому угодно. Музыка и песенники являлись по первому востребованию; но сам Гаврила Михайлович только к обеду и ужину переступал за порог своего кабинета и далее не делал ни одного шагу в своем барском доме. И, к чести нашего старинного домоводства, стоит сказать, такова была крепко поставленная, незыблемая основа однажды заведенного порядка в доме, что даже такой случай, как внезапное исчезновение хозяйки и полное отчуждение хозяина от всего, что внутренне происходило в его барском доме, не изменили ни в чем обычного течения дела! Ни на волос не произвели расстройства в заведенных порядках и однажды установленном чине богатого, наполненного гостями дома! Без чьих-либо повелений и распоряжений няня вступила в полное заведывание всем; сама себе определила помощницей свою племянницу. Весь этот люд, который по утрам являлся к Анне Гавриловне со всеми его разными делами, точно так же продолжал являться к няне. И мало было нужды, что барский хозяйский глаз целые месяцы не заглядывал далее условленного порога; но тем не менее комнаты оставались все в той же холе и в том же призоре; ни одна лишняя порошинка не заводилась в них. Платье Анны Гавриловны, которое было приготовлено надеть ей в обедню на праздник, будто сейчас вынутое, лежало на ее кровати, прикрытое кисейною занавеской. Анна Гавриловна в ее поспешных сборах к заутрене обронила алый бантик, которым подкалывалась буфа ее рукава, и этот бантик оставался нетронутым. Он линял, терял свой цвет, становился никуда не годным, но прошла осень и зима, проходили весенние и летние месяцы, — а бантик все лежал на комоде и оставался какою-то святынею, к которой не дерзала касаться ничья рука. Вся комнатная прислуга, правые и немногие виноватые с Настей Подбритой во главе, переживши все ужасы томительного ожидания: что будет? чем и как разразится гнев Гаврилы Михайловича? — наконец успокоились. «Заспал», — говорили они, и точно, видя, как Гаврила Михайлович ни словом, ни делом не поминал ничего того, что было прежде, можно было подумать, что он именно заспал все в своем суточном сне. Об Анне Гавриловне не доходило никакого слуха. Может быть, соседи и успели по времени перехватить кое-какие вести; но сообщать эти вести Гавриле Михайловичу, когда он изволил молчать и не спрашивать, — таких смелых охотников до переносу вестей не находилось. А самому Гавриле Михайловичу между тем нашлось для развлечения небольшое дельце. Матушка сестрица-генеральша подала челобитную самому наместнику о ночном погроме сударя братца, в коей властно требовала, по ее вдовству и сиротству, защиты от конечного разорения и законного себе удовлетворения за понесенные убытки: за разбитую чашку, за поломанную колымагу, за двух загнанных лошадей и, по своему высокому чину, за оскорбление ее генеральской чести. — Самодур-баба! — сказал Гаврила Михайлович, получа известие о том. — Нарядить подводу и послать за Власом, чтобы был ко мне. Влас этот был Влас Никандрович, и он часто стал бывать в кабинете у Гаврилы Михайловича и строчить ему ответы на челобитную самодур-бабы. И, кроме этих ответов, никаких перемен не последовало в быту Гаврилы Михайловича. Он так же бывал весел и шутку шутил с приятелями; только к концу года усы и брови у Гаврилы Михайловича совершенно побелели… И если бы Комариная Сила не научен был слухом не слыхать и видом не видать, он, может быть, сказал бы кому: что´ он по ночам видал и слыхал за дверью кабинета? А видал Комариная Сила, как этот крепкий, на вид неподатливый старик в смертельной тоске вставал с своего барского ложа и, падая ниц, повторял: «Боже, милостив буди ми грешнику! Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя!» И шепот повторяемой молитвы, разгораясь до вопля терзаемой души, покрывался рыданием, и слышно было: «Господи, помилуй ее! Господи, не остави ее, господи! Царю мой! что с нею? Помилуй ее!..» Комариная Сила именно желал бы, чтоб ему слухом не слыхать и видом не видать! Он зарывался в свою постель у дверей кабинета, прятал голову под подушкою; но и под подушкою Комариная Сила слышал мольбы и земные поклоны его барина, открывавшего свою душу только перед одним богом.

Примечания
1
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 1, с. 226. (обратно)2
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 7, с. 666. (обратно)3
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 3, с. 149. (обратно)4
Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7, с. 648–649. (обратно)5
Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7, с. 670. (обратно)6
Там же, с. 667. (обратно)7
Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7, с. 657. (обратно)8
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 4, с. 116. (обратно)9
Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 4, с. 116. (обратно)10
Там же, с. 112. (обратно)11
См.: Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3-х т. М., 1950, т. 1, с. 506. (обратно)12
Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3-х т., т. 1, с. 507. (обратно)13
См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. _26, с. 218. (обратно)14
Мацкевич Д. И. Заметки о женщинах. — Современник, 1850, № 3, с. 62. (обратно)15
Г — в Н. О новой повести г-жи Кохановской «Из провинциальной галереи портретов». — Рус. беседа, 1859, кн. 3, с. 68, 83. (обратно)16
Кохановская. Ответ г. Г-ву на критический отзыв о повести «Из провинциальной галереи портретов». — Рус. беседа, 1859, кн. 4, с. 127–128. (обратно)17
Костер погребальный. — Примеч. авт. (обратно)18
Послушайте, Жорж! (франц.) (обратно)19
Тысяча извинений, мой друг! (франц.) (обратно)20
Но, право, моя дорогая! (франц.) (обратно)21
прекрасная московская Диана. Величественная московская Диана! (франц.) (обратно)22
Приглашение к мазурке (польск.). (обратно)23
бабушка! (франц.) (обратно)24
скользящим движением (франц.). (обратно)25
Строфа из стихотворения великого немецкого поэта и драматурга Ф. Шиллера (1759–1805) «Мечты». В переводе В. А. Жуковского:Уж нет ее, сей веры милой
К твореньям пламенной мечты…
Добыча истины унылой,
Призра´ков прежних красоты.
26
Строфа Феличе Романи, итальянского драматического писателя и либреттиста XIX века:Какое сердце ты обманул,
Какое сердце ты потерял,
Это время молитвы
Пусть тебе откроет.
Последние комментарии
5 часов 32 минут назад
21 часов 36 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
3 дней 12 часов назад
3 дней 17 часов назад