Annotation
Это история Золушки, которая нашла своего принца — да не одного. Первый принц был умным, второй — богатым, а красивой и талантливой Ларисе Игумновой этого было мало, она хотела ощущать рядом родственную душу. Нет счастья, когда тебя не понимают, холодно в доме, если тебя обнимает чужой человек. Но как узнать того единственного, кого ждала всю жизнь? Молодой женщине предстоит набраться житейской мудрости, чтобы научиться отличать бриллиант от блестящей фальшивки…
Вера ВЕТКОВСКАЯ
Финал
Эпилог
notes
1
2
3
4
5
6

Вера ВЕТКОВСКАЯ
ЛУКРЕЦИЯ С ВОРОБЬЕВЫХ ГОР
Роман

Это чудо грянуло на вечеринке у Леночки Мезенцевой. До сих пор удивляюсь, зачем она нас всех созвала — одногруппников, одноклассников, довольно пеструю компанию. Возможно, потому, что было ее обручение. Как это изысканно и завораживающе звучало в то время, даже сердце замирало. Ленка просто потеряла голову от счастья, ей хотелось всех друзей и знакомых сделать свидетелями и участниками грандиозного события. А может быть, на такие семейные торжества всегда приглашают бедных родственников, соседей и сослуживцев. Отдают дань, чтобы потом вздохнуть с облегчением и забыть о них до следующих свадьбы или похорон.
Как бы то ни было, но Ленка меня осчастливила. И я с благодарностью помнила об этом несколько лет. Провинциалы из нашей группы ее любили и считали «простой», доброй барышней. Она часто заезжала к нам в общежитие отдохнуть от тягот семейной жизни. Отношения с предками были непростые, особенно с матерью. Уже несколько лет Елена боролась за свободу и независимость против деспотичной опеки патриархальных родичей.
Все мы долго ломали голову, как принарядиться для такого важного выхода в свет. Аська попросила у одной своей приятельницы с ромгерма нарядное платье. Предлагала и мне что-нибудь поклянчить, но я отказалась наотрез. Не из гордости, скорее, от брезгливости — никогда не надеваю чужого. К сожалению, в общаге все общее: одежда, посуда, еда, книги. А у меня прабабушка была староверкой из Шарьи. Пила только из собственной чашки и никому не позволяла садиться на свою постель. И я ее понимаю.
Весь день девчонки мылись, укладывали волосы, красились, наряжались. Я же, вздохнув, собралась за полчаса. Погладила свою серую юбку, собрала волосы в пучок. Хорошо, что мама всего недели за две до этого где-то достала мне замечательную кофточку, цвета чайной розы, с модным воротником хомутиком. Как я тогда радовалась! В те времена еще ничего не покупали просто так, по собственному вкусу и желанию, а доставали, что бог пошлет.
— Сельская учительница! — заключила Аська, снисходительно оглядев меня с ног до головы. — Распусти волосы.
Но я ничего не желала менять в своем скромном облике, не хотела подкрашивать ресницы, губы. В таком же виде я ходила и на занятия, и в театр. И когда мы приблизились к парадному подъезду дома на Кутузовском, не испытывала никакого трепета. Только страх. Трепетала Ася. Люди, живущие в таких домах, казались ей обитателями Олимпа, о которых вещала нам на лекциях профессор Тахо-Годи.
Мы с Асей были не москвичками и не провинциалками. Существовала еще промежуточная социальная категория — жители Подмосковья. Конечно, все мы хотели бы устроиться в Москве, получить работу. Но у некоторых это желание превратилось в навязчивую мечту, в болезнь. У нашей соседки тети Кати было что-то вроде аллергической чесотки. Она постоянно чесалась, днем и ночью. Ее руки и ноги покрывали страшные струпья. Аськины страстные мечты о столице напоминали мне чесотку. Она засыпала и просыпалась с ними. Все человечество для нее делилось на жителей столицы и жалких изгоев. Убеждать ее в чем-то было бесполезно. Бедняжку можно было только жалеть.
Нет, я ни о чем таком не мечтала, потому что понимала: это невозможно. Планы мои были скромными: уехать куда-нибудь в большой город. Например, Новосибирск или Архангельск. В таких городах есть издательства, университеты, тесный круг интеллигентных людей. Главное — работа и друзья. А в Москве с работой глухо, все уже забито своими. В густой толпе легко затеряться, и при этом очень одиноко.
В большой прихожей нас встретила сияющая Ленка. В полуоткрытую двустворчатую дверь гостиной я сразу увидела его, и на мгновение все исчезло — радушные лица хозяев, щебечущие девчонки. Стих и гул голосов в четырех комнатах и кухне. Гостей собралось человек тридцать вместе с родней. Молодежь преобладала.
Когда я встречала Игоря в длинных университетских коридорах, со мной происходило кратковременное помрачение — я слепла и глохла, выпадала из бытия. Только через десять — пятнадцать минут, приложив немалое усилие, я возвращала себя в аудиторию, в общество Аськи и девчонок, и могла вразумительно отвечать на их вопросы.
Это вовсе не было любовью или увлечением, с извечными мечтами и тоской, с постоянной потребностью видеть его, слышать его голос. Порой мне даже не верилось, что он — живой человек, такой же, как все мы, а не инопланетянин, только изредка навещающий землю и, в частности, наш факультет. Даже его фамилия — Иноземцев — наводила на такие мысли. Я никогда не искала встреч с ним. Наоборот, постоянно боялась нечаянно столкнуться где-нибудь в библиотеке или в столовой и в очередной раз пережить выбивающую меня из колеи яркую вспышку. Слава богу, никто так и не заметил, что со мной происходит, даже глазастая Аська.
Игорь мог бы иметь бешеный успех у девиц, если бы это было ему нужно. Но сердцеедом он не был. Наоборот, он умел обращаться со всеми своими подружками ровно, сдержанно и дружественно, никого не выделяя и не отмечая. Эта его черта мне особенно нравилась. Терпеть не могу бабников. Не так уж много отпущено нам времени для работы, учебы, интересных больших дел, чтобы тратить его на волокитство, романы и интрижки.
За три года у Игоря на факультете сложилась прочная репутация гения. Никто не сомневался, что он — будущее светило отечественной филологии. Ну на худой конец — профессор, заведующий кафедрой, автор нескольких учебников. В то время он сам еще не определился — уйти ли ему в чистую науку или стать критиком, заняться текущей литературой.
Игорь вовсе не был красивым. Высокий, худой, нескладный — но при всем том очень обаятельный. Прямые русые волосы, подстриженные как-то необычно, «шапкой», свободно падали на высокий лоб. В разрезе глаз, в прищуре было что-то от моего любимого актера Ричарда Гира. Но это сходство мерещилось только мне. И вовсе не потому он столь сильно задел мое сердце. От всего его светлого облика веяло истинной, неподдельной интеллигентностью, культурой, а не окультуренностью, простотой и естественностью, а не высокомерием и чванством многих папенькиных сынков и дочек.
Игорь учился с Леной Мезенцевой в одной школе, а на филфак пришел на год раньше нас. Это была какая-то элитная языковая школа в центре Москвы, выпускники которой целыми классами ежегодно топали прямиком в университет. Их было очень много на всех факультетах и курсах. Они дружили, держались вместе стайками, подчеркивая свою обособленность и непохожесть на толпу. Только Игорь и Ленка были простыми и доступными.
В то время я была удивительно невежественным и простодушным созданием. Приехала из своей Малаховки с твердым убеждением, что все люди равны. Но уже в первый год меня стукнули по голове и объяснили, что ни о каком равенстве и речи быть не может, что я существо несомненно низшее и должна знать свое место.
Это стало для меня неприятным открытием. Но я не смирилась и продолжала в душе оставаться демократкой. Хотя многие мои однокурсники не упускали случая напомнить о своем превосходстве. Среди них Ольга Минькова. Единственный парень в нашей девчачьей группе Мишель прозвал ее Гонерильей. К Ольге эта кличка приклеилась. Действительно, именно такой и была самая некрасивая и жестокосердная из дочерей короля Лира.
Она прошествовала мимо нас с вазой для цветов. И я не без удовольствия отметила, что даже в дорогом французском платье она все так же уродлива. Отец Ольги, дипломат (тогда об этом говорили с завистью), не вылезал из-за границы, так что дочурка родилась то ли в Вене, то ли в Брюсселе и очень этим гордилась. Хотя не все ли равно, где мы рождаемся? Я так считала, но не все меня понимали.
По определению Мишки, большого знатока психологии, особенно женской, Гонерилья была пассионарием. Бездна черной энергии била из нее фонтаном, пока в неопределенном направлении. Мне тогда казалось, что чадо из привилегированной семьи может выбрать себе любое поприще и на нем продвинуться. Это неизбежно, когда тебя толкают в спину. Но все оказалось гораздо сложнее. Я с интересом наблюдала за судьбой Ольги и других своих однокурсников с хорошими стартовыми возможностями. Ни из кого ничего путного не вышло.
Природа наделила Ольгу несчастным характером. В ней как будто бес сидел — бес честолюбия. Ей хотелось быть самой-самой, обязательно в первых рядах, пусть на небольшом, но пьедестале, и чтобы имя у всех на устах. В довершение всех несчастий она была влюбчива, причем внимание ее привлекали лишь самые выдающиеся мужчины. Но бодливой корове бог рог не дал. К третьему курсу Ольга решила реализоваться на другом поприще — научном или литературном. И как танк ринулась к заветной цели — славе и успеху.
Никогда — ни до, ни после — не встречала человека, которому доставляло бы такое садистское удовольствие унижать ближнего: уличать в невежестве, небрежно и рассеянно поправлять выговор. По-видимому, таким способом она самоутверждалась и влезала на еще одну ступеньку своего пьедестала.
Особенно любила она шпынять Аську, чувствуя, как уязвляют беднягу ее уколы. Пока мы в прихожей снимали сапоги, переобувались, Ольга подошла и, дотронувшись до Аськиного рукава, сладким голосом пропела:
— Какое миленькое платьице…
Аська вспыхнула пунцовым румянцем. По тону этой ехидны было ясно, что она узнала платье и поспешила вонзить лишнюю булавку. Может быть, сама же его и продала нашей соседке по этажу. Гонерилья вечно что-то продавала из своего обширного гардероба. Я холодно ей кивнула и отвернулась к зеркалу. К тому же в этот момент мне было не до нее — я уже увидела Игоря и превратилась в соляной столб. Предстоящий вечер уже казался нескончаемой мукой. Скорей бы ее пережить.
За столом я позволила себе всего два раза мельком взглянуть в его сторону. Хорошо, что народу было много. В такой суматохе никто не обращал на меня внимания, но лишняя предосторожность никогда не помешает.
Рядом с Игорем сидела очень красивая девушка. Словно отлакированная сотнями восторженных взглядов, она устало, лениво улыбалась. Гладкие темные волосы, ярко-синие глаза и нежный овал лица. На ней было что-то бесформенное, льющееся, шелковое. И как просто и грациозно она держалась. Без всяких претензий и жеманства.
— Учится в театральном, — шепнула мне на ухо Ася, кивнув на красавицу. — Подружка Иноземцева. Они одноклассники. У них роман еще со школы. Хороша, конечно, но тип довольно приевшийся.
Лучше бы Аська подсыпала мне в бокал мышьяка! Такой острой боли, такой тоски я, кажется, никогда не испытывала. Что это было? Ревность, безысходность? Ведь я никогда не питала надежд, не мечтала о нем. Знала, что когда-нибудь рядом с ним непременно появится такая лучезарная красавица, будущая примадонна.
— Еще неизвестно, какая из нее получится актриса. Кроме внешности, неплохо бы иметь еще капельку таланта, — занудствовала Аська.
Красавиц она не выносила. Наверное, предпочла бы ежедневно терпеть издевательства Гонерильи-Ольги, только бы все девицы вокруг были похожи на эту крокодилицу. Когда я впервые увидела Асю на вступительных экзаменах, то подумала: какая милашка! У нее были совершенно правильные, безупречные черты лица, прекрасные волосы, роскошная фигура. Но уже через две-три недели она потеряла в моих глазах все свое очарование. В чем тут дело, я не пойму. В ней напрочь отсутствовало то, что называют женским обаянием, изюминкой, индивидуальностью. В общем, это был довольно таинственный и непонятный случай, никогда в жизни с подобным я больше не сталкивалась. Сколько угодно красоток пустых, легкомысленных тем не менее пользуются громким успехом. А возле Аськи всегда царила пустота, и это наводило на мысль о какой-то мистической порче.
Наконец старики удалились в другую комнату, Ленка принесла свечи, включили магнитофон. Начались танцы. Я рада была забиться в кресло и переживать свое несчастье, наблюдая из полумрака за чужим весельем. Так неожиданно подкосила меня страшная новость. Но в покое меня не оставили — то и дело вытаскивали в общий круг, заставляли веселиться.
Едва ли не с первого класса я занималась гимнастикой, потом бабушка водила нас с сестрой в танцевальную студию. Так что плавно и красиво двигаться в такт музыке я могла бессознательно, чисто механически. К тому же папа не раз повторял мне, что в гостях и вообще на людях нельзя выказывать своего дурного настроения. Это невежливо и несправедливо по отношению к хозяевам, которым в этот день радостно и весело. И я улыбалась и танцевала, даже беззаботно болтала о чем-то с девчонками. Но на душе было скверно. Я и предполагать не могла, какой сюрприз готовит мне этот вечер, так неудачно начавшийся.
Я кружилась в чьих-то объятиях, но все Миши, Сережи и вовсе незнакомые молодые люди были для меня на одно лицо, совершенно одинаковые. Не все ли равно, кто обнимает, «кому на плечи руки класть». Стоит закрыть глаза — и представляешь рядом Его, его синий свитер, его запах и мягкий, обволакивающий голос. Но я уже тогда умела обуздывать себя. «Не позволю, не позволю! Не стану рабой этого наваждения, — твердила сама себе. — Нельзя думать о нем днем и ночью. Нужно гнать эти мысли, эти глупые мечтанья прочь!» И я их гнала, заставляла себя переключаться на другое, вчитываться в книгу, забываться в пустых разговорах.
Аська всегда восхищалась моим трезвым умом и реализмом. Из всех возможных ситуаций я всегда обдумывала наихудшую. В будущем видела себя скромной учительницей словесности в средней школе. Если повезет — редактором Учпедгиза. Любимым делом мне суждено было заниматься только вечерами, в свободное от службы время. Я тайком, для себя писала стихи. Показывала их только отцу и любимой школьной подруге. О себе была невысокого мнения. Такой замечательный человек, как Игорь, не мог одарить меня даже просто дружескими или приятельскими отношениями, потому что я ему неинтересна.
Ленкина вечеринка была в самом разгаре. Только что бурный танец сменился медленным. Мишка увлек меня на середину комнаты, чтобы посплетничать. Мы с ним отдышались и, медленно кружась, стали перемывать косточки своим однокорытникам. Вдруг через Мишкино плечо — а он был одного со мной роста — я заметила, что Игорь смотрит на меня. Мы с ним встретились глазами, чуть ли не впервые в жизни! От неожиданности я зажмурилась и подумала, что это мне пригрезилось.
Но, распахнув глаза, убедилась, что все реально. Красавица актриса сидела на диване и, пригубливая из бокала, беседовала с Леной. А он, примостившись рядышком на валике дивана, с улыбкой смотрел на меня. Сердце бешено скакнуло и испуганно притихло. И тут же горячая волна, прилетевшая откуда-то из пустыни Сахара, окатила меня с головы до пят, так что запылали щеки. Я повела удивленного Мишку, чтобы спрятаться за соседнюю парочку и повернуться к дивану спиной.
Я едва дождалась окончания этой пытки. Наступила тишина, пары разбрелись, я собралась сбежать куда-нибудь в ванную или на кухню, чтобы выпить холодной воды из-под крана и прийти в себя. Но Мишка крепко держал меня за руку: он еще не договорил, а бросать на полпути свои мысли и наблюдения не привык.
Я рассеянно кивала и со всем соглашалась. Игорь перед нами словно из-под земли вырос. Мадонна издала нечто вроде меланхолического вздоха, начиная новую песню; не спеша склеивались новые парочки. Игорь довольно бесцеремонно отстранил Мишку правой рукой, словно посторонний предмет на своем пути, а левой обнял меня за плечи и увлек на середину комнаты. Мишка укоризненно покачал головой, а я покорно последовала за Игорем, покорно вскинула руки ему на плечи и посмотрела снизу вверх в глаза. Он был намного выше моего предыдущего кавалера.
Начал он с того, что сейчас, в этой обстановке, на дружеской вечеринке, было бы нелепо говорить друг другу «вы», тем более что мы уже третий год сидим в одних и тех же аудиториях и сталкиваемся в библиотеке и столовой. Я кивнула. Я тоже чувствовала, что «вы» было бы натяжкой.
— Только что ты заставила меня пережить легкий шок, Лариса, — признался он, и глаза его при этом странно светились. Он был охвачен каким-то вдохновением. Сначала я, со свойственным мне прозаизмом, подумала, что причиной тому — два-три бокала шампанского. Но это было не так. Игорь часто впадал в подобные настроения, подзарядившись хорошей книгой или умной беседой. Консерватория и Крымский вал тоже служили неплохими аккумуляторами. Он сам очень любил этот душевный настрой и с нетерпением его поджидал. В этот вечер причиной его лучезарного настроения послужила моя скромная персона.
— Я увидел тебя, и словно электрический разряд по мне пробежал. Какое знакомое лицо! — взволнованно говорил он. — Эти твердо сжатые губы, холодный волевой взгляд. Не женщина, а изваяние из мрамора. И тут я вспомнил. Лукреция Панчатики! Вот на кого ты похожа, Лариса.
Я невольно улыбнулась. Так вот почему он так странно на меня смотрел. Не на живого человека, а на слабое отражение этой загадочной Лукреции. Я почему-то представила ее холодной, гордой и жестокой. Именно такие женщины и завораживали Игоря. Таких он издалека, в толпе мгновенно замечал и любовался ими. Но я никогда не ревновала, только посмеивалась над подобной наивностью. Вся эта надменность — только маска или притворство. Вот и со мной он, конечно, ошибся самым глупейшим образом.
Пришла пора мне набросать свой портрет. Попытаюсь. Хотя внешность — не главное, даже для женщины. Едва ли от облика зависит наша судьба. Подруги, как всегда, со мной не согласны. Они уверены, что внешность для женщины — это все: карьера, счастье, удача. Какая ерунда!
В детстве я почитала себя уродом, о чем старшая сестра Люся напоминала мне чуть ли не ежедневно. Другие домашние этого не подтверждали, но и не опровергали. Бабушка вздыхала, мать посмеивалась. Я была рыжей, как наш кот Тимофей. Правда, шуба Тимофея на свету отливала красноватым, а моя шевелюра была более скромного и благородного оттенка.
— Знаешь, какого цвета твои волосенки? — издевалась жестокосердная сестрица. — Цвета младенческих… какашек.
Я рыдала. Люська упивалась моим несчастьем. Сама она была хорошенькой, в маму: пышные каштановые волосы, ярко-синие глаза, высокая стройная фигура. Я же пошла в папу и бабушку. В довершение всех несчастий судьба даровала мне старшую сестру, которая в детстве меня топтала, а в отрочестве воспитывала.
Но вот после пятнадцати я вдруг стала замечать повышенный интерес к своей особе. Ловить взгляды молодых людей. Поначалу ежилась и опускала глаза, страшась пустого любопытства и сочувствия к своему уродству. Но ни жалости, ни отвращения в этих навязчивых взглядах явно не было.
Я стала подолгу разглядывать себя в зеркало. И убедилась, что со мною происходят замечательные перемены. Лицо оставалось все таким же дурацки-круглым. Зато кожа приобретала матовый, персиковый оттенок, на щеках заиграл румянец. Над этим румянцем сестрица тоже вдоволь потешалась. Он ко мне как приклеился.
И глаза стали другими. Как будто потемнели. Из них лился теплый загадочный свет. А мои волосы сделались даже предметом зависти подружек. Они не нуждались ни в завивке, ни в укладке. Достаточно было вымыть их хорошим шампунем, и пышная шевелюра покорно укладывалась на голове мягкими волнами.
В общем, к шестнадцати из безобразного подростка я превратилась в белокожую рыжую блондинку, которых обычно в народе называют «розовый зефир». Ну что ж, внешность не выбирают. Я смирилась, тем более что это довольно редкая масть. Были у меня и большие с ней неприятности. Веснушки, например. Но это как месячные. Нужно терпеть и не роптать. С природой не потягаешься. Но главное, я поняла, что вовсе не урод. И это открытие наполнило мою душу ликованием.
С кем меня только не сравнивали! Но с неведомой Лукрецией Панчатики — никогда. Я не считала себя полной невеждой. Кое-что я знала об итальянском Возрождении. Больше, конечно, понаслышке. Боттичелли, Рафаэль, Микеланджело. Но о Бронзино не слышала никогда, на него моя эрудиция не распространялась. Игорь задал нам с папой задачу. Я не обрела душевного равновесия, пока не увидела ее. На поиски ушло несколько недель. Мы перерыли всю Малаховку, потом отец устремился на поиски в Москву, к знакомым.
Но это было после вечеринки. А само Ленкино обручение стало вехой в моей жизни. Мне казалось, что до этого я только существовала, а после — вдруг начала жить. Время почему полетело вскачь, каждый день случались происшествия, счастливые или неприятные, и это было лучше спокойной и бесцветной пустоты, к которой я давно привыкла.
Помню, как мы стояли с Игорем у окна, и он, наливая мне в бокал апельсиновый сок, рассказывал о своем детстве. Целыми часами он разглядывал альбомы с репродукциями. Некоторые лица так заворожили его, что остались в памяти на всю жизнь. Одно из этих лиц — Лукреция Панчатики.
— Для меня не существует людей современных и прошлых. Я иду по улице и узнаю: вот это лицо я видел у Гольбейна, вот это федотовский тип…
— Федотовских типов, конечно, на улицах больше, чем брейгелевских или тициановских, — не удержалась я от насмешливого замечания.
— Ну почему же. Посмотри на ту девушку. Это же тициановская Флора, — едва заметным кивком он указал мне на одну из кузин Лены. Хорошенькая толстушка уписывала пирожное и ухитрялась болтать с набитым ртом. Со свойственным мне скептицизмом я подумала украдкой, что богатому воображению Игоря Иноземцева можно только позавидовать. А вдруг и я так же похожа на Лукрецию, как это пухлое, черноглазое создание на Флору?
Мы окончательно и демонстративно отгородились от остального общества, повернувшись к нему спинами. Игорь, глядя невидящими глазами в темные стекла окна, вспоминал:
— Год назад я встретил тебя одну возле столовой. И вдруг нахлынуло смутное воспоминание из детства. Я даже подумал, что мы с тобой жили где-то в одном районе и иногда сталкивались в булочной или во дворе. Долгое время ты оставалась для меня таинственной незнакомкой, подарившей мне тоску по прошлому. У тебя бывает такое?
Мы немного помолчали, прежде чем я решилась на откровенность. Есть вещи, о которых я не рассказываю никому.
— А меня очень зримо возвращают в детство запахи. Иногда знакомые звуки, мелодии. Летом на диалектологической практике я вошла в избу, и голова пошла кругом от знакомого запаха. Он мгновенно перенес меня лет на пятнадцать назад, в прошлое, в бабушкин дом под Касимовом. Этот удивительный дух в старых деревенских домах накапливается десятилетиями. Такая причудливая смесь запахов сеновала, кислого теста, овчинных тулупов, парного молока, печки, еще чего-то…
— Как здорово! И ты до того вкусно рассказываешь, что мне немедленно захотелось там очутиться, — с завистью признался Игорь. — Я никогда не бывал в таком доме, а деревню видел только издалека. Мы с Сержем, моим другом, давно мечтаем, но нам совершенно не к кому поехать…
— Как не был? А практика? — удивилась я и тут же вспомнила: у романо-германского отделения ни фольклорной, ни диалектологической практики нет. — Бедняги, как же далеки вы от народа!
Я посмотрела на него снизу вверх довольно снисходительно, а он охотно признал себя обделенным.
Мне казалось, что наша уединенная беседа длилась не так уж долго. И никто как будто не обращал на нас внимания. Все танцевали, болтали, чувствуя себя в этой огромной квартире совершенно свободными. Не тут-то было. Впоследствии выяснилось, что очень многие отметили наше странное сближение. Сначала к нам разлетелась Гонерилья с твердым намерением включиться в беседу. У нее была довольно своеобразная манера как-то сбоку подлетать к интересующему ее объекту, легко неся свое кургузое туловище, похожее на старинный комод красного дерева. Но я мгновенно захлопнулась, как раковина, и уставилась в окно. А Игорь, весело и непринужденно одарив нахалку двумя-тремя фразами, извинился и увел меня танцевать.
Я сразу отметила, как легко и необидно он избавляется от навязчивых людей. Я так не умею. Мы снова остались одни, но ненадолго. Подошла Аська и вкрадчиво напомнила, что они уходят. Пора, уже полночь. Действительно, только тут я заметила, что квартира наполовину опустела.
Мы стали прощаться. Сжав мои запястья горячими ладонями, Игорь тихо и многозначительно произнес:
— До завтра, Лукреция…
— Завтра воскресенье, — обронила я.
— Тогда до понедельника. Обязательно увидимся.
Сердце мое снова совершило грандиозный пируэт, подпрыгнуло, как гимнаст на трапеции, потом вознамерилось укатиться куда-то в пятки, но я грозным окриком вернула его на место. Держалась просто и сдержанно, даже суховато.
В прихожей уже поджидал Мишка, держа на вытянутых руках мою шубку из «Детского мира».
— Мадемуазель, сегодня моя очередь вас одевать. Все дамы распределены, а вы так увлеклись танцульками, что чуть не остались без провожатого.
Тут я заметила многозначительные усмешки. А Мишка, небрежно набросив на меня шубку, деловито ее пощупал:
— Рыбий мех. К вашим волосам, дорогая, лучше подошла бы лиса.
Я ткнула его локтем в бок, чтобы отвязался, и мы шумной гурьбой высыпали на площадку.
На другое утро я проснулась и вспомнила: случилось что-то важное. Словно гром прогремел. Ничего особенного, сказала я себе. Может быть, встретимся в понедельник где-нибудь в наших бесконечных темных коридорах, и он весело бросит на бегу: «Привет, Лукреция». Приготовилась к тому, что именно так и будет, а потом закрыла глаза и позволила себе немного помечтать. Совсем немного, чтобы не расслабляться.
Больше всего на свете мне хотелось сейчас остаться одной. Одиночества — вот чего мне не хватало в общаге. Два года мы прожили на Ломоносовском, в обычной хрущобе, в маленьких комнатах на четверых. Это испытание осталось в прошлом. С третьего курса, как и положено, нас переселили в высотку. Это здание когда-то казалось нам прекрасным. А папа называл его уродом и монументальным чудищем. Впрочем, это снаружи, жить в нем было уютно и удобно.
Мы выбрали башню. В башне всего четыре этажа, по четыре комнаты на каждом. Это создавало иллюзию нормального жилья, а не казармы с длинными коридорами. К тому же мы с Аськой на зависть всем ухитрились найти «мертвую душу» и поселиться вдвоем в трехместной комнате. «Мертвая душа», девчонка с нашего курса, снимала жилье в городе и являлась раз в месяц попить чаю и припугнуть нас возможностью скорого возвращения.
Но на третий год совместной жизни Аська стала остро действовать мне на нервы. Она ни на минуту не могла оставаться в одиночестве, ей постоянно требовалось общество и, главное, разговоры. Молчания она не выносила. Когда в то воскресное утро я открыла глаза, она уже пристально наблюдала за мной со своего дивана, дожидаясь моего пробуждения.
— О чем это вы болтали вчера весь вечер? — тут же вцепилась она в меня, как коршун в беззащитного кролика.
— С кем? С Мишкой? — изобразила я полное неведение.
— Не прикидывайся! С Игорем, конечно. Весь вечер вы не отрывались друг от друга, как привороженные.
Еще вчера по дороге домой Аська пристально вглядывалась в меня, ждала откровений и подробностей, но так и не дождалась.
— Болтали мы о всяких пустяках, ничего интересного, — отвечала я, бодро вскакивая с постели и потягиваясь.
После вечеринки и излишеств, которые я вчера себе позволила, особенно трудно было заняться гимнастикой, но я без колебаний заставила себя посвятить ей минут двадцать. Пока я висела на притолоке, энергично размахивая конечностями, Аська нежилась в постели и все так же внимательно вглядывалась в меня. Что она хотела прочесть на моем лице, какие тайны разгадать?
Раньше я ей рассказывала о некоторых своих детских увлечениях, о Тольке Карасеве, который бегал за мной чуть ли не с седьмого класса. О Тольке она и сама бы узнала, потому что он повадился ездить к нам чуть ли не каждое воскресенье, но я быстро его отвадила. Карась ей нравился, она этого и не скрывала.
— Конечно, он примитивен, как все технари, но если его немного отшлифовать, обкультурить, — размышляла Ася, словно прикидывая моего поклонника на себя.
Я бы и рада была сделать ей такой щедрый подарок, но, к сожалению, на это требовалось согласие самого Карася. В общем, после года совместной жизни Аське стало казаться, что она изучила меня до донышка, до самых тайных закоулков души. Глупая! В эти тайные закоулки не ступала нога человека, даже самого близкого. Отцу я никогда не рассказывала о своих романах из-за какого-то непонятного целомудрия. Ведь он все-таки мужчина, существо другой организации. Я даже опасалась, сумеет ли он правильно понять мои чувства. Наверное, мать и сестра по-женски, интуитивно постигли бы все тонкости моих ощущений, но зато они чужие…
Я уже закончила свою разминку и присела отдышаться перед тем, как окунуться в водные процедуры.
— Я случайно слышала какие-то имена — Суриков, Тициан, еще кто-то. Неужели вы весь вечер говорили о живописи? Что ему от тебя нужно?
Аську, как видно, зацепило всерьез, и она не могла думать ни о чем другом, кроме как о вчерашнем недоразумении.
— Ну и уши у вас, Анна Дмитриевна! — с шутливой укоризной отчитала я подружку. — Не нежные девичьи ушки, а двухметровые локаторы, знаешь, которые на балконах стоят.
Аська обиделась, даже подпрыгнула на своем диване:
— Я не подслушивала вовсе. Просто мы с Аликом танцевали рядом с вами, я поневоле слышала.
Но я уже выходила из комнаты, прихватив полотенце. Наш маленький этаж пустовал. Все или еще спали, или разъехались на воскресенье. Кухня и душевая были непривычно безлюдны. Правда, вскоре выплыла Аська и, покачивая пышными бедрами, профланировала на кухню с чайником.
Завтракать я отказалась наотрез, решила устроить разгрузочный день после вчерашнего. Аська ужаснулась. Для нее еда была наслаждением, и ритуалом, и наградой за трудности ученья и жизни в целом.
— Сдохнешь скоро со своими диетами, — каркала она, аппетитно намазывая на хлеб масло и паштет.
— Вот и хорошо. Будет у тебя вторая «мертвая душа». Останешься в комнате одна. Счастливица! — с завистью отвечала я.
Аська даже поперхнулась. Для нее это была бы самая тяжкая кара — жить в одиночестве. Больше она из меня не вытянула ни словечка, хотя упорно пыталась завязать разговор. Я села за свой стол и демонстративно углубилась в книгу. Аська сменила байковый домашний халат на атласный для выхода и отправилась этажом ниже поболтать с девчонками из нашей группы.
Я собралась за пять минут, вздрагивая от звука шагов за дверью. Все та же серая юбка, только блузка к ней черная, повседневная. Новую кофточку — «чайную розу», любовно погладив, я спрятала в шкаф для следующего парадного выхода. Теперь она стала счастливой.
Бродить по старинным улочкам, по любимым закоулкам Москвы в любую погоду хорошо. Но уж очень лютый выдался ноябрь. Грянули крещенские морозы, выпал снег. Был еще один очень уютный уголок, где я отдыхала от многолюдья общежития, — наша библиотека. Несколько огромных помещений к вечеру обычно заполняются до отказа. Но в воскресенье, если, конечно, не началась сессия, там тихо и безлюдно. Иной раз я сижу одна-одинешенька в одном из залов. В других маячат несколько голов забубенных отличников-зубрилок или таких же, как я, бездомных бедолаг, которым некуда податься.
Чего греха таить, я не была примерной студенткой. Но если какие-то зачатки знаний и улеглись в моей пустой голове, то только благодаря нашей читалке. Там я могла сосредоточиться над книгами. В общаге это получалось плохо. Каждые четверть часа открывалась дверь и являлся очередной посетитель: получить информацию, занять денег, поклянчить хлеба, картошки или попросту поболтать. Аське такая жизнь очень нравилась, а я боялась, что еще немного — и начну кидаться на непрошеных гостей. Поэтому спешила сбежать куда-нибудь подальше от греха.
В то ноябрьское воскресенье я побродила возле факультета по обледенелым аллеям, мимо могучих разлапистых елей, озябла и направилась в библиотеку. Так и есть: народ еще не проснулся, залы почти пустовали. Сначала позволила себе немного расслабиться: утонула в огромном кресле вместе с кипой журналов. Если бы я была богатой и беззаботной женщиной, я бы не бегала по магазинам и салонам красоты, а с утра до вечера читала бы журналы и толстые романы. Потому что я по природе — читатель. И на филфак пошла, чтобы всю жизнь провести рядом с книгами и дело подобрать себе книжное — например в издательстве или редакции.
Но через два часа я напомнила себе, что богатой женщиной едва ли когда-нибудь стану, внутренне стеная и проклиная судьбу, покинула уютное кресло, уселась за стол и раскрыла учебник исторической грамматики. Работа, только работа и еще раз работа — вот мое настоящее и будущее. Я не ждала золотых гор и перемены участи.
Заставив себя, я углубилась-таки в дебри исторической грамматики. Даже не заметила, как рядом замаячило какое-то синее пятно. Залы наполнялись, и я примирилась с соседом. Только бы не шмыгал носом, не шептался, не издавал острых запахов.
Историческая грамматика все-таки великая сила. Она лишает нас воли, разума и способности ориентироваться в пространстве. Я в этом убедилась, когда целую минуту разглядывала своего соседа и не узнавала его. Его! Игорь, подперев кулаком щеку, давно уже изучал меня как диковину, с нескрываемым удовольствием и ехидством.
— Такое лицо у Лукреции Панчатики могло быть только перед казнью, — шептал он, придвинувшись так близко, что наши локти соприкоснулись. — Сколько тоски, отвращения и в то же время готовности принять любые муки…
— Очень дурно! — сурово отвечала я, отодвигаясь от него. — Очень дурно подглядывать за людьми, когда они спят или пребывают в подобных экстремальных ситуациях.
Я постучала пальцем по учебнику. А его лицо мгновенно изменилось. Выражение проказливого, хитрого любопытства слетело. Я его здорово напугала. Он виновато, жалобно взмолился о прощении. Я улыбнулась одними глазами: это означало, что пока моя отповедь несерьезна, но в будущем я могу и рассердиться. Он с облегчением вздохнул и взглянул на меня с большим интересом.
Эту черту характера Игоря я разгадала быстро. Он обожал подглядывать за людьми, анализировать дурное и хорошее в знакомых и близких, коллекционировать какие-то нелепости, несуразности и отклонения от нормы в их поведении. Впрочем, благородные и возвышенные проявления человеческой природы он тоже отмечал. Игорь любил людей, в том смысле, что испытывал к ним не просто любопытство, а здоровый интерес. Я же любила только отдельных представителей, конечно самых лучших. А это несправедливо, эгоистично.
— Вот, решил сегодня посидеть в читалке, чтобы отдохнуть несколько часов от семьи и предков, — признался он, оглядывая шеренги столов и полок с книгами. — У меня было предчувствие, что непременно встречу тебя. А ты вчера со мной спорила.
Нельзя сказать, чтобы эти слова оставили меня равнодушной. Только бы дурацкий румянец не загорелся на щеках. Я молча опустила ресницы, как и подобает скромной барышне. Дала ему понять, что благосклонно внимаю, однако оставляю за собой право подвергать все сомнению. Очень даже наслышана от мудрых подруг, как блестящие, избалованные молодые люди, вроде него, охмуряют бедных золушек.
— А не пора ли нам покинуть этот храм науки и пройтись до смотровой, выпить где-нибудь по чашке кофе, — предложил он.
— Мне пора, я здесь уже пять часов. А ты, судя по всему, недавно явился, — напомнила я, складывая учебники.
Но мы не сразу оделись и вышли на улицу. Сначала, укрывшись от посторонних глаз, долго стояли у окна на втором этаже. Он курил, а я рассказывала ему о своих бесконечных мытарствах и испытаниях: сначала латынь, потом старославянский, теперь меня окончательно взялась доконать историческая грамматика, которую студенты давно прозвали «истерической». Сама не подозревала, что такая болтливая. На меня словно накатило.
Потом он говорил, а я слушала. Такие проблемы, как учеба, зубрежка, экзамены, Игорь то ли давно перешагнул, то ли вовсе их не знал. Он переживал совсем другие трудности. Сейчас, например, переводил прозу и стихи. Прочел мне несколько строчек из Китса. Пожаловался, сколько мук доставляет порой какая-нибудь непокорная строка. А иная фраза вдруг так гениально выпархивает сама собой. Как подарок, нежданно, нечаянно.
— А я-то, глупая, разнылась тебе про латынь! Ты ведь живешь в другом измерении, вернее, на другом этаже, — ахнула и ощутила прилив тоскливой зависти. — Мне кажется, я обречена на рутину. Сначала учеба, зубрежка падежей, потом служба с девяти до шести, корпение над чужими рукописями или тетрадками. Думаешь, у меня не бывает вдохновения, жажды творчества? Так хочется что-нибудь написать, перевести. Но нет для этого ни времени, ни сил, ни условий. Ты когда-нибудь пробовал творить в комнате общежития под присмотром двух-трех соседок? Тяжело сознавать себя средним, обычным человеком. Но я приучаю себя к этой мысли и к заурядной, рутинной жизни…
Весь этот трагический монолог я обрушила на Игоря. Не удержалась, выболтала даже свои тайны. Наверное, лет с семнадцати стали, как гусеницы из кокона, вылупляться первые мои рифмы, строчки. Потом полились стихи, порой целым потоком. Что это было, не знаю. Нечто неподвластное мне, совершенно стихийное. Папе очень нравилось. Но папа — судья нестрогий, и все, что я ни делаю, кажется ему замечательным.
При упоминании о стихах Игорь как-то тревожно и быстро взглянул на меня. Рыбак рыбака видит издалека, так и поэт — другого поэта. Он не был столь откровенен, как я, но, по-видимому, поэтическое вдохновение было ему знакомо. Так же, как неуверенность в своих первых стихотворческих опытах. А вот за «среднего человека» он меня даже строго отчитал:
— Почему ты вдруг зачислила себя в заурядные? Искру Божию никто не может определить и распознать — ни компьютер, ни бесспорный авторитет. Самоуничижение так же вредно, как завышенная самооценка. С ним жить нельзя. С ним нужно бороться. Как и с любым другим комплексом неполноценности.
Я признала его правоту и обещала бороться. Однако мы так заговорились, что прозевали ранние сумерки. На улице посинело, стекла стали совсем фиолетовыми, снова пошел снег. Тихо и величественно огромные пухлые снежинки планировали к земле. И наши проблемы, жизненные и учебные, показались вдруг такими смешными и ничтожными. Тихий ангел пролетел, и мы замолчали.
Еще утром я шла одна по тем же обледенелым аллеям. Теперь я их не узнавала. Снег вообще неузнаваемо меняет мир. Еще три дня назад не поверила бы, что буду гулять по этим аллеям с ним. Скорее могла представить рядом какую-нибудь мифическую личность — Майкла Джексона, например. И вот всего за одни сутки Игорь стал близким и понятным.
Говорить о пустяках не хотелось. Когда мы вышли к смотровой, я показала ему нашу башню и светящееся окно. Еще в сентябре я любила сидеть на подоконнике, свесив ноги, и смотреть вниз с тридцать третьего этажа.
— Ты и должна была поселиться в такой башне. Эта обитель как нельзя лучше подходит к твоему характеру. — Игорь задумчиво разглядывал памятник сталинской архитектуры, ставший нашим жилищем. — Когда я увидел тебя впервые, то подумал: какая неприступная девушка, никогда бы не решился подойти к ней первым.
Мне уже не раз говорили, какой высокомерный и холодный вид у меня на улице, в толпе, на людях. С близкими и друзьями я совсем другая.
— Это у меня от страха такой заносчивый вид, — призналась я. — От неуверенности в себе. Я жутко застенчивая. Для меня самое страшное испытание — войти в чужой дом, позвонить незнакомому человеку. Особенно боюсь чиновников и продавщиц. А они чувствуют мою слабинку и все время на меня орут. И неприступный вид — единственная защита и даже оружие.
Тут мне припомнилась Гонерилья. Вот уж кто давно бы затоптал и зашпынял меня, не научись я с гордым, независимым видом проходить мимо. Но об этом я Игорю не рассказывала. Он и не понял бы наших мелких бабских проблем и стычек. В такой вечер совестно было сплетничать и болтать о пустяках.
Таких крупных снежинок я никогда раньше не видела. Неповоротливые, лохматые, они мягко, как белые шмели, планировали на землю, то и дело обжигали щеки и лоб.
Смоленский рынок перехожу,
Полет снежинок слежу, слежу…
[1]
—
вдруг шутливо пропел Игорь, а я тут же подхватила. Нам понравилась игра. Один из нас начинал, другой подхватывал. Мы читали одну-две строчки из любимых стихов, потом скандировали вместе. Вместе со стихами накатила на нас непонятная буйная радость. Мы бегали как дети, швыряли друг в друга снежками. Мокрый снег так хорошо лепился.
Когда нам надоела зима, мы вспомнили «Озеро Чад». Случайный прохожий испуганно шарахнулся в сторону, когда мы, распевая стихи, пронеслись мимо…
Виновных нет: все люди правы
В такой благословенный день!
[2]
—
шепнула я, но Игорь услышал. Несмотря на то что зима еще только подступала, нам почему-то казалось, что весна близко и сулит нам нежданное-негаданное, новые надежды и перемены.
— Ну, что-нибудь еще прочитай на прощание. Мне нравится, как ты читаешь стихи, — просил Игорь на ступеньках высотки, сжимая руками мои запястья.
— Ничего не приходит на память. — Я покачала головой и попыталась вырваться. — Немудрено: у меня сегодня маковой росинки во рту не было, разгрузочный день.
На самом деле стихи наплывали, навязчиво просились высказать их вслух, но все они были про любовь. А это слово я ни за что бы не произнесла.
— Прощаться не будем, всего лишь до завтра, а завтра почти наступило, — скандировал Игорь, помахав мне вслед. — Ну что, похоже на стихи?
Взбираясь к себе в башню, я, переводя дух, читала:
Принцы только такое всегда говорят,
Но я эту запомнила речь, —
Пусть струится она сто веков подряд,
Горностаевой мантией с плеч.
[3]
Последние слова я произнесла уже за дверью своей комнаты, представ перед озадаченной Аськой. Моя соседка только что разогрела остатки ужина и собиралась их прикончить. Она ужинала часов в шесть-семь, но на сон грядущий обязательно замаривала червячка.
— Двенадцатый час! Ты что-то загуляла, мать! — не без упрека напомнила она, доставая с подоконника кефир и черный хлеб — мой скудный ужин.
Эта забота меня тронула. Как видно, что-то странное уловила Аська в моем облике, настроении, потому что поглядывала на меня с любопытством. А когда я достала из сумочки подмокшие тетради и вытряхнула снег, она не знала, что и думать, только возмущенно повела плечиками.
— Что у тебя сегодня на перекус? — Я наклонилась над маленькой сковородкой, от которой шел такой вкусный парок.
Аська смутилась. Сколько раз я ругала ее за макароны с сыром, любимейшее блюдо. У девицы прекрасная фигура, но зверский аппетит и дурные привычки — склонность к мучному и сладкому. Уже сейчас очевидно, что к тридцати Аська потеряет свои заманчивые очертания, а к сорока безобразно расплывется.
Я решительно придвинула к себе сковородку и не оставила ни единой макаронинки. Аська превратилась в соляной столб, как жена Лота.
— Тебе все равно нельзя, дорогая, а я так проголодалась, — нахально объясняла я подруге свой странный поступок.
— Зато тебе все на пользу, — ворчала Аська, убирая сковородку и гремя чашками. — Ты же совсем не ешь макарон, никогда якобы.
— Никогда, никогда! «Никогда? Что за мысль несказанная», — возразила я.
Отныне для меня почти не существовало «никогда», только «всегда». Я убедилась, что в жизни может произойти все, что угодно, — любое чудо, нечаянная радость, немыслимые перемены.
Аську я быстро утешила: извлекла из стола плитку шоколада, дожидавшуюся своего часа под стопкой тетрадей. Когда мы уезжали в Москву вечером в воскресенье, папа украдкой совал нам в сумки что-нибудь сладенькое. Аська, увидев шоколад, даже захлопала в ладошки и подпрыгнула на цыпочках. Раньше мы с ней заедали этими гостинцами мелкие неприятности и стрессы, вызванные латынью или исторической грамматикой. Но на этот раз наша маленькая пирушка получилась веселой и беззаботной.
— Папа, один человек сравнил меня с некоей Лукрецией Панчатики. Эту знатную даму когда-то написал Бронзино. Если бы ты знал, до чего мне не терпится на нее посмотреть.
Мы с отцом бродили краем леса — наша обычная прогулка, — и я наконец решилась поделиться с ним своей тайной. Пока не всей, только частью. За эту неделю произошло еще много чего. Вечерами после читалки мы с Игорем обходили те же аллеи вокруг высотки. Он попросился в гости, очень уж хотел посмотреть башню. Я выбрала время, когда Аськи не было. Но все равно его визит не остался незамеченным. Впрочем, я и не пряталась. Просто не хотела ставить соседку в неловкое положение, навязывать ей гостя.
А на будущей неделе мы собирались в консерваторию. Но об этом я папе не рассказала. Рано. Голова у меня пока не пошла кругом. Я ничего особенного не ждала. Все еще не понимала, что во мне могло заинтересовать такого парня. Может быть, это каприз? Или пари? Но через несколько дней опасения улетучились. Игорь благородный, тонкий человек, не только на подлость, но и на легкомысленную слабость не способный. А если рано или поздно он во мне разочаруется, я отнесусь к этому спокойно. Столько дружб и увлечений расклеилось у меня на глазах без всякой вины с обеих сторон! Просто потому, что исчерпали себя.
— Ну что ж, зайдем к Вадику, — просто предложил папа, как будто Бронзино сто лет стоял у дяди Вади на полке.
Дядя Вадя учился вместе с отцом в школе. Мама называла его художником-неудачником. И отца она тоже считала неудачником, загубившим и ее жизнь.
— Неудачники заразительны, они словно распространяют вокруг себя эту болезнь, — говорила она зло и обреченно.
Моя мама учительница, хотя готовила себя к лучшей доле, а отец — скромный инженер-путеец, но я никогда не считала его неудачником. Объективно, в глазах обывателей он таким и является, но субъективно он замечательный и вполне состоявшийся человек. Благородный, умный, тонкий, но, на свою беду, слабый и неуверенный.
И дядю Вадю я не считала неудачником. Ну и что же, что он работает в школе, преподает рисование. Хороший учитель — это талант, призвание, а не жизненный крах. Разве все художники становятся знаменитостями? У дяди Вади была совсем другая беда. Вот уже несколько лет он сильно пил, совсем перестал выезжать на природу и писать пейзажи. А раньше мы часто уезжали втроем в глухие места. И пока дядя Вадя сосредоточенно запечатлевал какую-нибудь заросшую кувшинками речушку, мы с папой бродили в лесу или собирали ягоды. Много лет висят у нас в комнатах его пейзажи, но обыденными они так и не стали. Всякий раз теплеет на сердце, стоит только бросить взгляд на знакомую речушку или поле с васильками.
Конечно, первым делом мы с папой отправились к дяде Ваде, в надежде отыскать у него альбом Бронзино, а в нем — загадочную Лукрецию. Лучше бы мы туда не ходили. Нас встретила его злая, раздраженная жена. Какой-то тягостный дух несчастья и обреченности царил в их доме. А когда-то семья была счастливой и дружной.
Дядя Вадя был пьян, и мы едва вынесли получасовое общение с ним. Он суетился, разбросал по комнате альбомы и рисунки, но Бронзино так и не отыскал. Потом долго просил прощения и клял себя:
— Вася, ты меня презираешь, я знаю. Нет мне прощения. Я ничтожество, червь дрожащий, но продал, все продал. У меня была лучшая коллекция в Москве и Московской области.
Пьяные слезы ручьем бежали по его лицу. Видеть это было тягостно и горько. Когда мы с облегчением очутились на улице, папа вздохнул: жалко Вадьку. А я подумала, что мне больше жалко его жену и сына. Какое счастье, что мой папуля не пьет. Я взяла его под руку и прижалась щекой к его плечу.
— Не горюй! — утешал он меня. — Завтра дежурю в ночь. А послезавтра утром поеду в Москву и добуду этого Бронзино.
Папа знал, какая я нетерпеливая, как тяжело мне ждать. Но я и вида не показала. Наоборот, уговаривала его не торопиться. Хотя знала, что папочка не успокоится, пока не исполнит мое желание. Так было всегда. Я догадывалась, к кому он поедет. У него много друзей, еще старых, институтских. В то время умели дружить, не то что сейчас. Я не сомневалась, что в конце концов Лукрецию найдут, и я смогу взглянуть на нее.
Люся не приехала в это воскресенье, комната была только моя. Мы с папой разговаривали до полуночи и изучали энциклопедический словарь, откуда почерпнули о Бронзино кое-какие скудные сведения. Но в полночь в стену постучала мама и сердито приказала немедленно отправляться спать. Папа ушел укладывать для меня продукты в сумку. Завтра утром он проводит меня на станцию к электричке.
Прошло то время, когда я засыпала как сурок, едва коснувшись головой подушки. Теперь на душе у меня царил сумбур. И я, часами глядя в потолок, тщетно пыталась разложить все по полкам, как прежде, приклеить ярлыки и четко обдумать завтрашний день. Не получалось.
Дверь в нашу комнату была приотворена. Там собралась шумная компания. Аська любила многолюдные чаепития, посиделки, поэтому в мое отсутствие в нашу уютную комнату тут же устремлялись любители поболтать и убить время. На этот раз у них завязался оживленный спор, но Мишкин баритон уже подавил девчоночью нестройную разноголосицу и в эту минуту выносил авторитетный приговор:
— Нет, не скажите! Игумнова не на любителя, а на знатока, гурмана, тонкого ценителя, девочки. Очень редкий женский тип — золотые волосы, белая кожа, этот дивный румянец… Когда мы составляли список красавиц факультета, она без труда попала в первую десятку…
Кто-то пытался Мишке возразить, но я не стала мешкать и вошла. Девицы из нашей группы и две соседки очень смутились и смолкли на полуслове.
— Обсуждаете мою скромную персону? — спросила я с улыбкой, снимая пальто и бросая сумочку на кровать.
Но Мишка даже бровью не повел и ответил нахально:
— Пока только твой внешний облик, дорогая. Я, кстати, дал самые что ни на есть лестные характеристики. Не успел обсудить твою фигуру, бюст, щиколотки, прочие данные. Ты помешала своим приходом. Но скоро мы возьмемся за твой внутренний мир, Лорик. И тогда держись! В твоем характере немало изъянов.
Девицы захихикали, и я тоже не выдержала — рассмеялась. Ну разве можно сердиться на этого паразита! Сплетни и перемывание косточек и скелетов своим одногруппникам и однокурсникам было обычным времяпровождением в общаге. И чего греха таить, я сама не раз принимала участие в подобных обсуждениях. Мишка всегда делал это добродушно и необидно. Не то что девицы…
Мишка пришел к нам с рабфака, после армии. Намекал, что за плечами у него богатая событиями и приключениями жизнь. Я относилась к его рассказам с большим недоверием. Тем не менее ему было двадцать четыре года и он собирался жениться на милой аспиранточке с юридического. Все это создавало ему, легкомысленной голове, репутацию многоопытного и мудрого мужчины. К нам он относился как старший брат. Девчонки доверяли ему свои тайны, просили совета. Мишка охотно советы давал.
Иной раз от чистого сердца он готов был всучить совет насильно, хотя никто его об этом не просил. Случалось, бесцеремонно совал нос в наши дела. Но на Мишку нельзя было обижаться. Мишка есть Мишка. Моя сестра Люська просто возненавидела его после недолгого знакомства.
— Трепло, сплетник, гнилая душонка. Типичный гуманитарий. Только у вас на филфаке можно встретить подобные экземпляры! — возмущалась она.
При чем тут филфак? Уверена, у них в политехе тоже такие мужики есть. И в любом другом вузе.
Когда девицы одна за другой выкатились из комнаты, Мишка задержался и, заговорщически подмигнув мне, шепнул:
— Имей в виду, что бы ни случилось, я всегда на твоей стороне.
Иди ты к черту, чуть было не сказала я ему, но только устало махнула рукой и, присев на краешек дивана, задумалась. Я этого ждала — пересудов, обидного недоумения, косых взглядов. Но не думала, что это обрушится на меня так скоро. Мне казалось, что наши прогулки по Воробьевым горам всегда уединенны. Но вскоре убедилась, что повсюду есть зоркие глаза и чуткие уши.
На переменах Игорь поджидал меня возле аудитории, и мы убегали куда-нибудь на чужой этаж. По наивности я полагала, что такие меры предосторожности оттянут разоблачение. Игорю об этом не говорила, но он, наверное, догадывался, почему я ищу уединения. Сам он не желал соблюдать конспирацию, открыто подходил ко мне в коридоре и в читалке.
А сегодня после лекции мы вышли из аудитории и тут же наткнулись на Игоря, небрежно восседавшего на пустом газетном прилавке. У Аськи вытянулась физиономия. А мне стало совестно за свою суетность и трусливость. Чего я так боюсь, Пересудов все равно не избежать. Так, значит, нужно встретить недобрую молву достойно.
В нашем узком кругу, общежитском и факультетском, каждый новый роман встречался с большим любопытством и азартом. Даже кратковременное увлечение подвергалось самому тщательному анализу и суду. Намечались перспективы — скорое охлаждение, разрыв, скандал, измена. До помолвки прогнозы доходили редко.
По устоявшемуся мнению, у Иноземцева где-то там, в его кругу, была девушка, одноклассница, студентка театрального училища. Ко мне захаживал студент с мехмата, который выводил меня по вечерам гулять на смотровую и приглашал в кино. То есть оба мы были пристроены и вдруг нарушили статус-кво. Многих этим поставили в тупик. Аська тоже не знала, что и подумать. Но в разрешении любых загадок шла всегда по самому примитивному пути. Так и в нашей ситуации. Она, во-первых, тут же присоединилась к общему мнению: это грубый мезальянс. Во-вторых, всю вину возложила на легкомыслие и коварство Иноземцева.
Целый час она мучилась, не зная, как приступить к важнейшему разговору. Промолчать Аська просто не могла, ее раздирала новая чесотка — предостеречь подругу, не дать мне увязнуть в сетях соблазнителя.
— Лариса! — наконец произнесла она торжественно, и голосок ее пресекся от волнения. — Надеюсь, ты не строишь никаких иллюзий? Я страшусь только одного: что тебе будет больно, очень больно, когда он…
Тут Аська запнулась, подбирая слово. Сказать «бросит» — слишком вульгарно и грубо, «охладеет» — манерно.
— Иллюзий не питаю, успокойся, — отвечала я, даже не обернувшись к ней из-за письменного стола. — Своими страданиями тебя не обеспокою, плакаться в жилетку не буду. И вообще, мы с Иноземцевым просто друзья.
— Ох, не верю я в эту дружбу, даже если он ее тебе предлагает, — по-бабьи пригорюнилась Аська. — У него есть невеста, девушка из хорошего семейства. Но ему зачем-то нужно вскружить голову и тебе.
Аська говорила так, будто я девчонка из бедного квартала, а Иноземцев — опытный соблазнитель, который губит свои жертвы из одного охотничьего азарта.
— Знаешь, что выдала сегодня Гонерилья? Принц и Золушка! Какая наглость! Она всерьез считает себя отпрыском какого-то таинственного дворянского рода. Дворняга! — возмущалась Аська.
— Мнение нашей бабы-яги меня совсем не интересует, — чуть не взорвалась я, но вовремя сдержалась.
Тут я встала перед Аськой во весь рост, сурово взглянула на нее (бедняжка даже съежилась под моим взором) и произнесла строго, официально, как резолюцию:
— Анна, я благодарна тебе за участие, но впредь запрещаю говорить на эту тему. Запрещаю вмешиваться в мои дела! За спиной можете сплетничать сколько угодно, вам не привыкать.
Я тут же снова уселась за стол и углубилась в книгу, а Аська, пятясь к двери, примирительно залепетала:
— Хорошо-хорошо! Больше ни слова… Я свой долг исполнила. Предупредила тебя…
Она мягко притворила за собой дверь и надолго исчезла. Наверное, спустилась вниз к девчонкам и во всех подробностях, с комментариями описала наше объяснение. А я поставила перед собой зеркало и начала репетировать новую маску. «Сделала» непроницаемое лицо и постаралась удержать его как можно дольше. Теперь мне предстояло жить с этой маской. Надевать ее каждый день на факультете, да и в общежитии покоя не будет от намеков и вопросов с двойным дном.
Можно было попробовать беззаботно-веселую или ироническую маску. Но это труднее. Притворяться я не умела. Я выбрала непроницаемую, самую простую.
Как-то вечером, когда мы с Аськой приросли к своим столам, уткнувшись в книги (сессия началась), вошел папа. И по его торжественному виду я поняла, что не с пустыми руками. Сердце мое заполошилось. Я так суетилась от волнения, что смахнула на пол все свои записи и тетради. Аська деликатно удалилась, помахав пустым чайником. Обещала вернуться через полчаса и накрыть на стол. Она рада была любому развлечению в это беспросветное время, любила пить чай с моим папой и разговаривать о жизни. У бедной Аси не было отца, и она мне очень завидовала.
Оставшись в одиночестве, мы тут же склонились над альбомом. Мне понадобилось несколько минут, чтобы увидеть ее, эту женщину, сыгравшую такую большую роль в моей жизни. Она уже стала для меня не просто портретом.
— О, папа! Какая она… — поневоле вырвался у меня разочарованный и испуганный возглас.
Какая, я вначале не смогла бы определить. Конечно, я заметила бы это лицо, даже проходя мимо в гулком зале галереи, даже если бы картина висела где-нибудь под потолком и была небольшого размера. Лукрецию невозможно не заметить. Она смотрит на вас в упор пристальным, строгим, неулыбчивым взором.
— Теперь я понимаю, почему он сравнил меня с ней, — сказала я упавшим голосом.
Я словно увидела себя со стороны. Свое непроницаемое лицо, свою отчужденность, свое ложное высокомерие, которое я по привычке демонстрирую, боясь показать робость и застенчивость. Папа сразу все понял и стал горячо меня разубеждать и заодно вступился за Лукрецию:
— Ты не права, Лариса! Она очень красивая, величественная и неприступная. Дама из самого высшего общества, чего же ты хочешь. Улыбчивые, сладкие лица — это, в конце концов, банально. Бронзино нашел свою манеру, неповторимую и очень впечатляющую. Посмотри, у него ни одного улыбающегося лица. Все спокойные, даже суровые, словно выточенные из мрамора.
— Вот именно, каменные. У меня тоже каменная физиономия, мне об этом уже не раз говорили, — вздохнула я.
— Да, у тебя почти всегда строгий, неулыбчивый вид, — согласился папа. — Но далеко не всем идет улыбка, особенно фальшивая, приклеенная. Некоторых красит грусть или спокойная сдержанность. У твоей любимой поэтессы было лицо монашки из старообрядческого скита. Она вообще не умела улыбаться.
Пример с Ахматовой меня очень успокоил и воодушевил. Папа умел меня утешить, знал все больные струнки моей души.
— Приглядись к ней получше, и она тебе понравится. А дня через два отвези альбом Антоновым, — попросил папа.
Через несколько минут мы уже сидели за столом. У Аськи рот не закрывался, а мой отец внимательно слушал. Я отдавала ей на откуп все описания и подробности нашего скудного быта. Мне скучно было рассказывать об этом, но родителям все подобные мелочи просто необходимо знать. Аська, негодница, меня тут же продала, нажаловалась, что я ничего не ем, берегу фигуру. Папа очень забеспокоился:
— Я тоже замечаю в последнее время, что она побледнела, осунулась и круги под глазами…
Тут Аська слегка приподняла свои тонкие бровки и вытянула губы трубочкой. У нее очень интересный язык жестов, всем понятный. Этот несомненно означал, что причиной моего болезненного вида может быть не только плохое питание. Папа внимательно посмотрел на Аську, потом на меня, но промолчал. Конечно, он давно замечал, что со мной что-то происходит, но не хотел надоедать вопросами, просто ждал, когда я сама расскажу.
Я проводила папу и снова села за учебники, перед этим показав Аське кулак. В наказание больше не произнесла ни слова до часу ночи, пока мы не легли спать.
Теперь, стоило Асе выйти из комнаты, как я доставала альбом, чтобы еще раз взглянуть на Лукрецию. И чем дольше смотрела на нее, тем заметнее теплело ее мраморное лицо. Глаза мне показались сначала холодными и пустыми. Но вдруг в них заплясали иронические искорки. Лукреция посмеивалась надо мной. И правильно делала. Полезно взглянуть на себя со стороны, но непростительно впадать в отчаяние от своих недостатков.
Год назад мне пришлось переводить на экзамене латинскую фразу: «Благодарю тебя, Господи, за то, что я есть — такая, как я есть».
Первый угар от наших встреч прошел. Я даже стала привыкать к этому чуду. И задумываться. Хотя моя сестрица Люся в минуту раздражения говорила, что мне лучше этого не делать, мои слабые извилины просто не выдерживают такой нагрузки. Поэтому, язвила Люська, тебе лучше жить чужим умом, благо у тебя есть родственники.
Но я бы скорей умерла, чем попросила совета у сестрицы. Больше всего меня тогда волновало: как строить дальше свои отношения с Иноземцевым? Каждый день он подходил ко мне на факультете и приглашал, даже не приглашал, а сообщал, как о решенном деле, что мы идем на прогулку, или на спектакль студенческого театра, или на выставку Малевича, или в консерваторию. И знал, что я тут же с готовностью разлечусь навстречу. Отказа просто не предполагалось. Еще полгода назад я говорила, что готова стать рабыней такого человека, посвятить ему жизнь, служить ему, помогать в работе. Участь Анны Григорьевны Сниткиной, в замужестве Достоевской, меня не только устраивала, но казалась счастьем. Все это оказалось книжным мечтанием. Моя затаенная гордыня заявила — рабыней быть не хочу.
В школе у меня как-то расстроились отношения с одной из близких подруг. Я переживала это как драму. Сестра по этому поводу прочитала мне цикл лекций на тему «Об отношениях».
— Отношения с людьми ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Их нужно продумывать, строить, кропотливо, с терпением, — вразумляла она меня. — Конечно, в том случае, если эти люди тебе нужны или ты вынуждена существовать с ними под одной крышей. Потому что иногда лучше безжалостно порывать исчерпавшие себя отношения. Как в твоем случае, например.
Сестрица расхаживала по комнате из угла в угол, постукивала карандашом по столу, привлекая мое внимание к ключевым моментам своей лекции. Я не во всем с ней соглашалась.
Люська уверяла, что необходимо строить отношения не только между чужими людьми, мужем и женой, например, тут уж сплошное моделирование и конструирование. Но и между родными: родителями и детьми, сестрами и братьями.
— Не может быть, — возражала я. — Отношения между родными складываются естественно, интуитивно. Строит их только природа, любовь, привязанность.
— Какое заблуждение, невежество! — возмущалась Люся. — Естественно, интуитивно — это хаос. Хаос в отношениях нужно немедленно искоренять. Он приводит к неминуемым несчастьям, ссорам, разочарованиям и взаимной ненависти.
Как видно, Люськины уроки не пропали даром, хотя я и пыталась спорить с ней до хрипоты, отстаивая естественность. Во многом я с ней соглашалась. Например, в том, что нельзя слишком часто встречаться даже с близкими друзьями. Быстро наступает пресыщение, люди начинают друг друга раздражать. Только очень близкие по духу, родственные души способны выдержать подобное испытание — долгое существование под одной крышей или слишком тесное общение.
На собственном опыте я убедилась, что самые добрые отношения могут себя исчерпать. Нужно научиться вовремя, не затягивая, и мирно расставаться. Моим родителям было бы гораздо мудрее расстаться лет десять назад. Сейчас у матери не было бы повода обвинять папу в том, что он загубил ее жизнь. Ее жизнь самая обыкновенная, не загубленная. Люся говорит, мама не реализовалась. Но виновата в этом только она сама, ее инертность и недостаток силы воли.
Ничего не поделаешь, мы живем по средствам, а средства отпускает жизнь. Наш убогий быт никогда не позволял строить разумные, хорошие отношения между людьми. Если бы у нас была крыша над головой, мы бы с папой забрали к себе бабушку и поселились втроем под этой крышей. К маме и Люсе ходили бы в гости, по праздникам вместе садились за стол. И была бы у нас замечательная, правильная и мудрая жизнь.
А сейчас уже поздно. Люся пишет диплом. Как бы ни сложилась ее жизнь, она никогда не вернется в наш постылый поселок. Она его ненавидит какой-то лютой ненавистью. Я мечтаю уехать далеко на север, куда-нибудь в Архангельск. Отношения — великая наука, которой мои родители пренебрегли. У них все шансы упущены. А у нас с Люсьен все впереди, и это возлагает на меня большую ответственность. В судьбу я не верю. Свою жизнь мне предстоит создавать, лепить самой, своими невеликими силами и более чем скромным умом.
А сейчас мне предстояло построить отношения с Иноземцевым. Это было первое в моей жизни крупное строительство. Когда он на следующий день поймал меня в коридоре и пригласил вечером на прогулку, я отказалась. Очень мягко, необидно, но решительно. Конечно же я ни словом не обмолвилась о своих опасениях. О том, что слишком часто встречаться опасно: быстрее наступит пресыщение и разочарование.
Доводы были простые и разумные — сессия. А для меня эта сессия стала особенно тяжелой. Долгие прогулки пока роскошь. Он внимательно слушал, склонив голову к плечу. Медленно и важно кивнул в знак того, что понимает и способен войти в чужие обстоятельства. Но мне показалось, что он слегка удивлен отказом. Как видно, не привык к ним. И к тому, что его общество отвергают даже по уважительным причинам.
— Ну что ж, до завтра! — Он помахал мне на прощание рукой.
— До завтра, — машинально повторила я.
Но на следующий день на факультете не появилась. Просто незачем было. Через два дня зачет. Аська в сессию предпочитает заниматься дома, потому что бабушка и мать обеспечивают ее регулярным и полноценным питанием. Когда комната поступает в мое распоряжение, читалка уже не нужна. К тому же в сессию она становится непригодной для работы. Места нужно занимать с утра. Пришедшие после полудня часто покидают ее несолоно хлебавши.
Итак, я занималась в комнате одна. Даже дверь запирала, чтобы праздношатающиеся не отвлекли. Каждые три-четыре дня папа привозил мне продукты и даже борщ варил. По вечерам заглядывал мой приятель, математик Володя, и выводил меня на часок проветрить.
Вернее, я проветривала непутевого Володю. Чрезвычайное умственное напряжение требовало соответствующей разрядки. И математики разряжались на всю катушку. Сутками они играли в карты, почти не выходя из комнаты и подкрепляя себя только сигаретами и вином.
После этих оргий Володька являлся к нам обуглившийся, с темными кругами у глаз, часто и проигравшийся. Мы с Аськой отпаивали его чаем и по-матерински вразумляли. Володька бил себя в грудь и клялся покончить с картами, вернуться к здоровому образу жизни. Но вскоре снова как в яму проваливался…
Я бродила по темным аллеям с Володькой все равно что наедине с собой. Бездумно, легко было на душе. Прошел только месяц после вечеринки у Лены Мезенцевой. Но этот месяц словно сконцентрировал в себе долгие годы и взвалил на мои плечи стопудовую усталость. Требовалась передышка.
Многие мои приятельницы углядели бы женский умысел и хитрый ход в моем поступке. В том, что я прекратила наши ежедневные прогулки. В романах и кинофильмах мудрые девушки порой так и поступают, чтобы набить себе цену и крепче привязать поклонника, ибо мужчины не любят слишком доступных. Но я для подобных интриг была слишком простодушна. Просто этот напряженный, неправдоподобный месяц лишил меня последних сил. И теперь я наслаждалась покоем, одиночеством, совсем не заглядывая в завтрашний день.
В этот предновогодний день ухитрились втиснуться несколько знаменательных событий — и неприятных, и добрых. Теперь уже и дни наступили насыщенные, а раньше пролетали пусто, как один час.
Я зашла ненадолго в библиотеку сдать отработанные книги и учебники и загрузиться новыми. Едва успела подняться из подвала по крутой лестнице, как на меня набросилась Гонерилья. Напрасно я пыталась отделаться легким кивком и ретироваться. Эта рыжая сатана так и впилась в меня всеми десятью когтями. Она недавно с помощью хны превратилась из иссиня-черной брюнетки в нечто палево-красное.
Год назад Ольга организовала на факультете свой неофициальный семинар, куда по ее замыслу должны были влиться лучшие научные силы, сливки студенчества. Время от времени они собирались в пустой аудитории или на квартирах и читали друг другу доклады, сообщения, а потом обсуждали их.
Несмотря на шумную рекламу, эта затея не вызвала большого интереса. И никто не лез вон из кожи, чтобы удостоиться этой немыслимой чести — попасть на шабаш к Гонерилье. В общаге посмеялись и решили, что для Ольги это всего лишь повод заявить о себе. На факультете у нас была дюжина талантливых ребят, и все они жили в общежитии. Дутых интеллектуалов, натасканных репетиторами сынков, дочек и внуков знаменитостей я не считаю.
— Ты, конечно, слышала о нашем семинаре? — Она сверлила меня своими ястребиными желтыми глазами.
— Еще бы! На факультете только и разговоров, что о вашем семинаре.
— Понимаешь, нас не устраивает тот усредненный уровень, который нам навязывают. — Ольга пропустила мимо ушей мою реплику и начала доверительный разговор. — Наша программа рассчитана на середняков. Да и уровень преподавателей оставляет желать лучшего…
— А меня вполне устраивает, — призналась я. — И сама я как раз и есть тот самый середняк. А уровень каждый устанавливает для себя сам.
— Это верно, верно, — согласилась Ольга. — Но ты на себя клевещешь. Конечно, скромность украшает, но…
И тут она предложила мне сделать доклад по моей курсовой «Поэтика Достоевского» или на любую тему по моему усмотрению. Никогда не предполагала, что в ее голосе может быть столько тепла, участия и понимания. Гонерилья умела лицедействовать, и многие покупались на ее фальшивую ласку.
Это была ее любимая игра: приворожить какую-нибудь простушку, наговорить комплиментов, набиться в подруги. А когда бедняга разлеталась ей навстречу, распахнув объятия, Ольга с каким-то садистским наслаждением ее осаживала, выставляла на всеобщее посмешище, с холодным недоумением напоминала о ее месте, природном убожестве и бескультурье… У нее был целый набор отработанных приемов, унижать людей она очень любила. Наверное, это нужно было ей для самоутверждения.
Когда-то на первом курсе она и со мной это проделала. Мне так хотелось дружить со всеми. Все мои однокурсники казались мне такими необыкновенными, умными и талантливыми. Гонерилья преподала мне жестокий урок на тему «простота — хуже воровства». Я быстро опомнилась и дала отпор, а Аську она топтала долго. Потому что для Аськи Гонерилья была высшим существом из недоступного мира москвичей, куда Аська так стремилась.
Да, я умела давать отпор. Еще как! Но папа учил меня ладить с людьми, даже самыми невыносимыми, не давать волю раздражительности, не грубить. Поэтому я мягко отклонила столь лестное предложение. В марте я собиралась сделать доклад на своем семинаре по Достоевскому, мне этого было достаточно.
Наскоро простившись, я бежала от Гонерильи, украдкой перекрестившись. Потому что верила — встречи с ней сулят только несчастья. Но на этот раз получилось все наоборот. Я тут же столкнулась с Леночкой Мезенцевой.
Она курила у окна и, увидев меня, радостно замахала рукой. При этом искры от сигареты брызнули во все стороны. Ленка никогда не стряхивала пепел, отчаянно жестикулировала, поэтому все ее платья и даже пальто были в подпалинах. Я осторожно приблизилась к ней на безопасное расстояние. У Лены богатый гардероб, а я не могла рисковать единственной серой юбкой и черной водолазкой.
— Ты почему не была вчера на консультации? Игорь спрашивал о тебе, — огорошила она меня.
— Решила, что без этой консультации вполне обойдусь, — пробормотала я.
— И правильно сделала, время сберегла, — одобрила Ленка, норовя стряхнуть на меня новую порцию пепла. — А я давно хотела тебе сказать, Лорик. Наши факультетские Марьи Алексеевны затеяли неприличную возню. Несут всякий вздор об Игоре, будто он морочит тебе голову. Я знаю его много лет. Он замечательный человек и очень ответственный. У него все всерьез…
Тут Лена доверительно коснулась моего локтя, а я ловко увернулась от сигареты и слегка пожала ее руку. Как приятно доброе слово. На душе у меня потеплело. Тем не менее я отвечала равнодушным тоном:
— У нас с Иноземцевым самые невинные отношения. Не знаю, чем вызвана эта буря в стакане воды.
Ленка деликатно промолчала. Потом мы поболтали об экзаменах и ее предстоящем бракосочетании и простились очень довольные друг дружкой. Бывают же люди, которые одним своим присутствием дарят хорошее настроение. Я сама хотела бы стать такой, приносить хоть какую-то пользу людям. Но, увы, это талант, и дается он от природы.
Я открыла дверь комнаты и даже глаза зажмурила от удовольствия: ни души, тишина! Всего пять часов, а сумерки уже подступают, сначала сизые, потом синие и фиолетовые. В комнате особенно уютно, когда горит только моя лампа на столе. Я взобралась с чашкой кофе на широкий подоконник и долго смотрела вниз на безлюдные аллеи, по которым гуляла легкая пороша.
И вдруг — робкий, едва слышный стук в дверь. Сердце — вещун. У нас в общаге никто так не стучал. Обычно колотили нахально и требовательно. Я спрыгнула с подоконника и оглядела себя: потертые вельветовые брюки, папина рубашка. Вздохнула и крикнула:
— Войдите!
Он не вошел, а заглянул, такой неуверенный, виноватый, что у меня сердце сжалось, и тут же начал с извинений: мол, явился без приглашения, но всего на минутку, только убедиться, что у меня все в порядке.
— Ты очень вовремя: Аси нет, «мертвая душа» отсутствует. — Я распахнула руки и оглядела хозяйским взором свои владения. — Очень рада тебе. Проходи, будем пировать.
Кажется, я своей болтовней очень приободрила его. Он сделал шаг от порога и, снимая пальто, сказал с откровенной завистью:
— Как у вас здорово! Хочешь — поменяемся на мою комнату?
— Будешь жить с Аськой и с «мертвой душой»? Довольно пикантное сожительство.
— А ты с моими предками, — не без горечи бросил он.
Я накормила его борщом, не скрыв, что сварил его папа, а сама я ничего не готовлю да и не умею. Игорь с удивлением слушал, с какой любовью я рассказывала об отце.
— Мы, общежитские, редко ругаем своих ро-ди-чей. Обычно вспоминаем их с ностальгией, и вспоминается только доброе. Понятно почему. — В этих словах не было упрека, но он почему-то смутился.
Мы проговорили целых три часа — время, которое я собиралась добросовестно посвятить лингвистическим штудиям. Но и после того, как проводила Игоря до лифта, Реформатский и Соссюр[4] никак не шли на ум. До трех ночи сидела я за столом, глядя не столько в учебники, сколько в иссиня-черную темноту за окном.
Игорь жил на Ломоносовском проспекте, в одном из мрачных и громоздких домов сталинской эпохи. Они считались очень престижными, но мне логика престижности непонятна. Такое впечатление, что архитектура как искусство у нас после семнадцатого года выродилась, остался только план застройки.
Однажды вечером в начале весны мы бродили с Игорем по дворам и закоулкам, окруженным со всех сторон этими серыми монстрами. Недавно он показал мне свои окна и пригласил зайти. В ответ я жеманно поджала губы и опустила ресницы. Это означало, что скромной барышне недопустимо делать такие двусмысленные предложения. Игорь расхохотался, а я состроила еще несколько подходящих к случаю рожиц — от надменно-высокомерной до целомудренно-оскорбленной.
— Ты неправильно выбрала жизненную стезю, Лорик, — решил Игорь. — Такое дарование пропало.
Ничего и не пропало, в жизни все пригодится. А в театральном меня никто не ждал. Сто человек на место! Конечно, как и все девчонки, я в детстве хотела стать актрисой. Даже ходила в драматический кружок, сыграла несколько ролей. Но актерская мечта меня, к счастью, не зацепила.
И вот в тот вечер Игорь поднял голову на одно из светившихся окон и сказал:
— Серж дома. Один и, как всегда, в жуткой хандре. Зайдем.
Вначале я наотрез отказалась. Дело в том, что Иноземцев считал меня донором. В отличие от людей — черных дыр и вампиров, доноры подпитывают ближних своей энергией, поднимают настроение и разгоняют черную тоску. Он прямо-таки осязал светлую энергию, которую я излучаю.
— Вот еще. Не желаю тратить на твоего хандрящего друга свою энергию. Мне самой порой не хватает, — упиралась я, но Игорь настойчиво увлек меня в подъезд:
— Не будь такой жестокосердной. Серж тебе обязательно понравится. Обещаю.
И я сдалась. О Сереже я слышала не раз. Они дружили чуть ли не с детского сада. И теперь парень переживал трагические времена. Поступил он на биофак просто потому, что там работали отец и тетка. В этой среде принято было пристраивать детей поближе к себе. Чада шли по проторенным дорогам и не особенно задумывались ни о своей судьбе, ни о будущем.
Но Сергей был совсем другим. На первом курсе он почувствовал слабое беспокойство. На втором его одолели тревожные сомнения. На третьем он уже твердо знал, что не туда попал, надо уносить ноги и искать единственную, свою дорогу.
Но не тут-то было! Родители и слышать не хотели ничего о каких-то сомнениях и исканиях. Все давно найдено и устроено. Тем более парню грозила армия. Вот уже полгода продолжалась эта война. Сергей совсем зачах и пал духом. Факультет ему так опротивел, что он не мог там показываться.
Позицию Игоря я не понимала. Он как будто встал на сторону друга, но в то же время был решительно против ухода из университета, считая, что такие люди, как Серж, не для армии, его забьют всякие там «деды» в первый же год службы. Наверное, он был прав.
Я поняла это, когда нам открыл сам Сергей. Мы посмотрели друг другу в глаза. Никакая искра между нами не пробежала. Просто я почувствовала, что мы одного поля ягоды. Он был похож на нескладного подростка, худой, как отшельник в скиту. И ясные, как у отшельника, глаза, отрешенные и тоскливые. Он обрадовался нам как-то по-детски, осторожно пожал мне руку.
— Ну что, мизантроп, скучаешь? — бесцеремонно спросил у него Игорь. — У тебя даже свет в окошке какой-то унылый. Правда, Лариса?
Это большая редкость, когда люди, едва познакомившись, начинают говорить друг с другом легко и просто. Слово за слово, и мы с Сережей так увлеклись, что он даже поведал мне свою заветную, тайную мечту:
— Вот уже несколько лет только об этом и думаю: посадить весной зерна в талую землю, смотреть на первые всходы, радоваться, когда они заколосятся. Осенью сжать, смолоть — все своими руками. И испечь хлеб…
Тут вдруг его грустные глаза вспыхнули радостным светом. А я смутилась. Странные мечты у этого юноши. Я, конечно, с первого взгляда догадалась, что это потерянный, несчастливый человек. Он не может понять, кто он такой, зачем в этот мир явился и чем ему заняться.
Вернулся с кухни Игорь, принес нам на подносе чашки с чаем и бутерброды, и тут же принялся подтрунивать над Сержем:
— Неужели он уже открыл тебе свою душу? И чем ты его купила? Ну и что ты скажешь, Лора, о хлебе, испеченном своими собственными руками? Не проще ли пойти в булочную?
Я бросила на него негодующий взгляд. Но Сережа только виновато улыбнулся. Эти дружеские насмешки его ничуть не задевали.
— Но это же так просто, Сережа. — Я с большим участием отнеслась к его несбыточной мечте и стала давать советы: — У тебя, конечно, есть дача…
— Ну как ты не понимаешь, Лариса! На даче выращивают огурцы, лук, а не хлеб. — Его лицо даже исказилось от боли. — Да меня и засмеют. Это можно сделать только в деревне, настоящей.
И я стала рассказывать ему о деревне. Одна моя бабушка жила на окраине чудного городка Касимова, другая в Белоруссии. Лето я всегда проводила у них. Видела, как пашут поля, засевают огороды, по утрам выгоняют скот в поле. Но я любила деревню как горожанка, предпочитала полежать у речки или гулять по краю леса, пока бабушка с папой работали в огороде или косили на берегу сено для козы.
А нынче началось повальное увлечение деревней. Многие наши знакомые уже купили дома в ближайших Владимирской, Рязанской, Тульской областях и ездят туда по воскресеньям. Заброшенный дом можно купить рублей за триста. Я посоветовала Сереже подыскать себе такой. У него даже глаза загорелись.
Мы так увлеклись, что забыли об Игоре. Он прилег на диван и, закрыв глаза, слушал. Один только раз, вклинившись в нашу беседу, спросил:
— Я вам не мешаю, пастух и пастушка? А то могу удалиться на кухню. Кстати перекушу чего-нибудь.
— Оставайся, чего уж там, — милостиво позволил Серж. — Мы и не заметили, что ты еще здесь.
У нас на факультете была замечательная пара — Валя и Саша. Они поженились еще на втором курсе. Кое-кто над ними посмеивался, но нормальные ребята их уважали, хотя и не совсем понимали. Они собирались уехать в какую-нибудь глухуюдеревню и учить там детей. Они считали, что все мы виноваты перед нашей нищей, униженной деревней, пришло время отдавать долги и помочь ей подняться на ноги.
— Неужели такие люди бывают? — простодушно воскликнул Сергей.
— Очень редко, но встречаются, — подтвердила я. — Чудаки, подвижники, на которых и держится мир. Нам, обывателям, они кажутся странными и непонятными.
Я пригласила Сергея к нам в башню и обещала познакомить с супругами Медведевыми. Он обрадовался и напросился на ближайшие дни. Бедняге, кажется, не с кем было поговорить. Игорь больше насмешничал и наставлял его жить по собственным понятиям и меркам.
Когда мы очутились на улице, Игорь поймал мою руку и спросил не без ехидства:
— Кажется, встретились родственные души? Я присутствовал при сем знаменательном событии. А мы с тобой родственные души, как ты думаешь, Лукреция?
— Мы с тобой нет, — уверенно отвечала я. — Но это ничего не значит. Вы с Сергеем совсем разные, тем не менее дружите много лет.
Я нисколько не кривила душой, когда говорила Аське и Лене Мезенцевой, что мы с Иноземцевым просто друзья. Долгое время так оно и было. Но дружба бывает разная. Я так и не поняла, что нас вначале связывало с Игорем. По-моему, чувственного влечения, как такого, вовсе не было. Только непонятное притяжение, любопытство, долгие беседы и споры.
Наконец через два-три месяца я решила рассказать отцу о своих отношениях с Игорем, которые так и не смогла определить. Тогда я назвала их дружбой, хотя они уже перешли ее рамки. Но папа все еще оставался идеалистом, эдаким старомодным шестидесятником и не без труда воспринимал реалии конца восьмидесятых.
Чтобы не будить излишние тревоги, я отцу далеко не все рассказывала. Гораздо важнее было обсудить с ним некоторые проблемы, например проблему неравенства. Почему-то все считали, что мы не пара. Мне это было непонятно.
— В детстве я свято верила, что наше общество — самое справедливое. Ты, кстати, папуля, долго поддерживал во мне эту иллюзию. Теперь-то я знаю, что нигде нет такого оголтелого холуйства, неравенства и всяческих социальных и экономических уродств, как у нас.
Отец очень смутился, а я ругнула себя за неосторожность. Он во всем считал себя виноватым: и в том, что недостаточно хорошо воспитал нас, и в том, что в стране творится черт знает что и совсем нечего есть. Обостренное чувство ответственности за все происходящее Люся считала большим его недостатком.
Я вспомнила, как учительница в начальных классах ставила только пятерки одной недалекой девочке, дочери секретаря райкома. А наша мама много лет поддерживала вымученные добрые отношения с заведующей промтоварным магазином. И занималась с ее сыном-тупицей, чтобы обувать и одевать нас. Разве это не уродство?
Папа вздохнул, хотел было возразить, но передумал.
— Сколько тебя помню, ты каждую неделю брал рюкзак и отправлялся в Москву за продуктами. Выстаивал несколько очередей за мясом, колбасой, маслом и к вечеру, усталый, возвращался домой. Целые области устремляются в Москву за едой. Как это унизительно и бездарно.
Но папу не интересовали житейские проблемы. Он всегда морщился, когда знакомые жаловались на быт и неустройство. А вот высокие материи он обожал, любил пофилософствовать и поговорить с друзьями о политике.
— Ты ведь начала, кажется, с привилегий? Кто родителя Игоря? Расскажи.
Папа постарался вернуть меня к нашим баранам. Как он беспокоился, бедный, когда у Люси появился поклонник. Как будто его дочери угрожала опасность.
Мать Игоря преподавала у нас на факультете французский, а отец был деканом в каком-то техническом вузе. Не министром и не космонавтом. Почему-то все считали, что я ему не пара.
— Люди очень любят свои привилегии, большие, маленькие и даже мнимые. Ради привилегий часто идут на любую низость, борются за них, не считаясь со средствами.
— Какие привилегии, папа! Они живут в Москве, мы в Малаховке, они — в кирпичном доме, мы — в блочном.
— То, что говорят все, не имеет значения. Главное, как Игорь относится к своему статусу мальчика из приличной семьи, — резонно заметил папа. — Не будь слишком доверчива, убедись, что он серьезный и порядочный парень.
— Папа!
Я даже расхохоталась. Интересно, что посоветовала бы мне мама, вздумай я с ней пооткровенничать. Отец давно взял на себя материнские функции. Я поклялась, что его дочурке ничего не угрожает. Тогда я была уверена, что у меня крепкая голова и никогда она не закружится. Еще как закружилась, когда… Бедный папа, если бы он знал. Но тогда я сказала ему:
— Ты должен беспокоиться, чтобы твои дочери не остались в старых девах с такими характерами. Чего в нас не хватает, так это женственности, мягкости. Какие-то гренадеры в юбках. Недавно познакомилась с Люсиным женихом. Всю жизнь суждено ему проходить у нее в ординарцах.
Отец сделал вид, что мне поверил, но в душе у него с того дня поселилось прочное беспокойство. А к Игорю он всегда относился с опаской, как будто ждал от него неприятных неожиданностей. Значит, папа тоже понимал, что неравенство — закон жизни. А я-то думала, что он выше этого, что он такой же неисправимый демократ, как я, и для него все люди равны.
Мы долго, очень долго приглядывались друг к другу, изучали друг друга. Мне было интересно, что во мне, скромной, почти неприметной девице, могло привлечь Игоря. Ему, по-видимому, это тоже было интересно. Тем более, что у него был явно наукообразный склад ума, он все в своей и чужой жизни пытался глубоко исследовать, определить и классифицировать. Классификации стали его страстью.
Весной наши долгие прогулки переместились с ухоженных главных аллей на безлюдные лесные тропинки, которые паутиной оплетали парк на Воробьевых горах. Тропки эти были так узки, что мы не могли идти рядом, не обнявшись. Эта непривычная, волнующая близость располагала и к особым разговорам. Вначале мы философствовали, рассуждали о литературе, но быстро переходили на личное. О себе мы тогда могли говорить бесконечно. В будущее позволяли только украдкой, тайком заглянуть. Зачем? В настоящем было слишком хорошо.
Он мне признался, что с первых же дней знакомства принялся обдумывать и размышлять, почему его влекло ко мне.
— …и пришел я к выводу, что не только внешность твоя незаурядна, но и ты сама, Лариса, необыкновенная барышня! — говорил он с пафосом и иронией.
Я отвечала нечто невразумительное и недоверчивое, вроде «гм, однако, что же во мне такого необыкновенного?».
Он немного подумал и добавил с улыбкой, так вкусно, с явным удовольствием выговорив по буквам эти три слова:
— Ты такая Языческая, Свежая, Непосредственная. От тебя не знаешь, чего ждать. В то время как большинство моих друзей запрограммированы на много лет вперед.
Но я тут же возразила. Я редко в чем с ним соглашалась:
— Неправда, никакая я не язычница. С детства ходила с бабушкой в церковь. Знаю «Отче наш», в отличие от тебя, безбожника. Просто тебе прискучили барышни твоего круга. Даже не знаю почему, но они действительно какие-то однообразные. В этом ты прав. Или высокомерные, спесивые, как Ольга. Или пресные, беспомощные маменькины дочки.
Игорь обнял меня за плечи и терпеливо увещевал, как раскапризничавшегося ребенка:
— Ты несправедлива, Лукреция. Барышни из так называемого моего круга все очень разные. Высокомерные и глупые встречаются, но большинство из них — добрые, невежественные и беспомощные, точно такие же, как в других социальных группах и прослойках. Я верю в генетическую общность. Как люди живут, так они чувствуют и мыслят. В этом смысле на всех нас, конечно, лежит печать своего времени, своего круга. Но я всегда выискиваю редкие экземпляры, такие, как ты, Лара. Эти ярчайшие представители всегда выпадают из классификаций.
Я тоже любила исключения из правил. И с удовольствием слушала мудрые разглагольствования Игоря. От моей скромной персоны он переходил к философским обобщениям. Затем снова возвращался к нашим отношениям. Причем слово «любовь» или хотя бы скромное «нравиться» не произносилось. Поэтому долгое время я даже побаивалась в глубине души, что его интерес ко мне чисто этнографический.
— Десятилетиями искусство и литература метались в поисках выхода из тупика опостылевшего реализма, — примерно так начал Игорь одну из своих лекций, а прочел он мне их немало. — Выходы были — в чистую абстракцию, в вымысел, в путаную и мутную усложненность. Но, побродив в этих дебрях, искусство снова возвращается к «неслыханной простоте», жаждет свежих красок, новой чувственности, нового язычества, аромата лесов и полей вместо голого асфальта и спертого духа аудиторий.
Игорь и не скрывал, что я стала для него символом этой простоты, ясности, близости к народу. Впервые такая диковинная птица залетела к нему в сад.
Вот оно что, с грустью думала я в бессонные ночные часы: его привлекают моя провинциальная свежесть, первозданность, так сказать. Может быть, наивность, непосредственность. Но ведь это ненадолго. Не только потому, что человеку свойственно возвращаться в старый уютный мирок, обжитой и надоевший, к привычным отношениям. Ведь моя экзотика, такая незамысловатая, не может увлечь надолго.
Но я тоже изучала Игоря. И вскоре стала постигать помаленьку его слабости. Ему как воздух нужны были новые игрушки. Он то и дело увлекался людьми, идеями, книгами. Первое время я и была для него такой игрушкой, очень забавной. Он прямо-таки упивался мной, даже записывал в книжечку кое-какие мои словечки и шутки. Такого языка он раньше не слыхивал.
Он и с Сережей меня познакомил, чтобы похвастаться непривычным для них экземпляром. Каково же было его удивление, когда мы с Сережей подружились. Он стал наведываться к нам в башню, понравился Аське, был представлен удивительным чудакам Вале и Саше. Игорь оказался как бы ни при чем. Это очень его поразило.
И вот в один прекрасный день я, все еще уверенная, что любая игрушка со временем надоедает, вдруг перестала быть игрушкой. Наступил новый этап наших отношений. Решающую роль сыграли привычка, привязанность или еще что-то столь же обыденное и неромантическое. Но я стала необходимой: вещью, спутницей, подругой. Тогда мне это вовсе не казалось оскорбительным или обидным.
Никаких бурь и потрясений в наших отношениях не было. Они развивались медленно и тихо, потому что никто их не торопил, наоборот. Мы по-прежнему редко виделись наедине, не чаще двух-трех раз в неделю. Правда, весной явно произошел какой-то незапланированный всплеск, а я не проявила достаточной бдительности и не смогла с ним справиться. Зато дала себе слово, что на все лето мы расстанемся. Эта разлука должна была, по моему разумению, многое решить. Что именно? На это я затруднилась бы ответить.
В прошлом году у нас на факультете произошла странная, мистическая история. Не обошлось без нечистой силы. Еще на первом курсе вспыхнул, как пожар на сеновале, страстный роман между Лерой и Димкой Старовойтовым. Оба они жили в общежитии, не расставались сутками, поэтому пожар все разгорался.
Никогда я не видела такой счастливой пары. Они полностью сосредоточились друг на друге и выпали из действительности. Мы с умилением наблюдали за этой идиллией. Ничто не предвещало трагической развязки.
Но еще в те безоблачные для влюбленных времена соседка Леры по комнате Зара Гаджиева как-то обмолвилась со зловещей улыбкой:
— Любит он Леру, а женится на мне!
Эти ее странные слова тут же стали всеобщим достоянием. Но мы только посмеялись и не поверили пророчеству. Рассчитывать на взаимность Заре не приходилось. И дело было вовсе не во внешности. Просто Димка давно потерял голову от любви, а сердце свое отдал Лере.
Соперницы были полной противоположностью, словно вода и камень, лед и пламень. Лерка похожа на одуванчик: белоснежная кожа, копна светлых волос и ангельские глазки. Кажется, дунешь — и улетит. А Зарка смуглая, с иссиня-черными волосами и тревожным блеском в глазах. Поэтому она всегда ходила опустив ресницы и чуть наклонившись корпусом вперед, как падающая Пизанская башня. Дурнушкой она не была, но все отмечали в ней полное отсутствие обаяния и неприятную угрюмость.
Каково же было наше удивление, когда, вернувшись осенью с каникул, Димка стал усиленно избегать встреч с Лерой, а потом довольно резко, даже грубо объявил ей, что между ними все кончено. Лерку словно живую в землю закопали. Она угасла и подурнела, превратилась из одуванчика в серую былинку. Димка не дал никаких вразумительных объяснений. А ведь они, несмотря на протесты родителей, собирались вскоре пожениться.
Спустя полгода Димка и Зара исчезли из общежития. Они поженились и сняли квартиру в городе. Появлялись только на занятиях, держались отчужденно, ни с кем не общались. Совсем не походили на счастливых молодоженов. Мы терялись в догадках, что же все-таки произошло, ругали Димку негодяем и неврастеником. И все-таки было в этой истории что-то очень загадочное, непостижимое.
Аська, потратив несколько месяцев на изучение и обсуждение этого вопроса со знающими людьми, однажды преподнесла мне готовые выводы:
— Зарка его приколдовала. Или сама, или нашла очень сильную колдунищу. Сейчас их полно развелось. За двести-триста рублей она может приговорить к тебе парня, или отбить мужа от жены, или извести соперницу. Что угодно сделает.
Я слушала как завороженная. Мои бабушки, заболев, обращались не к врачам, а к знаменитым знахаркам и ведуньям, дядю моего от пьянства лечила такая ведунья. С детства я верила в черную и белую магию, привороты и наговоры.
— Это похоже на правду, Аська. Ты заметила, каким стал Старовойтов. Словно подменили: остановившийся взгляд, поджатые губы. Как будто он увидел что-то страшное, привидение например, и с тех пор у него крыша поехала…
Потом Аська продемонстрировала мне, как это делается. Взяла журнал с улыбающейся красоткой на обложке, иголку и легонько ткнула в сердце и лоб ни о чем не подозревающей жертве.
— Колдунища прокалывает фотографию, после этого соперница может заболеть и умереть, а парень со всеми потрохами в ее руках! — Аська с торжественным видом швырнула журнал в урну для бумаг.
— Бабушка говорила, что это ненадолго, — заметила я. — Когда злые чары рассеются, мужик возненавидит ту, к которой его насильно приворожили.
— Ничего, нужно просто повторить процедуру, — отвечала Аська, укладывая иголку в шкатулочку для шитья.
Эта история, громко прошумев, стала забываться. Но отныне черная магия прочно поселилась на нашем факультете. Однажды чудным майским вечером я вернулась со свидания в счастливом лучезарном настроении, прилегла на диван и закрыла глаза.
— Не хочу вмешиваться в твою личную жизнь, но решила, что это ты должна знать, — тихо и вкрадчиво начала Аська.
— Ну что еще? — равнодушно спросила я, не открывая глаз.
Аська даже встала из-за своего стола и присела на краешек моего дивана, из чего я поняла, что новость архиважная.
— Наша бабка-ёжка Гонерилья поделилась со своими приятельницами одним соображением. Она считает, что ты приворожила бедного Иноземцева!
Я не только распахнула глаза, но и уставилась на нее испуганно и изумленно. Аська была очень довольна произведенным впечатлением. Она меня предостерегала, что этот заморский принц со своей свитой принесет мне только несчастья. И вот ее предсказания начали сбываться.
— Она говорит, что только с помощью экстрасенса или колдуньи ты смогла привязать к себе Игоря. В тебе якобы нет тех качеств, которые могли привлечь такого незаурядного мужчину. В ней самой, конечно, этих качеств навалом. Рыжая шмара! — возмущалась Аська.
— И за что она меня так ненавидит? — вырвался у меня тоскливый вопрос. — Вьется возле меня, как черный ворон. Что ей нужно?
— Как раз это нетрудно понять, — хищно обрадовалась Ася. — Она влюблена в Иноземцева как кошка чуть ли не с первого класса.
Я вспомнила, как еще зимой Гонерилья зазывала меня в свой семинар для гениев. Аська тут же разгадала умысел злодейки:
— Она бы выставила тебя круглой дурой на этом шабаше. И обязательно пригласила бы на экзекуцию Иноземцева. Но сначала швабра набилась бы к тебе в подруги, чтобы выведать подробности. Ее же гложет ревность. Дуреха! Да из тебя клещами не вытащишь никаких откровений.
Это уже был камешек в мой огород, но я его словно не заметила. Я сидела на своем диване ошеломленная, прибитая свалившимся на меня несчастьем. Вдобавок и Гонерилья меня ненавидит, а ее я боюсь. Чувствую себя совершенно бессильной перед ее кознями, изощренными, подлыми и всегда неожиданными.
А на Аську накатило вдохновение. Она расхаживала по комнате с горящими щеками и не умолкала:
— Ольга, конечно, тебе не соперница. С ее внешностью и характером не видать ей личной жизни! Если кто на ней и женится, то только ради прописки или из жалости. И вот, представь себе, это море страсти и энергии, которое должно обрушиться на счастливого избранника Гонерильи, теперь уходит на интриги. Она постоянно с кем-нибудь воюет…
— Какая ты умная, Анна, — похвалила я. — В тебе пропал дар психоаналитика.
Через несколько лет я смеялась над своими страданиями вместе с Люсей. История казалась мне забавной. Но тогда… Я не сомкнула глаз до утра. Представляла, как завтра появлюсь на факультете. Все тычут в меня пальцами и шепчут: колдунья!
У каждого свой бред. Эта картина стала моим бредом на долгие дни.
Во всех романах, особенно о романтической любви, описание первого поцелуя занимает выдающееся место. Не буду отступать от правила. Тем более, что и для меня он, конечно, стал событием.
Если бы я имела обыкновение делиться с подружками своими любовными тайнами, они бы не поверили, что мы с Игорем поцеловались по-настоящему только через несколько месяцев нашей дружбы. Они нашли бы подобное целомудрие ненормальным и странным. Моя Люська нисколько не удивилась, когда спустя год узнала об этом. Для нее поцелуи вообще мало что значили. Если нужно, она могла поцеловать кого угодно — о дальнейшем умалчивала. В деловых отношениях с партнерами-мужчинами поцелуи стали для Людмилы дополнительным инструментом для заключения выгодных сделок.
Было в нас с Иноземцевым какое-то старомодное целомудрие. И пожалуй, рациональность: мы больше наблюдали и обсуждали свои чувства, чем переживали их. До этого весеннего дня Игорь часто меня целовал в щечку, в висок, в затылок, в плечико. Это были шутки, поздравления, просьбы о прощении каких-то маленьких обид. Ну и конечно, к ручке он прикладывался постоянно, очень церемонно и тоже не всерьез.
И вот одним прекрасным весенним днем мы прятались от дождя в кинотеатре. Сидели в пустом зале и шептались, поглядывая на экран. Там ничего интересного не происходило. Перед этим мы не виделись целую неделю, и я поняла, как соскучилась.
Пока я, простуженная, сидела дома, Игорь звонил каждый день, вежливо осведомлялся о здоровье и спрашивал, когда вернусь. Теперь мы сидели рядом, взявшись за руки, чувствуя, что не виделись лет сто. Но поцеловались мы не в темном зале, а на улице, на глазах у всего честного народа.
Когда сеанс закончился, на улице смеркалось, дождь и не думал утихать. Мы стояли под узким козырьком газетного киоска и хохотали. Снова накатил ни с того ни с сего приступ беззаботного счастья и веселья.
Сначала он наклонился и прильнул щекой к моему виску, и тут же губы наши встретились так просто и естественно, как будто мы целовались по десять раз на дню. Но это было впервые, и я, ошеломленная, задохнулась. Ощущения вспомнить очень трудно. Я ослепла и оглохла. Электрический разряд в груди. Ватные ноги.
Незадолго до этого Аська познакомилась на дискотеке с неким философом-марксистом, которого она нам представила как настоящего мужчину. Проводив до двери, философ страстно обнял нашу Аську и запечатлел на ее губах поцелуй, лишивший ее разума.
— Раньше я не понимала, что такое «пасть, падение, павшая», — рассказывала нам Аська, томно развалившись на диване. — Не понимала, как может женщина пасть по доброй воле, навлечь на свою голову позор и беды. Теперь я понимаю. У меня подкосились коленки. Еще немного, и я бы рухнула — в прямом и переносном смыслах.
— Но это же далеко не первый твой поцелуй? — ехидно спросила Катя, наша соседка.
— Как можно сравнивать! Жора — настоящий мужчина. Я уже за десять метров чувствую мощную волну энергии, которая исходит от него.
Смеху и шуток было много. Мы рекомендовали Аське не терять бдительности. Но почему я вспомнила эту глупую историю, когда мы вскочили с Игорем в первый подошедший автобус и поехали неизвестно куда? Меня снова разобрал смех, какой-то нервный, нездоровый. Хорошо, что история Аськиного «падения» быстро улетучилась из памяти.
Мы стояли на задней площадке автобуса, взявшись за поручни, и смотрели на убегающую дорогу, на поток автомобилей, гуськом следовавших за нами. Пока автобус шел пустым до Ленинского, мы целовались снова и снова. Кажется, это происходило бессознательно, даже помимо нашей воли.
Шофер «Жигулей», долго преследовавших наш автобус, очень радовался. По его круглой, оживленной физиономии было заметно, что развлечений в жизни бедняги негусто: только поиски автозапчастей, конфликты с ГАИ и тещей. Ни театра, ни зрелищ, ни ярких впечатлений. Мы помахали ему на прощание, а он нам.
Приехали к площади Революции. Это оказался сто одиннадцатый маршрут. Развернулись у Большого театра и покатили в обратном направлении. Но нам было безразлично, где скитаться: в центре Москвы или в глухих полутемных окраинах — Кузьминках, Бибиреве, Ясеневе. Все равно за окном только туман и завеса дождя, в которых тонут освещенные витрины и окна.
С этого дня началось безумие. Иного слова не подберу. Справиться с ним не было сил. Он поджидал меня после очередной лекции, и мы бросались на поиски укромного уголка, пустой аудитории, чтобы тут же очутиться в объятиях друг друга. Мы целовались часами, до одурения, искр в глазах и головной боли. В вечерние часы на темной лестнице, в то время как стопки книг напрасно дожидались нас на столах в читалке. В нашей комнате, если Аська уезжала домой подкормиться. В пустынных аллеях на Воробьевых горах. Благо, наступила весна и парочки могли бродить всю ночь до утра, не рискуя замерзнуть.
Почти ничего не помню из этого дурмана. Все дни слиплись в один ком. И докатился он до первых чисел июля, когда мы простились на лето. Я даже почувствовала какое-то облегчение, тоска пришла потом. В этом мареве я ухитрялась сдавать сессию и сдала ее! К счастью, летние сессии всегда давались легче и безболезненней, чем зимние.
Мы как будто долго сдерживались, не давая волю чувствам. Ведь поцелуи и признания могут все очень усложнить. В душе мы оба боялись проблем и непредсказуемых поступков и совсем не умели принимать решения, привыкнув, что за нас это делают другие. Мы были инфантильны, как типичные представители своего поколения, хотя достаточно ответственны и серьезны.
Но вот плотина рухнула, нас закрутило и понесло неведомо куда. Не знаю, как Игорь, но я едва устояла на ногах. Первую неделю у бабушки в Касимове я просто отлеживалась в полумраке горницы или под яблоней в саду. Даже из дому не выходила, не гуляла у реки. Бабушка причитала и охала, рассказывая соседкам, как проклятая учеба доконала ребенка.
Но через неделю я встала, и понемногу полудеревенская жизнь с ее летними проблемами затянула меня. Окраина тихого уездного городка — это действительно почти деревня. А голодные трудные годы заставили ее всерьез заняться сельским хозяйством. На нашей улице появилось три коровы и целые табуны коз. У бабушки давно была коза. И каждое лето папа косил сено для нашей Катьки, добывал в ближайших деревнях посыпку или зерно для поросенка.
Со мной вдруг произошли непонятные перемены. Рано утром мы уходили с папой на берег Оки или по краю леса искали небольшие нетронутые полянки. Он косил, а я гребла или собирала травы для бабушки. Она у меня признавала только траволечение. На другой день, собрав сено в мешок, папа взваливал его на плечо и мы отправлялись домой.
Вечерами он поливал огород, а мы с бабушкой пололи картошку. Под ногами крутился поросенок Васька. В прошлое воскресенье мы с папой купили его на базаре. К Новому году Ваську откормят и зарежут, бабушка наделает вкусных колбас, ветчины и тушенки. Возле дома бродила вокруг своего колышка привязанная Катька. На крыльце уютно дремала белоснежная кошка Мурка.
Бабушка рассказывала нам последние уличные новости. Соседкин гусак бросил законную супругу и ушел в чужое стадо, через дорогу, привязавшись к тети-Нюриной гусыне. Значит, и у гусей бывает любовь, а не только инстинкт размножения, рассудили мы с отцом, вдоволь насмеявшись. Простая, тихая и размеренная текла здесь жизнь. И вскоре я вошла в берега. Благодаря покою и работе. Работа помогала отвлечься от мыслей.
Вначале Игорь писал очень часто. Эти письма меня пугали своей сумбурностью, угрюмой тоской и бесконечными жалобами. Начинались они обычно с полупризнаний, несколько завуалированных и облеченных в эзопов язык. «Даже если бы я знал, что мои письма могут попасть в чужие руки, все равно не смог бы сдержать слов, которые раньше произнес бы только под пыткой или в шутку», — писал он.
По логике дальше должно было следовать «люблю тебя, жить без тебя не могу» — слова, которых я как огня боялась. Но слов этих, прямых, как удар булыжника в лоб, к счастью, не было. Мы могли простить друг другу неловкость, путаницу и невнятицу, только не банальность.
Далее шли страницы убористого текста, в котором преобладали стихи: «Да, я знаю, что с тобою связан я душой, между вечностью и мною встанет образ твой…» «Читаю с утра до поздней ночи, и преимущественно стихи. Кто бы мог подумать? — писал Игорь. — Сто лет не читал стихов. Видеть никого не могу, ни родителей, ни тем более соседей по даче. Дачу всегда не любил, а нынешнем летом просто возненавидел».
Я представляла его целыми днями валяющимся в душной каморке в мезонине. О чем он думал, что его так терзало? По первому же письму я поняла, в каком он смятении. И в глубине души шевельнулась обида. Сама я, несмотря на усталость, была очень счастлива, не заглядывала в будущее, не строила никаких планов. А он, по-видимому, заглянул…
Мне почему-то вспомнилось, как тридцатого декабря он поздравил меня с праздником и спросил: где я буду встречать Новый год, не останусь ли в общежитии? Но я никогда не оставалась на буйные общежитские празднества, меня ждали дома. И тогда я заметила, как по лицу Игоря пробежала тень неприятных раздумий. Он не мог пригласить меня ни к себе домой, ни в свою компанию, потому что всюду я была чужой. А я испытывала такой ужас перед его друзьями и родными, что даже насильно он не смог бы привести меня к ним.
На его нервные, сумбурные письма я долго, по нескольку дней сочиняла эпические, ровные послания, в которых подробно живописала наши сенокосы, воскресные базары, приобретение Васьки.
«Не понимаю я твоей хандры. И на многое смотрю иначе, прожив здесь две недели, — писала я ему. — Какая тяжелая, бедная жизнь. Встают в пять утра, ложатся за полночь. Но люди не стонут, не унывают, работают и надеются на лучшее. На этом фоне все наши проблемы кажутся смешными».
Я рекомендовала ему лучшие лекарства от хандры: природу, общение — не с людьми, а с животными, если уж все ему так осточертели. И конечно, физическую работу. Повкалывать месяц-другой в стройотряде или на сенокосе, чтобы вернуть душевное равновесие.
Ответ пришел быстро. Я боялась, что он обидится на такое глупое письмо. Вместо утешений и заверений в любви я ему описываю жизнь уездного городишки и упрекаю в безделье. Но Игорь просто в восторг пришел от моих посланий. Он назвал их шедеврами эпистолярного жанра, признался, что никогда в жизни не получал таких умных, замечательных писем. Он якобы перечитывает их по многу раз, и каждый раз в него словно вливается очередная порция силы и бодрости.
«Ты права. Я словно очки наконец надел и увидел, какой я жалкий, ничтожный нытик, филологический мальчик, книжный червь. С детства меня учили презирать обыденщину, заботы о куске хлеба, жить высшими интересами. Большинство моих друзей считали себя будущей элитой…»
Он и Сергею прочел несколько отрывков из моих писем. О том, какой вид на Оку открывается с нашего обрыва. О наших деревенских заботах. Серж вздыхал и говорил, что отдал бы несколько лет жизни, чтобы очутиться в этом загадочном, не таком уж далеком Касимове, ставшем для него символом той самой матушки-Руси, которая «и убогая… и обильная… и могучая… и бессильная».
Серж передавал мне поклон и просил узнать, не продаются ли в Касимове дома с большими участками, где он мог бы посадить озимую и яровую рожь. А Игорь осторожно спрашивал, нельзя ли ему приехать одному или с Сержем на два-три дня. Он меня не обременит, поселится в гостинице. Только повидает меня, Касимов и вскоре отбудет.
Чего греха таить, мне так захотелось его увидеть. Это желание меня насквозь пронзило, я обрадовалась и решила сегодня же позвонить ему или послать телеграмму. Но вскоре одумалась. Наш городок патриархальный. Все друг друга знают. Много родни. Бабушка потом со стыда сгорит за свою непутевую внучку. Народ любопытный и языкастый. А на каждый роток не накинешь платок.
Я мягко отговорила его от этой утомительной поездки. К тому же я не смогу уделить ему много времени: к концу июля подъехала Люся, за ней мама. Вся наша семья снова собралась вместе.
Наша жизнь втроем, с отцом и бабушкой, показалась мне короткой идиллией. В конце июля, покончив с делами, приехала сестрица и с первого же дня стала мучить нас поучениями: и питаемся-то мы неправильно, и работаем нерационально, и живем как дикие обыватели. Провинцию Люся не любила, но считала своим долгом изредка навестить бабулю и заодно накоротке пообщаться с природой.
Люся окончила институт, нашла работу, и с осени в ее жизни открывались новые горизонты, поэтому она чуть-чуть задирала нос.
— Больше я не возьму у вас ни копейки! — гордо заявила она родителям. — Сниму комнату и сама себя прокормлю.
Как отличница, она могла бы получить престижное распределение, но решила начать с производства, за несколько лет изучить его до тонкостей, а потом подниматься выше — к теории и политике. Люся продумала свою карьеру, весь путь восхождения до последней ступеньки.
Начало этого пути она считала очень ответственным этапом, поэтому отложила на полгода свою свадьбу. Вдохновленная перестройкой и переменами, Люся была уверена, что вскоре наша страна станет цивилизованной и процветающей. А у нее будет собственное дело или на худой конец пост управляющего банком или крупным концерном.
Вот такие наполеоновские планы строила моя сестрица. И пока делилась ими только с нами, членами семьи. В семью она, в отличие от всяких там эмансипе, верила и будущему мужу Володе отводила заметную роль в своих делах. Он должен был стать помощником, партнером, доверенным лицом. Перед тем как окунуться в работу, сестрица приехала в деревню набраться сил.
Между двумя яблонями папа устроил для нее гамак. И теперь Люся лежала в нем, как тургеневская барышня, в соломенной шляпке с толстым томом в руке и поглядывала, как мы копошимся в огороде. Изредка давала нам дельные советы. Люська читала научные журналы и знала о новейших достижениях даже в области огородничества. Например, о том, что рассаду помидоров надо высаживать не вертикально, а горизонтально. Урожайность увеличивается в несколько раз. Но бабушка ей не верила.
Сестрица дремала, почитывала свои толстые книги. Что-то вроде «Экономики переходного периода». Став деловой женщиной, она отказалась от романов: на подобное чтение у нее не оставалось времени, да и скучно пережевывать в который раз все те же любовные истории.
Но больше всего Люське нравилось посмеиваться надо мной.
— Мурик, посмотри что творится с нашей Лоркой! — громко говорила она своей белоснежной любимице, перебросив ее через плечо, как горжетку. — Косит, пашет, собирает урожай, варит варенье. По осени и молотить будет цепом. Откуда эти перемены в нашей бесхозяйственной, ленивой, нерадивой филологине? Какие ветры надули?
Мурка ехидно щурила продолговатые желтые глаза. Один зрачок у нее лежал горизонтально, другой стоял вертикально, поэтому три года назад бабушка не хотела ее котенком брать, боялась нечистой силы. Но мы с Люськой ее уговорили. Бабушка тяжело разгибала спину и смотрела на меня, прикрыв глаза ладонью, как козырьком.
— Лорочка, детка, отдохни, заклыпалась ты сегодня. Если б ты видела, Люсенька, какая она приехала: ноги не носили, как былинка высохла, под глазами черно. Уходили ее экзамены чуть не до смерти!
На это сестрица сокрушенно вздохнула:
— Ах, бабуленька! Уходила нашего Лорика не учеба, не экзамены, а проклятая любовь.
Бабушка всплеснула руками от радости. У нее осталась только одна мечта: дождить до наших свадеб и дождаться младенцев. К тому же в глазах родни и знакомых наша ученость не шибко котировалась. По древнейшим местным установлениям, единственная и главная карьера для женщины — выйти замуж и родить. Теперь бабушке не стыдно было «от людей»: ее внучки совершенно нормальные, одна выходит замуж, у другой появился ухажер.
Так Люська, не церемонясь, выдавала родне, знакомым мою тайну, не испытывая ни малейших угрызений совести. И при этом не давала мне покоя. Она давно все просекла. Когда звонил Игорь, демонстративно садилась по другую сторону стола и слушала. Потом требовала объяснений. По праву старшей сестры.
Но вскоре Люся нашла себе дело, вернее, поприще, на котором даже прославилась. Стало полегче мне, а главное, отцу, которого замучили земляки. Стоило ему появиться у бабушки, в тот же день являлись ходоки поодиночке и делегациями. Кто с обидой, а кто и со злобой спрашивали:
— Вась, ты в Москве живешь, все знаешь, всех видишь. Объясни, что к чему. Зачем эта перестройка? И так жили не сытно, а теперь совсем жрать нечего: хлеб по талонам, сахар по талонам, даже мыло — по куску в месяц. Да у нас и талоны не отоваришь. Всю ночь надо в очереди стоять за крупой и мукой.
И чуть ли не за грудки его брали, как будто он обязан был давать им отчет за все неполадки и безобразия в державе. Отец багровел от стыда и пытался им что-то объяснять. Но у него получалось слишком сухо, по-газетному. Вначале Люся сердилась, защищала отца и пыталась объяснить мужикам-тугодумам:
— Горбачев — изворотливый и хитрый политик. Перестройку он начал не по своей воле, ему и так неплохо живется, а потому, что дошли мы до края пропасти. Еще немного, и в нее рухнем.
Мужики недовольно загалдели: где уж на краю, давно в яме сидим. А папа обрадовался:
— Вот вам дипломированный экономист. Она все объяснит. А что я? Мое дело — железные дороги.
И на сестрицу скоро нашло вдохновение. Она поняла, что с народом надо разговаривать просто, доходчиво и самые сложные истины подавать им в удобоваримом виде. Этот язык она быстро освоила и разработала свою методику, в которой важное место занимали живые дискуссии.
Помню нашу Люську на крыльце. Отсюда она, как с кафедры, обращалась к своим слушателям и оппонентам. Внизу на чурбанчике посиживал сосед и смолил свою едкую самокрутку. Главный спорщик, дядя Яша, папин двоюродный брат, горячился, кричал и размахивал руками, как ветряная мельница. Другой сосед, из дома напротив, с удовольствием слушал и соглашался и с той, и с другой стороной. Женщины обычно поддерживали Люсю, наверное, из чисто бабьей солидарности.
— Вот ты больше всех кричишь, дядя Яша, — говорила дядьке Люська. — Вспомни, как раньше тебе запрещали завести одну корову, а теперь ты держишь двух, да еще трех свиней, овец, целую стаю всякой птицы. Да раньше бы тебя раскулачили и сослали, куда Макар телят не гонял.
— Правильно, правильно! — соглашались соседи, они одобряли свободу, но не одобряли алчность дяди Яши.
— А что толку! — кричал Яшка. — Завести-то я завел, а чем живность кормить? Раньше хлеб был копеечный, посыпка, зерно, а нынче не докупишься…
— Правильно, правильно! — гудели соседи.
— Раньше вы кормили скот хлебом или ворованным зерном, — безжалостно обличала Люська. — А сейчас нужно взять соток десять земли. Вон ее сколько пустует. И посадить овес или рожь. Осенью тракторист за бутылку ее скосит. Вот и корм для твоей животины, дядя Яша.
Все посмотрели на огромные поля, простирающиеся сразу за нашими огородами. У пригородных колхозов действительно много земли было в забросе. Но в этом году то тут, то там зазеленели частные полоски и нивочки: народ сажал картошку и зерно для скотины.
— Скоро все будет как в старые добрые времена, — мечтала соседка тетя Нюра. — Большие хозяйства, своя земля. Все на своем горбу, конечно. Кто работает, тот и жить будет хорошо. Правильно ты, Люсенька, сказала: посади себе полоску, а не таскай из колхоза или «Заготзерна».
Это был не камешек, а целый булыжник в огород нашего дядьки: он много лет проработал в районном «Заготзерне» не без пользы для своих личных закромов. Поэтому все смущенно потупились. Но дядя Яша и глазом не моргнул. Кто где работал, оттуда и тащил все, что плохо лежит. Все так привыкли к этому за долгие годы, что не считали воровство преступлением. Считалось, что нехорошо красть у соседа и уличать его принародно, а не за глаза.
— До старых добрых времен нам очень долго топать, тетя Нюра. — Люся грустно покачала головой. — Когда-то Россия вывозила хлеб, масло, лен. Но мы доживем до новых, если коммунисты не опомнятся и снова не построят нас в шеренги.
Тут все испуганно воззрились на нее. Но Люська успокоила: всеми обруганная перестройка даровала нам свободу слова. Говорить теперь можно все, даже ругать правительство и генсека. Разве могли мы мечтать о таком!
Теперь сестра за полночь готовилась к завтрашней дискуссии и даже делала выписки из «Экономики переходного периода».
— Мне это непременно пригодится в будущем, — говорила она нам и даже опробовала на домашних некоторые свои тезисы и монологи. — Я должна научиться выступать перед народом, овладеть его языком, изучить его психологию.
Люська считала, что экономику легче будет переделать, чем эту самую психологию. А психология у наших людей, не только деревенских, но и городских, колхозная. Все привыкли жить одинаково — скудно, не любят богатых и трудолюбивых. Если чего-то не хватает, норовят это достать или украсть, а не заработать.
— Откуда в тебе это высокомерие? Ты так говоришь о народе, как будто сама не народ. А кто же ты тогда? — сердился папа.
— Народ, конечно народ, — соглашалась Люська. — Но только не корешки, а вершки. Моему поколению, папа, выпала на долю нелегкая миссия. Мы будем перестраивать Россию…
Обо всем этом я писала Игорю: о миссии, выпавшей на долю моей сестрице, о колхозной психологии и свободе слова. «После девяти вечера, когда подоят коров, народ собирается к нашему дому, превратившемуся в избу-читальню. Спорят и кричат так, что слышно на соседней улице. Оттуда люди прибегают узнать, что случилось».
Теперь я знала, что Игорю все это интересно. «Интересно само по себе и потому, что связано с тобой, — писал он. — Никогда я так много не размышлял о нашем житье-бытье, как в это лето. И теперь с нетерпением дожидаюсь твоего возвращения. Потому что ты единственный человек, способный сейчас меня понять».
Я не загорелась нетерпением узнать эти мысли. Примерно представляла, о чем он так тягостно и мрачно размышлял. Я человек органичный, и рефлексия в таких дозах мне несвойственна. Ну, нападает иногда тоска, весь мир видится в черных красках, а будущее кажется беспросветным. Но, слава богу, быстро проходит. Игоря эти настроения мучили часто.
На его просьбу вернуться пораньше я не откликнулась. Приехала только тридцатого. Мама встретила меня словами:
— Тебе звонил такой вежливый, интеллигентный мальчик. Просил немедленно сообщить, когда вернешься.
Но я так и не позвонила Игорю. Не из мелкого женского тщеславия, которое тешит мысль, что кто-то с нетерпением ждет звонка и, может быть, страдает. Я панически боялась услышать в трубке женский голос и любопытные вопросы: кто звонит, что передать? Вопросы, которые всегда задают бдительные мамаши.
На другой день с утра я с нетерпением ждала. Кажется, отлакировала телефон своим пристальным взглядом — позвони, позвони! Ну почему я не колдунья, почему не умею передавать на расстояние свои мысли. Ведь и расстояние между нами совсем невелико.
Стоило мне к вечеру выйти с подружкой из дому, как он позвонил! Мама строго мне выговорила:
— Лариса! Что это? Кокетство или неприязнь? Игорь уже в который раз не может тебя застать. Ему неловко, он смущен…
— Мама, это не кокетство. Не могу я ему звонить, пойми!
Заметив, как я расстроена, мать наконец оставила меня в покое.
Какая же ты все-таки неуклюжая, закомплексованнаяпровинциалка, ругала я себя. Из любого пустяка раздуваешь проблемы, краснеешь и теряешься, как девочка-подросток.
Я сгорала от нетерпения, так мне хотелось поскорее увидеть его. И в то же время панически боялась этой встречи. Боялась даже голос его услышать в телефонной трубке.
Он вошел в комнату, когда мы с Асей заканчивали свой поздний завтрак. Аська встретила его как своего, совсем по-домашнему. Пригласила к столу, налила чаю и, прихватив для виду какие-то тетрадки, деликатно удалилась. Мы с ней были идеальными соседками — ни ссор, ни взаимных претензий, ни обид. Я так же незаметно исчезала, когда являлся ее усатый Жорик.
Я думала, в обморок хлопнусь, когда увижу Игоря после такой долгой разлуки. Ни малейшего трепыхания сердечного, даже не подозревала в себе такой бесчувственности. Мы молча сидели за столом и смотрели друг на друга в упор долгим, ненасытным взглядом. Как будто годы не виделись.
— Я уже три дня жду звонка, — наконец сказал он с упреком.
— Боюсь, не могу разговаривать с твоими родными! — чистосердечно призналась я и умоляюще сложила руки на груди.
— Прошу тебя как можно скорее представить меня своим родным, а тебе придется познакомиться с моими, — вдруг заявил он.
И по его решительному лицу я поняла, что он все лето размышлял о нас, о нашем будущем, в то время как я безмятежно отдыхала.
— Нет, нет, не хочу! — испуганно вскричала я и осеклась, заметив брошенный на меня суровый взгляд Игоря. — То есть к моим хоть завтра. Не понимаю только, к чему такая спешка?
Я была совсем не готова к подобному разговору, не привыкла торопить события. А встреча с семейством Игоря относилась к разряду событий, требующих недель, а то и месяцев подготовки. В таком лихорадочном состоянии спешки он прожил весь сентябрь. И мне понадобилось немало сил, чтобы успокоить его и вернуть ему душевное равновесие.
Наверное, зачатки болезни, которую несколько лет спустя заметила в Игоре моя здравомыслящая сестра, проявлялись еще в студенчестве. Но в те времена мы и понятия не имели о душевных болезнях. На все случаи жизни было готово объяснение — такой характер. Даже когда наш однокурсник выпрыгнул с четвертого этажа, общага, посовещавшись, решила — от несчастной любви. Но ведь не все прыгают из окон от несчастной любви, только отдельные неуравновешенные экземпляры. Большинство живут и терпят.
Приступы угрюмой, порою злобной тоски, которые меня так мучили в Игоре, неизменно предшествовали вспышкам деятельного возбуждения. Эту деятельность необходимо было направлять в безопасное русло, она могла навредить окружающим. Вскоре я научилась это делать.
В тот день, тридцать первого августа, мы недолго сидели с Игорем в нашей комнате. Только один разок поцеловались. Я заглянула к соседям, где Аська как ни в чем не бывало завтракала во второй раз, и пригласила ее вернуться под родной кров. И снова классические аллеи Воробьевых гор были в нашем полном распоряжении.
Я боялась долгой разлуки. Ведь бывает так: возвращаешься — и вдруг встречаешь чужого человека, с которым не о чем говорить. Но с нами ничего подобного не произошло. Мы буквально набросились друг на друга. Разговаривали часами, отрывая время для бесед у поцелуев, и не могли наговориться.
— Ты заметила, что нам трудно стало расставаться даже на одну ночь, всего на несколько часов? — как-то спросил он и взглянул на меня строго и многозначительно.
Да, я заметила, но решила, что мы просто никак не можем насытиться друг другом после столь долгой разлуки. И еще отметила, что Игорь продолжает зорко наблюдать за нашими отношениями, все оценивать и взвешивать на ладони.
— Твое появление перед очами моих предков неизбежно и чисто формально, — уверял он меня. — Со временем они тебя узнают, но вначале могут и не воспринять, особенно мать. Но какое это имеет значение для нас? Ровно никакого. Предварительно я опишу тебе мое семейство.
Он никогда не скрывал, что их семья — далеко не идеальная. Каждый живет сам по себе. Раньше всех связывала бабушка, которая Игоря и вырастила. Она создавала что-то похожее на семейный уют, сразу же исчезнувший после ее смерти.
Мать Игоря не могла жить без работы, университета, друзей и общественной деятельности. Если создавался какой-нибудь комитет или его филиал, например Общество друзей Палестины, Полина Сергеевна была в первых рядах организаторов. Часто ездила за границу и по стране, на стажировки и по приглашениям.
Так же бегло он набросал портрет отца. Семьянин — никакой, весь смысл его жизни в альма-матер. Декан — этим все сказано. Уходит в восемь утра, возвращается в десять. Мне показалось, что человеческие качества и ум отца Игорь оценивал гораздо выше, однако имел на него зуб. Оказалось, он несколько лет назад узнал, что у отца есть другая женщина.
— Сначала недоумевал, почему он от нас не ушел. Ведь семьи у нас нет и никогда не было. Потом понял: семья ему и не нужна. Он не знает, что это такое, — с желчью завершил он краткую и недоброжелательную характеристику предков.
Была еще тетка — старая дева, о которой он говорил совсем по-другому. С теткой Игорь с детства дружил и жалел, что не она досталась ему в матери. Вскоре я стала постигать тонкости взаимоотношений в этом семействе. Тетка конечно же недолюбливала Полину Сергеевну. Полина платила ей той же монетой. В общем, обычная ситуация. Раньше я думала, что только нам, Игумновым, не слишком повезло, а в других семьях все складывается благополучно. Но Игорь мне признался:
— Читал твои письма и завидовал. Ты даже не подозреваешь, как тебе повезло. В вашей семье есть особый дух. Ты к нему давно привыкла и не чувствуешь. А я, бездомный, сразу уловил. Тепло, забота, любовь. А я вхожу в нашу огромную пыльную квартиру и ежусь: температура на два-три градуса ниже, чем на улице. Стужа!
Так я заочно познакомилась с семьей Игоря. Признаюсь, это знакомство не только не приободрило меня, но привело в еще большее замешательство.
В первом признании моего милого друга так и не прозвучало слово «люблю». Игорь его терпеть не мог. Он часто повторял: «нужна» — и объяснял, как именно и почему я ему нужна. Мне это казалось вполне понятным и разумным.
Есть слова, которые так поистрепались от частого употребления, что потеряли всякую ценность. Конечно, Игорь говорил мне и это слово, но всего два-три раза и в особые минуты, или интимные, или торжественные. Обычно он подбирал синонимы, более обыденные и правдоподобные.
Какая это была счастливая осень! Долгая, теплая и очень красочная. Я помню поляны, усеянные багровыми и золотыми кленовыми листьями. Такими огромными, что одного листа хватило бы на маленькую шляпку с пером. В моей памяти от той поры остались самые яркие дни. А ведь на мою долю выпали и серые будни, из которых невозможно вычленить ни одного мгновения, счастливого или несчастливого.
Часто мы сидели на своей укромной скамейке в густом кустарнике, откуда виднелся только краешек фонтана и дорожка с редкими прохожими.
— Твои письма из деревни сначала вселили в меня такую бодрость, потом привели к грустным выводам, — задумчиво говорил Игорь, наблюдая за суетившейся у наших ног парой голубей. — Я отщепенец, барич, представления не имеющий, как живут люди. Представить себе народ мне так же трудно, как и бесконечность. А оказывается, это просто, достаточно прожить в каком-нибудь российском городке несколько недель.
— Это верно, — согласилась я. — Мне трудно тебя понять. Никогда не чувствовала себя отщепенкой, потому что я сама народ и всегда жила и буду жить вместе с ним.
— Это мне в тебе и дорого! — Игорь даже оживился, обнял меня за плечи и шутливо боднул своим сократовским лбом. — Ты словно из пены родилась, Ло! Такая органичная, неподдельная, без тени фальши, житейской хитрости. Ты как будто связала меня с жизнью, до тебя я существовал в резервации.
— Ты об этом думал все лето? — улыбнулась я.
— И об этом тоже, — строго и серьезно отвечал он, давая понять, что даже невинные шутки здесь неуместны. — О том, что я встретил НЕОБХОДИМОГО мне человека, незаменимого. Понимаешь?
И он, сокрушенно вздохнув, заговорил о том, сколько времени и сил потратил впустую на совершенно ненужных людей. Зачем?
— Действительно, зачем? — согласилась я. — Но виной всему твоя общительность. Ты всегда окружен людьми. Я думала, ты не выносишь одиночества и прекрасно чувствуешь себя в толпе.
На самом деле я немного ревновала его к многочисленным друзьям. Но и сама была жадной на людей. Я бросалась в новые знакомства как в омут, с головой. Искала интересных встреч, необыкновенной дружбы навек.
При ближайшем рассмотрении знакомые оказывались довольно заурядными, дружбы быстро распадались. Где-то после второго курса эта жадность исчезла. Я уже не ждала от новых знакомых многого, стала осторожней и сдержанней, дружбу с ходу не предлагала.
— К старости я стану совершенным анахоретом, — размышлял Игорь. — Буду довольствоваться обществом двух-трех самых близких друзей. Уже сейчас ты заменила мне добрый десяток приятелей. Мне даже с Сержем порой скучно…
— Ну, это скоро пройдет, — не поверила я. — И вообще, мы с тобой, кажется, говорили об одном и том же, но разными словами. Я всегда искала созвучных себе людей. Так же, как ты — нужных. Наверное, это одно и то же.
Так мы сидели рядышком, взявшись за руки, и мудрствовали, пока не наступили сумерки. Игорь терпеливо объяснял мне, что созвучных людей немало, хотя бы одной струной, незаменимых — единицы. Мне не очень нравилось это определение. Как-то меркантильно, по-советски оно звучало.
Наверное, он просто дожидался темноты. В темноте легче говорить такие вещи. И когда вдоль аллеи зажглись фонари, а в фонтан вместо воды налили дегтя, Игорь вдруг сказал:
— Все лето я не только философствовал и размышлял о бытии и сознании. Я думал о нас с тобой, Лукреция. И решил, что мы вполне могли бы пожениться после зимней сессии.
Я пережила легкий шок, с трудом сделала вдох и уняла сердцебиение. Как самая заурядная барышня, я мечтала, что мне когда-нибудь сделает предложение человек, за которого я хотела бы выйти замуж. Но от Игоря я вовсе не ждала так скоро подобного предложения. Да и преподнес он его несколько нетрадиционно.
Не знаю, откуда взялись у меня силы даже не ответить, а прошептать:
— Наверное, нужно было сначала со мной посоветоваться. Так сказать, поставить в известность. По-моему, это преждевременно.
— Вовсе не преждевременно. Мы могли бы поселиться под одной крышей с завтрашнего дня. Я в этом совершенно уверен! — как всегда твердо возразил он.
Эта его уверенность меня всегда ставила в тупик. Сама я была человеком, колеблющимся перед всяким пустяком. Сто раз отмеряла и обдумывала, прежде чем отрезать.
— И ты веришь, что мы с тобой — именно те двое, которые смогут ужиться под одной крышей, не осточертеют друг другу через год-полтора? — испуганно спросила я.
— Никто меня в этом не переубедит. Хочешь, поспорим? На что? — В темноте глаза его сверкали. То ли отсвет фонаря в них блеснул, то ли плясали насмешливые искры. Но мне было не до смеха. Меня терзали старые страхи: пройдет время, может быть, и недолгое, и он во мне разочаруется и возненавидит, как ненавидят обузу, вериги на теле. Но об этом я не решалась сказать. Впрочем, и без этого у меня появилось немало сомнений.
— Ты уже столько раз повторил, Иноземцев, как я необходима тебе. И произносишь это слово с большой буквы, нараспев, как стихи. Но ни разу даже не заикнулся, что я тебе нравлюсь… Ну, о своих чувствах, ты понимаешь?
Я смутилась, а Игорь рассмеялся:
— О, дочери Евы! Вы жить не можете без высоких, потрепанных слов. Да это само собой разумеется, красавица! Ты очень мне нравишься. Ты нравилась мне еще давно, когда я встречал тебя в читалке, в коридорах и лифтах. Ты всегда была такой надменной и не смотрела на меня.
Тут он пролил бальзам на мою ревнивую душу. Вспомнил, как однажды стоял совсем рядом со мной в лифте и вдыхал запах моих духов. Духи недорогие, прибалтийские, «Белая акация». Мне их подарил на день рождения Люсин жених.
Но Игорь как-то не умел и не любил говорить людям приятные вещи, даже женщинам. Он больше любил дразнить. Вслед за приятными воспоминаниями тут же последовала ложка дегтя:
— Но мне нравились многие девушки, Лукреция! Несколько раз я был серьезно увлечен…
— Негодяй! — воскликнула я.
— И ты не без греха, скромница. Ася мне все рассказала и про некоего Карася, и про Володьку-картежника. Но я великодушно прощаю тебе прошлые заблуждения. И никакому Карасю и тем более пьянице-технарю тебя не отдам. Ты мне нужна! Почему тебе так не нравится это меркантильное слово? Это же так много. Это гораздо важнее увлечений и страстей, потому что увлечения и страсти быстро прогорают.
— Помню, помню! Ты говорил, что я донор, лекарство для твоей израненной души, наркотик. Какие еще функции ты на меня возложишь? Щи варить? Печатать твои статьи, ограждать от надоедливых поклонниц?
— Поклонниц у меня больше не будет. Ты всех разгонишь, — согласился Игорь. — Придется с этим смириться, потому что я уже не смогу без тебя обойтись, ты действуешь на меня благотворно. Например, сегодня. С утра меня взвинтила маман. Потом неприятности посыпались одна за другой. Я пришел к тебе три часа назад злым, угрюмым. А сейчас я как будто заново родился. У меня отличное настроение…
Что можно было на это возразить? Мне пришлось довольствоваться таким признанием. Тем более, что оно подтверждалось самыми нежными ласками и поцелуями. Они были для меня гораздо красноречивей и убедительней слов. Говорить можно все, что угодно. Но только прикосновения, взгляды убеждают в искренности наших чувств.
В чем-то мы были схожи с Игорем. Оба любили говорить обо всем на свете, но только не о своих чувствах. Какая-то природная деликатность мешала нам раскрывать свои души до конца, до самого донышка. Мы уже прошли темной, без единого фонаря аллеей от биофака до высотки, когда Игорь внимательно заглянул мне в лицо:
— Тебя что-то тревожит? Чем ты недовольна, признавайся. Я отступил от традиций? Не бухнулся в ножки, не клялся в любви и верности до гробовой доски? А ты не потупила глазки и не обещалась подумать. Я все сделаю, как пожелаешь, потому что чту традиции. Поеду в Малаховку, буду просить руки и обещать твоим родичам золотые горы.
Тут он вдруг дурашливо расшаркался и отвесил такой низкий поклон, что подмел своим светлым чубом асфальт. Поклон предназначался не мне, а будущим теще и тестю, которых Игорь пообещал уважать и почитать.
— Ты этого хочешь? Все сделаю, только намекни.
— Сейчас я хочу только одного — уложить в горизонтальное положение свои старые кости и спокойно все обдумать. У меня в голове такой сумбур, — говорила я, поднимаясь по ступенькам к парадному входу.
У двери он остановил меня, чтобы поцеловать на прощание. Завтра я должна дать решительный ответ. Обычно поцелуи разгоняли все мои сомнения. Но на этот раз и они оказались бессильны. Я отрицательно покачала головой: на раздумья и семейные советы уйдет долгое время. Его затея казалась мне легкомысленной и неосуществимой.
Прошло три недели. За это время я рассказала обо всем папе, а матери и Люське только сообщила, что один молодой человек, мой хороший друг, хочет приехать к нам как-нибудь в воскресенье и представиться.
— Как это представиться? — Люська вытаращила на меня глаза. — С какой это стати? Что за церемонии китайские?
— Она права, Люся, — возразила мама. — Если она дружит с мальчиком, то должна познакомить его с нами. Это в порядке вещей.
Моя сестрица только хмыкнула на это и начала допрос с пристрастием: не сделал ли мне этот просто друг предложение, какая у него жилплощадь? Вопросов последовало очень много, но я отвечала уклончиво:
— Все узнаешь в свое время.
Совсем неожиданно отреагировала на новость мама. Она впала в глубокую задумчивость. Ее совсем не волновали виды на мое будущее и визит Игоря.
— Лариса так плохо одета, — как-то за ужином мама подумала вслух и посмотрела на меня грустно, как на Золушку.
В результате я получила два почти новых платья с Люськиного плеча, они мне всегда очень нравились. А еще сестрицын плащ и мамину сумочку. К тому же мне купили новые туфли и обещали сапоги. Бедные мои родители. Все забывается, но я отлично помню, как трудно было в те дни доставать одежду и обувь.
У мамы появилась новая приятельница, родительница одной ученицы, отличная портниха. Она умела из куска обыкновенной ткани сотворить вполне приличный туалет. Так что Люсю удалось экипировать к началу ее первой в жизни службы. Мама считала, это очень важно: люди остались такими же дикарями, как в доисторические времена, и встречают по-прежнему по одежке, а не по уму. Потом Люся сама стала зарабатывать и где-то одеваться. На меня посыпались подарки. И вскоре скудные времена ушли в прошлое.
Перед визитом Игоря, кажется, это было в конце октября, мы с папой две недели мыли и чистили нашу скромную квартиру. Люська не принимала в этом участия, только с любопытством и насмешками наблюдала, почитывая очередной том «Экономики переходного периода». Осенью она возвращалась домой почти каждый вечер. Потом решился вопрос с ее комнатой, и сестра почти исчезла из жизни семьи. Вскоре после нее исчезла и я…
Но на встречу с будущим родственником сестрица прибыла, несмотря на невероятную загруженность делами именно в этот день. Визит прошел вполне благополучно. Только вначале все держались немного официально и скованно. Люська вовсе не разглядывала гостя во все глаза, чего я очень боялась, а болтала без умолку. Говорили о политике, о будущем — таком туманном, о литературе. Говорили чуть ли не взахлеб.
Еще в электричке Игорь спросил:
— Ну что, мне просить сегодня твоей руки? Сердце ты все равно никому не отдашь, оно принадлежит папе. Или просто мимоходом сообщить семейству, что мы собираемся пожениться?
— Нет-нет, ни в коем случае! — испугалась я. — Сама сообщу как-нибудь в обыденной обстановке, за вечерним чаем.
Игорь пожал плечами, но кажется, испытал небольшое облегчение. В самом деле, каждому из нас достаточно было своей собственной семьи. Догадываюсь, что объяснения Игоря с родителями были непростыми. Вечерами он иногда являлся ко мне мрачнее тучи. И от меня требовалось немало усилий, чтобы тучи развеять.
Когда я, проводив Игоря, вскоре вернулась домой, мои все еще сидели за столом и бурно обсуждали моего дружка.
— Послушай, я никак не ожидала, что ты можешь захомутать такого парня. Просто душка! — восторгалась Люська, с интересом и уважением поглядывая на меня.
Она ожидала увидеть вариант нашего Мишки, который произвел на нее самое отталкивающее впечатление. Мама тоже была в каком-то ошеломлении от Игоря:
— Какой воспитанный мальчик. За его спиной чувствуется несколько поколений интеллигентов, культура, традиции. Сейчас это большая редкость.
Мама долго не могла поверить, что именно мне выпала такая удача в жизни. Они все говорили и говорили, а папа больше молчал. И в молчании его не было солидарности. Скорее, наоборот. Он не скрывал, что у него есть свое мнение, просто он не торопится его высказать. А мне не терпелось узнать именно его мнение.
И только в воскресенье, когда мы гуляли с ним в лесу, я приступила к нему с расспросами. Папа долго уклонялся. Согласился с мамой и Люсей, что в Игоре бездна всяческих достоинств и обаяния.
— Но мне хотелось бы, детка, чтобы с тобою рядом был человек сильный. И я жил бы спокойно, передав ему тебя с рук на руки. Зная, что у тебя есть опора, что тебя есть кому защитить…
— Ты считаешь, что Игорь слабый? — удивилась я.
Мне он казался совсем другим. Какой-нибудь слабак, маменькин сыночек никогда не решился бы на такой шаг — жениться на мне.
— Ну что ж, очень разумный шаг. Он чувствует, что ты станешь надежной опорой для него, — настаивал папа. — С такой женой, как ты, ему будет легко и просто жить.
— Но сейчас все мужчины такие, папа. Слабые. Во всех семьях женщины несут на своих плечах большую часть трудов и проблем. Мы — исключение. И так называемые сильные мужчины, грубые, напористые, практичные, мне совсем не нравятся.
— Ты права, права! — успокоил меня папа. — Уже поздно. Ты его любишь. Он — твоя судьба. Может быть, не самая несчастливая. Прошу тебя только об одном — не слишком торопитесь со свадьбой. Где вы будете жить, он тебе говорил?
Этот вопрос меня тоже мучил. Ни в коем случае я не соглашусь жить в его квартире со свекровью. Едва ли у нас хватит денег на то, чтобы снимать жилье. Можно жить в Малаховке и ездить на работу в Москву. Мои родители будут рады. Они очень боялись остаться в одиночестве.
Предостережения отца смутили, но ненадолго. Меня переполняло такое счастье, что я не поверила бы даже собственным глазам.
Я думала, Игорь совершенно равнодушен к мнению ближних о своей особе. Но он был очень доволен впечатлением, произведенным на мое семейство. Разумеется, я сообщила, что все трое без ума от него, но Игоря не так просто было провести.
— С Людмилой Васильевной мы подружимся, — не сомневался он. — Она так блестяще обрисовала мне современную ситуацию в экономике и виды на будущее. Я пересказываю ее прогнозы в обществе и прослыл очень умным.
Игорь нашел, что и с будущей тещей они родственные души, но о тесте не помянул ни слова. А вскоре у нас начались первые мелкие стычки, и при этом Игорь всякий раз вспоминал папу.
— Теперь осталось только переступить порог моего дома и под Новый год мы можем тихо, без лишней помпы обвенчаться.
— Это фантастика. — Я покачала головой.
— Что, папа не дал добро? — сухо осведомился он.
Тут я не на шутку рассердилась и готова была наговорить ему много чего: да, я люблю отца и всегда считалась с его мнением, что в этом плохого, а вот он не любит своих предков, и я в этом не виновата… Но Игорь вовремя меня остановил. Разозлив меня и полюбовавшись моим гневом, он тут же шел на мировую и припасал для этого случая приятную новость, чтобы окончательно сгладить ссору.
— Я знаю, сударыня, что вы меня почитаете книжным червем, витающим в эмпиреях чистых абстракций и ведать не ведающим о реальной жизни, грубых материях и быте…
— Ты такой и есть, — проворчала я.
— Но ради одной вредной девицы из Малаховки я готов на все. Если бы ты знала, чем я занимался все это время! Хлопотал о крыше над головой для нашей будущей семьи!
Он произнес это торжественно и наблюдал, какой произвел эффект. Я вначале не поверила, настолько это было неправдоподобно. Иноземцев хлопочет о жилплощади! Но не только ради меня и нашей семьи он проявил практическую хватку и погрузился в постылый быт.
Игорь давно мечтал поселиться отдельно от родителей. Еще на первом курсе он уговаривал мать разменять квартиру, потому что отныне он взрослый мужчина и хочет сам устроить свою жизнь. Ему было категорически в этом отказано.
Помогла тетка, лучший друг и советчица. Единственная из всей семьи, кто, по словам Игоря, его понимал. Два года назад умерла другая бабушка Игоря, профессорша. Теперь дед проживал один в двухкомнатной квартире. Тетушка согласилась переехать к отцу. Старик был болен и беспомощен, нуждался в уходе.
— Мне стоило такого труда не проговориться тебе раньше. И вот вчера я перевез тетушку. Завтра приглашаю на новоселье. Будем только ты и я, мы! — Игорь сиял.
Я давно не видела его в таком благостном, светлом настроении. Украдкой подумала: чему он больше радуется — свободе от родичей, собственной квартире или предполагаемой свадьбе? Предполагаемой, ведь я до последнего дня не верила, что мы поженимся так скоро, если вообще поженимся. Но Игорь был настроен решительно. Уже на следующей неделе он запланировал два визита — к тетушке с дедом и к родителям. Впервые я ощутила где-то под сердцем легкий холодок ужаса.
Он ни разу не обмолвился о том, как приняли родные новость о женитьбе. Судя по его молчанию, без всякого энтузиазма.
У нас появился свой дом. Хотя Люся насмешливо именовала его любовным гнездышком, для нас он сразу стал настоящим семейным очагом.
Сколько раз я проходила вечерами мимо освещенных многоэтажек и с вожделением заглядывала на уютно мерцающие окна. Сколько комнат! Миллионы — может быть, пустующих, никому не нужных. А мы с Игорем не можем поселиться вместе, потому что у нас нет каких-нибудь двенадцати квадратных метров. Несправедливость, повсюду одна несправедливость!
И вдруг на нас свалилось счастье в виде однокомнатной квартиры да еще в замечательном месте, рядом с Измайловским парком. Переступив ее порог, я пережила несколько неприятных минут, столкнувшись лицом к лицу с тетушкой Варварой Сергеевной.
Чем-то она отдаленно напоминала моего красавца Иноземцева, но при этом была непривлекательна. Слишком удлиненное лицо, такие называют лошадиными, гладкие светлые волосы и строгие, взыскательные глаза, которыми она меня сразу же так и пробуравила насквозь.
Я не пыталась понравиться его родным, потому что это невозможно. Ни одна девица на свете, даже самая красивая, умная, благовоспитанная и родовитая, не достойна стать суженой их мальчика. В этом я с ними совершенно согласна. Поэтому вела себя скромно и чуть виновато: не скрывала, что не обладаю выдающимися достоинствами и только по недоразумению, скорее везению, удостоилась такой чести.
После ухода тетушки Игорь достал припрятанную бутылку шампанского, и мы занялись приготовлением к пиршеству. Салат, наш любимый торт «Прага» — в те голодные времена все это было роскошью. Мы так себя и ощущали — богатыми, свободными и беззаботными.
— Конечно, лучше было бы сидеть у камина на медвежьей шкуре, пить шампанское, смотреть на огонь и мечтать о будущем, — фантазировал Игорь.
У меня тоже было воображение. Я легко могла представить и камин, и шкуру, но сразу же полюбила нашу шестиметровую кухоньку, где мы обычно трапезничали и подолгу разговаривали. В тот вечер мы не мечтали, а четко планировали свое будущее: на следующей неделе мы подаем заявление в ЗАГС и навещаем родителей. Свадьба через два месяца.
От всего этого у меня голова пошла кругом. Мне бы еще полгода на размышления.
И к свадьбе нужно готовиться, и платья подвенечного у меня нет.
Но обо всех этих мелочах я забывала, когда мы стояли, обнявшись, у окна и смотрели на парк, такой темный, загадочный и мрачный. Когда он целовал меня и шептал на ухо, что уже сегодня я могу остаться здесь, незачем уходить, все равно мы почти муж и жена, осталась только небольшая формальность, а на небесах мы уже муж и жена. И в эти минуты я тоже верила, что на небесах на наш счет все давно решено, и наши души как две половинки, и нет у меня человека ближе и роднее.
В тот вечер я вернулась к Аське в нашу комнатку, ставшую вдруг такой чужой. Меня тянуло к Измайловскому парку. Я уже и дня не могла прожить без своего «монголотатарского ига», так я прозвала Иноземцева. Он тоже придумывал мне смешные прозвища, мы дурачились и хохотали как сумасшедшие.
Через два дня подали заявление в ЗАГС, Игорь подарил мне кольцо, а Аська чуть не грохнулась в обморок от этой новости. Она все еще не верила. Отныне между нами выросла глухая перегородка. Аська любила чужие несчастья и бросалась на помощь. Жалеть попавших в беду, выручать — это была ее стезя. Но она на дух не выносила тех, кому везло в жизни. Наверное, это была разновидность зависти, которой она меня долгие годы истязала.
Но до Аськи ли мне было в те дни! Я забыла об учебе, о родных, об осторожности и благоразумии да и о самой жизни. Жизнь для меня — это будни, размеренное существование и терпеливое выполнение ежедневных обязанностей.
А я была влюблена, причем не слегка, а слишком, через край. Именно тогда наступил пик этой любви, за которым должен был последовать спад, медовый месяц или умопомрачение. Да, я не раз в своей жизни становилась свидетельницей того, как от неразделенной любви у моих знакомых ехала крыша.
Но меня судьба обошла этим испытанием. У нас с Иноземцевым наступил медовый месяц. Чему суждено было случиться, то и случилось. Однажды ночью я не вернулась в свою башню. Аське сказала, что уехала домой. И кажется, она поверила. А потом мне стало совершенно безразлично, верила она мне или нет.
На факультете мы с Игорем не появлялись по два-три дня. Вставали поздно, и он приносил мне в постель чашку кофе. Единственное, что он умел готовить. Сколько я ни билась, не смогла научить его хотя бы жарить картошку или разогревать полуфабрикаты.
Не помню, чтобы мы что-то ели, кроме черного хлеба с постным маслом, иногда бутербродов. И есть не хотелось. Кофе пили ведрами. Удивляюсь, как я не заболела, не сгорела дотла в этом пожаре.
По квартире я бродила в старом Люсином пляжном платье, эдакой хламиде, которая очень нравилась Игорю. Но еще больше ему нравилась туника из махрового полотенца. Он сам завязывал мне толстый узел на плече и распускал волосы. Пока я в таком виде жевала на кухне черный хлеб, запивая его кофе, он сидел напротив и смотрел на меня неотрывно, словно хотел насмотреться впрок.
Если Игорь отлучался по делам и я оставалась одна, то обычно сидела у окна, глядя на заснеженный парк, и ни о чем не думала. То, что меня переполняло, можно было назвать ощущением полноты бытия. И разве могли с ним тягаться угрызения совести или тревоги по поводу экзаменов?
Я носила на пальце кольцо и готовилась к свадьбе. Общественное мнение меня не волновало. И только молчаливое осуждение одного человека могло заставить меня покраснеть. Если бы отец узнал о моем неблагоразумном поведении, я, кажется, провалилась бы сквозь землю от стыда.
Что касается экзаменов. Как только мы поселились вместе на «Измайловской», я перестала быть добросовестной студенткой. Учеба отошла куда-то на третий, четвертый, на самый задний план. Как говаривала Аська: личнуха заела. Я окунулась в личнуху с головой, в свою личную, любовную, семейную жизнь. Сначала была возлюбленной, потом хорошей, заботливой женой, готовила мужу обеды, стирала, гладила. К тому же ходила каждый день на службу.
В ту зимнюю сессию я не сдавала зачеты и экзамены, а с натугой спихивала их. Появились тройки и хвосты. Хвосты я продолжала сдавать в феврале и марте. Игорь мне помогал. У меня были свои планы на будущее: работа в каком-нибудь женском журнале, если повезет. Можно было попробовать себя в журналистике. Я писала стихи и мечтала показать их одному поэту, возглавившему литературную студию у нас в Малаховке. Со всем этим было разом покончено на много лет. Я долго жила только ради Игоря.
Наш медовый месяц длился очень долго, почти год, включая те два месяца до свадьбы, которые мы прожили в Измайлове. Именно в эти дни Игорь неузнаваемо изменился. Такого Игоря мне уже больше не довелось видеть. Сам он как-то изрек, глядя на себя в зеркало:
— Я, кажется, здорово поглупел. Раньше замечал, как другие глупеют, влюбившись, но думал, меня это не коснется.
— Значит, тебе полезно поглупеть. Таким ты мне больше нравишься, — утешила я его. — Ты как будто смягчился душой, опростился.
Главное — он вдруг заговорил. Те слова, которые казались ему такими избитыми и затасканными, полились рекой. Очень долго я не слышала о том, как ему необходима. Только — «люблю, обожаю, схожу с ума». Каждый день я получала маленькие и большие подарки: кусочек душистого мыла, шарфик, колготки, цветы и другие мелочи. Может быть, сегодня эти подарки кому-то покажутся смешными и убогими. Тем, кто забыл, что в то время мыло и стиральный порошок выдавались по талонам и за всякой ерундой тут же выстраивались длинные очереди.
Что касается меня, то я была бы рада даже наперстку, преподнесенному мне Игорем, а от затасканных слов таяла и превращалась в воск. Что-то случилось и со мною в эти недели. Если Иноземцев поглупел, то мне это просто не грозило: тут мне терять было нечего.
Я совершенно утратила чувство реальности и пребывала в других измерениях. Нашу реальность я всегда не любила до отвращения и рада была из нее выпасть. Вероятно, окружающие замечали мое отсутствие. И то, что я не хожу, а парю над землей, едва касаясь ее ногами.
Когда я изредка появлялась на факультете, Гонерилья только посверкивала на меня злыми глазенками издалека, но подходить не решалась. Зато Лена Мезенцева и девчонки из нашей группы радостно махали мне издалека. Сачок, как мы называли курилку, был по обыкновению полон. Синий дым стелился по коридорам едким облаком.
— Старушка, от тебя исходит сияние! У тебя над головой нимб, а за плечами крылья из белоснежных перышек! — таков был общий глас.
— Чему же тут удивляться. Она ведь невеста. Невеста и должна быть сияющей, — грустно заметила Лена, по обыкновению затягиваясь сигаретой.
Мы с ней обнялись и поцеловались. Уже без боязни, что она испортит мне единственную блузку. Теперь у меня был богатый гардероб, и мама готовила мне приданое. Что это такое, я представляла смутно.
Ленка очень подурнела, осунулась, поблекла и все чаще жаловалась на жизнь. Теперь уже не только на родичей, но и на мужа. Ее медовый месяц давно закончился, вернулись будни. Точно такие же, как прежде, даже тяжелее и скандальнее.
— Понимаешь, я так надеялась, что все переменится, мы с Алькой поселимся отдельно от стариков. Как они мне надоели! — стонала Лена. — Со свекровью я выдержала только два месяца. В результате снова под крышей родного дома. Мать категорически отказывается меняться…
Я слушала, но не понимала Ленкиных проблем, хотя и не возражала. Больше всего на свете она мечтала о свободе. Жизнь без родителей казалась ей раем. Но Ленка никогда в жизни не готовила, не стирала, не знала никаких бытовых забот. И не подозревала, что все это на нее обрушится, когда она останется одна, без мамы и бабушки. А Алик плохой помощник.
Но напоминать об этом было бесполезно. Зачем разрушать чужую мечту? Я только утешала Лену и призывала к терпению. Авось все образуется. В отношениях с родными и просто окружающими самое главное качество именно терпение. Остальное приложится.
Поэтому я заходила время от времени в башню, чтобы попить чаю с Аськой и сообщить ей, что теперь езжу каждый день домой — мерить подвенечное платье, готовить приданое. Кажется, она мне верила. Впрочем, не все ли равно. Тем более, что в сессию Ася жила дома и наша чудесная комнатка в башне пустовала. Из всех мест, где мне приходилось жить, она запомнилась мне ярче других.
И домой я наезжала обычно днем. Мы с мамой отправлялись к портнихе примерять платье из белого шифона, юбку и блузку.
— Просто впору караул кричать! — жаловалась мама портнихе и подругам. — Две девицы вдруг почти одновременно выскакивают замуж. Особенно младшая подкосила: летом еще и намека не было на свадьбу, и вдруг в ноябре огорошила…
— Ты лучше пойди в церковь и поставь самую большую свечку, а не ропщи, неблагодарная, — ругали ее приятельницы. — Ты счастливая мать. Пристроила обеих девок, да еще как пристроила — в Москве, с квартирами.
Но мама почему-то не чувствовала себя счастливой. Ее пугали не только огромные расходы и долги, но и всякие дурные предчувствия. Например, по поводу того, что мы с Люсей можем в первый же год родить детей и тем самым искалечить себе жизни. Почему младенцы должны были искалечить наши судьбы, мы с папой не понимали. Папа не скрывал, что мечтает о внуках и не считает их несчастьем.
Я слушала разговоры своих домашних, что-то отвечала, улыбалась, но мыслями была далеко от них. Простившись, бежала на станцию. Папа делал вид, что верит моим сбивчивым оправданиям: сессия, необходимость заниматься в читалке и непременно посещать консультации.
Но уже в электричке я начисто забывала о доме, родителях. И угрызения совести, что лгу на каждом шагу, переставали мучить. Я уже была там, поднималась по лестнице на четвертый этаж, открывала дверь и с порога попадала в объятия Игоря.
Единственным облачком, слегка омрачившим эти лучезарные дни, был наш неловкий разговор в самом начале медового месяца.
— Мы будем идеальной, гармоничной парой. Единственное, о чем я хотел просить тебя, Лара. Я тебя просто умоляю! — Игорь слегка поморщился, как всегда, когда ему приходилось говорить о неприятных вещах. — Пока я буду учиться в аспирантуре, лет пять, наверное, у нас не должно быть детей.
Моя голова лежала у него на груди. Ухо чутко ловило биение его сердца, такое ровное, гулкое. Я чувствовала, как ему неловко, мучительно говорить это. И сама понимала, что в ближайшие год-два появление ребенка было бы очень некстати.
— Но, Игоряша, разве это зависит от моего желания. Почти все дети нежеланные, — жалобно возразила я. — Ведь стопроцентной гарантии просто не существует.
— Уже существует, дружочек мой, и даже продается в аптеках. — Он погладил меня по голове, ласково и покровительственно, как несмышленого ребенка. — Посоветуйся с сестрой, опытными подругами, мамой…
С тех пор я жила в постоянном страхе, как живут тысячи женщин. Мои опытные подруги и приятельницы постоянно попадали в беду и проклинали стопроцентные гарантии. Одно я знала твердо: если это случится, я никогда не стану избавляться от своего ребенка, даже если Игорь этого потребует.
День свадьбы приближался. Я почти перестала стыдиться своего поведения, непростительного для скромной девушки. Родители как будто ни о чем не догадывались. А кто догадывался о том, что мы с Игорем давно живем вместе, вовсе не считал это предосудительным. Даже наоборот: влюбленным просто необходимо пожить до свадьбы под одной крышей, чтобы убедиться в правильности выбора и в том, что они действительно друг другу подходят. Это была Асина любимая теория любви и супружества.
Но эта разумная теория почему-то не устраивала Люсю. Сестрица устроила мне скандал. Несмотря на занятость, ей вдруг вздумалось меня навестить. Аська пожала плечами и сообщила ей, что я давно не ночую в общежитии, уезжаю домой. Вполне допускаю, эти невинные слова были сказаны таким тоном, что Люся сразу же обо всем догадалась.
Почему она пришла в такую ярость, до сих пор не пойму.
— Кто бы мог ожидать такой прыти от нашей невинной овечки, папиной скромной девочки! — ехидничала Люся, разглядывая меня, как вредное насекомое. — Завтра же доложу обо всем родителям.
Я чуть не расплакалась, как в детстве, когда она изводила меня:
— Не смей, слышишь! Тебя это совершенно не касается. Не вмешивайся в мою жизнь!
— Еще бы не касалось! К сожалению, я твоя сестра и отвечаю за тебя, — торжественно заявила Люська. — Ты же дура, круглая дура. Мало того, что влюбилась, как кошка, и сама повисла на шее. Вдобавок в любой момент можешь залететь, потому что невежественна, как школьница. Школьницы и то нынче больше искушены в этих вопросах.
Чего она мне только не наговорила, моя дорогая сестра. Такая современная, деловая женщина с широчайшими взглядами на всех и все. Из нее вдруг поперла самая серая, заскорузлая обывательщина. Я ее этим словом и заклеймила — обывательница. Ну, она, конечно, в долгу не осталась и пообещала устроить Игорю сцену за то, что он меня совратил.
Мы ругались часа два. На этот раз я отчаянно отбивалась и не желала уступать. Даже пригрозила, что порву с ней всякие отношения, если она наябедничает родителям. Она махнула на меня рукой, как на пропащую, и, уходя, словно веслом по голове припечатала. Последнее слово все-таки осталось за ней:
— Ты уверяла, что любишь отца. Но почему-то не подумала о его больном сердце, когда тайком отправлялась ночевать к любовнику, а нам лгала, что едешь домой. Папа уже сейчас не расстается с нитроглицерином, а через несколько лет ты сведешь его в могилу, лицемерка!
Люська удалилась, и в башне воцарилась гробовая тишина. Наверное, девчонки слышали нашу перебранку. Я долго приходила в себя, даже всплакнула немного. Обидно было: ведь я никогда не говорила ей, что люблю отца, это само собой разумеется и слова не требуются. Но даже в те горькие минуты я не сомневалась, что с сестрой никогда не рассоримся: «Родные люди все такие», между родными людьми всяко бывает.
Это случилось за три недели до свадьбы, когда Люся вызвала меня в башню для решительного разговора. А неделю спустя я пережила еще одно испытание — знакомство со свекровью и свекром.
Это очень тяжело — сознавать, что тебя заведомо не любят, еще не зная, ни разу не видя. Что для них ты самозванка, нахально вторгшаяся в семью. Полина Сергеевна была хорошо воспитана, умело изображала приветливость, но я все с порога почувствовала. В уголке еще сидела старая тетушка, которая специально явилась на меня полюбопытствовать.
Сначала я дичилась. Игорь не отходил от меня ни на шаг, очень агрессивно давая понять, что в обиду не даст. Но тут за стол со мной рядом сел Лев Платонович, отец Игоря, заставил пригубить белого вина и разговорил. Меня вдруг словно по течению понесло,стало легко, свободно.
Много ли, мало прошло времени, но я уже рассказывала Льву Платоновичу анекдоты из студенческой жизни. Мы вместе хохотали, позабыв об остальных. Когда я очнулась, свекруха поглядывала на меня неодобрительно, тетка ехидно, а Игорь удивленно.
— Что-то не так? Я вела себя не очень безобразно? — с беспокойством расспрашивала я его, когда мы уединились в соседней комнате, бывшей детской.
Вместо ответа, он обнял меня и притянул к себе. Когда заглянула Полина Сергеевна, мы сидели на диване, тесно прижавшись, и целовались.
— Игорь, тетя уходит, хочет с тобой попрощаться, — холодно сообщила мать и отвернулась.
— Все было замечательно, Ло, — сказал Игорь, вернувшись в мои объятия. — Твое поведение не было легкомысленным. Просто я описал тебя как чрезвычайно скромную, застенчивую девицу, а ты вдруг взяла и вышла из этой роли. Ты действительно непредсказуема.
Несмотря на похвалу, все это мне очень не понравилось. Кажется, мне совсем нельзя пить, даже несколько глотков вина тут же выбивают меня из колеи. Я чувствую себя утлой ладьей без руля и ветрил, гонимой волнами. Это очень неприятное ощущение — когда теряешь контроль над собой, своими поступками и словами. Но Игорь почему-то обожал меня в этом безобразном состоянии и старался подпоить.
Лев Платонович подал мне в прихожей шубку, даже застегнул верхнюю пуговицу. Потом поцеловал обе руки, чмокнул в лоб, щеку и заговорчески шепнул:
— Я потрясен, просто потрясен, Ларисонька!
Я смущенно вспыхнула, по наивности полагая, что моя особа произвела на него такое впечатление. Но тут Лев Платонович покосился на Игоря, который прощался с мамочкой.
— Я потрясен переменами, произошедшими с нашим сыном. Вы сделали невозможное, Ларочка, — разбудили нашу спящую красавицу.
Мы еще какое-то время шушукались, любезничали и хихикали с Платоновичем, а Игорь наблюдал за всем этим с веселой иронией. Отец с сыном так и относились друг к другу — с веселой иронией. Вечно подтрунивали, подшучивали, подкалывали, не всегда безобидно. Иной раз довольно болезненно всаживали булавки в самые чувствительные места. Самым чувствительным местом у моего Иноземцева было самолюбие. Поэтому я ничего не сказала ему про спящую красавицу. Вдруг обидится.
Еще бабушка учила меня: никогда не говори мужу всего, что на уме и на сердце. Это ее предостережение почему-то глубоко засело в памяти. Я знала женщин, которые открывали всю себя до донышка любимым мужьям. Ни к чему хорошему это не приводило.
Да, я не всегда бывала откровенна с Игорем и многое от него скрывала. Но скрытность не всегда сродни хитрости. Чаще всего я щадила его самолюбие, уберегала от неприятных новостей. Как и все мужчины, особенно избалованные с детства, он терпеть не мог осложнений и проблем и рад был жить в неведении, только бы его не тревожили по пустякам.
После первой же встречи я стала размышлять о своих новых родственниках. Ведь это самые близкие Игорю люди. Хочешь не хочешь, нужно строить с ними отношения, может быть, приспосабливаться и уступать. Уроки сестрицы не пропали даром. Со Львом Платонычем все было понятно. За ядовитой иронией и насмешками скрывалось какое-то доброе чувство — привязанность, может быть, любовь.
Игорь несомненно отца любил, но давно затаил на него обиду. За то, что тот всегда жил работой и своими увлечениями, друзьями, не уделяя внимания семье и сыну. Игорь считал отца чудовищным эгоистом, но обаятельным, умным человеком.
С матерью было сложнее. Между нею и сыном постоянно вспыхивали ссоры. Лев Платонович трусливо уклонялся. Если Игорь упивался своими обидами, то Лев Платонович жил последние годы с чувством вины, поэтому потерял свой голос в семье.
Когда мы очутились на улице, Игорь сказал:
— Ну вот, со свекром ты уже наладила отношения. Остается такая малость — тетушки и маман. Старик обожает молоденьких девочек, студенток.
— Я приятно удивлена. Твой отец оказался нормальным человеком. — Я подчеркнула слово «нормальный» и с тех пор всегда брала Платоныча под защиту, когда Игорь по обыкновению начинал старика критиковать.
Игорь искоса на меня взглянул, но удержался от замечаний. Он был явно в благодушном настроении.
— Я рад, что мой папочка тебе понравился. Скоро их у тебя будет сразу два. Пойдем скорее домой, моя толстушка.
На этот раз я уклонилась от его губ.
— До свадьбы еще целых две недели. Я не решила, кого выбрать — тебя или Платоныча. Кажется, он мне больше нравится.
Иноземцев так рассердился, что толкнул меня в сугроб, к изумлению двух старушек, выгуливавших своих собачек. Сам толкнул, сам же и извлек из сугроба и ворчал, отряхивая мою шубу:
— Тебе и вправду нельзя давать спиртное, Лукреция. Ты становишься распущенной. Это еще мягко сказано о твоем неблагопристойном поведении. Но черт возьми, как мне нравятся распущенные женщины!
Мне совсем не запомнилась собственная свадьба. Может быть, потому, что все свадьбы в чем-то очень похожи: белые платья, ЗАГСы, шампанское, черные или светлые «Волги».
Вначале все было чопорно и натянуто, потом — шумно и сумбурно. В результате ничего не осталось, кроме пустоты и головной боли. Нам с Игорем хотелось, чтобы никаких свадеб и не было, только бракосочетание и маленькая студенческая пирушка у нас на квартире. Но предки и слышать не хотели об этом: все должно быть как у людей.
Мы приехали в какой-то унылый отдел актов гражданского состояния. Сейчас я не смогла бы его отыскать. Там вдоль стен терпеливо дожидались своей очереди несколько пар. Наш табор ввалился и внес оживление в кладбищенскую атмосферу этого заведения. Народ заулыбался и принялся с любопытством нас разглядывать.
— Ты посмотри только, какие невесты! Страшней атомной войны, — радостно ужаснулась Аська. — Ты здесь самая хорошенькая.
Невесты действительно все были как на подбор — старые и уродливые. О женихах вообще умолчу. На этом фоне даже я блистала. Окрутили нас так быстро, что я опомниться не успела. Мы снова высыпали на улицу к машинам. Вся моя группа, девчонки и Мишка, выглядели веселыми и оживленными. Друзья Игоря, как обычно, держались в сторонке, своей обособленной группкой.
Мои родители были чуть-чуть растерянными и испуганными. У Люськи на физиономии стойко держалось выражение покорности судьбе. Свекруха принимала соболезнования. Лев Платонович беззаботно болтал с моими родичами. Я ему очень благодарна за это. Все-таки он оказался не только нормальным, но и по-настоящему воспитанным человеком, всеми силами старался поддержать дружелюбный тон в отношениях с новой родней. Полина Сергеевна и не пыталась. Ее вымученная, ледяная любезность была почти оскорбительна.
Вначале Лев Платонович распорядился отвезти всех к себе. Пришлось выдержать эту пытку — поздравления жениховой родни и какое-то официальное, неуютное застолье. Никакого перехода от прежней жизни в новую я не ощутила, поэтому не понимала смысла подобной процедуры. Ведь для меня этот переход осуществился еще в декабре.
Вскоре мы отправились к себе на квартиру, где мои подружки тоже сооружали праздничный стол. Старики оставались тихо и чинно досиживать вечер. Родителей я смело оставила на Люсю, зная, что она не даст их в обиду.
— Мне все ясно! — подвела итоги сестра, сурово сжав губы.
Я только вздохнула в ответ: родню не выбирают, к тому же мне с ними не жить.
— Какая унылая и безрадостная у меня свадьба, Лен, — не удержалась я, чтобы не пожаловаться по дороге Мезенцевой.
— У меня была точно такая же! — успокоила она меня. — Мне кажется, свадьбы иными не бывают.
Зато еще на площадке нашей квартиры мы услышали шум празднества. Они даже не сочли нужным дождаться нас. Открыв дверь, мы перепугались — дым коромыслом! Игорь слегка поморщился, но ничем не выказал недовольства.
— Ну вот, ты хотела веселья и получила его, — не без ехидства заметила Мезенцева.
У нас в общежитии любили вечеринки до утра и умели расслабляться. Я не умела и поэтому редко принимала участие в тусовках. Когда все до капли выпивали и съедали, а затем снаряжали гонцов куда-нибудь к трем вокзалам, когда после полуночи заканчивались сигареты и извлекали бычки чуть ли не из помойного ведра, я испытывала только усталость и скуку.
Но собственная свадьба — совсем другое дело. Можно и потерпеть. Тем более, что часам к девяти, проводив родителей на вокзал, явилась Люська с женихом и с порога воскликнула:
— Вот это совсем другое дело. Хотя бы попляшу на свадьбе у родной сестры.
Я тоже плясала, сбросив в ванной платье из белого шифона и переодевшись в другое, поскромнее. И конечно, посылали гонцов к трем вокзалам и клянчили сигареты у соседей. Потом к нам с удовольствием присоединились соседи, очень симпатичная молодая пара.
Веселье наше было бесшабашным, но не безобразным. И главное, искренним. К часу ночи мы с трудом выпроводили гостей. Хорошо, что со своими можно было не церемониться. Они уехали догуливать в общежитие. У меня хватило сил умыться, доползти до кровати. И тут я провалилась в глубокую черную яму.
Очнулась далеко не ранним утром. На краю постели сидел грустный Иноземцев и смотрел на меня.
— Ты проспала, как сурок, свою первую брачную ночь. Тебе не стыдно?
— Стыдно, очень стыдно, Игоряша! Но я была так измучена. Они меня уходили.
Мы долго сидели, обнявшись, и смотрели на разгромленную комнату, груды грязной посуды. Девчонки предлагали помощь, но я отказалась. Если они вернутся под предлогом помощи, свадьба затянутся еще на день. А мне хотелось одиночества. Больше никого не впущу в наш дом, решила я. Никаких вечеринок. Теперь это наша с Игоряшей крепость. Так во мне сказалась кровь моей прабабки-староверки из Шарьи.
В первое время я не понимала, как много изменилось в моей жизни. Слишком была легкомысленна и беззаботна. Мы долго были сосредоточены только друг на друге: бродили в парке, разговаривали, нам никто не был нужен, ни родные, ни друзья. Но постепенно наезженная колея одолевала.
Игорь все чаще уезжал на факультет и задерживался допоздна. Он писал диплом, готовился к аспирантуре. В нашей жизни это были самые значительные события. Я была счастлива, если удавалось чем-то ему помочь: достать нужную книгу, сделать конспект, перепечатать главу диплома. Не говоря уж о том, чтобы из топора приготовить супругу вкусный обед, выстоять очередь за модной рубашкой или туфлями для него. Мне доставляло удовольствие стирать и гладить его вещи, заботиться о нем. Я вовсе не строила наши семейные отношения, не знала, что такое самопожертвование, и сознательно его не выбирала. Все сложилось как-то само собой.
Раз в неделю заезжал папа. Обычно позвонив предварительно, чтобы не столкнуться с Игорем. Они интуитивно избегали общества друг друга, и я не понимала почему. Папа привозил продукты, несмотря на мои искренние протесты, оставлял на столе деньги. Денег нам, конечно, все равно не хватало, но мы не бедствовали. Две наши стипендии плюс вспоможение родителей складывались в довольно значительную сумму, но мы с Игоряшкой были жуткие транжиры и не привыкли ни в чем себе отказывать.
Папа варил борщ или щи на три-четыре дня. Но теперь я стояла рядом и жадно внимала его рекомендациям. Папа учил меня готовить, мама — хорошо стирать, крахмалить, штопать. Я ведь толком ничего не умела делать. Но вскоре я уже демонстрировала Иноземцеву виртуозно заштопанный носок. Он изумлялся и искренне хвалил. С носками в ту пору тоже была напряженка. В Касимове их иногда давали по талонам, одну пару на три месяца. В Москве же по талонам давали только водку, сахар и кое-что из продуктов, все остальное надо было изловчиться и достать.
Все эти тонкости я вскоре постигла и утонула в житейских проблемах и трудностях быта. А папа все чаще с тревогой спрашивал:
— Лариса, почему ты дома? Ты когда-нибудь бываешь на занятиях?
— Папуля, сегодня только две лекции. Ну зачем мне тащиться на факультет, терять время, если я могу все это, даже больше, прочесть дома?
И я кивала на стопку книг на полке, а отец вздыхал. Но даже в те времена я читала много. Чтение давно стало главной потребностью для меня, и даже Игорь, пожелай он того, не смог бы отучить меня от книг.
Мои книжки и тетрадки сиротливо теснились на полке, на журнальном столике и на кресле. На письменном столе были разложены рукописи и тетради Игоря. Он не раз великодушно предлагал мне заниматься за столом, но для меня это было священное место. И покушаться на него я не посмела.
Поэтому обычно занималась уютно свернувшись калачиком в кресле, или лежа на диване, или на кухне, где помешивала или стерегла очередное кушанье. В конце концов я так наловчилась, что могла заниматься или читать где угодно. Даже в метро. Ведь раньше я проходила до факультета не более трехсот метров, а теперь дорога отнимала больше часа.
На занятия все-таки ездила, особенно на практические. Но что толку? Садилась у окна, глядела на уютный сквер возле цирка. Мысли тут же уносились прочь, в Измайлово или в ближнюю кулинарию, где мне предстояло запастись съестным. Игорь любил бефстроганов или хорошее жаркое.
По этому поводу я часто шутила:
— Люди, которые занимаются такими тонкими материями и живут исключительно духовной жизнью, должны питаться только медом и акридами.
— Врагу не пожелаю такой рацион, — отвечал Иноземцев, уплетая тушеную картошку с бараниной.
Он мог в один присест съесть целую кастрюлю, которую я планировала растянуть на два-три дня. К чести Игоря надо заметить, что он никогда не жаловался на неустроенный быт своей семьи. Три года назад умерла бабушка. С тех пор они не знали обедов и ужинов. Полина Сергеевна не любила и не умела готовить. По договоренности каждый из Иноземцевых питался по месту работы и службы.
Я не могла скрыть удивления. А Игорю это казалось привычным и нормальным явлением.
— Ведь матери некогда готовить, у нее такая нагрузка.
— А у нас дома всегда был обед в холодильнике, — похвасталась я.
— Ну еще бы, Игумновы ведь идеальная семья. А мы, Иноземцевы, безбытные, недружные, бестолковые.
Сколько яду всегда было в его замечаниях о папе и нашем счастливом мещанском семействе. Налаженный быт Игорь вовсе не считал залогом благополучной семьи.
— Мы, Иноземцевы, не потому стали чужими и разбежались по разным углам, что не собирались ежедневно за одним столом, не варили борщи и не пекли пироги. — Когда он говорил о своей семье, в голосе неизменно звучали горькие ноты.
По его мнению, беды начались, когда умерла бабушка, отец завел подружку, а мать с головой ушла в общественные дела и при этом вообразила, что имеет право управлять жизнью единственного сына, как рулевой на вахте.
Мы не раз спорили о том, какой же должна быть хорошая семья.
— Ты считаешь, что не любовь, не благополучие, не налаженный быт — гарантии такой семьи. Но что же? — вопрошала я.
— Откуда я знаю. Это темный лес, — пожимал плечами Игорь. — Браки совершаются на небесах. Хорошие семьи устраиваются там же. Посмотри на Сережкино семейство. Словно в одном улье живут, все за одного, один за всех. А мои мать и тетка, родные сестры, ненавидят друг друга. Мать была больше привязана к свекрови, чем к родной матери. В детстве я над этим едва голову не сломал, размышляя. Скорее всего, это какая-то порча человеческой природы, причина которой в загрязнении окружающей среды, в нашей нервной и убогой жизни…
О себе мы не говорили. Наверное, потому, что догадывались — семьи у нас пока нет. Мы только вступали на это трудное поприще. Через два-три года станет ясно — слепилась ли наша семейная жизнь или мы остались двумя чужими людьми, в порыве любовного увлечения поселившимися под одной крышей.
Первый год нашего супружества был очень счастливым и очень долгим. Многие дни из него я помню так ярко, словно прожила их только вчера. Многие наши споры и разговоры я записывала в дневнике. Но и без дневника часто воспроизвожу их в памяти почти слово в слово.
Мы с Игорем, как и прежде, много разговаривали. Потом, на второй год, словно выговорившись до конца, замолчали. Случалось, целые вечера проводили в полной тишине, каждый погруженный в свои дела, в свои книги и рукописи. Меня это нисколько не беспокоило: гармония между нами не только не исчезла, а достигла полного апогея. Такое молчание — свидетельство настоящей близости.
Лена Мезенцева позднее жаловалась мне, что не пережила настоящего счастья и не знает, что это такое. Я в ответ пеняла, что виной тому ее характер: слишком беспокойно и настойчиво она этого счастья дожидалась, словно судьба обязана была ей его предоставить.
Наверное, есть люди, которые просто не умеют быть счастливыми. Это Лена Мезенцева, у которой от рождения было все необходимое для благополучия, но почему-то счастье сорвалось с крючка. Другим оно и не суждено, они тихо, мирно изживают отведенный им срок без ярких событий, сокрушительных увлечений и потрясений.
Мне выпал кусочек безоблачного счастья. Особенного, какое бывает только в ранней молодости. Это касимовское лето тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года.
— Такого лета еще не было в моей жизни, — признавался Игорь. — Оно какое-то… вдохновенное.
То, что накатило на моего урбанизированного супруга, иначе как вдохновением не назовешь. Он косил, копался в земле, ходил с папой на рыбалку. Даже пробовал разговаривать с соседями и родней о политике и жизни, как моя сестрица, но у него плохо получалось.
Я была так рада, когда у них с отцом установились дружеские отношения и от недавней отчужденности не осталось и следа.
— Ну вот и исполнилась твоя мечта, Иноземцев. Ты очутился в самой гуще народной жизни и даже в нее окунулся, — посмеивалась я над мужем.
Мы сидели уютным летним вечером на краю высокого обрыва и как завороженные смотрели на воду. Мимо проплыл маленький белый катерок. На палубе гремела музыка и два матросика с завистью пялились на нас. Потом долго тащилась тяжелая, груженная песком баржа.
— Да, представь, и очень счастлив, ехидное создание, — сердито дергал меня за косу Игорь. — И за что меня бог наказал такой женкой? Мне нужна простая, сердечная, чтоб даже читать не умела, а только преданно заглядывала в глаза…
— Где ты такую дурочку нынче найдешь? Размечтался!
Он растягивался на траве, положив голову на мои колени, тяжко вздыхал:
— Найти не найду, но позволь хотя бы помечтать.
Долгими летними вечерами мы любили бродить по тихим, совершенно безлюдным улочкам городка. Обыватели рано ложились спать, только табунки молодежи и парочки изредка попадались навстречу. Игорь то и дело останавливался полюбоваться каким-нибудь старинным деревянным особнячком с кружевными наличниками на окнах, с высоким крыльцом и мезонином.
— «Вот оно, глупое счастье, с белыми окнами в сад», — не читал, а распевал он с восторгом. — Непременно в сад, слышишь?
— Наверное, в прошлой своей жизни ты родился в таком деревянном особнячке. Служил учителем в гимназии или чиновником в земстве. Поэтому у тебя вдруг пробудилась ностальгия.
— Все может быть. Но едва ли нам дано прожить несколько жизней. В том-то и трагедия, что нам дана одна попытка, случайная, быстротечная, — грустно размышлял он.
Кто был касимовским архитектором примерно сто лет назад, давно позабыли. Но свой след на земле он оставил. Его деревянные особнячки были бы ничем не примечательными, просто уютными и удобными для житья, если бы не пристрастие уездного зодчего к архитектурным излишествам — башенкам.
Он обязательно водружал над своими строениями башенку, которая вовсе не выглядела нелепо, а органично вписывалась в общую картину и радовала глаз, как первая зелень весной. Башенок осталось много, и мы издалека их замечали.
— Еще одна! — торжественно провозглашал Игорь, и мы целовались, стоя прямо посреди улицы.
Но наш Касимов не только деревянный. Каменные торговые ряды не хуже калужских, если их, конечно, отреставрировать и привести в божеский вид. В центре сохранились здания, которые сделали бы честь и столице.
— Вот здесь снимали фильм «Ревизор», — гордо демонстрировала я Игорю роскошную старинную усадьбу. — Перед этим дом спешно покрасили, побелили, сделали косметический ремонт.
В Касимове достопримечательностей немало. В полуразвалившемся сером строении, похожем на казарму, в 1812 году располагался госпиталь, точнее, лазарет, в котором служил доктором отец Достоевского. А какие купцы и купчины живали в Касимове! И чудаки, и самодуры, и меценаты, и таланты.
Этот уездный городок произвел на Иноземцева ошеломляющее впечатление. Ему впервые пришло в голову, что таких городов в России сотни. Раньше горизонт Игоря ограничивался Москвой, Московской областью и Питером. И он не мог не познакомить с открывшимся ему чудом своего друга, такого же невежественного парня, живущего в ограниченном пространстве обеих столиц.
Бабушка согласилась, и мы тут же пригласили Сержа на неделю. Чуть ли не на следующий день он приехал в Касимов.
— Началось какое-то массовое хождение в народ, — изрек Игорь, когда встречали Сержа на вокзале.
— Я приехал сюда с твердым намерением подыскать себе дом, — сообщил сияющий Сержик, раскрывая нам объятия. — Родители долго сопротивлялись, но в конце концов сдались и выкладывают деньги на бочку.
Он тоже был счастлив в это лето. Во-первых, началась новая эпоха в его жизни: он получил диплом и свободу. Такая была договоренность между ним и предками. Впервые в жизни его отпустили в такое дальнее путешествие одного, правда, с условием звонить ежедневно.
В первый же вечер Серж не удержался и поделился, к моему ужасу, своей затаенной мечтой с бабушкой и папой. Он просил бабушку присмотреть ему дом где-нибудь на окраине, с большим участком, где бы он мог уже весной посадить зерновые, а осенью, обмолотив, испечь своими руками хлеб.
У меня сердце в пятки ушло, боялась взглянуть на лица бабули и отца. Сама я не находила в его мечтах ничего смешного или странного, но подозревала, что нормальным, здравомыслящим людям Сережка может показаться сумасшедшим.
Первой откликнулась бабушка. Я, не веря своим ушам, слушала.
— Сереженька, день и ночь буду стеречь. Как только появится продажный дом, тут же позвоню Васе, тебе передадут. Весной мой племянник-тракторист тебе все вспашет, семена Яша достанет…
Я украдкой посмотрела на Игоря. Тот кусал губы, чтобы не рассмеяться. Отца эта история немного забавляла, но тем не менее он тоже увлекся и пожелал принять участие в затее.
— А что, мама, скосить мы скосим, это не проблема. А как будем обмолачивать? Неужели цепом? У бабки Дарьи где-то был…
— Зачем цепом. Я и валиком могу обмолотить, — предложила бабушка. — В войну мы делали ручные мельницы. Такой камень большой с ручкой, как жернова. Недавно видела, у бабки Дарьи в сарае валяется.
— Бабка Дарья ничего не выбрасывает, — подтвердил папа. — Обмолотим, Сережа, это не проблема. И в печке испечем хлеб.
Я услышала сдавленный стон. Игорь корчился от с трудом сдерживаемого смеха. Мы с ним не ожидали, что Серж так быстро найдет единомышленников. Уже зимой бабушка «устерегла» домик с большим огородом. Сергей стал домовладельцем. Тогда еще это было нетрудно — купить недорогой домик под дачу.
Всю неделю он ходил с нами на покос. Учился косить, но у него плохо получалось. Папа боялся доверять ему косу, того и гляди шарахнет себе по ногам. Серж с завистью наблюдал, как нарочито небрежно и легко косит Игорь, которому это дело далось на удивление легко.
Сережка был совсем мальчишка, неловкий, нерасторопный. Но чем-то очень полюбился папе и бабушке. Папа говорил, что душа у него хорошая, чистая. Он и повзрослев останется ребенком. Тем труднее ему будет пережить в будущем крушение своих мечтаний и планов. А это произойдет обязательно. Меня эти мрачные предсказания очень встревожили.
К сожалению, мы не могли надолго оставить Сержа у себя: приезжала Люся, на этот раз не с женихом, а с законным супругом. Ждали и маму. Проводив его на вокзал и вернувшись домой, мы заметили, что он оставил после себя какую-то невосполнимую пустоту. Этот удивительный человек, такой несовременный чудак, помесь Иванушки-дурачка и князя Мышкина, сумел за несколько дней расположить к себе не только наших домашних, но и соседей.
Но вскоре нагрянули Люся с Володей, так что тишина и покой были надолго забыты. Бабушкин маленький домишко не мог вместить такую толпу гостей. Мы уступили Люсе с мужем нашу застекленную веранду и поставили палатку прямо в саду под яблоней. Над этой палаткой вдоволь посмеялись соседи и родня. Люся иронически приподняла свои тонкие брови: затея показалась ей чрезмерно экзотической. Впрочем, шалые гуманитарии еще и не на то способны. Нас оставили в покое.
День пролетал шумно и весело. За стол садилось не менее десяти человек, вместе с кем-нибудь из родни. Трапезы были длинные и обильные, с разговорами, спорами, смехом. Люська, как всегда, учила крестьян работать на земле, а обывателей — крутиться и выживать в нынешних непростых условиях. Она написала две курсовые по экономике сельского хозяйства и считалась среди друзей большим специалистом в этой области.
Мы все, такие разные, очень дружно прожили этот месяц. Я даже пережила новое ощущение — словно я маленькая частичка родового клана, огромной семьи, мирно живущей под одной крышей. Игорь очень ценил и уважал мою сестрицу, мама обожала Игоря. Любовь, доверие и привязанность так и витали наподобие доброго ангела над нашими главами.
Только Володя, мой зять, казался безликой тенью своей жены. Он был абсолютно никакой — молчаливый, тихий, незаметный. Но позже мы с ним очень подружились, когда я поумнела и научилась, отметая внешнюю привлекательность, угадывать истинную суть людей.
«Душу можно ль разгадать?» Разгадать нельзя, но угадать внешние очертания и сам настрой на доброе и прекрасное — можно.
Наши полудеревенские дни были просто замечательными, но ночи… В душные августовские ночи мы отбрасывали полы нашей палатки и долго разговаривали, глядя в черноту сада, слушая оглушительную тишину. Потом всходила луна и заливала наш сад густым лимонным светом.
Когда я лежала на его руке и смотрела на луну, мне казалось, что реальный мир незаметно ускользнул от меня и я очутилась в другом измерении. Я сказала об этом Игорю. В ответ он сначала поворчал:
— Вечно у тебя другие жизни, иные миры. И этот неплох, если его разумно устроить.
Потом помолчал немного и вдруг засмеялся:
— Впрочем, я тоже совершенно выпал из действительности в эти два месяца. И очень рад, что выпал. Так надоела моя старая шкура, замечательно побывать в новой.
— Ты слишком уж опростился, Иноземцев, — попеняла я ему. — Подумать только, за полтора месяца не прочел ни одной книги, только местные газеты.
— Ни одной, — подтвердил очень довольный Иноземцев.
Он даже окать начал слегка, по-местному. Облюбовал старинную косоворотку, когда бабушка доставала из сундука всяческую архаику — прожарить по обыкновению на солнышке. Дедушкину косоворотку Игорь носил, лихо расстегивая все пуговицы на шее. Это напоминало какую-то игру в простонародность.
Все нарочитое, лихое, чрезмерное казалось мне недолговечным. Так оно и вышло. В конце августа Игорь словно очнулся, взял в руки какой-то толстый том, привезенный из Москвы. Потом снял косоворотку и запросился домой. Как я ни умоляла остаться еще на неделю, он был непреклонен. Напоминал об экзаменах в аспирантуру. Но для него эти экзамены были лишь формальностью.
Итак, первое хождение в народ закончилось. Игорь всегда с удовольствием его вспоминал. Но в последующих его хождениях поубавилось энтузиазма. Мы с удовольствием наезжали к бабушке два-три раза в год, но уже не столько трудились, сколько отдыхали. Зимой ходили на лыжах, жарились на печке. Летом целые дни проводили у реки.
Игорь уже ничему не удивлялся и не приходил в восторг, а вел себя как бывалый дачник и знаток уездной жизни. Пока мы с Володей поливали огород, пасли Катьку, возили на тачке сено, Игорь с сестрицей обсуждали на крылечке, как обустроить Россию и обкультурить ее дикий, нецивилизованный народ.
Время от времени нас навещала сестра, и ее бдительное око подмечало все — от бытовых огрехов до изъянов в наших отношениях. По праву старшей Люся щедро оделяла меня советами, рекомендациями, а позднее и многочасовыми наставлениями.
Она долго хмурилась, прежде чем с возмущением высказаться по поводу своих наблюдений.
— Лорик, что происходит? Ты превращаешься в допотопную домашнюю квочку. Я молчала, дожидаясь, когда же тебе надоест играть в добрую жену и любящую супругу…
— Значит, пока еще не надоело играть в добрую жену, — защищалась я.
— Весь день у тебя уходит на стояние у плиты и в очередях, чтобы вовремя и вкусно накормить мужа. А стирка, уборка! — не унималась Люська. — Ты забыла, что у тебя выпускные экзамены, диплом. От этого зависит твоя карьера и судьба. Где твои мечты, планы? Ведь ты писала хорошие стихи, всерьез подумывала о журналистике. И все это приносишь на алтарь семейной жизни?
И так далее и тому подобное… Несмотря на добрые отношения с зятем, голос крови возопил. Сестре обидно было видеть меня тенью Игоря, его служанкой и нянькой. Будь он хоть семи пядей во лбу.
— Поверь, мужчины неблагодарны, принимают самопожертвование как должное. — Люська говорила так, словно за плечами у нее остался многовековой опыт общения с неблагодарными мужьями. — Конечно, им нравится, когда их ублажают. Быстро привыкают к удобствам, становятся капризными, требовательными. И часто сбегают к яркой, самобытной женщине от своей домашней, опустившейся супруги.
Когда сестрица переходила к обобщениям, пора было вступать в решительный бой. Я-то знала лучше Люськи свой непостоянный, переменчивый нрав. Самопожертвование — это не для меня. Отказаться от себя я могла бы только ради ребенка или отца…
— Так что не удивляйся, если через год я перестану играть роль заботливой жены и брошусь в водоворот общественной и деловой жизни. Может быть, меня ожидает головокружительная карьера. Я еще тебе утру нос, — посмеивалась я над Люсьен.
— В это верится с трудом. — Она решительно прервала мою пустую болтовню. — Ты действительно легкомысленна, жить не можешь без перемен. Но если простоишь несколько лет у плиты, то поздно будет делать карьеру. Сейчас главное — найти тебе хорошую работу и ни в коем случае не заводить детей.
На этот счет у меня было свое мнение, которое я не собиралась Люське высказывать. Я надеялась уговорить Игоря и завести ребенка сразу же после диплома. По-моему, самое время. Ни о работе, ни о карьере мне совсем не думалось. Я хотела малыша. Ну что в этом плохого? И папа очень мечтал о внуке.
При Игоре Люся никогда не вела подобных разговоров. С ним сестра обсуждала только мировые проблемы, перспективы какого-то далекого лучезарного будущего. Однажды она, правда, не удержалась и заметила, что я совсем погрязла в домашних заботах. Игоряша с ней тут же согласился, и они дружно принялись перемывать мне косточки.
— Обед — это роскошь, недопустимая для нас. Можно просто пельмешков сварить. Но супруга каждый день мне напоминает, что у вас всегда стояли кастрюли с борщом, голубцами, котлетками. — Он хитро покосился на меня.
— Наш папа любит готовить. К тому же у него масса свободного времени. Но ты ведь не собираешься варить щи? — вдруг спросила у него сестрица.
— Боже упаси! — испугался Иноземцев.
Конечно, можно было покупать у метро пельмени или разогревать на скорую руку полуфабрикаты. Мне почему-то вспомнилась пыльная квартира Иноземцевых, пустой холодильник и стало по-бабьи жаль Игоря. Нет, не позволю я ему питаться кое-как, всухомятку.
Несколько лет я прожила в непоколебимой уверенности, что мне выпало счастье стать женой выдающегося человека. Если не Ломоносова, то хотя бы Веселовского или Шкловского[5]. Или на худой конец академика.
Может быть, в этом мое призвание — помогать ему в работе, ограждать от тягот быта, растить его детей. В то время такая участь нисколько меня не пугала, тем более что я не только обожала мужа, но преклонялась перед ним, признавала его бесспорные таланты и непохожесть на других мужчин.
На одном из наших семейных чаепитий Игорь обещал сестрице, что диплом мы с ним напишем…
— Ну вот еще! Не позволю, чтобы такой выдающийся ум спустился до моей жалкой дипломной работы, — возразила я.
Собрала все свои курсовые, выбрала из них наиболее интересные и значительные страницы, кое-что дописала — и через месяц диплом был готов. Не шедевр, конечно, но на четверку с минусом потянет. Впрочем, если бы его оценили на тройку, я не шибко бы расстроилась.
Люсьен ошибалась, когда говорила, как важно мне защитить диплом на «отлично». У них в институте, может быть, от этого зависело распределение и виды на аспирантуру. У нас же самые талантливые выпускники уезжали, как пасынки, в далекую глубинку со своими красными дипломами. У нас, как нигде, наверное, судьба зависела от места жительства и связей, родственных и дружеских. Поэтому я не очень корпела над дипломом. В школу или библиотеку меня и так возьмут, в аспирантуру я сама бы не пошла, даже если бы силой заставляли. Чистая наука внушала мне отвращение.
Весной Иноземцев строго потребовал предъявить диплом.
— Неужели ты будешь читать некие дамские измышления по поводу поэтики Федора Михайловича? — невинно округлив глаза, спросила я. — И не жалко времени?
Внимательно прочитав мое рукоделие, муж вздохнул:
— И перо у тебя легкое, и в мыслях легкость необыкновенная.
— Я же тебе говорила.
Несмотря на мои протесты, он заставил меня переписать некоторые куски, сам составил полную библиографию, и вечерами теперь мы говорили только о Достоевском. Моя легкость пера и его основательность дали блестящие результаты. У меня получился настоящий научный труд, с которым не стыдно и на защиту выходить.
— Послушай, Игоревич! — как-то сказала я мужу, словно впервые его увидела. — Ты, оказывается, талантливейший педагог. Так толково объясняешь, умеешь заставить работать самого нерадивого студента, терпелив, внимателен, красноречив, легко зажигаешь аудиторию…
— Скоро мне придется вести семинары и читать лекции. Буду на тебе тренироваться, Лорик, — пригрозил он.
Я охотно согласилась выступить в роли подопытного кролика. Но и мысли не допускала, что мой муж, гениальный филолог, станет преподавателем. Это скромное поприще не для него. Мой муж виделся мне известным переводчиком, критиком, автором толстых исследований о литературе.
Меня просто распирало от гордости, когда Игорь почтил своим присутствием мою защиту. В небольшой аудитории собрались только члены нашего семинара, преподаватели, всего человек пятнадцать. Но стол торжественно накрыли зеленым сукном, притащили кафедру, на которую всходили дрожащие от ужаса дипломники.
На этот день было назначено три защиты, и все прошли гладко и благополучно. Оппонировали аспиранты, как на подбор благожелательные, не зловредные. Через два часа я вырвалась на свободу из душной аудитории со своей потом заработанной пятеркой. Еще бы, это «татаромонгольское иго» три раза заставило меня переделать и перепечатать диплом.
— Это Люськин костюм принес мне удачу, — предположила я, когда мы с Игорем шли, обнявшись, по коридору.
К защите сестра подарила мне со своего барского плеча белый костюм из репса: короткая юбка, приталенный пиджак. У меня еще никогда не было такого роскошного туалета. Два года назад Люсьен тоже защищалась в этом костюме, конечно с блеском.
— Приказывай, куда тебя вести, Лукреция? В «Прагу», «Арагви», «Славянский базар»? Сегодня гуляем! — весело сообщил Игорь.
С деньгами у него никогда не было проблем: будучи единственным сыном, внуком и племянником, он даже не обременял себя просьбами, его и так оделяли крупными суммами. Но все же мне показалось, что с «Прагой» он погорячился. Я выбрала скромное кафе «Паланга», где мы лакомились цыплятами табака, запивая их белым вином.
Оказывается, мой свекор, ненаглядный Лев Платонович, украдкой вручил Игорю астрономическую сумму, просил поздравить меня и купить какой-нибудь приятный пустячок.
— Я уже знаю, что именно, — радостно сообщил Игорь, предвкушая обряд выбора и вручения подарка.
Мы прямо из «Паланги» отправились в универмаг «Москва». Он провел меня на третий этаж в ювелирный отдел. Выбор был скудный. Хорошо, что у меня тонкие, как у ребенка, пальцы. Размер пятнадцать с половиной. Молоденькая продавщица, с восторгом поглядывая на Игоря, достала из-под стекла черную бархатную подушку с несколькими колечками.
— Вы Овен? — спросила она у меня. — Значит, вам подойдет с аметистом, аквамарином, рубином, гелиотропом.
Кровавый рубин мне не понравился. Мы остановились на загадочном аквамарине, тем более что больше ничего и не было.
Мне бы хотелось черный агат, он оберегает от дурного глаза, но с агатом нашлось только одно огромное мужское кольцо. Не кольцо, а целый перстень. Но я сразу же полюбила мой крохотный аквамаринчик, первое в моей жизни золотое колечко, не считая обручального.
— Даже не предполагал, что выбирать подарок для любимой женщины так приятно, — говорил Игорь, целуя мою руку с кольцом.
Мы шли куда глаза глядят, какими-то чужими дворами, благоухающими первой весенней зеленью. Весна облагораживает все вокруг, даже эти асфальтовые джунгли.
— А ты что мне подаришь, Лукреция? — спрашивал он, многозначительно заглядывая мне в глаза.
— К сожалению, мне нечего подарить, кроме себя. Я подарю тебе свою любовь!
И в доказательство я сплела руки на его шее и поцеловала так крепко, что губы заболели.
— «Страстная, безбожная, пустая», — шептал Игорь, отдышавшись.
Разве можно забыть такой день? Мы были женаты больше года, но будни пока не одолели и праздники то и дело выпадали на нашу долю.
Мы с Асей пили чай в нашей родной башне и разговаривали. Беседа была грустной, будущее неясным, перспективы не радовали.
— У тебя все устроилось блестяще, ты везунок, — с обидой жаловалась Аська. — И работу тебе подыщут его родственники. А мне только камень на шею и в Москву-реку…
И Аська зарыдала, упав лицом на подушку. Через две недели она покидала уютную башню и возвращалась к себе в Орехово-Зуево, где мать подыскала ей место в школе. Ничего лучшего пока не предвиделось, а уезжать по распределению в Астрахань или Узбекистан она не хотела.
Все это ее мучило. С первого курса Аська мечтала, что нас, выпускников первого в стране вуза, ждет особая судьба, престижная работа. Но престижных мест на всех не хватало.
— В мире нет больше такой блатной страны, как наша, — со злостью роптала она. — И жратва, и тряпки, и хорошие должности распределяются только по связям и знакомствам.
Комплекс несправедливости Аську замучил. Она все время оглядывалась на других, сравнивала и невыносимо страдала. А тут еще я, как бельмо на глазу, со своими счастливыми переменами. Мне бы исчезнуть из ее жизни, как лишнему раздражителю, но Аська вовсе и не думала меня отпускать.
Вовсе не из-за этих неприятностей она так убивалась и плакала ночами вот уже месяц. Усатый Жорик, который с первого дня внушал мне стойкое отвращение, недавно бесцеремонно с ней порвал. Бедная Аська переживала первое в своей жизни предательство.
Их отношения продолжались больше года и давно перестали быть платоническими. Свадьба намечалась на весну или лето. Аська уже присматривала ткань на платье и белые туфли. Она обожала это усатое чудовище, аспиранта из Тбилиси, который в первый же вечер в прямом и переносном смыслах сбил ее с ног своей неотразимой напористостью.
— Я была для него просто не самым лучшим вариантом, и он держал меня про запас. Потом подвернулось что-то получше, и он тут же сбежал. — У Аси всегда было достаточно здравомыслия, она сразу раскусила своего бывшего возлюбленного и уже не обольщалась на его счет.
— Может быть, все к лучшему, Анна, — утешала я ее. — Ну какой Жорик муж? Твоя семейная жизнь стала бы кошмаром.
— Может быть, и к лучшему. Но каково мне сейчас? — трагическим голосом отвечала Аська.
Больше всего на свете она боялась совсем не выйти замуж.
— Ну уж это тебе совсем не грозит! — совершенно искренне разуверяла я. — С твоей-то внешностью! На тебя даже на улице оглядываются. Особенно ты нравишься зрелым мужчинам от сорока до пятидесяти. Среди таких поклонников и ищи себе мужа.
— Вот еще! Зачем мне такой старикан. Я хочу молодого, красивого мужа, — возмутилась Аська.
— Вчера вечером так паршиво стало на душе, что купила и хлопнула целый стакан. Одна, — призналась она. И предложила: — Давай выпьем знаешь за что? Честолюбивые мечты мечтами, а реальная жизнь, та самая, обывательская, скудная, безрадостная, — совсем другое. Что поделать — жить надо. Вот пойду я осенью в школе, буду вечерами над тетрадками корпеть. Стоило для этого стремиться в университет?
Аська умела нагнать черную тоску. Мрачная безысходность, как табачный дым, повисла над нашими головами. И я решительно запротестовала:
— Нет уж, нет уж. За эту твою жисть я пить не буду. Давай лучше попрощаемся с нашей башней. Я в ней прожила счастливейший год. За башню из слоновой кости и чтобы жить в ней до старости!
Я подняла свой стакан и пригубила. Аська, правда, поворчала, что эти метафоры у нее уже в печенках. Потом я в последний раз посидела на широком подоконнике, полюбовавшись с высоты на смотровую площадку, и навсегда простилась с нашей башней.
Приятно доставлять радость близким, поэтому через две недели я Аське первой сообщила новость, тем более что мне было совестно за свое якобы привилегированное положение.
— Кто пророчил, что новая родня пристроит меня на теплое местечко? Знаешь, где я буду работать? В библиотеке технологического института всего лишь.
Аська сначала опешила, а потом вся просияла. Для бедняги это стало единственным приятным событием за последнее время. Школу Ася считала никудышным распределением, но библиотеку — просто падением, унизительной и ничтожной работой.
Вчера явилась к нам Варвара Сергеевна с новостью: она подыскала мне тихое местечко. Заведующая их институтской библиотекой — ее приятельница, так что расположение начальства мне обеспечено. Библиотекари у них работой не перегружены, часто подменяют друг дружку. Можно прийти на два часа позже и уйти на два часа раньше. В общем, синекура.
— Это немаловажное обстоятельство, — заметила тетушка. — За эти два года Игорь должен написать диссертацию и защититься. Ты, Ларочка, ему поможешь. У тебя будет достаточно времени для того, чтобы заботиться о муже и заниматься домом.
Чтобы смягчить неприглядную откровенность этих слов, Варвара Сергеевна погладила мою руку и доверительно заглянула в глаза. В те времена мы были с ней почти сообщницами. Она безумно любила племянника. И я его любила. За полтора года тетка не только смирилась с моим существованием, но заметно ко мне потеплела. Решила, что будущему светилу науки именно такая жена и нужна — преданная, домовитая.
Когда я рассказала об этом Аське, она, кажется, позабыла обо всех своих горестях и радостно вскричала:
— Значит, старуха так тебе и сказала открытым текстом, что ты должна стать нянькой и прислугой ее гениального племянника?!
— Ну, не так грубо! — возразила я. — Просто она считает, что муж должен заниматься наукой, а жена — домом. Это и есть семейная жизнь. Я с ней согласна. И муж у меня человек необыкновенный, талантливый. Такому не жаль посвятить жизнь.
Аська посмотрела на меня чуть ли не с жалостью. В эту минуту в ее глазах я рухнула с пьедестала: домохозяйка и библиотекарша — чему тут завидовать. Отныне ее ревнивое внимание переключилось на другие объекты, незаслуженно и несправедливо наделенные пропиской, мужьями и престижной работой.
Вот и сделала доброе дело, подумала я, глядя вслед удаляющейся Анне. У нее даже походка повеселела. Но на душе у меня все же остался неприятный осадок. Тяжело было расставаться с университетом, с башней, но с каким удовольствием я бы простилась навсегда с некоторыми подружками. Чтобы изредка, раз в три-четыре года, перезваниваться и интересоваться здоровьем и делами. Но не тут-то было. Аська вовсе не планировала расставаться со мной.
В те дни мы только и говорили, что о распределениях и видах на будущее. Задавали друг другу одни и те же вопросы: кто, где, куда? Естественно, мне было любопытно, куда же пристроили родители Лену Мезенцеву. Издалека завидев ее, неподвижную, погруженную в грустные раздумья, я устремилась на «сачок».
— Да, мать нашла местечко. Совсем не то, что мне хотелось, — говорила Лена, с отвращением глядя на догорающую сигарету. — Редактором в «Художественную литературу».
— О, Ленка, это то, о чем я мечтала! — простонала я.
— Да что хорошего? — удивилась она. — Годами читать чужие рукописи, далеко не гениальные. К старости заработать горб и ослепнуть, как крот.
А мне хотелось увидеть живьем хороших писателей и поэтов, жить в мире рукописей и книг.
— И ты полагаешь, наивная, что писатели — интересные люди? — снисходительно усмехнулась Лена. — Не далее как на прошлой неделе один из маститых заехал в гости. Весь вечер жаловался на свои болезни: ревматизм, геморрой, остеохондроз — целый букет. Я чуть с тоски не сдохла. Они разные, но большей частью скучные, пьяницы и скандалисты.
Я всерьез обиделась за писателей. Мы, обыкновенные люди, не смеем их судить. У них дар от Бога. И пускай в жизни они выглядят смешными, неумными, мелочными. Не нашего слабого ума дело. Пишут они не об этом. Они порой сами не знают, что пишут. Их рукой водит некий высший промысел.
Но говорить об этом людям, даже филологам, бесполезно. Настало время завышенных самооценок. Какой-нибудь студентик первого курса филфака или Литературного института не сомневается, что он ничуть не хуже Окуджавы или Битова и, уж во всяком случае, его ждет более яркая слава.
Я не стала спорить с Ленкой, а поведала ей о своей библиотеке. Она рассмеялась:
— Как бы я хотела посидеть два-три года в таком тихом болотце, беседуя со старичками профессорами о литературе и составляя каталоги. Потом уйти в декрет и не возвращаться…
— Ну и мечты у тебя! Так в чем дело — давай махнемся! — предложила я скорее в шутку, чем всерьез.
— Махнулась бы не задумываясь, но маман ни за что не согласится.
Мать Елены когда-то начинала свою карьеру в «Художественной литературе», сначала редактором, потом выросла до заведующей отделом. Но дело не только в преемственности поколений, а в том самом злополучном престиже. Наверное, немалых трудов стоило матери пристроить Елену, отыскать для нее это местечко в издательстве, где все кабинеты, углы и щели забиты до отказа.
Мы с Ленкой пороптали на слепую судьбу: нет бы оделить голодного куском хлеба, а раздетого одежонкой, так все наоборот. А потом, как всегда, перешли к личным делам. Раньше Мезенцева жаловалась на тиранство родителей, особенно матери. Теперь вот уже полгода я слышала только негодующие рассказы о легкомыслии и никчемности мужа Алика. Ленка даже объединилась одним фронтом с матерью против этого чужака в их доме.
Типичные претензии недовольной жены: равнодушие и невнимательность, нежелание и неумение решать финансовые и квартирные дела, отсутствие по неуважительным причинам, бесконечные вечеринки у друзей и так далее.
Выслушивая Лену и сочувствуя, я думала про себя: а каким еще мужем и отцом семейства может быть бедный Алик, обреченный до пятидесяти оставаться подростком? Единственный маменькин сын, единственный обожаемый внук, не знавший смолоду ни трудов, ни забот. Ему бы такую жену, как моя Люся, или совсем простую девушку, мечтающую об интеллигентном муже и домашнем очаге.
Разве мог этот младенец сравниться с моим мужем, умницей, талантищем, настоящим мужчиной!
Осенью началась моя трудовая деятельность. На целых полтора года я попала если не в болото, то в уютный, тихий омут. Работа отнимала мало времени, в основном я тратила целые дни на личную жизнь и на дела мужа, его диссертацию.
Вставала поздно и на цыпочках отправлялась к себе на кухню, чтобы не потревожить Игоря. Он с восьми утра уже сидел за письменным столом, читал, конспектировал, набрасывал план доклада или лекции. Я делала на кухне зарядку, принимала контрастный душ, потом готовила моему труженику овсянку или омлет. Мы вместе завтракали и обсуждали перспективы на грядущий день — Игоревы перспективы, у меня их не было. Он часто выступал на конференциях, семинарах в университете и Библиотеке иностранной литературы. Ученый мир очень любит заседать. Я всегда присутствовала на его выступлениях. Скромно сидела где-нибудь в последних рядах, как и полагается жене великого человека.
После завтрака Игорь снова садился за стол, он словно прирос к столу. А я готовила обед. Папа учил меня хозяйничать рационально, не стоять каждый день у плиты, а варить на три-четыре дня борщ, щи, жарить целую кастрюлю котлет. Но если был готов обед, то собиралась стирка.
В полдень я спохватывалась и вспоминала о службе. Тетушка оказалась права: наша снисходительная заведующая не замечала, что к открытию являлись не обе ее подчиненные, а только одна.
Да и зачем было замечать? Все равно утром в зале сидело два-три человека. Всего в читалке работали три молодые девицы, одна из них я. Мы сами обдумывали свой скользящий график работы.
Днем, пока народ не привалил, пили чай, болтали. Я очень много читала в эти библиотечные месяцы. К вечеру собирался читающий народ, но мы, проворно наделив их книгами, отправляли в зал. Даже стыдно вспоминать, насколько мы были не перегружены работой. Лена Мезенцева просто стонала от зависти, когда я описывала ей тихую обитель. И технари оказались замечательными людьми, интеллигентными, начитанными.
В то время мы с Игорем часто выбирались то в театр, то в консерваторию. Посиделки с друзьями, долгие разговоры незаметно уходили в прошлое. Игорь становился домашним, замкнутым, кабинетным. И заниматься предпочитал за своим столом, а не в библиотеке.
Все было хорошо, но через год я что-то заскучала в библиотеке. Все чаще стала мечтать о ребенке. Будто малыш у нас уже есть, я живу у родителей, а Игорь навещает нас по воскресеньям. Ему я боялась рассказывать о своих мечтах.
В это же время забрезжила у меня смутная тревога. До окончания аспирантуры оставался год, а у Игоря, по-видимому, не было написано ни одной главы диссертации. Когда я робко заикнулась об этом, он рассердился. Попросил не дергать его пустяковыми замечаниями и не вмешиваться в святая святых — научный труд.
Все чаще он раздражался по пустякам, впадал в тяжкую озабоченность и угрюмость. Как видно, первые сомнения закрались и в его душу. Тут вдруг научный руководитель Игоря попросил принести ему хотя бы одну главу диссертации. А у Игоря едва набралось несколько десятков страниц несвязных набросков.
Он по-прежнему с блеском читал лекции и доклады на семинарах, конференциях, даже в обществе «Знание». И все думали, с восторгом ему внимая, что этому талантливому юноше ничего не стоит оформить на бумаге мысли, которые он так толково излагает в устной форме. Но каждая страница давалась Игорю с великими муками. И то, что выходило из-под его пера, можно было сравнить с транскрипцией песни соловья, записанной в лунную майскую полночь каким-нибудь дотошным лингвистом.
Однажды вечером я прибежала со службы, с трудом втащила в прихожую полную сумку продуктов. В квартире кромешная тьма и какая-то гнетущая тишина. Включила свет: Игорь лежал на диване, тупо уставившись в потолок. Это зрелище меня потрясло: никогда не видела мужа валяющимся на диване да еще с таким лицом.
Что случилось, готов был вырваться у меня вопль, но я не стала тревожить его. Отойдет — сам расскажет. Вскоре он пришел ко мне на кухню, помятый, мрачней осенней тучи. Пока я разогревала или готовила ужин, он обычно докладывал мне о событиях дня или планах на завтра.
Оказывается, сегодня на заседании кафедры один въедливый доцент обругал его статью в «Филологических науках», назвал ее темной, вялой, компилятивной. Остальные или согласились, или промолчали. Для Игоря это осуждение стало громом среди ясного неба. Ведь до сих пор его только хвалили и возлагали на талантливого аспиранта большие надежды.
— Предатели! С каким наслаждением они топтали меня, те, кто еще вчера заискивал и льстил! — вдруг в отчаянии вырвалось у него.
Я вздохнула. Его коллеги никого не предавали, просто статья действительно получилась слабой. Впервые я подумала, что Игоря изрядно перехвалили и тем сослужили ему плохую службу. Теперь он не в силах пережить самую невинную критику.
— Я тебе сто раз говорила, Иноземцев, что тебе нужно не поглощать один за другим толстые тома, а как можно больше писать, обязательно по нескольку страниц в день, чтобы расписаться, набить руку, — говорила я, переворачивая на сковородке рыбное филе.
— Сегодня Федор Иваныч мне то же самое посоветовал, — рассеянно бросил Игорь.
— Замечательно! Наконец-то ты прислушаешься к совету шефа. Ведь мои слова для тебя ничего не значат, — не могла удержаться я от упрека. — Ведь нельзя же с утра до вечера поглощать чужие мысли. Чтение — это не активный процесс, скорее удовольствие. Настоящая работа — мыслить, высказывать свои идеи или увековечивать их на бумаге.
К моим философствованиям Игорь относился снисходительно. Вздыхал, закрывал глаза. Сколько раз он втолковывал мне, что такое культура. Культура — основа, фундамент, который нация возводит веками, а отдельный человек — долгие годы! Этот фундамент строится по кирпичику, постепенно. Ученый не может творить на пустом месте, из ничего, будь он от природы семи пядей во лбу.
Игорю казалось, что стоит прочесть еще десяток книг, еще основательней пополнить свой умственный багаж — и диссертация польется сама собой, страница за страницей. Но проходили недели, месяцы, а на выходе были только вымученные строчки — и никакого движения вперед. Вот почему он придавал такое значение небольшой статье, выжимке из дипломной работы, обруганной, по его мнению, несправедливо.
Он так переживал, что не спал всю ночь, ворочался, несколько раз курил на кухне. С этого дня началась черная полоса в его жизни. Теперь я часто заставала его на диване наедине с безысходными мыслями.
У меня сердце разрывалось. Но чем я могла ему помочь?
Если бы я была в состоянии сама написать эту чертову диссертацию о языке и стиле англоязычной поэзии! Игорь свободно владел английским и французским. Мне языки не давались, как и научные штудии.
И все же я решила попробовать. Попросила у Игоря диктофон и через несколько дней записала его доклад о поэзии Китса. В свободные часы в библиотеке расшифровала запись. И о ужас! На бумаге все очарование исчезло, остался убогий текст. Я тупо глядела на тетрадку, не понимая, в чем дело.
А все было очень просто. Почти все научные тексты написаны сухим, казенным, каким-то кондовым языком. Тогда я попробовала переложить доклад на нормальный язык, живой, человеческий. Результат предъявила Игорю.
— Да, у тебя легкое перо, Лукреция, — снисходительно похвалил он. — Слишком бегло и легковесно для диссертации, но твоя редактура мне очень поможет. Может быть, это твоя судьба и тебе стоит поменяться с Мезенцевой.
Он даже оживился и засел за работу. Снова «утяжелил» стиль, сделал его более эпическим. А я вслед перепечатывала отработанные страницы. Через два месяца Игорь уже отнес Федору Ивановичу первую главу. Он воспринял ее как сырую, почти черновик. Но все же начало было положено.
Игорь заметно воспрянул духом, и мы продолжали работу. Вечерами он наговаривал мне на диктофон, я расшифровывала, подвергала текст беспощадной литературной обработке, а Игорь снова его портил. Правда, я отмечала, что он все чаще оставлял написанные мной куски нетронутыми, зато когда вписывал страничку или несколько строк, они вторгались грубым диссонансом в почти готовое, стройное целое.
Я сердито выговаривала ему:
— Пиши проще, Иноземцев! Ты не Толстой, чтобы позволять себе периоды в десять строк. Тебя читаешь, словно сквозь джунгли продираешься.
— Ох уж эта простота! Та самая, которая хуже воровства! — ворчал Иноземцев.
В литературе и искусстве он терпеть не мог простоту и доступность, а тяготел к сложному, изощренному, непостижимому для серой людской массы, предназначенному только для избранных. Но, пороптав, соглашался, что приходится наступать на горло собственной песне, быть доступнее и демократичнее. Ведь со временем он мечтал писать книги, которые прочли бы не десятки специалистов, а тысячи любителей поэзии и английской литературы.
Я с гордостью замечала, что муж стал относиться ко мне иначе, иногда даже прислушиваться к моему мнению.
Раньше я была только возлюбленной, подругой жизни, неотъемлемой принадлежностью его семейного очага. Теперь стала помощницей, коллегой.
Казалось, мы еще больше сблизились, спаялись и нашему союзу не страшны никакие испытания и трудности. Но вот произошло событие, похожее на крутой вираж в моей судьбе. Мы с Игорем словно свернули с полустанка в разные стороны и зашагали, удаляясь друг от друга все дальше и дальше.
Однажды на вечеринке у Лены Мезенцевой мы разговорились с нашим Мишкой Зотовым о работе и перспективах на будущее. Перспективы будоражили только Мишку, у меня их не было. На ближайшие два-три года у меня был запланирован только младенец.
В то время начинался оглушительный журналистский бум. Как грибы после дождя, появлялись новые газеты и журналы. Это было так диковинно, неправдоподобно. Нам казалось, что полдюжины знакомых газет и столько же журналов — это на века. Я с удовольствием читала в библиотеке эти вновь возникшие издания и с грустью думала, что проживут они недолго: цены на бумагу росли, а дотации сокращались.
Мы удивились, когда наш Мишка попал в одну из этих редакций: то ли в «Вести», то ли в «Новые вести». Оказалось, он случайно набрел на свое предназначение и теперь ни о чем другом говорить не мог, только о своей работе:
— Сейчас у нас пока восемь полос, но скоро будет двенадцать, появятся новые разделы — искусство, литература, светская хроника.
И Мишка нас всех по очереди уговаривал писать рецензии на новые книги и спектакли, а также сплетни об актерах, художниках, прочих знаменитостях — этот товар шел особенно ходко. Но мы уклонялись, дело было слишком непривычное.
— А ты еще не закисла в своей библиотеке? — бесцеремонно спрашивал Мишка. — Неужели не надоело быть мужней женой и домохозяйкой?
Меня это почему-то очень задело, но я отвечала беспечно:
— Нет, меня это вполне устраивает. Никогда еще я столько не читала, как на своей нынешней службе. Вдобавок мне и деньги за это платят.
Но Мишка не поверил и вручил мне маленькую серую книжечку:
— Это Дмитрий Новиков. Наш выпускник, только старше нас года на три. Прочитай, напиши рецензию. Получишь сто рублей.
— Сто рублей? — не поверила я.
Уже в метро начала читать книжку. Понравилось. Что-то лирическое, тонкое, исповедальное. Это моя литература. Дома похвасталась мужу. Он брезгливо повертел книжку в руках:
— Представляю, что может сочинить Димка. Море соплей, смешанных со скупой мужской слезой. Старомодный язык. Трогательные воспоминания о счастливом детстве. Кому это нужно?
Я стала защищать автора. Ему всего лет двадцать пять. И в эти годы уже первая книга, пускай и не без грехов. Я давно заметила, что мой муж не способен радоваться успехам ближних. Скорее они приводят его в дурное расположение духа. А Новиков был слишком уж ближним, учился с Игорем в одной школе, потом в университете, даже жил где-то неподалеку.
Несмотря на убийственную характеристику, которую, как оплеуху, отвесил Новикову Игорь, я решила попробовать себя в жанре рецензии. Сначала перечитала критику в «Литературном обозрении» и толстых журналах, пришла к выводу, что не боги горшки обжигают, — и приступила.
Свою первую рецензию я писала целую неделю. Все, что думала о Новикове, изложила на десяти страницах, потом сократила до пяти, потом до двух. Показала свое изделие удивленному Игорю. Он-то был уверен, что я увлеченно строчу пересказ его третьей главы.
— Сто рублей! — похвалилась я, постучав пальцем по рецензии.
— Алчность тебя погубит, — пророчил муж, пробегая глазами рецензию. — Бойко, бойко!
Алчность, подумала я, как же! У меня нет осенних туфель. Аська предлагает замечательные югославские сапожки, а у родителей просить не хочется. Игорю я никогда не говорила о своих нуждах. Он воспринимал эти бабьи жалобы болезненно, как намеки на то, что он не дает на хозяйство ни рубля, а стипендию тратит на книги и карманные расходы.
Я даже мысленно никогда не упрекала Игоря, но в последнее время все чаще испытывала затруднения с деньгами. Мой муж был выше каких-то грошовых расчетов, он никогда не думал о деньгах, потому что они у него всегда были. И об одежде он никогда не думал, о его гардеробе пеклась Полина Сергеевна.
Как-то так сложилось, что на пропитание уходила моя зарплата да еще то, что подбрасывали папа и Лев Платонович. Хорошо, что сестра время от времени одаривала меня обновками, а то бы я ходила в лохмотьях.
Через неделю я оттащила Мишке рецензию. Я не перехвалила Новикова. Но отметила, что у него, по крайней мере, свой собственный, хотя пока еще слабый голос. Он не топает по проторенным дорогам, вслед за мэтрами литературы, а скромно идет своей узкой тропинкой параллельно магистралям — Бунину, Зайцеву, Шмелеву.
— Это ты здорово придумала — про тропинку и магистрали, — изумился Мишка.
— Куда мне! Это я у кого-то украла. Кажется, Анна Ахматова это сказала о каком-то молодом поэте, — честно призналась я.
— Молодец! — неуверенно похвалил Мишка.
— Да ты не беспокойся, Миш! Читатели вашей газеты все равно об этом ни за что не догадаются.
Мишка назвал меня ехидной, но потом подумал и согласился.
— Считай, что сто рублей у тебя в кармане! — заверил он.
Через неделю я с трепетом переступила порог редакции, а когда Мишка протянул мне еще пахнувшую типографской краской газету, едва не грохнулась в обморок. У меня в минуты сильного волнения всегда так — спазм в груди, искры в глазах, не хватает воздуха.
— Ты ведь в первый раз напечаталась? Поздравляю, значит, потеряла невинность, — захихикал Мишка. — Это нужно отметить.
И он увлек меня, полуживую, в одну из комнат редакции, где уже собралась большая компания. Пили чай, обсуждали дела. Бюрократизм их еще не успел заесть. Все в молодежном отделе были не старше тридцати. Поминутно кто-то влетал, проблемы решались на ходу, табачный дым стелился густым туманом. Жизнь здесь кипела и била ключом.
Мишка представил меня как дебютантку, и тут же на столе появилось вино, черный хлеб, консервы и шоколад.
Все как будто были рады, что нашелся повод для застолья. Я просидела с ними три часа, завороженно слушала, как будто живой воды напилась.
— Бросай свою библиотеку и переходи к нам! — вдруг предложил Мишка. — Знаешь, сколько будешь получать? С гонорарами набежит…
И он назвал сумму, втрое превышающую мою библиотечную зарплату. Но дело было не в деньгах. Они уже успели меня отравить, эти молодые газетчики. Я поняла, что мне хочется окунуться в самую гущу жизни, которая становилась все более интересной и захватывающей. А вместо этого я сидела в тихой библиотечной заводи и общалась исключительно с людьми науки, полностью погруженными в прошлое.
Я пришла домой, очарованная новыми знакомыми и потрясенная открывшимися передо мной перспективами. Супруг отметил только, что я вернулась немного навеселе. Он был очень недоволен тем, что работа над третьей главой застопорилась из-за какой-то дурацкой рецензии.
— Кто бы мог подумать, Игоряша! Новиков недоволен моей рецензией, — сообщила я с порога. — Я его так расхвалила, сравнила с Буниным. Но он не хочет быть тропинкой, бегущей параллельно широким магистралям. Он даже проселочной дорогой или большаком быть не желает, потому что видит себя не иначе как центральным проспектом.
Игорь расхохотался:
— Узнаю Димку. У него сатанинская гордыня. Собирай материал, Лорик. Через два-три года, когда мы пристроим тебя в аспирантуру, напишешь диссертацию на тему «Уровень самомнения у писателей». Богатейшая тема.
Я рухнула на диван, согнав с него Игоря, и попросила принести мне чашку крепкого горячего чая. Он возмутился: жена является неизвестно откуда, явно в подпитии, ложится отдыхать вместо того, чтобы позаботиться об ужине, да еще требует напитки в постель. Поворчал, но все-таки отправился на кухню ставить чайник. Я знала, что он не сможет справиться с завариванием, но не было сил встать. Наконец Игорь принес требуемое.
— Так и знала — ополоски! — расстроилась я. — Тебе уже почти четверть века, Иноземцев, а ты даже чай не умеешь заваривать, не говоря уж о том, чтобы приготовить себе какую-нибудь еду.
— Ты что, с цепи сорвалась? — обиделся он, сел за стол и демонстративно углубился в книгу.
Я, напившись кипятку, совершенно успокоилась и сказала ему задумчиво и мирно:
— Никогда я не буду писать диссертацию, Игоряша, по той причине, что питаю глубочайшее отвращение к научным разысканиям. Не мое это дело. Мишка приглашает меня в газету. И знаешь, мне очень, очень хочется согласиться.
Он вздохнул, перелистнул страницу:
— Полагаю, тебе лучше лечь и хорошенько выспаться. А утром все дурные мысли улетучатся вместе с винными парами. Моя жена — борзописец. Такое даже в кошмарном сне не может присниться.
— Кошмарные сны часто сбываются, — сказала я ему вместо «спокойной ночи», а затем отвернулась к стене, чтобы остаться наедине с собой и подумать.
Думала я все последующие дни, чуть голову не сломала. Поняла только одно: жить по-старому не смогу. Библиотека уже казалась клеткой, куда меня против воли заперли. Друзья Игоря, аспиранты и преподаватели, внушали отвращение. Их бесконечные разговоры о диссертациях, статьях, монографиях и освобождающихся ставках на кафедре стали непереносимыми. Их мирок казался затхлым, далеким от жизни. Я понимала, что это минутное и несправедливое ощущение, оно должно скоро пройти и пройдет. Но для этого я должна изменить свою жизнь.
Игорь всю неделю ходил мрачнее тучи, уговаривал меня не совершать безрассудных поступков. Я обещала, что и впредь буду помогать ему с диссертацией. Наша семейная жизнь ничуть не пострадает, если я поменяю работу. Но мужу это казалось катастрофой.
В воскресенье я поехала навестить своих и посоветоваться, хотя, признаться, в душе все решила. Редко мы теперь собирались все вместе за обеденным столом. Люсю я тоже уговорила приехать. И вот, оглядев по очереди всех Игумновых, а они, тоже уставившись на меня, ждали, я торжественно сообщила о своем решении.
— Наконец-то! Наконец-то извилины зашевелились в твоей пустой голове! — радостно вскричала сестрица.
Папа тоже был за перемены, только газета почему-то пугала его. Мама была решительно против, потому что это не нравилось моему мужу. Она до сих пор не могла поверить в счастье, которое выпало на мою долю, — стать женой такого выдающегося человека. Работать вместе с ним, оберегать его от трудностей быта — вот, по ее мнению, в чем была моя судьба.
Но я уже не была в этом уверена. Как не была уверена в гениальности мужа и его большом будущем. Я еще не рассказывала своим о трудностях с Игоревой диссертацией, о его пошатнувшейся репутации на кафедре. Но когда-нибудь придется рассказать. Люся уже спрашивала: когда же защита?
Вечером я возвращалась в Измайлово, предчувствуя, какая неприятная мне предстоит миссия — сообщить мужу о своем окончательном решении: завтра я подаю заявление об уходе.
Игорь выслушал, стараясь реагировать спокойно и доброжелательно, но я-то видела, с каким трудом ему это удавалось.
— Я уверен, что это скоропалительное и немудрое решение, но ты вправе сама распоряжаться собой. — Он пожал плечами, углубился в книгу и больше не произнес ни слова.
Через две недели я не без трепета вступила на свое новое поприще.
Множество новых газет и журналов оккупировали здание бывшего Министерства сельского хозяйства. В этих обшарпанных комнатах сиживали сотни чиновников, десятилетиями разорявших нашу деревню. Но грянул гром, реорганизации, сокращения, и паразитов разогнали. Надолго ли?
Долго я не могла привыкнуть к легкой, беззаботной атмосфере нашего молодежного коллектива. Утром впархивал в нашу комнату Шурка Борисов и кричал:
— Птички мои, здравствуйте!
Должность у Шурки была устрашающая — политический обозреватель. Ему не было равных в умных разговорах и обильных возлияниях на коллективных тусовках. А эти возлияния у нас как-то стихийно организовывались чуть ли не каждый день.
Первое время я больше всего уставала от разговоров и общения. Мне так интересны были мои новые коллеги. Я жадно набросилась на диковинных, необычных людей. У меня появились новые приятельницы. Валя Машкова, например. Эта маленькая хрупкая девушка работала в отделе промышленности, писала о коррупции, злоупотреблениях и всяческих махинациях на крупных предприятиях. И даже получала письма с угрозами. Я бы померла со страху.
Моя должность требовала не столько мужества, сколько терпения. Я прочитывала несколько десятков писем в день, ко мне направляли всех жалобщиков, ищущих справедливости в редакциях и чиновничьих кабинетах. Вначале я выслушивала всех, и всем хотелось помочь. Но это было невозможно. Тем более, что большинство ходоков давно превратились в матерых профессионалов, писавших жалобы на соседей, родню, правительство и даже на погоду.
Первые недели с непривычки газета выкачивала из меня все силы. Я едва домой приползала и ложилась как труп на диван. На столе у Игоря появился серый налет пыли. Можно было пальцем написать любое слово. На кухне повсюду мозолили глаза грязные тарелки и кастрюли. Игорь не умел мыть посуду. Однажды субботним утром я оглядела свою квартиру — и застонала от ужаса и отвращения. На уборку и стирку не было сил.
Как я завидовала Люське! Сестрица так ловко устроилась в жизни, что не ведала хозяйственных забот. Вначале совместное проживание со свекровью так ее пугало, что она даже откладывала свадьбу. Но вскоре Люся сумела наладить с Володиной мамой самые добрые отношения и теперь возвращалась домой в чисто убранную квартиру, а когда, съев приготовленный к ее приходу ужин, порывалась вымыть посуду, то свекровь грудью защищала свои владения:
— Ты устала, Люсенька, целый день на заводе, поди отдохни, деточка.
И Люська неохотно подчинялась. По праздникам дарила старушке подарки — байковый халат, толстый роман типа «Поющие в терновнике». Хотя бы раз в неделю — цветы. Да я бы такой свекрови каждый день дарила! Правда, мне грешно жаловаться: папа старался приезжать почаще, выяснив предварительно, когда у Игоря лекции или семинары. Иногда нам удавалось провести с ним вместе целый вечер. Папа приводил в порядок мое запущенное хозяйство и осторожно выспрашивал:
— Как Игорь? Вы еще не помирились?
— А мы и не ругались. Но он продолжает играть в молчанку. Молчит и молчит. Но он оттает, я уверена.
Но папу что-то очень тревожило, эта тревога была мне непонятна. Целых три года мы прожили с Игорем так дружно и безоблачно, что размолвка из-за пустяка казалась маловероятной.
И действительно, он стал оттаивать на глазах, снова приходить ко мне на кухню по утрам. Мы завтракали вместе и успевали пообщаться, прежде чем разойтись по своим делам. То ли у меня открылось второе дыхание, то ли я втянулась в газетную текучку, но уставала уже меньше. По вечерам готовила ужин, Игорь сидел рядом в кресле.
Я поклялась, что буду работать ночами, но третью главу диссертации мы сдадим в срок. Правда, печатать согласилась наша редакционная машинистка. Игорь слегка нахмурился: он не любил отдавать свои работы в чужие руки. Но что поделать, перепечатку я бы не потянула.
Пыталась ему рассказывать о своих новых друзьях, о газете. Он слушал вежливо, но вскоре переводил разговор на другое, чаще всего на свое. Мои игры в журналистику казались ему несерьезными, а его работа — самой важной на свете, без которой человечество едва ли обойдется.
Меня удивило, как легко стали вспыхивать маленькие ссоры. Наверное, потому, что раньше я с благоговением слушала, а теперь стала возражать и высказывать свое собственное мнение. Я чуть ли не насильно заставляла мужа читать нашу газету, ждала его отзывов о своих первых публикациях. Он или отмалчивался, или небрежно бросал:
— Вы строчите однодневки, которые невзыскательный читатель утром поглощает, чтобы забыть к вечеру.
— А вы создаете исключительно нетленки? — вдруг вскипела я от обиды. — Что останется от твоего профессора? Учебник его устарел, от монографий и статей мухи дохнут.
Я собиралась продолжить список его коллег и друзей-аспирантов, но тут в глазах у Игоря промелькнул страх. Он панически боялся кафедральных обсуждений, потому что не выносил самой невинной критики в свой адрес. Болезненно воспринимал нападки на свой клан, ведь он был частью этого клана.
Это была одна из тайных черточек характера Игоря, которую тетушка Варвара Сергеевна считала признаком тонкой организации и душевной изысканности. А я — просто слабостью и изнеженностью. Отныне Игорь и дома не чувствовал себя в безопасности, все время ожидая от меня удара.
Я старалась его щадить до поры до времени. Сам же он нимало не заботился о том, обижают ли, задевают ли меня его брезгливые реплики. Я отмечала эту жестокость у многих тонких, чувствительных натур.
Под рубрикой «Литература и искусство» у нас появлялись не только рецензии, но и целые литературные обзоры Ивана Зернова, которые Иноземцев тут же окрестил «взгляд и нечто».
Я с наслаждением читала эти обзоры. Иван легко, как в пасьянсе, раскладывал десятки имен, очень убедительно предсказывая зарождение новых направлений, появление ярких звезд на небосклоне литературы. Игорь тоже с любопытством углублялся в статьи Зернова, но приговор его оставался таким же суровым и несправедливым:
— Легковесно, сыро, неубедительно. Мало чутья, вкуса, культурного кругозора.
А по-моему, это было написано блестяще, легко, остроумно. Так, что даже обыкновенный, средний человек, никогда не читающий толстые журналы, поневоле приобщался к текущей литературе. К тому же мы стали первопроходцами! В других газетах подобные рубрики появились только полгода спустя. Но у них не было Вани Зернова.
Я не любила спорить. Да и невозможно было убедить в чем-то моего Иноземцева. Меня неприятно поразило, что он не в силах без раздражения выносить похвалы кому-то другому. Это не зависть, говорила я себе, это просто болезненная реакция на хронические неудачи, обрушившиеся на него в последнее время.
Однажды меня осенила идея: начать вести дневник.
Из этого разговора с самой собою я хотела понять, что же, собственно, происходит… Серьезного, внимательного собеседника у меня не было — дневник мог бы мне заменить его.
Да, что происходит?
Я вышла замуж за человека, о котором мечтала всю свою жизнь, который, казалось, гораздо выше меня и умнее, и я надеялась с его помощью, во-первых, вырасти духовно, во-вторых, стать счастливой.
Но через три года нашей совместной жизни что-то застопорилось в наших отношениях, и я никакими усилиями не могла пробить эту пробку, чтобы досыта напиться из чистого источника любви, распрямиться, почувствовать себя личностью.
Что касается счастья — тут все было гораздо сложнее.
Счастье, как лисий хвост перед носом охотника, мелькало где-то в чаще деревьев, заманивая меня куда-то в глушь. Казалось, еще два шага — и вот оно, счастье. Казалось, поедем вместе куда-нибудь отдохнуть — и наступит полное блаженство, все накопившееся за будни непонимание растворится в нем, как соль в воде. Еще мнилось: угожу свекрови, налажу с ней отношения, помогу ей сделать генеральную уборку в квартире или еще что-нибудь — и придет счастье. Свекровь оценит мои усилия, скажет Игорю:
— Знаешь, сын, тебе здорово повезло с женой!
И это будет счастье.
Еще чудилось: научусь делать Игоревы любимые голубцы, как его бабушка, — и оно придет, как миленькое; осчастливленный Игорь наконец догадается, что я — именно то, что ему нужно: и Марселя Пруста читаю, и хозяйка отменная…
Но счастье снова мелькало где-то далеко в перелеске, а я уже не знала, что делать. Деревья, за которыми оно скрывалось, бежали впереди меня, как будто у них, а не у меня, были душа и ноги, и все по-прежнему оставалось трудным, непонятным.
Игорь часто давал мне понять, что я работаю в основном на злобу дня, тогда как он сам, человек творческий, пишет на потребу вечности.
Дневник — это, в общем, творческий акт.
Итак, дневник.
Сперва следовало решить, вести ли его тайно или все-таки сообщить о своем намерении Игорю, чтобы он знал, что отныне наша жизнь находится под контролем моего творческого мировидения. В этом случае мой муж, размышляла я, поневоле заставит себя как-то подтянуться, хотя бы только затем, чтобы не выглядеть смешным в моих записках.
Но на самом деле я вовсе не из этих соображений решила сказать Игорю о дневнике: просто я так глупо устроена, что вечно выбалтываю ему свои тайны, стоит им только завестись.
Словом, улучив благоприятный момент — Игорь в этот день находился в исключительно благодушном настроении, — я подступила к нему со своим признанием:
— Игорь, я решила вести дневник.
— Кого вести? — не расслышал Игорь.
— Дневник.
— И куда же ты его поведешь? — иронически справился он.
Подобными филологическими шуточками он умел поставить меня в тупик. Надо было отвечать, и по возможности остроумно, чтобы Игорю было интересно продолжить со мною разговор.
— Я буду его вести… в будущее, — как прилежная ученица попыталась сострить я и сразу же получила по носу:
— Какое там будущее! Будущее может окончиться завтра!
И тут Игорь уселся на своего любимого конька, заговорив на тему Страшного суда, который не за дверями.
— И все же, пока Страшный суд не грянул, буду вести дневник, — произнесла я достаточно твердо.
Игорь в сердечном сокрушении всплеснул руками:
— Милая! Я все ждал, проступят ли в тебе черты уездной барышни… И вот — дождался!
— Пушкин вел дневник, — возразила я. — И Гоголь…
— А также герои Гоголя, — находчиво подхватил Игорь, — и плод трудов одного из них получил название «Записки сумасшедшего»!
— А «Дневник» Достоевского! — не столько надеясь убедить Игоря в своей правоте, сколько понимая, что ему необходима эта дискуссия, возразила я.
— А дневник жены Достоевского! — ядовито заметил Игорь. — «Федя нынче проснулся с флюсом…», «Я починила все его панталоны…». Могу еще процитировать кое-что…
— Не надо, — отказалась я. — От писателя ничего не убыло из-за рассказов его жены, даже наоборот, все это очень тепло, человечно…
— Мария ты моя Башкирцева…
Игорь балагурил, но я слышала в его голосе нотки сомнения и даже страха: он знал, что у меня довольно меткое перо и достаточно острая наблюдательность, и, наверное, боялся взгляда не с берега любви, а из тиши препараторского кабинета, в котором все чувства отступают при трезвом поблескивании скальпеля и начинается исследование жизни как таковой.
И я решила, что буду писать без особенных художественных претензий, не слишком заботясь о языке и стиле, писать просто и аккуратно, по возможности стараясь точно воспроизвести событие за событием, факт за фактом, не давая ему никакой личной оценки.
Бумага, как сеть, пропустит всю влагу чувств сквозь свои незаметные невооруженным глазом ячейки, а то, что останется на ней — о, это будет богатый улов!..
Так думала я, принимаясь за свой дневник.
Теперь, по прошествии некоторого времени, я вспоминаю свои мечты о «богатом улове» с горькой улыбкой…
…Я выловила из реки жизни все то, что обычно достают неопытные рыбаки — а может, вода была отравленной? — консервные банки, изношенные башмаки, целлулоидного пупса, велосипедное колесо и так далее и тому подобное…
А вот куда ушла рыба? Куда ушло все высокое, прекрасное, подлинное, что было — ведь было же — в наших отношениях?..
Вот один из первых запротоколированных мною эпизодов нашей жизни.
Я попросила Игоря принести из магазина, что в двух шагах от нашего дома, картошку.
Игорь не сказал «нет».
Игорь не сказал «да».
Игорь произнес величественное мужское слово: «Сейчас».
Он произнес его, не шелохнувшись на своем диване, не отрываявзгляда от статьи Григория Померанца[6] в новой «Литературке».
Многие женщины знают, что скрыто в слове «сейчас», рассеянно брошенном мужчиной, их в дрожь бросает от этого «сейчас», иные от него бьются в истерике, иные бросаются на мужей с кулаками, потому что знают — «сейчас» может растянуться на часы, дни, месяцы.
Но мне истерика не грозила.
Я решила терпеливо записывать, сколько раз на мою просьбу (кстати, сама я картошку почти не ем, в основном ее употребляет Игорь — в жареном виде) мой муж ответит «сейчас». Причем я не стала повышать голоса, чтобы заставить его сойти с дивана, а только, как попугай или кукушка в часах, время от времени повторяла просьбу.
На третий день Игорь, опять обнаружив в своей тарелке в качестве гарнира к бифштексу зеленый горошек, поинтересовался:
— А картошечки нету?
— А картошечки нету, — отрезала я.
— Неужели так трудно принести из магазина пару килограмм картошки? — с упреком произнес Игорь.
— Вместе с мясом, макаронами, майонезом, луком, хлебом это будет уже не пара килограмм, — кротко объяснила я Игорю, — я таскаю все это, но картошка — это уж, извини, твое…
— Неужели мне надо специально одеваться и выходить в магазин?
— Нет, — сказала я. — Это вовсе не обязательно. Кушай, милый, горошек…
Игорь с горестным выражением лица стал есть гарнир.
И на четвертый день он тоже увидел в тарелке горошек.
Дискуссия продолжилась.
— Послушай, — сказал он мне, — банка горошка весит столько же, сколько полкило картошки… Не лучше бы было тебе…
— Нет, не лучше, — ласково отозвалась я. — Горошек продают в ларьке возле дома, а за картошкой пилить в овощной…
Еще неделю мой муж мужественно жевал горошек, а на восьмой день, после того как я подала ему на обед то же самое, молча вскочил из-за стола, с шумом отвязал от вешалки тележку на колесах и загромыхал с нею к лифту.
Этот затянувшийся эпизод наконец закончился.
Далее на страницах своего дневника я почти дословно воспроизвела речь Игоря по случаю нежелания вынести мусорное ведро. Она смахивает на юмореску, но, честное слово, все это было сказано им на самом деле.
«Во-первых, ведро с мусором почти пустое! Во-вторых, это связано с лишним риском: на лестнице можно поскользнуться на картофельных очистках, упасть и что-нибудь себе сломать. В-третьих, все элементы мусора в ведре еще не схватились, не спаялись между собою — такое ведро высыпать труднее. И вообще, выносить такое легкое ведро — удар по самолюбию мужчины. Есть еще причина, которая удерживает меня от вынесения ведра, она связана с воспитательной мерой — чем чаще я буду выносить ведро, тем толще, неэкономней ты будешь чистить картошку, зная, что полное очистков ведро я вот-вот вынесу… А вдруг в ведре по рассеянности окажется какая-нибудь важная бумага, которую еще не поздно разыскать среди мусора! К тому же жене полезно двигаться, пусть она сама его выносит. От чучела слышу.
А что станет говорить наша незамужняя соседка, которой некому вынести ведро? Она тебя, Лара, возненавидит, когда увидит меня. Наконец, если она часто будет видеть меня в старом трико выносящего ведро, то может заболеть состраданием, а от него до любви — полшага. Если часто открывать мусоропровод, можно простыть, из него дует. От частого вынесения ведра входная дверь амортизируется. Уж не говоря про домашние тапочки. От чучела слышу.
Вот придут к нам гости и заглянут в холодильник: подумают — ага, мясо держат на балконе, а икру под кроватью. А мы их сразу носом — в мусорное ведро! Дескать, мы люди скромного достатка, вас угощать, дорогие, нечем, видите, в ведре только картофельные очистки да пакеты из-под молока. Что имеем, тем вас, родные, и кормим!..»
По-моему, такой монолог — находка для пародиста, но Игорь произнес его на полном серьезе.
Потом последовало описание эпопеи со слесарем, которого Игорь никак не решался пригласить из ДЭЗа. А между тем сделать это было необходимо — у нас перестал работать сливной бачок в туалете, и уже которые сутки возле унитаза дежурило ведро с водой.
В ответ на мою просьбу пригласить мастера Игорь заявил, что не умеет «с ними» разговаривать.
— С кем это «с ними»? — прицепилась я не столько к самой фразе, сколько к той барственной интонации, с которой она была произнесена.
— Ну, со всеми этими сантехниками, слесарями, электриками….
— Игорь, — внушительно сказала я. — Ты мне всегда казался демократически настроенным человеком… Именно отсутствие снобизма пленило меня в тебе в первую очередь. И в конце концов, дорогой, если ты не умеешь делать то, что должен уметь делать всякий мужчина, значит, следует учиться разговаривать с теми, кто это умеет.
— Зато я умею делать то, что дано не всякому, — не раздражаясь моему напору, мягко заметил Игорь. — Как ни смешно это произносить вслух, но я умею мыслить, чувствовать красоту слова, краски, мелодии, писать стихи… Прости, может, ты права, но мне элементарная фраза «сколько я вам должен?» дается с огромным трудом, как сквернословие…
Надо сказать, Игорь действительно никогда не позволял себе грубых выражений, являя собою редкое исключение среди нашей молодой интеллигенции, которая охотно материлась, считая мат проявлением высшего шика или сильного мужского начала — в последнем она ощущала недостаток. На нашем факультете самые изысканные особы обоего пола не гнушались крепким словцом. Я же ругательств буквально не могла слышать, для меня человек кончался, если я слышала от него грубое выражение. Мой отец никогда, ни в каких жизненных ситуациях не прибегал к мату, что выгодно отличало его от всех знакомых мужчин. Как и Игоря.
— Возможно, ты прав, — сказала я мужу. — Ты, милый мой, далеко не «всякий». И все же мне кажется, ты должен попытаться общаться с людьми, от которых, в сущности, зависит наше с тобою комфортное существование…
Скрепя сердце Игорь согласился.
На другой день он с гордостью сообщил мне, что побывал в ДЭЗе, написал заявку и что мастер завтра придет.
Затем Игорь осведомился, когда я вернусь с работы. Я ответила, что, скорее всего, часика в три.
— Очень хорошо, — потирая руки, сказал Игорь. — Мастер придет после четырех… Все же вдвоем будет легче проконтролировать его, правда?
Я согласилась, что вдвоем, конечно, легче, но назавтра специально задержалась на работе, чтобы дать моему мужу возможность проявить самостоятельность.
Вернувшись домой, я сразу поняла, что мне не удалось перехитрить Игоря. Даже уступая моим требованиям, он все-таки делал так, как ему было удобно.
Вместо того чтобы дать мастеру заняться своим делом, Игорь, увидев, что я запаздываю, затащил слесаря на ту территорию, где чувствовал себя в безопасности — территорию высокой поэзии.
Увы, слесарь имел неосторожность обратить внимание на множество книг в нашем доме… Завязался разговор о литературе, выяснилось, что слесаря много лет тому назад отчислили со второго курса Литературного института, после чего он, собственно, был вынужден вернуться к своей прежней профессии, но первую любовь, поэзию, забыть не смог…
Открыв дверь своим ключом, я тут же попала на спонтанно организованный диспут, в котором обсуждался вопрос: закончился ли Серебряный век стихами Блока, Ахматовой, Заболоцкого, Цветаевой или еще имеет продолжение в лице Юрия Кузнецова, которого наш слесарь оказался ярым поклонником?..
Чертыхаясь про себя, я прервала эту возвышенную беседу обоих мужчин и суровым голосом отправила мастера устранять неисправность.
— Зачем ты так с человеком? — после его ухода упрекнул меня Игорь. — Нет, это ты снобка, а не я… Мы очень интересно беседовали, пока ты не явилась и не указала ему его место… А может, это вовсе не его место? Может, наш разговор помог бы этому человеку вернуться к самому себе?..
На эти сентенции оставалось только развести руками.
Игорь долго не решался показать мне свои стихи.
Когда мы только-только начали встречаться, он случайно обмолвился, что придает своему занятию поэзией некоторое значение, мне сразу захотелось попросить его прочитать стихи. Я уже знала, что далеко не все замечательные сочинения поэтов удостаиваются печатного станка, и кое-что читала в самиздате; поэтому то, что Игорь не публиковал свои стихи, не смутило меня, даже напротив — я решила, что он слишком взыскательно относится к своему творчеству, добиваясь особой отчетливости формы, точности слова, ищет свою неповторимую манеру и так далее.
А между тем, господи, как я мечтала хранить у себя в памяти какое-нибудь его стихотворение! Возможно, оно стало бы для меня ключом к его таинственной натуре, возможно, эти строки поддерживали бы меня в часы разлуки! И вообще, хотелось иметь его стихи как доказательство глубокого доверия ко мне, предельной искренности наших отношений.
Но помнится, в те времена, когда я попыталась высказать свою заинтересованность, Игорь довольно строго сказал мне:
— Понимаешь, Ло, это глубоко личное переживание, сугубо интимное… Им я могу поделиться либо с первым встречным, либо с абсолютно родным человеком…
Эти слова задели меня, взволновали.
Под категорию первой встречной я уже явно не попадала, но и родным существом для Игоря еще не стала. И стану ли? Холодок сомнения проскальзывал в моей груди, когда я вспоминала эти слова, произнесенные рассеянно-небрежным тоном. И тут вдруг Ася объявила мне, что она Игоревы стихи слышала.
— Как? — Я не в силах была сдержать своего изумления, чем очень порадовала Анну. — От кого?!!
— Да их все знают, — снисходительно отозвалась Ася, наслаждаясь моим замешательством. — Гонерилья даже не поленилась перепечатать иноземцевские вирши под копирку…
— А кто ей дал стихи?!
— Напрямую Игорь ей ничего не давал… Она брала у него конспекты, и там, в тетради, на последних страницах, обнаружила стихотворения. Ей они очень понравились.
— А Игорь об этом знает? — Я почему-то обиделась за Иноземцева.
— Делает вид, что не знает, — насмешливо проговорила Ася.
— Почему «делает вид»?
— Да потому что, я думаю, он втайне мечтал, чтобы кто-то прочитал его произведения, но не из его собственных рук, — предположила Ася, пожав плечами.
— Почему?
— Почему-почему, — даже как бы немного рассердилась Анна. — Откуда мне знать почему? Говорят, есть женщины, которые любят, чтобы их насиловали — а вот почему? — При этих словах подвижная физиономия Анны изобразила глубокое презрение. — Игорь, хоть он и не женщина, может, тоже относится к этому типу… Может, он хочет, чтобы правду его души, — Ася хмыкнула, — из него добывали силой или обманом… А стихи у него ничего, симпатичные…
Мне снова стало обидно за Игоря. Разве могут быть стихи симпатичными? Стихи — либо чудо, либо пустой номер, среднего быть не может… Конечно, я знала, что существуют «средние» поэты, которые, правда, не считают себя таковыми, потому что тогда следует признать, что настоящая поэзия в их творениях и не ночевала, есть просто более-менее удачно зарифмованные конструкции… Нет, тайна поэзии равносильна тайне человеческой личности, и она никак не может быть «средней». Но всего этого я тогда не стала говорить Анне, которой разговор о поэзии вообще был неинтересен, а интересно было узнать, когда наконец Игорь, такой умный и великолепный, оставит меня для другой, более подходящей ему девушки. И тогда Ася самоотверженно принялась бы утешать меня, брошенную.
Почему мне вдруг припомнился этот давний разговор с Асей?.. Да потому, что на наш письменный стол вдруг начали накатывать волны Игоревых виршей; черновики с исчерканными четверостишиями буквально лезли мне на глаза, точно просились быть прочитанными, но я не осмеливалась без разрешения мужа поднести эти листки поближе к глазам, хотя, может, он рассчитывал именно на это… Дело в том, что я хорошо усвоила папин урок: отношения между людьми должны строиться исключительно на доверии, нельзя читать чужие письма, недопустимо подслушивать чужие разговоры и так далее. Взять без спросу со стола стихи Игоря — это было для меня все равно что подглядывать в замочную скважину… Для удовлетворения моего любопытства требовалась санкция автора. И наконец, когда количество стихов достигло критической массы, я решилась приступить к мужу с просьбой: нельзя ли мне прочитать его стихотворения?
— А ты не читала? — недоверчиво и даже как будто немного недовольно спросил Игорь.
— Как же я могу без разрешения…
Мне показалось, Игорь был разочарован.
Возможно, он уже ждал от меня похвалы, признания его поэтических достоинств, которые были для меня очевидны, но глупая деликатность до сих пор мешала мне заговорить об этом.
— Нет, что ты, — ответила я на немой вопрос в его глазах. — Я не имею права делать это без спросу…
Игорь пожал плечами с самым равнодушным видом.
— Да ради бога, — проговорил он. — Мне нечего скрывать… Вот только разберешь ли ты мой почерк…
— Почитай вслух, — попросила его я.
Игорь принялся задумчиво перебирать листки на столе.
— Ну что… вот хотя бы это… — проговорил он и стал читать.
Чтение стихов заворожило меня.
Игорь читал свои стихи нараспев, как часто читают поэты, глубоким и странным голосом, будто впал в медитацию, поводя перед собою рукой, точно плавно отсекал одну поэтическую идею от другой, с отрешенным выражением лица, — и я не столько вслушивалась в слова, сколько любовалась им. Поэтому, когда он закончил читать первое стихотворение, я вполне искренне выдохнула:
— Замечательно!
Ободренный моим восторгом, Игорь взял со стола еще один листок, потом другой, потом третий… На четвертом я ощутила что-то вроде пресыщения. Мне почудилось, что слух мой потихоньку отъединился от зрения и стал воспринимать слова отдельно от позы, ритма, движений Игоря, его вдохновенного лица… Я как будто стала узнавать произносимые им слова: ведь сама когда-то в юности писала стихи и цепляла эти же образы и сравнения с самой поверхности предмета или заимствовала их у других поэтов… На десятом стихотворении я почувствовала разочарование, а уже после пятнадцатого попросила у Игоря разрешения самой почитать то, что он написал.
Игорь не слишком охотно дал мне текст.
…Город вылинял, обвисли бока…
Глаз оконных усталый вид
И приземистые облака, —
Словно шапка на нем сидит…
Кажется, он вот-вот
Охрипшим голосом запоет,
Но, раздув свой впалый живот,
Он тихонько сосульку сосет…
Именно с этого стихотворения Игорь начал свое чтение — оно называлось «Городским романсом». С голоса оно мне очень понравилось, но глаз оказался критичнее слуха — теперь я не видела в этих строках того колдовства, которое сообщал им голос мужа. Стихи оказались голы, пусты…
С опаской я взяла со стола еще один листок.
Все, что творится в полночный час, —
Половодьем колышется воздух,
Крыши плавают не торопясь,
Чердаков раздувая ноздри…
Игорь уже включил телевизор, как бы забыв о моем присутствии, но я чувствовала, что он искоса посматривает на меня, и боялась, что выражение моего лица не слишком обрадует его.
Тихо. Сосулька сорвется — дзынь!
Стою под чужими окнами…
Дзынь! — весенняя теплынь
Звенит ледяными шпорами…
Отвернувшись, я аккуратно сложила листки в пачку…
Это было хуже, чем плохо. Это было никак. Из каждой строфы на меня таращилась пустота. Буквально каждое слово было как льдом схвачено скукой и равнодушием. Боже мой, дети пишут лучше! В их стихах, по крайней мере, проговаривается природа, сквозь ребяческое косноязычие нет-нет да и прорвется живое, непосредственное чувство, фантазия… А тут все было вторично, вяло… Как же так, подумалось мне, ведь Игорь знает, что такое настоящая поэзия, он обожает Иннокентия Анненского и Анну Ахматову! Неужели человек не может относиться критично к своему собственному творчеству?..
Я физически ощущала, что мой муж напрягся, ожидая от меня какой-то отчетливой реакции, но не могла произнести ни слова. А между тем понимала: если я сейчас же, немедленно не похвалю его, наши отношения изменятся в худшую сторону. Но продолжала молчать. Если бы Игорь не удержался от вопроса, как мне показались его стихи, я бы ни за что не смогла слукавить. Я бы призналась ему, что, по-моему, он напрасно тратит время, пытаясь высечь из этих сырых булыжников искру поэзии, — а таких слов Игорь не простил бы мне никогда.
Должна заметить, папины настоятельные советы никогда не читать чужие письма и прочее были восприняты с верою только мною, но не Люсей. Моей сестрице вообще деликатность такого рода была неведома, более того, она показалась бы Люсе проявлением непозволительной слабости. У Люсиного мужа Володи секретов от жены не было. Более того, он бы и не посмел их завести. Володя жил у Людмилы на виду, обязан был отчитываться ей в каждой истраченной копейке, в каждой минуте опоздания с работы домой, в телефонных разговорах с коллегами и так далее.
— За мужьями необходим бдительный контроль, — учила меня Люся. — Если немного ослабить хватку, считай, мужик для тебя потерян…
И она не понимала моих отношений с Игорем, не понимала того, что он все учится, учится и учится, как завещал Владимир Ильич, и что его учебе конца не видно.
— Ты теряешь время, — говорила она мне, — если сейчас не поставишь своего мужа на нужные тебе рельсы, дальше он уже поедет в тупик…
Я и сама это чувствовала, но не представляла, каким образом можно «поставить Игоря на рельсы».
Являясь к нам, Люся имела привычку проводить в доме ревизию, чему не мог воспротивиться и Игорь. Он вообще не то чтобы робел перед моею сестрицей, но как бы уступал ее праву сильного вести себя в чужом доме как в своем собственном. Люся беззастенчиво распахивала дверцы нашего гардероба, желая выяснить, не сдвинулось ли наше благосостояние с мертвой точки, открывала холодильник, громко удивляясь скудности его содержимого, рылась в ящиках письменного стола, якобы в поисках письма от мамы, о котором я ей говорила… Но стихов Игоря, разбросанных на поверхности стола, она упорно не замечала. Зато, выкопав в дальнем ящике стола из-под стопок бумаг мой дневник, Люся заперлась в ванной и, пока я, ничего не подозревая, готовила ужин, прочитала его от корки и до корки.
— Я не подозревала, что у вас все так неважно, — наконец выйдя из ванной, произнесла она.
— Что ты имеешь в виду?
В ответ Люся положила в пустую салатницу мою тетрадь.
— Да как ты могла?.. — Я задохнулась от возмущения.
Люся пренебрежительно скривилась:
— Ой! Ой! Только не надо! Терпеть не могу этой напыщенной позы! Если ты сама не делишься с сестрой своими проблемами, то она, то есть сестра, в скобках заметим, старшая, обязана проявить активность. Да, я не знала, что у вас все так неказисто…
Что было делать с нею, с моей настырной сестрой?
— Почему «неказисто»? — пробормотала я.
— Чувство юмора, — Люся щелкнула пальцем по клеенчатой обложке моего дневника, — тебя не спасет. А все неказисто — раз — потому что ты посадила мужичка себе на головку, два — потому что ты талантливей его, что видно даже из этих коротеньких заметок, три — он тебе этого никогда не простит…
Не могу не отдать должное моей свекрови, относившейся ко мне более чем сдержанно, — она не обременяла меня своим обществом. Об очередном изменении в отношении ко мне Полины Сергеевны я, как правило, узнавала от ее сестры.
Если Варвара Сергеевна, приодевшись и тщательно уложив свои густые, полуседые косы, являлась к нам в гости с дорогим тортом или коробкой конфет, это означало, что она недавно имела стычку с сестрой на почве разговора обо мне. Не то чтобы свекровина сестрица полюбила меня, нет, она просто чувствовала себя обязанной иметь мнение, отличное от Полининого. Если Полина считала, что лето запаздывает, то Варвара немедленно возражала, что никогда еще не было такой дружной весны. Если Полина полагала, что Игорь должен продолжать работу над диссертацией, Варвара высказывалась в том смысле, что сейчас такие времена на дворе, когда каждый должен учиться зарабатывать свой кусок хлеба, чем раньше, тем лучше. Если Полина заявляла, что я — не та женщина, которая нужна ее сыну, то Варвара пыталась спорить с ней, утверждая, что Игорю крупно повезло, вообще-то он, тюфяк такой, мог нарваться на какую-нибудь оторву.
Случалось, Варвара Сергеевна ко мне здорово охладевала. Например, так случилось, когда мы купили Игорю американские ботинки вместо запланированного плаща мне, и свекровь оценила и сами ботинки, и мою жертву, — тогда Варвара звонила нам, но не желала говорить со мною, требовала к трубке Игоря каким-то официальным, чуть ли не враждебным тоном. Однажды я здорово угодила свекрови: Игорю предложили в университете поработать на подготовительных курсах, а я отговорила его, посоветовала повременить с этим, пока не допишет диссертацию. Свекровь через день прислала мне хрустальные бокалы, много лет пылившиеся в серванте. Зато Варвара Сергеевна тут же позвонила Игорю и пожаловалась, что лежит в гриппе, за ней приходит ухаживать соседкина невестка, которая, не в пример другим невесткам, отзывчивое существо — не черствая, не равнодушная, не пекущаяся только о своей собственной шкуре, как некоторые… У меня не было сил ухаживать за прихворнувшей Варварой, но я отправляла к ней Игоря с крепким бульоном и фруктами, а по возвращении муж вместе с приветом от тети приносил выговор: она, дескать, терпеть не может, когда в бульон кладут петрушку, а что касается киви и бананов, то предпочитает им наши, российские фрукты.
Но, к счастью, эти детские игры моих взрослых новых родственников не могли выбить почву у меня из-под ног.
Благодушно относилась я и к редким визитам Полины Сергеевны, во время которых она норовила сделать что-то такое, что вывело бы меня из равновесия. Например, многозначительно проводила пальцем по книжным полкам, на которых быстро скапливалась пыль, или выбрасывала в мусорное ведро пачку вчерашнего кефира, отмечая, что дома Игорю ничего несвежего не предлагают. «Дома» — это значило у них, у родителей; в восприятии Полины Сергеевны наше с Игорем гнездышко вовсе не было его домом.
И только однажды мы с нею крупно схлестнулись — это произошло в тот день, когда я почувствовала, что беременна.
…Сразу после того, как мы поженились, я как о само собой разумеющемся заговорила о детях, которые должны появиться на свет.
Игорь всячески уклонялся от разговора на эту тему, предпочитая отшучиваться:
— Ло, куда тебе иметь детей! Ты сама еще маленькая рыжая девочка!
— Не «тебе», а нам, — поправила его я. — Дети будут не у меня одной, а у нас с тобой.
— Мы с тобой еще сами дети!
— Извини, но дети не занимаются любовью!
— Любовь — игрушка чуточку подросших детей, — нашел ответ Игорь. — Мы должны вдоволь наиграться… — И он игриво подталкивал меня к кровати.
В другой раз я его спросила:
— Игорь, ты сколько бы хотел иметь детей?
По лицу моего мужа пробежала тень, как будто я позволила себе какую-то бестактность. Но, пересилив себя, он ухмыльнулся и ответил:
— Не… не ораву, конечно. Одного дитяти, думаю, нам с головой хватит…
— Одного? — разочарованно спросила я. — Но ведь должен же у него быть брат или сестра…
— У тебя как будто есть сестра, — возразил Игорь, — но особой близости между вами я не замечал… Нет, дай бог, чтобы мы хоть одного прокормили…
— А кого ты хочешь, мальчика или девочку?
И от этого простого вопроса Игорь отмахнулся.
— Мне все равно, — сказал он, как отрезал. — Только, пожалуйста, не сейчас. Лет пять мы с тобой должны пожить для себя…
Эти слова обескуражили меня.
Я не понимала этого выражения — «пожить для себя». Оно несло в себе что-то угрюмое, зловещее. Разве может человек жить только для себя? Мне представлялось это не только безнравственным, но и утомительным….
— А для кого, для общества, что ли? — хмыкнул Игорь. — Ло, милая, пожалуйста, не усложняй нам жизнь. Слушай, нам ведь так славно вдвоем. Мы любим друг друга…
Но я понимала так, что, если люди любят друг друга, они должны думать о продолжении своей любви в детях. Что это за такая инфантильная любовь, ограниченная только пространством постели?.. Нет, настоящая любовь должна быть устремлена в будущее!
— А если мы вдруг забеременеем? — шутливо забросила я удочку еще раз.
— Если мы забеременеем, — подхватил было Игорь и осекся. — Если ты забеременеешь… Ох нет, Ло, не делай этого сейчас. Давай соблюдать меры предосторожности. Нет, лет пять — никаких детей, договорились?
Чтобы не спорить с ним, я кивнула.
Но осторожными мы не стали, нет…
Стоило нам остаться наедине, нас буквально кидало друг к другу какой-то мощной, превосходящей силы разума волной, в которой растворялись накопившиеся было непонимание, боль, обида, мысли о наших родственниках… Мы обнимали друг друга с такой свирепой нежностью, точно только что перенесли очень долгую разлуку — и вот узнаем друг друга заново. Его губы как будто пускались в долгое, нескончаемое путешествие по моему телу, окуная меня в беспамятство, в томительное ожидание невероятно яркой вспышки, зарождающейся в нем… Руки мои блуждали по его телу, и им как будто все было мало — и рукам, и губам, и коже… Но стоило этой волне пронестись над нами, как я ощущала опустошение, будто меня высадили на безлюдном берегу совсем одну со своими мыслями, надеждами, мечтами, которые никого не интересовали. Игорю хотелось бы ограничить мое существование одним моим телом, но я, как любая женщина, была больше самой себя, мне инстинктивно хотелось раздвинуть горизонты нашей жизни…
В один прекрасный день на меня как-то сразу, круто навалился токсикоз, и я сразу поняла, что означает это предобморочное состояние.
И стала думать, как сказать об этом Игорю…
Говорить ничего не пришлось.
Пока я размышляла обо всем этом, подбирая слова, гадала, как воспримут эту новость у меня на работе, где, кроме меня и еще двух-трех человек, не было охотников ездить в командировки, обо всем догадалась свекровь.
Она возникла на пороге нашей квартиры, когда Игоря не было дома, а я как раз собиралась на работу.
— Мой сын — ранняя пташка. Чуть свет — уже на ногах, — прокомментировала свекровь его отсутствие.
Все это было произнесено с подтекстом — Игорь часа недосыпает, куска недоедает, стараясь для семьи, пока я прохлаждаюсь дома. Но я не стала говорить свекрови о том, что Игорь с утра пораньше отправился в храм Николы в Пыжах — он последнее время пристрастился к этому храму, потому что ему очень нравились выступления по радио тамошнего настоятеля.
— Ты как-то плохо выглядишь, — пристально посмотрев на меня, отметила свекровь.
Меня как раз здорово подташнивало, и в ответ я пробормотала что-то невразумительное.
— Вы, случайно, не поссорились с моим сыном?
— Нет, я никогда не ссорюсь со своим мужем, — поспешила заверить ее я.
— Что — заездили на работе? — иронически осведомилась свекровь. — Тебе не надо было хвататься за это место, библиотека — дело тихое, на семью время остается…
— Я справляюсь, — пытаясь подавить приступ тошноты, ответила я.
— Да что с тобой? — беспокойно продолжала свекровь. — Эти круги под глазами… желтизна кожи… Ты, часом, не в положении, Лариса?
— Часом в положении, — грубовато ответила я. — По крайней мере, мне так кажется.
Свекровь всплеснула руками. На лице у нее проступило выражение такой растерянности и тревоги, что мне ее жалко стало.
— Но, Ларисонька… что же теперь?..
— В каком смысле? — не поняла я.
— Надо же что-то делать… с этой беременностью…
— А что с ней делать? — насторожилась я. — Беременность, как правило, завершается появлением на свет ребенка.
— Какого ребенка? — тонким голосом выкрикнула свекровь. — Да ты понимаешь, что говоришь? Игорь аспирант, ему еще учиться… Нет, милая моя, как хочешь, ты поспешила. Как это ни грустно, но все мы, женщины, через это проходили…
— Через что через «это»? — проговорила я.
— Надо делать аборт, — решительно произнесла свекровь.
Я пристально посмотрела на нее.
Я давно понимала, что на сочувствие этой женщины мне рассчитывать не приходится. Но и таких слов я от нее не ожидала. Она готова была принести в жертву учебе сына своего внука или внучку, человеческое существо, уже сплетающееся внутри меня. Я подумала: любовь таких женщин к сыновьям разрушительна. Нет, не может это называться любовью! Женщины вроде Полины Сергеевны всегда претендуют на первое место в жизни сына. Да, такой приходится потесниться для невестки, которая, как ей кажется, способна решить только половую проблему ее мальчика, а главное место все же остается за ней, матерью. Но ребенок этой невестки — он уже может навеки оторвать от матери ее чадо. Только когда мужчина становится отцом, у него по-настоящему появляется дом…
— А почему вы в свое время не сделали аборт и не избавились от Игоря? — спросила я ее. — Вы и ваш муж, кажется, тогда еще были очень молоды…
— У нас обоих было врожденное чувство ответственности, — объяснила свекровь, — которое, сознаюсь, мы не сумели воспитать в Игоре. Он еще мальчик. Ему рано иметь детей. Это только разрушит ваш брак.
— Об этом позвольте судить нам самим, — непререкаемым тоном заметила я. — Извините, мне пора собираться на работу…
В тот же день вечером — Игорь сидел над подшивкой газеты «Московские ведомости» за 1895 год, раздобытой им в «Букинисте», — нас навестила Варвара Сергеевна.
Я было ей обрадовалась, решив, что сестра свекрови по своему обыкновению пришла поддержать меня в противовес Полине, но скоро выяснилось, что обе Сергеевны, посовещавшись, решили выступить единым фронтом против меня и моего ребенка.
В руках у гостьи не было ни торта, ни конфет, ничего, кроме кокетливого маленького ридикюля, который Варвара Сергеевна держала под мышкой. Войдя в прихожую, она раздраженно сунула свою сумочку Игорю в руки, и всю дальнейшую сцену он так и простоял, держа тетушкин ридикюль в руках.
— Нам надо поговорить, — тоном, не предвещающим ничего доброго, проговорила Варвара Сергеевна, обращаясь ко мне.
Я отложила в сторону пачку писем, прихваченных с работы, и предложила ей сесть.
Но Варвара Сергеевна продолжала стоять, как бы нависая надо мною, и я вынуждена была смотреть на нее снизу вверх. Именно так, в переносном смысле слова, они хотели бы, чтобы я всегда смотрела на них — ловила каждое слово, слетевшее с их губ, заглядывала им в рот, а свой собственный раскрывала только для одобрения того, что они изволят сказать.
— Я согласна с сестрой, — не стала тянуть резину Варвара Сергеевна, — вам еще рано думать о детях. Вы оба еще не прочно стоите ногами на земле, поэтому…
— Варвара Сергеевна, — перебила я ее, — прочно стоят на земле одни кариатиды и девушки с веслами.
— В чем, собственно, дело? — подал голос Игорь.
Мы обе даже не повернули голов в его сторону.
— Конечно, годам к шестидесяти наше земное существование упрочится, — продолжала я. — Но тогда уже будет несколько поздно думать о детях…
Варвара Сергеевна опечаленно покачала головой:
— Ты, Лариса, пожалуйста, не шути, не стоит. Все очень серьезно.
— А в чем дело? — снова спросил Игорь.
Мы обе опять проигнорировали его.
— Я понимаю твое желание иметь детей, ведь я сама женщина…
Тут мне страшно захотелось ей сказать, что она не может меня понять, так как у нее самой нет детей, но вовремя прикусила язык.
— Я очень сочувствую твоему желанию, и, возможно, позже, когда придет время всерьез подумать о детях, я сама во всем тебе буду помогать, — продолжала она.
— Спасибо, — вставила я.
— Пока не за что, — приняв мою благодарность за чистую монету, смягчилась Варвара Сергеевна. — А сейчас, Ларисочка, нам как женщинам следует вдвоем обсудить, как исправить это положение…
— А как его исправить? — как будто с интересом промолвила я.
— К сожалению, выход только один. — Варвара Сергеевна сокрушенно поджала губы. — Многие женщины прибегают к нему. Это, конечно, неприятно. Но я обещаю, для тебя все пройдет максимально безболезненно. Я уже поговорила со своей соседкой, она врач-гинеколог, через ее руки прошли тысячи женщин…
— Вы мне скажете, наконец, что случилось? — потеряв терпение, буквально взревел Игорь.
— Ты ему еще ничего не сказала? — спросила Варвара Сергеевна.
— Я беременна, — повернувшись к Игорю, севшим от волнения голосом произнесла я.
Повисла пауза.
Мне кажется, если бы у моего мужа в ту минуту хватило ума броситься ко мне, обнять меня, сказать, что он рад, ужасно рад узнать эту новость, произнести все это взволнованным, прерывающимся от счастья голосом, так, как говорят это своим супругам положительные герои в романах, моя любовь к нему никогда бы не кончилась, она пронеслась бы сквозь наши существа в будущее, озарив всю нашу жизнь невыразимым светом, смягчив мысли о неизбежной разлуке, и за порогом нашей жизни она продолжала бы светить, уносясь в разверстый космос, как звезда, по которой другие влюбленные прокладывали бы курс…
— Так, — безотрадным тоном вымолвил Игорь, вертя в руках ридикюль. — Так, — еще раз повторил он, усаживаясь в кресло напротив меня. — А почему, собственно, я узнаю об этом не от тебя одной, а от своих родственников?
Я знала эту его манеру — переносить акцент с действительно важного события на второстепенное, с тем чтобы умалить его значительность; эта уловка всегда казалась мне ужасно забавной, но сейчас в ней было что-то страшное, ледяное… Мне почудилось, между нами разверзлась трещина, в которую стало оползать все наше прошлое, наши долгие разговоры, наша страстная близость, наши веселые шутки, наши счастливые планы на будущее — все наше, что только было у нас. Трещина росла, ширилась, я еще могла дотянуться до Игоря рукой, но уже не чувствовала в себе сил перетащить его на свою сторону, чтобы нам вдвоем уцелеть на краю этой разверзшейся пропасти.
— Очевидно, потому, что Лариса не слишком с тобою считается, — нашлась Варвара Сергеевна. — И это правильно. Ты еще слишком молод. Женщина в этом же возрасте на самом деле всегда старше мужчины на добрый десяток лет.
— Так почему ты мне не сказала об этом? — инквизиторским тоном повторил Игорь.
— Не успела, — устало объяснила я.
— Как это не успела? — отозвался Игорь. — Тетя уже в курсе, мать моя, кажется, тоже, а я — нет?
— Какое это имеет значение?
— Очень большое значение, — продолжал отчитывать меня Игорь. — Разве можно скрывать от меня такие вещи?
— Ну-ну, не ссорьтесь, — с интонацией доброй бабушки, покровительствующей молодым, произнесла Варвара Сергеевна. — Лариса конечно же ничего не собиралась скрывать от тебя… А потом не всегда следует мужчине знать о недомоганиях женщины… и о том, как положить им конец.
— Нет, это мне непонятно, — решительно ответил Игорь.
Я все ждала, что, покончив с упреками, он отправит свою тетушку восвояси, чтобы наедине обнять меня и сказать что-то ласковое или дурашливое. Моя мама вспоминала, как в пору ее беременности папа осторожно касался пальцем ее живота и говорил: «Тук-тук, кто там?» Но Игорь, казалось, весь ушел в обиду, стараясь замаскировать свою растерянность. Я даже почувствовала к нему что-то вроде жалости. Правда, это было отстраненное чувство. Трещина между нами росла, пропасть увеличивалась…
— Игорь, разве ты хотел бы сейчас иметь детей? — обратилась наконец непосредственно к племяннику Варвара Сергеевна.
— Не думал об этом, — глухо отозвался Игорь.
— Вот видишь, Ларисочка, — с торжеством промолвила Варвара Сергеевна, — он даже не думал об этом… Правда, Игорек, это несколько преждевременно?
Я подняла глаза на Игоря, уставилась на его губы, из которых должно было вылететь твердое «да», разводящее нас в разные стороны, или решительное «нет», навсегда нас объединяющее.
— Тетя, мы эту проблему обсудим сами, — уклонился от прямого ответа Игорь.
Варвара Сергеевна взяла из его рук свою сумочку:
— Конечно, конечно, вы тут поговорите, а я, как обещала, помогу с врачом…
Игорь ушел провожать тетушку, а я бросилась на кровать, закинув руки за голову.
Изо всех пор нашей комнаты сочилась тишина. Знакомые вещи как будто подобрались, затаились, они не были больше моими друзьями и союзниками; я боялась даже встретиться с пуговичным взглядом плюшевого медведя, моей детской забавы… Все вокруг словно копило непонятную угрозу, даже горшки с геранью, которую я заботливо пестовала. Беспощадные слова обеих моих родственниц витали по комнате, водили хоровод вокруг странных реплик Игоря, из которых я теперь не могла вспомнить ни одной. Это было как наваждение.
Я потянула руки к репродуктору, висящему на стене, и включила звук. И сейчас же по комнате поплыла песня, которая особенно часто звучала в то время. «В мире все повторится, все повторится, но не для нас…» Голос Аллы Пугачевой, поющей о долгой, долгой любви, пытался вытеснить из комнаты жестокие слова, которыми она полнилась. У меня потекли слезы.
Услышав скрежет ключа в двери, я приглушила звук радио и вытерла глаза.
Игорь вошел ко мне не раздеваясь, сел рядом и взял меня за руку.
— Ты ведь ждешь от меня каких-то слов, — почти виноватым голосом промолвил он. — Я понимаю… Просто я ошеломлен… Это как-то все неожиданно…
Я не ответила.
— Если ты так хочешь, оставь этого ребенка, — сделав над собой усилие, произнес Игорь.
— Этого ребенка! Нашего ребенка, — поправила его я. — Спасибо, на это мне не требуется ни твое, ни твоих родственников разрешение, — продолжала я, проглотив ком в горле. — Ни за что на свете я не стала бы делать то, что предлагает твоя тетушка.
— Ну и правильно, — без всякой уверенности сказал Игорь. — Хотя, конечно, все это преждевременно. Но раз ты так решительно настроена… Я так беспокоюсь за тебя… Ты так мечтала об этой работе в газете… А теперь — скорее всего, тебя сократят. Сейчас не любят отпускать женщин в декретный отпуск.
— Послушай, — вдруг вырвалось у меня. — Может, нам стоит развестись?..
Мысль о разводе никогда прежде не приходила мне в голову. Но сейчас она как стрела пронеслась сквозь густое облако предчувствия, что нас больше ничего хорошего не ждет. Честная стрела, которая знает один только путь — прямой.
— Что ты, что ты, — обеспокоенно заглядывая мне в глаза, пролепетал Игорь. — Какой развод? Все будет хорошо… Я, конечно, не представлял себя отцом, но скоро привыкну к этой мысли… Поцелуй меня.
Я поцеловала его. Прежде наши объятия и поцелуи, как нитки, схватывали края расползающейся ткани нашей общей жизни. Сейчас я только почувствовала боль на губах, боль ожесточения, а не нежности.
Несколько дней после этих знаменательных бесед с Игорем, его матерью и теткой я буквально спасалась на работе с утра и до вечера, стараясь скрыть от коллег приступы тошноты и головокружения.
Очевидно, пока меня не было дома, обе Сергеевны изводили Игоря упорными звонками. Отголоски этих переговоров долетали до меня поздно вечером, когда Игорь, прикрыв дверь комнаты, шипел в трубку: «Оставьте нас в покое!» или «Это наше дело!». Мы с ним в основном молчали, ожидая друг от друга какого-то движения навстречу, дружеского жеста, любовного излияния души, но что-то как будто встало между нами. С лица Игоря не сходило выражение обиды и детского недоумения.
На пятый день — была как раз пятница — мне и вовсе расхотелось идти домой. К счастью, в этот день я была «свежей головой». Голова, правда, работала с трудом, приходилось то и дело бегать в корректорскую за справками. Я вышла на улицу, когда уже вовсю горели фонари, и двинулась по Калининскому проспекту.
Навстречу текла яркая, нарядная толпа, в основном молодежь. Весело перекликаясь, юнцы текли по Калининскому, прикидывая, хватит ли денег на бар, возле которого уже собралась толпа в ожидании места за столиком. В студенческие времена и я с Асей или Толяном Карасевымпосещала этот бар. Казалось, это было очень давно, невозможная пропасть времени отделяла меня от той рыжей любопытной девицы, стоявшей когда-то под дверью этого заведения, а между тем не так много лет прошло — вот, например, швейцар Степаныч, угрюмо отвечающий на шутки молодняка, совсем не изменился… Впервые, да, впервые в жизни мне не хотелось домой.
Вообще я очень любила нашу квартиру. Здесь я чувствовала себя хозяйкой. Каждая новая вещь, появляющаяся в доме благодаря моим стараниям, роднила меня с ним. Любая мелочь, даже разноцветные прихватки для кастрюль, которые я сшила на своей швейной машинке… И мои комнатные цветы — многочисленные отростки и корешки я брала на работе в библиотеке, где цветов было множество, пересаживала их в новые горшки… Я любила мою посуду, красную в белый горошек, — кастрюли, миски, кружки, чайник. И книги — я то и дело покупала новые книги, и они постепенно пускали корни в нашей библиотеке.
Но в тот вечер при мысли о нашем с Игорем жилище меня охватила тоска, как будто в нем поселился кто-то третий, безусловно лишний, даже опасный… Я шла по кромке тротуара, уступая путь встречным, и боковым зрением видела, что вровень со мною вдоль дороги ползет машина… Я уже не раз приостанавливалась, надеясь, что она проедет дальше, но машина тоже останавливалась, убеждая меня в том, что внимание водителя устремлено именно на меня.
Терпеть не могу уличные знакомства: не реагирую на улыбки встречных мужчин, молчу в ответ на плоские шутки, при помощи которых они обычно завязывают знакомства с женщинами, а уж в сторону сигналящих автомобилей и головы не поворачиваю. И теперь не собиралась откликаться на внимание преследователя. Но когда колесо машины чиркнуло о бордюр, невольно повернула голову, чтобы как следует отчитать его. И обомлела.
За рулем черного джипа сидел Толя Карасев; с неподвижной улыбкой, скорее с гримасой, означающей улыбку, — физиономия его вообще с детских лет была как бы лишена мимики, — смотрел на меня.
Не будь Толян за рулем, я бы бросилась ему на шею.
Те, кто любил нас в ранней юности и кому мы не ответили взаимностью, с течением времени приобретают над нами какую-то странную, магическую власть. Их вспоминаешь с робкой благодарностью, убедившись на личном опыте, что не так уж много в мире любви, не очень уж много суждено встретить в жизни людей, которые потянутся к тебе. И прошлое начинает все больше притягивать к себе; поневоле думаешь, что вот было в твоей жизни существо, привязанное к тебе по-настоящему, — а что может быть прочнее этой полудетской, со школьных времен, привязанности, — но ты этого человека не оценила, полагаясь на будущее, в котором случится еще масса необыкновенных встреч… Так и я нет-нет да и вспоминала Толяна, его записки с ошибками, отправленные с последней парты через руки одноклассников, его неуклюжие ухаживания, забавные подарки вроде елочного деда-мороза или сделанного им для нашего балкона скворечника («Чтобы у тебя была своя собственная птица», — сказал он мне тогда), его робость, когда он впервые увидел меня подкрашенной и на каблуках, и его предложение Люсе набить морду какому-то ее обидчику… Мало-помалу Толя занял почетное место в моих воспоминаниях, потеснив других ребят, с которыми я дружила еще до Игоря, и я не переставала удивляться — отчего он не найдет меня, не позвонит мне, не спросит, как я живу…
— Как живешь? — молвил Толян, с грацией бегемота распахивая передо мною дверцу машины.
— Ужасно рада тебя видеть. — Я уселась рядом с ним и чмокнула его в щеку. — Где ты пропадал, что делал?
— Куда двинемся? — вместо ответа, спросил Толя. — Надо отпраздновать встречу. Может, в «Прагу»?
В ответ я ткнула пальцем по направлению к бару, возле которого толпилась молодежь.
— Ну, мы вроде переросли подобные заведения, — воспротивился было моей идее Толян.
— Ничего. Тут можно притормозить?
— Мне все можно.
Раздвинув плечом толпу юнцов, Толя провел меня мимо грозного Степаныча, усадил в зале за столик, который через минуту-другую оказался заставленным стаканами с коктейлями, ведерком с шампанским, ветчиной, салатом с курицей, гор-точками с грибами, блюдом с орешками и апельсинами.
— Теперь рассказывай. — Толян хлопнулся на стул и залпом осушил свой бокал коктейля. — Ты замужем, конечно?
— Почему «конечно»? — улыбнулась я.
— Такая роскошная женщина не может простаивать, — грубовато польстил мне Толян. — Да, помнится, возле тебя крутился какой-то московский хлыщ… Ты за него вышла замуж?
— Имела неосторожность, — брякнула я.
— Ага. — Толя понимающе кивнул. — Значит, это был необдуманный шаг. Но все в мире, родная, поправимо. Разводись — это раз. Выходи за меня замуж — это два.
— Раз-два и готово! — Я отпила из своего стакана совсем немного, но хмель сразу ударил мне в голову.
— А чего кота тянуть за хвост? — как бы не понял Толя. — Мне пора жениться, рыжая. Все мои друзья давно имеют семью. У нас так положено.
— У кого это «у нас»?
— Выйдешь за меня, узнаешь!
— Я не могу выйти за тебя, Толя, я жду ребенка от мужа…
Реакция, последовавшая на мое признание, удивила меня.
Толя вдруг радостно осклабился — это была действительно настоящая улыбка, осветившая его лицо, точно не Игорь, а он, Толян, был отцом моего ребенка, — сделал движение, как будто хотел обнять меня через столик, потом стал громко аплодировать мне — весь зал обернулся на нас, потом, наконец, окликнул официантку:
— Девушка, унеси со стола все спиртное, угости вон ту парочку… Да, еще пару бутылок за тот же столик той же парочке…
Молодые люди за соседним столиком, получив подарок, восторженно замахали нам руками. Толя в ответ тоже сделал приветственный жест, а потом все-таки встал из-за столика, приподнял меня и невозмутимо поцеловал в губы.
— Поздравляю, рыжая… Беременная женщина — это святое. Это — икона для мужчин.
Слезы брызнули из моих глаз.
— Отставить сопли, — с удивлением глядя на меня, скомандовал Толян. — Я понимаю, это от радости. Еще бы, такое событие. Нет, мы должны отметить его в ресторане «Прага». Вставай, мать, мы едем в «Прагу». На-ка, вытри шнобель…
Я промокнула слезы его носовым платком:
— Я не могу в ресторан, Толя. Я не одета.
— Я куплю тебе по дороге достойную шмотку. Вставай, вставай!..
Мы вышли из бара и сели в машину.
Толя, весело насвистывая, погнал джип на бешеной скорости.
— Ради бога, не гони так, — взмолилась я. — Центр, полно гаишников…
— У меня есть от них лекарство, — невозмутимо молвил Толян и ткнул себе пальцем в карман английской велюровой рубашки.
Я оттянула пальцем карман и с любопытством заглянула внутрь: в нем была пачка стодолларовых бумажек.
Тут на меня, не знаю почему, нашел страх.
Такие деньги я видела только в кино. Я не представляла, на какой такой ниве трудясь можно их заработать, и спросила об этом у Толи.
— Какая тебе разница, — пробормотал он. — Мою работу славно оплачивают, вот что важно…
— Кем же ты все-таки работаешь? — не отставала от него я.
— Другой бы бабе ни в жизнь не ответил на такой вопрос, а тебе скажу: я работаю крышей для Карлсонов, понятно?
— Нет, непонятно.
— Это новая такая специальность. И я ее с блеском освоил. Для этого не пришлось заканчивать университетов. Я и институт свой на фиг бросил… Эх, жаль, что ты не можешь выйти за меня! Честное слово, жаль! У меня бы ты пешком не топала и такие задрипанные шмотки не таскала бы! Куда только смотрит твой мужик! Все в «Капитал» бородатого Маркса, поди? Что у него, нет ума бабки заработать?
— Толя. — Я положила руку ему на плечо. — Давай «Прагу» отложим. В другой раз. Сейчас меня муж дома ждет.
Толя резко затормозил.
— У тебя что-то не так, Ларка?
Я не ответила.
— Может, помощь нужна? Может, расскажешь, что случилось?..
Как можно было рассказать об этом, какими словами, я не представляла. Тем более этому новому Толяну, которого я не знала. Я знала его угрюмым, косноязычным мальчишкой, который таскался за мной по пятам из школы домой, набычившись, сердясь на себя самого за то, что не умеет занять девушку разговором. Я знала его суровым молчаливым юношей, который приезжал к нам в общагу со впалыми щеками и голодным блеском в глазах, но с полной сумкой фруктов и пакетом дорогих конфет, которого Ася ехидно спрашивала: «Скажите, Анатолий, что вы думаете о романе Хулио Кортасара «Игра в классики»? — на что Толя сердито сопел и отвечал, что думать — не его специальность… Но мужчиной — таким разухабистым, таким уверенным в себе — я его не знала. Я видела, что у нас в стране появилась эта новая формация молодых, крепко стоящих на своих ногах, имеющих огромные деньги ребят, которые одним своим существованием как бы сводили на нет все наши ценности и достижения, и испытывала страх перед этой сильной, напористой порослью.
— Мы еще встретимся? — остановив машину возле моего дома, спросил Толя.
— Пожалуй, — неопределенно отозвалась я. — Запиши мой телефон…
Очевидно, этот день в моем гороскопе проходил под знаком прошлого, звезды благоприятствовали встрече с ним с такой неодолимой силой, что те, с кем судьба давно меня развела, вдруг снова дали знать о себе… Не успела я прийти домой, как мне позвонила Ася.
Я обрадовалась, услышав в трубке ее бодрый голос, и тут же пригласила Анну к себе в гости. Но в ответ услышала:
— Нет, уж это ты, сделай милость, приезжай к нам. Завтра же приезжай.
— К кому это «к нам»?
— Ко мне, Агафону и Артурчику!
— Ты что, замуж вышла?
— Да, вышла замуж за Артурчика ровно неделю тому назад, — торжественно объявила Ася.
— И уже успела родить Агафона?
— Агафона родила Терра, эрдельтерьерчик, медалистка, между прочим. Славная псина, полюбил меня страшно… Ну да что болтать по телефону! Запиши-ка мой адрес…
В субботу я поехала к Асе на улицу Яблочкова.
Игорь от встречи с ней уклонился, заметив, что Анна еще в студенческие времена утомляла его и что встреча с ней — слишком сильная для него нагрузка, тем более что сегодня он собирается навестить родителей. Я глянула на него, и Игорь отвел глаза. Я представила себе, какой разговор ждет его в отчем доме. Я не понимала, почему он не делает попытки уклониться от него. Ведь поездка к Анне была бы неплохим предлогом… Но Игорь не пожелал им воспользоваться, что было для меня худым знаком. Однако, не сказав больше ни слова, я оделась и поехала к Анне.
Агафон встретил меня дружелюбным повизгиванием, Ася — радостными восклицаниями, Артурчик долго тряс мою руку и бормотал, что он наслышан обо мне, что мечтал познакомиться с лучшей подругой Асютки; Ася величественно кивнула, подтверждая его слова, и тут же бесцеремонно отправила мужа на кухню — накрывать стол.
— Он тебя так слушается… — почтительно произнесла я.
— Еще бы! — хмыкнула Ася.
Расстановка сил обозначилась с особой отчетливостью, когда мы уселись за стол и Ася приступила к рассказу о том, как она познакомилась с Артурчиком.
…Ася вошла в электричку, следующую из Орехово-Зуева в Москву, с целью покупки моющихся обоев в магазине на Профсоюзной. Бросив по сторонам хищный взгляд дипломированного филолога — народ в электричке сидел все больше с газетами и с детективами в руках — и углядев в углу человека с томиком Кафки, Ася недолго думая подсела к нему… Она не заглядывала далеко вперед, в будущее, думая только о том, как бы скоротать томительную дорогу, когда довольно бесцеремонно обратилась к худосочному альбиносу (Артурчик с готовностью хлопнул себя кулаком в грудь, давая понять, что речь идет именно о нем) со словами:
— Неужели и до наших палестин докатилась волна цивилизации?
Артурчик тотчас вежливо захлопнул книгу, откликаясь на внимание необыкновенно привлекательной женщины, небрежным тоном продолжала Ася, и объявил ей, что относительно цивилизации в Орехово-Зуеве ему ничего не известно, ибо здесь живет его двоюродная сестра, а сам он москвич, работает телевизионным мастером, а в свободное время рыщет по магазинам, прикупая книги… Услышав о том, что молодой человек москвич, Ася бросила еще более хищный взор на правую его руку. Кольца не было. В эту минуту Ася простила незнакомцу его простецкую внешность и торчащие уши (Артурчик послушно повернулся в профиль и показал свои действительно лопушиные ушные раковины) и исполнила свою коронную арию о том, что все лучшее — литература, театр, музыка — сосредоточено в столице и человеку, хлебнувшему ее благ, тесно в провинции… Она здесь ощущает себя эмигранткой. Ей безумно недостает книг, общения с друзьями и единомышленниками. Она одинока, как буква «ять», выпавшая из алфавита. Ей не с кем поговорить о Кафке, которого она обожает, некому почитать вслух стихи Мандельштама. В ответ Артурчик сообщил Асе, что тоже чувствует себя одиноким: в той трудовой среде, в которой он вынужден вращаться ради хлеба насущного, хороших книг не читают, фильмов Бергмана или Феллини не смотрят, музыки Артемьева не знают… Про композитора Артемьева Ася сама тогда слыхом не слыхивала, но на всякий случай заметила, что атональную музыку вообще дано понять не всем, только единицам, намекая на то, что такая единица как раз и беседует с Артурчиком… Перешли на Бергмана, и Ася заявила, что его фильмы для нее как глоток чистого воздуха, и тут Артурчик, набравшись смелости, заявил, что хоть сегодня готов угостить ее «Осенней сонатой» или «Фанни и Александром». У него имеется видак.
Обои были забыты.
Оказавшись в уютной квартирке Артурчика, Ася сказала себе самой, что ей здесь буквально все нравится, начиная от «дерева счастья» на окне и кончая Агафоном («Включая меня», — радостно добавил Артурчик), и вообще она жутко любит эрдельтерьеров, а Жанна Самари (на стене красовалась копия Ренуара) своей женственностью пленяла ее с детских лет… Одним словом, Ася твердо решила, что добровольно она из этой квартирки не уйдет и, не досмотрев до конца злоключений брата и сестры, о которых так тонко и красочно поведал Бергман, перенесла действие на ворсистый ковер, сплошь усеянный шерстинками Агафона. Наутро Артурчик и Ася подали заявление в ЗАГС, но Ася, решив, что надо ковать железо, пока горячо, не стала дожидаться дня регистрации брака в родных пенатах, осев в вожделенной московской квартире и уже не от пуская с короткого поводка ни Агафона, ни Артурчика.
— Представь, я так боялась, что он передумает, — поделилась со мною Ася, — что даже не поехала в Орехово-Зуево за вещичками… Так и прожила, таская на смену своему сарафану Артурчиковы рубашки и джинсы…
Артурчик, как истинный подкаблучник, во время этого повествования не сводил преданных глаз с Аси. И я подумала: неужели в женщине природой заложено это умение перехватить инициативу? Или это все-таки можно в себе воспитать? Я представить себе не могла, чтобы в присутствии Игоря можно было с кем-то говорить о нем в таком тоне, обсуждать его ушные раковины и вообще вышучивать его, а тут такая вольность обращения, такая простота и непринужденность поведения, как у поднаторевшей в своем деле дрессировщицы…
Пока Артурчик мыл посуду, Ася расспросила меня о моей жизни. Я сказала, что все очень хорошо, и умолкла. Честное слово, у меня не было сил сейчас распространяться на тему своей семейной жизни, и Ася тут же все поняла.
— Я предупреждала, что он тебе не пара, — напомнила она. — Ты чего-то недоговариваешь… Что, родичи Игоря здорово тебя достают?
— Немного есть, — призналась я.
— А ты не пускай их на порог, — посоветовала Ася.
— Легко сказать.
— Так ведь и сделать нетрудно, — тут же отозвалась Ася. — Мужчина в принципе всегда принимает сторону той женщины, которая держится с большей уверенностью в себе… Ты должна показать ему и свекрови свою силу.
— Рада бы, да не знаю как, — уныло ответила я.
— У меня поучись, — небрежно сказала Ася. — Артурчик, не пора ли выгуливать Агафона?..
Прошел еще один месяц, который мы с Игорем прожили как-то странно, как будто все время чего-то недоговаривали… Количество осадков, выпавших за это время из моих глаз, превысило годовую норму. Никогда я прежде столько не плакала, стараясь, правда, не показать своих слез Игорю.
Мой муж пописывал диссертацию, и, приходя вечером с работы, я видела его спину. Он сидел за столом за печатной машинкой, в его фигуре, в позе отвернувшегося от меня человека, занятого своим делом, я чувствовала упрек: он как бы демонстрировал мне, что вот, вынужден торопиться с работой, пока в доме не зазвучал детский крик и не появились пеленки. Игорь уже не читал мне, как прежде, написанного, не просил моего совета. Отгородившись от меня книгами, он с головой ушел в свои мысли. Правда, добросовестно покупал фрукты в больших количествах, проявляя обо мне посильную заботу. А я вздрагивала от каждого телефонного звонка, мне было неприятно, что Игорь тут же вставал и с телефоном в руках уходил на кухню, где, вероятно, был вынужден давать своим родственникам отчет о нашей жизни. Полина и Варвара Сергеевны больше не желали со мной разговаривать, исчерпав все свои доводы в пользу прерывания беременности.
Они сумели привлечь на свою сторону Люсю, что явилось для меня немалым ударом.
Как-то, придя домой, я застала Игоря и мою сестру сидящими на кухне и мирно беседующими. Они говорили о Горбачеве. О том, что он обманул ожидания демократов. Нутром я почувствовала, что до моего прихода на повестке дня стояла другая тема. И когда Люся сообщила мне, что недавно пристроила мою свекровь к своей парикмахерше, я насторожилась. Полина Сергеевна Люсю терпеть не могла, и та всегда платила ей взаимностью, значит, произошло что-то такое, что в корне изменило их отношение друг к другу… Игорь ушел в свою комнату, и Люся тут же взяла быка за рога.
— Почему ты мне не сказала о том, что ждешь ребенка? Почему я должна узнавать об этом от других?
Этот вопрос был задан точно таким тоном, как во время нашего разговора с тетушкой задал его Игорь, и я поняла, что обе Сергеевны нашли в моей сестре союзницу.
Ничего не ответив, я стала молча убирать со стола.
— Послушай, — Люся встала и развернула меня к себе, — ведь еще не поздно что-то предпринять… Тебе рано рожать детей. И какой он к черту отец? — кивнув в сторону комнаты, добавила она.
— Не твое дело, — бросила я.
Полилась песня о том, что все на свете, включая ее, мою сестру, желают мне добра… Да, они желали мне добра и все свои усилия направили на то, чтобы вытолкнуть из меня моего ребенка… Они все хотели, чтобы мы с Игорем встали на ноги, прежде чем лечь в могилу. Они желали видеть нас сильными, самостоятельными, решительными, способными убить в себе зарождающуюся жизнь… Токсикоз мой уже прошел, но меня безумно тошнило от них, от их якобы участливых лиц, от постной физиономии моего мужа, изображающего из себя жертву, от этих телефонных звонков… Меня так тошнило от всего этого, что я буквально каждую неделю норовила вырвать себе командировку, — чужие проблемы, с которыми мне приходилось разбираться, хоть ненадолго заслоняли от меня мою собственную…
Я возвращалась на электричке в Москву со смешанным чувством тоски и удовлетворения. Тоска относилась к тому, что письмо, «позвавшее меня в дорогу», пришло слишком поздно — сын этой женщины, о которой написала ее сердобольная сослуживица, погиб, утонул, сорвавшись со льдины. Но сознание, что мне все-таки удалось ей помочь, отселить терроризирующего ее мужа в общежитие после того, как произошла эта трагедия, немного утешало меня. Эта бедная женщина обнимала меня и плакала, рассказывая о том, что ее семилетний сын старался совсем не бывать дома, приходил только переночевать, что ее дочка, восьмилетняя девочка, оказалась выносливей мальчика, который, может быть, просто искал смерти…
Она долгое время просила поселковые власти дать ее бывшему мужу место в общежитии, но те вовремя не рассмотрели ее заявлений, а милиция тоже не торопилась вмешаться… Я ехала и думала об этой женщине и ее девочке, о ее сыне, оставившем после себя замечательные рисунки животных, о том, как она плакала от счастья (!) у меня на плече, после того как ее бывший муж собрал вещи и ушел в общежитие… Думала о невидимых миру слезах — и вдруг почувствовала резкую боль в низу живота и тут же поняла, что у меня началось кровотечение… Скорчившись от боли, я уже не замечала поднявшейся вокруг меня суеты, не слышала, как пассажиры по рации попросили машиниста вызвать «скорую» к платформе Железнодорожная… Последнее, что я помню, — меня выводят под руки из вагона…
…Свекровь вместе с Игорем примчались в больницу сразу же, как только до них дозвонились. Я уже приходила в себя после выкидыша. Они вдвоем принялись заботливо выхаживать меня, свекровь буквально поселилась в больнице, а Игорь время от времени мотался в Москву. В те дни он наконец защитил диссертацию.
С утра меня разбудил телефонный звонок.
Я вскочила с постели, бросив взгляд на часы: шесть утра.
— Ты еще ничего не знаешь? — услышала я упавший голос Люси.
У меня похолодело внутри: я решила, что что-то случилось с папой.
— В стране военный переворот, — продолжала Люся.
— Какой еще переворот?
— Дай трубку своему мужу, — нетерпеливо проговорила Люся.
— Он спит…
— Разбуди. — В голосе Люси прозвучало раздражение; я не стала спорить, растолкала Игоря и вручила ему трубку.
Игорь, сонный, приложил ее к уху. Потом уселся в кровати. Лицо его напряглось. Я слышала, что он о чем-то спрашивает Люсю, и та что-то растолковывает ему — и тут поняла, что произошло и в самом деле что-то серьезное.
Я включила радио. По «Маяку» шла передача о Башмете, которую я слышала пару дней назад. Переключила радио на другую станцию — там читали главы из романа Анатолия Калинина… Военный переворот!
— Это правда? — спросила я Игоря.
Продолжая разговаривать с моей сестрой, он прикрыл глаза веками.
И тут меня охватила уверенность, что случившееся — всерьез и надолго… Сейчас они примутся откапывать вчерашние газеты, возвращать на книжные полки сочинения партийных борзописцев… Та революция произошла в погребальные сумерки промозглой осени, хотя до сих пор мы мало что знаем об этом, несмотря на массу литературы. Кажется, нашу историю пишут спевшиеся в своем бреду авторы — неразборчивым почерком при свете дрянной коптилки в кровавой испарине, при подмигивании болотных огней… Одно свидетельство опровергает другое, очевидцы измельчают имевший место факт в порошок, оседающий в наших печенках… Я не могла до конца осознать, что же случилось, может, революцию повторяют, как концерт Юрия Башмета, может, дождь снова транслирует Великий Октябрь.
Игорь положил трубку и стал торопливо одеваться.
— Где Горбачев? — почему-то спросила я.
— Тебя сейчас должно больше волновать, где Сергей Станкевич, — ответил Игорь.
— При чем здесь Станкевич?
— А ты не знаешь?.. Твоя сестра — доверенное лицо Станкевича.
— Я не знала, — растерянно промолвила я. — Каким образом?..
— Она принимала участие в его предвыборной кампании, — пояснил Игорь. — Если Станкевича взяли, то скоро могут прийти за твоей сестрой…
— Но это же абсурд! — вырвалось у меня.
— Абсурд, — спокойно согласился Игорь. — Будь дома, сиди на телефоне, я поеду в университет….
…Признаться, у меня нет отчетливых политических взглядов. Мне бы только хотелось, чтобы в этой стране не убивали, не пытали, не морили голодом… Я не правая, не левая и не в силах «молиться за тех и за других»… Мои политические симпатии чаще всего объясняются внешностью наших лидеров. Интеллигентная речь, скромные манеры, энергичные движения подкупают меня, а что за всем этим стоит, в это я не умею вникать, как и миллионы моих сограждан.
Я вышла из дому за хлебом.
В очереди люди стояли тихо, обсуждая бытовые проблемы. Очередь делала вид, будто ничего не произошло. Стояли в ней в основном старики. За последние годы их роль в нашем обществе возросла. Они нас кормили. Они стояли в очередях, пока мы были на работе. Наши бабушки и дедушки вдруг ощутили в себе непочатый запас сил, они поняли, что пришло их время. Они развили бешеную деятельность, перестали жаловаться на здоровье. Они поняли, что помирать им нельзя, ибо мы тогда останемся без круп и без сахара, которые они добывали в очередях, пока мы были на службе.
Я обошла ближайшие магазины — в каждом вдруг что-то выбросили: консервы, майонез, сосиски, сыр, соки. Все это потекло на прилавки из каких-то неведомых, тайных баз и складов, заряжая человека презрением к самому себе, беззащитному, нуждающемуся в подачке…
Я вернулась домой. По радио передавали «Облака» Дебюсси, что свидетельствовало о некоей гибкости наших новых вождей, не брезговавших импрессионистами. Как бы в подтверждение этой моей мысли какая-то певица запела арию из оперы Стравинского. Совсем хорошо. И тут мне позвонила Оксана, наш ответственный секретарь.
В газете ее терпеть не могли все мои приятели — и Шура Борисов, и Валя, и Мишка, и даже Ваня Зернов. Все знали, что Оксана блатная, ее пристроил к нам Р., видный политический деятель, демократ, любовницей которого она была вот уже несколько лет. В предвыборном бюллетене Р. содержалась информация о том, что он обожает свою жену и двоих детей и что он отличный семьянин. Это была заведомая ложь. Оксана крутила им как хотела, ее собственные дети учились в лучших колледжах столицы и отдыхали за границей. Оксана постоянно меняла шмотки и лечила невроз в закрытых пансионатах. Особенно ее не жаловал Шура: когда Р. назначили членом комиссии по борьбе с привилегиями, он сказал Оксане: «Пустили козла в огород…» Оксана это запомнила. Но со мной она держалась всегда довольно дружелюбно, может быть, потому, что сама была родом из небольшого городка в Подмосковье.
— Умоляю тебя, приезжай на работу, — сказала она мне. — Тут такое творится! Главный занял выжидательную позицию. Шура и некоторые сотрудники поехали на «Эхо Москвы», а кто остался, смотрят на меня волком, особенно старики, они думают, теперь их время пришло… А я с ума схожу. У Р. никто к телефону не подходит. Может, его уже повязали?..
«Послушайте песни Соловьева-Седого», — сказал диктор по радио. Голос диктора звучал нейтрально, возможно, его уже крепко держали за горло, возможно, связанного притащили в студию, приставили к виску пистолет, а к глотке микрофон… А в это время другие сотрудники тащили из запасников старые бобины, которые поторопились сдать в архив. «…Вернуть былое значение словам «патриот»…», «широкие массы населения поддерживают…», «необходима жестокая дисциплина…». Не одно поколение выросло под эти бравурные песни.
— Приезжай, — канючила Оксана. — Только осторожно, в Москве танки.
«…Брамс, Второй концерт для фортепиано с оркестром, соль-минор…» Все зависело от того, подхватит ли весь оркестр заданную тему…
Поговорив с Оксаной и немного утешив ее, я двинулась в центр.
В метро все осторожно косились на старую женщину с листовкой в руках. Ее бесстрашный взгляд обегал лица пассажиров; некоторые не выдерживали, подходили к ней, брали из ее рук листовку и читали. У выхода из метро стояла небольшая толпа и читала тот же листок, молча. Прочитав, уходили, тут подходили другие, вытягивали шею, ловили глазами слова, отпечатанные на ротапринте. «Читайте вслух!» — произнес какой-то парень. Толпа мгновенно рассеялась.
На Манежной площади шел митинг. Человек десять стояли под зонтами на парапете метро и, сменяя друг друга, зачитывали обращение российского правительства к народу. Площадь была оцеплена танками и бэтээрами. Перед танком, перегородившим выход на Красную площадь, взад-вперед прохаживался молодой лейтенант: ему пришлось принять на себя упреки и насмешки москвичей, он стучал себя по кобуре, показывая, что она пустая, он беспомощно огрызался в ответ на оскорбления, объяснял, что кортик и дубинка у него «на всякий случай»… С нашей стороны на него напирали, многие женщины плакали, старухи бросали ребятам, сидящим на танках, гостинцы, девушки — цветы… Наш лейтенант прохаживался вдоль цепочки своих солдат, сняв шлем. Шел дождь, но он не прятался, считая делом чести принимать на себя разгул стихии, настороженные взгляды мужчин, слезы женщин. Зато на другом танке сидел другой лейтенант; он насмешливо смотрел на толпу, поигрывая дубинкой, ощущая ее ладность и уместность в мужской руке — и свою собственную мужественную красоту.
«Вы голосовали за Янаева?» — в это время кричали в микрофон митингующие, и толпа нестройно отозвалась «Нет». «Вы голосовали за Павлова?» — «Нет!» «Вы голосовали за Ельцина?» — «Да!» Все это немного напоминало детскую игру. «Не позволяйте себя арестовать! — кричали в микрофон. — Ель-цин! Рос-сия!»
Улицу Горького забили танки и троллейбусы. Сверху на них стояли люди — солдаты, девушки, юноши, все молодые… Это было похоже на народное гулянье. В одном из домов напротив почтамта окно было открыто настежь: оттуда лилась музыка «Лебединого озера». Одетта в белом, Одилия — в черном, они представляли силы добра и зла, и в их-то намерениях нельзя было ошибиться…
На другой день мы с Игорем совершили телефонную прогулку по нашим товарищам, в основном однокурсникам… В их голосах слышалась растерянность. Кто говорил, что раз уж это произошло, то все надо принять и выступать против — бессмысленно; кто утверждал, что происшедшее — благо для нашей страны и что наконец-то настанет порядок; некоторые опасливо вешали трубку, сославшись на то, что ждут звонка от родственников и говорить сейчас не могут… Одни наши приятели торжествовали победу, другим было на все наплевать, третьи вообще не знали, что сказать, и ничего не говорили, боясь, что телефоны уже прослушивают.
«…Струнный квартет Чайковского…»
Весь этот день я просидела дома, пытаясь дозвониться до Люси и Володи, но там трубку не брали. Игорь с нашим соседом Сашей Филипповым поехали на митинг к Белому дому.
Оба вернулись взбудораженные и заявили, что их место там.
— Что будем делать? — обратился ко мне Саша. Он видел себя Пестелем, вдохновляющим декабристов на подвиг. Но в руках у него была бутылка коньяку.
В этот момент я слушала выступление Олега Попцова из Белого дома. Он передавал прощальный привет своим родным и друзьям, очевидно уверенный, что из Белого дома ему живым не уйти.
— Надо идти туда, — сказала я Игорю и Саше.
Тут в дверь позвонили: это был Слава Викторов, другой наш сосед, с которым Игорь иногда любил побеседовать о судьбах России. По выходным Слава работал на восстановлении храма Пресвятой Троицы в Воронцах, пытаясь привлечь к этому делу и Игоря. Вместе с ним трудились дети его класса — Слава был учителем, историком.
Слава холодно поприветствовал нас и выставил на стол бутылку водки.
— Выпьем за нашу победу…
Филиппов, который, вероятно, был лучше меня осведомлен о политических пристрастиях Славы, заносчиво возразил:
— Ваша победа — не наша победа.
— Она станет вашей, — уверенно сказал Слава. — Выпьем!
Игорь закрыл свой стакан ладонью.
— Я выпью, — сказал Филиппов, — но только не за то, за что будешь пить ты… Выпьешь с нами? — спросил он меня.
— Нам пора собираться, — напомнила я им.
— И мне пора собираться, — опрокинув свой стакан в рот, промолвил Саша. — До скорой встречи!
Мы уже стояли в дверях, когда прибежала Полина Сергеевна. Вид у нее был более чем встревоженный.
— Ох, какое счастье, что я вас перехватила, — с порога сказала она. — Не выходите сегодня из дому. У Льва Платоныча достоверные сведения, что сегодня будет штурм… Абсолютно достоверные. На улицах будут стрелять, так что вы сидите дома…
По лицу Саши я увидела, что ему эта новость не понравилась.
Игорь молча застегивал ботинки.
— Ты идешь? — спросила я Филиппова.
— Не знаю даже, — сказал он. — Какая там от нас будет польза?
— Никакой, — обрадованно поддержала его Полина Сергеевна, — тем более что у нас не может быть уверенности в том, что эти люди поступили неправильно. — Она кивнула на экран телевизора, по которому в эту минуту транслировали выступление Янаева. — Оставшись дома, мы больше узнаем. Лев Платоныч обещал звонить… Игорь, раздевайся!
К моему изумлению, я увидела, что Игорь застыл в нерешительности.
— Ло, — наконец сказал он, — а ты твердо намерена идти туда?
— Твердо, — сказала я. — Это моя работа. Я обещала Шуре Борисову… Он только что звонил.
Шура действительно звонил за несколько минут до прихода Игоря и Саши — он сказал, что журналистов пропускают к самому Белому дому и что он будет ждать меня возле восьмого подъезда.
— А если я попрошу тебя остаться? — вдруг промолвил Игорь.
— Ты что — боишься?
— А почему такой тон, Лариса? — взвилась свекровь. — Тут не та ситуация, чтобы можно было героизм демонстрировать… К тому же было сообщено о комендантском часе. Вы рискуете провести ночь не на площади, а в отделении милиции…
Игорь хлопнул себя по лбу:
— Точно! Комендантский час! Я и забыл!
— Так ты не идешь? — пристально глядя на него, спросила я.
— И тебе не советую.
— Это моя работа.
— Но это не Игорева работа, — снова сказала свекровь, становясь между мной и сыном.
Игорь уже разувался.
— Лар, останься, выпьем! — жалобным голосом проговорил Филиппов.
— За что будете пить? — спросила я его в дверях.
Пройдя сквозь тройное живое кольцо, я добралась до восьмого подъезда. Было темно. Время от времени небо освещали сигнальные ракеты, и люди тревожно озирались: «Сейчас начнется». Шура беседовал с каким-то «афганцем», который что-то возбужденно говорил ему в микрофон. Он сделал мне знак подождать.
Я огляделась.
Возле автобуса, стоящего в стороне от восьмого подъезда, толпились люди. Это был штаб стихийно организованной из добровольцев армии. На автобусе висело объявление, написанное аршинными буквами: «Женщины, кроме врачей и журналистов, не проходите!» В невысоком здании напротив Белого дома помещался медицинский центр. Возле него стоял парень с громкоговорителем в руках. По радио Белого дома сообщали, как следует вести себя в случае психотропной атаки. Лица ребят, стоящих в оцеплении, были совершенно спокойны и как-то сосредоточенно красивы… Я пожалела о том, что среди них нет моего мужа. Стояли кто под зонтом, кто под клеенкой, кто накрывшись брезентом, кто просто так. Дождь все шел и шел. В эту минуту Шура тронул меня за плечо:
— Знаешь, я двину на «Эхо Москвы» со своей информацией. А ты осмотрись, поговори с ребятами, с начальником штаба, его зовут Виктор… Возможно, это пригодится для нашей газеты…
— Говорят, наш главный занял выжидательную позицию?..
— Мы его уломаем, навалимся всем коллективом… Кстати, как там наша Оксана?..
И тут я вдруг увидела свою сестру, выходящую из восьмого подъезда. К ней тут же устремились люди. Люся принялась им что-то растолковывать. Тут ее рассеянный взгляд скользнул по мне. Удивленно приподняв брови, она поманила меня рукой. Еще несколько секунд я слушала ее речь о том, что в Белом доме все спокойно, депутаты соберутся завтра-послезавтра, и тогда все будет хорошо. Договорив, Люся повернулась ко мне.
— Значит, ты здесь, — снисходительно проговорила она. — Очень хорошо. А где твой муж?
— У него… заболело горло, — соврала я.
Люся недоверчиво покачала головой:
— Сейчас не время хворать. Но хорошо, хоть ты здесь. А я…
Люся не договорила, нас снова разделила толпа. Люся громким, отчетливым голосом повторила свою речь. Все спокойно. Москвичи отстоят демократию. Танками нас не запугаешь. Ельцин на рабочем месте, ситуация под контролем. Нет, про Михаила Сергеевича пока ничего не известно. Раздвинув толпу плечом, Люся подошла к ребятам из оцепления, что-то сказала одному из них, — и вдруг я увидела, как она сняла с шеи золотой крестик и всучила его этому парню. Тот было принялся отнекиваться, но Люся отвела его ладонь…
Не знаю почему, но этот жест смутил меня. Люсе казалось, она как будто благословила воина на битву. Но я почувствовала — это жест, красивый жест… Крестик подарил ей папа на день рождения… До этого момента я была уверена в высокой жертвенности тех, кто пришел сюда, но Люсин крестик как будто что-то разрушил в моем сознании. Я знала, что моя сестра любит позировать перед объективом или человеческими взглядами, устремленными на нее. И уж не было ли с моей стороны позой прийти сюда? Тут я услышала над ухом голос Володи, Люсиного мужа:
— Ты-то зачем сюда явилась?
— А ты? — спросила я Володю.
— Исключительно ради твоей сестры, не мог же я бросить ее одну… А вообще не следовало сюда приходить.
— Почему ты так думаешь?
Володя скривился, точно все происходящее на его глазах ему ужасно не нравилось.
— Как тебе сказать… Не люблю, когда собирается патетически настроенная толпа, не важно, по какому поводу… Им всем сейчас кажется, что они совершают акт гражданского мужества…
— Разве не так?
— Мужество состоит в том, чтобы не раз в жизни, а каждый день честно исполнять свой гражданский долг — на службе и дома. А собраться поглазеть на зрелище, да еще в убеждении, что совершаешь подвиг, дело малопочтенное.
— Зачем же ты здесь?
— Я сказал: Люську побоялся отпустить одну, она вся дышит жаждой самопожертвования, тем более что столько людей смотрит на нее… У твоей сестры глаза горят от сознания собственного благородства. А чего, спрашивается, им гореть? Никакого штурма не будет.
— Откуда тебе это известно? — уцепилась я за него.
— Янаеву не так надо было взяться за это дело, — как будто с сожалением продолжал Володя. — Надо было действовать продуманно и аккуратно, принимая во внимание свободу слова, которая всех настроила на возвышенный лад. А теперь, когда собралась такая толпа… Иностранцы тут шастают на каждом шагу… Костры горят… Рокеры с листовками столицу объезжают… И Буш телился-телился да и высказался в пользу Горбачева… Нет, ничего не будет, ты можешь спокойно ехать домой к своему умному мужу, которого, как я вижу, здесь нет. Молодец мужик, что не клюнул на эту удочку…
— Володя, — растерянно пробормотала я. — Ты, кажется, совсем не разделяешь взглядов своей жены?
Володя ухмыльнулся:
— Да нет у нее никаких взглядов! Хоть она об этом и не подозревает… Люська держит нос по ветру, как ее покровитель Станкевич. Она дико честолюбива. Сначала я было решил, что ей грозит опасность, но теперь вижу, что это от таких, как она, надо защищать наш народ… Посмотри, в каком она упоении от собственного героизма! Конечно, бегать в толпе молодняка и требовать медикаментов, которых и без того полно, гораздо красивее, чем дома окна помыть… Уверяю тебя, Лара, что, если бы все собравшиеся здесь люди, вместо того чтобы друг у друга на глазах торчать сутки напролет под дождем, сделали бы в своем доме какой-то небольшой ремонт, они этим принесли бы нашей родине куда больше пользы… Иди хоть ты домой, Лара, глаза бы мои на это все не глядели…
Разговор с Володей смутил меня еще больше, чем та история с Люсиным крестиком. Я и сама не переношу пафоса, по какому бы случаю он ни был выражен… Тут к нам подошла Люся, хотела что-то сказать, но в эту минуту страшно взревели моторы.
— Ой, что это?
Люся побледнела, вцепилась в Володину руку.
Володя посмотрел на меня и ответил:
— Это ребята греются вокруг бэтээров, врубают моторы для тепла, — объяснил он.
Люся тут же выпустила его руку, обиженно подобралась.
Мимо нас проехала тележка, груженная восемнадцатирублевым пивом. Никто из ребят, стоящих в оцеплении, не проявил к ней интереса. Они не хотели в такую ночь употреблять алкоголь. Они пили кофе из термоса. Человек, предлагавший в дар пиво, развернулся — я узнала Толяна Карасева.
С минуту мы с ним изумленно смотрели друг на друга. Наконец произнесли хором:
— А, это ты? — и рассмеялись.
Толя бросил тележку и поволок меня к ближайшему костерку.
— Ну, бог нас сводит, мать!.. В этом есть что-то специальное! Ребята, и нам плесните кофейку…
Мы пили кофе из полиэтиленовых стаканчиков. Толян накинул на меня свой брезент, хотя было поздно — я уже вымокла до нитки.
— Где твой супружник? — осведомился он.
— Дома, — нехотя ответила я.
— Понятно, — отозвался Толя.
— Что тебе понятно? — немного рассердилась я.
— Ну… понятно, ты как журналистказдесь, а он с дитем сидит… Кстати, кто родился — парень, девка?
— У меня был выкидыш, — проговорила я.
Толя смял стаканчик с недопитым кофе, бросил его под ноги, взял мои руки и то ли стал их отогревать, то ли целовать.
— Прости, — сказал он через паузу. — Я не знал… Так ты здесь одна?
— Нет, с сестрой и ее мужем.
— Значит, одна, — подытожил Толян. — А что, Люська такая же бойкая? Ей по-прежнему палец в рот не клади?.. Твоя сестрица, помнится, умела людьми вертеть… Вот что, пошли ко мне. Я тут поблизости хату снимаю, ты немного согреешься. Насчет материала не беспокойся. Пока до моего дома дойдем — ты такое увидишь!..
Мы выбрались из толпы и двинулись по направлению к Садовому кольцу. Повсюду на крышах там и здесь замерших троллейбусов стояло множество народу. Навстречу нам промчался человек с безумным лицом, крича: «Уходите, там давят танками, стреляют…» Я невольно припала к Толиному плечу. Он успокаивающе хлопнул меня по спине и вдруг вытащил из кармана куртки пистолет.
— Откуда это у тебя? — испуганно спросила я.
— Это моя третья рука, — спокойно объяснил Толян. И, помолчав, добавил: — Если что — отобьемся…
По пути нам то и дело попадались азартно настроенные иностранцы, которые спрашивали у нас, как там, указывая рукой в сторону Белого дома. «Нормалек», — отвечал Толя, и они, к моему удивлению, понимали это слово, радовались, трясли нам руки. Возле очередного костерка молодежь пела песенку из «Бумбараша». Мы вошли в старый, постройки тридцатых годов, дом, поднялись на лифте на пятый этаж, и Толя открыл дверь.
В комнате ничего, кроме тахты и магнитофона, стоящего на полу, не было. На большом гвозде висели плечики с одеждой. Толя кинул мне рубашку и джинсы.
— Переоденься, пока я кофе сварю…
Переодевшись, я сказала, что надо вернуться на площадь. Под окнами Толиного жилища с грохотом сновали танки. Я, как Иван Сусанин, мечтала о рассвете. При свете дня штурма не будет. Но за окнами была тьма.
— Согрейся немного и пойдем, — согласился Толя. — Если ты так волнуешься… — Он протянул мне спичечный коробок, на котором был записан телефон Белого дома. Номер этого телефона каждые полчаса повторяли по громкоговорителю.
У меня действительно стучали зубы то ли от холода, то ли от волнения… Я набрала номер, и спокойный мужской голос ответил, что в Белом доме все в порядке, только вырубили свет.
— Врубят, — выслушав мое сообщение, сказал Толя. — Скоро начнет светать. Ну-, допивай свой кофе — и двинули… Ты не чувствуешь, мать, что эти ночные часы нас как-то сблизили?..
Когда мы вышли из дому, небо посерело.
Толпы народа с площади устремились в метро. По улице двигалась поливочная машина. «Кровь смывает», — мрачно прокомментировал встречный парень. «Какую кровь?» — «Там, говорят, человек пятнадцать погибло…» — махнул он рукой в сторону метро. Шел дождь, но рассвет с каждым мигом все больше набирал силу, и когда мы подошли к Белому дому, я поверила, что никакого штурма не будет.
После защиты Игоря прошло уже довольно много времени, а в нашей жизни ничего в лучшую сторону не изменилось. Несмотря на хлопоты Льва Платоновича, места на кафедре Игорю не нашлось, он все еще проходил там стажировку, посещая университет как бог на душу положит… Люся несколько раз предлагала Игорю поработать менеджером в ее туристическом агентстве «Геллеспонт», но это дело казалось ему не столько бесперспективным, сколько мошенническим. Он утверждал, что цель Люсиных сотрудников — задурить голову нашим гражданам, вдруг получившим возможность повидать мир… Что такие агентства держатся на сплошном обмане; из желающих посетить Анталию или Акапулько они вытягивают деньги, обещая им первоклассные гостиницы, великолепные экскурсии и высокий сервис, тогда как на деле все оказывалось иначе: и гостиницы затрапезные, и питание за свой счет… Я пыталась поговорить на эту тему с Люсей. Но она ответила, что Игорь хорошо освоил только одну профессию — вечного студента, и потому ярится на тех, кто, как она, умеет зарабатывать деньги. Она, Люся, приносит ощутимую пользу обществу. Чем больше в стране богатых людей, тем обществу лучше. Когда ее агентство как следует встанет на ноги, она непременно заведет отдельную статью расхода на благотворительность. Я не могла понять, «стоит ее агентство на ногах» или нет, во всяком случае, Люся арендовала для него офис в центре, на Полянке, и каждый месяц выкладывала за аренду помещения круглую сумму. Правда, текучесть кадров у нее была невероятная, временами Люся горько жаловалась на это, платя сотрудникам мизерное жалованье, потому что все больше и больше становилось в Москве безработных, готовых ухватиться за любое место.
Люся, надо отдать ей должное, время от времени подбрасывала деньги родителям, часть которых папа порывался всучить мне, но я не брала, уверяя его, что нам с Игорем хватает. И правда, мы не бедствовали. Игоревы родители по-прежнему давали ему средства к существованию, а я, помимо зарплаты, еще имела гонорары, иногда даже выступала с рецензиями в «Литературке», куда перешел работать Ваня Зернов.
Из-за Вани мы то и дело схватывались с Игорем.
Я подсовывала ему Ванины литературные обзоры с совершенно определенной целью: пробудить в Игоре честолюбие и желание самому наконец взяться за перо. Но муж разносил их в пух и прах.
— Ему бы только красотой собственного слога блеснуть, — говорил он мне, — твоему Ивану совсем не важен повод, лишь бы высказаться… Он вытаскивает из произведений наших прозаиков те идеи, которые авторы и не думали в них вкладывать. Он пишет не о литературе, а о самом себе, таком умном, талантливом, ироничном…
— Тем не менее люди его читают, — не сдавалась я.
— Люди читают и надписи на заборе, — насмешничал Игорь. — Им лишь бы глаза занять… А твой Зернов способен любое литературное пойло выдать за первый сорт… А как же — имя себе зарабатывает!
— У него уже есть имя, — возражала я.
— Как и у большинства литературных прихлебателей, — хмыкал Игорь. — Этих, с позволения сказать, критиков…
Постепенно Игорь перешел на ночной образ жизни. Ему не приходилось рано вставать на работу, поэтому он мог позволить себе лечь спать в пятом часу утра. Я догадывалась, что такое расписание совершенно освобождает его от чувства ответственности за семью. Пока я крепко спала, намотавшись за день, он мог заниматься чем угодно: смотрел в наушниках телевизор, читал книги, слушал музыку, — а мне теперь предлагалась версия, что по ночам он работает. Версия, которую даже моя свекровь поддерживала уже с некоторой долей сомнения.
Однажды она меня спросила:
— Лара, над чем сейчас работает твой муж?
Я про себя отметила, что впервые она не сказала про Игоря «мой сын».
— Он со мной не делится, — отозвалась я.
— Но ты же видишь… какой-то результат его ночных бдений появляется на столе?
О да! Игорь бесконечно делал в общих тетрадях какие-то выписки, иногда на русском, иногда на английском языке, переводил какие-то древние саги, но на вопрос, для себя ли он это делает или выполняет заказ, не отвечал. Или разражался пространной речью о том, что предпочитает обитать среди рыцарей «Круглого стола», чем в нашей действительности, которая все больше вызывает в нем чувство неудовольствия. Его раздражала экономическая ситуация в стране, не устраивала политическая, пугала — культурная… Ему не нравились Гайдар и Явлинский, и он любил пройтись насчет ночи двадцатого августа, которую я провела на баррикадах. Казалось, упрекая меня за баррикады, намекая на свою особенную прозорливость, позволившую ему тогда еще понять все последствия одержанной демократами победы, он, в сущности, в который раз пытался оправдать себя за то, что не пошел тогда со мной.
С ним я не спорила.
Я видела, что жизнь не становится лучше, как все на то надеялись, что человек делается все слабее и слабее, часто не может найти себе места, добыть деньги, прокормить семью, не чувствует уверенности в завтрашнем дне. В Москве это не особенно было заметно, но стоило мне выехать в командировку на периферию — все ощутимо менялось. Москва, как огромная воронка, втягивала в себя человеческие силы и средства… И все же кое-какие провинциальные городки жили на удивление автономно ото всех этих экономических встрясок, в них цены были ниже, а жизнь — стабильней, что, скорее всего, зависело от инициативы и личной честности городских властей. Это вселяло надежду.
Как-то, втаскивая в прихожую две неподъемные сумки с продуктами, я услышала оживленные голоса, доносившиеся из комнаты. Сначала я решила, что нас навестил Саша Филиппов. Игорь его терпеть не мог, но ему иногда хотелось поговорить, поэтому он и впускал Сашу. Саше тоже хотелось поговорить и на ту же самую тему, что и Игорю, — о том, как в нашей стране все плохо и что надо уносить ноги за кордон. На самом деле лично Саше не было плохо — он держал небольшой спортивный зал, от которого ему шел стабильный доход. И это обстоятельство особенно раздражало Игоря, которому казалось, что вот ему — на самом деле плохо… Поэтому Сашу он пускал редко, отговариваясь от его посещений занятостью.
Это был не Саша… Едва мой взгляд остановился на этом прелестном, с синими глазами лице, я почувствовала, что меня каким-то сильным течением потащило в прошлое… В кресле сидела, дымя ментоловой сигаретой, Марина Полетаева — напротив нее дымил сигаретой Игорь, вообще-то не курящий.
Марину мы с ним нет-нет да и вспоминали. Как же, любимая подруга детства, без пяти минут Игорева невеста! Марина после окончания театрального училища снялась в нашумевшей ленте одного модного кинорежиссера в роли путаны, выручающей из подстроенной ее же приятелями ловушки молодого порядочного бизнесмена. Такая красивая история. В то время наша публика охотно клевала на фильмы о женщинах древнейшей профессии, тогда это еще была экзотика. В фильме было много эротических сцен, бьющих обывателя по нервам: Марина снималась в них в чем мать родила. Игорь даже несколько раз показывал мне ее снимки в газетах — Марина охотно давала интервью, рассказывая о своих маститых мужьях: один был известным композитором-песенником, другой — не менее известным политическим деятелем. На этих снимках Марина красовалась то в изящнейшем нижнем белье, то окутав голое тело мехом. И мы с Игорем иногда спорили: разве может нормальная женщина сниматься в таком виде? Игорь не находил ничего безнравственного в том, что женщина не боится показать всему миру свое прекрасное тело, и говорил, что раз я нахожу в этом криминал, значит, я ханжа и пуританка… В прежние времена он не придавал своему знакомству и дружбе с Мариной большого значения, зато теперь ему явно нравилось вспоминать о детстве, проведенном вместе с этой великолепной кинозвездой. Ему хотелось причастности к ее славе, вот почему он когда-то откликнулся на предложение Марины и пошел на первый просмотр этой ленты. Я сопровождать Игоря отказалась, но потом все-таки посмотрела фильм по телевизору.
— Здравствуйте, — растерянно молвила я, входя в комнату.
— Здравствуй. — Марина сразу заговорила на «ты», обозначив степень своей раскрепощенности. Мы-то с ней, в сущности, не были знакомы. — Ой, куда же ты столько таскаешь, подружка? Игорь, ты почему позволяешь жене надрываться?..
— Да не знаю, в доме вроде всего хватает, — проговорил Игорь. — Просто Лариса любит, чтобы был запас…
Журнальный столик был накрыт, на нем стояли тарелки с бужениной, шампиньонами, крабовым салатом. Игорь, видимо, расстарался. Они пили шампанское.
— Присаживайся к нам, отдохни от трудов праведных, — пригласила меня гостья. — Ты не в претензии, что я, не предупредив тебя, навестила друга детства?
— Нет, не в претензии, — ошеломленная ее напором, ответила я.
— И правильно. Ко мне ревновать не надо. Меня нет в вашей реальности. — Марина сделала плавный жест кистью руки. — Меня нет, не существует… Я сама в действительной жизни чувствую себя курицей, слетевшей с насеста…
— Твой насест хорошо оплачивают? — с набитым ртом полюбопытствовал Игорь.
— Какое там! Какие сейчас деньги у киношников? Меня мужья кормят. Им нравится быть женатыми на мне.
— Ты вроде сейчас в разводе…
— Не дают мне засидеться в холостячках, — с уморительной миной пожаловалась Марина. — Я недавно вышла замуж за Усольцева, знаешь Усольцева?
Мы знали. Усольцев был крупным банкиром, в его банке, как утверждала реклама, давали самые высокие проценты.
— А чем ты сейчас занята, Марина? — вежливо спросила я.
— Сейчас, Ларочка, я пребываю в творческом застое. Ну, немного пою… Клип мой видели?
И клип мы видели. В нем Марина, полуодетая, исполняла песню своего первого мужа.
— Отличный клип, — похвалил Игорь.
Я удивленно посмотрела на него. Всего неделю тому назад Игорь ярился по поводу этого клипа, называя его верхом безвкусицы. Он считал, что клипмейкера следует повесть за ноги.
— Ну вот, сейчас запускаем в прокат новый…
— А как же кино?
— Прохожу пробы, — нахмурившись, ответила Марина. — Совместный русско-французский проект. Сценарий крутой, об эмигрантах. Не знаю, получу роль или нет. Русские хотят меня, а французы Одилию Дюваль, не знаю, кто из нас победит…
— Победят деньги Усольцева, — заключила я.
Когда Марина ушла, мне очень досталось от Игоря за эту фразу.
— При чем тут деньги Усольцева?! — возмущался он. — Какое ты имеешь право оскорблять Марину? Она всего добилась своим собственным горбом… Кино — это особый мир, где мужья, какой бы пост они ни занимали, не помощники…
Я отмалчивалась, хотя прозвучавшее в голосе мужа раздражение глубоко задело меня. Мне почудилось, что он защищает не столько подругу детства, сколько самого себя, всю жизнь зависящего от других: от родителей, от меня, от благорасположения к нему на кафедре. Возмущение буквально душило меня, но я не произнесла ни слова в ответ.
На другой день я имела глупость рассказать сестре о появлении Марины в нашем доме.
Люся слушала меня безо всякого интереса. Однако, когда я упомянула, что Марина замужем за Усольцевым, в ее глазах зажегся хищный огонек.
— Усольцев? Это который банкир?.. Ого! Ничего себе! Слушай, а когда эта девица снова к вам пожалует?..
— Надеюсь, никогда, — не понимая ее горячности, сердито ответила я.
— Ты не права, Лариса, — вдруг напористо возразила Люся. — Ты вечно делаешь не то, что нужно… Общаешься не с теми, с кем следует… Твой муж, оказывается, умнее тебя…
— Да как же, — ехидно заметила я. — Ты сама называешь его вечным студентом.
— Все равно умнее! Он знает, с кем надо поддерживать отношения. А ты глупо ревнуешь его к этой даме…
— Да не ревную я!
— Нет, ревнуешь! Иначе бы осознала выгоды, которые сулит такое знакомство! Жена Усольцева! Вам обоим надо держаться за нее! Особенно если ты хоть что-то хочешь сделать для меня…
Такого поворота я не ожидала.
— Господи! Ты-то тут при чем?
— При том, что мое агентство могло бы взять у Усольцева кредиты, — удивляясь моей непонятливости, объяснила Люся. — Под небольшой процент по знакомству… Мне деньги вот как нужны! — Люся энергично чиркнула ладонью по горлу. — Ты, пожалуйста, представь меня этой Марине при случае…
Прошло какое-то время, и я поняла, что теме Марины в ближайшие дни не суждено исчерпаться. Мне позвонила Ася и таинственным голосом сказала, что ей необходимо со мною поговорить о чем-то очень важном… В ее голосе сквозило что-то вроде знакомого мне еще с общежитских времен сочувствия, когда Ася пребывала в надежде, что оно вот-вот мне понадобится.
Мы встретились у нее дома.
По тому, как долго Ася тянет со своим важным разговором, я поняла, она намерена со мной поделиться чем-то, доставляющим ей массу удовольствия — несмотря на похоронное выражение ее лица.
Роль утешительницы всегда прельщала Анну, но я все никак не предоставляла ей возможности выступить в этой роли… Ася не спешила что-нибудь сообщить мне, очевидно ожидая, что я ее прерву нетерпеливым вопросом, а я уже чувствовала в себе нарастающее раздражение… Первые полчаса прошли в рассказах о том, как обожают ее, Асю, Артурчик и Агафончик, так обожают, что из-за них она не может пойти на работу — муж и пес постоянно хотят видеть хозяйку дома.
Наконец подруга не выдержала:
— Что же ты не спросишь, зачем я тебя позвала?
— Думаю, ты сама скажешь, — деланно зевнув, проговорила я.
Скорбно вздохнув, точно ей предстояло выполнить тяжкий долг, Ася приступила к рассказу. Оказывается, ей позвонила Ленка Мезенцева и сообщила, что уже несколько раз встречала Марину Полетаеву вместе с моим мужем на всяких фуршетах и прочих мероприятиях в Доме кино. Они выглядели такими оживленными, веселыми, чуть ли не счастливыми… Что-то между ними происходит, заключила Ленка… Проговорив это, Ася метнула испытующий взгляд в мою сторону. Я сидела как каменное изваяние… Выдержав короткую паузу, Ася снова заговорила. Лично она считает, что Игорь не способен мне изменить, но Марина такая хищница… К тому же первая любовь не забывается, а Марина способна закрутить с чужим мужем от скуки… Выложив все это, Анна умолкла, выжидательно глядя на меня.
Я сделала вид, что рассказ ее не слишком тронул меня.
С того момента, как Игорь отчитал меня за бестактность по отношению к Марине, прошло около месяца, и имя Марины в нашем доме больше не упоминалось. Я знала, что моя сестра несколько раз звонила Игорю по поводу Усольцева, но он ее отшил… Случалось, что Игорь возвращался домой поздно, но я никогда не спрашивала его, где он был, считая для себя такой допрос унижением. Стало быть, та встреча в нашем доме была не последней… Я почувствовала, что внутри меня вскипает бешенство. Я себе не позволяла даже самого невинного кокетства с мужчинами, зная, что оно может далеко завести, и была уверена, что и мой муж не станет меня обманывать… Между тем Ася напряженно ожидала моего ответа.
— Марина бывает у нас дома, — сказала я Анне и увидела, что в ее глазах промелькнуло разочарование, — а на эти мероприятия Игорь меня приглашал, но я отказывалась… Я не нахожу ничего предосудительного в его отношениях с Мариной…
— Смотри, как знаешь, — ни на грош не поверив в мою искренность, произнесла Ася. — Но я тебя предупредила…
После разговора с ней мне стало так тяжко, что я буквально не знала, куда себя девать, как унять сердцебиение.
Мне казалось, я приложила все усилия к тому, чтобы у нас с Игорем была нормальная семья. Но он потихоньку, незаметно, по ниточке истончал ткань нашей общей жизни, сплетая из этих нитей где-то на стороне свою свободу… То соломку тащит в ножках, то пушок в носу несет, стараясь свить себе гнездышко где-то на потаенной ветке, где его никто не увидит и ничего от него не потребует. Он с такой самоотверженностью защищал свое право на особый образ жизни, что если бы такие же усилия направил в сторону науки, например, — быть бы ему академиком. Да, он хотел быть свободным — от семейных пут, от чувства долга, от родителей, от меня, — при условии, что мы, я и его родственники, сделаем все, чтобы его свобода была комфортабельна и уютна, чтобы он купался в ней беспечно, как ребенок…
И тут меня осенило; я даже споткнулась на ровном месте, пробегая через переход в метро: он меня не любит! И никогда не любил! Он женился на мне то ли в пику своим родителям, которым таким образом хотел что-то доказать, то ли просто потому, что ему нужна была постоянная женщина… Так что же я делаю в нашем доме? На что надеюсь? Чего ожидаю? Для чего притворяюсь, что все хорошо, когда на самом деле все обстоит ужасно, хуже некуда, мы — совершенно чужие люди…
Я вернулась на Кольцевую линию, решив поехать к человеку, который будет по-настоящему рад меня видеть.
— Не рад, а счастлив, — поправил меня Толян и тут же стал судорожно одеваться, собираясь выйти на улицу. — Ты поскучай малость, а я сгоняю в супермаркет, а то у меня шариком покати…
…Вернувшись, Толя застал меня плачущей навзрыд. Я ничего не могла с собой поделать. Эти слезы так долго копились во мне, но я не давала им выхода, а тут как плотину прорвало. Я рыдала в голос, заходилась в слезах. Носовой платок можно было выжимать. Толя протянул мне свой, уселся напротив меня на какой-то колченогий, словно притащенный со свалки табурет и молча принялся выкладывать на тахту принесенные из магазина продукты… Молча откупорил бутылку коньяку, плеснул в стаканы:
— Выпей.
Давясь от рыданий, я послушалась.
Толя принес из кухни несколько тарелок, разложил на них курицу-гриль, ветчину, оливки, сыр, почистил перочинным ножиком ананас и нарезал его ломтиками.
Пока он все это проделывал с невозмутимым спокойствием, я ощутила, как тепло разлилось по моему телу. Слезы вдруг иссякли.
— Прости, что не кинулся тебя утешать, — протягивая мне кусок сыра, сказал Толян. — Знаешь… Я не гожусь на роль жилетки… и не люблю по-пустому тратить слова. Я приучил себя к конкретным разговорам, по-военному четким, как говорится… Так вот, если ты, рыжая, нуждаешься в дельном совете, я могу его дать… Выпьем!
Мы выпили.
— Итак, — продолжал Толя, — могу я тебе кое-что посоветовать на правах старого товарища или ты хочешь поплакать?.. Если у тебя еще не все слезы вытекли, я пойду курну на кухню…
— Кури здесь, — разрешила я. — Не буду больше плакать. Извини.
— Как насчет совета? — нахмурился он.
— Валяй.
— Подобное надо лечить подобным, — немедленно отозвался Толя. — Я уж давно смекнул, что ты выскочила замуж за хлюпика. От такого ждать нечего. А перед тобой сидит приличный молодой холостяк, отнюдь не хлюпик. Я тебе советую выйти за него замуж.
— Я замужем…
— Как ты замужем, я вижу, — вынув у меня из рук оба носовых платка и швырнув их в угол, сказал Толян. — Тебе же предлагают стать настоящей женой настоящего, черт возьми, мужика, который все имеет.
Я не выдержала, рассмеялась:
— Это ты-то имеешь? Ты, снимающий халупку, где и мебели приличной нет…
Толя высокомерно ухмыльнулся:
— Пусть тебя эти пустячки не смущают. Ты не успеешь подать на развод, как я куплю тебе трехкомнатную квартиру, сделаю в ней евроремонт и обставлю ее с иголочки… Это для самого себя мне ничего не нужно. А для тебя, для семьи я в лепешку расшибусь.
Совершенно успокоившись, я с интересом слушала его.
— У тебя будет все, чего бы только ты не пожелала. Тебе не придется гробиться на работе.
— Я люблю свою работу.
— Люби лучше меня, Лариска, честное слово.
— А ты что — любишь меня, что ли? — Не знаю почему, я не прекращала этот странный разговор. Уверенность этого человека в себе сильно подействовала на меня.
Толя опять нахмурился, посуровел.
— Не стану тебе заливать насчет безумной страсти с детских лет. Но я всегда хотел жениться на тебе, рыжая. Это была идея фикс. Ни у кого из моих друзей нет рыжей жены. Они предпочитают жениться на блондинках, а если попадется брюнетка, велят ей перекраситься… Да, я буду любить свою жену. Жена — это жена, как говаривал Чехов. А если жена подарит мне сына, я стану ее обожать.
— Как насчет дочери?
— Дочку тоже можно, но у нее обязательно должен быть брат. Сын, мой наследник. Это будет крепкая, хорошая семья… Мне недосуг искать себе невесту и тем более ухаживать за ней. Мы с тобой могли бы составить славную пару… Обещаешь пораскинуть мозгами над моим предложением?
Хмель уже давно бродил у меня в голове.
— Оно заманчиво, — сказала я, протягивая Толяну руку. — Да, я подумаю…
Когда я вернулась домой, Игорь встретил меня в прихожей. Он буквально приплясывал от нетерпения, помогая мне раздеться, и я ощутила некоторое торжество. Стало быть, его проняло мое долгое отсутствие! Он занервничал в ожидании жены, явившейся около полуночи. Предложение, сделанное мне Толей, предложение, на которое я не собиралась отвечать согласием, как будто подняло меня в собственных глазах. Предложение руки и сердца всегда льстит женщине, от кого бы оно ни исходило. И мне даже захотелось, чтобы Игорь поскорее приступил к выяснению отношений, стал допытываться, где это я шляюсь допоздна. Я собиралась тут же выложить ему про Толяна и про то, что он позвал меня замуж.
Но Игорь, как выяснилось, и не сообразил, что я вернулась домой слишком поздно и подшофе. У него возникла проблема, которой он жаждал со мной поделиться.
— Ты представляешь, час тому назад мне позвонили и пригрозили, что, если я не оставлю в покое жену Усольцева, они мне руки-ноги переломают, — возбужденным голосом сообщил он, как бы приглашая меня разделить его возмущение.
— Кто «они»? — машинально спросила я.
— Да черт их знает! Они же все мафиози, эти банкиры! И их окружают сплошные мафиози! Кто-то стукнул Усольцеву, что я встречаюсь с его женой, можешь себе представить!..
— Так. — Я прошла в ванную и, как заправский алкоголик, подставила голову под струю холодной воды.
Какое-то веселое возбуждение охватило меня. Отряхнувшись как пес, — Игорь даже отскочил в сторону, — я набросила на голову полотенце и, чувствуя, как вода стекает с волос на намокшую блузку, засмеялась. Вот мы и влипли в историю, от которой за версту разит криминалом… Теперь моему мужу переломают руки-ноги, а я буду вынуждена за ним ухаживать, как преданная жена. Действительно, преданная — от слова «предательство»…
— Что у тебя с ней было? — Голова моя перестала кружиться, и я сумела попасть своими плавающими зрачками в глаза Игоря.
Тут поплыли его зрачки. Игорь отвел глаза и угрюмо доложил:
— Да ничего особенного. Ну целовались пару раз…
Что-то кольнуло меня в сердце. Раз, другой… Стало трудно дышать. Ведь я, несмотря на предупреждение Аси, все-таки думала, что между Игорем и Мариной ничего такого нет…
— Пару раз?
— Ну раза три-четыре, я не считал — какое это имеет значение? Я не спал с ней!
Я окончательно протрезвела.
— А где бы ты спал с ней? — спокойно сказала я. — Сюда может в любую минуту войти свекровь или Варвара, а к себе Марина тебя вряд ли пригласит… Разве что на квартирах у ее подруг, — продолжала размышлять я вслух, — но для этого ты слишком чистоплотен… Да-да, ты ужасно чистоплотен, — все больше заводилась я. — Ты привык к чистым простыням и к собственным домашним тапочкам. Ты каждый день моешь с мылом свою зубную щетку. Костюм вешаешь на плечики… А в домах подруг может не оказаться лишней вешалки… И нет уверенности, что, обувшись в чужие тапочки, ты не подцепишь грибок… Ты очень, очень чистоплотен…
— Да это были дружеские поцелуи! — взревел Игорь, обращаясь как будто не ко мне, а к телефону, по которому ему позвонили насчет Марины. — Есть о чем говорить! А ты… Теперь не об этом надо думать! Думать надо о том, как мне из этого всего вылезти! Может, стоит поехать на недельку к твоим родителям?..
— А как же Марина? Как же первая любовь и детская дружба?
— Кой черт Марина! — злобно отмахнулся Игорь. — Да я к ней теперь и на пушечный выстрел не подойду. Эти ребята шутить не любят…
Тут я ощутила, как на меня навалилась несказанная усталость.
Можно прожить с мужчиной, который не слишком тебя устраивает, зная наперечет все его недостатки — лень, болтливость, лицемерие, но если вдруг выяснится, что этот мужчина плюс ко всему и трусоват — такое открытие способно раздавить остатки чувства… Уж как я старалась думать, что двадцатого августа Игорь отпустил меня одну на баррикады по какой-то иной причине, например решив не связываться со своей матерью, которая бы устроила истерику… А теперь с лица моего мужа, казалось, слетела последняя маска, а с моего носа — разбитые розовые очки, через которые я честно пыталась смотреть на мир.
— Вот что, дорогой мой, — сказала я Игорю устало. — Нам пора подумать о разводе…
Вспоминая потом эти дни, я осознала, что основательной причины для развода, в сущности, не было. Просто все так совпало.
Во-первых, на меня наплыла волна умопомрачительной усталости от нашей совместной жизни, совершенно зашедшей в тупик. Накопилось раздражение из-за того, что Игорь как будто совсем не помышлял работать, и при этом, будучи свободным от служебных обязанностей, он никак не пытался облегчить мою жизнь. Я перестала верить в то, что он когда-нибудь, как Илья Муромец, встанет с печи, найдет какое-то реальное дело, проявит, наконец, себя как ученый или педагог. Теперь и мне казалось, что я вышла замуж за вечного, до седых волос, студента.
Во-вторых, меня замучили неприятности на работе. Оксана, наш ответственный секретарь, после того как в дни путча позволила себе проявить слабость при мне, буквально возненавидела меня, черкала мои очерки как хотела, иногда зарубала статьи, над которыми я трудилась несколько дней. Апеллировать к главному редактору или коллективу было бессмысленно. Да и сама газета как-то выдохлась, все больше превращалась в бульварный листок с кричащими заголовками и сомнительными сенсациями.
В-третьих, Толян подкупил меня тем, что в тот вечер не воспользовался моим состоянием, хотя я была готова лечь с ним, чтобы хоть таким образом на время избавить себя от мыслей о своей неудачной семейной жизни.
В-четвертых, близкие люди, казалось, ожидали от меня какого-то решительного шага — и Люся, и Володя, который, правда, тщательно скрывал свое презрение к Игорю, но я все же его чувствовала, и даже папа, молча страдавший из-за моей непонятной семейной жизни.
В-пятых, и это самое главное, Игорь повел себя не так, как бы ему следовало обойтись с женой, первой заговорившей о разводе.
Когда я произнесла ту знаменательную фразу, у меня еще оставалась надежда, что он всерьез испугается, предпримет решительные шаги, чтобы найти работу, или по крайней мере твердо пообещает мне это, но не тут-то было!
Игорь разразился упреками. Он не просто обвинял меня в том, что я не сумела его понять и не проявила терпения, женской мудрости и прочее. Он наговорил таких вещей, которые уже не могли выветриться из моей памяти.
После того как я предложила ему развестись, он вдруг, сузив глаза, яростно прошипел:
— Ага. Дождался. Правильно говорила мать…
— Что же она тебе говорила?
— Что тебе нужен не я, а Москва. Ты Богу должна была молиться за меня — я дал тебе Москву, — вдруг выложил он. — Вспомни, кем ты была? Обыкновенной провинциальной девицей из Малаховки… Если бы не я, ты бы всю жизнь прожила в своей Малаховке!
— Спасибо, что поднял меня до себя… — ядовито заметила я.
— Нет, этого мне так и не удалось сделать, — высокомерно возразил он. — Ты сделалась москвичкой, но внутри тебя ничего не стронулось с мертвой точки! То же вульгарное отношение к жизни… и к браку! Тебе наплевать на чувства человека, с которым ты живешь… Ты не дала себе труда вникнуть как следует в его внутренний мир. Вот поэтому я и старался работать ночью, чтобы не слишком обременять тебя своими занятиями…
Ах вот даже как! Оказывается, в том, что он по ночам бьет баклуши, изображая деятельность переводчика или исследователя древних саг, тоже моя заслуга!
В ответ я вылила на Игоря целый поток оскорблений. Это мне-то нужна была Москва! Это мне-то наплевать на его чувства! Да я только и делала, что стремилась дать ему возможность развернуть свои творческие силы! Всю тяжесть нашей жизни я приняла на свои женские плечи! Вот в чем моя главная ошибка. Он как был человеком с неразвитым мускулом самостоятельности, так и остался. Он жил за моей спиной, делая вид, что занимается какой-то важной проблемой, а на самом деле положил все усилия на то, чтобы мотыльком порхать по жизни, ни за что не отвечая, не стремясь ни к какому конкретному делу, не помышляя о семье, купаясь, как рыба в воде, в бесконечном, никем не контролируемом свободном времени… Он…
Плохое время выбрали мы для выяснения отношений, и не те с языка слетали слова… Нам бы поговорить осторожно, методом бормотания, на полутонах, — глядишь, и удалось бы понять друг друга, что-то изменить в наших отношениях. Но накопившееся взаимное недовольство не давало нам перевести разговор на более мирные рельсы. И тогда я, совершенно утратив над собой контроль, крикнула, что вся беда в его, Игоря, совершенной бездарности, что он бесплоден, как камень придорожный, и напрасно пытается скрыть это обстоятельство от самого себя и окружающих, что все его беды идут от сознания своего человеческого бессилия. Тут Игорь умолк, перестал мне возражать, и в комнате воцарилась тишина, которая была еще страшней наших криков.
В ней — это мы оба ощутили — зрел уже настоящий разрыв.
Игорь сидел набычившись, отвернувшись от меня, как бы сломленный моими последними словами, а я упала в кресло, ошеломленная непоправимостью происшедшего.
И невозможным теперь оказалось протянуть друг другу руку, помириться, сказать ободряющие слова.
С этого момента механизм разрыва был запушен и начал вовлекать в нашу личную ситуацию родственников и друзей, после чего сделать обратный ход было уже нельзя.
Первым на репетицию поминок по нашему браку явился Лев Платонович.
Обычно он старался держаться в стороне. У нас с ним всегда были довольно дружелюбные отношения. Я сразу догадалась, что обе Сергеевны избрали его представителем нейтральной державы, способным примирить враждующие стороны.
Мне было больно смотреть на него: старик выглядел подавленным — миссия, возложенная на него женой и свояченицей, вряд ли была ему по нраву, но все же он посчитал своим долгом переговорить со мной.
— Лара, что произошло? — для начала спросил он.
— В том-то и дело, Лев Платонович, что несколько лет подряд у нас ничего не происходит, — ответила ему я. — Игорь никогда не изменится. Он намерен всю жизнь плыть по течению.
— Да, я понимаю, тебе трудно с ним, — тут же согласился свекор, — напрасно я в свое время устранился от решения ваших проблем, доверившись своим бабам…
Так он величал жену и ее сестрицу.
— Нет, тут никто, кроме меня самой и Игоря, не виноват, — проговорила я. — Ему не следовало так себя вести, а я не должна была соглашаться с ним и во всем ему потакать… Это на моей ниве расцвел этот пустоцвет… Извините, Лев Платонович…
Свекор опечаленно наклонил голову:
— Ты действительно считаешь, что с ним уже ничего не сделаешь?
— Не знаю, — честно ответила я. — Может, Игорю встретится какая-то другая женщина, которая сумеет справиться с ним…
— Но он любит тебя…
Тут я рассмеялась. Мне-то было ясно, что ни о какой любви речи идти не может, и я понимала, что Лев Платонович тоже знает это.
— По-своему любит, — смущенно поправился он.
— По-своему и лиса любит зайку, — отозвалась я. — Но вряд ли серого может порадовать такая любовь… Лев Платонович, честное слово, мне самой тошно от всего этого, но больше я ничего не могу сделать. — Я стремилась поскорее закончить этот тягостный разговор.
— Ну что ж, тогда вам надо делить квартиру, — помолчав, сказал он.
— Не буду я ничего делить. Уеду домой, в Малаховку.
Я недооценила своего свекра. Наверное, Полину и Варвару больше всего волновал квартирный вопрос, это при мысли о дележе жилплощади их охватила паника, но Лев Платонович, услышав мои слова, протестующе поднял руку:
— Как можно?! Ты здесь прописана. У тебя в Москве работа. Нет уж, как хочешь, Лариса, а так нельзя. Это хорошая квартира, ее можно разменять на две хрущобы — не в лучших районах и, может, без телефона, но все же… Игорь хоть и мой сын, но он мужчина, он обязан позаботиться о том, чтобы у тебя было жилье…
Я поблагодарила его и повторила, что мне ничего не нужно.
Честное слово, в тот момент я и не вспомнила про Толяна и его предложение руки и сердца. Я не такая сумасбродка, чтобы очертя голову бросаться из одного брака в другой… Нет, ни на секунду не подумала о нем и о его обещании приобрести жилье. Мне тогда хотелось одного — уехать домой, укрыться в родительском доме, отдышаться, подумать о себе, о своей жизни, о новой работе. Но Толя, не успел уйти Лев Платонович, напомнил мне о себе. Он позвонил мне и сказал:
— Лара, ты подумала о моем предложении?
Чисто женское лукавство сработало во мне, когда я вдруг ответила ему:
— Да, подумала. Я согласна выйти за тебя замуж.
Мне было интересно, как он теперь станет выкручиваться… Я была предельно разочарована в представителях сильного пола и не сомневалась, что Толя, услышав о моем согласии выйти за него замуж, тут же начнет отнекиваться, заюлит, смутится.
Не сделав паузы, Толя ответил:
— Заметано, — и тут же повесил трубку.
Ухмыльнувшись, я тоже положила свою. Моя провокация удалась. Толя тут же решил исчезнуть с горизонта, едва понял, что ситуация может не ограничиться красивыми словами и жестами. Смекнув, что дело принимает серьезный оборот, он быстренько дал отбой.
Игорь продолжал отсиживаться у мамы или в университете, а эстафету мероприятий по спасению нашего брака перехватила моя сестра. Едва открыв ей дверь, я тут же поняла, что Люся, натасканная Полиной Сергеевной, явилась вразумлять меня. Очевидно, свекровь предупредила ее, чтобы на дележ квартиры я и не думала рассчитывать, потому что моя сестрица сразу заговорила об этом.
— Уж кто-кто, а я знаю цену твоему мужу, — сказала она. — Так что, по сути, я на твоей стороне. Но так не делают. Бах — и развод! Вместо того чтобы разводиться с более или менее интеллигентным, непьющим мужиком, надо было заставить его работать…
— Я не умею никого заставлять.
— Пора учиться, Лариса. Если уж тебе с ним так тошно, так оглядись как следует вокруг, присмотри себе другую кандидатуру — человека работящего, с квартирой. Пока ты законная жена, ты представляешь для мужчин интерес. А разведенная баба никому не нужна, с ней можно и так встречаться… Словом, выбрось развод из головы, пока не подыщешь себе приличного спутника жизни.
— А ты сама, Люся, никого, часом, не присматриваешь? — с интересом спросила ее я.
— Мне-то зачем? У меня Володька ангел и свекровь херувим… И вообще, речь идет не обо мне, а о тебе…
— Слушай, Люсьена, — перебила ее я, — а ты не вызвала, не дай бог, наших родителей, чтобы и они меня вразумляли?
— Понадобится — вызову, — пригрозила Люся. — Но я думаю, ты не настолько сумасшедшая… Конечно, Полину больше всего трясет от мысли, что у тебя все права на жилплощадь. Она мне пыталась внушить, что у тебя таких прав нет. Ну это черта лысого! Я уже проконсультировалась с юристом — если они не согласятся на добровольный размен, существует процедура принудительного. Но тогда вам достанутся две комнатки в коммуналке, а зачем тебе это нужно? Внемли мне, Лара, помирись с мужем, пока у тебя нет лучшего варианта, «плюнь да поцелуй ему ручку», как говаривал Савельич из «Капитанской дочки»… Моя речь произвела на тебя впечатление?
— Небывалое, — равнодушно сказала я.
Люся пронзила меня острым взглядом:
— Ой, смотри, сестрица, ведь в конечном итоге я всегда оказываюсь права… Так что делай, как я говорю…
…Радиус действия комитета по спасению нашего брака увеличивался, вписывая в окружность все большее количество людей, являвшихся ко мне с увещеваниями. Поочередно пришли Полина Сергеевна, затем Варвара Сергеевна, потом с озабоченным лицом забежал Саша Филиппов, вообще у нас никакого авторитета не имевший, но посчитавший своим долгом сказать мне, что жена обязана все терпеть от мужа… Зато Игорь был нем как рыба.
Он приходил переночевать, раскладывал на кухне раскладушку с физиономией человека, оскорбленного в своих лучших чувствах. И не единым звуком, ни единым жестом не давал мне понять, что ему известно условие сохранения нашего брака — его устройство на работу, которое гарантировали мне обе Сергеевны. Наверное, он ожидал от меня первого шага, надеялся, что я раскаюсь, струшу… Но я тоже научилась молчать. Через несколько дней после нашей ссоры я положила на кухонный стол записку с предложением завтра же подать на развод; Игорь черкнул на ней сверху как резолюцию: «Завтра праздник, Прощеное воскресенье. Послезавтра». Я подозревала, что он целыми днями где-то пропадает не из-за нашей ссоры, а из-за недавней угрозы по телефону…
А в Прощеное воскресенье, к моему огромному удивлению, явился Толя Карасев.
Я уже давно выбросила из головы наш разговор и совершенно не ожидала его увидеть.
Толя пришел рано утром, когда мой муж, независимо насвистывая, собирал свою раскладушку.
Не дожидаясь приглашения, Толя прошел на кухню, поприветствовал Игоря, помог ему справиться со спальной конструкцией — что-тотам постоянно заедало, — а потом обратился ко мне:
— Ну, вижу, все на мази, раз в ход пошла раскладушка. И у меня, рыжая, все на мази.
— Представьтесь, пожалуйста, — запихнув раскладушку на антресоли, церемонно произнес Игорь.
— Анатолий Карасев, мы как-то виделись в общежитии, — напомнил ему Толя. — Я друг вашей бывшей жены, друг детства…
— Мы еще не разведены, — сказала я Толе.
— Ну, это не за горами, — отмахнулся Толя и вложил мне в руку что-то завернутое в бумажку. — Держи, рыжая!
— Что это значит? — подал голос Игорь.
— Это значит, что я купил вашей бывшей жене квартиру, ключи от которой только что ей вручил.
Я развернула бумажку. Там действительно были ключи.
— Это — шутка? — побледнев, спросил Игорь.
— В той среде, где я вынужден вращаться, шутить не принято, — любезно возразил Толян. — Лара, адрес на бумажке.
Я взглянула на бумажку. На ней было написано: «Гончарова, 11, кв. 26».
Толя порылся в карманах и протянул мне еще одну связку ключей.
— Поезжай на Гончарова к двенадцати часам, — сказал он мне, — придут люди делать ремонт, впустишь их. А потом езжай ко мне на Краснопресненскую, поживи там, пока я буду в отъезде…
— Куда же вы уезжаете? — насмешливо осведомился Игорь, но я услышала в его голосе страшную растерянность.
— В командировку, — обращаясь ко мне, объяснил Толя. — Надо утрясти одно дело в Нижневартовске. Меня не будет несколько дней, думаю, к моему приезду ремонт будет закончен. Вот тебе деньги, — Толя положил на кухонный стол несколько купюр, — на такси и прочее. Вопросы есть?
— Да, у меня много вопросов, — встрял Игорь.
— Вопросов нет, — отрезал Толя и, наклонившись, чмокнул меня в щеку. — Пока!
Я уже хотела было запереть за Толяном дверь, но он вдруг передумал, вернулся к Игорю и сказал бесцветным голосом:
— Надеюсь, не надо напоминать о том, что ваша бывшая супруга теперь находится под моей защитой…
Сказав это, он окинул Игоря взглядом, в значении которого сомневаться не приходилось, и, круто развернувшись, ушел.
— Что это за шутки? — испуганно спросил Игорь после того, как за Толей захлопнулась дверь.
— В той среде, в которой вынужден вращаться Анатолий, шутить не принято, — холодно отозвалась я.
Есть женщины, которые обожают жалких мужчин. Их хлебом не корми, дай только утешать подобных типов, нытиков, недовольных своей судьбой и окружающими людьми. Например, Оксана. В пору наших доверительных отношений она любила мне рассказывать о своем могущественном любовнике, пристроившем ее в нашу газету, что на экране телевизора он здорово выглядит, а на самом деле — несчастное существо, втянутое в политические игры другими, еще более могущественными людьми, с которыми он повязан круговой порукой и от которых зависит. Он, дескать, и рад был бы исправить двусмысленность отношений с Оксаной, жениться на ней, любимой, но по законам круга, к которому этот тип уже принадлежал, нельзя было развестись с женой и бросить двоих детей — это нанесло бы непоправимый ущерб его карьере. И Оксанин любовник бесконечно жаловался ей на свою участь, на судьбу человека, обреченного всегда быть на виду, а она почему-то с состраданием ему внимала. Я же думала, что ему выгодно было выступать перед ней в роли жертвы, потому что хотелось, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.
Но я не принадлежу к этому типу женщин. Для меня несчастных, обиженных коварной судьбой мужчин не существует. И мне просто не приходила прежде в голову мысль, что Игорь может превратиться в одного из тех, кому нужна не столько жена, сколько сестра милосердия.
А сейчас я видела перед собой именно такого человека — жалкого, сломленного, растерянного. Возможно, если бы Игорь до появления Толяна заговорил со мной таким робким и покорным тоном и повел себя как побитая собака, я бы откликнулась, поверив в то, что он наконец осознал свою вину передо мной. Но сейчас я видела лишь одно: он смертельно напуган. Он пытается удержать меня, потому что наконец осознал — все зашло слишком далеко, но вместе с тем опасается мести со стороны Толяна. Теперь как бы повторилась ситуация с Мариной Полетаевой, из-за спины которой неожиданно для Игоря вынырнули друзья ее мужа.
Тихо, кротко Игорь спросил меня, известно ли мне, чем занимается мой друг детства и в какие он ездит командировки.
— Зачем тебе это? — спросила его я в свою очередь.
— Я должен знать, в чьи руки передаю свою жену.
— Я не вещь, чтобы меня передавали в чьи-то руки…
— Лариса, неужели ты не видишь, что это за человек? — не унимался Игорь. — У него на пальце здоровенный золотой перстень… А что это за жест с ключами от квартиры? Неужели тебе не страшно? Неужели ты ничего еще не слышала об этих людях, стриженных ежиком, с бычьими шеями, похожих друг на друга?.. А эти пустые глаза?.. Он наверняка принадлежит к этой новой генерации людей, занимающихся нечестным бизнесом… Да и когда вы с ним успели договориться? Вы встречались за моей спиной? Ты изменила мне?..
Голос Игоря, не теряя проникновенности, набирал силу и напитывался уверенностью, как будто он и в самом деле имел благородную цель — защитить меня от безумного поступка. Но я ему уже не верила. Я знала, что он мастер произносить монологи, по этой части ему нет равных. Он защищает сейчас не меня, а снова, в который раз, самого себя… Рука моя сжимала ключи; у меня и мысли не было о том, что я поеду сейчас смотреть свою квартиру, я просто помнила, что обещала Толяну впустить в нее мастеров, которые должны сделать ему ремонт. Не сказав Игорю ни слова, я оделась и спустилась на улицу ловить такси.
Дальнейшее произошло как бы помимо моей воли. Я даже не помню, какое впечатление произвела на меня эта квартира. Такси остановилось возле четырехэтажного дома старой постройки. Еще раз бросив взгляд на бумажку с адресом, я поднялась на третий этаж, открыла дверь, прошла в прихожую… Квартира оказалась совершенно пустой, гулкое эхо пронеслось по просторным ее комнатам, когда я вслух произнесла: «Господи, что за обои!» Обои во всех комнатах и впрямь были какого-то мрачного, коричневого цвета, отчего квартира казалась темной. На широких подоконниках стояли засыхающие без воды цветы. Первым делом я поискала банку или какой-то другой сосуд, из которого можно было бы их полить, но обнаружила на кухне только пластмассовый совок для мусора. Я вынуждена была подносить цветы под струю воды из крана, мысленно попросив у них прощения за то, что не имею возможности отстоять воду. Они сразу ожили, и это обрадовало меня, как встреча со старинными друзьями. Я включила свет во всех комнатах — голые лампочки свисали прямо из лепных розеток. В эту минуту в дверь позвонили. Звонок отозвался во мне каким-то болезненным, прерывистым звуком, и я открыла дверь. Небольшая группа людей почтительно поприветствовала меня, назвав «хозяйкой», и внесла в комнаты стремянки, коробки с паркетом, рулоны обоев, на которые я отказалась взглянуть. Я оставила бригадиру ключи, и он заверил меня, что через десять дней все будет готово. Пожав плечами, как будто меня это совершенно не касалось, я вышла на улицу.
На другой день мы с Игорем подали заявление о разводе. Игорь просил меня хорошенько обо всем подумать и все взвесить, призвав на помощь все свое чувство самосохранения, но мне казалось, что он произнес это не от души. Молча пошли мы по направлению к нашему дому. Голова у меня раскалывалась и гудела, перед глазами роились какие-то крохотные, полупрозрачные, светящиеся существа. Мы с Игорем шли нога в ногу, будто тащили за спинами по подсохшему мартовскому асфальту тяжело груженные санки, и их полозья издавали страшный скрежещущий звук. Перед самым домом мы, как по команде, остановились, будто не чувствовали в себе сил войти туда вместе и втащить эти тяжелые санки наверх. Тут я вспомнила о вторых ключах от квартиры Толяна на Красной Пресне и, бросив Игорю: «Пока!» — зашагала в сторону метро.
Я еле дотащилась до знакомого дома, не помню, как поднялась на лифте, отворила дверь и рухнула на тахту. Голова горела, в груди, в легких как будто началась слабая чесотка, горло надрывалось от кашля, и я с каким-то упоением погрузилась в болезнь — она спасла меня от тяжелых раздумий.
Взгляд мой упирался в плакат, повешенный Толяном на стене. Календарь нынешнего года с изображением какого-то водопада; иногда мне казалось, что могучая вода остужает мою голову. Временами я вдруг оказывалась посреди этого незнакомого пейзажа — среди скалистых гор, поросших мхом валунов, диковинных деревьев с красными листьями и странных птиц с радужным оперением, проносящихся перед моими глазами сквозь светящийся воздух… Странные происходили вещи! Как ни тянулась я пересохшим ртом к воде, она ускользала от меня; я стояла по горло в хрустальной прохладе, в ослепительной стремнине — и умирала от жажды. И так было до тех пор, пока рядом со мной не оказалось еще одно человеческое существо и не поднесло к моим губам целую реку… Потом я почувствовала, как оно приподнимает меня, выносит из стремнины на берег, почему-то застланный чистыми простынями, подкладывает под голову подушку, кладет на лоб что-то холодное, пахнувшее уксусом, подводит ко мне ангела в белом, тот прикладывает к моей груди холодную трубку, потом — другого ангела, колющего мне безымянный палеи… и я силюсь вспомнить, что означает эта краткая боль… А однажды, открыв глаза, я обнаружила, что меня уже нет возле водопада — он шумит отдельно, вдалеке, в проеме стены, и птицы уже не летают перед моими глазами, и я слышу голос, опускающийся ко мне с каких-то иных высот: «Лара, Ларочка…» — и не могу понять, кто этот человек, называющий меня по имени с такой тревогой и любовью. Наверное, кто-то очень близкий, раз он ходит за мной, как нянька, вытирает с моего лба пот, укрывает меня одеялом, сует к ногам грелку, может, это мой муж, мне знакомо это доброе, полное трогательной заботы лицо, и я протягиваю к этому человеку руки, обнимаю его изо всех сил, и мы вместе с ним снова уносимся в бешеную стремнину водопада…
— Доброе утро. — Толя, склонившись надо мною, пальцем провел по моим распухшим губам. — Доброе утро, рыженькая… Ну вот, — он осторожно коснулся губами моего лба, — температура спала… Эх, знал бы я раньше, что тебя надо лечить таким вот образом… Отнести тебя под душ?
Я чувствовала во всем теле какую-то поющую легкость и радость, точно легла спать тридцатилетней женщиной, а проснулась совсем юной девчонкой.
— Это ты? Это был ты?
— Бедняжка моя, тебе было ужасно плохо, воспаление легких. Хорошо, что я вовремя успел вернуться, ты могла умереть, представляешь? Но теперь все будет хорошо.
— Толя. — В памяти моей всплыла история с мастерами. — Ты был на своей квартире? Я ведь впустила туда людей, а потом…
— Нет, не был, я не мог бросить тебя. Ну да там все в полном о’кее. Можешь не сомневаться… Как тебе, кстати, понравилось твое новое жилище? Я звонил твоему супругу, который сказал, что вы уже подали на развод. Я его проникновенно поблагодарил. Так что ты теперь моя жена, ясно? Повтори, что я сказал!
— Я теперь твоя жена, Толя, — произнесла я.
Должна сознаться: выходя замуж за Толяна, я не верила в прочность наших брачных уз. Спрашивается, почему же тогда решилась на этот отчаянный шаг? Сколько я позже ни задавала себе этот вопрос, так и не могла толком ответить на него.
Все вокруг — мои родители, сестра, Анна — полагали, что я наконец возжаждала материального благополучия, надежной и хорошей крыши над головой, но я-то знала, что это не так.
Володя, Люсин муж, высказал предположение, что мне попросту надоело работать, каждый день ходить на службу и еще вечерами просиживать над своими статьями. Это было справедливо лишь отчасти: я действительно устала, но эту проблему можно было решить, подыскав себе другую работу. Думаю, просто надо мною в те дни властвовала воля более сильная, чем моя собственная, и я подчинилась ей…
На вопрос, который, конечно, мне задавали, — почему-то именно мне, Толю напрямую так никто и не отважился ни о чем таком спросить, — чем именно он зарабатывает свои деньги, я отвечала расплывчатой формулировкой, которую, в качестве образца, изложил мне сам Карась: Толян работает на совместной русско-швейцарской фирме, где по американским образцам из китайского материала вьетнамские мастера шьют русско-швейцарскую спортивную одежду. Вот такая абракадабра. Думаю, эту версию никто не принял на веру, хотя к вышеупомянутой фирме Толя действительно кое-какое отношение имел. Она называлась «Витель», расшифровывалась как «Вильгельм Телль» — какой-то рекламист за тысячу баксов придумал название, в котором должно было звучать что-то «швейцарское», и эмблемой фирмы служило яблоко, пронзенное стрелой.
Я не знала ни где находится офис этого «Вителя», ни какое в действительности отношение имеет к фирме мой будущий муж…
Толя как-то раз сказал мне непререкаемым тоном:
— Лара, у меня к тебе одна совершенно зверская просьба… Всего одна, но зверская: не задавай мне вопросов. У нас это не принято. Чем меньше ты, дорогая моя, будешь знать, тем меньше с тебя, дорогой моей, спросят…
— Кто спросит? — мгновенно испугавшись, пролепетала я, вдруг представив себя заложницей в руках каких-то наголо обритых, угрюмых типов.
— Никто ни о чем тебя не спросит, если ты и пытаться не станешь вникать в мои дела, — отрезал Толя, и правда, было в его голосе что-то такое, что слова застыли у меня на языке.
Толя хотел, чтобы после регистрации в ЗАГСе мы обвенчались в церкви, но этому я жестоко воспротивилась.
Не потому, что уже тогда думала о кратковременности наших отношений и не хотела связывать себя так серьезно, но потому, что знала — хоть Толян и носит на груди большой серебряный крест и в его машине есть иконка Святителя Николая, он не слишком верующий, не знает ни одной молитвы до конца, о молитвенном правиле и вообще ничего не слышал, Евангелие, тем более святоотеческую литературу не читал…
И устраивать комедию на таком пустом месте я не желала, хотя Толя чуть ли не на коленях ползал передо мною, уверяя, что все время какую-то сумму жертвует на храмы и по большим праздникам посещает богослужения, что все его друзья в обязательном порядке венчаются в церкви. Но я была непреклонна.
Когда-то мы с Игорем поговаривали о том, чтобы обвенчаться, и это было для меня естественно — во-первых, Игоря интересовали духовные вопросы, во-вторых, я тогда была уверена, что с ним-то мы никогда не расстанемся…
Но раз уж с Игорем у нас дело не дошло до хождения вокруг аналоя, то с Толей, к которому у меня не было такой глубокой сердечной привязанности, об этом нечего было и помышлять.
Толяну удалось добиться от меня обещания, что, если три года мы с ним проживем без сучка без задоринки, тогда мы все-таки поженимся церковным браком. На этом и порешили.
За месяц до свадьбы мы перебрались с Красной Пресни на Гончарова.
Переезд, как и все в нашей последующей жизни с Карасем, оказался для меня полной неожиданностью. Просто в один прекрасный день Толя сказал:
— Мать, упаковывай вещички, через час мы должны быть на Гончарова.
Вот так, через час, не больше и не меньше. Спорить было бесполезно. Слава богу, при мне были лишь мои носильные вещи, которые я успела забрать из своей прежней квартиры, да собрание сочинений религиозного философа Ильина, недавно приобретенное на книжной ярмарке.
— Но там ведь голые стены… — только беспомощно возразила я.
— Будь спок, — ответствовал Толя, и я решила, что мне и в самом деле следует беспрекословно выполнять наше соглашение и не задавать лишних вопросов.
…Квартира на Гончарова преобразилась до неузнаваемости. Чистая, светлая, с фосфоресцирующими моющимися обоями, с огромными хрустальными люстрами, с цветами, стоящими в огромных количествах на подоконниках, — Толя, как выяснилось, все-таки время от времени наведывался сюда по моей просьбе и не только добросовестно поливал цветы, но и приумножил растительное богатство, — с изумительной голубой кафельной ванной, таким же туалетом, новенькой электроплитой… Не успела я налюбоваться всей этой роскошью, как в дверь позвонили — незнакомо, по-птичьи зачирикал новенький звонок — и в дом внесли мебель…
Кто видел недавно появившуюся рекламу мебельного салона «Руслан», тот может легко представить меня в роли оторопевшей, разинувшей рот Людмилы, мимо которой работники салона в фирменной одежде проносят и проносят мебель… Думаю, я тоже застыла с открытым ртом, наблюдая, как в квартиру вплывают вещи, как разрозненные детали и части на моих глазах превращаются в роскошную итальянскую стенку. Гигантская софа, на которой могло поместиться многодетное семейство, обитая шелком с тисненым рисунком, изящные кресла, тумбочки с подсветкой, стол, стулья, еще две кровати, шифоньер, потрясающая бледно-салатовая кухонная стенка с нарисованными на дверцах елочками — и все это в мгновение ока собирается, свинчивается, устанавливается в нашем доме, — так что не успела я захлопнуть рот, как комнаты приняли жилой вид и мы уже развешивали вещи в очаровательной, сделанной под старину прихожей.
Я все-таки женщина — я бросилась Толе на шею с радостным смехом.
Потом, сообразив, что квартира у нас полностью укомплектована, но не на чем есть и не из чего пить, мы поехали покупать посуду, хозяйственные принадлежности, стиральную машину, кухонный комбайн, утюг, — Толя только успевал вытаскивать из портмоне деньги… Порошки, пасты, мыло, щетки, ведра, коврики, термометр и прочее, прочее… Единственное, чего еще не было в нашем новом жилище, — это книг (кроме Ильина), тогда как с Игорем мы начинали жить именно с собирания библиотеки…
Водитель такси помог нам втащить все покупки в дом, и Толя, оставив меня разбираться с ними, отправился на рынок за продуктами.
Я тут же позвонила Асе — правда, предварительно заручившись разрешением Толи — и пригласила ее на новоселье. Я уже усвоила кое-какие его манеры и сказала подруге, чтобы они с Артурчиком приехали немедленно на такси, за которое я заплачу. Ася, услышав мой счастливый голос, неохотно ответила, что Артурчик на работе и что, если мне срочно потребовались гости, она готова притащить Агафона, чему я, не зная наперед Толиной реакции, воспротивилась, — и Ася в конце концов приехала одна.
— Что это? — воскликнула она, отразившись во всех зеркалах нашей шикарной прихожей. — Бог мой! Неужели ты здесь будешь жить? Да это же Версаль какой-то!
И в самом деле, паркет сверкал, как во дворце, люстры блестели всеми своими гранями и подвесками… У меня пока не было лишних домашних тапочек, и я разрешила Асе не разуваться.
Ася робко побродила по комнатам, ахая и охая, озираясь, как в лесу, а на кухне, ослепленная кухонным комбайном, о котором сама мечтала, признала скрепя сердце, что, возможно, я все-таки сделала правильный выбор.
— Может, твой Толян не так плох, как кажется, — сказала она. — Нет, надо отдать ему должное, он позаботился о тебе по-настоящему… Но это все стоит таких безумных денег! Откуда он их берет? Что у него, печатный станок, что ли?..
Тут мы услышали говор в прихожей: это вернулся Толя. Он был не один. Его лучшего друга Антона я уже как-то видела мельком — он навещал нас на Красной Пресне. Помню, меня поразили тогда глаза Антона. В них не было той пустоты, о которой грозно предупреждал меня Игорь, — в них было нечто худшее… Это выражение глаз… В них была спокойная, глубокая обреченность. Сознание этой обреченности сквозило иногда и в лице Толи. Позже я приметила, что такое выражение глаз свойственно многим его друзьям.
Вместе с Антоном приехала его жена Каролина, о красоте которой я уже была наслышана, но сейчас, при первом взгляде, она буквально сразила меня — высокая, с глазами цвета крыжовника, большим бледным ртом, матовой кожей, русоволосая… Я даже не заметила, что вся эта троица вошла с головы до ног навьюченная продуктами, одеялами, стопками постельного белья, магнитофоном, цветами…
Каролина, не церемонясь, протянула мне руку:
— Будем, наконец, знакомы, очень приятно!
— Лариса, Ася, — представились мы с моей подругой.
Каролина прошла в гостиную с цветами в руках, огляделась в поисках вазы…
— А вот этого у нас еще нет, — смущенно сказала я.
— Ерунда, любой сосуд подойдет, хоть чайник, — проворковала Каролина. И вдруг радостно, не просто радостно, а в каком-то детском восторге вскрикнула: — Ой, что это!
Я проследила за ее взглядом: Каролина смотрела на стопку книг Ильина, лежавшую в кресле. Она присела перед книгами на корточки, провела пальцем по корешкам и повернула ко мне сияющее лицо:
— Неужели это твое? Ну конечно, не Толяна же! О, как я рада! Мне наконец нашлось с кем подружиться! Лариса, ты правда читаешь такие книги? Как замечательно! Что ты заканчивала?
Она засыпала меня вопросами, а я отвечала на них, не понимая ее восторга (потом-то я все поняла!).
— Антон, слышишь, Антон, — крикнула Каролина мужу, — Лариса, она такая же, как и я! А ты говорил, что я — нонсенс! Нонсенс среди ваших жен! А вот и нет! Вот и не нонсенс!..
— Девочки, мы голодны, — сдержанно произнес Антон, и с лица Каролины слетело выражение блаженного счастья.
— Сейчас, сейчас, — озабоченно сказала она. — Конечно. Ася, Ларочка, вы мне поможете?
На кухне она снова сказала мне:
— О, как я рада!
— Чему вы так радуетесь? — снисходительно удивилась Ася. — Подумаешь, Ильин… У нас на факультете все его читали еще в ксероксе…
— Ой, девочки, какие вы счастливые! Неужели у вас там все были такие… читающие…
— Все, — гордо отозвалась Ася.
— Далеко не все… И к тому же многим это было не в коня корм, — почему-то сердито произнесла я.
— Не меня ли ты имеешь в виду? — тут же уцепилась Анна.
— Не тебя. Мужа своего бывшего.
— Это ты зря. Игорь был образованнейшим человеком.
— Почему — был? — заинтересовалась Каролина.
— Он и сейчас образованнейший, — вздохнула я. — Но от «человека» это как-то отдельно…
Каролина погладила меня по руке:
— Как хорошо ты сказала, Ларушка. Мы с тобой подружимся, увидишь!..
Только в день своей свадьбы я со всей отчетливостью поняла, что в нашей будущей жизни с Толей мой голос особого значения иметь не будет.
Во-первых, он не разрешил мне пригласить на бракосочетание друзей с моей прежней работы, сказав, что список гостей уже утвержден.
Во-вторых, объявил, что свадьба будет не в ресторане, как я предполагала, а у нас дома в Малаховке и что его особняк — я-то помнила ветхий домишко! — подготовлен к приему гостей, а мои родители и сестра предупреждены.
В-третьих, я намеревалась выйти замуж в красивом, но скромном финском костюме, поскольку белый туалет и фата уже имели место в моей жизни, но Толя, не посоветовавшись со мной, купил мне в каком-то английском магазине роскошное атласное платье, белое как снег. Как ни отнекивалась я от фаты, уверяя, что она к лицу лишь молоденькой девушке, Толя был неумолим: невесты всех его приятелей брачевались при фате, хотя некоторые из них пытались прикрыть ею довольно большой животик…
Наконец, он настоял на том, чтобы меня к бракосочетанию одевала не сестра и не Ася, а жена его друга, например Каролина, поскольку у них так положено.
Толя еще почивал, когда явилась Каролина с букетом «для невесты» — орхидеями, кокетливо обернутыми в целлофан и перевязанными изящной розовой ленточкой, помогла мне облачиться в платье и стала причесывать. Она же посвятила меня в подробности предстоящей процедуры:
— Сперва мы поедем в ЗАГС, там вас будут снимать на видеопленку. Потом потащимся к памятнику Юрию Долгорукому возлагать веник. Почему мы все ездим к Долгорукому, понятия не имею, так заведено… Затем на Ленинских горах, знаешь, там, где балюстрада, раздавим бутылку шампанского. Снова сядем в машины и на бешеной скорости помчимся в Малаховку. Там тебя наши станут выкупать, набежит полным-полно народу, и Толя начнет всех оделять сотнягами… Тетя Алла, твоя свекровь, твои родители и сестра станут с блюдами в дверях дома…
— С какими блюдами? — испугалась я.
— С большими, — невозмутимо отозвалась Каролина. — В них Толины друзья будут класть деньги или драгоценности.
— Мои родные не будут стоять с блюдами, — отрезала я.
— Почему? — пожала плечами Каролина. — Это традиция, в ней нет ничего такого унизительного…
— Все равно не будут.
— Поглядим, — с непонятной интонацией сказала Каролина. — Потом, значит, войдем в хату…
— И начнется пьянка, — безрадостно подхватила я.
— Пьянки не будет, — покачала головой Каролина, — то есть для ваших, малаховских, там заготовлены ящики с водкой и шампанским, а наши не пьют… И кушать будут в основном овощное…
— Это почему же?
Каролина метнула на меня взгляд в зеркало, как бы удивляясь моей недогадливости.
— Наши ребята побывали в стольких разборках, — наклонившись к моему уху, прошептала она, — у них все внутри отбито…
— В каких разборках?
— А бог его знает, в каких, — равнодушно отозвалась Каролина.
— И Толя тоже? — испуганно спросила я.
— Толя тоже, — так же шепотом поделилась со мной Каролина, — он как-то у нас две недели отлеживался… Костоправа вызывали на дом и невропатолога тоже… Я за ним ухаживала. Так что пить нашим ребятам нельзя. То есть, конечно, иногда они выпивают, но очень редко…
Я посмотрела на себя в зеркало. Каролина уже уложила мне волосы, зачесав их наверх, теперь вкалывала в прическу искусственные цветы.
— Каролина, — шепотом сказала я ей. — А что за разборки?
— Зачем тебе это знать, — рассеянно бросила Каролина. — Что-то там с другими ребятами не поделили… Я этим не интересуюсь и тебе не советую…
…Мы вышли из подъезда, и меня сразу же оглушили гудки многочисленных машин. Оказывается, внизу нас уже ожидал целый кортеж автомобилей.
— Тебя приветствуют, — объяснил Толя, — помаши ребятам ручкой…
Я так и сделала. Мы с Толей сели в его джип, все машины с ревом сорвались с места — и мы помчались навстречу моему неизвестному будущему…
Когда мы подъехали к Толиному дому, мне первым делом бросились в глаза растерянные лица моих родителей, стоявших — правда, без блюд в руках — рядом с моей свекровью Аллой Петровной, которую я помнила еще с детских времен, скромной пожилой женщиной, всегда меня привечавшей и поившей чаем. На месте прежнего старого домишки под шиферной крышей стоял крепкий двухэтажный особняк. Тетя Алла обняла меня, назвав «доченькой», и по тому, как она это произнесла, я поняла, что она и правда будет относиться ко мне как к дочери. Пока Толя и его друзья одаривали деньгами толпу гостей, папа, наклонившись ко мне, сказал:
— Надеюсь, ты все хорошенько обдумала…
Мама неловко обняла меня, потом Толю. Кругом защелкали фотоаппараты.
— Мама, а где Люся?
— Они сейчас подойдут вместе с Асей.
Толпа гостей ввалилась в дом, и началось веселье…
Нам с Толей то и дело кричали «Горько!», и Толя, оторвавшись от разговора с Антоном, — судя по их лицам, они обсуждали что-то не имеющее отношения к свадьбе, — поднимался, спокойно целовал меня и возвращался к прерванной беседе.
За весь вечер он действительно выпил только один бокал шампанского. Моя мама было потребовала, чтобы он пил до дна, но один из Толиных друзей что-то тихо сказал ей, после чего мама растерянно умолкла.
Зато мне то и дело подливали, и я не помню, в какую минуту возле меня появилась Люся, пытавшаяся меня от чего-то предостеречь, но я уже не слушала ее. Потом вдруг рядом я увидела Асю. Я хотела с ней чокнуться, но Анна церемонно отвела свой бокал и объявила, что ей пить нельзя. Она произнесла это так громко, что ее расслышала тетя Алла и, перегнувшись через стол, поинтересовалась, не в положении ли Ася. Ася громко сказала, что да, в положении. И это почему-то услышали все, даже мой муж, который поднялся и предложил тост за Асю, обещая, что в скором времени я нагоню свою подругу, и тут все его друзья, как по команде, встали и пригубили вина. Каролина, вдруг снова оказавшаяся рядом со мной, объяснила мне, что все эти люди питают величайшее почтение к беременным женщинам своего круга, таким образом выяснилось, что втянутой в этот круг оказалась не только я, но уже и Анна.
Потом меня увели прятать. Сделали это малаховские гости. Они заперли меня в одной из комнат на втором этаже и стали по традиции требовать у моего мужа выкуп.
Но Толя, до этого щедро разбрасывавший купюры направо и налево, денег не дал. Он поднялся из-за стола и спросил у одного гостя, особенно громко настаивавшего на выкупе: «Где она?» Он спросил это таким тоном, что смех и шутки мгновенно смолкли, и тот, к кому был обращен вопрос, торопливо повел Толяна наверх. Мой муж, увидев, что дверь заперта, недолго думая вышиб ее ногой, молча взял меня за руку, вернул за стол и продолжил переговоры с Антоном. Я уже изрядно выпила, но сквозь застилавшую глаза пелену заметила, как вытянулись лица у моих родителей, наблюдавших эту сцену похищения меня из-за стола и водворения обратно. А Люся незаметно кивнула в сторону двери: мол, надо поговорить.
— Могу я выйти с Люсей в сад? — спросила я Толю.
Он, как бы удивляясь моему вопросу, ответил:
— Конечно.
Мы вышли в сад.
Когда мы только приехали сюда, был ясный день, а теперь над темными деревьями стояли высокие звезды. В саду разливались соловьи. Люся, прислонившись к яблоне, молча закурила. Я присела на скамейку рядом и запрокинула голову.
Колючие звезды, рассыпавшиеся по небу между ветвей деревьев, смотрели на нас, как во времена нашего детства. Нигде потом не увидишь таких звезд, как там, где ты родился… Здесь они как будто вписываются в знакомый до мелочей пейзаж, в родные запахи, в пение соловьев… Их свет точно возвращает тебе память о давно забытом — с такой силой, что на глазах выступают слезы. И соловьи, казалось, слетелись в сад со всей округи, каждая ветка была окутана щелканьем, пересвистом, перекличкой невидимых птах.
— Напрасно ты это сделала, — наконец заговорила Люся. — Да, я вижу, Толян, в отличие от Игоря, сумеет обеспечить тебя… Но какую цену затребует он за все это?..
В голосе Люси прозвучали какие-то незнакомые нотки растерянности.
— Все-таки он человек не нашего круга, — продолжала Люся.
— А что это такое — наш круг? — спросила ее я.
— Это круг все-таки интеллигентных людей… Людей со своим особым мировоззрением, своими ценностями и пристрастиями, и Толян к нему не принадлежит.
— Он и не желал бы принадлежать к этому непонятному кругу, — заступилась я за мужа. — Игорь, тот — да, был интеллигент, если иметь в виду количество прочитанных им книжек… Но что касается всего остального… Вспомни, с каким интеллигентным изяществом он превратил меня в ломовую лошадь, которая везет на себе все.
— Это ты сама из себя сделала лошадь, — сокрушенно молвила Люся.
Я не хотела спорить, о чем и сказала Люсе. Вокруг такая ночь, а мы разглагольствуем бог весть о чем…
— И «такую ночь» могут увидеть только люди нашего круга, — еще печальнее сказала Люся. — А этим, — она кивнула в сторону дома, — что день, что ночь… Словом, мне страшно за тебя. Когда ты была за Игорем, мне было стыдно за тебя, а теперь страшно. Что с тобой будет, Лариса?
Что со мной будет? Кто мог это знать? Игорь бы в ответ на такие слова философски произнес: «А что с нами со всеми будет?» — хотя «все» его абсолютно не интересовали… Что со мною будет? — спросила я сама себя, и соловьи, как бы отвечая мне, зашлись своей горестной песней…
Я просыпалась в шесть утра и выходила на просторную лоджию. Потягивалась, минут пятнадцать посвящала зарядке, потом долго смотрела вниз, на пустую узенькую улочку. Такую узкую, что на ней с трудом разъезжались две машины.
Эта маленькая деревушка недалеко от Римини очень напоминала Прибалтику, где я когда-то отдыхала с родителями и сестрой. Я пожелала остановиться в тихом месте, хотя Толя и возражал. Мне просто необходимы были тишина, покой и безлюдье.
Впрочем, деревушка оказалась итальянской, а не нашей, привычной, да еще и находилась на побережье. Дорогие отели, роскошные дачи, рестораны, магазины. Здесь не занимались крестьянским трудом, а принимали туристов и отдыхающих. Все было подчинено индустрии отдыха и развлечений.
Так что Карась, вначале испугавшийся слова «деревня», вскоре успокоился. По вечерам узкие улицы заполняли толпы праздной, фланирующей публики. Заманчиво сияли огни ресторанов и кафе, слышалась английская и немецкая речь. Впрочем, иногда и русская. Медленно катили четырехколесные велосипеды. Из парка доносились грохот аттракционов и музыка.
Толик просто упивался этой изысканной, чисто европейской атмосферой, так не похожей на дух наших российских курортов.
— Ты видишь, рыжая! — повторял он восторженно на каждом шагу. — Это тебе не наша совковая помойка!
— А мне Прибалтика больше нравится. И даже Крым. Спокойней и уютней, — говорила я только из одного желания противоречить Карасеву и от обиды за отечество.
Мне было скучно в этой праздной толпе. С первого дня я полюбила только море. Толик до утра мог сидеть на террасе ресторана и поглощать одну за другой порции спагетти и рисотто, запивая обильную еду своим любимым красным вином. Я съедала только фруктовый салат и пристально смотрела на жующего супруга. Он понимал этот ожидающий взгляд.
— Что? Снова купаться, в одиннадцать часов? С ума сошла!
Но я не могла отказать себе в этом удовольствии. Толик недовольно тащился со мной на берег. Если «деревня» кипела и сияла огнями, то на берегу царила черная южная ночь. Я входила в воду и долго лежала на спине, глядя на россыпи ярких звезд. По всем признакам я должна была быть очень счастливой, но почему-то не была.
На одном из лежаков курил Толик, в темноте мерцала его сигарета. Не хотелось к нему возвращаться. А ведь он ни в чем не виноват. Не виноват в том, что мне хотелось бы видеть рядом другого. И я старалась быть поласковей с мужем. Надо отдать Толяну должное — здесь, на отдыхе, он резко помягчел. Угловатость, жесткость, угрюмость, напугавшие меня на нашей свадьбе, сошли с него как загар — передо мною был заботливый муж, балагур и забавный увалень. Я подумала: может, Толя на людях заставляет себя быть другим, а такой, какой он есть на самом деле, всамделишный — он сейчас здесь, со мной… Но позже я поняла, что это было не так. В тот наш медовый месяц Толян как бы дал себе команду расслабиться, подобреть — потом я его уже таким не видела.
Через несколько дней Толик возненавидел экскурсии и культурные мероприятия и стал всячески от них увиливать. У него появились свои знакомые, у меня — свои. Две милые интеллигентные старушки из нашего отеля, уже вторую неделю путешествующие по Италии, пригласили меня на экскурсию в Равенну. Карась даже взвыл, услышав про Равенну:
— Как ты не понимаешь, что я смертельно устал! Устал, голуба. Мне нужно полежать на горячем песочке, прийти в себя, чтобы до будущего лета не отдать концы. Я живу в такой напряженке, чтобы у нас с тобой было масло к хлебу и норковая шубка у моего пупсика…
Карась пощекотал меня игриво и ущипнул пониже спины. Он очень боялся за свое здоровье с тех пор, как в одночасье помер от удара его приятель, здоровый сорокалетний мужик, за три года сколотивший изрядное состояние. Теперь я каждый день выслушивала сетования мужа на то, какая у них нервная, каторжная, неблагодарная работа. Как будто крутился он исключительно ради блага отечества, а не своего собственного. Но я, зная обязанности хорошей жены и подруги, поддакивала и сочувствовала.
— Хорошо-хорошо, дусик, полежи на песочке, покайфуй, — великодушно разрешила я. — Только не пей ничего, даже кьянти. К обеду мы уже вернемся.
Толик хотел побожиться, что, кроме чая и минералки… Но я запретила поминать это имя всуе. Рано утром, вдохновенная и счастливая, я ехала с новыми приятельницами в Равенну.
— «Ты как ребенок спишь, Равенна, у сонной вечности в руках!» — декламировала Софья Викторовна, в прошлом учительница.
Им с сестрой было примерно по семьдесят, но они не побоялись пуститься в путешествие. Всю жизнь о нем мечтали, и только сейчас судьба подарила им такую возможность. Судьба в лице преуспевающих детей и внуков.
По дороге они рассказали мне о том, что нам предстоит осмотреть, — самые замечательные в мире мозаики, могилу Данте, базилики VI века. А я мечтала увидеть просто маленький, уютный городок. Ровно девяносто лет назад путешествовал по Италии Блок с Любовью Дмитриевной. Больше всех городов ему понравилась именно Равенна.
Вернулись мы после трех. В пустом номере было прохладно и тихо, только ненавязчиво жужжал кондиционер да с улицы доносился мягкий, сладкий баритон. А я-то думала, что любящий муж уже ждет, волнуется, поругивает меня. Ведь обед и сон для него священны, как и для всякого русского мужчины.
Я приняла душ, надела купальник, пляжную тунику, шляпку и отправилась на поиски супруга. В это время дня я не любила бывать на берегу. Людское месиво. Свободно пройти можно только по самой кромке воды. Все остальное пространство аккуратно заставлено лежаками и зонтиками. Здесь сидят и лежат, курят, болтают на всех языках.
А в воде — никого! Только детишки копошатся у берега. Здесь отдыхающие не любили купаться, они только загорали. Купание ранним утром и вечером считалось чистейшим безумием. Если в это время кто-то с наслаждением плескался в воде, можно было не сомневаться — русские.
С трудом отыскала в этом муравейнике муженька. Он, вальяжно развалившись под зонтиком, курил и оживленно беседовал с двумя девицами, вульгарными, накрашенными, это в такую-то жару. Одна без лифчика. Очень заметно было, что бедняга наконец-то отыскал здесь родственные души.
С минуту я наблюдала за этой троицей. Толик заметил меня, испугался и поспешил навстречу, с трудом лавируя между лежаками.
— На полдня оставила мужика одного, он тут же подцепил каких-то потаскушек! — зашипела я с притворной яростью.
— Ты что, это хорошие девушки, хохлушки. Уже второе лето работают здесь в сезон. Сама знаешь, как у них там голодно и безработно, — виновато затараторил Карась.
— И на каком же поприще они здесь трудятся? — вкрадчиво спросила я.
Он посмотрел на меня укоризненно. Девицы брались за любую работу — посудомоек, горничных, только бы вернуться домой не с пустыми руками. Я тоже уважаю деловитых женщин, но у этих уж больно вид подозрительный.
Я втащила Карася в воду, он упирался. Купание в это время дня не доставляло большого удовольствия. Никакого ощущения прохлады и свежести, как будто в кипятке плещешься.
— Ну как осмотр достопримечательностей? — спросил Толик, когда мы с ним доплыли до волнореза. — Повысила свой культурный уровень?
— Много потерял, толстяк! Впрочем, чего тебе рассказывать, все равно ничего не поймешь.
У волнореза можно было постоять, вода по горло. Русские туристы жаловались на мелководье. Карась, нисколько не обидевшись на мой снисходительный ответ, взял меня на руки, чмокнул в щеку. И я обвила руками его шею. По-своему я его даже любила. И была ему благодарна. После страданий последних лет жизнь с ним была простой и легкой.
Проснувшись на седьмое или восьмое утро, я поняла, что не проживу здесь больше ни дня. Бежать немедленно, сегодня же. Рядом посапывал Карасик. Наш уютный просторный номер показался особенно чужим и нестерпимым.
Первым, что я увидела, свесившись с балкона, был слон. Настоящий! Он покорно вышагивал рядом с погонщиком.
— Толик! — закричала я. — «По улице слона водили как будто напоказ».
— Дай поспать, ненормальная, — заворочался Карась. — Его тут каждый день водят, а ты только глаза разинула: «Слона-то я и не приметил».
— Не груби, Карасев! И вставай, а то я тебя пинками подниму, — говорила я ему ласковым голосом. — Заказывай машину, сегодня мы уезжаем во Флоренцию.
Карасев открыл один глаз, подумал и снова закрыл. А я пошла проститься с морем. Утром здесь было так же пустынно, как и поздним вечером. Только парень-служащий подметал особыми граблями песок и раскрывал зонтики. Далеко от берега по щиколотку в воде бродил собиратель мидий. Вода ушла за ночь, окунуться можно было только у самого волнореза.
На этот раз мне не пришлось купаться одной. Подоспели мои старушки-путешественницы. Они вставали с петухами и бродили по окрестностям. Им жалко было тратить время на сон. Драгоценное время в Италии.
— Ах, какая вы счастливая, Ларисонька! Вы молоды и побываете здесь еще не раз. Непременно побываете, — мечтательно пророчила Софья Викторовна. — Амы с Ниной живем с таким чувством, что все в последний раз.
Я их утешала: они такие бодрые, стойкие, не то что я — жалкая кляча. Я не понимала, что такое «в последний раз». Наоборот, жизнь впереди казалась мне чересчур долгой. Как представлю, что предстоит прожить еще лет тридцать — сорок. Каждый день видеть Карася, думать, чем заняться… Нет!
Старик немец каждое утро сидел на перевернутой лодке и с ужасом смотрел на наше купание. Для него вода была слишком холодной в этот час. Я простилась с морем и стариком, но не навсегда. Что-то мне подсказывало, что еще вернусь сюда.
По дороге Толик все ворчал, что можно было пожить у моря еще несколько деньков, ведь жарко. Флоренция отпугивала его многочисленными памятниками культуры. Но я обещала, что мы пробудем там всего два-три дня и я не стану таскать его на экскурсии. Может сидеть в номере, посещать только магазины и рестораны.
— Кожа! Во Флоренции надо покупать кожу. Сашка Кучин говорил. Он в прошлом году тут был. Привез целый чемодан — куртку, пальто жене, — сразу оживился Карасев.
— Твой Кучкин или Пупкин то же самое мог купить в Москве, зачем было тащить из Флоренции. Ты, Карасев, все еще живешь в стародавних временах, когда наши соотечественники прежде всего закупали за кордоном барахло. Им было не до культурной программы.
Тут Карасев не удержался и вступил со мной в спор. Это я живу в прошлом, давно пора привыкать, что мы люди состоятельные. А для состоятельных людей престиж не пустой звук. Покупать они должны все самое лучшее, в фирменных магазинах, жить в апартаментах.
— А ты типичный совок, Игумнова, а не жена предпринимателя, — обличал Толя, тыча в меня пальцем. — Норовишь одеваться на рынке в Лужниках или магазине «Наташа», ездить на «Жигулях» и жить в двухзвездочном отеле.
Мне была противна роскошь нуворишей, но Карасю я об этом не говорила. Напирала больше на хороший тон и осторожность. Толик в душе очень боялся, чего именно, я пока не понимала. Но соглашался со мной, что лучше не высовываться, не залезать в белый «мерседес» или «вольво», не строить трехэтажный особняк.
Дорогой я успевала любоваться видами из окна автомобиля и ругаться с Толькой. Впрочем, переругивались мы вполне мирно. Это была наша обычная манера общения. Иногда Карасев забывался и употреблял ненормативную лексику. Я вздрагивала и испуганно поглядывала на шофера.
— Да он все равно ни фига не понимает, — успокаивал меня Карасев. — Какая вы, однако, деликатная, мадам.
— Он не понимает, сволочь ты эдакая, зато я понимаю. Для меня эти слова хуже пощечины. Сколько раз просила тебя не ругаться.
— Ну не буду, не буду! — клялся супруг и даже бил себя кулаком в грудь, но слова снова срывались с его губ.
Я сама выбирала гостиницы по каталогу еще в Москве. Трехзвездочные, с бассейном, но без излишней роскоши, не за тысячу долларов в сутки, как норовил поселиться мой муж. В такую гостиницу мы и прибыли к вечеру. Решили спуститься в ресторан поужинать, потом погулять по городу. От гида на сегодня отказались.
А завтра… Собственно, почему меня обуяло такое нетерпение? Завтра все равно наступит, и я неминуемо увижу Ее. Если, конечно, во Флоренции снова не случится наводнения или другого стихийного бедствия.
— Дусик, не любишь музеи и не надо, я тебя не заставляю, но все-таки в Уффици и в Академии необходимо побывать. Для приличия. Чтобы потом всю жизнь рассказывать, что видел в подлиннике Боттичелли, а в Академии — Давида, — наставляла я супруга утром, пока мы завтракали в номере.
— Надо так надо, — вздохнул Карасев и попросил показать ему этого самого Давида, по которому все с ума сходят.
Я протянула ему каталоги. Тихо постучала вежливая горничная, принесла выглаженные платья, белые брюки и рубашки Карасева. Я одевалась и чувствовала, как дрожат руки. Вожделенная минута приближалась. Тем не менее я не теряла самообладания. Даже занялась гардеробом Карасева, велела ему переменить рубашку.
— Как ты думаешь, Ларис, не будет так жарко, как в Риме? — с тревогой спрашивал он меня.
Бедный Карасик намучился в Риме и будет до конца жизни вспоминать его с ужасом. Нам обещали, что в июне жара терпимая, самое пекло наступает в июле и августе. Но Рим встретил нас сорока градусами выше нуля. Ни Ватикан, ни Сикстинская капелла не произвели на Толика ни малейшего впечатления. А когда к вечеру гид подвез нас к Колизею, ему стало нехорошо. Мы втащили его в машину и отпоили валерьянкой.
А я так мечтала покататься по городу в старинном открытом экипаже. Теперь об этом и речь не шла. Карась совсем не выносил жары и спасался только в номере и в машине с кондиционером.
— Лорик, ты холодная, как лягушка! — как-то с завистью воскликнул он, погладив мою руку.
— Рыбья кровь, — пожала я плечами.
Жару я переносила спокойно, а ночами даже зябла и грелась возле Карасева, который всегда был как пышущая печка. Он завидовал моей прохладной коже, зато гордился своим загаром. Летом среди его друзей, их жен и подружек проходил конкурс на лучший загар. Я в нем не принимала участия. Как все рыжие, я не поддавалась загару и тщательно пряталась от солнечных лучей.
Мы спустились по лестнице в прохладный вестибюль. И горничным, и хозяину я с удовольствием говорила «бон джорне», а Карасев величественно кивал. Но едва мы очутились на улице, он заметно съежился. Во Флоренции было не только жарко, но и влажно, как в бане.
— Что делать, дусик, потерпи! — утешала я мужа. — Видишь, вокруг горы. Флоренция расположена в низине, словно на дне огромного котла.
Карасеву очень нравилось, когда я сюсюкала с ним, как с младенцем. Видно, недополучил положенную порцию ласки в детстве. По дороге я разработала план: сначала Толик направится в кафе. В Уффици, конечно, роскошное кафе, иного быть не может. Напитки только прохладительные! А я быстро пробегусь по залам. Первая разведка, чтобы выбрать для Толечки самое главное.
— Конечно, Рубенс. Какие женщины, Толя! В твоем вкусе. Потом мельком «Весну». У тебя будет укороченная культурная программа.
— Вот-вот, укороченная! — обрадовался Карасев.
Так и порешили. Я, заглядывая в карту, проводила его в кафе и осталась в полном одиночестве среди этого великолепия. Вначале от волнения пошла куда глаза глядят, вдоль длинного коридора, внутренняя стена которого была увешана картинами.
Потом опомнилась и решила заглянуть в план. Эта длинная галерея была обозначена как Первый коридор. Из него высокие двери вели в залы, тоже четко пронумерованные и посвященные каждый определенному периоду или художнику — зал Леонардо да Винчи, зал Боттичелли, зал немецких художников, фламандских… Какие молодцы, похвалила я итальянцев за этот образцовый порядок. Однако никакого упоминания о Бронзино в плане не было.
Конечно, рано или поздно я Ее найду. Ведь я собиралась прийти сюда и на следующий день. Только бы не умереть от нетерпения.
Пройдя несколько залов, я устала, отчаялась и присела отдохнуть на одну из скамей. Пора было возвращаться за Карасевым, в темпе провести его по залам и отправить обратно в гостиницу. Пускай сидит у бассейна и прикапливает загар.
Тут я подняла голову и встретилась с Ней глазами. Она смотрела на меня насмешливо, словно давно наблюдала за моими суетливыми поисками. Портрет висел в коридоре, а не в одном из залов. Был он совсем небольшой, но не терялся среди соседних полотен. Казалось, Лукреция подстерегала своими холодными зеленоватыми глазами всех проходивших мимо.
На какое-то время мы остались с ней наедине. Кому, как не ей, я могла поведать о своей тоске, о разрушенной мечте. Как бы я хотела сидеть сейчас на этой скамейке с ним. Мы строили планы, как скопим денег и поедем в Италию. И было это всего два-три года назад, жаловалась я Лукреции. Ее лицо из насмешливого вдруг стало грустным и теплым.
— Я ее ищу-ищу! Минералка твоя давно закипела. Что ж ты, мать?
Надо мной стоял Карасев с бутылочкой «Веры» в руках. Я вздрогнула и долго не могла понять, как он здесь очутился. Ну конечно, Карасик залюбопытствовал, что это я так пристально высматриваю на противоположной стене. Лукреция буквально испепелила его ледяным презрительным взглядом.
— О, эта баба на тебя похожа, Лорик! — обрадовался Карась.
— Не она на меня, а я на нее, Толя, — улыбнулась я и поспешила увести его подальше, чтобы не раздражать Лукрецию.
Она явно произвела впечатление на Толика. Пока мы бродили по залам, он то и дело вспоминал:
— Ты видела ее платье? Я всегда говорил, это твой цвет! Не голубой, не зеленый, в который ты любишь рядиться.
Карась любил покупать мне обновки. Даже больше, чем себе. Ругал меня за то, что слишком невзрачно, неброско одеваюсь, без шарма. Ему не терпелось пройтись по фирменным магазинам — «Валентино», «Версаче», «Трусарди» — и прибарахлиться. Вот я его и отправила после укороченной культурной программы.
А сама вернулась на свою скамью. На ней уже сидела маленькая приветливая японка, но мне сейчас никто не смог бы помешать. Я сразу погрузилась в свои невеселые мысли. Скоро мы вернемся домой и нужно будет как-то жить. Но как? Этого я боялась больше всего.
Сидя на массивной дубовой скамье в галерее, глядя на плитки пола, я вспоминала прошлое лето, последнее наше с Игорем лето. Как не похоже оно было на далекие медовые месяцы.
Мы прожили в Касимове июль и август. Мои домашние ухаживали за мной, как за больной. Ведь я недавно потеряла ребенка, а с ним вместе и интерес к окружающему миру. Ни лес, ни река больше меня не радовали. Выздоровление наступало очень медленно.
Угнетали меня и перемены, как-то незаметно происшедшие с Игорем. Куда девался прежний — обаятельный, ровный со всеми, ироничный молодой человек? Он как будто постарел лет на двадцать, стал брюзгливым, раздражительным и скучающим.
Он больше не носил косоворотку, не бродил по берегу реки, спал до обеда, не выказывая ни малейшего желания порыбачить рано утром или покосить. Ведь раньше он так здорово косил. Сережа даже завидовал ему. Хождение в народ закончилось, думала я с грустью.
«Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», — любил повторять Игорь латинскую пословицу. Я все сваливала на крутые перемены. Это они подкосили моего Игоряшу. Как мне хотелось ему помочь. Но прежней душевной близости между нами не было. Он отгородился от меня бетонной стеной.
Казалось, он мстил за то, что я не захотела быть только верной подругой и помощницей, ушла в журналистику. А Иноземцев ненавидел журналистскую текучку, неосновательность. Но гораздо больше его раздражала блеснувшая во мне творческая искра. То, что я проявилась как личность, отказавшись от почетной миссии быть его тенью.
Но в наших отношениях все могло со временем наладиться. Главная беда заключалась в том, что Игорь никак не мог вписаться в перемены, «въехать» в новые рыночные отношения. К перестройке он отнесся, как и вся молодежь, с воодушевлением. Надеялся, настало его время, время долгожданной свободы, в том числе и творческой.
Но его время почему-то так и не наступило. Оказалось, в прошлом было удобнее. Можно было неспешно жить-поживать, по десять — пятнадцать лет пописывать диссертацию, ругать тупость и бескультурье правителей и чувствовать себя при этом представителем научной элиты.
В новые времена нужно было работать, иногда за троих. Не всем это понравилось. Исчезли тихие НИИ, где сотни мэнээсов просиживали целые жизни. Теперь преподаватели у нас на факультете получали меньше уборщиц в частных офисах. Поднялся дружный плач о гибели науки и ценных кадров.
— Наука не погибнет! — успокаивала нас Люся. — Ей всегда бескорыстно служили единицы, истинные таланты, которым при всех режимах плохо жилось. Но это же замечательно, если разгонят десятки НИИ и непонятных кормушек, позволяющих целым легионам паразитов присосаться к науке…
Конечно, Люся была, как всегда, категорична, но нельзя было не признать в ее словах доли истины. Почему-то ее речи очень задевали Игоря. Их дружба с Люсей давно дала трещину. Каким-то внутренним чутьем он понимал, что Люся его презирает.
В общем, становилось все хуже и хуже: и у нас с Игорем, и в отношениях между ним и моими родными. Но я все еще на что-то надеялась. До того жаркого августовского дня. Я нашла Игоря в саду в гамаке.
— Предстоит грандиозное событие! — сообщила я. — Пшеница уже сжата, обмолочена. Сейчас Сережка с папой ручную мельницу устанавливают. Пойдем посмотрим.
Игорь неохотно поднялся. Сережка уже третий год подряд вовлекал нас в эту замечательную игру. Мы жали серпом пшеницу на его участке, обмолачивали валиком. В сарае у бабки Дарьи нашли старинную мельницу. Что-то вроде перевернутой табуретки с каменным жерновом внутри.
Когда мы пришли, Серега увлеченно вертел ручку жернова и по желобку бежала струйка муки. Весь он был с головы до ног припорошен мукой, а глаза счастливо сияли.
Завтра утром бабушка достанет из печи первый хлеб, а Серж будет нетерпеливо и радостно приплясывать рядом.
Еще год назад Игорь принимал участие в нашей забаве, но нынче только кисло улыбнулся. С другом он обращался как с подростком, так и не вышедшим из детства. Не одобрял и решения Сергея посвятить себя школе. Сержу нравилось работать с детьми, хотя родители могли пристроить его получше.
Все лето он проводил в своей касимовской усадьбе, устроил парники, высаживал какие-то диковинные растения и семена. Может быть, в этом и заключалось его призвание?
— Когда же он, наконец, переболеет толстовством и возьмется за ум? — вдруг высказался Игорь, глядя, как Сережка бережно пересыпает с таким трудом добытую муку в большую кастрюлю.
Я взглянула на мужа отстраненно, как на чужого. В уголках рта у него появилась новая морщинка — иронически-брезгливая. Как я не любила эту новую мину, почти прижившуюся на его лице. Захотелось его чем-нибудь уязвить, сказать неприятное.
— Помнится, ты, Иноземцев, с таким восторгом играл в народ! Косил, пахал, упивался природой, — не без ехидства напомнила я. — Как ругал интеллигентское затхлое болото и вдыхал после него свежий дух полей…
— Было-было! — усмехнулся Игорь. — Переболел. Я и сейчас люблю природу, но как дачник. Кулик вернулся на свое болото. Всем нам от рождения предназначен свой шесток. Вот на нем и сиди!
— Твои увлечения неискренни и недолговечны. — Я говорила спокойно, без запала. — Сережа другой. Папа говорит, у него чистая, детская душа. Он только на вид слабый. На самом деле Серж очень целеустремленный, твердый и всегда добивается своего…
— Раз папа сказал — так оно и есть. Папа не может ошибаться, — с преувеличенной серьезностью отвечал Игорь.
Как меня раньше обижали эти насмешки. Но теперь обиды не было. Только злость и возмущение.
— Да, я люблю своего отца. А ты терпеть не можешь родителей и тетку, хотя живешь за их счет. Ты никого не любишь, Иноземцев, кроме себя. Черствый, капризный эгоист!
Он с совершенно каменным лицом повернулся и медленно пошел прочь. А у меня сердце упало, закипели слезы в глазах. Я поняла, что жить вместе нам осталось недолго. Ничего не залечишь, не замажешь трещин.
С тех пор мы наговорили друг другу много обидного, злого, несправедливого. Он тоже меня не щадил. Сейчас, несколько месяцев спустя, мне было стыдно. Но какой прок в запоздалых раскаяниях. Ничего не вернешь, ничего не исправишь…
Я никогда в жизни не придавала особой роли деньгам и, наверное, была не права. Будь у нас с Игорем много денег, мы, может быть, и не развелись бы. Мне не пришлось бы с такой неотвязностью думать о хлебе насущном, и Игоря не тяготила бы мысль, что он, наконец, обязан куда-то пристроиться, чтобы мы имели достаточно средств к существованию.
И будь у нас деньги, жили бы мы как два ангела в раю, не заботясь о завтрашнем дне, поскольку именно эта забота отравляла наше существование. У нас были общие интересы и устремления, и будь мы людьми обеспеченными, мы бы ходили себе по музеям и выставкам, набирались впечатлений, чтобы вечером было что обсудить, обнявшись у камина, которым мы бы обязательно обзавелись, если бы были деньги… Путешествовали, ездили бы на курорты, поправляли свое здоровье и так далее.
Но, рисуя себе эту идиллическую картину, я, как глупый Буратино, проткнувший своим длинным деревянным носом нарисованный на куске холста очаг, снова и снова соскальзывала с ее безупречной красивой глади в беспощадную реальность.
Она состояла в том, что человек, как бы хорошо он ни был обеспечен, должен работать, и это главное в жизни, это горючее, на котором можно ехать в будущее.
Красивая переводная картинка расползалась под моим взглядом, и сквозь нее проступала другая, некогда с ума меня сводившая, — образ человека, дрейфующего на диване по житейскому морю, в котором мы все барахтаемся. Человека, сплетающего хитрую сеть из ничтожных занятий и неубедительных предлогов, чтобы защитить свое право не заниматься никаким конкретным трудом… А предлог — не главная часть речи. Словом, вспомнив все это, я успокаивалась и говорила себе: все правильно.
Между тем я сама теперь вела образ жизни, похожий на тот, которого изо всех сил придерживался Игорь, и единственным моим оправданием был непреложный факт, что я стараюсь создать Толе уютную домашнюю атмосферу, чтобы он мог расслабиться после своих — не знаю, в какой степени праведных, — трудов.
Часа три обычно я проводила на кухне. Каролина сообщила мне, что наши мужья обожают домашнюю готовку, в частности щи и борщи. Дело в том, что эти блюда требуют длительного приготовления и создают ощущение дома. На второе желательно пельмени или еще что-то такое, с чем надо долго и нудно возиться. Это — традиция.
С понятием «традиция» я сталкивалась довольно часто.
Главная традиция была связана с рождением у наших ребенка, особенно сына. Дочки тоже не возбранялись, но им в основном отводилась роль сестры наследника и будущего соратника отца. Своих детей эти люди любили больше, чем жен, родителей и любовниц, вместе взятых. Когда у кого-то из них рождался сын, они приезжали к роддому всей своей компанией, располагались под окнами и торжественно отмечали событие.
Потом так же торжественно проходили крестины, на которые уже являлись мы, жены. Матери малыша дарили дорогие подарки, младенцу вешали над кроваткой золотой крест и открывали валютный счет в банке, чтобы он получил деньги в день совершеннолетия и ни в чем не нуждался, если с его отцом что-то, не дай бог, случится.
Познакомившись поближе с нашими женами, я поняла, отчего Каролина, женщина умная и тонкая, тогда так обрадовалась, увидев у меня томики Ильина. Среди этих жен она, как и я, оказалась белой вороной.
Каролина из-за «врожденной лени», как она сама мне объявила, с грехом пополам окончила школу, потом не смогла поступить ни в один гуманитарный вуз и еле-еле вышла замуж (об этом отдельная история), несмотря на свою красоту. Но она с детских лет много читала, ее мать была преподавательницей музыки, и теперь у Каролины в доме стоял рояль, на котором она играла Антону первую часть «Лунной сонаты», чем тот очень гордился. Остальные жены — красивые, ухоженные юные леди — оказались натуральными эллочками-людоедками со скудным и несколько странным словарным запасом. А первое время Каролина была вынуждена выступать передо мною в роли переводчицы.
Я узнала, что «индусская гробница» означает коммерческий ларек, а «экономический домик» — банк. «Коробка, коробочка» — это автобус, которым пользуются простые смертные, тогда как «нитки» — преуспевающие молодые люди высокого роста — ездят «на колесах». «Погибнете, как черви на капусте — пропадете вы без меня» — эта фраза, не нуждающаяся в переводе, звучала особенно часто. «Ребятам дали салом по сусалам» — это означает, что наши снова приняли участие в какой-то разборке. «Палочка здоровья» — сигарета. От моих новых приятельниц я узнала, что моего мужа, оказывается, называют Клеш. Мне, правда, никто не мог объяснить, как возникло это странное прозвище, и я обратилась за разъяснениями к самому Толяну.
— Да я приехал в столицу в брюках-клеш, — объяснил он, — тогда их уже никто, кроме меня, не носил.
Наши дамы никогда не прельщались вещами с рынка. В одежде они ценили прежде всего простоту линий, изящество форм и дороговизну. Строгие деловые костюмы темных тонов, скромные золотые украшения, маленькие элегантные сумочки и много-много дорогого парфюма.
Слава богу, я встречалась с этими замечательными созданиями исключительно на светских раутах по поводу крестин, пропустить которые было невозможно; они поочередно рожали детей, с которыми, как правило, потом сидели их матери.
Ася, которой я все это рассказывала, рассчитывала, что и ей, как моей подруге, уготована торжественная встреча у роддома, но она здорово просчиталась.
Я бы и рада была организовать ей вожделенный кортеж машин, но, увы, ее сын не был «наследником» и «соратником», потому Толян послал к Артурчику «Жигули» с неким Володей (этого человека, по моим наблюдениям, отправляли выполнять самые незначительные поручения), и, таким образом, Артурчик встречал жену с сыном без кортежа. Зато кухонный комбайн, преподнесенный Асе Толяном по случаю рождения ребенка, несколько смягчил этот удар.
Сказать, что у меня водилось много «налички» (термин наших дам), нельзя. Толян время от времени давал мне деньги на вещи, при этом следя, чтобы я одевалась сугубо в контексте нашего круга. Кожаное пальто, отороченное ламой, обязательная норковая шуба (когда я заикнулась, что предпочитаю беличью, он только брови поднял), полушубок из чернобурки, кашемировое пальто, длинные плащи, в которых предпочтительно ездить на машине, а я, между прочим, продолжала кататься на общественном транспорте. Еще Толя щедро давал на книги, и первые месяцы нашей совместной жизни я посвятила собиранию библиотеки, в чем мне охотно помогала Каролина.
Ну и конечно, он не жалел денег на продукты. Их с рынка привозил вышеупомянутый Володя; соленья, варенья и картошку он же доставлял от тети Аллы из Малаховки.
Зато в ресторанах мы с ним почти не бывали, за исключением одного раза, когда Ася заставила Толяна раскошелиться по случаю именин своего сына, которого она назвала Павлом. Мы втроем, оставив виновника торжества дома с Артурчиком, посетили только что открывшееся шикарное заведение под названием «По щучьему велению», или попросту «Щука», где Ася специально для Ленки Мезенцевой, не имевшей возможности посещать такие шикарные места, переписала кое-что из меню:
«Сливочный суп из мидий — 32 долл.
Мариотка из омаров в горчичном соусе — 90 долл.
Полдюжины отборных устриц с Лазурного берега Франции — 2 долл.
Бордо из утиной печенки с булочками «бриоль» — 30 долл.
Шампанское «Дом Периньон» — 800 долл».
Мне же посещение «Щуки» запомнилось прежде всего тем, что, возвратившись из ресторана домой, Толян впервые заговорил со мной о ребенке.
— Наши женщины исправно рожают, — сказал он, — я-то думал, беременность — заразная болезнь… А ты, мать, все порожняком ходишь…
Я и сама не знала, почему не беременела. Мы не предохранялись. И наконец, мое желание или нежелание иметь детей ничего не значило. Но я не хотела ребенка. Я хотела когда-то родить от Игоря. Но дарить «наследника» и «соратника» Толяну — эта мысль приводила меня в трепет. Я знала, что это был бы не мой ребенок, а именно Толин — он бы сумел воспитать его в традициях своего круга.
— Как-нибудь забеременею, — деланно зевнув, пообещала я ему.
— Смотри, поскорее, — очень серьезно вымолвил Толя. — Может, тебе стоит провериться у специалиста? Я дам денег…
На это они денег не жалели, как раз наоборот. Наши дамы все как одна рожали в платных клиниках, где элементарный анализ крови стоил бешеных денег. Им все казалось, что деньги стопроцентно гарантируют защиту от всего того, что случается с простыми смертными, — от инфекции, ошибки в диагнозе, выкидыша, болезни, самой смерти. Конечно, это было не так. Деньгами от судьбы не откупишься, нет.
Ася теперь говорила, что я живу в Зазеркалье, где действуют свои законы, имеются свои ценности, процветает свое понятие о долге, о дружбе, любви и семье. Может, так оно в действительности и было. И возможно, я бы в своем Зазеркалье чувствовала себя совершенно одинокой, если бы не Каролина.
Когда в день нашего переезда на Гончарова она пообещала, что мы станем подругами, я не особенно поверила, потому что вообще-то с трудом схожусь с людьми. Обычно, уступая обстоятельствам, общаюсь с теми, кто оказывается рядом, — в университете, на работе, в доме. А Каролина жила на другом конце города, в Чертанове. Но она потянулась ко мне, и верхом нелюбезности было бы не ответить на ее порыв.
Мы стали вместе ходить по выставкам и картинным галереям, а однажды ей удалось затащить меня к себе домой.
Ее жилище оказалось таким же богато обставленным и комфортабельным, как и мое собственное. Такая же стенка, кровать, кухня, прихожая, люстры — только у меня не было блютнеровского рояля, о котором Каролина отозвалась так:
— С помощью этого инструмента я изображаю из себя несостоявшуюся пианистку.
Мы выпили на кухне по рюмке токая, и Каролина принялась рассказывать о себе:
— Я вообще-то из малообеспеченной семьи. Отец ушел от нас, когда я была маленькой. Мама работала в музыкальной школе, пока Антон не посадил ее воспитывать нашу дочку.
Это было для меня новостью.
— У вас есть дочка?
— Агнии два годика. Мама привозит ее к нам на субботу-воскресенье.
Мне показалось, в ее голосе прозвучала грусть.
— А я считала, что наши мужья постоянно хотят иметь детей у себя перед глазами.
— Сыновей — да, но дочек иногда отпускают воспитывать к бабушкам, если считают, что бабушка может дать им больше, чем мать. Антон именно этого мнения и придерживается.
— А как к нему относится теща? — с любопытством спросила я.
— Мама ему в рот смотрит! Она давно устала вкалывать в музыкалке, а Антон ей денег дает. И он маму уважает. А меня считает легкомысленной.
— Это так?
— О, наверное, — беззаботно отозвалась Каролина, — я страшно легкомысленно вышла за Антона замуж. Хочешь, расскажу, как это произошло?
Мне, конечно, было интересно, а Каролине хотелось высказаться, и она, хватанув еще рюмку вина, приступила к повествованию:
— Я закончила школу и никуда не смогла поступить. И работу долго не могла найти. Наконец подруга устроила меня секретаршей в рекламное агентство. Меня взяли туда исключительно из-за внешности, для представительства. Когда шеф беседовал с заказчиками, мне надо было красиво войти с хорошо приготовленным кофе… Ну и на звонки отвечать мелодичным голосом… И вот там я влюбилась в художника, и так зверски влюбилась в этого Женю, что как будто ослепла и оглохла, ничего больше не видела и не слышала. И он как будто был дико в меня влюблен… Короче, встречались мы, встречались, я была уверена, что Женя вот-вот сделает мне предложение, как вдруг выясняется, что он давным-давно женат…
— Обычная история, — в качестве утешения Каролине вымолвила я.
— Обычная, — подтвердила Каролина, — но это когда выслушиваешь ее от кого-то другого… А когда она происходит с тобой лично, ты начинаешь с ума сходить. И я чуть умом не тронулась. Я к Жене очень серьезно относилась и была уверена, что он смотрит на меня как на невесту, потому что он ни разу не попытался затащить меня в постель… А ведь я бы на это пошла, я его обожала…
Каролина умолкла, уносясь мыслями в созерцание далекого образа.
— А дальше?
— Дальше… — Каролина поежилась. — Дальше началось самое ужасное. Я ушла с работы, чтобы его не видеть, стала посещать компании моих школьных подруг, любительниц приключений, напивалась как свинья, однажды едва в вытрезвитель не загремела — свалилась под фонарем. Спасибо, мимо проходил сердобольный мужик, растолкал меня, поставил на ноги, а уж тогда я кое-как до дому дотопала… И как-то сижу я в гостях, пью водочку, вокруг меня в темноте танцуют люди, а рядом вьется хозяин квартиры, по виду — прожженный мужик… И уж не знаю, как случилось, что все вдруг слиняли, хозяин отправился провожать гостей, а я оказалась запертой в квартире. Тут-то я протрезвела от страха и смекнула, что меня ожидает… А я была тогда девочкой. Ну, думаю, сейчас этот мужик вернется и мне от него не отбиться… Рванула на балкон, а на соседнем стоит парень в трусах и майке и выжимает гантели. Я недолго думая перекинула ногу через перила, кричу ему: «Помоги перелезть к тебе!» Он бросил свои гантели, втащил меня на свой балкон, ввел в комнату… Тут я со страшной силой зарыдала, Он стал меня спрашивать, не надо ли соседу набить морду…
— Это был Антон?
— Да, Антон… Я отвечаю ему: нет, я сама во всем виновата. Он вроде удивился моему ответу, стал спрашивать — в чем же я виновата? Тут я все вдруг ему выложила — и про Женю, и про своих школьных подруг, и про пьянки эти… Он слушал меня, слушал, а потом говорит: «Ты могла бы поверить человеку с первого взгляда?»
— Какому человеку?
— Вот и я говорю — какому? Мне, отвечает. Слову моему. Какому слову, спрашиваю. «А такому, — говорит, — если ты сейчас ляжешь со мной, завтра утром идем в ЗАГС, поженимся и классно будем жить вместе. Ты не смотри, что здесь так неказисто, я тебе хорошую квартиру куплю, только поверь…»
— И мне Толя говорил насчет квартиры, — засмеялась я.
— Они все действуют в одной манере, — отозвалась Каролина, — по их представлениям — это высший шик!.. Словом, я оторопела. Ну, думаю, из огня да в полымя! Сейчас вот этот меня изнасилует! А он будто услышал мои мысли: «Ты не бойся. Если я тебе не нравлюсь или если ты мне не веришь, я сейчас же провожу тебя на такси до дому…» И тут на меня что-то такое нашло сумасбродное… Для кого, думаю, себя берегу! Парень симпатичный. И домой тащиться у меня сейчас сил нет. Словом, легли… А утром, представь себе, познакомились… Часиков в девять я разлепила глаза — смотрю, а он костюм гладит. Увидел, что я смотрю на него, подошел к кровати, руку протянул: «Давай познакомимся. Антон». Я отвечаю: «Каролина, очень приятно». — «И мне приятно, — говорит, — подымайся, Каролина, едем заявление подавать…» Вот так все и закрутилось…
— Ты правда легкомысленная, — пожурила я Каролину. И тут же подумала о самой себе: ведь наши истории, в сущности, ужасно похожи! Она легкомысленная — а я?!
Свой рассказ Каролина закончила такими словами:
— В общем, подали заявление, потом Антон купил квартиру, мы в нее переехали, поженились — и с тех пор не разговариваем!
Я сначала не поняла ее слов — как это «не разговариваем»? Внешне Антон и Каролина производили впечатление исключительно благополучной пары. Я спросила, неужели они часто ссорятся?
— Ну что ты! — усмехнулась моему непониманию Каролина. — С Антоном невозможно поссориться… Да и кто я такая, чтобы с ним ссориться, — с горечью продолжала она. — Просто в тот вечер мы с ним так славно поговорили, он так хорошо меня слушал, а потом нам как будто не о чем стало разговаривать…
Тут я сообразила, что она имеет в виду…
Наше с Толей общение в основном заключалось во взаимном приветствии и нескольких вопросах-ответах относительно завтрака, обеда и ужина, в лучшем случае, телевизионных передач. Толя, видимо, хорошо усвоил правила своего круга, исключавшие пустую болтовню. Да и о чем нам было говорить? Большинство жен и мужей обсуждают проблемы, связанные с работой, обмениваются, как мы с Игорем, какими-то культурными впечатлениями или строят планы на будущее.
Толина работа меня не должна была интересовать. Это я усвоила раз и навсегда. Я же не работала, стало быть, у меня проблем не возникало. Мои впечатления от прочитанных книг Толю не занимали: я пыталась хоть немного развить его, подсовывая время от времени модное чтиво, но Толя молча отодвигал книгу и включал телевизор. Его телефонные разговоры также исключали возможность вопросов с моей стороны. Да и что можно было понять из его разговоров? Толя снимал трубку, молча выслушивал то, что ему говорили, и отвечал одной фразой: «С этим разбирайся сам» или «Считай, что мы их кинули». И, не прощаясь, клал трубку. А что касается планов на будущее — после одного случая я поняла, что и этой темы для меня не существует…
Как-то Толян предупредил меня, что с будущей недели у него появится «окно» в десять деньков, которые он намерен провести вместе со мной на море.
Дело было в апреле, но я обрадовалась. Мне очень хотелось поменять обстановку. Конечно, мы бы могли провести это время куда более экзотично, но Толе, видимо, надолго хватило впечатлений от Италии. Он хотел просто подышать морским воздухом, малость расслабиться.
— И куда же мы двинемся? — спросила я его.
— Если ты не имеешь ничего против, в Алупку, — сказал Толя.
Это была всего лишь дань вежливости — что я могла иметь против его решения? К тому же я сто лет не была в Крыму.
— Это замечательно, — одобрила я.
Мы собрались и полетели в Симферополь.
В Алупке мы поселились на берегу моря, в отдельном домике, принадлежавшем некогда туберкулезному санаторию. Теперь это был первоклассный дом отдыха, состоящий из большого корпуса и разбросанных по побережью маленьких коттеджей.
Мы приехали туда в полдень. Я не могла нарадоваться на чудесный вид из окна, на горы, синеющие позади домика, на уже вовсю зазеленевшие деревья… Вечером того же дня Толя обещал повезти меня в Ласточкино Гнездо.
Я как раз примеряла купленное специально для этой романтической поездки длинное вечернее платье, откровенно любуясь собой в зеркале — черный цвет очень шел к моим рыжим волосам. Вдруг Толя, зевнув, произнес:
— Знаешь, рыжая, мне здесь, оказывается, не нравится…
У меня все похолодело внутри.
— Так что переодевайся, — продолжал Толя, — мы возвращаемся в Москву.
— Да ты что! — взвилась было я, но, поймав его взгляд в зеркале, сменила тон: — Ты ведь хотел отдохнуть…
— Вот и отдохну в Малаховке, — отрезал Толян. — Что-то я по мамке соскучился.
— Я никуда не поеду. — Возмущение переполняло меня, но я произнесла эту фразу спокойным тоном. — Можешь отправляться один.
Толя и ухом не повел. Он снял трубку, провел пальцем по списку телефонов местной администрации, висевшему на стене, отыскал нужный номер и неторопливо набрал его.
— Карасев говорит. Подготовьте нам расчет. Мы уезжаем.
И тут я поняла: мы действительно уезжаем. У меня нет своих денег даже на то, чтобы снять в Алупке комнату.
То, что сделал Толян, можно было расценить как самое утонченное издевательство. Лицо его было невозмутимым, будто он на сто лет вперед заручился моим одобрением — на все случаи жизни. Нет, он не хотел меня обидеть. Ему действительно вдруг стало здесь скучно.
Я молча сняла с себя платье и принялась укладывать обратно в чемоданы только что разобранные вещи.
Толя подошел ко мне, потерся носом о мое плечо:
— Не хмурься, старушка, все хорошо…
Демонстрировать ему обиду было совершенно бесполезно.
В самолете Толя достал бумажник и протянул мне пять стодолларовых бумажек.
— Зачем это?
— Хочу возместить тебе моральный ущерб, если он, конечно, имеет место.
— Имеет, — сердито отозвалась я. — Ты и сам это хорошо понимаешь.
— Ни черта я не понимаю, Ларок, — отозвался он. — На море ты побывала, посмотрела на него, синее-синее, чего тебе еще надо? Но ежели хочешь вернуться, я куплю тебе билет в Симферополь.
Тут уж я просто выкатила на него глаза:
— Как это — вернуться? Почему же ты сразу не оставил меня там, как я тебя просила?
— Не положено, — объяснил Толян, — я тебя привез, я же должен был и доставить тебя назад. Скоро я это исполню. — Толя бросил взгляд на часы. — Через пятнадцать минут приземлимся. Я свое дело сделал и теперь готов отправить тебя обратным рейсом.
— Ты это предлагаешь, потому что знаешь, что я никуда не полечу?
— Да, я рассчитываю на твою привязанность ко мне, не скрою, — ухмыльнулся Толян. — Мы бы вдвоем славно провели время дома, в Малаховке…
После этого случая я зареклась строить планы на будущее.
Мы с Толей прожили вместе больше года, когда я вдруг спохватилась, что мои родные и близкие слишком редко навещают нас. Они как бы молча высказывали мне свое недовольство, и я не могла понять, что именно стало их во мне не устраивать с тех пор, как я вышла замуж за Толю.
Моя соседка Ирина, о которой я еще расскажу, объяснила мне это так:
— Ты сама собой недовольна, вот в чем дело, и люди это чувствуют, как собаки… И наоборот — если мы сами собою глубоко довольны, то и все вокруг приходят от нас в восторг.
Возможно, Ира была права. В качестве Толиной жены я сама себе не нравилась. Вернее, меня не устраивала исключительно роль жены, хоть я и старалась не подавать виду и никому никогда не жаловалась.
Если бы я вздумала воззвать к чувству сострадания своих близких, они бы, конечно, немедленно откликнулись. Но я помалкивала и ни с кем, кроме Каролины, которой ничего не надо было объяснять, не делилась своими трудностями.
Люся совсем забросила меня, потому что не чувствовала себя в нашем просторном доме так вольготно, как в тесной квартирке Игоря. В ситуации с Игорем она ориентировалась свободно и легко, это была знакомая Люсе история двух замороченных жизнью интеллигентов, в которой она ощущала свое преимущество передо мной. Она могла позволить себе давать советы, время от времени поругивать меня за неумение управлять мужем и вертеть им по собственному желанию, как это делают другие жены, могла устраивать в моей квартире обыск на предмет обнаружения доказательств несовершенства нашей жизни.
Но теперь, изредка навещая меня в те часы, когда Толяна не было дома, она как будто чувствовала его незримое присутствие и не смела высказывать никаких ко мне претензий, поскольку внешне мои позиции были безупречны. Я ни в чем не нуждалась. У меня было все, о чем только может мечтать женщина, — кроме любви, но с Люсиной точки зрения, ее отсутствие было мелочью. Она не рискнула даже открыть дверцы шифоньера, как делала во времена Игоря, и произвести инспекцию моих вещей, — и так было ясно, что по крайней мере с этим-то у меня все обстоит благополучно.
Люся старалась не задавать мне лишних вопросов, чтобы не упереться в какое-нибудь ненужное ей открытие относительно рода занятий моего мужа. Почему-то мне казалось, что сестре об этом известно гораздо больше, чем мне самой. Возможно, ей уже приходилось иметь дело с такими людьми, как Толя, и она опасалась их… Словом, общение наше протекало вяло, скованно, было полно недоговоренностей и недомолвок.
Папа тоже теперь приезжал крайне редко. Он никак не мог понять, что со мной произошло. В самом начале нашей жизни с Игорем он видел меня очень счастливой, а уже позже — несчастной и усталой, изо всех сил борющейся с трудностями, как с приступами дурноты. И то и другое состояние дочери было ему по крайней мере понятно. В первом случае он мог от души порадоваться вместе со мной, во втором — постараться меня утешить.
Но сейчас он не мог определить, счастлива я или нет. Это было какое-то промежуточное, странное состояние, которое приводило его в недоумение, и теперь папа не знал, как ко мне подступиться.
Ася тоже избегала меня и тоже постоянно демонстрировала мне недовольство, давая понять, что своим замужеством я как бы предала интересы нашего круга, ни больше ни меньше. Что я добровольно примкнула к тем, кто распинает и впредь будет распинать интеллигенцию — так она мне однажды и сказала, и я не посмела возразить: зачем же, раз уж она такая принципиальная, ей так сильно хотелось видеть кортеж машин у роддома.
К тому же она была занята сыном, сидела дома и отделывалась от меня звонками. Она чувствовала свое преимущество передо мною — как же, воспитывает ребенка, которого у меня нет. Ася совсем не называла своего малыша по имени, а только: сын, сына, сынуля… Когда она звонила мне, это был вообще-то не разговор, а мука.
— Ой, подожди минуту, сын схватил чайник с водой. Сынок такой стал любознательный, всюду лезет, на минуту от него не могу отойти. Сынуля, поставь чайник, сыночка моя, я кому сказала! Ой, минуту, сыночку, кажется, надо переменить памперс, я права, сынуля?
И я полчаса ждала у трубки, пока она не поменяет своему ребенку памперс.
— Ой, погоди минуту, мой сын отвинчивает хвост собаке… Сынулечка, оставь Агафончика в покое, он и так линяет…
И я полчаса слушала, как повизгивает в ее квартире бедолага Агафон.
Володя, Люсин муж, был самым частым моим гостем.
С ним мы молча выпивали бутылку водки… Да, мы почти не разговаривали, выпив, затягивали песню:«Над окошком месяц, под окошком ветер…» Но, как ни странно, после его ухода у меня возникало ощущение, что я облегчила душу за долгим, душевным разговором с настоящим другом.
Зато у меня была Каролина, а позже появилась и соседка Ира. Она возникла в нашем доме примерно через месяц после того, как мы переехали.
Я открыла дверь на непрекращающийся звонок — мы с Толей никого не ожидали, муж лежа смотрел хоккей, а я вязала рядышком в кресле — вывязывала кружева на льняную скатерть. Толя любил, когда я сидела возле него за этим мирным занятием.
Миниатюрная девушка, вся в кудряшках, с ямочками на щеках, в коротеньком цветном халатике, ворвалась в прихожую и сразу сунула мне в руку свою теплую ладошку.
— Очень приятно, ваша соседка Ирка. Приезжаю я с юга, а маман объявила, что у нас появились новые соседи. Я тут же прибежала знакомиться.
— Очень приятно, Лариса, — без всякого восторга пробормотала я.
— Ой-ой-ой, какая прихожая! Ух ты, помереть и не встать! Можно я комнаты посмотрю?
Не дожидаясь разрешения, Ирина шмыгнула в нашу спальню, и оттуда донеслось:
— Ой-ой-ой, какая спальня! Да как бы я тут кувыркалась! Ух ты, красотища какая! Прямо не верится, что в этой квартире до вас две скромные бабульки жили!
Ира влетела в гостиную и, не обращая внимания на мрачный взгляд, которым одарил ее с дивана Толя, уселась перед ним на корточки:
— Вы чего, новые русские, что ли?
— Кто это? — кивнув на Иру, осведомился у меня Толя.
Ирина схватила Толину руку, вяло свисающую с тахты:
— Я соседка Ирка, пришла познакомиться!.. Какой интересный у тебя муж, Лариса! Мне его дико не хватало, кругом были одни бабульки-соседки, а у меня, бедной, то бачок течет, то телевизор барахлит. Теперь будет кому все это ремонтировать, очень приятно.
— Ты что, незамужняя, что ли? — снизошел до вопроса Толя, повернув к Ире голову.
— Ой, а как это вы догадались?.. Вчера вот еще была замужняя дама, а сегодня просто девушка, опять невеста.
— Что ж так быстро развелись? — Голос Толи неожиданно потеплел.
— Ты не сказал, новый русский, как тебя зовут?
— Ну Анатолий.
— Так вот, Толюша, я все на свете делаю быстро, раз-два — и готово. Сегодня знакомлюсь, завтра выхожу замуж, послезавтра развожусь… Человек я занятой, все время тороплюсь. Я по профессии медсестра, очень приятно.
— С чего ты взяла, что нам это может быть приятно? — еще ласковее справился Толя. Видно было, что эта маленькая женщина его забавляет.
— Так я же лечить тебя буду, друг сердешный. Банки поставлю, антибиотик в пятую точку вколю. Имей в виду, я — очень полезное знакомство…
— Понял, понял, ты только не трещи так, Ирина.
Вскоре выяснилось, что эта Ира — на редкость необременительное и чуткое существо, что она, почти ежевечерне навещая нас обоих, четко улавливает тот момент, когда ее присутствие в нашем доме становится избыточным. Ирка тут же, как Золушка, ретировалась.
Сперва я нервно поеживалась от ее нахального звона в дверь: положив наманикюренный палец на кнопку, Ирина звонила и звонила, иногда вытаскивая меня из ванной.
Она звонила в дверь с такой уверенностью в том, что ей непременно откроют, что я порой думала — возможно, в те дни, когда мы все-таки отсутствуем, вера соседки в то, что ей отворят дверь, заставляет нас вдруг материализоваться в квартире, чтобы не обмануть Ирининых ожиданий. Только что я, например, шла по площади Восстания, — и вдруг, как по волшебству, меня переносит в мое кресло у телевизора; я сую ноги в домашние тапочки и иду открывать Ире дверь…
Как правило, Ира входила к нам с какой-то инициативой.
Например, с предложением выдолбить стену на кухне, как это уже сделали другие догадливые соседи. В этой нише мы позже поставили холодильник.
Или Ира приносила какое-нибудь угощение — например, придуманный ею салат из редьки, чеснока, шпината, кинзы и лимонного сока. Толя приходил в восторг от салата. Но как только волна восторга начинала идти на убыль, Ирина тут же исчезала, и мы, оставшись вдвоем, еще минут пятнадцать беседуем о том, какая она все-таки оказалась славная и ненавязчивая.
…Новый звонок в дверь означает появление нового салата. Крабовые палочки, брюссельская капуста, кукуруза, шпинат, яйцо, майонез. Пытаясь сделать ответную любезность, усаживаем Иру за стол, я быстро собираю угощение, но Ира, поклевав того-другого и пообщавшись с Толей на тему несовершенства мужского пола, вскакивает и исчезает.
…Снова звонит. На этот раз сам Толя идет открывать ей дверь.
— Смотри, что я тебе притащила! — Ира трясет перед Толиным носом буренкой, сшитой из красного в горошек ситца. — Это тебе на чайник. Моя подруга шьет таких коровок и кошечек и на Измайловке продает. А я выпросила одну для тебя, говорю, хорошему человеку подарю…
Польщенный ее словами, Толя говорит:
— А можно я буду эту корову на голову надевать, когда выхожу на балкон покурить?
— Бросай курить, — строго говорит Ира. — Жаль, что ты не на мне женат, у меня бы ты мигом бросил вредные привычки… Лар, пойдем со мной на курсы кройки и шитья, мне одной скучно…
После того как Ирина довольно прочно внедрилась в нашу жизнь, — а я и не заметила, как и когда это произошло, — у нас в доме стало как-то веселее — может быть, оттого, что с ее появлением у нас с Толей нашлась безопасная тема для разговора.
Я уже думала, что Асю теперь увижу очень не скоро, возможно, и никогда не увижу — так отчетливо она давала мне понять, что вся увязла в семье и повязана сыном.
Но вдруг — ее Павлу было уже больше двух лет — Ася позвонила мне. И ни «здравствуй», ни «это я, Ася», а сразу:
— Я сейчас приеду.
— Не надо сейчас приезжать, я с соседкой иду на курсы кройки и шитья, — соврала я Асе, в общем-то не желая, чтобы она на моих глазах разыгрывала спектакль под названием «Материнская любовь» при участии невинного ребенка.
— Саван себе ты позже сошьешь, — мрачно изрекла Ася, — а я сейчас буду. Артурчик посидит с Павлом, а ты моли Бога, чтобы я живая до тебя доехала! — На этой драматической ноте Ася закончила пролог к предполагаемому действу и повесила трубку.
Она еще в ранней молодости обнаруживала склонность к драматическим жестам. Помню, Ася как-то чуть не свела меня с ума, решив подготовить к большой, по ее мнению, неприятности. «Ты только не падай в обморок», «Даже не знаю, как тебе это сказать», «Все на свете бывает, так уж мир устроен» — такими фразами началась ее вступительная речь, и когда, минуты через три, я не своим голосом заорала:
— Говори, что случилось с моим папой! — Ася выложила наконец, что дело к папе отношения не имеет, просто она посеяла мою сережку.
И к этому известию она готовила меня по всем канонам романтических кинолент шестидесятых годов, как будто предваряла трагедию, так что я чуть не заплакала от облегчения, когда наконец узнала, о чем идет речь.
Позже я привыкла к этим ее вступлениям, и они уже не заставляли меня бледнеть и трястись от страха.
Я только терпеливо пережидала, пока Ася утолит свою страсть несостоявшейся актрисы, даже позволяла себе мыть посуду в ту минуту, когда она готовила меня к очередному известию, не стоившему выеденного яйца, или чистила лук под ее тронную речь.
Положив трубку, я снова включила пылесос и спокойно дочистила ковер на полу.
Ирина советовала мне завести кошечку, даже сватала одного простого котенка, прижившегося в ее больнице, но я как-то не решалась.
— Зря, — ругала меня Ира. — Ты бы хоть на мордочку его поглядела! Это академик, а не кот! Столько ума! Тебе было бы на ком взглядом отдыхать после своего Толяна!
Я бы и последовала этому совету, чтобы было в доме живое существо… Я не боялась, что кот станет царапать мою мебель или линять, но куда его девать, если я вдруг решу уйти отсюда?
Который раз мне в голову приходила эта мысль!
Я спотыкалась об нее, как о камень на совершенно ровном месте!
Почему — не могу понять.
Все было довольно мирно, тихо, семейственно…
Но мне казалось, что я ступаю не по нашему сверкающему паркету, покрытому ковром, а по тонкому льду.
Я потерла голову кулаком — что за чушь приходит в голову!
— Гони эту сволочь взашей, — советовала мне Ирина, имея в виду мои мысли. Она замечала, что мне часто бывает не по себе.
Ах да! Это Асе снова удалось меня смутить… Вот ведь знаю свою подругу как облупленную, а в который раз пугаюсь из-за ее угрожающих намеков. Интересно, что за новость она мне хочет выложить на этот раз? Последняя была безрадостной — она касалась отношений Игоря с Мариной Полетаевой. Так что же произошло сейчас? Игорь женился на вдове с тремя детьми? Или устроился на работу? Или моя сестра Люся навсегда улетела куда-нибудь в Мадагаскар?..
Я представила себе, как Ася, нагрузив Артурчика наставлениями, душераздирающим тоном прощается со своими мужчинами в дверях, отрывается от семьи, от маленького сына — и зачем? — чтобы в который раз поспешить на помощь своей неразумной подруге, предостеречь ее от бог знает чего, спасти ее, утопающую, — по крайней мере, такая версия наверняка была предложена Артурчику.
С годами эта черта — жажда наставничества и спасения утопающих — еще больше укрепилась в моей подруге.
Впустив Асю в квартиру, я сразу заметила знакомое мне чрезвычайное выражение ее лица.
Но на сей раз оно было настолько чрезвычайным, что я догадалась: минут сорок уйдет на то, чтобы подготовить меня к неведомой новости, прежде чем Ася выложит, с чем пожаловала.
О Боже! Мне очень хотелось по возможности сократить пролог и призвать Анну начать спектакль с середины последнего акта.
— Ну, что там у тебя случилось, Ася?
— У меня?! — Ася неподражаемо владела интонацией.
Это «У меня?» братья Гракхи, большие ораторы, а также выдающийся златоуст Цицерон могли бы развернуть в целую речь и убедить сенат направить парочку-другую преторий на завоевание Северного полюса… «У меня?» означало, что лично у нее, у Аси, проблем никаких нет, а вот у меня все очень ужасно, и напрасно я делаю вид, что это не так; вместо того чтобы раскрывать свой глупый рот, мне не мешало бы научиться внимать умным людям — вот, что еще значило это «У меня?».
— Конечно у тебя, — подчеркнуто вежливо и с прохладцей произнесла я.
Ася сделала жест актрисы, умоляющей публику прервать аплодисменты.
— Нет, у меня все очень хорошо, — как я и ожидала, многозначительно произнесла она и забуравила меня глазами.
А я, испытывая жесточайшее раздражение, не стала вопрошать, что там случилось у меня.
— Павлик уже играет с другими детьми во дворе?
Ася вздохнула. Ей не терпелось выложить новость, но, во-первых, я еще не проявляла нужного нетерпения, а во-вторых, хотелось рассказать о сыне.
— Представляешь, он такой общительный, у всех игрушки отбирает… Кто ни увидит его смышленое личико, говорит: «Какой обаятельный ребенок!» Врачиха из детской поликлиники без ума от моего сына!..
— Как здорово, — наливая Асе чай, сказала я. — Артурчик, наверное, обожает сына?
Началась вторая серия. Минут пятнадцать ушло на описание чувств Артурчика. Да, именно он по-прежнему встает к сыну по ночам. И в поликлинику ребенка сам отводит. И вечером выводит гулять Павла с Агафоном, чтобы Ася могла спокойно посмотреть любимую передачу «Угадай мелодию».
Ася болтала ложечкой в чашке и держала паузу, очевидно подыскивая интонацию для «гвоздя программы», которым намеревалась угостить меня под занавес.
Прошло еще минут пять, прежде чем подруга направила речевой поток к цели.
— Ты знаешь, — начала она, — я не особенная поклонница твоего нового мужа. Игорь тоже был не фонтан, но от него, по крайней мере, всегда можно было знать, чего ждать. А от этого, — Ася сделала пренебрежительный жест рукой, — от этого не знаешь… Ты извини, но я считала и буду считать, что между вами никаких таких чувств нет, ты продалась Толяну со всеми своими потрохами за внешнее благополучие…
Я могла бы прервать Асю и напомнить ей о том, что, когда она впервые очутилась в квартире Артурчика, у нее тоже к нему лично не было никаких чувств, но, охваченная страстью к жилплощади в Москве, она сумела их в себе пробудить. Словом, кто из нас в большей степени продался — об этом можно было поспорить. Но такой спор откатил бы нас еще на пару часов от того разговора, ради которого Ася явилась. А я, сама не знаю почему, уже начала нервничать.
— Итак? — выжидательно глядя на нее, спросила я.
— Помнишь, ты рассказывала мне, что у твоего мужа есть прозвище — Клеш? — Ася снова активно забуравила меня глазами.
— Ну, помню.
— Так вот почитай. — Анна щелкнула замком своей замшевой сумочки и достала оттуда какую-то газетную вырезку. — Это статья из «Московского комсомольца». Боюсь, она имеет непосредственное отношение к твоему Карасю…
Статья называлась: «Несколько суток в бункере». Я быстро пробежала ее глазами.
…Главу одной преуспевающей фирмы, некоего Владимира Р., похитили возле его дома в Царицыне вместе с водителем «мерседеса», на котором ездил этот Владимир. Их втолкнули в «Жигули», связали, заткнули рты, завязали глаза и куда-то повезли.
Водитель сохранил присутствие духа: сумел определить направление, в котором ехала машина, хотя и не видел ничего из-под плотной повязки. Он по звукам догадался, что они кратчайшей дорогой, стало быть через Царицыно, выскочили из Москвы, проскочили небольшой городок — это явно был Подольск, — через час узнал поворот на Белоусово, а затем — на деревню Жуково. По счастью, водитель был уроженцем этих мест.
Обоих пленников привезли в чисто поле и спрятали в бункере, оставшемся еще со времен войны. Водитель знал о существовании таких бункеров на территории Жуковского района. Таким образом, пленники с достаточной долей вероятности определились в своем местонахождении, оставалось дожидаться предложений от похитителей.
Хорошенько отмутузив водителя, похитители спустя трое суток отвезли его в Москву, пригрозив лютой расправой ему самому и шефу, если он решит обратиться в милицию. За свободу Владимира Р. они потребовали сумму, которой на фирме не было, — вот почему сотрудники все-таки решились обратиться с милицию. И та по наводке водителя три дня прочесывала Жуковский район, прежде чем нашла заброшенное зернохранилище, которое почему-то охраняли вооруженные люди. Одного охранника удалось взять, другой бежал… Владимира, голодного, измученного, нашли в бункере, где он просидел почти шесть суток. И он, и ранее отпущенный водитель совершенно поседели.
Прочитав статью, я отложила ее в сторону и подняла глаза на Асю.
Теперь мне стало ясно, зачем она примчалась ко мне.
Водитель хорошо расслышал, как один из похитителей, обращаясь к другому, назвал его Клешем…
— Этого не может быть, — сказала я Асе.
— Чего не может быть? — возбужденно отозвалась она. — Ты думаешь, в этой статье речь идет не о твоем муже?
— Конечно же нет, — безо всякой уверенности в голосе произнесла я. — Подумаешь, Клеш… Не такое уж редкое прозвище. Да к тому же водитель мог не расслышать… Может, того бандюгу звали не Клеш, а Алеша…
Ася насмешливо хмыкнула:
— Ну-ну, утешай себя, утешай… А я уверена, что Клеш — это и есть твой муж. Что хочешь изображай передо мной, Лара, я все равно вижу, ты напугана. Уж слишком много совпадений!
— Каких? — изо всех сил защищалась я.
— Клеш — это раз… Никто толком не знает, чем занимается твой Толян, — это два. Разве бы стал он скрывать свою деятельность, если бы она была благородной… или хотя бы не криминальной… Ну скажи, что я не права…
— Я не знаю, что сказать, — со вздохом призналась я.
Ася с жалостью посмотрела на меня. Я и в самом деле вдруг почувствовала себя сломленной.
— Хорошо, что ты от него не родила, — наклонившись ко мне, шепотом, хотя в доме, кроме нас, никого не было, проговорила Ася. — Это великое благо.
— И что мне теперь делать?
— Поговори с Толяном осторожно. Попытайся выяснить хоть что-нибудь про его дела… Ну, послушай его телефонные разговоры.
Асин голос был насквозь пропитан состраданием, но советы ее никуда не годились.
— Хорошо, а что потом?
— Видно будет, — задумчиво сказала Ася.
— Донести на Толю в милицию?
— Ой, что ты, они тебя убьют! — округлив глаза, прошептала Ася.
— Кто? Милиционеры?
— Нет, дружки твоего мужа. Они тебе отомстят. Слушай, ты не можешь как-нибудь изящно от него отмотать? Может, мне поговорить с Игорем? Может, он примет тебя обратно?..
Еле избавившись от Анны, которая чувствовала себя в родной стихии, хотя и не могла до конца осознать, насколько серьезен наш с ней разговор, я поехала к Каролине.
Каролина поднесла к близоруким глазам газетную вырезку и тут же вернула ее мне.
— Я это читала.
— Читала?
— Ну да, я вообще выписываю кучу газет, что тут удивительного? И ради этой заметки ты прикатила ко мне в Чертаново?
Мне послышался в ее голосе какой-то незнакомый напор, точно Каролина стремилась увести меня от какого-то открытия, лично ей известного.
— И что тебя так встревожило? — с деланным равнодушием спросила она.
— Клеш. — Я произнесла это почти враждебным тоном. Во-первых, мне было обидно до слез, что Каролина, которую я считала подругой, ломает передо мной комедию, во-вторых, ее поведение подтверждало наши с Асей догадки.
— Что — Клеш?
— Ведь это прозвище моего мужа!
— Правда? — Каролина изумленно подняла бровь. — Неужели? Не помню. Ну и что из этого?
Она все играла и играла передо мною спектакль, я не знала, что сделать, чтобы заставить Каролину сказать мне правду, которая, я это чувствовала, была ей известна.
— Одного из этих бандюг звали Клешем.
— Почему ты решила, что это Толя? — прищурившись, произнесла Каролина. — Ерунда какая-то, чушь, Лариса. Толя — солидный человек, он подобными мелочами не стал бы заниматься, это уж точно!
Ничего себе мелочи! Почти неделю держать человека в бункере, голодного, избитого… Тут уж я не знала, что сказать.
В этот момент появился Антон.
Я тут же подступила к нему, не дав Каролине и рта раскрыть.
— Антон, ты не помнишь, у моего мужа было какое-то забавное прозвище, — начала я.
Я чувствовала, Каролина за моей спиной делает мужу какие-то знаки.
Антон, всегда встречавший меня довольно приветливо, заметно посуровел.
— Толя не пацан, чтобы его называли по прозвищу. Он очень уважаемый человек, Лариса.
Голубые глаза Антона при этих словах сделались совсем льдистыми.
— Почему, собственно, тебя интересуют такие глупости? — холодно продолжал он. — И вообще, извини, я устал, а твой муж уже ждет тебя дома.
Я была вынуждена откланяться.
По дороге из Чертанова домой я все думала, каким образом мне подступиться к Толяну, чтобы он наконец выложил мне всю правду о себе.
И вдруг сказала себе: стоп!
А в самом деле — что я буду делать с этой правдой? Куда мне с ней податься? Ведь я давным-давно веду с собой лукавую игру, стараясь не думать о деятельности мужа, — ну предприниматель, с кем, так сказать, не бывает… Может, и не совсем предприниматель, но сейчас многие, имеющие отношение к бизнесу, балансируют на краешке закона… А у сестры моей — разве честный бизнес? Вот об этом обо всем я долгое время старалась не думать, наслаждаясь свободой, благополучием…
Снова передо мной замаячила мысль о родительском доме, о Малаховке…
Но прежде все-таки следовало поговорить с Толяном.
Дома меня поджидал сюрприз.
Войдя в гостиную, я даже ощутила что-то вроде легкого головокружения…
Толя, как всегда, сидел в кресле, набычившись, глазел в телевизор, а возле него на скамеечке сидела я — в своей зеленой бархатной хламиде с капюшоном, которую обычно надевала после душа. Да, эта уютная, прелестная картина воочию предстала передо мной. Я сидела у ног Толи и вывязывала свои кружева… А рядом по-кошачьи мурлыкал телевизор, возле которого в сладкой полудреме расположился мой Толя — усталый, утомленный на неизвестной мне ниве труженик.
Что за наваждение?
Фигура, которую вполне можно было принять за меня, наконец повернулась в мою сторону, и из капюшона выглянуло оживленное личико Ирины.
— Плохо женой работаешь, подруга, — проворковала она, — человек, муж то есть твой законный, пришел с работы, весь в мыле, а ему чаю налить некому…
— Вот бедолага, — сокрушенно молвила я, приглядываясь к ним обоим.
— И борща разогреть, — угрюмо поддержал Иру Толян.
— Это ужасно, — промолвила я, — но мне кажется, одна добрая душа все же пришла к тебе налить чаю и согреть борщ…
— Да, она временно исполняла обязанности жены, — подхватила Ирина, смеясь, — и по правде сказать, эта добрая душа справилась с ними неплохо…
— Со всеми, Ирочка? — спросила ее я.
— А то как же! — Ирина уже стаскивала с себя мою хламиду, под которой оказался пуловер — точь-в-точь такой, какой подарил мне Толя на Восьмое марта.
Я вообще давно заметила, что Ира стала носить такие же вещи, как я, — может, ей нравился мой вкус, а может, хотелось, чтобы визуально знакомые с нами соседи принимали нас за сестер… Только я удивлялась — на какие деньги она все это покупает? Известно, какая зарплата у медсестры…
В течение одной только этой зимы у Ирины появилась точно такая же норковая шуба, как у меня, и такие же дорогие ботиночки на меху, не говоря уж о более мелких вещах — блузках, юбках…
Я понять не могла, с какой целью она мне подражает. Стоило мне купить себе серьги с крохотными подвесками, через день такие же я видела на Ире. Не успела поменять замшевую сумочку на ридикюль из крокодиловой кожи, точно такой же оказывался в Ириных руках… Я мечтала о муфте, которую в молодости носила моя мама, и купила три шкурки норки, чтобы мне сшили ее в ателье, — Ирина, увидев мою новую вещицу, воскликнула: «Невозможная прелесть!» — и через неделю такая же прелесть согревала ее крохотные лапки.
— Может, ты здесь останешься, Ира, — с улыбкой спросила я ее, — тебе к лицу моя хламида…
Я думала, Ира, как всегда, отшутится, рассмеется в ответ на мое предложение, но она вдруг увела глаза в сторону и даже слегка покраснела.
— А что, Ирка, оставайся, коли жена не шутит! — добродушно подхватил Толя. — Будешь мне за вторую супружницу. Может, хоть ты наконец родишь мне сына…
Ира как-то совсем сконфузилась:
— Уж ты скажешь. Не принимай всерьез, Лара.
После Ириного ухода я сразу приступила к Толяну.
Я поднесла к его глазам злополучную газетную вырезку.
— Что это? — осведомился Толя.
— Почитай.
— На фига? — как бы удивился Толя.
— Почитай — поймешь.
— Лар, после девяти вечера я — неграмотный. — Толя не обнаружил никаких признаков беспокойства.
— Тогда я тебе сама почитаю, — решительно проговорила я.
— Валяй, если тебе нечего делать, — милостиво разрешил Толя и, развернув кресло, уселся так, чтобы одним ухом слушать телевизор, другим внимать мне.
Срывающимся от волнения голосом я прочитала вслух всю статью — от начала до конца.
Когда я умолкла, Толя сладко потянулся и прибавил звук телевизора.
— Ну и что тут интересного, — изрек он, — обычная разборка…
Ни один мускул не шевельнулся на его лице.
— Тебе прозвище Клеш ни о чем не говорит?
Толя стукнул себя кулаком в грудь:
— Ну как же! Меня первое время в Москве мои друзья называли Клешем… Пока я их всех не отучил.
Я не знала, верить ему или нет. Лицо Толяна излучало добродушие.
— Так ты всех их отучил?
— Всех до единого. Зачем мне кликуха? А почему ты спросила?
— Да как же! — Я уж подумала, не переигрывает ли он. — Тут в статье написано, что одного из похитителей звали Клешем…
Толя озадаченно воззрился на меня.
— Ты меня обижаешь, рыжая. Как ты могла подумать, чтобы твой муж мог такой мелочовкой заниматься, играть в прятки с ментами. Ну, распотешила ты меня, огнегривая! А я-то понять не мог, зачем ты мне эту хреновину читаешь, глаза портишь! Ты лучше бы мне вслух орфографический словарь почитала, я ошибки не делаю только в слове «баксы»…
Он говорил так убедительно, что мои сомнения должны были бы мало-помалу развеяться. Но я все время помнила, как странно повел себя Антон, когда я упомянула Толино прозвище.
— Поклянись мне, что это был не ты!
— Чтоб я сдох! — немедленно отозвался Толя. — Чтоб я яичницей с беконом подавился, если кто-то, кроме тебя, дорогая, способен держать меня за шестерку. И вообще, что за глупые подозрения? Что ты там обо мне думаешь? Что я убивец, душегуб, насильник?.. Это глупо, Ларка. Я абсолютно нормальный парень, вот только налоги, допустим, платить не люблю. И хватит об этом.
Мне оставалось только отступиться от него и постараться жить дальше как ни в чем не бывало.
Следующие несколько дней я прожила как обычно, только на душе у меня было слишком пасмурно. Порой становилось так тяжко и грустно, что до прихода Толи я спасалась от одиночества у Ирины.
Ира заражала меня своей энергией, бодростью. Она совершенно не понимала моих проблем.
— Я бы, к примеру, и за киллера замуж сходила бы, если б он мне денежку давал, — говорила она.
Киллер не киллер, но какой-то богатый покровитель у Иры явно имелся. О том, что это так, свидетельствовало многое: роскошная косметика на туалетном столике, новая посудомоечная машина, мощный пылесос, радиотелефон — такой же Толя держал в машине.
Между тем Ира, при всей своей внешней открытости, не собиралась откровенничать со мной. Однажды я спросила ее:
— Скажи, а кто привел в этот дом столько новых вещей?
Ира слегка ухмыльнулась и детским голоском проговорила:
— Добрый волшебник.
Я поняла, что и ей лишних вопросов задавать не следует.
Днем я моталась по городу; оставаться дома одной мне теперь стало как-то трудно. Иногда целыми часами напролет каталась на трамвае, гуляла по Ботаническому саду, заходила в магазины. Однажды, оказавшись в районе метро «Беляево», зашла на выставку художника, картины которого мы с Каролиной как-то смотрели на Крымском валу.
Я вспомнила, что тогда мне запомнилось одно полотно под названием «Превратности любви», и решила отыскать его.
Картина была написана в жемчужно-серых тонах, которыми художник постарался изобразить дно океана. В центре полотна как будто заверчивался смерч из бирюзы с вкраплениями охры — только отойдя на почтительное расстояние от картины, можно было догадаться, что это не смерч, а потонувший корабль, уже затянутый илом, поросший ракушечником.
Я стояла и смотрела на эту картину, как вдруг кто-то, неслышно приблизившись, проговорил над моим ухом:
— Нравится?
— Нравится, — машинально ответила я и вдруг осознала, что этот голос знаком мне. Я оглянулась: Игорь!
Как он изменился! Игорь и прежде всегда выглядел импозантно, но сейчас он был одет просто щегольски. На нем было длинное черное пальто с широким поясом, алый шарф, в руках мягкая фетровая шляпа. Игорь отрастил бородку, в которой уже сквозила седина.
— Как нам поступить? — сказал он. — Поцелуемся или обменяемся рукопожатиями?
— Это все равно, — усмехнулась я. — Пожалуй, лучше пожмем друг другу руки.
В нашем рукопожатии было что-то чересчур церемонное, и, почувствовав это, мы оба рассмеялись.
— Шикарно выглядишь, — польстил он мне.
— И ты неплохо, — отметила я. — Уж не женился ли ты, Игорь?
— А что? — с молодцеватым видом проговорил он. — Может быть, скоро женюсь.
— Кто эта счастливица?
— Одна очень сильная женщина, директор гимназии, в которой я преподаю.
— Так ты работаешь? — с изумлением спросила я.
— И прилично получаю, — солидным голосом доложил Игорь. — Между прочим, дети ко мне славно относятся, да и я с ними себя почувствовал человеком… Кстати, теперь меня зовут преподавать в университет… Если не женюсь, может, и вернусь в альма-матер.
— Какие перемены! — восхитилась я. — Ужасно рада за тебя. Стоило мне тебя бросить, как ты тут же поднялся с печи, чтобы сеять разумное, доброе, вечное.
Знакомая ироническая усмешка пробежала по губам Игоря.
— На самом деле все несколько сложнее, — заверил он меня, — логическая цепочка не так элементарна… Но ты-то как?
Мне почудилось, что Игорь задал мне этот вопрос сочувственным тоном, и я не могла понять, к чему он относится. Выгляжу я весьма респектабельно, вдобавок даже слишком молодо для своих лет, одета с такой роскошью, с какой никогда не могла позволить себе одеться при Игоре…
— У тебя взгляд какой-то затравленный, — словно услышав мои мысли, объяснил Игорь.
На секунду я изо всех сил зажмурилась. Так я делала всегда, когда нежданные слезы вдруг подступали к глазам… Столько воды утекло, а мы с ним еще понимаем друг друга! Как будто нас все еще связывает любовь… Но, к счастью, когда я снова посмотрела на Игоря, он уже увел взгляд в сторону. И это было в его манере — неожиданно выказать проницательность и сочувствие, и тут же пожалеть об этом добром движении своего сердца, опасаясь, как бы ему не навязали чужую исповедь… чужие переживания. А ведь я и правда уже давно была ему чужая!
— Как родители, Варвара?
— Спасибо, неплохо. Тетка так же собачится с матерью, папа выступает в роли миротворца… Словом, если бы ты вздумала вернуться ко мне, застала бы там до боли знакомую картину…
— Я подумаю об этом, — проговорила я и сразу увидела, как по лицу Игоря пробежала нервная судорога. Он решил, что я приняла его слова за чистую монету, и испугался. Неужели у меня и в самом деле на лице было написано что-то такое… несчастное?
Видимо, догадка моя была справедлива, потому что сразу после этой шутки Игорь стал откланиваться.
— Приятно было встретиться, поболтать, но… — Игорь бросил взгляд на часы, — ученики ждут, мне пора… Если что — звони, номер прежний.
— Ну да, счастливо… Будь здоров…
Еще минута — и его черное пальто мелькнуло в проеме двери, — и я осталась один на один с картиной «Превратности любви».
Встреча с Игорем как-то странно взбудоражила меня.
Нет, о нем я, конечно, не жалела. Куда-то ушла вся прежняя тоска по нему, которую я испытывала первые месяцы жизни с Толей, особенно в Италии, когда срывалась ночью с постели, чтобы спрятать свои слезы… Сейчас мне очень хотелось увидеть родное лицо… папу, например. Только бы не идти домой. А между тем Толя уже был дома. Я подумала — позвоню ему сейчас и скажу, что поеду в Малаховку!
Я вышла из выставочного зала, спустилась в метро и позвонила домой.
Сперва я даже не узнала Толин голос, настолько он был странным. И этим странным голосом он произнес слова, смысл которых не сразу дошел до меня. И только когда Толя в третий раз повторил их, я переспросила охрипшим голосом:
— Как это произошло?
— Не важно как. Антон мертв. Поезжай к Каролине.
Антона отпевали в церкви при Даниловском монастыре.
Не просто отпевали, как прочих покойников, для которых родные добились возможности быть похороненными на этом старинном монастырском кладбище. Антон удостоился целую ночь пролежать здесь под иконами. Ночь, в течение которой я в очередь с диаконом Михаилом читала над ним Псалтырь.
Больше это делать было некому. Многочисленные друзья Антона, в том числе и мой муж, не знали этой Книги и не смогли бы пропеть по ней ни одного псалма. Правда, уже за полночь, когда все стали расходиться, Толя взял у меня из рук Псалтырь и затянул, стараясь попасть в интонацию отца Михаила: «Господи, да не яростью Твоею обличиши мене…» — и тут вдруг свечи, стоящие по концам гроба, полыхнули каким-то зловещим пламенем — и погасли…
Отец Михаил зажег свечи от лампады и молча взял из рук Толи книгу, протянул ее мне. Даже в этой полутьме было видно, как сильно побледнел Толя. Он посмотрел на меня расширившимися от ужаса глазами, губы у него дрожали.
— Ступай домой, — сказала я ему.
…Я не знала, как это произошло. Из отдельных фраз, произнесенных ребятами в автобусе, привезшем нас сюда, я поняла, что на Антона давно охотились. Что взять его голыми руками было не так-то просто. Антон был очень осторожен, предусмотрителен. В этот день они с Каролиной поехали в магазин за новым телевизором. Когда вышли из магазина — Антон нес в руках тяжелую коробку и потому не успел выхватить оружие, — рядом с ними остановилась машина… Еще секунда — и она сорвалась с места и исчезла, а Антон, прошитый пулями насквозь, стал валиться на мерзлую землю…
Я не видела его ран.
Обмывали его тело старушки, служившие при храме. Потом они одели его в одежду, приготовленную матерью Каролины, накрыли до самого подбородка смертным покрывалом, положили на лоб венчик. Наверное, и на шее у него были раны. Как говорила Каролина, ей почудилось, будто стреляли в него долго, очень долго, так долго, что, казалось, несколько пуль уже сидят и у нее в теле. Хотя свидетели утверждали, что дело произошло в считанные секунды.
Я смотрела на мертвое, красивое лицо Антона, вспоминала цвет его глаз и их выражение, некогда меня так сильно поразившее, и громко пела: «Вскую прискорбна еси, душе моя? И вскую смущаеши мя?..» Потом меня снова сменил отец Михаил, а мы с Каролиной вышли из храма на паперть, облитую лунным светом, и смотрели, смотрели на темное кладбище, на обглоданные лунной тенью памятники, похожие на старые шахматные фигуры…
На другой день после похорон и поминок, когда мы с Толей последними собирались было уйти от Каролины, она проговорила:
— Толя, ты не оставишь со мною Лару и на эту ночь? Мне что-то страшно одной.
— Лара может пожить с тобой сколько хочешь, — мягко произнес Толя. — И я в любой момент в твоем распоряжении, помни это.
Он сильно спал с лица, казался измученным, но какая-то сосредоточенная, угрюмая, злая сила светилась в его глазах.
— Буду помнить, — отозвалась Каролина с горечью.
Толя склонился над ее рукой, поцеловал тонкие пальцы.
Когда мы остались одни, Каролина устало произнесла:
— Помоги мне раздеться…
На ней был узкий черный костюм.
Каролина уже принялась расстегивать крохотные пуговицы, когда я приблизилась к ней, чтобы помочь, и тут с ней случилась истерика: не справившись с тесной петлей, она рванула на себе жакет, потом стала рвать юбку, комбинацию — все, что было на ней, — и бросать все это под ноги:
— Вот так! Вот так! Я пришла к нему в чем мать родила, в том же и уйду!
Я, метнувшись в ванную, набросила на Каролину взятый оттуда махровый халат и изо всех сил обхватила ее руками.
— Я предала его, Лара! Я любила его, понимаешь, я полюбила его и ничего не сделала, чтобы вытащить Антона из этой ямы, в которую он скатился! Мне казалось, так лучше — жить и не задумываться! И нашу дочь я предала! Я хуже, чем те убийцы, которые расстреляли его!
Я довела ее до кровати, уложила.
— А как ты думаешь, не билась ли вот так же по милости Антона какая-то женщина и не плакал ли какой-то ребенок? — тихо спросила я ее.
— Ах, я не знаю! Ничего не знаю! Знаю только одно… — Она вдруг со страшной силой вцепилась в ворот моего пиджака. — Уходи от них, Ларка! Я не могу сказать с уверенностью, но думаю, в той статье шла речь именно про твоего Толяна. По крайней мере, Антон мне не сказал определенно, что Клеш — это не твой муж. Да, вот такими делами они занимались! И еще я должна тебе сказать — Толян возил сюда к нам эту вашу соседку, Антон сначала даже хотел их обоих выставить, но Толе удалось уломать его… Он западает на эту Ирину…
Теперь мне наконец все стало понятно.
Крохотного волоска оказалось достаточно, чтобы мозаичные кусочки сложились в отчетливый узор. Мне не было больно. Ощущение было такое, словно сквозь меня свищет бешеный ветер, уносясь в космические пространства. А чего же я хотела? Разве я сама любила Толю?
— Кстати, он все время на кого-то западает, — продолжала Каролина. — Такой человек. Уйди от него, уходи от них ото всех. Меня освободила смерть Антона, а ты можешь освободить себя сама.
— Что ты будешь делать? — спросила я Каролину.
— Для начала продам эту квартиру. — Она передернула плечами. — Не могу здесь оставаться. Съедемся с мамой и дочкой где-нибудь в тихом, зеленом месте. Денег мне на первое время хватит, потом буду искать работу… Ну а ты? Мне удалось убедить тебя?..
— Пожалуй, — проронила я. — Давно я чувствую себя не в своей тарелке. Только вот не знаю, где она, моя тарелочка.
Мы обнялись, как сестры, и заплакали друг у друга на плече.
Финал
Долгий настойчивый звонок в дверь. Я неохотно встала, набросила халат. Скоро полдень. В такой час ко мне мог нагрянуть только один человек, и не открыть ему нельзя. Другим я, случалось, не открывала. Посмотрю в глазок и тихонько на цыпочках отправляюсь обратно на диван. Нечего приезжать без приглашения и звонка! Этим часто грешила Аська, любопытная Варвара. Она обожает наблюдать ближних в несчастье, сочувствовать, помогать «добрым» советом.
Бывали дни, когда я просто не могла видеть людей, даже Лену, сестру, маму или бывших сослуживцев, замечательных в общем-то людей. И только один человек почему-то никогда меня не раздражал. Я открыла ему дверь, сказала «привет» и тут же поспешила в ванную умыться и взглянуть на себя в зеркало.
Слышала, как он открыл холодильник на кухне. Снова принес мне запас продуктов на несколько дней.
— Ну как ты сегодня? — спросил Володя, вглядываясь в меня. — Сварить тебе бульон?
— Я сегодня хорошая, очень хорошая, — бодро отвечала я.
И тут же про себя ахнула: забыла убрать бутылку со стола. Хотя оправдания были: вчера заехала Лена Мезенцева, и мы с ней за вечер выпили бутылку «Лидии», сущий пустяк. Случалось, я одна за вечер выпивала бутылку водки — и ничего.
Мой зять особенный, удивительный человек. Он может сидеть у меня часа три и не произнести ни словечка. Но с ним приятно молчать. И я очень боюсь его молчаливого осуждения. Но на этот раз он меня не осудил. Наоборот. Визит подруги ему показался верным признаком скорого выздоровления. Ведь они все считали меня больной. Люся и матушка порывались привезти ко мне сначала психиатра, потом экстрасенса, но Володя твердо сказал: «Оставьте ее в покое, пусть отлежится — и все пройдет!»
Я сама не понимала, что со мной произошло. Наверное, устала и сломалась. Развод — довольно болезненная и гнусная процедура. Но почему-то я не сошла с ума, разводясь с Игорем, хотя чувствовала себя несчастной и раздавленной. С Карасем я и вовсе развелась легко и просто, даже почувствовала некое облегчение.
После развода я поселилась в этой квартирке. Карась не стал менять нашу трехкомнатную, а купил мне эту, в очень хорошем месте, на Таллинской.
— Толик поступил с тобой очень благородно! — первым делом напомнила Аська, приехавшая меня навестить. — И вещи все прислал, и денег…
Я кивнула в ответ. Наверное, бедный Карась чувствует себя виноватым. Дурачок, это я кругом перед ним виновата. Не нужно было выходить за него. Глупейший брак, потерянные годы. Хотела насолить Игорю, сделать ему больно. Для этого изуродовала свою душу, заставила себя жить с нелюбимым…
Прошло уже три дня после развода. Я обжилась, собиралась устроиться на работу. Лена подыскивала мне место в каком-то новом журнале. Ужасно стыдно было перед родными, особенно перед папой. Не знала, как на глаза ему показаться. Дважды разведенка, без детей, без настоящего дела. Самой себе я виделась стрекозой из известной басни.
Вдруг позвонила Люська и сообщила, что папа в больнице — инсульт. И я помчалась домой. Поймала такси и замучила шофера просьбами ехать побыстрее. Совесть меня уже истерзала. Сестрица была права: это моя бестолковая жизнь доконала папу.
Все оказалось гораздо хуже, чем я предполагала. Когда я вошла в палату, он уже не разговаривал. Только посмотрел на меня долгим, беспомощным взглядом. Словно просил прощения за то, чтопомочь мне уже ничем не может. Этот взгляд невозможно было вынести, и я невольно отвернулась.
Мы просидели возле него весь вечер, но к ночи сиделка и дежурный врач нас выгнали: в палате четверо больных, душно, тесно, не до родственников. «Вы все равно ему ничем помочь не можете, придете утром», — сказал, как отрезал, доктор.
Люська плакала злыми слезами и ругалась:
— Какое убожество — грязь, теснота, больные даже в коридорах лежат! И мой отец в такой больнице? Завтра же перевезем его в Москву, в лучшую клинику.
Мама, какая-то безучастная, окаменевшая, равнодушно успокаивала Люсю:
— Тебе же доктор сказал, что его нельзя трогать.
Позже выяснилось, что мама скрыла от нас кое-что из сказанного доктором. Он велел быть готовыми ко всему, потому что жить отцу оставалось несколько дней. И еще мама старательно избегала моего взгляда. Я сразу же заволновалась: значит, именно меня они с Люсей считают виновницей его болезни.
Но когда мы в полночь вернулись домой, заглянула тетя Катя, наша давняя соседка, узнать про отца. И рассказала нам с Люсей, как он, бедный, переживал из-за сокращений. По нашему поселку, просто как эпидемия, прокатилась волна этих сокращений.
— Он виду не показывал, но боялся. Я, говорит, Катя, в дворники пойду. А можно в Москве найти работу. Мало ли у нас народу всю жизнь ездит в Москву.
Кажется, тетя Катя хотела меня успокоить, но еще больше убедила, что сокращения не могли довести отца до инсульта. Такие мелочи никогда не выбивали его из колеи. Он жил только своей семьей, нашими проблемами.
Люся сразу же повисла на телефоне и принялась лихорадочно обсуждать с Володей, как им в ближайшие дни перевезти отца в московскую клинику. Там хорошие врачи, отдельные уютные палаты.
— Сколько же это стоит? — испуганно спросила тетя Катя, заваривая нам чай.
— Кажется, от ста пятидесяти тысяч в день и выше, — рассеянно отвечала Люся.
Папа умер под утро. Тихо, без мучений, просто заснул и не проснулся. Так, по крайней мере, говорила сиделка. В четыре часа он еще дышал, а в шесть ее позвал встревоженный сосед по палате.
— И никого не было с ним рядом. Может быть, он звал на помощь, задыхался! — рыдала Люся.
Я никогда не видела ее такой. Сестра злобно проклинала нашу бездарную медицину, равнодушных врачей, бедность и серость. И с тех пор Люся всем рассказывала, что наша совковая медицина убила ее отца. Знакомые верили и вспоминали другие вопиющие примеры некомпетентности и жестокости эскулапов. Но я-то знала, что это не так. Отец страдал из-за меня. Мои разводы, мой выкидыш — вот причина его инсульта.
Папу похоронили. Я стояла на краю его могилы и думала: лучше бы меня закопали в землю, а не его. Ничего не видеть, не слышать, обо всем забыть — какая благодать!
Я осталась совсем одна, как пенек в лесу. У меня целая толпа родных и подруг. Сестра, мама, Володя не дали бы мне пропасть, умереть с голоду. И все же не одинокой я была только с Игорем, и с отцом я не чувствовала одиночества. А еще я бы никогда не стала одинокой, если бы был жив мой ребенок.
В общем, я кое-как высидела поминки, вернулась домой, легла на диван и пролежала так много недель. При воспоминании об отце, о его прощальном молчаливом взгляде меня всю корчило и ломало, как от нестерпимой боли. Но самое страшное — это тоска. Черная, дремучая. От которой только одно спасение…
В тот день я чувствовала себя намного лучше. Лена Мезенцева, несмотря на свои обычные жалобы, все-таки донор и всегда привозит с собой кусочек покоя и умиротворения. Я налила кофе, мы с Володькой выпили по чашечке, пока он варил для меня куриный бульон. Володька отметил мое доброе расположение духа и похвалил Лену. Аську он не любил.
Наконец я решилась и жалобно, робко попросила зятя:
— Володя, завтра исполняется пять месяцев со дня смерти папы. Надо бы помянуть. Сходи-ка в гастроном. Купи коньяк, три бутылки хорошего красного вина и ветчины, сыру, рыбки.
Я протянула ему деньги, но мой зять сурово сжал губы и покачал головой — нет! Я разозлилась, а потом мне стало обидно. Они с Люськой считают меня алкоголичкой. А мне всего-то достаточно стакана вина, чтобы заснуть, забыться на много часов. Им не понять, как много для меня значит это забвение.
— Завтра мы с Люсей приедем и привезем вина. — Он говорил со мной как с ребенком, которого нужно утешить, но все же нельзя перекармливать сладостями.
А когда он добавил, что и мама хочет приехать, я закрыла глаза и застонала. Где мне взять силы, чтобы пережить этот ужас сидения за поминальным столом, воспоминания, слезы, молчаливые упреки! Мама и Люся будут пристально вглядываться в меня, расспрашивать о самочувствии. Ведь они уверены, что у меня поехала крыша и меня нужно серьезно лечить.
— Если тебе тяжело такое многолюдье, мы не приедем. — Володя испуганно посмотрел на меня.
Я кивнула. Тяжело.
— Через месяц, когда исполнится полгода, я сама приеду, схожу на кладбище. Через месяц буду в порядке, вот увидишь, — пообещала я.
— Обязательно! — подтвердил Володька. — Но с сегодняшнего дня попробуй выходить, хотя бы на получасовую прогулку.
В ответ я только вздохнула. Я боялась улицы, боялась толпы, громких голосов, чужих взглядов. Мне хотелось немедленно убежать, спрятаться, забиться в свою тихую норку. Вовка считал, что это невроз, его нужно побеждать усилием воли, терпением, постепенным привыканием. Пока же, сколько я себя ни заставляла, ничего не получалось.
Только ночами, когда воцарялась полная тишина и безлюдье, я выходила на балкон и стояла там часами, жадно вдыхая прохладный, ароматный воздух, вглядываясь в темноту. Я всегда любила московские окраины. Будучи по натуре провинциалкой, я не смогла бы выжить в центре.
Когда Карась предложил мне на выбор несколько квартир, я без колебаний остановилась на этой. Из-за улицы. На первый взгляд улица Таллинская самая обычная — хрущобы, бетонные башни, трамвайные линии. Но из окон видна река! Особенно по ночам она так таинственно поблескивает вдали. Ветер доносит ароматы соснового бора. Когда-то здесь были лесные дачные окраины.
По утрам я слышала колокольный звон. Старую разрушенную церковь восстановили, начались службы. Даже не предполагала, что в Москве сохранились такие благословенные уголки, с лесом, рекой и храмом. «Я бы целыми днями только и делал, что гулял», — говорил Володька, завистливо глядя из окна кухни.
Но наступил ноябрь, холодный, промозглый, и я уже не могла подолгу простаивать на балконе. Однако моя связь с внешним миром не оборвалась. Появились знакомства. Соседка — старушка Татьяна Макаровна, которую я сразу же прозвала про себя Пульхерией Ивановной. Такая она была кругленькая, мягкая, добрая. И главное — совсем не любопытная, никогда ни о чем не спрашивала.
Наши балконы были рядом. Так мы и познакомились. Я люблю таких старушек, мне с ними легко. Как-то я отдала ей курицу, ветчину — все, что Володька принес. Потом стала отдавать съестные припасы регулярно. Она была счастлива, и мы подружились. С тех пор звонила в дверь и деликатно так сообщала:
— Ларисонька, я иду в магазин, не нужно ли чего?
Мудрая старушка сразу обо всем догадалась, никогда меня попусту не тревожила. Но знала, что мне очень нужны ее услуги. Зато ее кот Тимка все лето бесцеремонно вторгался ко мне через балкон. Наедался до отвала и отчаливал, даже не удостоив меня взглядом, не говоря уже о благодарности и ласке.
О Макаровне я сразу вспомнила, когда Володька наотрез отказался идти в магазин. И стала лихорадочно ждать его ухода. Иногда я не притрагиваюсь к вину по нескольку дней и очень горжусь собой. Читаю толстые романы. В Генри Джеймса, Джона Фаулза или мемуары ухожу с головой — и все, меня нет.
Но вчерашний визит Ленки хоть и вернул меня к жизни, но сильно растревожил. Она как-то вскользь, невзначай рассказала, что Игорь обо мне спрашивал, как я живу, что поделываю после развода. Я вдруг испугалась.
— Нет-нет, я ни словом не обмолвилась, — успокоила меня Лена и почему-то обвела глазами стены моей комнаты и потолок.
Не нужна мне ничья жалость, особенно его. Но я поняла, что сегодня толстый том Алданова меня не спасет. Наконец Володя простился, строго взглянул на меня и ушел. Я тут же набрала номер Макаровны. Никого. Моя Пульхерия могла уехать к племяннице или отправиться в соседний дом нянчить ребенка. Она любила быть нужной и откликалась на любые просьбы о помощи.
Я звонила каждые полчаса, даже подошла на цыпочках к ее двери и постучала. За дверью звонко затявкала болонка Луша и недовольно мяукнул кот. Моя спасительница не возвращалась.
Была у меня и еще одна знакомая в этом доме. В первые же дни моего здесь проживания явилась ко мне бойкая накрашенная дама, общественница. Потребовала деньги на детскую площадку. Потом как-то звала на собрание жильцов дома. Они регулярно заседали раз в квартал.
Эта бойкая Маша уже несколько лет сидела дома с маленькими детьми, очень нуждалась в общении, поэтому совершенно добровольно взваливала на себя всякие общественные поручения. Я всегда была с ней вежлива, но быстро выпроваживала.
А примерно месяц назад, стыдно вспомнить, она застала меня в весьма неприглядном виде. Я распахнула дверь, пригласила ее к себе и даже предложила рюмочку коньяку.
— У вас какой-то юбилей сегодня? — весело спросила она, охотно выпила и от второй не отказалась.
Потом я набросила одну из своих шуб — Карась купил в Греции — и вышла на балкон покурить. У Маши даже глаза вспыхнули.
— Не менее полутора тысяч долларов, — пролепетала она, с благоговением потрогав мех, и с ужасом смотрела, как я роняла пепел на сокровище, вытирала рукавами грязные перила балкона.
С тех пор Маша меня очень зауважала порывалась продолжить знакомство, но я ее ни разу не впустила. А сейчас вдруг вспомнила о ней и снова схватила телефонную трубку. На счастье, никто не ответил.
В бессильной ярости пометавшись по квартире, я вдруг, будто завороженная, застыла у окна. За окном начинали синеть ранние сумерки и шел снег. Крупные пушистые снежинки медленно и величаво плыли к земле. И я вдруг вспомнила такой же ноябрьский день, когда мы в первый раз гуляли с Игорем по Воробьевым горам. Такие же снежинки обжигали мне тогда щеки и губы.
Пропасть между той и нынешней Ларисой Игумновой была так велика, что я ужаснулась и заплакала. Сначала тихо, потом зарыдала в голос. Я уже не любила Игоря, все прошло, но почему же так нестерпимо больно было вспоминать те дни?
Нужно было что-то делать, чтобы не сойти с ума. Я начала лихорадочно одеваться. Как ни страшно выходить на улицу, но бежать больше некуда. Я натянула вязаную шапочку, старую дубленку, которую Карась называл «рабоче-крестьянской», и осторожно вышла на лестницу. Подбадривала себя — через пятнадцать минут вернусь обратно. Всего-то труда — добежать до первой палатки или любого магазина.
Я должна была выйти из заточения именно в этот час, и судьба чуть ли не насильно выгнала меня на улицу.
Я неуверенно семенила по скользкой асфальтовой дорожке. Сердце учащенно билось, ноги казались ватными. Хотелось шарахнуться от каждого редкого прохожего. Одичала, отвыкла от людей. Как назло, в поле зрения — ни одной палатки. Только вдали, квартала за три-четыре, светился огнями большой торговый центр. Туда и нужно было добраться.
Но безлюдье, тишина и снегопад понемногу меня успокоили. Даже порадовалась, что завтра похвастаюсь Володьке: все-таки выполнила обещание, пересилила себя и заставила выйти на улицу. Но себя не обманешь. Не знаю, что думали обо мне родные и друзья, но в собственных глазах я пала очень низко, на самое дно. Звонить Маше, просить ее сбегать в гастроном! До какого же унижения я дожила.
Больше всего я боялась заглядывать в будущее, а сейчас мельком заглянула и испугалась. В хорошие минуты оно мне представлялось таким… О работе даже думать было противно. Продам шубы, бриллиантовое кольцо и серьги, хватит на два-три года безбедного существования. Буду читать, писать стихи. Может быть, из этого что-нибудь получится.
Раньше я проклинала Карася за то, что он приучил меня пить. А виноват ли он? С волками жить… Толик, его друзья пили немного, но их жены не брезговали алкоголем. Так они, жены, спасались от тоски и безделья.
Почему-то вспомнилась Зоя, моя давняя приятельница. Она окончила иняз, знала два или три языка. В последний раз, увидев ее год назад, я была поражена: Зоино лицо напоминало череп, обтянутый кожей, глаза безумные, воспаленные, речи бессвязные. Но при этом одета в вечерний туалет от Веры Монт, безукоризненно причесана.
Не из одного только женского любопытства мне хотелось знать, что будет с Зоей через пять — десять лет. Но сравнивать себя с Зоей бессмысленно. У нее деньги, муж, ребенок. Я же вполне могла стать похожей на тех несчастных, которые собирают пустые бутылки возле гастрономов, мечтая накопить к вечеру рубль на бутылку «Краснодара».
Я никогда не испытывала брезгливости к этим несчастным женщинам. Впрочем, только с большой натяжкой можно было назвать их женщинами и даже поверить, что они когда-то принадлежали к прекрасному полу. Недели две назад сестрица пугала меня такой судьбой, но я беспечно отмахнулась от ее карканья.
А теперь вдруг сказала себе твердо — с завтрашнего дня завязываю. В память о папе. На поминках выпью только одну рюмку — и довольно. Каждый день прогулки и обязательно какое-нибудь занятие. Хотя бы Люське помогать, печатать документы для ее фирмы, составлять грамотные договоры. Сестра уже предлагала мне теплое местечко.
Но все мои благие намерения улетучились, едва я заметила вдалеке палатку. Еще не совсем стемнело, медленно сгущались синие сумерки, а заветная палатка уже зазывно и ярко светилась у дороги.
Я заметно повеселела и нащупала в кармане несколько хрустящих бумажек. К моему удивлению, Карась продолжал аккуратно, раз в месяц, присылать мне деньги. Вежливая почтальонка доставляла мне их прямо на дом. Володька сердился:
— Позвоню ему и попрошу отсылать милостыню в монастырь или детский дом. Обойдемся без его денег. Еще неизвестно, как он их зарабатывает.
А я пожимала плечами. Карасю очень хочется соответствовать мировым стандартам. Он мне не раз говорил, что в цивилизованных странах муж после развода платит жене алименты. К тому же Толян уверен, что виноват передо мной. Ему давно нужно было бежать от меня, и как можно дальше, куда-нибудь на Канары.
Я уже осторожно перешла дорогу, заветная палатка была метрах в трехстах. Но тут мое внимание привлекла странная группка на обочине. Двое мальчишек, один лет двенадцати, другой — чуть помоложе, и старушка осторожно подтащили что-то к пустому газону, уже припорошенному снегом, а затем опустили на землю.
Старушка была препотешная. В какой-то задорной шляпке, бывшей последним криком моды в годы Первой мировой. Какие-то остатки экстравагантности еще сохранились в ее облике — лаковый ридикюль, болтавшийся на сгибе локтя, карминные губы и брови в ниточку. Обычный для интеллигентной старушки гардероб — древняя котиковая шубка с проплешинами, из-под шубки на полметра виднеется байковый халат, спущенные чулки и короткие ботики с шерстяными носками.
Еще лет десять назад много встречалось в Москве таких старушек, а теперь они раритеты. Сначала я с любопытством разглядывала ее и только потом обратила внимание на ношу. На каком-то старом клетчатом пальто лежало живое существо. Некоторые прохожие проходили, склонялись, охали и спешили дальше.
Я тоже шагнула на газон, взглянула и в ужасе отпрянула. На грязном окровавленном пальто лежала собачонка, примерно той же породы, что и чеховская Каштанка. Маленькая, рыжая, с пушистым хвостом и острыми ушками. При свете уличного фонаря ярко блеснули ее глаза. В них застыла боль и смертная тоска.
— Что с ней? — спросила я.
— Полчаса назад прямо на моих глазах попала под колеса, — обстоятельно рассказывала старушка. — Такая огромная черная машина с зеркальными стеклами…
— Да они живых людей давят, им все нипочем. Что им какая-то собачонка! — крикнула на ходу сердитая тетка и побежала прочь.
— Котеночек, принеси что-нибудь, надо ее прикрыть, а то замерзнет. — Старушка кивнула на соседнюю помойку.
Там высилась целая груда тряпья. Мальчик притащил детскую куртку и заботливо накрыл собачонку. Несчастная вся скорчилась то ли от боли, то ли от холода.
— Гуманитарная помощь, — объяснила мне старушка. — Присылают наши благодетели всякое тряпье, даже нищие не берут, а нам пригодилось.
Подошел старичок, бережно прижимая к груди батон. Посочувствовал:
— Ида Генриховна, что с ней?
— Задние лапки ей раздавило, Георгий Павлович. Надо бы к ветеринару.
— Ни ветеринар, ни профессор ей не поможет, раз машина переехала. Усыпить ее надо, — брезгливо бросил на ходу какой-то амбал в длинном, до пят, кашемировом пальто и с несмываемой печатью превосходства на физиономии.
У меня словно ноги приросли к газону. Я и не порывалась уйти. Стояла и смотрела на собачонку, живую аллегорию своей жизни. Разве это не я — рыжая, раздавленная, больная, почти махнувшая на себя рукой. Разве я не сижу в глубокой яме отчаяния, откуда не так-то просто выбраться. И эта собака тоже обречена. Едва ли можно ее вылечить.
И все же мне не хотелось, чтобы ее усыпили. Или пристрелили, как один мужичок посоветовал.
— Что же делать, что же делать? — бессмысленно шептала я, не замечая, что слезы уже ручьями бегут по щекам.
Ида Генриховна внимательно посмотрела на меня как на союзника, родственную душу. Поняла, что я не уйду. Положение наше казалось безнадежным, но все-таки становилось легче, если рядом появляются люди, готовые не только на пустое сочувствие, но и на помощь, поступок.
— Здесь недалеко ветеринарный пункт, но мы ее не донесем, — неуверенно подумала она вслух и, наклонившись, погладила собачонку. — Потерпи, лапонька, что-нибудь придумаем.
— Зачем нести на руках, мы сейчас поймаем такси или частника, у меня есть деньги! — обрадовалась я.
Поставив мальчишек на одной стороне дороги, сама я перебежала на другую.
— Как вас зовут, деточка? — крикнула мне вслед Ида Генриховна.
Она стояла под фонарем, такая смешная, крохотная, сухонькая, как былинка. Но сколько в ней было мужества, сострадания и готовности броситься на помощь всем терпящим крушение.
Первой остановилась новенькая «восьмерка». Молодой парень, лицо каменное, жестокое. Этот не возьмет, сразу решила я и не ошиблась. Посмотрел на меня как на сумасшедшую и молча захлопнул дверь. Я едва успела отпрянуть, чуть не поскользнувшись на отполированной обочине.
Я быстро сообразила, что останавливать иномарки и новенькие, с иголочки машины бесполезно. Сосредоточилась на «Жигулях». Там сидел народ попроще. У одного пожилого шофера радостно вспыхнули глаза при виде крупной купюры.
— Садись! — по-купечески размашисто пригласил он.
Но как только я объяснила, в чем дело, его лоснящаяся физиономия разочарованно скукожилась:
— Там небось кровищи море. Мне потом неделю машину мыть. Не-не, не пойдет.
И, не слушая моих объяснений, быстро укатил. С простым народом тоже ничего не получалось. Интеллигентные мялись, вяло бубнили что-то о нехватке времени и о том, что это пустая затея. Прошло полчаса, я устала объяснять в который раз, что собака укутана и сиденьям ничто не угрожает, и к тому же я буду держать ее на коленях.
Мальчишкам вообще не удалось никого остановить. А мне — разжалобить и убедить. В растерянности и недоумении стояла я на краю тротуара. Какие равнодушные сонные лица, какие пустые глаза. Я была лучшего мнения о человечестве. Мне казалось, что хотя бы каждый второй должен быть отзывчив, сердоболен, готов помочь ближнему, если это не связано с большими затратами и потерей времени и сил. Ида Генриховна, по-видимому, знала людей лучше. Она смотрела на меня и детей с покорной обреченностью. Осторожно засеменила в своих скользких ботиках на дорогу и тоненько крикнула мне:
— Ларисонька, это бесполезно. Придется отнести ее ко мне. Боюсь, она замерзнет.
И тут я разозлилась. Погрозила кулаком вслед отъезжающей машине:
— Чтоб у вас колеса отвалились! Мерзавцы, бездушные иуды. Чтоб вам всем вот так когда-нибудь лежать у дороги, истекать кровью и не дождаться помощи!
Какие только проклятия я не посылала на головы проезжающих! Самой страшно вспомнить. Стоит на дороге эдакая фурия, волосы разметались из-под шапки, даже глаза горят в сумерках, и проклинает автолюбителей. Удивляюсь, как не вызвали психушку.
Опомнившись, я заметила, что рядом стоят светлые «Жигули», водитель даже стекло опустил, чтобы получше меня разглядеть. В глазах интерес и сострадание. Слава богу, интеллигентное лицо, подумала я. Пожалуй, первое среди свиных рыл и хитрых хорьковых мордочек.
— Так и не понял, к кому обращен ваш гневный монолог? — тихо сказал мужчина за рулем. — Садитесь!
Тут я уцепилась пальцами за край бокового стекла, склонилась к нему и забормотала:
— Понимаете, объясняю этим недоумкам, что собака завернута в пальто и куртки, сиденьям ничто не угрожает, к тому же я возьму ее на колени, тут две остановки до ветеринарного пункта, и деньги предлагаю, но ни одна зараза не хочет ехать!
— Ваша собака? — мягко прервал меня водитель.
— Уличная, ничья — попала под колеса.
Он открыл дверь и вышел. Первый и последний из всех, к кому я обращалась за помощью. Старушка и мальчишки выглядели такими жалкими и беспомощными. Но вот появился настоящий мужчина, спокойный, уверенный, да еще на колесах. Мы все так и вцепились в него.
— Ее переехала машина, — затараторил мальчик поменьше, показывая на собаку.
— Едва ли, — усомнился наш спаситель, склоняясь над потерпевшей. — Она бы уже погибла.
— Лапки, лапки ей раздавило, — морщась, как от сильной боли, объяснила Ида Генриховна.
Мужчина осторожно поднял укутанную собачонку, и мы толпой двинулись к машине. Несмотря на протесты старушки, я села на заднее сиденье и положила рыженькую на колени. Она тихонечко повизгивала. Как видно, перемещения приносили ей страдание, но она понимала, что ей хотят помочь, и терпела.
Ида Генриховна села рядом с водителем и приготовилась указывать дорогу. Мальчишки жалобно канючили, просились ехать с нами. Мужчина улыбнулся и кивнул. Они проворно уселись рядом со мной. Мне и в голову не приходило разглядывать: молодой он или старый, блондин или брюнет. Он для меня был просто Человек, причем с большой буквы.
Доехали мы за несколько минут. Светящееся табло оповещало: «Доктор Айболит. Прием круглосуточно!» Генриховна испуганно покосилась на табло:
— Ларисонька, здесь тоже надо платить. Сейчас повсюду надо платить.
Сколько было в этих словах тоски по добрым старым временам с бесплатным образованием, медициной. А я уже не испытывала по ним ностальгии. Просто достала из кармана бумажки и продемонстрировала старушке, когда Человек снова взял рыжую на руки и направился к Айболиту.
Он нас разочаровал. Вместо доброго мудрого старичка навстречу вышел разбитной парень, не обремененный работой. Он явно скучал и обрадовался нашему появлению. Деловито осмотрел собаку.
— Пожалуйста, доктор, поскорее сделайте ей укол, обезболивающий. Только бы она не мучилась, — попросила я.
А Иду Генриховну волновало другое.
— Пожалуйста, доктор, скажите, она выживет?
Парню это очень не понравилось. Он вежливо, но твердо приказал:
— Мадам! И вы, мадам, немедленно выйдите в коридор. Не мешайте мне работать.
Он не внушал мне доверия, но что нам оставалось делать? Только подчиниться. Мы сидели вчетвером на клеенчатом диванчике, а наш спаситель стоял у окна. Тут я впервые разглядела его. Высокий, лет сорока трех — сорока пяти, в спортивной куртке. Волосы густые, волнистые, но совсем седые. Черты лица правильные, благородные, как у древнего викинга.
Я так боялась, что он доставит нас к дверям ветпункта и простится. Мы снова останемся одни, беспомощные и неловкие. Но этот рыцарь нас не покинул и даже как-то органично влился в наш маленький коллектив.
Я заметила, что Генриховна украдкой с восхищением на него поглядывает. Вдруг она шепнула мне:
— Не правда ли, чувствуется порода? Все-таки внутреннее душевное благородство накладывает отпечаток и на внешность.
— Не всегда, — не согласилась я. — Сколько встречала негодяев с внешностью херувимов и ангелов в облике квазимодо.
Тут рыцарь подошел к нам и сказал, что пора представиться, раз перевязка затягивается.
— Родион Петрович, — слегка поклонился он.
Ида Генриховна кокетливо протянула ему свою крохотную сморщенную лапку. Я хотела ограничиться кивком, но почему-то передумала. Его ладонь была большой, мягкой, пожатие оставило чувство надежности и покоя. После смерти папы я полностью утратила эту уверенность — в том, что у меня есть опора и верный человек рядом.
Знакомство наше состоялось двадцать первого ноября в семь часов двадцать минут вечера.
Айболит, несмотря на свою молодость и легкомыслие, оказался хорошим ветеринаром. Еще один пример несовпадения внешности и содержания. Когда мы вошли, собака лежала на клеенчатом столе с перевязанными задними лапами. В ее глазах уже не было страдальческой тоски. Казалось, она спрашивает: а что со мной будет дальше? Действительно, что дальше, если она выживет? Куда ее пристроить? Не выбросить же снова на улицу.
— Ей уже не больно, она не страдает? Вы сделали укол? — сразу же вцепилась я в Айболита.
Он меня успокоил: обезболивание настолько сильное, что пострадавшая будет спокойно спать до утра. Согласился даже оставить собачонку у себя до завтра, а потом пристроить в одну из частных ветеринарных лечебниц или у знакомых старушек, которые, выхаживая чужих собак и кошек, зарабатывают на жизнь. Плата не показалась мне чрезмерной, хотя Генриховна вздрогнула, когда Айболит назвал сумму.
В это время Родион Петрович осматривал собаку и спросил озабоченно:
— А что у нее с лапами? Кости целы?
— С одной лапой ей пришлось проститься, — вдруг легко и просто брякнул Айболит, как будто сообщил нам о такой малости, как стрижка.
Но, увидев наши испуганные физиономии, почему-то обиделся:
— Я сделал все, что мог. А она могла лишиться и обеих лап. Это гораздо хуже, согласитесь. — Вначале он втолковывал нам это как капризным клиентам, требующим невозможного, но завершил даже весело: — Ничего! Собаки отлично прыгают и на трех лапах. Я знаю дюжину таких случаев.
Я с негодованием покачала головой, а Родион улыбнулся. Этот Айболит был неисправимым оптимистом: любую трагедию ухитрялся разбавить юмором и прилепить к ней счастливый финал. Такое смешение жанров нечасто встретишь в наше время. Счастливец! Может быть, так и нужно жить?
— Прощай, лапонька, до завтра! — Ида Генриховна погладила собачонку.
Та с трудом разлепила веки и посмотрела на нас сонно и почти равнодушно. «А, будь что будет!» — прочитала я в ее светлых, выпуклых глазах, прежде чем они снова закрылись. Такого облегчения, такой радости я давно не испытывала. Как будто мы сделали большое, важное дело — спасли живое существо от боли, ужаса, заброшенности, от самой смерти.
На улице я приготовилась проститься с Родионом, сказать ему на прощание что-нибудь приятное. Мужчины это очень любят — похвалы, самую примитивную лесть, даже сдержанное одобрение. Но для этого человека мне хотелось найти такие настоящие добрые слова, чтобы он всю жизнь помнил.
Ида Генриховна тоже приготовилась благодарить. Она с обожанием смотрела на Родиона. Наверное, тоже не избалована общением с благородными мужчинами. И почему они повывелись — сильные, великодушные, мужественные, кормильцы и защитники?
Но сам Родион Петрович не торопился прощаться с нами. Усадил на заднее сиденье мальчишек, Сашку и Мишку. Вот кто радовался неожиданному приключению! Предложил старушке место на переднем сиденье, но Генриховна отказалась:
— Мы с ребятишками скоро выходим, а Ларисоньке еще три квартала.
Мне хотелось обсудить с ней судьбу нашей Каштанки. Найти бы одинокую женщину, которая согласится ухаживать за животиной, а я буду платить ежемесячное содержание. Но теперь пришлось отложить разговор на завтра. Ида Генриховна села и тут же горячо, сбивчиво затараторила о том, что в наше жестокое время так мало осталось людей с сердцем, что она так тронута его участием… Все правда, думала я, но так старомодно. Что же мне ему сказать?
Не успела Генриховна излить переполнявшее ее чувство благодарности, как мальчишки закричали: «Приехали, вот наш дом!» Опередив меня, Родион открыл дверцу, извлек старушку с заднего сиденья и проводил до подъезда.
— Это я должен вас благодарить, Ида Генриховна. Ведь мог проехать мимо, посочувствовав на ходу. А вы меня остановили. Я сначала удивился, потом понял, что не могу не присоединиться к вам. Мы — не могу найти слова точнее — единомышленники.
— Да, мы, наверное, родственные души, — согласилась Ида Генриховна, обведя глазами меня, мальчишек и Родиона.
Наконец родственные души распрощались, договорившись встретиться завтра, и мы с Родионом Петровичем снова сели в машину, хотя мой дом был уже виден, могла бы и пешком добежать. Тут я вспомнила о палатке, но как-то равнодушно и тупо. Мысли были заняты другим.
Он подвез меня к самому подъезду, заглушил мотор и обернулся ко мне:
— Вот о чем я думаю, Лариса Васильевна. Приятельницы моей мамы, страстные собачницы и сердобольные женщины, пожалуй, согласятся взять нашу Каштанку. Сегодня же поговорю.
Оказывается, мы с ним всю дорогу сидели рядом и размышляли об одном и том же. Я тоже собиралась просить мою Макаровну подыскать рыженькой новую хозяйку, а я буду исправно доставлять корм. Но почему-то такой благополучный исход меня не устраивал. Что-то мешало, что-то меня мучило.
Я — воплощенное суеверие. Шагу не могу ступить без приметы, дурной или доброй. Во всем вижу предзнаменования, тайные знаки судьбы. И сейчас во мне крепла уверенность, что эта несчастная собачонка послана мне не случайно. Чтобы испытать и подарить надежду. Внутренний голос настойчиво нашептывал: «Возьми, возьми ее себе, в ней твое спасение».
Вместо того чтобы сказать ему несколько приятных слов и проститься, я сидела в машине, и слушала его, и сама что-то рассказывала. Предмет нашей беседы ничего не значил. Главное было в том, что он не выказывал желания уехать, а я — вернуться в свое заточение.
Встречаются два человека. И с первых минут осознают, как им тепло, уютно друг с другом, и не могут наговориться. Мне такое чудо выпадало всего два-три раза за тридцать лет. И к чуду далеко не всегда примешивается влечение или зарождающаяся любовь. Я вспомнила Сережку, к которому относилась как к младшему брату. Его безумная мечта вырастить и испечь свой хлеб осуществилась, а дальше-то что?
К Родиону я долго относилась только как к другу. Хотя с первой же встречи он мне очень понравился. Так же как зять Володя, с примесью нежности и восхищения. Поэтому без всякой задней мысли я предложила моему новому знакомому подняться ненадолго, вымыть руки, ведь он носил собаку, завернутую в грязные гуманитарные лохмотья. Если пожелает, выпить чаю. Он охотно согласился.
Я дала ему чистое полотенце, поставила чайник и придирчиво оглядела кухню. Здесь безусловно живет очень достойная дама: везде порядок, на плите стоит свежий куриный бульон, на столе — яркая баночка с дорогим жасминовым чаем и никаких следов спиртного! Если бы не Володька, я бы давно опустилась на самое дно и не вынырнула. Хорохорясь перед близкими, в душе я понимала, что слаба. И больше всего на свете боюсь своей беспросветной тоски. Одна я с ней справиться не в силах.
Быстро спрятала халат, пригладила волосы перед зеркалом. Почему-то перед Родионом мне стыдно было предстать растрепой и неряхой. Я сделала красивые бутерброды, как учила меня Люся, украсив каждый долькой лимона и каплей соуса. Заварила свежий чай.
— Три часа назад я вышла из дому на несколько минут, в гастроном и обратно, — смеялась я. — Вот какие зигзаги и пируэты выписывает жизнь.
— И очень хорошо, что выписывает! — одобрил Родион, глядя на дымящуюся чашку. — В последнее время дни тянулись так однообразно тоскливо, беспросветно, что я подумывал — еще немного, и взвою, не выдержу. И вдруг вы меня встряхнули. Ида Генриховна — просто чудо. Таких женщин я видел только в кино.
— Действительно, нам с вами повезло. Давно мечтала встретиться и подружиться с такой старушкой из прошлого века.
Чай давно был выпит, о спиртном я себе категорически запретила думать. О себе мы рассказывали друг другу осторожно, только краешком задевая свое житье-бытье. Чувствовали, что еще не время. Конечно, мне хотелось узнать что-нибудь о своем новом знакомом, но по себе знала, как неприятно пытливое, настырное любопытство.
Родион спохватился около девяти. Извинился за то, что слишком засиделся для первого визита. На прощание, пожав мне руку, смущенно сказал:
— Никак не могу вспомнить, Лариса, где я мог вас видеть? Мы встречались раньше? Конечно нет. Внешность у вас неординарная. Я бы запомнил, увидев вас даже мельком.
Какое-то недоразумение, решила я. Может быть, приснилась ему во сне. Такое бывает, снится тебе незнакомый человек, а через какое-то время ты его встречаешь. Его удивило такое объяснение. С тех пор как он увидел меня на дороге, он не переставал удивляться. Я казалась ему загадочным существом.
— А хотите, я угадаю, кто вы? — нахально спросила я. — По тому, как с вами спокойно и легко, мне кажется, что вы — доктор, только, конечно, не айболит, а человеческий.
Он растерянно кивнул.
— Вот видите, вы мне точно снились! Вы психиатр, нет? Только не стоматолог. Ненавижу стоматологов.
Итак, мое любопытство было удовлетворено. Он эскулап. Просил позволения позвонить завтра, узнать, как собака. Наконец мы простились. Я вернулась на кухню, налила себе холодного чая. И вдруг накатило. Так захотелось выпить, что готова была грызть край стола. Но теперь я знала, что справлюсь, обязательно справлюсь.
Это была первая ночь за пять месяцев, когда я легко провалилась в сон. А утром проснулась с приятным ощущением, что у меня появились дела и заботы. Дел по горло! Пристроить собаку в частную собачью клинику. Кстати, как назвать псину? Ведь я еще не отказалась от мысли оставить ее себе. Ида Генриховна называет ее лапой, лапонькой, лапушкой. Прекрасное имя — Лапа. Так и решила. Одно дело сделано.
Пристрою Лапу в лечебницу, потом зайду в церковь, закажу панихиду по папе. А вечером помяну его дома. Нашествия мамы и сестры я уже не боялась. Посидим вместе. Поминки — чистая условность, если не забываешь ушедшего и не веришь в то, что он умер навсегда.
Не успела я допить кофе, как позвонили в дверь. На пороге — Ида Генриховна. Вчера я продиктовала ей свой телефон и адрес. Она достала из лакового ридикюля книжечку и аккуратно все записала. А сейчас, изящно оттопырив мизинчик, пила кофе из крохотной чашки и извинялась за ранний визит. Спит она три-четыре часа в сутки, в пять уже на ногах, гуляет с собаками, и в десятом часу утра день для нее в разгаре. Но я Генриховну успокоила: она меня не разбудила, я уже собиралась уходить.
— Я, Ларочка, не спала всю ночь и приняла решение, — торжественно сообщила она мне. — У меня две собаки, ну станет на одну больше. Соседи помогают, отдают косточки, кусочки…
— Не волнуйтесь за нее, Ида Генриховна. Сначала мы ее вылечим, а потом решим, куда пристроить. Может быть, я оставлю ее у себя.
Мне захотелось обнять старушку, так я растрогалась и умилилась. Нет, не переводились и никогда не переведутся у нас добрые души. У Иды две собаки, да еще гуляет с соседскими, да еще кормит кошек в подвале. Бесплатно ведет в Доме культуры кружок немецкого языка для детей. Пока не решилась спросить, есть ли у нее родственники, близкие. Еще успею.
Я подхватила Генриховну под руку, и мы заторопились из дому, дел предстояло много. На лестнице встретились с Машей. Она просто обалдела, увидев меня с такой экзотической спутницей. Раскланялись и прошли мимо. Какое счастье, что я ей вчера не дозвонилась. Неизвестно, как сложилась бы моя жизнь.
Несмотря на ее мольбы, я отговорила Генриховну ехать: одна я быстрей обернусь. Довела ее до подъезда. Всю дорогу она рассказывала не о себе, а о Лапе. Оказывается, собака была домашней, избалованной, но судьба переменчива…
— Вот в том доме жила ее хозяйка, интеллигентная женщина, учительница, — показала мне Ида Генриховна на одну из башен. — И собака хорошей породы, не помню, как называется. Два года я видела их чуть ли не каждый день, гуляли на берегу и во дворе.
Но летом Лапина хозяйка умерла, и собака очутилась на улице. Правда, добрые люди подкармливали, но это совсем не то.
— Такие животные быстро гибнут. Они не умеют жить в подвалах, бегать по улицам. Вдобавок эта собачка нежная, деликатная, — сокрушалась Ида.
Но вот пришли к ее подъезду. И тут на прощание она мне выдала самое сокровенное.
— Какой мужчина! — мечтательно и восторженно произнесла Ида Генриховна, томно прикрыв глаза.
Я улыбнулась лукаво:
— Любви все возрасты покорны, да, Ида Генриховна?
— Влюбилась, влюбилась без памяти! — чистосердечно призналась она, положив ладошку на грудь. — Всю ночь не спала. В Родиона Петровича и в вас, Ларочка.
— Вы счастливый человек, дорогая Ида Генриховна! — воскликнула я с завистью. — Я не влюблялась целую вечность и, думаю, уже утратила эту способность. На душе словно груда остывшего пепла, и ни одного уголька.
Ида взглянула на меня с изумлением:
— Ах, мне бы ваши годы и вашу внешность, дорогая. Вокруг меня была бы пустыня из разбитых сердец. Но бодливой корове бог рогов не дал. Всю жизнь я выглядывала любовь, но она мне не давалась.
— И мне тоже, — угрюмо завершила я.
Итак, у меня появилась новая подруга. Завтра она придет ко мне на чашечку чаю. Чувствуется, питает ко мне жгучий интерес. Она мне тоже любопытна. Мы с ней женщины двух таких несхожих поколений. Из нее до сих пор фонтаном бьет энергия, созидательная, а не разрушительная.
Я шла по улице и улыбалась, вспоминая Иду. Надо же — семьдесят три года, и такая романтическая нежность в душе, и мысли о любви. Рядом с ней я чувствовала себя совершенной развалиной.
Пренебрегши трамваем, поймала частника. Карась приучил меня к роскоши и замашкам богатой женщины. Нужно отвыкать, сказала я самой себе сурово. Отвыкнуть будет нетрудно. Ведь я с детства привыкла к бедности и строгой экономии.
Айболит встретил меня как старую знакомую. На этот раз у него были пациенты: щенок белого дога, ласковый и приставучий, а еще злобный, угрюмый ротвейлер, который тут же облаял меня. Хозяин оттащил своего волкодава и посмотрел на меня враждебно и раздраженно.
Мне пришлось подождать в приемной, пока владелец дога, добродушный толстяк, закутал своего белого «сыночка» в одеяльце, прижал к груди и, кивнув мне, исчез за дверью.
— Правду говорят, что собака — это характер ее хозяина, — сказала я Айболиту.
— Точно! — подтвердил он.
Из его приемной вела дверь в отдельную палату, где «лежали» наша Лапа и одна послеоперационная кошка. Здесь было тепло, уютно, и хотя звери помещались в клетках, не было ощущения насильственного заточения.
Когда я вошла, Лапа тревожно вскинула голову. Может быть, узнала? В ответ на мой вопрос: не больно ли собаке и сделан ли ей укол, Айболит разразился довольно туманным отчетом, общий смысл которого можно было выразить так: если выживет, значит, будет жить, на все воля божья. И за то спасибо.
За клинику Айболит ручался. Содержание животин, уход за ними такой, что могут позавидовать элитные московские больницы для людей. Я поверила. Вспомнила больницу, где умер папа, и загрустила. Айболит подал мне счет и вызвал машину.
В этой фирме все было отлично организовано. Машина с санитаром выезжала на вызовы. Стоило это немного дороже, чем приемы на пункте. Имелась клиника (может, точнее назвать ее санаторием), где животных выхаживали и делали им сложнейшие операции. Обо всем этом мне весело поведал Айболит:
— Усыпить и дурак может. Нет, у нас работают такие виртуозы…
И он стал рассказывать, какие чудеса творят его коллеги. Я слушала с ужасом, Лапа — с интересом. И почему он такой жизнерадостный? Наверное, оттого, что полдня проводит с животными, пускай и больными.
Пришел санитар, здоровенный парень, и прервал болтовню Айболита. Осторожно взял клетку с Лапой и отнес в машину. Машина оказалась обыкновенным микроавтобусом, без крестов набоках. Я поехала вместе с ними, чтобы убедиться, что этот «санаторий» — не живодерня.
В автобусе я открыла дверцу и погладила Лапу.
— Не бойся, я тебя не брошу, — говорила я тихо, хотя шофер с санитаром не могли услышать за перегородкой. — Я не умею ухаживать за больными, а в этом санатории тебя подлечат. Только поэтому и отдаю тебя. А через пару недель я тебя заберу, и мы будем жить вместе. Правда, я не самая лучшая и заботливая хозяйка, но все-таки лучше со мной, чем на улице…
Лапа слушала, подняв острые ушки, и, казалось, верила с трудом.
— Мы с тобой похожи, Лапа. Ты инвалид, а я еще хуже — калека…
Начало декабря. Зима уже окончательно утвердилась в Москве. Легкий мороз, снегопады. Даже на ветках деревьев повисли целые сугробы. Только Москва-река не желает замерзать, с ней и лютые морозы не справятся. Потому что течет в ней не вода, а техническая жидкость, смесь мазута с отходами производства.
Но в экологическую катастрофу как-то не верится здесь, на берегу, где совсем рядом с бетонными коробками утопают в заснеженных садах старые дачи, сияют на солнце золотистые стволы сосен. Мы с Родионом гуляем здесь больше часа. У меня голова кругом идет от тишины и вкусного морозного духа.
Я бреду по утоптанной в снегу тропинке и слышу, как за спиной четко и размеренно хрустят его шаги.
— Мне в Москве с первых дней везет, — говорю я. — Сначала Воробьевы горы, потом Измайлово, теперь этот дивный островок, чудом вторгшийся в огромный город. Мне нужны деревья. Не три сосны, конечно, а хотя бы парк. А о реке я и не мечтала.
Говорю больше я. Родион молчит. Он вообще молчун, сосредоточенный, серьезный, но не угрюмый. Странно, но мне это нравится. Я слишком долго жила среди разговорчивых филологов и журналистов. Наверное, устала от них. Зато каждое слово Родиона Петровича весомое, запоминающееся.
До сих пор мне встречались два типа врачей. Первый тип — «невменяемые» — с равнодушными глазами, безнадежно уставшие от чужих страданий и надоедливых больных. Гораздо реже встречаются врачи по призванию, несмотря ни на что верные клятве Гиппократа. Они еще способны на сострадание. Они способны на жертвы и бескорыстие.
Горячие и холодные. «Теплых» врачей не видела. Говорят, с развитием рынка у нас появляются новые типы — откровенные дельцы от медицины, беззастенчиво выкачивающие деньги из состоятельных пациентов. К какой категории отнести Родиона, я еще не могла решить. Начинал он участковым врачом в районной поликлинике. Вот уже десять лет работает в ведомственной больнице и консультирует в частной клинике. Из этих скупых сведений было ясно, что врач он хороший.
Насколько он сердечен с пациентами, не бралась судить. Елей он не источал, но с ним было надежно и спокойно. Никто, ни один человек не действовал на меня так благотворно, даже Володька. Я с каждым днем все больше прилеплялась к Родиону. Но вот почему он ко мне ездит, зачем я ему — этого понять не могла. А спросить пока не решалась.
До встречи с ним я почти пять месяцев молчала как рыба, зато теперь не умолкала часами. Родион слушал мою болтовню с явным удовольствием, просил больше рассказывать о себе, об университете, друзьях, Касимове. Наконец добрались и до личной жизни.
— Первый мой муж был ученый человек, страшно ученый. Прочел несколько библиотек — и все как с гуся вода…
Тут Родион впервые за время нашего знакомства рассмеялся:
— Не хотел бы я попасть к вам на язычок, Лариса.
— Да, Родион Петрович, я долго преклонялась перед мужем. Разочарование было очень болезненным, когда я поняла, что можно прочесть тысячи книг и остаться совершенно никчемным человеком. Впрочем, Игорь может стать хорошим педагогом, если умерит свои амбиции. Когда я стала высказывать мужу свое мнение на этот счет, наши отношения испортились. Мужчинам нужно поклонение. Они не выносят, когда жены видят их насквозь.
И все-таки я умолчала о ребенке. Это было слишком больно. И об отце я Родиону долго не рассказывала. Старалась его рассмешить. У него была обаятельная улыбка: чуть-чуть смущенная и грустная. Ради этой улыбки я не щадила своих мужей.
— Мой второй муж оказался самым примитивным бандитом с большой дороги. Я-то думала, он бизнесмен, купец, поднимает нашу торговлю с колен. Он действительно торговал, вернее, спекулировал — бензином, валютой, машинами, чем придется. Потом я узнала, что промышлял и разбоем. А я ездила в Италию, покупала платья у «Валентино» и ведать не ведала, на какие деньги. Когда заподозрила неладное, меня чуть удар не хватил. Но он поклялся, что крови на нем нет, так, пощипали слегка двух жирных индюков, с них не убудет…
Родион вдруг искоса взглянул на меня, пристально, изучающе, словно пытался что-то вспомнить. Я поняла этот взгляд по-своему. Пускай знает обо мне все и ужасается в душе. Я сама ужасаюсь, оглядываясь в свое прошлое. Не стоит меня окутывать сиреневым туманом. Скоро сиреневый туман рассеется, и мой благородный король от меня сбежит. Кстати, надо бы погадать на него. Лена замечательно гадает на королей.
— Я своего Карася вспоминаю с юмором, — продолжала я, даже не заметив, как увлеклась воспоминаниями. — Когда-то он был простым, добрым парнем, не обремененным, правда, интеллектом и образованием. Я за него вышла от отчаяния, так измучил меня Игорь. Думала, отдохну с моим Иванушкой-дурачком…
Мы помолчали немного, и вдруг Родион невпопад спросил:
— Когда вы были в Италии, Лариса?
— В последний раз полтора года назад.
— И мы с дочкой путешествовали по Италии позапрошлым летом. Может быть, я видел вас там, случайно, мельком?
Он все мучается вопросом, где мог встречаться со мной. Я-то уверена, что никогда его не видела прежде, иначе обязательно запомнила бы. И в Италии мы были в разное время: я в сентябре, он — в мае.
— Меня сейчас словно осенило, — признался Родион, и его лицо и вправду просияло вдохновением и помолодело. — Ваш облик связан в памяти с ярким солнечным днем, знойным, слепящим, не российским.
Тут у меня мелькнула смутная догадка, но мы уже подошли к машине. Родион распахнул передо мной дверцу.
— Солнечный день — это потому, что я рыжая, — засмеялась я. — Ассоциации бывают самыми причудливыми.
Свою догадку высказывать не стала. По дороге мы говорили о другом. О том, что через несколько дней нужно забрать Лапу из «санатория».
— Вы хорошо подумали, Лариса? Может быть, все-таки устроить ее к нашей приятельнице. Она согласна, — осторожно убеждал меня Родион.
Он все еще немного сомневался во мне. Думал, минутный порыв пройдет, и собака станет мне обузой.
— Поймите, Родион Петрович, это не акт милосердия и благотворительности. Мы с Лапой родственные души. Она мне нужна. Может быть, даже больше, чем я ей.
Он удивленно на меня посмотрел. Наверное, только я сама да еще мои родные знали, что я — калека. Окружающие этого не замечали. Наоборот, в их представлении я была вполне благополучной скучающей дамой. Впрочем, Родион Петрович пока оставался для меня загадкой. Многое бы дала за то, чтобы узнать, что он обо мне думает.
— Я не спешу ее забирать, пускай заживет задняя лапка. — Я поспешно перевела разговор на будничное, любимый мой прием. — Не так уж весело она скачет на трех лапах, как обещал Айболит. Ей больно, неловко, она все еще не может понять, что лап осталось только три, да и то на заднюю больно наступать. Но со временем привыкнет.
У подъезда мы простились. Родион спешил на дежурство. Попросил позволения позвонить завтра: на Крымском новая выставка, не соглашусь ли я вывести его в свет. Я поежилась. Давно не была в свете, в толпе, на сборищах. Но Крымский — это ведь не толпа. Обещала подумать.
Что на меня нашло, не знаю, но весь вечер приводила себя в порядок. Сделала маску из моркови с оливковым маслом, втирала бальзам в волосы, а то они потускнели. Решила, что неплохо бы поправиться на два-три килограмма.
А если бы он внезапно исчез? Не позвонил больше, не явился на глаза, спросила я себя и пожала плечами. Ну, повспоминала бы его неделю-другую и забыла.
Признаться, тогда еще я больше думала о Лапе, о нашем с ней житье-бытье, чем о Родионе. Он казался мне случайной птицей, залетевшей в мой сад. Я еще не приросла к нему душой, хотя с ним бывало так уютно и надежно. Но он постепенно приучал меня к жизни, заставлял чаще, чем раньше, заглядывать в зеркало, вспоминать о том, что я — женщина.
В первый раз не застав меня дома, Володя так перепугался, что принялся названивать в милицию и ближайшую поликлинику. Мысли на него накатили самые страшные: я могла выйти из дому в невменяемом состоянии и замерзнуть где-нибудь на скамейке в пустом сквере. Хорошего же мнения был обо мне мой заботливый зять!
В милиции ему сообщили, что трупов в эту ночь не обнаружено. И тут заскрежетал ключ в замке и появилась я — невредимая, совершенно трезвая, но главное — какая-то деловитая и ожившая. Превращение произошло слишком уж быстро, но Володька недолго пребывал в растерянности.
В отличие от Люси, он полагал, что все к лучшему. Происшествие, конечно, странное, и мое желание взять больную собаку не очень ему нравилось, но могло быть и хуже.
— Так! Значит, одну заднюю лапу ей ампутировали. А если и вторая не заживет? — приставала ко мне Люська.
— Ну тогда. Тогда… — Я растерянно разводила руками.
— Не каркай! — сердито обрывал жену Володя. — Обойдется. Она будет весело скакать на трех лапах, как обещал Айболит.
Жизнерадостный ветеринар как будто стал членом нашей семьи. Вновь и вновь я рассказывала Люське и зятю о нем, о его блистательных диагнозах — если выживет, то будет жить. Мои рассказы обрастали все новыми подробностями и выдумками. Ко мне возвращалось воображение и чувство юмора. Володька-зять считал, что это верный признак полного выздоровления.
У Люси было другое мнение. И мама, как обычно, с ней соглашалась. Их беспокоили мои странности. Не только собака. Однажды Люся застала у меня Иду Генриховну. У сестрицы даже лицо вытянулось, как будто она увидела перед собой живую мумию Шамаханской царицы.
У нас с Идой перед ее приходом была оживленнейшая беседа о прошлом. Моя сестра всегда жила только настоящим и грезила будущим. Поэтому с ее приходом разговор увял. Для приличия обсудили погоду, и через несколько минут Генриховна поспешила уйти.
— Кто это? — изумленно спросила Люся.
Изумление было несколько наигранным. Это меня немного рассердило.
— Всего лишь моя новая подруга. Ида Генриховна, замечательная женщина.
— Экзотическая старушка, — пробормотала сестра.
Услышав в моих словах вызов, она ретировалась и не вступила в дискуссию. Меня это тоже задевало: как не совсем здорового человека они меня явно щадили и опекали. И делали это так неуклюже, что я поминутно ощущала себя ненормальной, с которой ближние обращаются соответственно.
Тут появился Володя. Он по дороге заглянул в магазин. Все еще по привычке заботился о моем пропитании. Володя уже встречался с Генриховной и подолгу с ней беседовал, находя старушку интересной, забавной, но, во всяком случае, не умалишенной.
— Это характер. Даже в семьдесят чувствуется, какой была эта женщина, — с одобрением заметил он. — Кокетлива, экстравагантна, непредсказуема.
— Но при этом доброе сердце, редчайшая преданность и надежность, — добавила я.
Ида лет сорок проработала в цирке. Сначала в разных номерах: ассистировала дрессировщикам, фокусникам и жонглерам. Когда постарела, перешла в администраторы. Но и выйдя на пенсию, без дела не сидела. Кроме кружка в Доме культуры, у нее вечно какая-то общественная работа.
— Подумать только! Лет десять назад родственники умоляли ее уехать в Германию. Там она получала бы хорошую пенсию, жила бы спокойно и обеспеченно рядом с близкими. Но она отказалась наотрез, потому что не смогла бросить свою собаку и кошку!
Историю жизни Иды я уже рассказывала, и не раз — Родиону, Лене, Володьке, теперь сестре, и сама не переставала удивляться поступкам этой своеобразной женщины.
— Ты как будто восхищаешься тем, что твоя Ида из-за собаки изуродовала свою старость, — заметила здравомыслящая сестрица. — А для меня это неоспоримое доказательство, что она чокнутая.
И Люся, положив себе на тарелку целую гору салата, уселась на любимого конька. Она часто сетовала на низкий культурный уровень и нецивилизованность нашего совкового бытия, который проявлялся и в отсутствии профилактики душевных заболеваний. У нас каждый второй с поврежденной душой.
— В том числе и политики, общественные деятели, люди, которые управляют сотнями, тысячами чужих жизней, — возмущалась Люся.
— Среди политиков особенно много психопатов и поврежденных, — заметил Володя, наливая нам чай.
— В цивилизованных странах у каждого свой домашний врач и личный психолог, снимающий чрезмерные напряжения и стрессы, — с удовольствием рассказывала нам Люся. Она обожала описывать цивилизованный рай во всех проявлениях, от экономики до быта, и с отвращением сравнивать его с нашей совковой помойкой.
— Почему же и там полно психов, на твоем процветающем Западе? — с невинным видом поинтересовался Володя. — Что ни день — то сообщение о страшных убийствах, вредных чудачествах. И целая армия психологов бессильна…
Сестрица несколько замешкалась с ответом. Я воспользовалась паузой, чтобы подать голос. Раньше сестра меня безнаказанно шпыняла, и я не смела возражать. Но теперь мы с Володькой составляли мощную оппозицию и, случалось, одерживали победу над деспотом.
— Тебе, как и многим обывателям, Ида кажется ненормальной. Не спорь, это так. Но объясни, по каким критериям вы делите людей на нормальных и ненормальных?
В моем голосе поневоле прорывалось возмущение — терпеть не могу снобов, особенно если для чувства превосходства над другими нет никаких оснований.
— Да, какие критерии, голубушка? — поддержал меня Володька.
Он тоже терпеть не мог Люськино высокомерие и всегда выступал против деления человечества на орлов и мошек, героев и неудачников. Для Люси это деление было очевидным. Она пила чай и посмеивалась над нами.
— Какие критерии? Одного взгляда достаточно, чтобы понять: у твоей бабульки Шапокляк давно поехала крыша. И почему это тебя так задевает? Дружи с кем хочешь, — снисходительно позволила мне сестра.
Прихватив свою чашку, она удалилась к телевизору, в знак того, что ее утомила эта бессмысленная дискуссия. К тому же Люся никогда не пропускала новостей.
— Интересно, какой будешь ты в семьдесят пять лет? — крикнула я ей вдогонку. — Уверена, сытые, слишком нормальные обыватели станут подхихикивать над смешной нелепой старушенцией.
Люська вернулась, чтобы поставить меня на место:
— Я буду благообразной, деловитой, чистенькой старушкой с ясным умом. Если доживу, конечно.
Какая самоуверенность! Мы с Володей переглянулись, как два заговорщика, и он тихо сказал:
— Интересно, как бы она определила Родиона? Нормальный он или не очень?
Володя как-то застал у меня нового знакомого, и я их познакомила. После этого зять почему-то совершенно успокоился за мое будущее. Родион ему понравился: надежный, спокойный и мудрый. По-видимому, много переживший. Да еще доктор.
Меня насмешило, что зять сразу же увидел в нас пару. Причем очень гармоничную. «Это то, что тебе нужно», — сразу же заявил он. А я даже не видела в Родионе поклонника. Так, прибился случайный человек. Наверное, очень одинокий, стосковавшийся по общению, одуревший от своих унылых клиентов, разучившихся говорить о чем-либо, кроме болячек.
— Боюсь, что она и Родиона сочтет типом подозрительным, — тоже вполголоса отвечала я Володьке. — Во-первых, потому, что он мой приятель. Во-вторых, нормальный здравомыслящий мужик не остановил бы машину и не согласился отвезти к ветеринару раненую дворовую собачонку.
Вернулась Люся с пустой чашкой. Озабоченная, брови сдвинуты. Новости преподнесли ей что-то неприятное, не соответствующее ее представлениям о правильном ходе вещей. Но и про нас она не забыла:
— Сплетничаете за моей спиной, перемываете мне кости? Интриганы несчастные! Кстати, кто такой Родион? Я ясно слышала это имя. Еще один новый друг? Боже упаси! Наверное, бомж или неприкаянный сосед, пьющий, трижды разведенный, с утра выклянчивающий десятку на опохмелку.
— Все узнаешь в свое время, — с таинственным видом пообещал Володя. — Тебя ожидает приятный сюрприз.
Давно в разгаре весна, апрель. За это время Родион дважды возил меня в консерваторию, и каждую неделю мы бывали с ним на выставках. Я перестала бояться выходов в свет, на люди. Пустые музейные залы действовали на меня благотворно, успокаивали и понемногу приучали к жизни.
На этот раз на Крымском не было особо выдающейся выставки, просто экспонировались молодые художники. Мы обошли несколько залов. Устали ноги, а глаза выхватили из хаоса и пестроты только два-три полотна. Мы сели отдохнуть на желтый плюшевый диван, и я с легким разочарованием произнесла:
— Знаете, что меня больше всего угнетает? Обилие перепевов чужого. Пускай будет маленький, слабый, но свой голос.
— Так было всегда. Представьте себе, что все эти художники, почти две дюжины, вдруг заговорили своими, звучными, неподражаемыми голосами — да мы бы оглохли!
Родион, в отличие от меня, никогда не разочаровывался, но и не восхищался. Он все воспринимал спокойно, как должное. Иногда защищал от моих нападок какого-нибудь живописца, впавшего в модернистский маразм: каждый самовыражается как может. Слегка посмеивался над моими традиционными вкусами. Я любила Маковского, Родион его, кажется, не любил. Когда ему что-то нравилось, у него теплели глаза. Это я давно заметила.
— Вот пожалуйста, полюбуйтесь!
Прямо напротив нашего дивана висела картина, почти точно повторявшая знаменитый «Черный квадрат». И вдруг на меня ни с того ни с сего нахлынули воспоминания. Давным-давно, семь-восемь лет назад, мы с Игорем были в этих же залах на выставке Малевича. Стояли, обнявшись, возле «Черного квадрата», и я озадаченно просила:
— Иноземцев, объясни мне, пожалуйста, смысл этого шедевра. Я люблю Малевича-импрессиониста. Я люблю его безликих крестьян. Не могу без слез умиления видеть «Марфу и Ваньку». Но квадрата не понимаю.
Игорь смеялся — а кто его понимает? Это всего лишь символ мыслительной абстракции.
— Абстрактное мышление, которое в упор не видит реальности, на этом полотне празднует громкую победу над бедной языческой чувственностью, — торжественно провозгласил он. — Малевич словно воплотил в своем квадрате все многообразие интеллектуальных комбинаций и логических экспериментов, акций и новаций. Но при этом убил все живое — краски, запахи, эмоции.
— Это точно, убил! — согласилась я.
Я улыбнулась воспоминанию. Оно не принесло с собой боли, как это было раньше. Слегка пощипала за сердце тоска, но легкая, сладкая. Тоска о моей молодости, в которой было немало счастливых дней.
В этот день я поняла, что моя первая большая любовь перестала мучить меня. Образ Игоря потускнел и уплыл далеко в прошлое, в сиреневый туман воспоминаний. Все дурное, тяжелое забылось. Хорошее осталось. В сущности, мой первый муж очень много дал мне. Научил читать умные, серьезные книги, думать, высказывать свои мысли.
Тогда я не понимала, почему вдруг прошлое раз и навсегда покинуло меня. Потому что появилось настоящее. Мы сидели с Родионом на скамейке в скверике возле выставочного зала и разговаривали. Он был рядом со мной каждый день. Когда мы прощались, наступала неприятная пустота.
Я прожила одна несколько лет и уже привыкла к одиночеству. Ведь бытовое сожительство с Толяном тоже было одиночеством. В этот день я впервые осознала, что отныне не одна. Как-то незаметно рухнула последняя стенка между нами. Теперь я могла говорить с Родионом обо всем — о потерянном ребенке, о своем первом несчастливом замужестве, о нелепом браке с Карасевым. Я даже рассказала, нимало не смущаясь, зачем выбежала из дому в тот вечер, когда мы с ним столкнулись на дороге.
— А я впервые в жизни очутился в этом районе, на этой самой дороге, — вспоминал Родион, и в глазах его при этом мелькнуло удивление. — Старый институтский приятель уже несколько лет уговаривал заехать, посидеть, вспомнить молодость. Я отнекивался, откладывал встречу. Наконец он просто обиделся. А я скрепя сердце собрался и поехал…
— А почему вы все-таки остановились? — Мне этот вопрос давно не давал покоя. — Представляю, стоит на дороге растрепанная женщина, явно не в себе, проклинает кого-то, размахивает кулаком. Никто ведь не останавливался, кроме вас.
Мы с ним по-прежнему были на «вы» и почему-то не испытывали потребности поторопиться и перебежать на «ты». Хотя душевная близость и притяжение росли с каждым днем. Наше «вы» было не пустым, а каким-то теплым, интимным и глубоким.
— Я не мог не остановиться, — объяснил он тихо, чуть наклонившись к моему уху. — У вас даже в темноте горели глаза, Лариса. Как вы там кричали: «Негодяи, когда-нибудь и вы будете лежать на обочине и напрасно ждать помощи…» Эти слова меня едва не убили. В глазах потемнело. И как назло, лекарства оставил дома…
— Психопатка несчастная! Неужели я что-то подобное вопила? Ничего не помню. Но почему вас так больно ударили эти слова?
Я знала, что Родион вдовец. О смерти жены он не рассказывал, а я не спрашивала. По себе знала, что с такими вопросами лучше не соваться, душу не бередить. А тут он вдруг помолчал немного, собрался с силами и рассказал. Пять лет назад, когда он был на дежурстве в больнице, его жена, брат и невестка возвращались на машине с дачи… Вернувшись вечером, он надеялся застать их дома, но не застал.
Шофер задремал за рулем, и его тяжелый «КамАЗ» наехал на «Жигули», подмял под себя, расплющил, как божью коровку. Когда приехала «скорая», три тела лежали рядышком на обочине, накрытые брезентом, а рядом сидел и плакал водитель грузовика, молодой парень.
Услышав это, я даже застонала от ужаса. Как будто это меня накрыли с головой тем самым брезентом, тяжелым, душным, дышать нечем. Какая же я дура! Действительно, словом можно убить.
Вернувшись, я долго сидела на кухне, не снимая плаща. Смотрела в окно, думала. Лапа, устроившись у моих ног, выжидала чего-то, ловила мой взгляд. Я еще не научилась ее понимать. Очень странная собака. Говорю ей:
— Лапа, идем гулять.
У нее в глазах ужас. Убегает и прячется. Приходилось брать ее на руки и выносить во двор. Бедняга панически боялась улицы, боялась, что я ее оставлю. У нее снова появился дом, и она не хотела его потерять. Сколько я ее ни уговаривала, она упорно не верила в прочность своего нынешнего бытия. И правильно делала. Откуда нам знать, что может случиться завтра?
— Это ощущение бессмысленности и непредсказуемости жизни меня тоже сводило с ума, — говорю я Лапе. — Я чуть не рехнулась. Но теперь, кажется, у меня под ногами не зыбучие пески, а твердая земля. И у тебя все наладится. Привыкнешь, успокоишься, перестанешь бояться улицы.
Игорь когда-то говорил мне вместо признания в любви: любовь — страсть, любовь — влечение — все это вздор, который быстро проходит. Истинная любовь — это когда встречаются двое нужных друг другу людей и узнают друг друга. Ведь могут и не узнать, сплошь и рядом такое бывает, вот что страшно.
Свои мысли вслух я высказала Лапе. Теперь у меня появилось домашнее существо, готовое слушать меня с утра до вечера. А я могла отныне не опасаться за свой рассудок и беседовать не с собой, а со своей собакой.
— Он-то мне нужен, очень нужен, в этом уже нет сомнений, — бормотала я, завязывая морские узлы на шарфике. — Но вот нужна ли я ему? Очень сомневаюсь. Ведь я обуза, камень на шее. Кому угодно могу искалечить жизнь. А Родю мне жалко.
Выпуклые Лапины глаза увлажнились от избытка чувств — преданности и любви. Для Лапы я была центром ее крохотного мироздания, не предпоследней, а последней надеждой. Какая тяжкая и ответственная миссия. И пожалуй, единственный для меня смысл жизни — стать центром вселенной для кого-то нужного, родного, мне предназначенного.
Аська звонила чуть ли не каждый день, все выспрашивала — выведывала, как дела, не устроилась ли я на работу. Интуиция у нее мощная. Кажется, она что-то заподозрила и не успокоится, пока не выведет меня на чистую воду.
— Ничего нового, — отвечала я бесцветным голосом. — Хожу гулять с Лапой, читаю. Пообщаться? Нет, не хочу. Как-нибудь в другой раз. Пока.
Аська немного успокоилась и даже повеселела, убедившись, что у меня все по-прежнему плохо. По ее мнению, если одинокая женщина заводит кота или собаку, на ней можно поставить крест. Главный Аськин недостаток с годами усугублялся. Она уже не жила, а ревниво и беспокойно наблюдала, как живут другие. Что они покупают, куда ездят? Эти наблюдения доставляли ей все больше мук.
— Откуда, откуда у них такие деньги? — возмущенно вопрошала она, когда ее одноклассник купил трехкомнатную квартиру на Соколе. — Ты знаешь, сколько стоит такая квартира?! А одна моя приятельница, зачуханная в прошлом баба, теперь отдыхает на Канарах…
Когда-то она очень уважала моего Карасева, даже допуская, что он зарабатывает или добывает средства не совсем праведными и законными путями. Мужик должен приносить в дом деньги — таково было ее убеждение. Подруга не скрывала, что считает меня везунком. Мне совершенно сказочно, немыслимо, незаслуженно повезло с мужьями. Но я так и не сумела извлечь из этих браков максимум выгоды, легкомысленно упустив и Иноземцева, и Толика.
У меня было достаточно времени убедиться, что девяносто процентов женщин завистливы. Но Аська завидовала всякой ерунде, например ей не давали покоя мои шубы. Она уговаривала меня продать одну, подешевле и в рассрочку. Подразумевалось, что жизнь моя все равно кончена, а с Лапой гулять можно и в китайском пуховичке.
Завистливая подруга всегда норовит вонзить тебе булавку в самое больное место. Один ребенок у Аськи уже был, а теперь она ждала второго. Если я по глупости снимала телефонную трубку, она душила меня рассказами о своем счастливом материнстве.
Я-то знала, что дети для нее обуза. Своего малыша она постоянно сплавляла матери, а от второго хотела избавиться, но муж не позволил. Ангел Артурчик взбунтовался и пригрозил разводом, если она посмеет убить ребеночка. И Аська испугалась.
— Черт бы побрал таких подруг! — со слезами на глазах жаловалась я Лапе после очередного разговора с Аськой. — Неужели она не понимает, что это бестактно, безжалостно — говорить со мной об этом. Да нет, конечно, она понимает и умышленно сыплет соль на раны.
Мне было жаль не столько себя, сколько бедного папу. Мы с Люсей очень виноваты перед ним. Папа так мечтал о внуках и умер, не дождавшись их. Аська надолго выбивала меня из колеи, в которую я с таким трудом въехала. Я плакала и давала себе слово порвать с ней навсегда.
Но в тот чудный апрельский денек я вдруг поняла — довольно. Я стала нечувствительна к изощренным Аськиным пыткам. Уделила ей ровно пять минут и положила трубку. Мне некогда. Через час приедет Родион, а я еще не все подготовила для приема гостя. На плите у меня кипел грибной суп: Родя вегетарианец.
— Лапа, вспоминай, что-то я давно загадала сделать и все забываю! — приказала я своей рыжей, озадаченно застыв на середине комнаты.
Она заметалась у моих ног, залаяла, по-своему демонстрируя готовность жизнь за меня положить. И тут меня осенило. Я выдвинула из-под стола картонные коробки, так и не распакованные после переезда. Развязала веревки, выложила прямо на пол стопки книг и альбомов. И вскоре держала в руках то, что искала. Каталог галереи Уффици. Давно я не видела Лукрецию.
На этот раз сердце не заныло от недобрых воспоминаний и тоски. Я с удовольствием полюбовалась знатной дамой только как произведением искусства. При чем тут моя юность, первая любовь, несбывшиеся надежды на счастье?
Я оставила каталог открытым на столе и побежала на кухню проведать суп. Потом быстро переоделась. Заглянула в зеркало и решила не краситься. Никаких ухищрений! И тут раздался звонок, я бросилась к двери. Откуда что взялось? Еще три месяца назад я была бесчувственным, опустившимся созданием. Почти поставила на себе крест. И вдруг! Это ликование в душе при мысли, что сейчас его увижу.
Открывая дверь, я пыталась надеть маску сдержанной благопристойности, но ничего не вышло. А ведь раньше я отлично умела притворяться. На этот раз моя глупая, радостная физиономия меня выдала. Глаза так и светились. А Лапа от счастья едва не выпрыгнула из своей рыжей шкурки. Она, как самый чуткий барометр, определяла мое настроение.
— А я суп сварила! — выпалила я с порога, едва успев поздороваться.
— Я догадался об этом еще на лестничной площадке. Чудный запах, — ответил он глуховатым, негромким голосом.
Этот голос уже стал сниться мне по ночам. И короткий внимательный взгляд, который он бросал на меня при встрече. Словно хотел еще раз убедиться, что я все-таки существую в действительности, что я не приснилась ему.
— Может быть, не буду раздеваться? Давайте посидим где-нибудь в уютном ресторанчике, — неуверенно предложил он.
— А как же мой супчик, грибной? — обиженно вскричала я. — Нет-нет, только дома, не люблю я ресторанов, где вокруг сплошь чужие жующие физиономии…
Карасев обожал проводить вечера в ресторанах. Они стали неотъемлемой частью той жизни, в которую он окунулся с головой. А у меня с детства осталась привязанность к домашним, интимным застольям. Как часто мы ругались с ним, когда он тащил меня на публику, а я упиралась. С тех пор дала слово, что до конца жизни не переступлю порог ни одного ресторана.
Я принялась накрывать на стол, а Родиона отправила в комнату, чтобы не путался под ногами. Он ушел и затих там. Телевизор не включил. Он не признавал телевидения, даже новости узнавал из газет.
А я достала из шкафа новую скатерть, Люськин подарок. Первым делом поставила на стол вазу с цветами. В этот раз Родион принес подснежники. Подумать только — еще сегодня они росли в лесу! Я вспомнила целые поляны голубоватых подснежников у нас под Касимовом и загрустила. Бабушка умерла, дом продали, и Касимов для меня утрачен навсегда. Люся с Володей купили небольшую дачку под Звенигородом, куда я уже не раз наведывалась. Конечно, замечательно — река, лес. Но все же не то. Почему-то не то, что настоящая деревня.
Я уже расставила тарелки и раздумывала, не перелить ли суп в изящную, больше похожую на вазу супницу из сервиза, когда вошел Родион. Молча протянул мне каталог с видом человека, потрясенного каким-то неожиданным открытием. А я с досадой покачала головой:
— Как жаль! Я ведь хотела преподнести вам сюрприз. Но в суете забыла спрятать альбом…
— Я не виноват. Он лежал на столе… — оправдывался Родион.
— Знаете, есть такая игра «в ассоциации». Я ее когда-то в молодости очень любила. Мы собирались в маленькой общежитской комнатке и загадывали, как карту, кого-нибудь из знакомых. А тот, кому выпало водить, должен был этого человека отгадать. Для этого он задавал вопросы — на какую реку, какую погоду, растение, книгу похож этот человек? Ему отвечали — на тихую, многоводную речку в средней полосе России, на ясную золотую осень, на березу.
Родион кивал. Он все понял. Когда недели две назад он спросил, не могли ли мы случайно столкнуться в Италии, у меня забрезжила отдаленная догадка. А затем, когда он сказал, что мой облик ассоциируется у него с ярким солнечным днем, не нашим русским, а южным, жгучим, я почти перестала сомневаться.
— Я запомнил это лицо. И, глядя на портрет, почему-то вспомнил крестьянок Аргунова и Веницианова. Может быть, знатоки живописи снисходительно посмеются над моим дурным вкусом, но я представил эту даму в сарафане и кокошнике.
— И пускай их смеются. Но я тоже легко представляю ее в сарафане. Такой и была какая-нибудь Марфа Ивановна, жена родовитого боярина, — согласилась я.
Весь вечер мы вспоминали Италию и говорили о живописи. В детстве Родион учился в художественной школе, мечтал поступить в Суриковское. Но родители считали это поприще слишком зыбким и заставили его стать врачом. Он не жалел об этом. В лучшем случае он стал бы иллюстратором средней руки и терзался бы своей бездарностью.
Я слушала его и не верила. Просто Родион был слишком требовательным к себе. Но и представить его художником не могла — настолько он был лишен тщеславия, самоуверенности и какой-то чудинки — необходимой черты характера настоящего художника.
Впрочем, не настолько хорошо я знала этого человека, чтобы с уверенностью о нем судить. Родион оставался для меня загадкой. И в тот вечер он меня снова удивил, озадачил и смутил. Уже надев плащ и стоя на пороге, вдруг предложил:
— Знаете что, Лариса. Больше всего на свете хочу вновь побывать в Италии. С вами. Поедемте! Нынче летом.
Сказал, тут же повернулся и быстро ушел. Чуть ли не сбежал. Что это значит? Я потом целый час сидела на кухне, размышляя над этими странными словами.
Моей сестрице давно пора бы завести ребенка, а то и двоих. Чтобы было кого опекать, воспитывать, наставлять. До сих пор ее нереализованный материнский инстинкт обрушивается на меня.
Если раньше они с мамой обращались со мной как с больной, то теперь перевели в статус выздоравливающей. Но все еще неспособной принимать здравые решения. Мои странные знакомства, мои чудачества с собакой были тому подтверждением.
Как-то Люся заехала «на чашку кофе» без Володьки. Кофе сама же сварила, выпила и, отставив чашечку, вздохнула. Это было преддверием серьезного разговора.
— Конечно, он врач и производит впечатление очень серьезного, надежного человека, — начала она осторожно. — Но ведь он намного тебя старше. У него взрослая дочь. Как-то она тебя примет? Подумай хорошенько. Не торопись! Мы с мамой вообще считаем, что ты должна некоторое время пожить одна.
Удивительно, но я не рассердилась и не обиделась. Такой я стала мягкой, терпеливой, а может быть, безразличной. Возразила Люсе, но вяло и неубедительно:
— Вы с мамой напрасно встревожились прежде времени. Предложение мне никто не делал. Кому я нужна! Ну, дружу я с Идой, с Родионом, с Сашкой и Мишкой.
— У тебя всегда начинается с чистой, бескорыстной дружбы! — не смогла удержаться от ехидного замечания сестрица. — Карась тоже был просто одноклассником. И вдруг ни с того ни с сего выскочила за него замуж!
Никогда у меня не возникало потребности откровенничать, советоваться с подругами. Но сейчас мне так хотелось с кем-нибудь поговорить. Только не с собственной сестрой. И умная она, и добра мне хочет, но почему-то язык не поворачивается и боязно открывать ей душу.
— Ты чем-то очень озабочена! — уличила меня Люська, вглядываясь в меня пристально, сурово.
Ты и наблюдательна, старушка, а что толку, — подумала я не без сожаления. Не успела проводить сестру, как раздался звонок в дверь. Явились Сашка с Мишкой. Они иногда приходили навестить Лапу и заодно попить чаю с конфетами.
Но Лапа, увидев их, в ужасе забилась под диван. Боялась, что мальчишки потащат ее на улицу. Проводив Сашку и Мишку, я собиралась спокойно посидеть и кое-что в своей жизни обдумать. Но не тут-то было. Полгода прожила в полном уединении, а теперь выпадали дни, когда у меня дверь не закрывалась.
Позвонила Лена Мезенцева. Напомнила, что мы не виделись больше двух месяцев. И я сразу же пригласила — приезжай. С Леной мы никогда не были очень близкими подругами, и по неумолимой логике нашего серого бытия должны были давным-давно расстаться навсегда, но почему-то не терялись и все еще были нужны друг дружке.
Уже с порога Лена отметила большие перемены во мне — помолодела, потолстела. Просто ожила, смеялась я. Мне так хотелось сказать гостье что-нибудь приятное, но я не смогла соврать. Выглядела Ленка ужасно. Лет десять назад она была точеной изящной блондинкой. Всегда грустной, тихой. Но это ее только красило.
Время особенно неумолимо к блондинкам. Неяркая красота ее поблекла, потускнела. И теперь скорбное и покорное выражение убивало остатки былого очарования. Улыбаться Ленка совсем разучилась, а если и пыталась иногда, улыбка получалась жалкая, вымученная.
Представить Мезенцеву счастливой было невозможно. С рождения ей были даны все блага жизни — заботливые родители, неустанная опека, достаток. Но она никогда не была довольна судьбой, а с годами ее горести росли, как снежный ком.
Я накрыла на стол, а Лена достала из сумочки вино и собачий корм для Лапы. Чего скрывать, я с вожделением посмотрела на «Старую крепость», но, подумав, отрицательно покачала головой. Лена деликатно не заметила моего отказа, и вскоре бутылка опустела.
Уже час она рассказывала мне нескончаемую, многосерийную историю своей грустной жизни, прикуривая одну сигарету от другой. Пришлось открыть окно, чтобы не задохнуться в табачном дыму. Алик уже дважды уходил навсегда, но спустя какое-то время возвращался. Я уже начинала думать, не предназначены ли они друг для друга? Просто никак не могут это осознать.
Два года назад Лена, на свое несчастье, влюбилась. В женатого мужчину. По ее словам, из породы «настоящих». Знаю я этих настоящих мужчин. Только наши российские лены и тани, привыкшие жить иллюзиями, могут спутать жестокость и наглость с мужеством, силой и благородством, по которым они так истосковались.
Я смотрела на увядшее, бледное Ленкино лицо и жалела ее до боли сердечной. Как мне хотелось ей помочь! Но чем? Ленка слабая. Ее топчут и используют все, кому не лень. Алик тоже слабый, но, по крайней мере, не подлый. Я уговаривала Мезенцеву попробовать еще раз начать все сначала с Аликом и обязательно родить ребенка. Мужья, любовники могут кануть в Лету, но дети останутся. Ленка внимательно выслушивала советы, но никогда им не следовала.
И вдруг мне захотелось ей все рассказать. Едва ли она меня поймет, но, по крайней мере, не разболтает подружкам, Алику, своему «настоящему мужчине», как это обыкновенно делают женщины. Нет, в Лене несомненно было душевное благородство и тонкость.
И я, выждав паузу, вклинилась в ее монолог и рассказала про Родиона. Про то, что он звонит и приезжает почти каждый день, но ведет себя очень сдержанно и строго.
— Он вглядывается, вслушивается в меня, но не ухаживает в обычном смысле этого слова. По-моему, ему просто очень одиноко, тоскливо живется. Он нуждается в общении, а я его чуть-чуть развлекаю. С такой странной особой он никогда раньше не был знаком.
Лена рассеянно слушала. Она всегда вежливо расспрашивала о моих делах. Но я отвечала кратко и немногословно. Мне казалось, Мезенцева боится чужих проблем, ей хватает своих. Наверное, и ко мне она ездила потому, что, в отличие от других подруг, я только слушала, но никогда не навязывалась со своими откровениями.
Она беспомощно развела руками:
— Что я могу тебе сказать? Я в своей собственной жизни ничего не понимаю и не могу разобраться со своими близкими.
— Со стороны всегда виднее, — неуверенно возразила я.
— Во всяком случае, в дружбу между мужчиной и женщиной никогда не верила и не верю сейчас. Если твой доктор каждый день ищет с тобой встреч, значит, ты ему нравишься. Почему ты в этом сомневаешься? Ты красивая женщина, в самом расцвете. Просто немного захандрила, но ведь все прошло, теперь ты в порядке…
Я и сама в душе об этом подумывала. Но Родион — необычный человек, и о нем нельзя судить привычными мерками. Его даже трудно представить в роли поклонника, искателя руки и сердца.
— Не понимаю, что тебя тревожит? — Лена посмотрела на меня с недоумением.
Наверное, я действительно выглядела странной и непоследовательной. Люся мне давно намекала, что пора обратиться к психиатру. Может быть, она и права. У меня вдруг помимо воли вырвалось отчаянное, сумбурное:
— Я так боюсь, что в один злосчастный день он не позвонит и не приедет. И я останусь совсем одна. А я уже привыкла к этому человеку, я не могу без него. И зачем он только появился? Я уже смирилась с одиночеством в этой однокомнатной берлоге. Я знаю, что невыносима, мои неудачные замужества тому подтверждение…
Ленка даже засмеялась (я уже несколько лет не видела ее смеющейся) и не дала мне договорить:
— Что за бред ты несешь, Лорик? А ведь всегда была для меня образцом здравомыслия, проницательности и терпения. Я всегда завидовала твоему душевному спокойствию и ясности…
— Какое там душевное спокойствие, Лен! Я давно превратилась в истеричку. И не знаю, что с собой делать. Только рядом с ним чувствую себя такой уверенной, почти прежней.
Мы долго молчали. Ленка задумалась, как будто собираясь с мыслями, и вдруг сказала то, что я как будто ожидала услышать, что меня очень утешило и надолго успокоило. В своей жизни Мезенцева была беспомощна, какслепой котенок. Но в наших отношениях с Родионом сразу углядела самую суть.
— Конечно, он неординарный человек и отношения ваши не из разряда обыкновенных. Не какой-то тривиальный роман, увлечение, интрижка. Вы словно два подранка, люди одинокие, не очень счастливые, сразу потянулись друг к другу. Он такой же неуверенный в себе человек, как и ты. Может быть, в эту минуту терзается сомнениями: «Зачем я ей — старый, обремененный семьей, довольно заурядный человечек…»
Мезенцева посоветовала мне потерпеть немного, не торопить события. Конечно, можно первой сделать шаг навстречу. Но сама Лена не одобряла такого поведения. Она была старомодной и не любила слишком активных женщин, типа нашей Гонерильи.
В этом мы с ней были солидарны. Я даже ругала себя за излишнюю осторожность и боязливость. Иной раз шла у других на поводу, только бы не принимать самостоятельных решений и избегать крутых перемен.
К Лене я чувствовала нежную благодарность за добрые слова. Они принесли мне невероятное облегчение. В эту ночь я заснула без снотворного, как в старые времена, беззаботно и легко.
Но не зря меня мучили страхи. Сердце-вещун просто предупреждало меня о грядущих испытаниях. Он вдруг исчез. Для меня это было исчезновением — не позвонил в понедельник. И хотя, расставаясь в воскресенье, мы ни о чем не договаривались, я была уверена, что он позвонит на следующий день. Так было всегда.
В воскресенье Родион повез меня на выставку картин и гравюр своего близкого друга. По дороге рассказывал о том, что в последние годы открылось много новых маленьких выставочных залов на окраинах — в Чертанове, Беляеве, Раменках, Тушине. И это несмотря на тяжелые времена и вопли о близкой кончине искусства.
Эти крохотные галереи многим художникам дали возможность «выйти на люди». Таким, как приятель Родиона, — он «негромкий», но интересный художник. Родион умел радоваться чужим удачам, поэтому был в хорошем настроении. Потом, несмотря на слякотную погоду, мы долго бродили по бульвару и поужинали в маленьком кафе.
Весь вечер я сидела на диване в горестном оцепенении, ждала звонка и вспоминала по минутам вчерашнюю встречу. Может быть, я обидела его чем-то: неосторожным словом, бестактным замечанием, равнодушием? Нет, все было хорошо, безоблачно. Случалось, Родион приезжал усталым, озабоченным, хотя и пытался это скрыть. С некоторых пор я научилась определять его состояние духа.
Ничего особенного не произошло, ругала я себя. И раньше Родион не звонил день-другой, а однажды уехал куда-то на несколько дней. Но раньше я этого почти не замечала. А нынче вдруг встревожилась, испугалась чего-то.
А ведь он покашливал и был явно простужен, вдруг вспомнилось мне. Но если он заболел и сейчас лежит в постели, то обязательно бы позвонил. «А с какой стати он станет тебе названивать и жаловаться на свои хвори?» — возразил благоразумный голос. Так и переговаривались во мне две Ларисы Игумновы: прежняя — спокойная, сдержанная, ироничная, и нынешняя — издерганная, нервная и напуганная.
На следующий день я впала в черную тоску. Никакой благоразумный голос уже не помогал. В полуоткрытую дверцу шкафа с зеркалом случайно увидела себя — жалкую, съежившуюся в углу дивана. Так и просидела до вечера, бормоча:
— Он больше не позвонит и не приедет, Лапа. Я давно это предчувствовала. Кто я такая? Бездельница. Невежественная, ничтожная. А он — прекрасный доктор и человек необыкновенный. У него работа, семья, друзья. Когда ему ездить и утешать меня, скучающую даму?
Лапа заметалась и залаяла. Она моих тоскливых настроений просто не выносила. И каким органом эту тоску чуяла? Наверное, собачьей душой, отзывчивой и верной. Прыгнула ко мне на диван. В глазах — мировая скорбь, даже хвост и нос печально опущены. Не повезло тебе с хозяйкой, собака.
Мне ужасно захотелось выпить. Потому что подумала, как буду жить — завтра, послезавтра, всегда? Мне об этом вспоминать никак нельзя, потому что у меня нет будущего.
К тому же у Лапы корм на исходе. Но самой идти в магазин нету сил. К тому же телефон… Решила попросить мою Пульхерию об услуге. Надо поспешать — седьмой час вечера. Уже спустила ноги с дивана, когда раздался звонок.
Голос был словно не его — слабый, глуховатый. Сразу же стал извиняться, не потревожил ли он меня не вовремя, не оторвал ли от дел? Ну конечно, я просто задыхаюсь от дел, у меня семеро по лавкам. Я угрюмо молчала в ответ, так что он даже забеспокоился.
— Как вы себя чувствуете, Лариса? — спросил осторожно.
— А как вы думаете? — вырвалось у меня, но я тут же опомнилась: — Все нормально. И чувствую себя удовлетворительно. Только вы пропали куда-то, и я очень беспокоюсь.
Я чуть не всхлипнула, так стало жалко себя. Лапа прыгнула ко мне на колени, понюхала телефонную трубку.
— Вот и Лапа тоже обеспокоена. Слышите, как повизгивает в трубку?
— Я гриппую. И позвонить вчера не мог по той причине, что потерял голос. Хотя и очень хотелось. Но я рад, что вы заметили мое отсутствие.
После моего неосторожного вопля и его слов я поняла, что немного искусственная сдержанность в наших отношениях исчезла. Как будто мы переступили черту. И смешными показались наши «вы». Так хотелось сказать ему «ты», он уже давно стал для меня «ты».
— Ах, Родион Петрович! Неужели вы всерьез верите, что я могла не заметить ваше отсутствие? Или все-таки лукавите?
— Ничуть не лукавлю! — чистосердечно признался он. — Давно удивляюсь, как вы терпите мое общество. Я такой мрачный, серый докторишко. А вы молодая, красивая, умная женщина…
Его хриплый голос совсем сорвался от волнения. А я жадно слушала и чувствовала, как переполняет меня радость. До чего же мы родственные души! Я давно привыкла к людям с манией величия, с повышенной самооценкой. У нас с Родионом другая болезнь — комплекс неполноценности.
— Пожалуйста, Родион, не надо говорить, вы совсем сорвете голос. Через несколько дней мы встретимся, и тогда… — просила я, потому что он задохнулся от кашля, но все же порывался продолжать.
— Еще несколько слов, позвольте! Давно собирался поговорить с вами, но не решался. Ждал примерно такого ответа: «Я вас очень уважаю, Родион Петрович, но…» И мне станет стыдно за свою намечающуюся лысину и нахальство стареющего ловеласа…
— Нет у вас никакой лысины, доктор. Не наговаривайте на себя. И напрасно вы откладывали этот разговор.
Я старалась больше говорить, чтобы он молчал. Рассказала о том, что Ида Генриховна считает его настоящим, умопомрачительным мужчиной. Не побоялась признаться, в каком отчаянии была вчера и особенно сегодня. От моей старомодной целомудренности и следа не осталось.
— Вы не Лапу подобрали на улице тогда, в ноябре, а меня — раздавленное, несчастное создание. Вы меня спасли…
— Неизвестно, кто кого спас. Вы меня от одиночества и отчаяния — это уж точно. Мою мертвую душу спасли, — мягко возразил он.
— Хорошо, согласна! Просто встретились две неприкаянные души и узнали друг друга. Главное, сразу узнать, не пройти мимо…
— Хотите, я сейчас приеду! — вдруг безрассудно предложил он.
Мне так захотелось его увидеть, больше всего на свете! Но кому-то из нас нужно было проявить благоразумие. И я твердо сказала:
— Ни в коем случае! Вы мне нужны живым, Родион Петрович. Жду вас через несколько дней, только когда по-настоящему выздоровеете. Теперь уже некуда спешить.
— У вас, Лариса, еще уйма времени, а мне нужно спешить. Жалко каждый бесцельно прожитый день. Вчера и сегодня я вас не видел. Дни пропали.
Это было нелегко, но я простилась, строго наказав ему бороться с простудой, пить лекарства и ни в коем случае не разговаривать. Положив трубку, я заметила, как бешено бьется сердце. Вот как может изменить жизнь пятнадцатиминутный разговор.
Мир за окном тоже неузнаваемо изменился. Теперь там царили радость и покой. И я заявила удивленной Лапе:
— Вот что, подружка, идем в магазин! Купим что-нибудь вкусное, экзотическое. Когда явится Родион Петрович, мы угостим его крабовым салатом, свежей зеленью, ананасом. Про тебя я тоже не забыла. Ты получишь не только собачий корм, но и свежую говяжью косточку. Не верю я в эти заморские сухие корма.
Эпилог
Каждый вечер сижу на крыльце нашей маленькой дачки и смотрю, как угасает день. Лето нынче как запоздалый гость. Уже сентябрь на исходе, а солнце сияет и слепит, как в июле. Но лес вдалеке за рекой уже пожелтел, поникли последние цветы у меня на клумбе.
Я больше не боюсь времени. Пускай бегом бежит, мне все равно. Но все-таки жалко лета, когда теперь снова его дождешься. Вот и куртку приходится набрасывать на плечи, хотя на улице еще тепло. Но близкие только и делают, что деспотически меня оберегают. Твердят с утра до вечера — не простудись, не оступись, не волнуйся. Как они мне надоели!
У меня замечательный наблюдательный пункт. Вот на проселочной дороге показались две уныло бредущие фигуры. Люська с Володей. Ходили по грибы, но не похоже, чтобы полные корзины оттягивали им руки. Осень нынче сухая, грибов мало.
Я поворачиваю голову вправо. Оттуда с шоссе должен свернуть наш светлый «жигуленок». Лапа тоже вытягивает острую мордочку к воротам. Ей передалось мое ожидание, нетерпение, досада. Но ждать долго она не в силах. Вот уже весело скачет на своих трех лапах в огород и дальше, между кольев забора к соседям. Там у нее подружка, кудрявая дворняжка Рита.
Наконец доползли Люся с зятем. Лица усталые, сердитые. Наверное, опять всю дорогу ругались. Регулярные их ссоры мне очень не нравятся. Давно собираюсь поговорить с Люськой серьезно. Володька торжественно демонстрирует мне десяток разномастных грибов на дне корзин.
— На супчик хватит, — снисходительно бросаю я, мельком заглянув в корзины.
Володьку обижает мое равнодушие. Грибы его страсть. Он готов целый день шнырять в кустах, как гончая, по запаху выискивая коричневые, желтые и красные шляпки.
— Какой супчик! Я сейчас вам сделаю грибницу, поджарю с картошечкой.
Он уносит свое сокровище — мыть, чистить, резать. А сестра устало опускается рядом со мной на скамейку. Лицо у нее серое, равнодушное, она не любит природу, и мысли ее сейчас далеко: офис, дела, которые закрутятся с понедельника. А дача, грибы — это дань семье и традициям.
— Вот смотри — скоро семь, а его нет. — Я протягиваю Люсе левую руку с часами. — Даже в субботу дежурства. Даже выходные он не может спокойно провести с семьей.
— Он ведь не чиновник, а доктор. Значит, что-нибудь важное задержало — больные или консилиум. — Люська старается разговаривать со мной терпеливо, как с ребенком.
— Ну и что ж, что доктор! — не унимаюсь я. — У нас почему-то доктора никогда не принадлежали себе и своим семьям, а считались общественным достоянием больных, соседей, знакомых. Доктора можно поднять среди ночи по пустяку, вызывать с дачи в воскресенье…
Никогда не думала, что быть женой врача — такая тяжкая и беспокойная доля. Родиону не давали покоя ни на даче, ни дома, ни днем, ни ночью. У кого-то кололо в боку, кто-то клянчил лекарства, самые настырные требовали внимания и утешения.
Я уже начала беспощадную борьбу с ходоками, потихоньку-помаленьку отваживаю их от дома. И вообще я буду женой-стервой, оберегающей простофилю-мужа от надоедливых просителей. Родион сам виноват: безропотно подставляет шею. А народ чует таких донкихотов за версту и норовит на подставленную шею усесться.
— Успокойся! Твое сокровище вот-вот прибудет, — уговаривает меня Люся. — Ты просто ревнуешь его ко всем: к работе, друзьям, родственникам и больным.
Какая глупость! Я возмущенно пожимаю плечами, и мы надолго замолкаем, глядя на дорогу. Она по-прежнему пуста. Тихо. Только с реки доносятся детские крики и визги, заливистый собачий лай. Мне кажется, что минута самая подходящая для сокровенной беседы между родными сестрами.
— Вы снова ругались с Володей? — спрашиваю я.
— Не твое дело! — резко обрывает Люся.
— Нет, мое! И он прав. Он тебя обязательно бросит, вот увидишь, если ты в ближайшее время не образумишься. Где ты найдешь такого мужа?
Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь стану учить уму-разуму старшую сестру! Я сама собиралась всю жизнь проходить у нее в ученицах. Как быстро переменились роли.
— Если бы я в двадцать лет вышла замуж за такого, как Володя, у меня сейчас было бы двое или трое детей, — мечтала я вслух. — Ты представь только, у тебя сейчас могли быть почти взрослые дети. И твоя замечательная свекровь помогла бы их вырастить. Нет, ты дождалась, когда тебе стукнет тридцать пять, а свекровь состарится.
— Я ничего не ждала, я просто работала, а дети не входили в мои планы, — с раздражением говорит Люся. — Вернее, входили, но после тридцати. Время пролетело так быстро…
Мне жалко Люсю. Она любит работать. Вот чудачка. Володю она тоже по-своему любит, но роль матери семейства ей отвратительна. Признаю — каждый человек имеет право жить как ему хочется, иметь или не иметь детей. Но все дело в том, что Володя уже несколько лет настаивает на ребенке. А она отвечает: подождем немного, еще год-другой.
— Природа что-то напутала с генами, тебе нужно было родиться мужчиной. — Я искоса разглядываю Люську, словно ищу подтверждение своей догадке, но подтверждения не нахожу. Сестрица — молодая женщина в расцвете красоты и жизненных сил, вовсе не мужеподобная.
Ну а если она все-таки женщина, то должна соответствовать своему женскому предназначению. И сестре, и подругам я не устаю повторять, что для женщины главное — ребенок. Но не все меня понимают. Женщины делают карьеру, мужчины отказываются от роли главы семейства и кормильца, дети становятся непозволительной роскошью.
Как-то Люся мне поведала, что появился новый вид услуг для богатых, деловых женщин, испытывающих отвращение к самому процессу деторождения. Донору, молодой девице, желающей заработать, пересаживают эмбрион клиентки, а через девять месяцев донор рожает ребенка и передает его на руки счастливым родителям.
— Готовенького, понимаешь? — Глаза у сестры радостно блеснули, она всерьез заболела этой бредовой идеей.
— Какая гадость! — воскликнула я, наконец поверив в возможность подобной коммерческой сделки.
Сестра с трудом отказалась от своей мечты, насилу мы с Володей ее уговорили. Но не убедили в том, что это безнравственно. Володька был брезглив, его мутило при одной мысли об этом, так сказать, мероприятии. Я вдобавок опасалась за здоровье ребенка и вполне возможных осложнений.
Теперь я часто заставала Люсю погруженной в какие-то невеселые и мучительные для нее раздумья. Ей предстояло сделать выбор — или навсегда отказаться от семьи, потерять Володю, или немедленно решиться на ребенка. По-видимому, и то и другое ее пугало.
— Вот наконец едет твой ненагляднейший!
Люся первая заметила светлую машину, только что свернувшую с шоссе. Я вскочила и бросилась с крыльца, надеясь встретить Родю сразу «за околицей», там, где за последней дачей простирается луг и наполовину убранное пшеничное поле.
— Осторожней! — крикнула сестра, опасливо косясь на мой живот. — Когда он появляется на горизонте, ты теряешь разум.
У меня всего пять месяцев, а они относятся ко мне так, словно я уже на сносях. Мы вместе вышли за калитку и пошли по улице, почти деревенской, мимо чужих палисадников, дощатых и каменных дач.
— А пузо у тебя большое, может быть, будет двойня. Тогда одного отдашь мне, — вслух размышляла Люся, разглядывая меня.
В ответ я показала ей кукиш.
Дойти до околицы мы не успели. Встретились у последних дач. Родион распахнул дверцу, и тут же я набросилась на него с упреками. Он испуганно и виновато оправдывался: его задержали в больнице, потом пробка в центре…
— Она и сама истерзалась, и нас достала из-за твоего опоздания, — жаловалась Люся, усаживаясь на заднем сиденье. — Никогда не думала, что дамы в положении — такие капризули и зануды. Она просто невыносима.
Я наконец-то очутилась рядом с мужем, прильнула к нему на мгновение, положила голову ему на плечо. В зеркальце мелькнули насмешливые Люсины глаза. Ей все еще не надоело зорко наблюдать за мной и ехидно комментировать увиденное.
— Такого не было даже с Игорем. Ведь ты любила его безумно, — высказалась она сразу после нашей с Родионом свадьбы.
Да, я любила Игоря и не скрывала этого. Но то была любовь-поклонение. Мой первый муж словно стоял на высоком постаменте и снисходительно позволял себя обожать.
Люся когда-то осторожно предостерегала меня, познакомившись с Игорем: жить с таким мужем — тяжкий труд. Уже с утра нужно улавливать его настроение, состояние духа и приноравливаться к дурным и благостным переменам. Угождать, ухаживать, выслушивать словоизлияния да еще поддерживать в нем сознание того, что ты ему необходима.
— А есть мужчины простые, удобные, домашние, как наш отец, — классифицировала Люся. — Они не усложняют, а облегчают жизнь. На такого тебе и нужно было ориентироваться.
Люся всех людей классифицировала и рассовывала по ячейкам. Так удобнее. К уютным мужчинам она, по-видимому, относила не только папу, но и Вовку, и моего Родиона.
— Когда, наконец, этот рационалистический мусор выветрится из твоей головы? — ругала я сестру. — Родион вовсе не удобный мужчина. Он — часть меня. Но тебе ничего подобного понять не дано. Ты почти десять лет прожила со своим мужем, незаурядным человеком, и так и не поняла, кто он такой и что значит для тебя.
И отца я ей не могла простить. Для Люськи папа был чем-то вроде маленького человека, гоголевского Акакия Акакиевича. Только совершенно тупой душевно человек мог так думать. Но что с нее возьмешь! Я уже давно не верила в ум и проницательность сестрицы. Она всем рассказывала, как я счастлива и безумно влюблена в мужа.
Казалось бы — да, так оно и есть, у меня появилась настоящая семья и все, о чем мечтает любая женщина. Но счастлива я не была. Даже стала не в меру нервной и раздражительной. А ведь всего год назад, когда родные опасались за мой рассудок, я была совершенно спокойной, бесчувственной и равнодушной ко всему на свете.
Как только появляется настоящее счастье: семья, близкий человек — тут же на тебя обрушивается лавина проблем и забот, это счастье отравляющих. Я не ропщу, за все нужно платить. Мирного, безмятежного бытия просто не может быть в наше время.
Пожалуй, больше всего меня тревожило здоровье и чрезвычайная загруженность Родиона. Он работал в двух больницах и не отказывался от любых подвернувшихся предложений. Ведь теперь у него было две семьи.
Только через несколько лет, когда подрастет ребенок, я смогу работать и помогать ему. Но мне уже сейчас не терпелось переложить на свои плечи часть семейных забот. Ведь я на двенадцать лет моложе Роди и намного крепче. Он очень уставал к вечеру. Несколько раз я замечала, как он внезапно бледнел и старался незаметно выйти из комнаты, выпить таблетку и прилечь.
После смерти папы я панически боялась за мужа и старалась хотя бы дома ограждать его от бытовых забот и дрязг. А это было не так-то просто.
— Ты теперь еще и злая мачеха, — посмеивалась надо мной Люська. — Как у тебя складываются отношения с падчерицей?
— А никак! Она меня полностью игнорирует, а я стараюсь этого не замечать. Делаю вид, что все нормально, так и нужно, — отвечала я беспечно, хотя на самом деле кошки на душе скребли.
И Родя еще простодушно предлагал мне поселиться с ним, его мамой и девятнадцатилетней дочерью в трехкомнатной квартире. Разве это возможно? Да мы бы истерзали, измучили друг друга. И Родион бы страдал, ежедневно наблюдая наше отчуждение.
— Не бери в голову! — утешала меня Люся. — Девице девятнадцать лет, значит, она отрезанный ломоть. Сейчас они рано выскакивают замуж.
Я на это очень рассчитывала. Но Нина и после замужества не перестанет ревновать меня к отцу. Что же касается свекрови, то наши с ней отношения были нейтральными и спокойными. Старушка только опасалась, не слишком ли я для ее Родички молода и, судя по моему богатому прошлому, легкомысленна.
Поначалу Люся прозрачно намекала, что из трехкомнатной квартиры Родиона и моей однокомнатной можно выгадать две хорошие двухкомнатные и таким образом решить наши квартирные проблемы. Но я об этом слышать не хотела. Язык бы не повернулся сказать об этом Родиону. В нашем однокомнатном раю нам было хорошо, как в шалаше.
Тем не менее Люся активно взялась за жилищные проблемы семьи. Наша мама хотела перебраться к нам поближе. Сначала решено было обменять ее квартиру на меньшую по площади в Москве. Доплату Люся брала на себя. Их туристическая фирма не процветала, но все же приносила небольшой доход.
Когда моя жизнь круто переменилась, мама вдруг заявила, что мечтает поселиться именно со мной, нянчить внука и помогать мне по хозяйству. Люся очень удивилась, а я запаниковала.
— Я эгоистка, неблагодарная дочь, согласна, но я не могу жить с мамочкой под одной крышей. Спаси меня, Люсьен! Она желает воспитывать внука. Да кто ж ей доверит младенца? Ведь нас с тобой вырастили бабушка и папа. Не помню, чтобы мама когда-нибудь нас кормила, выводила на прогулку, утирала носы…
— Бабушки — это совсем другой статус, — возражала Люся. — И вообще мама очень изменилась к старости. Дня не проходит, чтобы она не вспомнила отца.
— Который изувечил ее жизнь, — добавила я с горечью.
— Она все давно поняла. Вася канонизирован. Он стал идеалом человека, мужа и отца.
Люськины глаза при этом смеялись. Как я завидовала ее умению все воспринимать с юмором. Я же в любой жизненной ситуации видела прежде всего драмы и трагедии. Матери не могла простить, что она всю жизнь унижала папу. Не женись он на ней, на свою беду, она вернулась бы после института в родную Белоруссию и вышла бы замуж за директора совхоза, своего старого ухажера.
Сестра меня поняла и не настаивала на совместном проживании с мамой. Она взялась за улаживание этой проблемы. Предложила матери пожить пока у них с Володей, в трехкомнатной квартире.
В ближайшее время предполагалась продажа квартиры в Малаховке либо сложный, запутанный обмен. В результате мы с Родионом должны получить двухкомнатную, а мама может поселиться в моей квартире на Таллинской. Деньги на доплату Люся с Володей благородно дают нам в долг, который мы будем выплачивать постепенно, по мере сил.
Услышав об обменах, я испугалась не на шутку. Мой гуманитарный ум был не в состоянии осознать эти сложнейшие комбинации. Но Люся благородно взяла все на себя и принялась за дело с азартом. У нее даже глаза горели. На мое счастье, у меня практичная и деловитая сестра.
Смущал меня и долг, который вскоре ляжет не на мои, а на Родины плечи. Он может потихоньку от меня подыскать и третью работу. С его-то сердцем! От этих мыслей у меня голова шла кругом. А Люся удивлялась, почему я стала такой нервной!
Раз в два-три месяца по привычке заезжала Лена — выговориться.
— Никто не умеет так слушать, как ты. Никто не умеет так утешить, казалось бы, обычными, но такими добрыми и нужными словами, — признавалась она с виноватой улыбкой.
И я внимательно слушала ее жалобы — на родителей, на судьбу, на Алика, на тупую и мелочную начальницу, потом на ее возлюбленного, грубого и равнодушного мужика, который отнял у Лены несколько лет жизни, так и не выполнив обещания — развестись и жениться на ней.
Но вдруг наши роли переменились. Теперь не успевала Лена переступить порог, как я мгновенно набрасывалась на нее и не давала рта раскрыть. Теперь она часами терпеливо выслушивала мое сбивчивое, эмоциональное повествование.
О том, что родная сестра не хочет рожать и этим губит свою жизнь. О ревнивой падчерице, о недоброжелательной свекрови, которая считает меня хитрой легкомысленной особой, уловившей в свои сети ее чистого душой, доброго и доверчивого сыночка.
Ленкину маму я, казалось, за долгие годы узнала как соседку по площадке — столько наслушалась рассказов об этой вздорной, деспотичной, капризной даме. Пришло время Лене познакомиться поближе и с моей родительницей.
— Она, видите ли, только после смерти папы поняла, как любила этого святого человека. Просто папа был донором, а мама у меня — вампир, «черная дыра», ей постоянно нужно подпитываться от кого-то. Теперь она, с умилением глядя на меня, повторяет при каждой встрече, как я похожа на отца, и хочет поселиться вместе со мной и Родионом. Не со своей любимицей Люськой, а со мной!
Сбитая с ног этим потоком информации, Лена испуганно лепетала:
— Все наши близкие, ну почти все — «черные дыры». Они наш крест, и мы обязаны этот крест нести. Наверное, полное одиночество — невыносимо. Так что терпи, дорогая. Это жизнь!
Лена меня утешала! Я даже расхохоталась, и Мезенцева, сразу угадав причину моего веселья, тоже посмеялась. Теперь бедняжка уносила груз своих невысказанных проблем обратно. Я ведь не давала ей и словечка вставить: все о себе да о своем.
Наверное, права Люся — я счастливый человек. Потому что только счастливые так эгоистичны, слепы и глухи. А Лена, наверное, перестанет ко мне ездить. Ведь от друзей мы ждем помощи, поддержки, понимания. Но когда на наши плечи норовят взвалить новое бремя в придачу к собственному, нам остается только бежать без оглядки от таких друзей. Если повезет, найти новых, которые не будут обременять нас непосильными просьбами или своими откровениями.
Вот уже год минул, как мы познакомились с Родионом, и полгода, как мы женаты. Казалось, прошлое навсегда кануло в Лету. Для меня существует только настоящее — яркое, зримое и волнующее. Но вдруг Люся спрашивает:
— А как Игоряшка поживает? Наверное, тебе Мезенцева иногда докладывает. Где работает? Женился или все еще ходит холостым?
Я невольно вздрагиваю. Кажется, перед глазами встают призраки — Игорь, Полина Сергеевна, Лев Платонович… Даже не верится, что все это было со мной: что жила в башне на Воробьевых горах и была безумно влюблена в одного умного молодого человека.
— И почему он тебя интересует? — смеюсь я. — О Карасеве почему-то никогда не спрашиваешь.
Сестрица возмущенно пожимает плечиками. Она просто из берегов выходила, когда кто-нибудь сравнивал ее и Карасева и даже ставил их на одну доску. Ее, честного предпринимателя, и этого спекулянта, нового русского купчину, которому впору щеголять в смазных сапогах.
Ну конечно, Лена докладывает мне время от времени, как живет мой бывший муж. Даже если я ни о чем не спрашиваю, мне правда неинтересно. А Игорю Лена рассказывает обо мне.
— У него были трудности, что-то вроде застоя, но сейчас все наладилось. Он преподает в университете. Студенты его обожают. Особенно студентки. Он скоро женится на одной из них, совсем девочке, лет девятнадцати. Докторскую не пишет. А если бы я осталась с ним, мы обязательно защитили бы докторскую, — гордо заявляю я.
Люся вспомнила, каким предстал перед ней Игорь в первую их встречу, много лет назад — красавец, умница, интеллигентный, обаятельный мальчик. Прошло несколько лет, принц полинял, опустился, стал брюзгливым и капризным маминым сынком и вечным аспирантом. Просто обидно, когда такие щедрые задатки словно в трубу вылетают.
— Родион говорит, что такие люди не могут добиться многого из-за недостатка жизненных сил, — объясняю я, а Люська смотрит на меня насмешливо. — Следствие счастливого, беззаботного детства, изнеженности, избалованности. Он уверен, что трудности, испытания, борьба закаляют характер, приучают к систематическому труду.
— Вспоминаешь его хотя бы иногда, ведь до смерти была влюблена? — спрашивает сестра.
— Никогда! — радостно признаюсь я. — Давно избавилась, как от тяжелой болезни. А если мне о нем напоминают, больше не испытываю ни боли, ни досады. Ни в чем он передо мной не виноват. Наоборот, он многое мне дал.
— Если бы ваш ребенок не умер, вы бы и сейчас были вместе, — гадает Люся.
— Может быть. До сих пор мучили бы друг друга. Ведь он страшно изменился. Он совсем не тот человек, которого я когда-то любила…
На это Люся согласно кивнула, и мы молча побрели по петляющей проселочной дороге. Дорога двумя своими колеями убегала в лес, откуда, по нашим расчетам, вот-вот должны были появиться Родион с Володей. Еще рано утром они отправились по грибы.
А я встала поздно. Сестрица уже давно гремела чашками на веранде и поджидала меня к завтраку. Едва я присела к столу, сразу заметила — ее просто распирает от желания сообщить мне что-то важное.
— Сегодня утром я дала слово мужу — через год у нас будет ребенок! — торжественно провозгласила она.
— Ура! — закричала я, уронив чашку на блюдце.
Сестрица посмотрела на меня по-матерински, как на напроказившую девчонку. Конечно, мы ее заели, но решилась она на ребенка еще и для того, чтобы восстановить свое пошатнувшееся превосходство надо мной…
После завтрака мы долго бродили вдоль реки, потом решили встретить своих добытчиков и побрели к лесу. Давно у меня не случалось такого благодатного денька. Все заботы, тревоги отступили. И прошлое отступило — с тоскливыми воспоминаниями, раскаянием и сожалениями.
Я задумалась, замечталась, и зоркоглазая Люся меня, как всегда, опередила:
— Наконец-то наши мужики идут!
Я радостно устремилась вперед, увидев Родю. Такого смешного, в телогрейке, в резиновых сапогах. Словно солнце выкатилось для меня из лесу. И пускай Люська смеется и дразнится: «Родион сказал, Родя считает…»
Да, жизнь моя наконец устроилась. Мы с Родионом прилепились друг к другу, как две половинки. А скоро нас станет трое, да еще Лапа в придачу.
Меня нисколько не пугает участь верной, любящей жены, домашней квочки, обывательницы. Теперь я не хочу и боюсь перемен. Хочу, чтобы было как в сказке: они жили долго и счастливо и умерли в один день!..
Книга-почтой
ВАЛЕНТИНА МЕЛЬНИКОВА
Книги этой серии с первых страниц вовлекут вас в такой омут наших российских любовных интриг, что все зарубежные суперхиты поблекнут перед радостями и разочарованиями наших героев и героинь… Открывают серию произведения интересной и талантливой писательницы ВАЛЕНТИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ, пронизанные любовью и нежностью, но не дающие забыть, что мы живем в жестокой действительности, где не обходится без криминала, предательства, жажды денег. В жизни всегда есть выбор, и герои В. Мельниковой выбирают любовь — и не ошибаются!

Вышли в свет:
КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ
МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ МЕНТ
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
Твердый целлофанированный переплет, формат 130х206 мм, объем 496–508 с.
Книга-почтой
Новое оформление!
Наталия Левитина
КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ
Детективные романы Наталии Левитиной выделяются на необозримом пространстве отечественной литературы неординарными сюжетами, крутыми интригами, интересными характерами, мягким юмором и отсутствием жестокости. Главные персонажи романов — женщины, они стержень, вокруг которого закручивается интрига. Красивые, смелые, азартные героини талантливой писательницы живут полной жизнью и ввязываются во всевозможные авантюры. Они искренни, естественны, каждая — яркая личность, что вызывает симпатию и желание встретиться с ними вновь. Ощущение тепла, легкости, доброты остается после знакомства с книгами Наталии Левитиной. Они наполнены оптимизмом и надеждой на лучшее. Откройте одну ее книгу, и вам уже захочется прочесть все — так прекрасен подлинно русский язык, так притягателен и тонок юмор…
Вышли в свет:
Экстремальная Маргарита
Интимные услуги
Дилетант

Твердый целлофанированный переплет, формат 130x206 мм, объем 464–496 с.
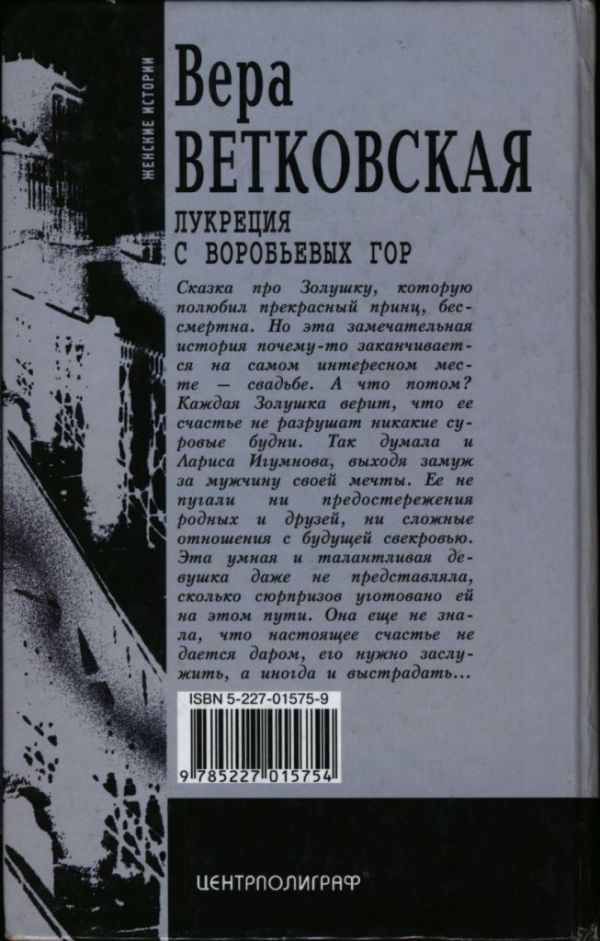
Вера ВЕТКОВСКАЯ
ЛУКРЕЦИЯ С ВОРОБЬЕВЫХ ГОР
Сказка про Золушку, которую полюбил прекрасный принц, бессмертна. Но эта замечательная история почему-то заканчивается на самом интересном месте — свадьбе. А что потом? Каждая Золушка верит, что ее счастье не разрушат никакие суровые будни. Так думала и Лариса Игумнова, выходя замуж за мужчину своей мечты. Ее не пугали ни предостережения родных и друзей, ни сложные отношения с будущей свекровью. Эта умная и талантливая девушка даже не представляла, сколько сюрпризов уготовано ей на этом пути. Она еще не знала, что настоящее счастье не дается даром, его нужно заслужить, а иногда и выстрадать…
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
notes
Примечания
1
Ходасевич В. «Смоленский рынок».
2
Северянин И. «Весенний день».
3
Ахматова А. «Читая Гамлета».
4
Реформатский А. А. — знаменитый лингвист, один из основоположников Московской филологической школы. Соссюр Фердинанд — известный швейцарский лингвист. Первым предложил рассматривать язык как структуру и разграничивать язык и речь. (Здесь и далее примеч. ред.)
5
Веселовский А. Н. — глава сравнительно-исторической школы в литературоведении. Шкловский В. Б. — известный русский литературовед и писатель.
6
Померанц Г. С. — современный российский философ и литературовед, популярный в годы перестройки.
Последние комментарии
3 часов 15 минут назад
3 часов 32 минут назад
3 часов 52 минут назад
6 часов 34 минут назад
13 часов 57 минут назад
19 часов 42 минут назад